Иван Сибирцев
ОТЦОВСКАЯ СКРИПКА В ФУТЛЯРЕ (сборник)
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Слоистое небо цеплялось за спицы телевизионных антенн. Старенькая церковка накренилась в косых дождевых струйках, и почернелые купола провисли меж ветками мокрых деревьев.
— Первое июня… Начало лета, — с усмешкой сказал Федорин и отвернулся от затянутого потеками окна.
Он взял со стола монументальный, как Библия, «Справочник образцов иностранной валюты». Медленно перекидывал плотные страницы. Вспыхивали и угасали зеленоватые американские доллары, радужные британские фунты, сизые, как сукно солдатских мундиров, западногерманские марки, оранжевые мексиканские песо, японские йены. Мелькали профили и фасы здравствующих и почивших королей, президентов и полководцев…
Федорин перекидывал страницы, но видел не иноземные банкноты. Кажется, с каждой наклейки смотрело на него не по годам одутловатое лицо Валентина Игумнова. Судя по его повадкам, в игумновских тайниках покоится немало из того, что собрано в этом альбоме. Федорину не миновать заглянуть в эти тайники. Но это завтра. Может быть, послезавтра… А сегодня снова до глубокой ночи колесить по Москве. Приказано изобличить, задержать Игумнова, завершить дознание и передать дело следователю. А что передашь, если Игумнов залег у себя на квартире, как медведь в берлоге, и всех его поставщиков и покупателей ровно бы смыло этим нескончаемым дождем.
«А без твоих коммерческих связей, — глядя на фотографию Игумнова, мрачно сказал Федорин, — ты, Валентин Николаевич, голый. И мне ты, попросту говоря, не нужен. Если брать тебя таким, то через трое суток тебе принесут извинения за незаконный арест, а мне соответственно выговор в приказе. И поделом. Моя уверенность в том, что ты матерый валютчик, для следствия и суда не имеет значения. И чтобы все у нас с тобой было по закону, надо, чтобы ты сам вышел из укрытия и привел меня к своим клиентам».
А дождевая хлябь за окном слезилась так тоскливо, разом на плечи навалились усталостью три полубессонных ночи в ожидании выхода Игумнова на сделку, и Федорин расслабленно откинулся на спинку стула, распустил узелок галстука, расстегнул воротник сорочки:
«Эх, жизнь инспекторская! Другу не пожелаешь, а недругу не расскажешь…».
В дверь постучали. Вежливо, но твердо.
— Войдите, — ответил Федорин. И одним движением застегнул воротник, подтянул галстук.
Вошла миловидная девушка.
— А, Наташа! Что, какой-нибудь экстраконцерт, товарищ культорг? К сожалению, не могу даже на экстра-ультра. Горю синим огнем с одним типом. И прокурор по надзору дровишек подкидывает в огонь…
Наташа без улыбки взглянула на него и сказала растерянно:
— Товарищ старший лейтенант, он умер…
— Кто? — Федорин настороженно смотрел на девушку. — О ком вы, товарищ старший сержант?
— Посетитель к вам. Мне, говорит, надо к товарищу Федорину, который занимается золотом. Подал мне паспорт. Только я собралась вам позвонить, чтобы получить разрешение, а он вдруг откачнулся от окошечка и вроде бы приседает. Посетители его газетками обмахивают, щупают пульс. Потом слышу: «Все, умер». Я сразу же к вам. Вот его паспорт…
— Никандров Иван Северьянович, — читал Федорин. — Родился в Москве 27 марта 1890 года. Прописан: Восьмой проезд Марьиной рощи, дом номер…
С фотографии на Федорина глядело круглое добродушное лицо: массивный, с глубокими залысинами лоб, волнистые волосы, слегка тронутые сединой. Таким был Никандров двадцать лет назад, когда получал паспорт…
— Я не знаю этого человека и никогда не слышал о нем. Странно, зачем ему понадобился именно я?
Федорин совсем было хотел возвратить паспорт Наташе да предложить ей отправить покойного в морг и связаться с участковым, чтобы тот сообщил близким Никандрова о его скоропостижной смерти. Но взгляд Эдуарда задержался на окне, по которому скользили дождевые потеки, и, сунув паспорт себе в карман, он проговорил:
— Надо взглянуть на него. На девятом десятке, да еще в такую непогодь, человек не отправится к нам по пустякам с Восьмого проезда Марьиной рощи.
2
— Где вы ходите, Эдуард Борисович? — сердито встретил Федорина майор Коробов. — Звоню, понимаешь, звоню, спрашиваю: где Федорин? Говорят, поехал в морг. В конце концов мы же не уголовный розыск, чтобы заниматься всем этим… — Он осуждающе покачал головой, но спросил с любопытством: — Ну, что там стряслось с ним? Установили причину смерти?
— Причина распространенная. Обширный инфаркт миокарда.
— Вот именно, распространенная… — Коробов вздохнул и, морщась, растер ладонью себе грудь. — Впрочем, естественно. Ему за восемьдесят…
Федорин кивнул. Он отчетливо представил лежавшего на скамье у бюро пропусков маленького старичка. Руки, сложенные на груди, были крупными, с широкими ладонями и длинными, наверное, очень чуткими и нервными пальцами музыканта или художника.
— Да, Алексей Иванович, ему за восемьдесят, — подтвердил Федорин. — Это обстоятельство и заставило меня отнестись, так сказать, со всей серьезностью. В таком возрасте человек за здорово живешь не двинется через всю Москву. И почему именно ко мне? Откуда вообще ему известно, что Федорин «занимается золотом»? Не настораживает, а?
Коробов неуверенно пожал плечами:
— Было при нем что-нибудь интересное?
— Было. — Федорин достал из кармана и положил на стол Коробову старинный бумажник с монограммой. — Это его бумажник. В нем деньги. Около шести рублей. Фотография с надписью старинной вязью. «Краснокаменск. 1910-й год». На ней два господина средних лет в строгих сюртуках. И еще вырезка из газеты «Известия» за 24 мая этого года…
— Указ о награждении орденом профессора Каширина Вячеслава Ивановича в связи с семидесятипятилетием и за заслуги в золотодобывающей промышленности. — Федорин вопросительно посмотрел на Коробова и продолжал задумчиво: — С этими вещами он отправился ко мне. А ведь к нам чаще всего идут с бедой…
— Иногда и с повинной… — проворчал Коробов.
— Опять же любопытно. Не шел, не шел. И вдруг в восемьдесят с лишком…
3
На стук Федорина калитку распахнула сухонькая опрятная старушка. Она с испугом осмотрела пришельца, привстала на цыпочки, метнула взгляд за плечо Эдуарда, на стоявшую у ворот автомашину, с трудом перевела дух и спросила:
— Вы откуда?
— Из милиции.
— А Иван Северьянович?
— Вы его жена? — чуть помедлив, спросил Федорин.
— Свояченица я ему, — упавшим голосом отвечала она. — Максимова я, Пелагея Петровна. Покойной его жены, Клавдии Петровны, родная сестра. — Умолкла и, уже постигнув то, о чем пока не решался сказать Федорин, повторила тихонько: — Ну, а Иван-то Северьянович?…
— Иван Северьянович сегодня утром скоропостижно скончался возле нашего бюро пропусков, — в тон ей печально сказал Федорин и предупредительно взял старушку под руку.
Шуршали по дорожке шаткие шаги Пелагеи Петровны, ветки шиповника цеплялись за ее платье. Она присела на ступеньку крылечка и, уткнув лицо в ладони, стала раскачиваться, будто силясь смахнуть с себя тяжесть,
— Эх, Иван Северьянович, Иван Северьянович… Все там будем, а все одно горько. Чужие люди глаза тебе закрыли. В твои ли годы по казенным домам ходить и доказывать правду-кривду. Вот и вывелся Никандровский род. Совесть все мучила старика, что на тридцать лет пережил единственного сыночка. А в чем его вина, коли Сереженька наш в двадцать пять годков сложил головушку под Ржевом за Отечество…
Федорин сознавал, что должен сказать что-то в утешение старушке, но не находил слов, равных ее скорби. Грустно и виновато смотрел он мимо Пелагеи Петровны.
Наличники тщательно промытых окон поблескивали свежей голубой краской. Под стрехой дровяника галдели воробьи. В кадушке под водосточной трубой дремала ряска. Ветки старой яблони клонились к низенькой, врытой в землю скамейке.
«Наверное, Никандров любил сиживать здесь в тишине», — подумал Федорин. Опустевшая скамейка, распростертая над ней корявая яблоня, поникшая в скорби старушка — все это резануло Федорина по сердцу. И не было больше сомнений: Никандров шел на Петровку не с повинной, не с предсмертным раскаянием. Старый дом с голубыми наличниками посетила большая беда.
Пелагея Петровна всхлипнула и, словно бы разом выплакав свое горе, подняла на Федорина глаза, сказала:
— Пойти, видно, одежку взять Северьяновичу. Давно в комоде припасена к судному часу. Обмыть да домой забрать пора хозяина, — она сокрушенно покачала головой. — С плохой ты вестью явился. Как хоть звать-то тебя?
— Федорин Эдуард Борисович. Старший лейтенант милиции.
— Федорин?! — ахнула Пелагея Петровна и проворно поднялась со ступенек. — Стало быть, это ты наезжал к нам прошедшей ночью. А утром сегодня повестку прислал Ивану Северьяновичу с этим… с Мамедовым.
— Я?! Прошедшей ночью? С каким еще Мамедовым? Какую повестку?
— Кто же, как не ты? — Пелагея Петровна подступила к нему и, заслонясь ладонью от солнца, стала всматриваться ему в лицо. — Вроде бы и впрямь не похож. Только ведь темно было. А Иван Северьянович сказывал мне: мол, лейтенант Федорин наезжал с Петровки. Иван-то Северьянович сильно был обнадеженный им. Оттого и заторопился с утра, чтобы обсказать, о чем позабыл в первый раз…
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Майор Анатолий Зубцов уже второй год работал в одном из центральных управлений министерства внутренних дел, а все не мог позабыть тесно заставленную столами комнатку на Петровке, чаепития в полночь, ночевки «валетом» на краешке затертого кожаного дивана и тревожный голос жены в телефонной трубке:
— Толя, это какой-то кошмар. Третью ночь ты не появляешься дома.
Как объяснить Нине, что валютчики не согласовывают с ним, с Зубцовым, график своих операций, а брать их полагается «тепленькими», в момент сделки, что для офицера милиции равно важны и быстрота реакции, и умение терпеливо ждать. Как объяснишь все это жене, если в разговорах с нею даже слово «валютчик» под строжайшим запретом.
Анатолий Зубцов получил повышение и простился с Петровкой. Теперь он чаще, чем прежде, бывал дома. Он заметно располнел, пухлощекое добродушное лицо округлилось. Только солидности манер не прибавила ему новая должность. А если совсем честно перед собой, то…
Читая сводки, отчеты и рапорты вверенных теперь его попечению отделов в областных управлениях, он не без зависти думал: эх, живут же люди, делают дела… И снова видел себя прежним молодым капитаном. На Петровке все было сложнее и проще. Ты и твой противник. Сила на силу, хитрость на хитрость, интеллект на интеллект, жизненный принцип на жизненный принцип…
2
Бесшумно открылась дверь, и, слегка сутулясь, вошел Эдуард Федорин.
Анатолий обрадованно поднялся навстречу гостю: показалось, сама незабвенная Петровка с ее беззлобными розыгрышами, холостяцким бытом и крепким мужским братством шагнула к нему в кабинет.
Зубцов растроганно смотрел на товарища и вспоминал, как лет пять назад начальник отдела привел к нему тощего долговязого паренька с оттопыренными ушами и прической под Жерара Филиппа.
— Вот тебе, Анатолий Владимирович, новый помощник Эдуард Федорин.
Позднее они выяснили, что в ту минуту крайне не понравились друг другу.
Зубцов скептически оглядывал Федорина — нервное лицо, тонкие белые пальцы — и тоскливо думал: «Как говорится, сжалилась судьба, ниспослала помощничка. Если доведется буйного валютчика брать, помощника надо подстраховывать прежде, на такого дунь — сразу рассыплется».
Федорин тоже озадаченно взирал на Зубцова: ну и начальник у него… Ни ростом не вышел, ни внушительностью вида… В глазах, как ни всматривайся, не угадаешь ничего, кроме усмешки.
— Откуда прибыл, Эдик? — ласково спросил Зубцов и вздохнул горестно.
— Коренной москвич, — ответил Федорин и тоже печально вздохнул.
— И то хлеб. Хоть Москву изучать не надо. А родители чем заняты?
— Музыканты в Большом театре. Отец — виолончелист, мать — пианистка. Прадед и дед по отцу тоже были виолончелистами… — ответил Федорин небрежно и покраснел.
«Наверное, дома выдержал изрядную бурю, когда объявил родителям, что намерен поступать в милиционеры», — посочувствовал Зубцов и спросил участливей:
— А ты что же не в артисты? Или слух подкачал?
— Нет, слух, говорят, отличный. А сюда… Потому, что просто терпеть не могу разных подонков.
— Чувство, конечно, благородное. — Зубцов вдруг поверил: он сработается с этим неженкой. Покосился на ослепительные пуговицы новенького кителя и звездочки на лейтенантских погонах Федорина, подумал: «После выпускного бала, должно быть, и спит в мундире. Намозолил глаза соседям за пять кварталов от дома».
— А формочку свою, Эдик, отдай маме.
— У меня есть жена.
— Блестяще, — Зубцов усмехнулся и сразу же помрачнел: — Только наши жены, как бы тебе это сказать, тоже должны разделять наше отношение к подонкам. Без такого единомыслия… — Зубцов умолк, махнул рукой. — Без единомыслия, словом, они будут не очень счастливы со своими принципиальными мужьями. — Зубцов опять умолк и решительно заключил: — Так что формочку, Эдик, отдай жене. Пусть пересыплет ее нафталином. Формочка тебе потребуется для дежурств да еще для парадов… Но парады редки, а работа, Эдик, у нас семьсот тридцать дней в году. А что ты умеешь, Эдик?
— Теоретически — многое. Практически… Не знаю…
Эдик поскромничал. Практически он не умел почти ничего. Довольно скоро Зубцова пригласило начальство:
— Ошиблись мы в Федорине, отчислять его надо. Романтика товарища привела. Здесь не игра в казаки-разбойники.
— В сыщики-разбойники, — ввернул Зубцов. — А сыщиком-профессионалом нельзя стать за несколько недель. Но года через два — три этот интеллигентный юноша оправдает наше долготерпение…
— Шутить изволите, Анатолий Владимирович. Года два — три. А раскрываемость? Ведь у твоего перспективного Эдика раскрываемости пока никакой.
— Придется, значит, мне поднатужиться и за себя, и за него. Другого помощника мне не надо.
…Сейчас Зубцов с улыбкой обошел Федорина и заметил с нескрываемым удовольствием:
— Ох, да и массивным ты стал, Эдик, солидным. Честное слово, позировать впору для плаката: моя милиция меня бережет…
— Где уж нам, — в тон ему возразил Федорин. — Вот ты действительно соответствуешь по фактуре. На одном диванчике с тобой, пожалуй, не поместишься…
— Ага, полнею, — меланхолично признался Зубцов. — Не то бумаги, не то годы. А ты, говорят, на Игумнова вышел самостоятельно?
— Говорят… — Федорин кивнул с напускным равнодушием. И спросил озабоченно: — Ты никогда не слыхал о ювелире Никандрове Иване Северьяновиче?
— Никандров? Никандров? — Зубцов прошелся по кабинету и уверенно сказал: — Нет, не встречался никогда.
— И не должен встречаться, — с облегчением подтвердил Федорин. — Его коллеги, ювелиры, говорят о нем как о честнейшем человеке и большом искуснике.
— А дома у него что узнал? — спросил Зубцов как о разумеющемся само собой.
Федорин рассказывал, и лицо Зубцова становилось все более озабоченным.
— Вот что, Эдик, — прервал друга Зубцов. — Это тот случай, когда надо немедленно ставить в известность начальника нашего отдела.
3
Подполковник Орехов встретил Федорина шутливо:
— С чем пожаловал, Эдуард Борисович? С реляцией или за подмогой?
Эдуард Федорин не умел докладывать бесстрастно и скупо. Однако суховатый, даже педантичный Орехов, более всего ценивший в рапортах подчиненных точность и краткость, ни разу не перебил его.
…В домике на Восьмом проезде Марьиной рощи Иван Северьянович Никандров поселился с женой и сыном лет сорок назад, вскоре после смерти своего отца, Северьяна Акимовича, известного до революции золотых дел мастера и ювелира.
Никандров-старший не утаил от Советской власти редкостного своего мастерства и не оставил сыну в наследство ни бриллиантов в стенке скворечника, ни золотых червонцев в чердачных стропилах. Не оставил ничего, кроме фамильной профессии да отцовского напутствия:
— Давно замечено, что золото — не мед, да и к губам липнет, и к рукам льнет… Так вот, Иван, намотай себе на ус: ты — государственный служащий! И чтобы никогда ни единой пылинки — слышишь, ни единой! — ни к рукам, ни к губам! Беги от тех малоумов, что жужжат: мол, с трудов праведных не наживешь хором каменных. Счастье жизни не в хоромах и прочем, а в чистой совести и спокойствии души…
На пенсию Иван Северьянович вышел, когда ему уже перевалило за семьдесят. С тех пор из дому отлучался не часто, но в годовщины смерти отца, своей рано умершей жены и погибшего на фронте сына непременно выстаивал панихиды в кладбищенской церкви.
Хлопоты по хозяйству взяла на себя вдовая свояченица Никандрова, Пелагея Петровна. Иван Северьянович в теплые дни часами сидел на скамье под яблоней, перебирал в памяти минувшие годы и давно ушедших из его жизни людей. А когда ударяла стужа, дремал в старинном, с высокой спинкой кресле подле жарко натопленной голландки.
Последнее майское утро задалось непогожим. С ночи зарядил дождь. Озябшие воробьи нахохлились, притулились под стрехой дровяника. Расцветшие яблони постанывали на ветру.
Пелагея Петровна видела из кухни, как стоял Иван Северьянович у окна и покачивал головой, сокрушался над бедой яблонь. Потом сел в кресло и взял газету. Но не прошло и получаса, как газета шлепнулась на пол, а Иван Северьянович стал легонько похрапывать.
И вдруг задребезжал молчавший целыми днями звонок у калитки. Пелагея Петровна сердито зашикала, замахала руками и покосилась испуганно на дверь, за которой дремал Иван Северьянович. Но оттуда уже послышалось его невнятное спросонок бормотание:
— Примерещилось никак? Сон тяжелый, должно быть. Кефир нынче был жирноват.
Звонок повторился. Требовательнее, громче.
— Пелагеюшка! — окликнул Никандров удивленно. — Узнай, голубушка, кто там.
Пелагея Петровна накинула на плечи стеганку, выбежала во двор и, обходя разлившиеся лужи, засеменила к воротам.
Зябко подняв воротник плаща, надвинув шляпу на густые, в крупных дождевых каплях брови, у калитки нетерпеливо топтался рослый осанистый мужчина.
При виде Пелагеи Петровны в его больших, казалось, лишенных белков, глазах промелькнуло неудовольствие, но тотчас же тугие глянцевито-шафрановые щеки дрогнули, яркие губы разошлись в широкой улыбке. Он галантно приподнял шляпу и сказал:
— Мне нужен ювелир Никандров.
Пелагея Петровна было уже совсем посторонилась в калитке: «Нужен, так входите». Но то ли не поверила сладкой улыбке пришельца, то ли рассердилась, что своим трезвоном потревожил он дрему Ивана Северьяновича, то ли вдруг шевельнулось в ее душе недоброе предчувствие, возразила строптиво:
— Мало ли что нужен. А мы не ждем никого.
Мужчина поджал обиженно губы и сказал с укором:
— У нас, на Кавказе, гостей встречают радушнее. Попрошу вас э-э… мамаша, передать хозяину или кто он там для вас, что к нему приехал и желает видеть его заслуженный артист… скрипач Мамедов из Баку.
— Тебя, Иван Северьянович, домогается там один, — сказала Пелагея Петровна, возвратясь в комнату. — Говорит, что заслуженный артист по скрипке. Видно, из этих, как их… из азиятов. Дожидается у ворот.
— Заслуженный артист? Право, странно. Не знаю я артистов. И не жду никого.
— Так, может, я обскажу, что хворый, мол, ты нынче, да и провожу с богом.
Никандров покосился на окно, исполосованное дождем и скрипевшее под ветром, поежился, плотнее запахнул полы потертого стеганого халата и возразил с мягким укором:
— Ну, полно, Пелагеюшка, господь с тобой. Можно ли в этакую-то непогодь оставлять человека у ворот. Нет уж, проси в дом. Да расстарайся чайку, надо отогреть музыканта.
Следом за Пелагеей Петровной гость вступил в комнату, остановился перед Никандровым, учтиво наклонил голову:
— Мамедов, Ахмад Аббасович. Первая скрипка в симфоническом оркестре Бакинской филармонии. Заслуженный артист Азербайджанской республики. — Помолчал, давая хозяину время оценить и осмыслить сказанное, и продолжал: — К вам, Иван Северьянович, у меня весьма деликатное дело. — Замолк и красноречиво покосился на Пелагею Петровну.
— Пелагея Петровна — моя близкая родственница, у меня от нее нет секретов, — возразил было Никандров, но сразу же смягчился. — Ну, коли уж вы настаиваете… Пелагеюшка, сделай одолжение, оставь нас покуда…
Пелагея Петровна сердито захлопнула за собой дверь, но все-таки услыхала слова гостя:
— Иван Северьянович, вы аксакал ювелиров…
Она прошла на кухню и нарочно гремела посудой: надо же было как-то выразить неодобрение этому барственному скрипачу и не устоявшему перед его натиском Ивану Северьяновичу. Из-за неплотно прикрытой двери в кухню долетел звонкий от волнения голос Ивана Северьяновича: «У вашей ханум дурной вкус, маэстро. Это вовсе не женская цепочка. Вместе с моим покойным батюшкой лет шестьдесят назад мы изготовили ее для сибирского золотопромышленника…».
Но фамилии этого золотопромышленника она не запомнила: не то Борылин, не то Бутылин…
Дверь из комнаты распахнулась, и в переднюю выскочил Мамедов, багровый, будто его нахлестали по щекам. Он проворно застегивал массивный портфель, поворачиваясь, смотрел в глаза двигавшемуся за ним Ивану Северьяновичу.
— О, благодарю вас за добрый совет. Я немедленно еду на Петровку. Благодарю вас. Вы отвели большую беду от меня и от моей невесты.
— И не теряйте времени, — настаивал Никандров. — Речь идет об огромных фамильных ценностях, об одном из крупнейших состояний дореволюционной России. Цепочка эта могла быть взята только из того клада. И если она действительно оказалась у вас случайно, ваш долг немедленно сообщить властям…
— О, несомненно, несомненно, — горячо заверил Мамедов и, не попрощавшись, выбежал из дома.
Никандров вернулся в свое кресло и затих. Пелагея Петровна решила, что он заснул снова, но вошла в комнату и увидела, что глаза у него открыты и неподвижны, а в них стоят слезы. И Пелагее Петровне стало страшно. «Уж не паралич ли его расшиб, не дай господи», — подумала она и окликнула:
— Северьянович, ты слышишь меня?
Он все так же невидяще смотрел мимо нее. Дряблая стариковская ладошка бессильно лежала на подлокотнике.
— Лучше бы мне помереть вчера, чем такое надругательство увидеть над отцовским детищем… — наконец вполголоса сказал он, не меняя позы.
Иван Северьянович, кажется, лишь сейчас увидел Пелагею Петровну, взгляд его задержался на ней, стал чуть теплее.
— Цепочку, Пелагеюшка, в виде змейки медянки мы делали с папашей к карманным часам для одной высокой особы. Целый год колечки выковывали, чешуйки отливали из золота, каждая тоньше лепестка розы, на каждой выгравирован свой узор и вставлен самоцветный камушек. Целый год. Даже дольше того. Но цепочка получилась, не сочти за хвастовство, такая, что ей в Оружейной палате место! И этакую-то красоту злодей, варвар, нехристь какой-то раскромсал повдоль. — Он смахнул слезу и договорил глухо: — Ежели бы меня шашкою развалили, мне и то бы легче было, чем такое глумление…
За окнами опустилась чернильная пелена. Дождь вдруг разом иссяк, и также разом, точно кто отключил его, утих ветер. Иван Северьянович заворошился в кресле, тяжело оперся о подлокотники, медленно поднялся.
— Куда это на ночь глядя? — заступила ему дорогу Пелагея Петровна, увидев, что Иван Северьянович надел на голову суконный картуз и снял с вешалки теплую тужурку.
Но Иван Северьянович отмахнулся от нее, вышел на крыльцо, жадно втянул в себя прохладные, терпкие запахи обитого дождем яблоневого цвета, мокрой зелени, отсырелого дерева. А сердце вдруг дрогнуло, тяжело застучало, и звезды и разводье туч сомкнулись, вытянулись в золотую цепочку и зашлись в хороводе.
Пелагея Петровна, встревоженная долгим отсутствием Ивана Северьяновича, вышла в сени и услыхала приглушенные голоса — Никандрова и еще чей-то, молодой, ей незнакомый. Она выскользнула на крыльцо и рассмотрела, что Иван Северьянович сидел на своей скамейке, под старой яблоней, а рядом с ним — кто-то высокий в темном плаще и в кепке. В свете спички проступила рыжеватая бровь, глубоко запавшая щека и острый хрящеватый нос. Пелагея Петровна, обиженная тем, что Иван Северьянович завел от нее какие-то тайны, махнула рукой и пошла к себе.
Никандров вернулся в дом возбужденный и даже как будто помолодевший:
— Знаешь, кто навестил меня, Пелагеюшка? — заговорил он с порога. — Лейтенант Федорин с Петровки! Потолковали мы с ним по душам. Но вот о чем, про то не могу сказать даже тебе. Обещание он взял с меня, что я никому ни слова. Государственная, говорит, тайна! — он лукаво рассмеялся и продолжал весело: — Мамедов-то, а… Зря, выходит, я грешил на него. Побывал он, как я наказывал ему, на Петровке и рассказал, что знал. Я всегда говорил, что потаенное золото проявит себя всенепременно. Теперь-то уж доищутся до правды. Федорин этот, хоть молодой, да знающий, а всем делом командует генерал Лукьянов, — он испуганно прикрыл рот рукой.
Ни свет ни заря Никандров разбудил Пелагею Петровну:
— Пелагеюшка! Что же это я учудил, старый пень. Все выложил Федорину, а про Каширина запамятовал. Каширин-то у них в Сибири был главным лицом. С него и весь спрос. Как же это я… Федорин сказывал: утром они в Баку отбудут с розыском, а мне строго-настрого велел не отлучаться из дому, понадобиться могу. Не миновать, видно, ослушаться…
Иван Северьянович оделся, как на пасху, сунул в бумажник вырезку из газеты, фотографию и заспешил к стоянке такси.
А через полчаса задребезжал звонок. Пелагея Петровна обрадовалась: вернулся-таки, одумался. Но перед калиткой стоял музыкант Мамедов. Он улыбнулся Пелагее Петровне, проворно протиснулся в калитку и быстро зашагал к дому, бросив на ходу:
— Проснулся Иван Северьянович? Просили меня проводить его на Петровку и повестку вот дали.
— Опоздал, почтенный. Отбыл уже Иван Северьянович своим ходом на эту Петровку…
4
Федорин закончил рассказ. Лицо Орехова было неподвижным. Он шевельнул белесыми бровями, приплюснул ладонью гладко уложенные волосы и спросил:
— А выводы, товарищ Федорин?
— Честно говоря, товарищ подполковник, нет пока у меня конструктивных идей. Но я упустил одну деталь. Никандров, когда собирался на Петровку, достал из комода старые письма и открытки, отобрал некоторые, перечитал и оставил на столе. «Помолчу, — говорит, — про них. Не каждое лыко в строку. И с такой ли святой женщины чинить спрос». Все открытки от одного адресата — Лебедевой А. К. Живет в Краснокаменске, Тополиная улица, дом пятнадцать. Обычные поздравления к праздникам: общенародным и церковным, и еще к этому, как его… к дню ангела. Никандров был верующим.
— Верующим… — Орехов усмехнулся. — Но исповедоваться пошел все-таки не в церковь, а на Петровку.
— Коробов наш говорит: может, с повинной, — сказал Федорин.
— С чем бы ни шел, худо, что не дошел, — заметил Орехов. — Словом, два кольца, два конца… — И начал загибать пальцы на руке. — А не примерещилась ли Никандрову эта цепочка? Восемьдесят лет старику. Это раз…
— Не думаю, Михаил Сергеевич, — возразил Зубцов. — Мастер, пусть столетний, свою работу признает.
— Наверное. Но вопрос, даже и самый абсурдный, задать себе надо, чтобы потом не оказаться крепким задним умом. Насчет повинной… Восемьдесят лет… Они в себя могут вместить разное в человеке. — Орехов загнул второй палец. — Теперь Каширин. Это три. Что именно хотел сообщить Никандров об уважаемом профессоре и кавалере ордена? Славить кого-нибудь к нам приходят редко: не наградной отдел… Дальше — Лебедева А. К. Поздравительные открытки. Зачем Никандров вынул их из комода? Думал в тот момент он, естественно, только о том, что скажет на Петровке. И вот потянулся за этими открытками. Возникли, значит, у него какие-то ассоциации… Кстати, Эдуард Борисович, Максимова в разговоре с вами не вспоминала: не навещала Лебедева ювелира?
— Навещала. Дня за три до кончины Никандрова. Отобедали скромненько, по-стариковски. Потом ушли на кладбище и на богомолье.
Орехов вздохнул, еще загнул палец, перевел взгляд на большую карту Советского Союза, висевшую на стене, поискал глазами Краснокаменск, но не нашел его издали.
Зубцов был рад совпадению их мыслей, и предчувствие сложной операции, прежние возбуждение и азарт охватили его. Он энергично растер себе ладонью лоб и сказал:
— Пальцев на руках не хватит, разуваться придется, Михаил Сергеевич. А до главного мы еще не дошли.
— Правильно… Главное, по-моему…
— Ночной визит мнимого Федорина к старику и появление Мамедова утром.
— Точно, — подтвердил Орехов. — Все видится стечением случайностей. Но эти визиты все расставляют по своим местам. И то, что этот тип назвался Федориным, для нас как визитная карточка валютчика…
— Валютчиков, Михаил Сергеевич, — уточнил Зубцов. — Этакого делового альянса валютчиков разных поколений.
— Насчет альянса понятно. Но вот разные поколения… Где ты там увидел отцов и детей? Или, считаешь, кроме этих двоих…
— Пока не знаю этого. Вполне уместно считать главарем Мамедова. Но главарь едва ли самолично направится к Никандрову. Только в случае, если куш велик баснословно или нет подручных.
— Считаешь, что есть кто-то над Мамедовым?… Упоминание о Лукьянове тебя наводит, да? — спросил Федорин.
— Твоя, Эдик, громкая фамилия пока приводит в трепет главным образом вновь приобщенных. — Зубцов засмеялся. — Лукьянова же помнят крепко, так сказать, ветераны. Матерые, тертые, битые. Лет десять прошло после смерти Ивана Захаровича, и умер-то он полковником, а они произвели его в генералы. Как говорится, старая любовь не ржавеет.
— Лукьянов ничего не доказывает, — заспорил Федорин. — Лукьянова может помнить сорокалетний Мамедов и даже мой ровесник и, так сказать, однофамилец…
— Правильно, могут помнить Лукьянова, — сказал Орехов, — но знать о том, что именно Никандровы при царе Горохе делали цепочку сибирскому купцу и, едва получив обрывок цепочки, сразу же ринуться в Никандрову на экспертизу и опознание — для этого нужны эрудиция, возраст и стаж профессора. Вашего юного «однофамильца» Никандров признал знатоком. Стало быть, с этим лже-Федориным поработал кто-то. Может, Мамедов, а может, кто посолиднее. Так что…
— А если к Никандрову они пришли не первым заходом? — упорствовал Федорин. — Побывали у других ювелиров, узнали о Никандрове — и к нему. Тогда вся версия твоя, Анатолий…
— И вашу версию, и версию Зубцова проверять надо. Вроде бы и не из тучи гром, эхо минувших лет и дел, а вот, на тебе, докатилось.
«Эх, поручил бы ты мне это дело», — думал Зубцов и, пытаясь склонить чашу весов в свою пользу, сказал:
— И все-таки скорее всего действует группа. Кто-то в ней нацелен на фамильные ценности, знает людей, так или иначе связанных с сибирским золотопромышленником, в том числе и Никандрова. Не случайно к Никандрову отправился Мамедов с цепочкой. Она же разрублена, вот знаток и усомнился в ее подлинности. Никандров не просто опознал цепочку, но поставил Мамедова в трудное положение: потребовал от него явки на Петровку, и пришлось этим «кладоискателям» двинуться к старику ночью. Довольно рискованный визит. Ведь Никандров и сам мог отправиться к нам. Но они послали все-таки лже-Федорина. Горело что-то у них, не терпело отлагательств. Одним выстрелом хотели убить трех зайцев: реабилитировать Мамедова в глазах старика, отрезать ему пути к нам и получить какие-то дополнительные сведения. И ведь преуспели, достигли-таки своей цели.
— Похоже, — проворчал Орехов, снова пытаясь рассмотреть Краснокаменск на карте. — Не исключено, что они уже добрались и до Каширина. Тот, кто знает о Никандрове, может быть наслышан и о Каширине. В каком сибирском деле уважаемый профессор был главным лицом? А может быть, он по сей день главный?
За окном кабинета бесшумно скользили разорванные, мягкие облака. Где-то внизу фыркали автомобильные моторы.
— А мы не переоцениваем их осведомленность? — спросил Федорин. — Может быть, все-таки проще: эрудита со стажем там нет. Мамедов пришел к старику как к ювелиру, чтобы восстановить цепочку, а затем загнать ее втридорога иностранцу-коллекционеру. А Никандров сгоряча назвал того золотопромышленника, вспомнил о его кладе. Вот у Мамедова и разыгрался аппетит.
— Версия может быть парадоксальной, — прервал его Орехов. — Даже невероятной, но никогда — облегченной. — И, обращаясь к Зубцову, спросил: — Тебе, Анатолий Владимирович, эти кладоискатели никого не напоминают из старых знакомых?
— Я уже прикидывал. Пожалуй, никого, — ответил Зубцов, нахмурясь: нет, скорей всего операцию Орехов поручит Леше Коробову, а он, Зубцов, так и останется при бумагах. — Хотя, возможно, с этим эрудитом я и знаком косвенно, но просмотрел его на Петровке…
— Что же, искупай грехи, выводи его на чистую воду, да заодно проверь легенду об этом фамильном золоте. Где оно, сколько его там? Отчет об изъятых у преступников ценностях передай майору Сучкову. Немедля начинай операцию.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Анатолий Зубцов читал автобиографию Каширина и вспоминал, как в первом классе детдомовской школы старенькая учительница, Мария Александровна, дирижируя рукою, почти напевала на уроках чистописания:
— На-жим… Воло-сяная…
Уважаемый профессор оказался отличным каллиграфом и, конечно, слывет человеком строгих жизненных правил, крайне педантичным и аккуратным.
«Я, Каширин Вячеслав Иванович, родился 25 мая 1896 года в семье младшего конторщика на прииске Богоданном Таежинского уезда Краснокаменской губернии, ныне рабочий поселок Октябрьский Краснокаменской области. В семье, кроме меня, было пять братьев и три сестры. Попечительством владельца прииска К. Д. Бодылина закончил сначала коммерческое училище в Таежинске, а затем горнотехническое — в Екатеринбурге».
— Попечительством! — Анатолий перечитал это полузабытое слово. — Бодылина… Старуха Максимова называла Федорину — Борылина или Бутылина…
«С осени 1914 года я начал службу в должности горного техника на прииске Богоданном золотопромышленного товарищества «Бодылин и сыновья». Состоял в этой должности до осени 1920 года, когда предприятия и ценности товарищества были национализированы. После этого перешел на государственную службу в трест «Ярульзолото», откуда в 1922 г. откомандирован для продолжения образования в горную академию».
Дальше защита диссертаций. Вступление в начале войны в партию и в народное ополчение. Длинный перечень научных трудов. Заграничные маршруты по конференциям и конгрессам.
«А все началось с попечительства золотопромышленника Бодылина К. Д.». — Зубцов медленно закрыл картонную папку, стянул в узелок тесемки и, возвращая документы директору института, сказал удовлетворенно:
— Благодарю вас, вот и все.
— Надеюсь, рассеяли свои э-э… сомнения, что ли?
— А разве я высказывал вам нечто в этом смысле?
— О, нет! Разумеется, нет! Однако, согласитесь, сам ваш визит может быть истолкован… в определенном смысле.
— Решительно не согласен. И мне очень жаль, если вы истолковали именно так. Подозрение в подозрительности — тоже подозрительность.
— Вы полагаете? Хотя, пожалуй, вы и правы… — озадаченно проговорил директор и рассмеялся с облегчением. — А вы, майор, однако же, софист. Я уже, грешным делом, намерен был предостеречь вас, что мы знаем Вячеслава Ивановича как большого ученого, человека исключительной честности и никому не дадим его в обиду.
— Спасибо за такую готовность. Но именно потому, что Вячеслав Иванович — человек исключительной честности, не миновать, видно, украсть у него несколько часов отдыха в Сочи…
Записывая адрес Каширина, Зубцов невесело раздумывал о том, что в Сочи ему непременно надо вылететь сегодня вечером, а на вечер назначен поход с Ниной в Лужники на Киевский балет на льду. Нина с утра отправилась в парикмахерскую. Нет, пусть уж лучше Орехов объяснится за него с Ниной. Тем более, что до отлета не удастся заехать домой. Надо побывать в Ленинской библиотеке. Ведь сомневаться в существовании золотопромышленника Бодылина, оказывается, не было и нет никаких оснований.
2
Анатолий Зубцов любил Сочи.
Но сейчас, из окна «Волги», город показался слишком декоративным и праздным. И, хотя в машине было душновато, он поднял боковое стекло, разом отдалив себя от игрушечных фонариков в ветвях, перезвона эстрадных песенок, радужных вывесок и реклам, запаха шашлыков и поджаренных кофейных зерен. Все это сейчас не касалось Зубцова. Эти веселые и нарядные люди, может быть, потому так уверены в себе и спокойны, что есть на свете кто-то, готовый заступить дорогу злу, жестокости, алчности. Кто-то, о ком они вспоминают, лишь когда приходит беда… Как это говорил сегодня утром Орехов? Неужели только сегодня утром? «Вроде бы и не из тучи гром, эхо минувших лет и дел…»
Несколько часов назад в Ленинской библиотеке Зубцов нетерпеливо перелистывал страницы объемистого «Списка частных золотопромышленных предприятий Российской империи за 1916 год». И нашел.
Золотопромышленное товарищество «Бодылин и сыновья». Владелец — потомственный почетный гражданин Климентий Данилович Бодылин. И дальше мелконьким петитом: «Родился в 1864 году. Вероисповедание православное. Образование получил в императорском горном институте. Продолжал его в Гейдельбергском университете в Германии и в Калифорнийском университете в Северо-Американских Соединенных Штатах. Удостоен звания адъюнкта горного дела. Действительный член Императорского Русского географического общества. Унаследовал во владение дело отца своего Д. А. Бодылина, основанное им в 1834 году».
Недоверчиво сощурясь и усмехаясь, Зубцов перечитал эти сведения. Едва услыхав от Федорина о неведомом сибирском купце, Анатолий нарисовал мысленно портрет этакого здоровяка с косматой бородищей и смазанными лампадным маслом стриженными под кружок волосами. Одет, конечно же, в поддевку, прихлебывает чай из блюдечка в растопыренной пятерне, громко хрустит сахаром. Такой мироед-лабазник был привычен и понятен Зубцову. Живуч, оказывается, в памяти Гордей Торцов, долгожитель Малого театра…
И вот, на тебе… адъюнкт и действительный член.
Реальность существования Бодылина подтверждали протоколы съездов золотопромышленников, Всероссийских, Всесибирских и губернских, списки вкладчиков Русско-Азиатского банка. И снова знакомая фамилия. На этот раз в составе попечительских советов Санкт-Петербургского анатомического института и Московского народного университета…
Итак, Климентий Бодылин не просто существовал некогда, но, видимо, был незаурядным человеком…
Год 1917-й он встретил в расцвете лет, сил и могущества. Так неужели адъюнкт горного дела и действительный член Географического общества настолько ослеп в одночасье, что вступил в безнадежный спор с велениями времени, закладывал тайники и сознавал — не мог же не осознать в глубине души — их полную бесполезность. Неужели человеку такого ума и масштаба в одночасье отказали логика, здравый смысл и проницательность?!
В такую метаморфозу с недюжинным человеком Зубцов поверить не мог. Значит, бодылинский клад — это миф.
Но богатств, привычного уклада жизни, сословных привилегий Октябрьская революция лишила Бодылина тоже в одночасье. Рассуждая о масштабах его личности, инженерных дипломах, ученых титулах и званиях, нельзя забывать, что Бодылин — архимиллионер, что с генами от деда и отца унаследовал он алчность, жажду стяжательства, предпринимательский азарт. И, разом лишившись власти и сокровищ, он мог, что называется, зубами вцепиться в последние крохи своих богатств. Значит, опрометчиво мерить его поступки логикой инженера и ученого. В тех исключительных обстоятельствах им, скорее всего, руководил инстинкт дельца и стяжателя. И, следовательно, бодылинский клад — это вовсе не миф, не легенда.
А может быть, ты, Анатолий Зубцов, все усложняешь излишне? И прав Орехов, предостерегая тебя:
«Постарайся не увязнуть в разных психологических коллизиях и тонкостях. Ты не историк, не биограф Бодылина. Мы с тобой — оперативные работники милиции, и только. И задача у нас вполне конкретная: есть сигнал, что промелькнула бодылинская цепочка. Надо отыскать ее, изобличить продавцов и скупщиков и крепко подумать: не тянется ли она к так называемому бодылинскому золоту».
«Но в конце концов о чем свидетельствует эта цепочка? — мысленно спорил Анатолий с Ореховым. — Она может быть единственной вещью, которую годами хранили близкие Бодылина или его бывшие служащие, ничего не зная о тайных сокровищах сибирского магната. Она могла кочевать от одного владельца к другому, пока не попала к Мамедову…»
3
Вячеслав Иванович Каширин встретил Зубцова в холле санатория. Высокий, узкоплечий, он сверху вниз окинул Анатолия взглядом из-под очков и сказал с явным неудовольствием:
— Помилуйте, голубчик, что это вы преследуете меня аж в субтропиках? Неужто, кроме меня, экспертизу в стольном граде совершить некому?
— Такую, мне кажется, некому, — кротко ответил Зубцов. — Я прошу вас, Вячеслав Иванович, взглянуть на эту фотографию: нет ли на ней ваших знакомых?
Каширин с недовольной гримасой взял фотографию, найденную в бумажнике Никандрова, по-стариковски отстранив ее от себя, всмотрелся, и зрачки его как бы заострились, брови дрогнули над ободками очков.
— Заснят здесь сибирский золотопромышленник Климентий Данилович Бодылин. Второго же человека я не припоминаю.
— Второго знаю я. Это — Никандров, Северьян Акимович. Говорят, был знаменитым ювелиром.
— Я знавал ювелира Никандрова. Только Ивана Северьяновича. Однако не встречались давно, а был он постарше меня. Но неужто вам неведом Бодылин?… — Каширин вскинул на лоб очки, усмешливо осмотрел Зубцова. — Вы же отрекомендовались офицером министерства внутренних дел? Неужели в ваших специальных учебных заведениях не изучают историю крупнейших
состояний дореволюционной России?! Студенты-горняки, во всяком случае, наслышаны о Бодылине.
— После краха тех состояний прошло уже более полувека. Современные состояния, разумеется, подпольные, нам видятся куда более актуальными. Как говорится, каждому свое… Иногда, правда, в новых состояниях не сразу разглядишь, где вершки, а где корешки.
Каширин покосился на фотографию, которую он все еще держал в руках, вздохнул и спросил строптиво:
— А на что вам, собственно, Бодылин? В каком качестве он вам любопытен? Как инженер едва ли. А прочее, — Каширин, как бы отсекая это «прочее», резко взмахнул рукой, — было и быльем поросло…
— Не поросло, к сожалению. И мне важно получить возможно более полное представление о нем…
Каширин заговорил, глядя через стекло холла на васильковый краешек моря и черные кипарисы.
…Глубокий распадок меж всклокоченными пихтачом сопками, подернутый частой рябью пруд, разномастные домики с подслеповатыми оконцами и закопченные приземистые казармы. На травянистой, похожей на таежную лужайку, площади прииска Богоданного — каменная контора. У конторского крыльца пушка.
Отец нынешнего владельца прииска, Данила Бодылин, еще до появления на свет своего наследника заплатил за нее бешеные деньги. Эта заряжавшаяся со ствола пушка когда-то палила по врагам на Севастопольских бастионах, а теперь отсчитывала пуды бодылинского золота.
На крыльцо конторы выходил одноногий инвалид последней турецкой кампании, старик Панкратьич, «смотритель пушки», как с гордостью называл он себя. Неторопливо, точно священнодействуя, поджигал фитиль. В распадке сопок перекатывалось эхо выстрела, над площадью вздымались черные клубы дыма, взвизгивали от восторга, яро настукивали по лужам босыми пятками ребятишки. Потом Панкратьич банником прочищал ствол, подсыпал в него новую порцию пороха и уходил дремать в сени, ожидать, когда на речке Светлой намоют еще пуд золота.
Пуд золота. Сорок фунтовых слитков. На каждом фамильная бодылинская печать: барс, обвитый змеей, сибирский кедр и лавровая ветвь. Символ силы, мудрости, бессмертия и славы…
В то июльское утро не то заело что-то на бодылинских бутарах, не то Панкратьич крепче обычного выпил и задремал, но, похоже, он вовсе позабыл о своей пушке. И Славка, присев около нее на корточки, заглядывал в ствол, перекладывал тяжелый банник…
И тут, как показалось Славке, над самым ухом взметнулся истошный бабий вопль:
— Не зама-ай! И-род!..
Зажав в охапку ревущего ребятенка, по площади бежала приисковая нищенка Дарья, простоволосая, раскосмаченная, с перекошенным в крике ртом. За нею, размахивая колом, тяжело топал бахилами Яков Филин, первейший на всю округу старатель, а в пьяном кураже — гроза приискового люда.
— Убью!.. — рычал Яков. — М-мать твою… Стой лучше!.. Смерть твоя пришла с твоим ублюдком!
На шум из сеней приковылял Панкратьич, прикрикнул на Якова унтерским басом:
— Замри, басурман!..
— У… старая кочерыжка! Герой… Севастополь прос… А туда же! — рявкнул на ходу Яков.
— А ну, жиган, смирно! — закричал побагровевший Панкратьич. — Я есть Плевненский кавалер! — И выпятил грудь с медалью.
— Это ты кому «смирно»?! Мне? Якову Филину! Я тя вразумлю, старый хрен! — Яков круто изменил направление, взметнул кол и ринулся на старика.
Славка чиркнул о крыльцо давно припасенной фосфорной спичкой и, зажмурясь, поджег фитиль пушки…
Когда утихли гром и звон в ушах и рассеялся дым, Славка увидел взметнувшийся над головой кол. Мальчишка втянул голову в плечи, попятился, но вдруг Яков швырнул кол наземь, вытянул руки по швам. Славка покосился в сторону и тоже замер с раскрытым ртом…
На крыльце стоял сам Климентий Данилович Бодылин и сердито выговаривал испуганному Панкратьичу:
— Ты что, старый? Никак снова пьян с утра. Бухаешь в колокол, не заглянув в святцы. До пуда-то еще надо добрых семь фунтов и двенадцать золотников.
— Так разве же это я, Климентий Данилович, — плаксиво тянул Панкратьич. — Это вот он, пострел! — И указал почернелым от пороха пальцем на Славку.
Славка вдруг расхрабрился и, глядя прямо в глаза хозяину, твердо сказал:
— А что он кидается с дрыном то на дитя, то на Панкратьича, а ему сам генерал Скобелев медаль…
— Ты о ком это? — спросил Бодылин, раздувая усы. — О Якове, что ли? — Он покосился на Филина и сказал с мягким укором: — Шалишь что-то, голубчик.
— Стих такой нашел, Климентий Данилович, подкатило. — Помолчал и договорил, растягивая слова: — Промежду прочим, к тебе шел. У Гнилого ручья намедни фунтовый самородок поднял… — И слегка подмигнул Бодылину косым левым глазом.
— Ладно, ступай ко мне, скоро вернусь, — сказал Бодылин и снова повернулся к Славке. — Этак-то, бомбардир, не долго и головы не сносить. — Как бы желая убедиться, что голова у мальчика покуда на месте, он провел большой мягкой ладонью по его волосам и засмеялся: — А вихрастый-то, а колючий… Чей будешь?
— Каширин Славка.
— Конторщика, что ли, сын? — Бодылин перестал улыбаться. Крупное мясистое лицо его сделалось брезгливым: хозяин знал о запоях отца.
— Семьища у Егорыча… М-да… Вот ведь какая оказия. И не учишься, поди-ка?
— Бегал в школу одну зиму.
— А учиться охота?
— Ага.
— Ладно, скажи отцу: велю ему прийти ко мне. Потолкуем. Отдам тебя в коммерческое, что ли, на свой кошт.
— Вовремя же вы тогда оказались на площади, — Зубцов сочувственно улыбнулся.
Каширин поверх очков внимательно посмотрел на него и сказал колюче:
— Участия Бодылина в моей судьбе я не могу позабыть. И поэтому не гожусь ему в судьи…
— Я не призываю вас в судьи. И что проку судить его теперь, когда история уже вынесла свой приговор. Меня интересует Бодылин таков, каким он был. Тут вот какое происшествие…
— Что же, Анатолий Владимирович, — выслушав Зубцова, сказал Каширин примирительно, — коли такая срочная надобность, — я ваш покорный слуга. Только, если позволите, продолжим беседу на катере: мне предписаны морские прогулки.
4
Прогулочный катер бросало в разломы волн. Рвались и гасли за кормой богатые соцветья сочинских огоньков.
— Кипучих, неуемных страстей человеком был Климентий Данилович, — рассказывал Каширин. — Первобытно неуемных. Во всем: в инженерных новациях, в технических экспериментах, в рискованных проектах и предприятиях, в жажде наживы, в ревностном бережении всего, что считал своим. Вот вы задаете вопрос: кто-де он, делец или ученый? Прямолинейно это, простите за откровенность. Недюжинный человек, он в любом сословии многозначен.
Миллионы Бодылина существовали как бы символически. Наличные средства он сразу же пускал в оборот. Его постоянно обуревали реформаторские идеи: то драга, то разработка рудного золота, то подвесные канатные дороги, то шахтные транспортеры. Новшества нередко оборачивались убытком, но ежели везло, то разом — и техническая сенсация, и полная казна.
А вскорости опять пустая мошна. Раздаст деньги на сиротские дома, заложит сколько-то школ, снарядит геологическую экспедицию на Север, задумает железную дорогу тянуть к будущим сибирским Клондайкам…
Катер все углублялся в море. Огоньки Сочи уже давно растаяли и погасли. Мгла была бы совсем непроглядной, если бы не звезды. Они то осыпались жаркими искорками во вспученную волнами и шумом морскую хлябь, то, словно бы стянутые магнитом, смыкались в узоры на низком небе.
— Словом, и мореплаватель, и плотник… — сказал Зубцов.
— Если угодно — да. — Каширин вскинул острый клинышек бородки, сверху вниз посмотрел на Зубцова, переждал накат волн. — Возможно, Анатолий Владимирович, это вам покажется крамолой или я излишне субъективен, но диалектика истории такова, что сибирское купечество в условиях полуфеодальной России было силой в известных пределах прогрессивной. И не стоит преуменьшать цивилизаторскую и просветительскую роль отдельных представителей сибирского купечества.
Конечно, в массе своей оно, как всякое купечество, было диким и алчным, но в этой массе встречались и весьма оригинальные натуры. Александр Михайлович Сибиряков, автор многих трудов по экономике и географии Севера, финансист знаменитых экспедиций Норденшельда и Григорьева, человек, чье имя и поныне носит один из наших ледоколов; Николай Васильевич Латкин, перу которого принадлежит более трехсот статей в словаре Брокгауза и Эфрона; Геннадий Васильевич Юдин, создатель уникальной коллекции книг, которые ныне составляют основу Славянского отдела библиотеки Конгресса США; Иннокентий Кузнецов, талантливый историк, археолог, журналист, писатель, — все они крупные купцы, золотопромышленники, денежные воротилы и вместе с тем весьма заметные величины в дореволюционной сибирской культуре…
Палуба раскачивалась под ногами, Каширин утвердился на ней прочнее, и, заключил тем же тоном:
— Климентий Бодылин с полным основанием может быть отнесен к их числу.
— А не идеализируете вы Бодылина? И энциклопедист он, и в горном деле хозяин не только по имущественному положению. В то же время сами говорите: делал деньги, чтобы двигать науку, двигал науку, чтобы делать деньги… Не кажется ли вам, что многое предпринималось им ради саморекламы: «Отец-благодетель града и храма, покровитель искусств и наук…»
— Во многом вы правы, но и не упрощайте: все ради прибыли. Климентий Данилович был прирожденным инженером, питал страсть к изобретательству, к смелым экспериментам. Они доставляли ему истинное наслаждение. В отношениях же с рабочими Бодылин слыл справедливым, во всяком разе никогда не унижался до обсчетов, спаивания, рукоприкладства…
— Видимо, слыл в своем кругу белой вороной, — сказал Зубцов, с удивлением чувствуя, что проникается невольной симпатией к этому многоликому Бодылину.
— Если хотите, да, белой вороной. Вообще он видится мне личностью довольно трагической. Помните у Горького, Егор Булычев говорит: не на той улице живу. Так вот, Бодылин тоже не на той улице жил и понимал это. Но перейти на другую улицу не хватало духа.
…Весна двадцать первого года. Схваченная апрельским утренником земля звонко вторила быстрым шагам Каширина. Остались позади хибарки Муравьиной слободки, под глинистым обрывом потрескивал истончавший ярульский лед. Впереди, за кромкой тесового забора, чернели скелеты яблонь бодылинского садоводства.
Пришлось долго стучать кованою скобою, пока калитка слегка приоткрылась, лязгнула цепь.
— Кого там бог дает? — голос показался Каширину смутно знакомым. Но откуда он мог знать этого старика со всклокоченной седой бородой, настороженно и недобро глядевшего на Каширина.
— По слухам, здесь обитает гражданин Бодылин, и я желал бы… — начал Каширин, но всмотрелся, умолк, договорил полушепотом: — Климентий Данилович, вы?
Цепь лязгнула снова, Бодылин высунул в щель голову в затертой шапке, обвел взглядом безлюдный берег, покосился на Каширина, сказал:
— Никак Вячеслав Иванович? Пришел, так входи. Благодарствуем, что не побрезговали. Вот как, значит, довелось повстречаться. Бодылина не признал! Эх, судьба-индейка!..
В кухонное окно скреблись голые ветки яблонь. Тускло теплилась на стене керосиновая лампа с закопченным стеклом. Через раскрытую дверь в горницу Каширин с удивлением разглядел слабо мерцавшие в свете лампадки оклады икон. Иконы в бодылинском доме! Климентий Данилович никогда не отличался набожностью, лет пять назад слыл чуть ли не богохульником. Хозяин перехватил испытующий взгляд Каширина и сказал с горькой усмешкой, кивнув на иконы:
— Не дивись и не осуждай. Последнее прибежище мятущейся души и возмущенного разума… — И, глядя за плечо гостя, продолжал монотонно, будто боролся с дремой: — Один я остался. Один как перст. Старший сын, Никодим, ты помнишь его, конечно, надежда моя на старость, погиб неведомо от чьей руки. Средний, Афанасий, как был не в бодылинскую породу, мот и прожигатель жизни, таковским и остался. Удрал из России невесть куда, не то в Манчжурию, не то дальше, за океан. Одна надежда — Агочка из Питера обедает наехать летом. Может, выдам ее замуж и доведется понянчить внучат. А то совсем сошел на нет бодылинский род. — Он натужно закашлялся и договорил с неожиданной для него покорностью: — Отвратил от меня господь за гордыню мою свой пресветлый лик. Но не ропщу. Воздает, видно, небесный судья по скверне моей…
Каширин чуть не выронил стакан с чаем. Такое услыхать от Бодылина.
— Так-то вот у меня обернулось. Воистину, не в городе Степан, не в селе Селифан. Старой власти неугоден был. Хоть миллионщик, да вольнодум и задира. Новой — тоже не показался: злодей, кровопивец и классовый враг. Лишь в господе нашем прибежище и сила моя…
Каширин умолк. Устало и печально провел рукой по лицу, будто счищая что-то с него, и сказал приглушенно:
— А последняя встреча была в той же сторожке, на свадьбе дочери Бодылина, Агнии Климентьевны. Приехала она из Питера и вскорости вышла замуж за Аристарха Николаевича Аксенова. Аристарх Николаевич родом был из потомственных сибирских рудознатцев, инженерное образование получил на медные гроши и стал мозговым центром Бодылинской компании. Все, о чем я вам рассказывал: геологические открытия, различные новшества в добыче — во многом было делом ума и рук Аксенова. Любил его Климентий Данилович, как родного сына. Аристарх же Николаевич едва ли не с юности полюбил Агнию Климентьевну, хотя она была младше его на пятнадцать лет. Словом, романтическая история. И вот свадьба. Я был на ней единственным гостем. Всеми владело предчувствие неотвратимой беды, надвигавшегося конца, и наши крики «горько» были не только данью свадебному обряду… — Каширин снова провел рукой по лицу и заключил: — Но так или иначе поженились они, как желал того Бодылин, с попом и венцом. Деньков через десять молодые отбыли на жительство в Питер, где Аксенов получил место приват-доцента в институте. А через неделю после их отъезда Бодылин в своей сторожке был убит и ограблен.
— Убит и ограблен?! Кем? Что взяли у него?
— Кем, не знаю. Разворочен был летник во дворе. Слухи шли, взяли золото в слитках. Агния Климентьевна и Аристарх Николаевич по тем временам еще не добрались до Петрограда, и я похоронил Климентия Даниловича в фамильном склепе Бодылиных. А на второй день после похорон был препровожден в губернский уголовный розыск. Допрашивал сам начальник. Был он из прибалтов. По-русски говорил с акцентом. И глаза тоже, как прибалтийское небо. Знаете, бывает оно таким, не пасмурное, но и не ясное. Одним словом, пустые глаза, холодные. Как говорится, ни печали, ни воздыхания.
Качка усилилась. Зубцов то и дело переступал с ноги на ногу, чтобы не потерять равновесия.
— Допрос он вел с явным пристрастием. Требовал от меня фактов произвола Бодылина на прииске и фактов его контрреволюционной деятельности, а поскольку я таковых фактов не ведал, костерил меня буржуйским прихвостнем и скрытой контрой. Но дотошнее всего выспрашивал: где и сколько кладов заложил Бодылин? Так ведь Бодылин-то душу не раскрывал передо мной. Я в его глазах оставался мальчишкой, горным техником. Единственный человек, которому Бодылин мог бы доверить тайну, Аристарх Николаевич, был далеко.
— И уехал дней за десять до гибели Бодылина?
Каширин кивнул и сразу же настороженно спросил:
— Вы усматриваете некую связь между этими двумя совершенно локальными событиями?
«Версия может быть и парадоксальной, но никогда облегченной», — повторил про себя Зубцов слова Орехова и сказал успокаивающе:
— Конечно, события совершенно локальны. Право же, никаких намеков. Не знаю только, когда и при каких обстоятельствах скончался Аристарх Николаевич.
— В сорок втором, в Ленинграде, от дистрофии. К тому времени он был профессором, заметной величиной в горном деле. И непременно стал бы академиком, да эвакуироваться наотрез отказался и умер совсем молодым. Теперь-то я доподлинно знаю: шестьдесят два года для ученого — прямо-таки юношеский возраст.
— Агния Климентьевна жива?
— Увы, последовала через год за супругом. Они, как гоголевские старосветские помещики, не могли существовать один без другого. Ослабла она от голода, а пуще от горя. Вывезли ее в сорок третьем из Ленинграда, она и скончалась в пути.
Катер снова стало швырять, и такие яркие минуту назад огоньки Сочи сделались расплывчатыми, зыбкими.
— Что же, так и сошел на нет бодылинский род?
— Бодылинский — да. Аксеновский ведется. Сын Аристарха Николаевича и Агнии Климентьевны — Николай Аристархович Аксенов, ныне управляющий бывшим прииском Богоданным. Теперь это крупный рудник Октябрьский — центр Северотайгинского района Краснокаменской области. Николай Аристархович — уважаемый в нашей отрасли человек, фронтовик, грамотный инженер. Но ни дедовского размаха, ни отцовского блеска я в нем не ощущаю. Суховат, рационалистичен, скрытен, что называется, себе на уме. Так что обмениваемся с ним поклонами на министерских совещаниях — вот и все знакомство. Отец-то его был человеком недюжинным, редкостного обаяния и редкостной честности…
— Вы так и характеризовали Аксенова-старшего тому прибалтийцу в двадцать первом году?
— Разумеется, — убежденно начал Каширин, осекся, озадаченно посмотрел на Зубцова. — Хотя… Насколько могу припомнить, он не проявлял интереса к Аристарху Николаевичу, спросил только: когда и куда он уехал и высказался в том смысле, что в Петрограде Аксеновых встретит милиция и допросит по форме…
— И что же, Аксеновых встретила в Питере милиция?
— Право, затрудняюсь ответить. Однако не вспомню, чтобы Аксеновы рассказывали об этом. А были они со мной весьма откровенны. Может быть, тот прибалтиец все же убедился в нелепости своих подозрений.
— Все может быть… — Зубцов прошелся по палубе, снова встал рядом с Кашириным и спросил: — А позднее Николай Аристархович или Агния Климентьевна не говорили вам, — не тревожили их представители власти? Налетов грабителей не было на их квартиру?
— Следовательно, вы все же полагаете… Встречались мы до войны часто. Вспоминали молодость, тепло говорили о Климентии Даниловиче, беседовали о проблемах золотодобычи, Агния Климентьевна оплакивала страшную кончину отца. А о налетах… Действительно, раза два Агния Климентьевна жаловалась, что побывали в их доме злоумышленники. Представьте, ничего не украли, но перетрясли, перевернули все, даже печные трубы разворотили… Но о золоте, о наследстве Бодылина никогда не было речи. Они молчали, а я считал разговор на эту тему бестактным. Хотя, помнится, однажды Аристарх Николаевич высказался в том смысле, что может в любой момент сполна расплатиться с Советской властью за все прегрешения своего тестя.
— Вы не уточняли, что он имел в виду?
— Я решил, что Аристарх Николаевич подразумевает свои бесспорные заслуги в отечественной золотодобыче. К тому же не верил и не верю сейчас в прегрешения Бодылина перед Советской властью. О каком-то потаенном бодылинском золоте в доме у Аксенова я вообще не думал. Слишком интеллигентен, масштабен и бескорыстен был Аристарх Николаевич. Он был человеком чести и слова…
«Именно потому и мог», — отметил про себя Зубцов.
— Но ведь в семействе Аксеновых была еще и Агния Климентьевна, плоть от плоти и кровь от крови Бодылина… Ее вы исключаете также категорически?
— Бодылина-то ведь она только по рождению. Не успела вкусить сладостей богатства, а в биологическую, фатальную жадность я верю слабо… — Он задумался и сказал чуть растерянно: — Но вообще-то, Анатолий Владимирович, вы меня заинтриговали. Не размышлял я никогда в таком криминальном направлении…
— Вы ученый, зачем вам размышлять в криминальном направлении… А не доносилось до вас: нашли тогда убийц Бодылина? Вернули похищенное?
— Слух в городе был: кануло все, как в воду.
— Чему же тут удивляться, — заметил Зубцов с откровенным сарказмом — Аксеновых не допрашивали, у вас выясняли факты контрреволюционной деятельности убитого и ограбленного Бодылина. При таких методах можно сыскать разве что пресловутый топор под лавкой… А с вами после того прибалта никто больше не беседовал о бодылинском золоте?
— Перед самой войной приглашали меня в ваше ведомство. Принимал меня молодой человек, вроде вас, учтивый и вежливый.
— Не Лукьянов, случайно?
— Возможно. Рассказывал я ему то же, что и вам. Помнится, он остался очень доволен.
— И об Аксенове рассказывали?
— А почему бы и нет? Таким знакомством каждый гордится вправе.
— И пересказали фразу Аксенова о готовности расплатиться за своего тестя?
— Фразу о готовности расплатиться… — удивленно повторил Каширин. — Пожалуй, нет, не пересказывал. Не придавал я ей значения да и сейчас убежден: нет в ее подтексте никакого золота…
Берег уже совсем близко. Можно разглядеть силуэты зданий, черные купы деревьев с разноцветными бусинками фонариков.
— Я очень рад, Вячеслав Иванович, нашей встрече и разговору. Хотелось бы все-таки услыхать: были у Бодылина, кроме того, в погребе еще тайники или это вы исключаете напрочь?
— Не исключал такой возможности тогда, в двадцать первом, не исключаю и сейчас. Бодылин есть Бодылин. А тайга есть тайга. В ней, матушке, не только тайник с золотом, но и целую деревню укрыть можно. Встречали же в дебрях, и не столь давно, староверческие скиты, обитатели которых еще не слыхали об Октябрьской революции.
— А говорите: у Бодылина не было прегрешений перед Советской властью…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Совсем рядом, рукой подать, займища жаркое разрумянили увалы и взгорья, в логах и распадках синим пламенем занялся багульник, лужайки и пустоши, словно снег, усыпали ромашки.
А здесь, по-над речкой Светлой, только влажный мох на корягах напоминает о не совсем убитой еще жизни. Дремать бы речке в прелом зеленом сумраке, да оголили некогда ее берега, и плещет она сердито, ворчливо перекатывает по дну гальку, печалится над загубленной тайгой. Цепляются за береговые склоны жилистыми корнями иссохшие лысые деревья. Гиблые эти места старожилы испокон веков называют Бодылинскими порубками. Топор здесь погулял безоглядно, не раз обугливали редколесье яростные летние палы, а шелкопряд-ненасытец довершил разорение.
И тропа, что петляет здесь, — Бодылинская, и закаменелые отвалы у воды — их моют теперь сезонники-старатели — тоже Бодылинские…
Бодылина в Октябрьском помнят разве что дряхлые старики, но фамилия как бы отделилась от своего владельца, протянулась в иную жизнь и вцепилась в нее, как безлистые деревья в глину береговых яров.
Глеб впервые увидал эти северные края чуть больше года назад и о прежнем владельце прииска не имел никакого представления, но на вопрос, где работает, отвечал, как все:
— Стараюсь помаленьку на Бодылинских отвалах.
И радовался: хватит песков на Бодылинских отвалах, а в них — самородков. На всю старательскую жизнь Глеба Карасева хватит, на все его планы.
Речка Светлая, днем переливчатая и прозрачная, подернулась частой рябью, потом загустела свинцом, и рассыпались по ней звезды.
Бульдозерист включил фару, спрыгнул на землю, блаженно, до хруста в костях, потянулся, вперевалочку подошел к Глебу. Тот с неохотой закрутил вентиль, стонавшая от яростного напора воды гидравлика притихла.
— Перекур, что ли? — досадливо спросил Глеб.
— Думаю, совсем шабаш на сегодня, — решительно сказал Федор, оглядел Глеба и с завистью заметил: — Железный ты, что ли? Целый день у этой дрыгалки, а все как огурчик. У меня башка раскалывается. Он же гудит, как танк, бульдозер-то.
— Стране нужен драгоценный метал, и наш долг дать его стране, — с пафосом изрек Глеб.
— Ладно, я тоже грамотный. Только тебе, чертолому, напарником бегемота впору. Все люди как люди, от гудка до гудка, а у нас с тобой одно понятие: световой день, от темна и до темна.
— Кому от этого плохо? Государству? Артели? Может быть, нам с тобой?
2
Луч фонарика выхватывал из темноты то корневище, петлей захлестнувшее тропу, то черный плешивый пень, то иудино дерево — осину.
Небо совсем близко. Будто на ветке сосны, раскачивается ковш Большой Медведицы, звезды мерцают жарко, как самородки на дне артельной колоды, когда заглянешь в нее через трафаретную решетку…
Глеб отмахнулся от этого видения, и вдруг вспомнился голос Лизы, как всегда не то насмешливый, не то строгий: «Я убеждена: человек чуткий и отзывчивый к красоте никогда не совершит подлости. У тебя же вообще ярко выраженное эмоциональное начало. И оттого мне так хорошо с тобой. Терпеть не могу разных логичных рационалистов».
Как давно прозвучали эти слова!
Отслужив в армии, Глеб вернулся в Москву, к матери. Город встретил его медвяным разливом липового цвета, золотыми россыпями болгарской клубники на лотках, сочными красками цветочных киосков.
Глеб с наслаждением облачился в штатский костюм и целыми днями слонялся по улицам, привыкая к полузабытой гражданской жизни. И все девчонки казались привлекательными, кургузые платьица на них очень нарядными, улицы праздничными.
В тот вечер Глеб троллейбусом возвращался домой. Стоял у задней дверцы, нагретый металлический поручень упирался в ладонь, в светозащитных стеклах проступали цветные фотографии зданий.
Троллейбус резко затормозил. Глеба швырнуло вперед, ладонь соскользнула с поручня, и парень заключил в объятия, плотно притянул к себе стоявшую к нему спиной пассажирку.
Она дернула плечами, скосила на Глеба уголки глаз и сказала сердито:
— Держитесь за поручень.
— Простите, я нечаянно, — смущенно ответил он.
— Возможно, но все-таки уберите руки. — Она скинула со своих плеч ладони Глеба.
— Извините, я не хотел, честное слово. Инерция.
Она скользнула укоризненным взглядом по его размашистым плечам, широкой груди, длинным мускулистым рукам и спросила насмешливо:
— Инерция чего? Самоуверенности? Нахальства? Или милой привычки к троллейбусным знакомствам?
Оказывается, у нее очень чистое, совсем девчоночье лицо с розоватою кожей и зелеными глазами, круглыми, ласковыми, цепкими. Не отводя от нее взгляда, он, широко улыбаясь, объяснил:
— Нет, та инерция, про которую в школе проходят. По физике. Честное слово.
Ее губы покривились язвительно, а в голосе проскользнула издевка:
— Ах, в школе… Что же, продолжайте повторение пройденного. Мне выходить на этой остановке.
— Мне тоже, — пробормотал Глеб.
Глеб замедлил шаг, проводил ее взглядом, остановился у театральной афиши: решит еще, что пристаю…
В глазах рябили названия спектаклей: «Сто четыре страницы про любовь», «Коварство и любовь», «История одной любви». Но Глеб все-таки заметил, что девушка завернула в подъезд, где жил он.
Ему стало смешно. Он покружил у газона, медленно вошел в подъезд.
На лестничной площадке, расставив по ступенькам бутылки с молоком, пакеты с покупками, стояла та девушка и рылась в сумке.
— Ключ потеряли? — сочувственно спросил Глеб.
— Ну, знаете!.. — возмущенно воскликнула она и угрожающе выставила перед собой ключ.
Посмеиваясь беззвучно, Глеб собрал бутылки и пакеты, составил обратно в сумку, вручил хозяйке:
— Ничего не поделаешь. Я живу в соседней квартире.
Войдя к себе, он с порога окликнул мать:
— Мама, разве в семьдесят первой квартире живут не Мартыновы?
— Теперь там Лиза Гущина живет.
— Одна? — как можно равнодушнее спросил Глеб.
— Зачем одна? С мужем и с дочкой.
Через неделю вечером Глеб остался один дома. У двери позвонили. Он лениво поднялся с дивана, шлепая тапочками, побрел в переднюю, открыл дверь и испуганно попятился: на площадке стояла Лиза.
— Вы? Здравствуйте, — сказал Глеб густым басом.
— Здравствуйте, сосед.
— Меня зовут Глебом.
— Я знаю. Но мне больше нравится называть вас соседом. Понимаете, сосед в троллейбусе, сосед по лестничной площадке… Мой благоверный отсутствует, а у меня, как на грех, погас свет. Что-то с пробками. Я подумала: вы так крепко помните школьную физику, что, наверное, сумеете починить. — Она скользнула оценивающим взглядом по его лицу, плечам.
— Постараюсь, Елизавета э-э… — начал он и покраснел.
— Елизавета Ивановна.
В коридоре своей квартиры Елизавета Ивановна зажгла свечку, поставила под электрощиток стул, сказала с усмешкой:
— Действуйте. Я стану подстраховывать вас.
Ее твердые ладони уперлись ему в спину. Глебу стало жарко. Он потянулся к пробке, слегка покачал ее пальцами, сразу же вспыхнул свет.
Глеб слышал, как потрескивает свеча, как дышит Елизавета Ивановна, как часто стучит ее сердце. Пальцы Глеба соскользнули с пробки. Свет снова погас.
Он виновато оглянулся на хозяйку. Она смотрела строго и выжидательно. Глеб торопливо потянулся к щитку, но Елизавета Ивановна вдруг дунула на свечку и сказала шепотом:
— Прыгай, я подхвачу…
А спустя еще недели две в парке «Сокольники» они сидели под старым кленом. Глеб осторожно взял прохладную, узкую ладонь Лизы и сказал умоляюще:
— Я больше так не могу. Вся наша жизнь — сплошное ожидание. Я жду твоего стука в стену, жду, когда уйдет из дому Гущин, когда убежит играть твоя дочка. Ты ждешь, когда я останусь в квартире один. Ждем, ждем. А чего, собственно? У нас же все решено с тобой. Сколько можно ломать эту комедию: сосед, соседка?…
— Что ты предлагаешь?
— Сегодня же поселиться вместе, а не по соседству.
— Я согласна. А где?
— Хотя бы у меня.
— Шестой жилицей в двухкомнатной квартире. Да еще Маринка со мной. По соседству с Гущиным. Прямо скажем, перспектива блестящая. То-то обрадуется Надежда Павловна, твой отчим и твои сестренки. И материальная база у нас с тобой всем на зависть. У меня аспирантская стипендия, у тебя целых сто рублей слесаря-ремонтника. Заживем на славу.
«Вполне достаточно для начала», — чуть не сорвалось у него с языка. Но Глеб тут же ужаснулся своего идиотского оптимизма. Обрекать Лизу на такое существование?… И спросил с надеждой:
— Тебя удерживает только это?
— Ты думаешь, это пустяки, жадность? Между прочим, эмоциональное начало — это очень хорошо. Но не до телячьего идеализма. Я не верю в рай в шалаше даже с милым. Стандарты комфорта растут год от года…
Что скажешь, если Лиза снова права, как права она всегда в каждом своем суждении и поступке. Разве не обязан он заботиться о Лизе?… Женщина на шесть лет старше его, красивая, умная, поверила ему, откликнулась на его любовь. Так неужели он поведет себя, как желторотый птенец, не станет для нее настоящим мужчиной, опорой в жизни?… И вспомнился друг. А друг ли? — заспорил с собою Глеб. Конечно же, друг, неожиданный и надежный…
За мутным стеклом вагонного окна медленно поползли назад лотки с мороженым и пирожками, табачный киоск, крохотный магазинчик, приземистое станционное здание и, наконец, обшитые зеленым плюшем кустарника сопки, меж ними угадывалась морская синь.
«Впрочем, какая там синь, — возразил себе Глеб. — Небо свинцовое, и волны отливают свинцовым блеском». Глеб поежился, представив, как холодна и шершава сейчас морская вода, но снова заспорил с собой. «И все-таки это — море. Пусть не курортное, ласковое, однако же море.
Море, любимое отцом и унесшее отца, оно осталось позади. А впереди — Москва. Дом матери. Нет, не надо обманывать себя — дом отчима.
«Но в этом доме мать, сестренки», — попробовал разубедить себя Глеб. И тут почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Глеб крутнулся на своей полке и услыхал вежливо приглушенный вопрос:
— Пехота меняет гарнизон?
— Если и пехота, то воздушная. Надо различать рода войск.
На полке против Глеба полулежал парень чуть постарше Глеба. До подбородка тянулись рыжеватые бакенбарды, густые, ухоженные. Ноздри шевелились, и казалось, острый хрящеватый нос жадно принюхивался к воздуху в купе. Тонкие рыжеватые брови то смыкались хмуро, то удивленно всползали вверх. Светлые глаза иронично сощурены. Однако ответ его прозвучал почти примирительно:
— А я не силен в пуговках и эмблемах. Служить не довелось. Отсрочку дали по роду работы. — Он улыбнулся не то сожалеюще, не то с бахвальством. — Значит, не царица полей, а царица воздуха. По мне — один хрен. Скажи все-таки, если, конечно, не какая-нибудь там тайна: перегоняют или в отпуск?
— Поодиночке солдат не перегоняют, — назидательно сказал Глеб, досадуя на то, что сосед прилип с разговором. — Домой еду.
Востроносый, словно бы не замечая его настроения, сказал радушно:
— Что это мы с тобой безымянно? Меня, например, Аркадием звать. А тебя?
Не отвечать было просто свинством. И Глеб назвал себя.
— Домой — это хорошо, — одобрил Аркадий. — Это даже распрекрасно, — сразу вдруг замкнулся и договорил с неожиданной для него грустью: — Хорошо после долгой отлучки. И само собой, если дом — это дом, а не какая-нибудь там крыша над головой.
«А не такой уж ты весельчак», — отметил Глеб и сказал теплее:
— Это кому как повезет. У меня вот тоже дом, он, конечно, дом, да хозяин-то отчим в нем. — И засмеялся невесело.
— Ясненько. — Глаза Аркадия сузились. Не то задумчиво, не то презрительно, как угадаешь. Он, как бы опомнясь, мгновенно разлепил веки, остро, оценивающе осмотрел Глеба: — Значит, не так, чтобы дом, а больше крыша над головой.
Глеб вздохнул печально и, чтобы не отвечать на трудный вопрос, сказал:
— У тебя, значит, тоже случались… Долгие отлучки…
Глеб даже удивился: какими переменчивыми бывают лица. Аркадий уже не улыбался. Тонкие губы сомкнулись змейкой, сощурились недобро глаза, чуткими, острыми сделались зрачки, а голос стал жестким:
— Случались, говоришь? — Он засмеялся, будто камушками загремел в консервной банке. — Со мной, парень, такое случалось, что тебе и в страшных снах не снилось. Я и горькое хлебал, и соленое, и горячее до слез… — Жесткое лицо Аркадия закаменело…
— Где же это так пришлось туго? — спросил Глеб с искренней заинтересованностью. — В армии, говоришь, не служил. Или работа трудная?
Взгляд Аркадия стал насмешливым, но тотчас же зрачки снова сузились, и слова прозвучали горько:
— Вот именно, трудная. Опасная даже… Ладно, двинули в ресторан. Насчет грошей не сомневайся. Какие гроши у демобилизованного солдата? Я угощаю.
Аркадий был щедр на разносолы, позабытые Глебом за годы солдатской службы, и особенно на выпивку. То и дело подливал в рюмку Глеба.
— Эх, Глебка, друг ты мой ситцевый, ты вот что, рубай, чувствуй, что вернулся на гражданку. В армии еда известная — щи да каша…
Глеб хмелел. Он уже не досадовал на многословие Аркадия, на его фамильярность. Глеб улыбался блаженно и вяло возражал:
— Ну, почему — щи да каша. Еда в армии сытная.
Аркадий развел руками, рассмеялся. Ослепительно блестел во рту золотой, зуб.
— Кто против? Да только, Глебка, давно замечено: не хлебом единым… Соображаешь? Кроме щей да каши имеется другое. Шашлык, например, по-карски или там котлета по-киевски. — Он указал на заставленный снедью столик.
Глеб тоже обвел столик мечтательным взглядом:
— Вкуснее-то оно вкуснее. Да только деньги…
— Ах, всюду деньги, деньги, деньги. Всюду денежки-друзья, — дурашливо затянул Аркадий старую песенку. — А без денег жизнь плохая. Не годится никуда. Молодец! Соображаешь! В самую точку. Без денег нет вовсе никакой жизни. Деньги — всему голова.
— Без денег, конечно, не годится никуда, но и зарабатывать их попотеешь.
— Это кому как повезет и кто как изловчится.
— А у тебя получается, Аркадий?
— Стараемся.
— А где работаешь?
Аркадий поморщился, но ответил с прежней, широкой улыбкой, сверкая золотым зубом:
— Я же говорю тебе: стараюсь. Слово такое слыхал — «старатель»? Загляни в энциклопедию, узнаешь, что такое старательская добыча золота, чем отличается от промышленной. Словом, стране нужен драгоценный металл и мы даем его стране. Вот этими родимыми даем. — Он потряс над столом красными тяжелыми ладонями. — Мы — стране, страна — нам. А вообще, Глебка, кто, что, откуда, зачем? Не люблю я этих расспросов. Аркашка Шилов — как говорили наши деды, человек божий. И все. И ни слова, о друг мой, ни вздоха…
На московском перроне Аркадий, влюбленно засматривал Глебу в глаза и приглушив голос, говорил, поблескивая в ухмылке золотым зубом:
— И чем ты, Глеб, так мне по душе пришелся? То-то, что не знаешь. А у Аркашки Шилова так ведется, такой он человек, этот Аркашка, для друга всю душу и еще сверх того, что смогу. Усек? В общем, твой телефон я запомнил. Посидим где-нибудь, потолкуем за жизнь.
Мать скупо расцеловала Глеба, смахнула слезинки с уголков глаз, окинула испытующим взглядом.
— Совсем мужиком стал. Рослый. Здоровый. Раньше говорили: на таких воду возить можно. Заняться-то чем думаешь?
— Пусть осмотрится сначала, — сказал отчим великодушно. — Прикинуть надо, куда получше.
— Пусть, — дозволила мать. — Только не тяни. Дней десять — и хватит. Дело молодое, сил много. Вот и надо определяться, чтобы прочно, чтобы не крохи какие-нибудь, а настоящие деньги иметь. Жизнь-то вон какая стала широкая. Деньги в цене и в силе. Коровины вон, — ты помнишь их, Глеб? — трехкомнатную кооперативную квартиру купили. Марченко — «Москвича». Потылицины привезли импортную мебель. Ковровы дачу построили… Одни мы каждую трешку держим на учете.
— Мать, наверное, сгущает, — неуверенно возразил Владимир Прохорович. — Но и не согласиться нельзя: деньги по нынешним временам — решающий фактор Может быть, главный даже. А мы вот никак не можем достичь больших денег. Пересчитываю только их, казенные, в своем банке.
Глеб криво усмехнулся и сказал отчиму:
— Может быть, мне ограбить твой банк и разом решить все проблемы?
Мать даже руками замахала на Глеба:
— Еще чего придумал: ограбить! Ты своим умом, своим трудом достигни. Теперь каждый по-своему старается. Кто вкалывает, не переводя дух, кто степень защищает, кто клубнику раннюю продает со своего сада Кто еще как… Вот и ты, Глеб, сумей…
— Я постараюсь, — сказал Глеб тихо и вспомнились слова щедрого попутчика: «Стараемся дать стране драгоценный металл. Мы — стране, страна — нам». Надо расспросить получше Аркадия об этом старательстве…
Шилов не заставил себя ждать. На следующий вечер позвонил Глебу, весело предложил сегодня же встретиться в «Арагви».
— Уж если шашлык, так шашлык. По-карски, так по-карски.
Глеб не знал, что за несколько минут до своего звонка к нему Аркадий Шилов за столиком «Арагви» вел разговор с черноволосым мужчиной лет сорока.
Черноволосый потягивал вино и говорил одобрительно:
— Съездил ты на юг хорошо. Даже отлично съездил. Джигит да и только. — Спросил, понизив голос: — Рассчитался полностью за поездку?
— Да ты что, Ахмад?! — сказал Шилов оскорбленно. — Разве я тебя когда-нибудь хоть в единой копеечке?… Ну ты даешь!
— Ладно, — Ахмад небрежным жестом прервал его. — Меня больше волнует твое знакомство в вагоне. Не допускаешь подсадки?
— Даже исключено. Нормальный солдатик, Слушает да ест. В прямом смысле слова. Сам же ты, Ахмад, говорил: нужен паренек, чистый, не учтенный милицейской статистикой.
Ахмад, довольный, что Шилов, оказывается, так внимателен к его наставлениям, даже и оброненным вскользь, улыбнулся одобрительно.
— Вот я и подумал… — с облегчением начал Аркадий и до дна осушил свой фужер. Кажется, пронесло. У этого Ахмада в почете только собственная инициатива. А все прочие — «Знай, сверчок, свой шесток». Оно, конечно, верно. Если каждый станет отсебятиной развлекаться, запросто можно милицейского подкидыша подобрать. И тогда всем хана. А с другой стороны, сколько можно быть у этого Ахмада на побегушках. Пора иметь кого-то, кому ты можешь отдать команду…
— Долго думаешь разговорчики с ним разговаривать?
— Да повожу его покуда. Коли приручу, потолкуем начистоту. Не приручу, разойдемся, как в море корабли. Только он мне сначала все мои затраты на себя покроет. Денежки любят счет.
— Ладно, — решил Ахмад. — Зови его сюда. Я сяду за соседний столик, посмотрю на него.
Едва Глеб поравнялся с памятником Юрию Долгорукому, Аркадий весело окликнул его:
— Глебка, друг ты мой ситцевый. Нет, что делает одежда с человеком. В кителе был такой бравый солдат, суровый, твердокаменный. И вдруг такой живописный вид: краски, оттенки. Неотразим, честное слово, неотразим! — И спросил уже деловито: — Костюмчик старики справили к твоему приезду, да?
Глеб, воспрявший было от его комплимента, потускнел, увял и сказал смущенно:
— Какое там к приезду. В нем и в армию призывался. Новый самому зарабатывать придется.
— Ты и в этом хорош, честное слово, — заверил Аркадий и ввернул: — А новый заработаешь, и не один, особенно если возьмешься с умом.
Они спустились в низкий сводчатый зал «Арагви». Аркадий гостеприимно указал на столик в углу:
— Вот уже все готово, все ждет вас. — Проходя на место, Аркадий церемонно раскланялся с сидевшим в глубине зала черноволосым смуглолицым человеком, понизив голос, сообщил Глебу: — Между прочим, очень сильный человек. Вот уж кто умеет деньгу заколачивать.
— Познакомь, пусть научит.
— Познакомиться с ним — это знаешь… Это, может, всей жизни не хватит. Он сам знакомится с кем надо.
Как много и красноречиво говорил в тот вечер Аркадий Шилов, какие только не вспоминал таежные бывальщины. Вспомнил и необъятные плисовые шаровары, и ковровые дорожки от пристани до дома старателей, и колокольный звон, и благодарственный молебен в пустых церквах, и прорубленные в стенах двери для старателей специально, и хмельную гульбу неделями.
— А что ему, старателю, — закончил он с подъемом, — он не считает денег.
— Все это было, да прошло, — напомнил Глеб.
— И сейчас не обижаются, — убежденно сказал Аркадий. — Прогрессивка там, северные. Это уже кое-что. — Аркадий замолк и продолжил, понизив голос: — Да еще к тому же если с умом и не дрейфишь… Можно за сезон один-другой камушек и… не сдать, словом, приемщику. Ну, позабыть, понимаешь? Бывают иногда такие возможности. А люди, которые камушками интересуются, они найдутся. Это опять живые деньги. Бессребренники, Глеб, — это или дураки, или зайцы. Или напускают на себя. — И засмеялся. — Что это мы с тобой — такие высокие материи. Ты ведь все равно не старатель. Давай лучше выпьем.
— За то, чтобы и я стал.
Старателем, в смысле. Все может быть. Осмотрюсь, подумаю.
Не раз потом Аркадий изливал перед Глебом свою душу. Глеб то восхищался его сметкой, решительностью, бесстрашием, то не верил ни единому слову. Но сейчас, лихорадочно прикидывая, где раздобыть деньги для Лизы, он вспомнил эти рассказы и заставил себя поверить: в них все правда, только так и поступают настоящие мужчины. А риск, как говорят, — благородное дело.
— Вот что, Лиза. Нам с тобой придется расстался на какое-то время. — Он замолк и заверил клятвенно: — Я докажу тебе, что я настоящий мужчина, и что я чего-то стою. Если все дело только в деньгах… Словом, пообещай ждать меня и никогда ни о чем не расспрашивать. — Плечи Лизы вяло шевельнулись. Глеб стиснул их руками. — Деньги так деньги, стандарт так стандарт…
И вот петляет Бодылинская тропа по мертвому сухостою. За спиной Глеба трясет листвою иудино дерево — осина…
Вдруг его ослепил сноп света, цепкая рука легла ему на плечо, и над самым ухом грозно раскатилось:
— Ни с места, гражданин Карасев! Милиция! — Тотчас же свет погас и по кустам раскатился хохот: — Глебка! Друг! Неврастеник! Ого, да ты никак врезать мне собрался. Злеешь. Это же я — Аркашка Шилов! Здорово, что ли, Глеб, друг ты мой ситцевый.
3
Они присели на поваленную лесину. Внизу приглушенно, будто каялась в чем-то тайном, журчала речка Светлая. От воды тянуло прохладой. Глеб поежился. Плечи саднили после светового дня у гидромонитора. Да еще этот кретинский розыгрыш с милицией. Сердце до сих пор не унялось и рубаху хоть выжимай.
— Припозднились что-то нынче, Глеб Владимирович? — сказал Шилов с издевкой. — Гербарии собирать изволили? Или просто так — мечты и вздохи под ясной луной?
Глеб торопливо отодвинулся. До боли в пальцах стиснул кулаки. Так хотелось садануть в скользкое от пота хрящеватое переносье Шилова. За все. За то, что заманил в эту глухомань, расписав райское старательское житье, приехал сюда следом за Глебом и бессовестно пьянствовал на его деньги. За то, что снова явился в тайгу, и, значит, Глебу снова придется раскошеливаться ему на поллитровки…
— Слушай, кончай треп, — попросил Глеб.
— Ты плохо обо мне думаешь, Глебушка, — ласково сказал Аркадий. — Я серьезен, как баптистский проповедник. — Он ухмыльнулся и продолжал жестко: — Но ты не ответил на мой вопрос и не показал… содержимого своего кармана.
— К-какого кармана?
— Потайного, — совсем нежно ответил Аркадий и молниеносно, всем телом рухнул на Глеба. Еще мгновение, и на ладони Аркадия топорщился выхваченный из-под рубахи Глеба самородок.
— Отдай, ты, ханыга!
— И не подумаю, — спокойно заверил Аркадий, цепко следя за каждым движением Глеба. — А чтоб у тебя не было соблазна, поступим так… — И, широко размахнувшись, швырнул самородок в речку.
— Ты что! — ахнул Глеб и с трудом выговорил: — Ты же знаешь, какой это ценой…
Шилов подождал, пока Глеб, подавленный его натиском, уселся на лесину и, понизив голос, спросил:
— Глебушка, хочешь пятьдесят тысяч?…
— За что? — спросил Глеб, с трудом раздвигая закаменелые губы.
— Тот, чьи интересы я представляю в данный момент, готов выплатить тебе этот гонорар. Это — большая сумма. Даже если тебе очень повезет в твоем старательском, так сказать, промысле, — Аркадий хихикнул, — ты соберешь ее лет за пять. А пяти тебе не продержаться. Вредное производство… — Он исподлобья посмотрел на Глеба и продолжал сочувственно: — А твоя Лиза, при зарплате в сто двадцать рублей, может скопить такие деньги за четыреста с лишним месяцев. Четыреста месяцев, это очень долго, больше тридцати лет. Будете ли вы нужны друг другу через тридцать лет?
— Послушай, хватит!
— Пятьдесят тысяч, Глеб, — это трехкомнатная кооперативная квартира улучшенной планировки, обставленная старинной мебелью, «Волга» в собственном гараже, дача в живописном уголке Подмосковья и еще кругленькая сумма на мелкие карманные расходы…
Глеб подался к Аркадию, заглянул ему в лицо. Прищуренные глаза блестели возбужденно и не было в них ни тени насмешки.
«Он верит в то, о чем говорит», — это открытие оглушило Глеба, он отпрянул от Аркадия и сказал срывающимся голосом:
— Самое большое, что я до сих пор получал из твоих рук, — это две тысячи.
— Вот именно — из моих. Как говорится, заяц трепаться не любит. Аркадий Шилов — человек слова.
Глеб знал страсть приятеля к пустопорожним афоризмам, поморщился и перебил:
— Только я, один я знаю, какой ценой они мне достались. Ты предлагаешь в двадцать пять раз больше. Подозреваю, что и достанутся они мне в двадцать пять раз труднее. Скажи прямо — чего хотите от меня ты и тот, чьи интересы ты представляешь? Что должен я натворить? Взять хранилище обогатительной фабрики? Перебить инкассаторов? Взорвать к чертовой бабушке прииск? — он говорил, возбуждаясь от своих слов, и проникался к себе все более глубокой жалостью.
— Какая буйная фантазия, — подбодрил Шилов и засмеялся. — Вот до чего могут довести впечатлительного человека одинокие ночные прогулки по тайге… — Он замолк и договорил жестко: — Я знаю про тебя все. Если ты окажешься упрямцем, то пошепчу кое-что районной милиции. И смогу подтвердить свой шепоток кое-какими, как выражаются эти почтенные товарищи, вещдоками. И встретимся с тобой, Глеб, годков этак через десяток, когда ты придешь ко мне на подмосковную дачу наниматься личным шофером. Но я не смогу тебя взять даже из жалости. После долгой отсидки тебе не разрешат московской прописки.
— Ты что, запугиваешь меня?!
— Не пугаю, а предостерегаю. Все твои посылочки, тайнички… В общем, смешно все это, Глебка, и грустно. Школьная самодеятельность. Драмкружок семиклассников, который решил поставить «Гамлета». А тот, чьи интересы я представляю здесь, — великий артист-профессионал! Как все профессионалы, он презирает дилетантство, как все люди искусства, он — гуманист. И потому его первое условие для выплаты тебе гонорара — это полная твоя безопасность. Ты должен напрочь забыть свой опасный промысел. Он вреден для твоей репутации. Репутация, Глеб, у тебя должна быть чище, чем у жены Цезаря. Поэтому перевыполняй нормы, вноси рацпредложения, пусть твой портрет, кстати, лучше, если он будет без этой экзотической бороды, украсит доску Почета артели. Вступи в народную дружину, в народный контроль, стань передовым и авторитетным. Ты же можешь, Глеб. У тебя ведь хорошие задатки. Порви со мной, пьяницей и бродягой. С треском порви.
— И ты не станешь жить со мной под одной крышей? — обрадованно прервал Глеб и продолжал настороженно: — А дальше? Сколько их всего, этих условий?
— Всего три. Видишь, Глеб, как в хорошей сказке. А ты смотрел на меня волком и даже, по-моему, хотел проверить прочность моих шейных позвонков. Ладно, забудем. Чего не бывает между друзьями. Дальше самое приятное. Ты, кажется, слегка поешь?
— Именно слегка.
— Больше и не требуется. Разучи полдюжины современных шлягеров: «Как провожают пароходы…» или «Как хорошо быть генералом…» и ступай в поселковый клуб, к Насте Аксеновой. И пой ей. Везде. В клубе, под луною, дома, по телефону. Пой о своей любви к ней. Искренне, от души, без единой фальшивой нотки, пой до тех пор, пока не станешь ее тенью, ее женихом, своим человеком в ее доме…
— В доме ее отца, управляющего рудником, — мрачно уточнил Глеб.
— Вот именно. Ты должен стать для Николая Аристарховича Аксенова привычным и необходимым, как домашние туфли…
— Чтобы потом его руками взять хранилище прииска?
— Ну что тебя влекут дешевые детективы?
— Постой, постой. — Глеб со страхом взирал на него. — Ты сказал: стать женихом Насти Аксеновой?
— Да, думаю, что это не потребует от тебя слишком много усилий. Парень ты видный, красивый. Лирических героев, равных тебе, я в поселке не знаю. А девичьи сердца влюбчивы.
— Но как же Лиза?
— Вот с ней ты порвешь раньше, чем со мной! — Шилов заметил протестующий жест Глеба и продолжал мягче: — Когда получишь гонорар за труды, предъявишь Лизе наличные, я думаю, она простит тебе юношеское беспутство.
Глеб дернулся, как от удара, закрыл глаза, всплыло в памяти лицо Лизы и отчетливо прозвучал ее голос: «Я не верю в рай в шалаше даже с милым».
— Попробую. Давай третье условие…
— Погоди. Мы отвлеклись и не кончили со вторым. Перед приходом к Насте Аксеновой ты должен знать, что бывший хозяин прииска Климентий Данилович Бодылин, первейший сибирский миллионщик, по отцовской линии прадед Насти…
— Ого! — присвистнул Глеб.
— Теперь слушай меня внимательно. — Аркадий перешел на полушепот. — Когда войдешь к ним в дом, в столовой увидишь большой портрет, ты спросишь: «Не Климентий ли, мол, Данилович Бодылин изображен?» Когда услышишь утвердительный ответ, выскажись в том смысле, что читал где-то о нем и проникся уважением. Светлая голова, крупная, хотя и трагически противоречивая личность. Это Аксеновым, как маслом по сердцу. В их семействе — культ предков…
Мы станем встречаться с тобой в чайной. Ты докладывай мне о своих наблюдениях. Кто бывает у Аксеновых, о чем говорят. Когда ты мне понадобишься, я найду тебя. Наблюдай, запоминай, но записей не веди никаких. Мемуары нам писать не придется.
— Итак, твой великий артист хочет, чтобы я стал его личным шпионом в семье Аксеновых?
— Пятьдесят тысяч, Глеб, — напомнил Шилов и развел руками: — А ты знаешь, чем лучше коньяк, тем крепче он пахнет клопами. Шпион!.. К чему эти страшные слова? Можешь быть абсолютно спокоен: ни в Си-Ай-Си, ни в ЦРУ на тебя не заведут карточку. И вообще, не заведут нигде. Любить красивую девушку, быть другом ее дома — это ведь не уголовное преступление.
— Но я не слыхал твоего третьего условия, — мрачно сказал Глеб.
Аркадий обнял его, привлек к себе, встряхнул шутливо и сказал подчеркнуто беспечно:
— Эх, Глебушка, друг ты мой ситцевый! Чти народную мудрость: много будешь знать — скоро состаришься, в тюряге. А в тюряге, друг, скучно…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
— Значит, внук Бодылина управляет дедовским прииском, — проговорил Орехов, как бы свыкаясь с этой новостью. — Своего рода наследный принц. Странно только, почему Лукьянов не знал об этом потомке Бодылина?
— А при чем тут Лукьянов? О чем ты?
— Правда, своего именитого деда Аксенов-младший не видел в глаза. Зато отца и видел, и слышал. Мать — тоже, — рассуждал Орехов. — Значит, мог принять от них эстафету семейной тайны…
— Но фронтовик, коммунист, управляющий крупным рудником и… хранитель клада. Зачем это ему?
— Не станем думать о нем плохо. Посчитаем невинным хобби, зовом бодылинской крови. А сейчас невинное хобби может стать для него источником трагедии. Скорее всего Никандров рассказал лже-Федорину именно об Аксенове. Но только ли об Аксенове? Тут простор для твоей интуиции… А раз так, вот тебе пища для нее. — Орехов достал из сейфа и подал Зубцову канцелярскую папку. Пахло от нее пылью старых сундуков и кладовок. Умный все-таки был мужик Иван Захарович Лукьянов. На вечер я вызвал к себе гражданина Потапова Павла Елизаровича. Это сын бывшего компаньона Бодылина… Нет, я не ясновидец. Потапова подсказал мне тоже Лукьянов…
Зубцов пришел в себе в кабинет, достал из папки заполненный машинописью листок…
«Заместителю Народного Комиссара внутренних цел СССР.
15 июня 1941 г. г. Москва.
Я, старший оперуполномоченный УБХСС Управления Рабоче-Крестьянской милиции, майор Лукьянов И. 3., изучая материалы к моей кандидатской диссертации на тему: «Некоторые особенности борьбы против валютных преступлений в период нэпа», обнаружил в архиве уголовное дело № 405 по факту убийства и ограбления сибирского золотопромышленника Бодылина К. Д., начатое 19 августа 1921 г. Краснокаменским губернским уголовным розыском и прекращенное им же 21 сентября 1921 года в связи с необнаружением преступников и похищенных ценностей.
Я пришел к выводу, что расследование по данному делу проведено неквалифицированно и неполно, не выяснены и не оценены существенные обстоятельства.
В связи с вышеизложенным, учитывая крупные размеры похищенного государственного имущества, особую опасность совершенного преступления, считаю необходимым отменить постановление Краснокаменского губернского уголовного розыска от 21 сентября 1921 г. о прекращении уголовного дела № 405 и принять его к своему производству для дополнительного расследования.
Ст. оперуполномоченный УБХСС РКМ НКВД СССР майор И. Лукьянов».
Это случилось через полгода после окончания Зубцовым милицейской школы. В комнату на Петровке, где работал Анатолий, стремительно вошел худощавый седой человек. Без приглашения сел на диван, унял одышку, пытливо оглядел Зубцова и спросил с укором:
— Это отчего же, лейтенант, ты Матвейчика выпустил сухим из воды? Он умен сильно или ты — тугодум?
Анатолий вскочил, уперся руками в стол:
— Когда заходят, здороваются и представляются.
— Так. Новоиспеченный, значит. Да ты не петушись, лейтенант. Лукьянов я.
— Виноват, товарищ полковник. — Руки Анатолия соскользнули со стола.
— Тянуться тоже не надо. Не в строю, — сказал Лукьянов устало. — Садись-ка лучше рядком… — И похлопал ладонью по дивану. — Стало быть, пока Матвейчиков верх. Да ты не тужи. В твои-то годы и от меня уходили запросто.
…И вот сейчас перед Зубцовым рапорт на имя заместителя наркома, написанный майором Лукьяновым за неделю до войны тридцать лет назад. И документы тридцатилетней давности…
«Я, Овсянников А. М., субинспектор губугро в г. Краснокаменске, по распоряжению начальника угрозыска тов. Валдиса 21 сентября 1921 г. вынес настоящее постановление…»
Оказывается, фамилия начальника уголовного розыска, который так крепко запомнился Каширину, — Валдис. Скорее всего, Валдис — честный, заслуженный работник. Но почему субинспектор Овсянников, конечно же, уважавший своего начальника, вступил с ним в спор, настаивал, видимо, убеждал продолжать розыск, но Валдис поставил по-своему, и Овсянников записал, что прекратил дело по распоряжению Валдиса.
Анатолий долго стоял у раскрытого окна, но не видел ни подсвеченного огнями ночного неба, ни искорок стоп-сигналов. Снова и снова пытался он оживить минувшее, зримо представить субинспектора Овсянникова…
Восемнадцатого августа 1921 года субинспектор Овсянников, невысокий курносый парень в залатанной гимнастерке и порыжелых разбитых сапогах, ввел в кабинет начальника уголовного розыска Валдиса рослого старика с окладистой седой бородой. Давно не чищенный сюртук на стариковских плечах обвис, длинные волосы всклокочены, дрожащие руки, глаза в красных прожилках усиливали впечатление дряхлости.
— Товарищ начальник, — доложил Овсянников, — лишенец избирательных прав Бодылин, бывший буржуй и капиталист, доставлен по вашему приказанию.
Валдис, медлительный, тяжеловесный, устремил на вошедшего бесцветные глаза, указал рукой на стоявший поодаль стул и, смягчая твердые согласные, сказал с прибалтийским акцентом:
— Садитесь, Бодылин, — подождал, пока старик устроился на стуле, и продолжал грозно: — Ваше социальное положение, гражданин Бодылин?
На мгновение взгляд Бодылина стал прежним, насмешливым, острым, и ответ прозвучал язвительно:
— Сказывал уже ваш посланный: бывший я. Бывший потомственный почетный гражданин, золотопромышленник и судовладелец. По-вашему, буржуй и капиталист, по-моему, просто человек божий.
— Прекратите агитацию! «По-вашему», «по-моему». Теперь все по-нашему. Понятно?
— Как не понять? Кто палку взял, тот и капрал…
— Не ухудшайте своего положения… Не забывайте, где находитесь, и отвечайте на мои вопросы.
— Где нахожусь — не забываю. Раньше здесь помещалась сыскная часть. Как именуется сие заведение по-вашему, не осведомлен. Что же до положения моего, то… суда людского не страшусь, а суд божий по грехам моим господу и вершить в свой час… Отвечать же на ваши вопросы не могу, ибо не слыхал таковых покуда…
— Местожительство? Должность?
— Обитаю в саду, в Заречной слободе. В сторожке. Прочих жилищ лишен новой властью по причине разграб… Пардон, муниципализации. Сад принадлежал мне и предназначался в дар городу после моей кончины. Однако же изъят у меня самочинно. Правда, милостью новоявленного начальства я оставлен смотрителем сада. За что хвалу всевышнему возношу неустанно…
Валдис как бы не расслышал выпадов старика. Или решил: пусть себе почешет язык, — спросил для порядка, заранее не сомневаясь в ответе:
— Не член профсоюза?
— Где там?! — Бодылин сокрушенно развел руками и ввернул с ехидцей: — Членом Русского и Британского географических обществ состоял годами. А вот вашего профсоюза не сподобился. Куда уж с суконным рылом да в калашный ряд…
— Догадываетесь, по какой причине вас вызвали?
— Ума не приложу. С чего понадобился вдруг сыскной части? Не тать я и не варнак… Впрочем, у вас ведь навыворот все: чем хозяйственней, домовитей человек, тем грехов на нем больше. А потому, хотя и не знаю за собой вины, готов к мученическому венцу…
— Золото сдать пора, гражданин Бодылин, — негромко сказал Валдис.
Плечи Бодылина дрогнули и опустились. Морщинистые веки почти смыкались, укрывая от взгляда Валдиса испуг и смятение в глазах старика.
— Какое золото, гражданин комиссар?! Или как вас… — сдавленно сказал он. — Шутите неуместно. Все, что имел, ваши национализировали. Гол как сокол… Яко наг, яко благ, яко нет ничего.
— Ну вот что, Бодылин! Хватит прибедняться и играть паяца. «Яко наг…» Тоже мне, казанская сирота… По полатям помести, по сусекам поскрести, не один пуд золотишка наберется и песком, и в слитках. А столовое серебро, фамильные драгоценности… А знаменитая ваша цепочка к часам… — Валдис засмеялся: — Словом, раскошеливайтесь, возвращайте трудящейся массе награбленные у нее богатства… — и внимательно посмотрел на Овсянникова, будто желая проверить, какое впечатление произвели на субинспектора его слова.
— Это кем же награбленное?! — воскликнул Бодылин перехваченным негодованием голосом.
— Вашим подлым классом паразитов и кровососов!
— Да опамятуйтесь! — Бодылин гневно взирал на него. — От моего дела кормились тысячи. И посытнее, чем кормите их вы, новые хозяева и владыки. Сам я в дело сил положил не меньше любого тачечника. А вы говорите — грабил! Это вы грабите, донага, до нитки. Разорили злее пожара. Пристали с ножом к горлу…
— Это вы опамятуйтесь, Бодылин! В Поволжье люди пухнут и мрут от голода. А вы золото прячете. Да еще разводите контрреволюционную агитацию… Вы славьте своего бога, что сохранили вам жизнь. По вашим прошлым делам — в расход вас, и весь разговор.
— На все воля божья, — понуро сказал Бодылин. — Не разживетесь вы моим золотом. Обчистили до нитки.
— Даю вам срок три дня и приказываю выдать все спрятанные ценности. Не советую упираться. С саботажниками у нас разговор короткий. Республика переживает тяжелый момент. Тут не до церемоний. Распишитесь в предупреждении. Ступайте и подумайте, что вам дороже — золото или собственная шкура.
— Все в руках божьих, — сказал Бодылин, расписавшись в бумаге, поданной Валдисом. — И жизнь, и смерть, и честь, и бесчестье…
На дорожке сада бесшумно шевелились тени узловатых веток. В просветы листьев сочилось солнце, и в домике даже в полдень стоял зеленый сумрак, будто на лесной опушке. Бодылин прошел в горницу. Перед иконами в богатых окладах теплилась лампада. Он рухнул на колени, в земном поклоне коснулся лбом домотканого половичка. Молился истово, страстно об одолении врагов, о сбережении тайны.
Вышел во двор, заглянул в летний погреб, в завозню, сарай, хлев. Не то проверял хозяйство, не то прощался с ним. Долго стоял на крыльце, думал: что же все-таки предпринять?
Когда в калитку постучали и Бодылин увидел хорошо знакомого ему человека, то решил, что господь внял его мольбам, сотворил чудо и ниспослал ему спасение.
Вместе с неожиданным гостем они вошли в дом. В кухне было прохладнее, и Бодылин заботливо усадил пришельца. Щедро выставил на стол богатейшее по тому времени угощение: бело-розовый брусок сала, пряно пахнувшие малосольные огурцы, чугунок молодой картошки, толстыми ломтями распластал золотистую, домашней выпечки, ковригу пшеничного хлеба, а в довершение всего водрузил в центре стола — нет, не самогон-первач, а опечатанный сургучом штоф, царской выделки, водки.
Гость провозгласил тост за приятное свиданьице. Бодылин, думая о своем, пригубил стопку и сказал:
— Для меня приятное вдвойне. — Замолк, собираясь с мыслями, и наконец решился: — Мы с тобой съели пуд соли. Знаем один другого вдоль и поперек. Ты не таил от меня находок, не льстился на мое добро… И от меня ты никогда не видел ни зла, ни обиды. Богом заклинаю тебя, окажи мне великую услугу… — И проворно вскочив с места, поклонился гостю по-старинному в пояс, коснувшись пальцами руки пола…
— Да ты что, Климентий Данилович! — воскликнул гость, ласково удерживая Бодылина за плечи. — Да я тебе завсегда, чем только могу…
— Не стану таиться перед тобой, — начал Бодылин, — сберег я кое-что на черный день. Сущую малость от прежних моих достатков. Да, видно, вконец прогневал я господа-вседержателя гордыней своей и по грехам моим послал он мне испытание.
— Неужто дознались? — ахнул гость.
Бодылин, проникаясь к себе все большей жалостью, рассказывал печально и выспренне, точно с амвона:
— Был сегодня я препровожден в их казенный дом, глумились надо мной слуги антихристовы. И сам их главный воевода Валдис мне приказал через три дня выдать ему все, что сберег я на скончание дней моих. А как не выдам, то он велит меня заточить в острог и казнить лютой казнью… — Бодылин умолк, обессилев, и договорил спокойнее: — Да, видно, сжалился господь над моей бедой. Послал тебя ко мне в самое вовремя. Богом прошу, возьми, что укажу тебе. И сохрани до моего спросу. А я уж как-нибудь потерплю от Валдиса. Я тебе верю, но дело-то, сам понимаешь… Клянись перед иконами, что не польстишься на добро моих детей. А коли сбережешь, я раб твой по гроб жизни.
Они вошли в горницу, гость осенял себя размашистыми крестами, повторял за Бодылиным слова клятвы.
Потом они отправились в летний погреб, покряхтывая, сдвинули кадку с солеными огурцами.
— Здесь, — хрипло сказал Бодылин.
Взметнулись ломы, с хрустом вонзились в доски пола. Глухо звякнули заступы. И вот извлечена на свет пузатая глиняная корчага. Гость расковырял ножом круг воска под крышкой, в полумраке блеснули слитки. Бодылин зажмурился, отвернулся, чуть слышно сказал:
— Забирай.
Они вышли из погреба. Бодылин, стараясь не глядеть на мешок в руках гостя, чужим голосом попросил:
— Ты для пущей убедительности крылечко еще поддень ломом. — Посмотрел на развороченные доски и сказал с угрозой: — Клятву-то не забывай. Я тебя из могилы достану. И сын мой Афанасий…
Они опять подсели к кухонному столу, молча, думая каждый о своем, выпили. Бодылин поднялся первым.
— А теперь повяжи меня… — И сдернул с гвоздя на стене ременные вожжи.
Гость проворно опутал старика сыромятным жгутом, крякнув, перевернул лицом вниз, воровато оглянулся, осенил себя мелконьким крестом. Рука скользнула в карман. Гость вытянул руку и, едва не упираясь в затылок Бодылина стволом нагана, выстрелил…
В окно горницы тянулись ветки яблони, тугие, янтарные плоды покачивались на ветру. На домотканом половике лицом вниз лежал бывший хозяин Ярульской тайги. Длинные седые волосы побурели от крови. Сверху равнодушно взирали на него лики святых…
2
…Зубцов перечитал утвержденное Валдисом постановление полувековой давности, задержал взгляд на словах: «Поскольку все предпринятые в течение месяца оперативно-следственные действия по розыску похищенного золота в количестве одного пуда и преступников не дали никаких результатов и, руководствуясь революционным правосознанием, постановил…»
Соломоново решение! Месяц поискали да и прекратили розыск. Странная логика у этого Валдиса. Почему он решил, что похищен именно пуд золота? Судили по размерам корчаги? Зачем понадобился трехдневный антракт после вызова Бодылина? Что мешало произвести у Бодылина обыск и конфисковать ценности? Зачем надо было отпускать Бодылина? Чтобы понаблюдать за ним и вскрыть другие тайники? Но что за наблюдение, если кто-то мог беспрепятственно проникнуть к Бодылину, выманить ценности, убить хозяина и скрыться. И какая поразительная синхронность: предупреждение Валдисом Бодылина и сразу…
Что за всем этим? Ослепленность собственной версией? Профессиональный брак? Нежелание и неумение вести трудный поиск? Или для Валдиса так же, как для Овсянникова, все определялось тем, что убит классово чуждый элемент, эксплуататор? Но ведь речь шла не просто о розыске убийцы, который свел счеты со своим благодетелем или врагом. Исчезло Бодылинское золото. По подсчетам самого Валдиса, не менее пуда.
Пуд золота в Советской России двадцать первого года…
Газеты Европы и Америки ликуют: в России неурожай. Профессиональные прорицатели с университетских кафедр и парламентских трибун отсчитывают последние недели Советской власти: большевики не смогут справиться с положением, голод и сыпнотифозная вошь довершат то, в чем оказались бессильны английские дредноуты, французские танки, полки Колчака, казачьи дивизии Мамонтова…
В России на искореженных рельсах ржавеют остывшие паровозы, в заводских цехах только ветер нарушает тишину запустения. И самое распространенное слово «Помгол» — Чрезвычайная комиссия помощи голодающим В этом слове все: мера бедствия и безмерная надежда. Советское правительство конфискует церковную утварь, чтобы накормить голодных детей, а вся «свободная пресса» надсажается воплями о каннибализме большевиков. Фритьоф Нансен среди ледяного безмолвия обывателей объезжает страну за страной, взывает к долгу и совести европейцев спасти голодающую Россию.
Пуд золота — это хлеб, топливо, медикаменты, мыло. Это спасение тысяч людей от неминуемой смерти…
Валдис знал все это и все же через месяц прекратил розыск похищенных сокровищ. Неужели поимка преступника не входила в намерения Валдиса и неизвестный, которому Бодылин выдал золото, был вхож не только к бывшему купцу, но и к Валдису?… Кто же он, этот прибалтиец с пустыми холодными глазами? Честный, но бездарный работник или замаскированный враг?
Но Иван Захарович Лукьянов тоже не исключал такой возможности и все-таки начал доследование дела двадцатилетней давности. Тогда только двадцатилетней, а теперь уже полувековой. Эти годы вместили в себя жесточайшую войну, и нельзя с уверенностью сказать, жив ли, кроме Каширина, кто-то из свидетелей и участников тех событий…
Вот написанный характерным угловатым почерком Лукьянова план первоначальных оперативно-розыскных мероприятий… Выяснить, служат ли в настоящее время в органах НКВД Валдис В. А. и Овсянников А. М., их местонахождение… Выяснить судьбу и местонахождение детей, родственников и ближайших сотрудников Бодылина. Установить, кто из бывших служащих золотопромышленного товарищества «Бодылин и сыновья» работает в настоящее время в системе «Главзолото»… Истребовать из архивов все хранящиеся в них документы золотопромышленного товарищества Бодылиных…
Первые ответы на запросы Лукьянова…
«Валдис Вильгельм Арвидович, 1886 г. рождения, уроженец г. Виндава в Латвии, служил в должности начальника Краснокаменского губернского уголовного розыска с февраля 1920 г. В июле 1922 г. погиб при ликвидации банды Дятлова в Таежинском уезде».
«Овсянников Антон Максимович, 1898 г. рождения, уроженец г. Краснокаменска, член ВКП(б). Служит в органах милиции с февраля 1921 г. В настоящее время — старший оперуполномоченный уголовного розыска Краснокаменского областного управления милиции».
Зубцов еще раз обрадованно прочитал справку, но задержал взгляд на дате: 19 июня 1941 г., и досадливо усмехнулся: «В сорок первом году Овсянникову было уже за сорок, плюс еще тридцать лет, из них четыре года войны. Арифметика не в мою пользу… И все же надо запросить управление кадров об Овсянникове…».
Еще одна справка:
«В настоящее время в Ленинграде… проживает с женой Аксенов Аристарх Николаевич, 1880 г. рождения, профессор, доктор геологоминералогических наук. С 1906 по 1920 год был главным инженером золотпромышленного товарищества Бодылиных. Женат на дочери Бодылина, Бодылиной Агнии Климентьевне».
И опять та же дата 19 июня 1941 года.
Наверное, майор Лукьянов был очень доволен этим днем, 19 июня. Расследование едва начато и сразу столько существенных фактов…
В тот же день Лукьянов встретился с доцентом Кашириным. Вот написанное знакомым каллиграфическим почерком объяснение Вячеслава Ивановича. Вчера Зубцову он сказал то же, что и тридцать лет назад майору Лукьянову. Пожалуй, только и есть два отличия. Каширин подробно говорил Лукьянову о ювелире Иване Северьяновиче Никандрове… Лукьянов встретился с ним и записал показания о цепочке в виде змейки-медянки и предполагаемых бодылинских кладах.
И еще… Упоминание о Якове Филине, пьяном буяне, по которому Славка Каширин выпалил из пушки, чем-то явно насторожило Ивана Захаровича. Он написал запрос о судьбе Филина и 21 июня получил ответ:
«Филин Яков Иванович, 1875 г. рождения, уроженец прииска Богоданного Таежинского уезда Краснокаменской губернии. В 1920 — 1927 годах неоднократно судим, четырежды бежал из мест заключения. 12 сентября 1927 г. военным трибуналом СибВО приговорен за контрреволюционную деятельность и бандитизм к высшей мере наказания. 25 сентября 1927 года приговор приведен в исполнение».
И новые записи Лукьянова.
«Истребовать из архива трибунала СибВО материалы по обвинению Филина Я.И. Установить родственников Филина. 23 июня выехать в Ленинград для встречи с Аксеновыми».
Копий запросов в архивном деле не было. 23 июня 1941 года майор Лукьянов не выехал в Ленинград. В тот день он написал начальнику архива: «В связи с моим отъездом в действующую армию возвращаю на хранение уголовное дело № 405 и добытые мною в ходе доследования настоящего дела материалы».
Полковник Лукьянов истребовал из архива дело № 405 в сентябре 1946 года.
Зубцов перелистывал документы… Копия свидетельства о смерти Аристарха Николаевича Аксенова. Копия свидетельства о смерти Агнии Климентьевны Аксеновой, бывшей Бодылиной. Сообщение об Овсянникове: «В мае 1942 года под Харьковом пропал без вести». Сообщение из Новосибирска: «Уголовного дела по обвинению Филина Я. И. в архивах трибунала не обнаружено». Справка о родственниках Филина: «По данным церковных архивов, в июне 1911 г. родился сын, Филин Степан, место рождения прииск Богоданный Краснокаменской губернии. Местожительство в настоящее время неизвестно. Других детей, а также братьев и сестер Филина не установлено». Протоколы допросов бывших соседей Аксеновых по ленинградской квартире: «Аксеновы отличались общительным, мягким характером. До войны жили в соответствии с профессорским жалованьем Аристарха Николаевича. Наотрез отказались эвакуироваться из Ленинграда. В блокаде крайне бедствовали. Аксенов скончался от голода».
Протокол осмотра бывшей квартиры и дачи Аксеновых, угловатые строки Лукьянова: «…тайников и признаков хранения драгоценных металлов в указанных помещениях не установлено».
Предпоследним в деле подшит протокол допроса репатрианта из Манчжурии Павла Елизаровича Потапова, сына бывшего компаньона Бодылина…
Зубцов физически, точно все это происходило с ним самим, ощущал, как скверно было на душе у Лукьянова. Такое случается на ночной улице. Ночь темна, где-то впереди видны два-три освещенных окна. Но вот погасли и они, и взгляд упирается в глухую черную стену…
Наверное, Иван Захарович Лукьянов пережил нечто похожее, когда писал свое постановление:
«В связи с тем, что после убийства золотопромышленника Бодылина К. Д. истекло уже 25 лет, основные свидетели умерли либо пропали без вести, а также в связи с тем, что в течение всего этого срока ни по одному делу не вскрыто так называемое бодылинское золото, в настоящее время не представляется практически возможным установить ни обстоятельства гибели Бодылина, ни места нахождения его возможных тайников с золотом, на основании вышеизложенного постановил: дело № 405/25 дальнейшим производством прекратить».
Анатолий вздохнул сочувственно, пододвинул к себе служебный бланк и стал писать:
«Москва, 3 июня 1971 года. Я, старший инспектор УБХСС майор Зубцов А. В., рассмотрев рапорт старшего лейтенанта Федорина Э. Б. о событиях, имевших место в доме ювелира Никандрова И. С., допросив свидетеля Каширина В.И., а также ознакомившись с материалами дела № 405/25, постановил: принять настоящее дело к своему производству».
3
Работу Зубцова прервал телефонный звонок.
— Товарищ майор, к вам с повесткой гражданин Потапов Павел Елизарович. Прикажете пропустить?
В кабинет вошел грузный мужчина лет пятидесяти. Вежливо наклонив голову, покачивая объемистым портфелем, приблизился к столу, основательно уселся на стул, расправил складки на брюках и сказал с достоинством:
— Меня крайне удивил вызов к вам.
— Чему же удивляться. Такое у нас учреждение, обращаемся к разным людям за разъяснением и помощью.
— Если за помощью, я всегда готов, чем только могу. Но учреждение у вас действительно специфическое… Так чем же я могу быть вам полезен?
— Ваш покойный отец, Елизар Петрович Потапов, был компаньоном золотопромышленника Бодылина…
— Приказчиком, скорее. Только приказчиком.
— Ну, двенадцать паев в деле для приказчика многовато, — напомнил Зубцов. — Почти столько же, сколько имел граф Бенкендорф в момент основания Бодылинской компании. В «Списке владельцев частных золотопромышленных предприятий» ваш отец значится компаньоном Бодылина…
— Преувеличение! Опечатка! Отец был в постоянном конфликте с Бодылиным, не разделял его взглядов.
— Это в каком же смысле?
— Отца возмущала потогонная система заведенная Бодылиным на прииске. Бодылин-то, любого спросите, был сущим кровопийцей. Отец постоянно добивался от него прибавки жалованья рабочим, улучшения жилищных условий, техники безопасности, большего участия рабочих в делах компании. Если бы не отец, дело дошло бы до повторения Ленских событий…
— Словом, ваш отец ратовал за этакий мини-социализм? — насмешливо заметил Зубцов. — При сохранении своих двенадцати паев. Так горячо ратовал, так любил рабочих, что, когда рабочие взяли власть… сбежал в Манчжурию, чтобы там вести социалистическую пропаганду… среди семеновцев. Ведь вы, Павел Елизарович, родились в Манчжурии.
— Так. Но какое это имеет значение?
— Вот именно. Какое это имеет значение? Вас же никто не попрекает происхождением. Да и нелепо попрекать. Человек не выбирает себе родителей. А вы размежевываете себя со своим отцом и отца с Бодылиным. Хотя, простите за откровенность, не знаю, кто хуже: Елизар Петрович эмигрировал, а Бодылин остался в России.
— Зато эмигрировал сын Бодылина, Афанасий. А старик остался с камнем за пазухой. Припрятал золотишко для своего отпрыска и каким-то образом дал знать ему об этом. Отец рассказывал, что Бодылин договорился с сыном о каком-то пароле, но о каком именно, я не знаю.
«В сорок шестом ты не приводил этих подробностей», — отметил Зубцов и сказал как только мог спокойно:
— Вот видите, Афанасий Бодылин такие тайны доверял вашему отцу, а вы утверждаете, что совладельцы конфликтовали. Но о каком золоте идет речь? Ведь Бодылина ограбили.
Потапов тяжело вздохнул и заговорил устало:
— Мне трудно судить об этом. Бодылина я в глаза не видел. Но отец был склонен думать, что все это ограбление, как бы вам сказать, не совсем ограбление, что ли? Понимаете? Действовал налетчик не совсем посторонний для Бодылина. Среди эмигрантов о бодылинских сокровищах много было разговоров и слухов. В то, что Бодылина ограбили до нитки, мало кто верил. Склонялись к тому, что еще должно быть золото. И много. Отец объяснял мне: когда прииск национализировали, в хранилище нашли какие-то крохи. Значит, добыча куда-то исчезла. Между тем прииск, хотя хуже, чем в царские времена, но работал, а колчаковским властям Бодылин золото продавал скупо. Шнуровые книги с записями намывов были в распоряжении только самого Бодылина и его главного доверенного Аксенова. Вот кто бы мог порассказать вам много любопытного. Но Аксенов умер в сорок втором году, его жена, дочь Бодылина, тоже умерла в сорок третьем. Об этом я узнал уже после войны при репатриации в Советский Союз. Тогда меня тоже спрашивали о тех событиях. Я считал, что эта история уже совсем заглохла. В архиве у вас, надо думать, исчерпывающие данные о Бодылине…
— Какие там архивы в двадцать первом году! Все на живую нитку. — Зубцов добродушно засмеялся, а про себя с тревогой прикидывал: не допустил ли он ошибки, начав с Потаповым разговор. Человек он, оказывается, осведомленный, и вовсе не исключено, что его папаша тоже держал на прицеле бодылинский клад…
Зубцов совсем уже собрался домой, но его настиг телефонный звонок.
— Анатолий? — И само обращение без отчества и голос Орехова выдавали крайнее волнение. — Я, кажется, вообще уже ничему не удивлюсь в этом деле. Получил вот спецдонесение из Краснокаменска: корреспондентка ювелира Никандрова Лебедева А. К. - никто иная, как Аксенова, она же Бодылина Агния Климентьевна…
— Кто?! Я только что читал свидетельство о ее смерти.
— Ты мне про свидетельство о смерти, а у меня свидетельство о браке, выданное Центральным райбюро загс города Краснокаменска 15 ноября 1943 года, спустя меньше года после смерти горячо любимого супруга. Гражданка Аксенова Агния Климентьевна, 1895 года рождения, вступила в брак с гражданином Лебедевым Валерьяном Васильевичем, 1893 года рождения, приняла фамилию мужа — Лебедева. Так что, друг мой Толя, в сорок третьем году она успела и умереть и воскреснуть под другой фамилией.
— Вот это ход конем. Даже Лукьянов поверил…
— А с нами не играют в поддавки. — Орехов вздохнул. — Между прочим, в Краснокаменске сейчас нет этой дамы.
— А где она? Может быть, у сына?
— Я связался с рудником Октябрьским — не появлялась. Где находится эта энергичная старушка, не знаю.
И снова Анатолия задержал телефонный звонок.
— Толя, — услыхал он в трубке ликующий голос Федорина. — Кажется, у меня на столе тот самый символ силы, мудрости, бессмертия и славы, о котором рассказывал Каширин. Личное бодылинское клеймо!
— Эдик, мне не до розыгрышей, — устало сказал Зубцов.
— Какой там розыгрыш, Толя! Взял я, понимаешь, Игумнова, вышел на его связи. Два часа назад задержал одного новобранца-желторотика. В кармане у него слиток. Вернее, обрубок слитка, на нем следы травления кислотой. Эксперты поколдовали над слитком, сфотографировали изображение. Явная бодылинская печать.
Нет, новостей, да еще таких, было слишком много даже для Зубцова. И Анатолий сорвался:
— Товарищ старший лейтенант, сколько раз вам разъяснять, что такие заключения вправе делать только эксперты. В данном случае специалисты в области геральдики и граверного дела. А вы обязаны лишь объективно описать признаки изъятых предметов.
— Виноват, товарищ майор. В протоколе у меня так и записано: у задержанного изъят обрубок слитка из металла желтого цвета, на слитке следы травления кислотой. Ставлю вас в известность, что указанный слиток задержанный, по его словам, случайно приобрел у старушки интеллигентного вида.
— У кого?
— У старушки интеллигентного вида. Мне кажется, что это заинтересует вас, товарищ майор.
— Не выламывайся, Эдик! — взмолился Зубцов. — Это для меня такая услуга… Я сейчас же лечу к тебе.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Игорь Светов вышел из дому в самом радужном настроении. Правда, мать завела старую песню:
— Опять исчезнешь до утра? Двадцатый год парню, вымахал с коломенскую версту, а пользы, что от козла молока… Домой заявляешься только отсыпаться. Федоровна грозилась вчера, заявлю, говорит, как на этого, на тунеядца. Может, определишься куда? Разносчиком телеграмм или книжками торговать в метро? Там вон какие лбы торчат, а одеты, как на картинке…
Спорить с матерью, только время тратить напрасно. И ненадолго у нее трудовой энтузиазм. Еще когда в школе класс Игоря посылали на прополку, мать возмущалась: мой сын не трактор, чтобы работать на пашне.
Он молча оделся, юркнул в кладовушку, где у него фотолаборатория. Под ванночкой — вещица, завернутая в носовой платок.
В жизни выдаются дни, когда сама судьба идет тебе в руки. Неделю назад у Игоря был такой день. Судьба подошла к Игорю в образе чистенькой старушки, улыбнулась жеманно и спросила:
— Юноша, как проехать на проспект Вернадского?
— Спуститесь в метро, минут через пятнадцать будете на проспекте Вернадского, — сказал Игорь.
Но старушка нагнала его:
— Прошу прощения, а вы случайно не знаете, как покороче добраться до Вернадского семьдесят пять? Где лучше сойти — на станции «Университет» или проехать до «Юго-Западной?»
«Какого черта, — возмутился Игорь. — Знает Москву, а прикидывается. И выламывается не по годам…»
— Случайно не знаю, — буркнул он сердито, но вдруг перехватил взгляд старушки. Слегка сощурясь, она рассматривала его так испытующе и тревожно, точно встретила давнего знакомого и теперь силится, но не может припомнить его.
«Э, дело тут вовсе не в проспекте Вернадского», — сообразил Игорь и вопросительно взглянул на старушку. Она привстала на цыпочки, приблизила свое лицо к лицу Игоря и полушепотом задала вопрос, от которого у парня ноги приросли к асфальту…
Игорь покосился по сторонам, окинул старушку настороженным взглядом. Благолепная, сухонькая, она была явно не похожа на переодетого капитана милиции. И заплетающимся языком Игорь осведомился о количестве и цене товара. Услыхав от нее ответ, он не поверил своим ушам и подумал, что бабуся разыгрывает его, но уловил ее заискивающий взгляд и понял: она просто наивняк — новичок, не знает настоящей цены тому, чем, как семечками, торгует прямо на улице.
2
Игорь вошел в вестибюль гостиницы, жадно втянул в себя сладковатый, будто в оранжерее, воздух, прислушался к шелесту чужестранных слов и разулыбался
блаженно. Но, окинув вестибюль взглядом, замер: нужный ему человек стоял, низко опустив голову. Его держали под руки двое здоровяков боксерского вида.
Игорь ринулся к двери. Но на его пути, точно из-под земли, вырос парень в сером костюме. Игорь приближался к парню, лихорадочно конструируя в уме английскую фразу: «Лэ-эд ми…а, черт, как дальше? Кажется… пас ю…» Важно, чтоб не дрогнул голос. Но тут рядом кто-то сказал негромко: «Привет, Светов!»
Игорь вздрогнул: по фамилии к нему обращались только работники милиции. И действительно, рядом с ним стоял его новый знакомый — старший лейтенант Федорин. Недели три назад они долго толковали о жизни. Игорь сделал вид, что растрогался и даже пообещал пойти на работу. Сейчас, увидав Федорина, он поморщился, но сразу растянул губы в улыбке:
— Салют, Эдуард Борисович! Тороплюсь вот…
Федорин почему-то вздохнул и сказал строго:
— Подожди, есть разговор.
«Неужели выбрасывать придется?» — подумал Игорь и почувствовал, как заныло под ложечкой. Но долговязый парень, который по-прежнему каланчей стоял на пути, будто стальной замок защелкнул, крепко сжал пальцами запястье правой руки Игоря, в ту же секунду на левом запястье сомкнулись пальцы Федорина.
Машина тронулась с места. Голова у Игоря кружилась, к горлу подкатывала тошнота, здания за боковыми стеклами то кренились в стороны, то сливались в серую полосу, и он не узнавал знакомых улиц.
Потом Игорь услыхал частое треньканье. Оказывается, это стучали о стакан его зубы. А сам он сидел на стуле посреди небольшой комнаты.
— Ну, спокойнее, Светов, спокойнее, — произнес знакомый голос. — Нельзя так паниковать.
Светов осмотрелся, узнал Федорина.
— Чего ежишься? — спросил Федорин. — Сам покажешь содержимое карманов или помочь?
Окно, письменные столы, зачем-то стоявший здесь старенький диван закружились в хороводе. Игорь прикрыл глаза, медленно протолкнул руку в карман, выложил на стол сверток и торопливо сказал:
— Прошу записать, я выдал добровольно.
— Куда уж добровольнее. — Федорин развернул сверток, присвистнул: — Ого! — подержал на ладони слиток, уверенно определил: — Граммов около двухсот.
— Я выдал добровольно, — плаксиво повторил Игорь.
— Хорошо, я запишу в протоколе: задержанный Светов выложил из кармана слиток металла желтого цвета весом… Сколько получилось, товарищи понятые? Сто девяносто два грамма. — Федорин вздохнул и спросил грустно: — Как же так, Светов? Когда ты заделался валютчиком?
Федорину было обидно за Светова, а того больше за себя. Еще в полдень, когда майор Коробов приказал Эдуарду установить за Световым наблюдение и, если тот появится в гостинице, задержать его, Федорин в глубине души надеялся, что Игорь либо вовсе не придет туда, либо придет туда пустым, и все подозрения против этого нескладного парня рассеются.
Федорин снова взял в руки слиток. Одна сторона как бы обожжена. Достал из стола лупу, явные следы травления кислотой.
— Допустим, Игорь, ты в первый раз. Но ведь в гостиницу ты шел к Игумнову.
— Кто такой Игумнов?
— Не делай удивленных глаз, Светов. У нас Игумнов Валентин. И ты видел его при задержании. Я знаю, хватка у него мертвая. Но сейчас ему собственную шкуру спасать надо.
«Вот тебе и Валька Игумнов. Кремень-парень. Кому же верить?» — ужаснулся Игорь и сказал с вызовом:
— Если знаете обо всем, тогда о чем речь?
— О том, где ты взял золото. Не вздумай доказывать, что нашел его в подъезде под лестницей.
Игорь долго молчал, тоскливо глядя на вялые облачка за окнами, заговорил, медленно, с хрипотцой выталкивая слова:
— Если бы нашел, не так было бы обидно. Слыхал я, что сильно опасное это дело, но зато и прибыльное. Ну, когда предложила мне старушка, думаю, дай попробую… Сухонькая такая бабка, вся в морщинах, самого интеллигентного вида. Шляпка с цветиком надвинута на лоб, брошка с кулак величиной. Подошла на улице: не возьмете ли, молодой человек, остатки фамильной роскоши? Паспорта мы не спрашивали друг у друга. Она мне — эту штуку. — Игорь страдальчески покосился на пустой сверток. — Я ей — деньги. И — привет.
— Подробнее описать не можешь?
— Была бы молодая, другое дело. А тут старушенция, глядеть не на что. Бизнес — и только.
— Колечко тоже купил у старушки? — спросил Федорин, указав на снятое с пальца Светлова узенькое кольцо. — Или сделал сам? Оно же без пробы.
— Все рассмотрели. Колечко продала мне Марийка Загоскина. Живет в соседнем подъезде.
3
Закончив телефонный разговор с Федориным, Зубцов ринулся в кабинет Орехова.
— Есть! Есть бодылинское золото!..
— О чем ты? Где ты обнаружил его?
— Не я обнаружил, Федорин. — Зубцов наполнил водою стакан, залпом осушил его и стал рассказывать про сообщение с Петровки. — Как видишь, Михаил Сергеевич, слиток с характерной печатью, и продавщица-старушка интеллигентного вида.
— Вообще-то, когда везет, как сейчас, надобно присмотреться: не подыгрывает ли кто нарочно. Поэтому слиток немедленно на экспертизу. Пусть срочно установят время и место добычи, способ обогащения металла. Для опознания печати пригласим профессора Каширина. Нашим товарищам в Краснокаменске я поручил сфотографировать воскресшую из мертвых Бодылину-Аксенову-Лебедеву, разумеется, как только она возвратится к себе. Снимки покажем Каширину и задержанному Федориным гражданину. Подремлет в камере, поразмыслит, пройдет у него послеарестный шок, станет, как говорят теперь, коммуникабельным. А сейчас он из упрямства повторит то же, что сказал Федорину.
Утром Анатолий был на Петровке. Светов вошел понурясь, напряженно стиснув за спиной руки, губы его кривились, жидкие усики казались наклеенными.
«Однако ты, братец, трусоват», — отметил Зубцов.
— Как спалось, Светов? — спросил Зубцов и, уловив брезгливую гримасу Игоря, продолжал: — Конечно, не на даче у друга. И комфорт не тот, и кормежка…
— Мне теперь выбирать не приходится… Засыпался — и все, амба! И не надо мне сострадать, — ершисто проговорил Светов, усаживаясь на стул против Зубцова, закинув ногу за ногу. Он изо всех сил старался казаться спокойным, даже ироничным. Однако пальцы все обшаривали, ощупывали колени. Зубцов заметил и синие тени вокруг запавших глаз и сказал ободряюще:
— Не надо, Игорь, так отчаиваться. Да и не все еще потеряно для тебя.
— А что это меняет? Валька Игумнов хоть повидал кое-что, пожил, как наследный принц. А я… В первый раз. И все. И мы с Игумновым под одной крышей. И судьба у нас одна — восемьдесят восьмая статья. Правильно мать твердит, что я невезучий.
Он говорил зло, но упоминание о матери прозвучало неожиданно жалобно. Зубцов, думая о том, что матери сейчас много горше, чем самому Игорю, спросил:
— Когда у матери деньги брал на свою покупку, небось не объяснял, зачем они тебе?
— Почему у матери? — растерянно спросил Светов.
— А у кого же?
— Свои нашлись.
— Свои так свои. Но мать мы все же спросим насчет денег. Она скажет правду ради тебя.
Губы Светова снова болезненно искривились.
— Ее-то хоть оставьте в покое. Занял я у соседей.
— Не у Загоскиной случайно? Много же ты ей задолжал. И за колечко, и за эту покупку.
Зубцов выдержал паузу. Понимая, что ошибка в его предположении сразу разрушит доверие Светова, все же поддаваясь внезапному озарению, спросил:
— Игорь, когда и где в последний раз ты встречал высокого черноволосого мужчину восточного типа, лет сорока? По-русски он говорит без акцента…
От взгляда Зубцова не ускользнуло, как дрогнули и опустились плечи Светова. «Он знает Мамедова», — с облегчением отметил Зубцов.
— Почему ты прикрываешь этого обер-валютчика?
Светов провел рукой по лицу и сказал;
— Ладно. Тогда слушайте, как было. Начистоту…
…Оставив старушку в сквере, Игорь отправился на поиски денег. Он решил попытать счастья в соседнем подъезде, у Марийки Загоскиной. Живет одна, весело, шумно. Судя по всему, денежный человек.
Услыхав просьбу соседа, Муся, как, заискивая, назвал ее Игорь, прищелкнула языком и сказала:
— Ничего себе пустячки!.. А зачем тебе столько?
— Да вот наметился мини-бизнес, — уклончиво ответил Игорь.
— Ничего себе мини… — Мария усмехнулась, зачем-то одернула свою укороченную до размеров мужской рубашки юбку, решительно встряхнула крашеной челкой. — Ладно, попробую помочь тебе, бизнесмен. У меня тут гость. По-русски он не силен, зато при деньгах. Я ему растолкую. Про бизнес он поймет и на пальцах.
Высокий мужчина с коричневато-смуглым лицом действительно все понял удивительно быстро. Лениво взмахнул рукой, остановил отчаянно жестикулирующую Марию, извлек из бумажника пачку сторублевок, помаячил пальцами перед лицом Марии. Она перевела:
— Он требует показать ему твои покупки.
— Непременно! — клятвенно заверил Игорь.
Но, едва заполучив от старушки товар, быстро двинулся по аллейке, решая, куда бы скрыться. И вдруг увидел впереди смуглолицего. Тот с понимающей усмешкой посмотрел на него и поманил пальцем. Когда Игорь подошел, смуглолицый, почти касаясь губами его уха, на чистейшем русском языке прошептал такие словечки, что у Игоря вспыхнули щеки и уши.
— Не вздумай ловчить. Выкладывай. — Смуглолицый выхватил из кармана обомлевшего Игоря сверток, развернул его. Вспыхнули на солнце обрубки золотого слитка и разрезанная вдоль цепочка. Он опустил себе в карман обрубок побольше, потом цепочку и объявил:
— Мы с тобой квиты. — Небрежно протянул Игорю два пальца и исчез, будто растворился в воздухе.
— Вот и все, начистоту, — Светов тяжело вздохнул.
— Спасибо, — отозвался Зубцов. — А как ты думаешь, Загоскина действительно считает его иностранцем или разыграла тебя?
— Чего не знаю, того не знаю.
— Ладно, спрошу у нее сам. А кредитора своего опиши подробнее. Рост, черты лица, цвет глаз и волос, манеру ходить, говорить, слушать. Это все важно. Да не изводи себя мрачными мыслями о восемьдесят восьмой статье. Статья статьей, вина виной… И если все, что ты рассказал, правда, буду ходатайствовать, чтоб до суда тебя отпустили под подписку о невыезде.
Когда Анатолий Зубцов вошел в комнату, где Федорин допрашивал Загоскину, Мария плакала. Она промокнула глаза и щеки скомканным носовым платочком, растянула губы в подобие улыбки и сказала умоляюще:
— Я говорю сущую правду. Золотое кольцо мне подарил Закир, иностранный коммерсант из восточной страны. В благодарность за… ну, за эти… как их… личные услуги ему… Подарил личную вещь, а была на кольце проба или нет, что мне за дело. Кольцо мне великовато. Я и продала.
Зубцов, скрывая раздражение, отвел взгляд от ее мокрого, испачканного тушью лица и сказал:
— Значит, вам он отрекомендовался Закиром?
— Он и есть Закир. Иностранец.
— И давно вы с ним повстречались?
— Дней десять, должно быть, прошло. Я не веду дневника своих знакомств. — Губы Марии медленно расклеились в улыбке.
— А за какие услуги он под ваше поручительство одолжил крупную сумму вашему соседу-мальчишке?
Глаза Марии широко раскрылись, на щеках проступили красные пятна.
— Он сделал это по моей просьбе. Ну, как вам объяснить, что я говорю правду.
— На пальцах, — жестко сказал Зубцов. — На пальцах, как вы объяснялись с… так называемым иностранцем в присутствии Светова.
— Как же объясняться, если он не говорит по-русски?
— Говорит. И даже без акцента. Спросите об этом у Светова. И не надо, гражданка Загоскина, изображать изумление. Вы скрываете правду потому, что являетесь сообщницей этого афериста. Эдуард Борисович, продолжайте допрос.
— Сказала тебе Загоскина что-нибудь важное? — спросил Зубцов Федорина, когда тот приехал к нему в управление.
— Похоже, она действительно не знала, говорит ли ее клиент по-русски. Дли их отношений вполне достаточно языка жестов. Я сделал вид, что поверил ее раскаянию и отпустил, но взял под наблюдение ее дом. Кстати, Загоскина приготовилась к отсидке. И в благодарность за то, что мы отпустили ее, рассказала: несколько дней назад Закир вместе с нею побывал у зубного техника Шпрингфельда и продал ему самодельные зубопротезные пластины. Этого Шпрингфельда мы в прошлом году засекли на частной практике, но не смогли доказать его вины. Теперь он признал, что действительно купил у человека, не говорившего по-русски, три самодельных золотых пластины для протезирования зубов. Общим весом около шестисот граммов.
4
«Представленный на экспертизу обрубок является частью слитка, изготовленного из шлихового золота, содержащегося в месторождении рудника Октябрьского Северотайгинского района. Обогащение металла и отливка произведены в промышленных условиях. Специфические признаки свидетельствуют, что металл получен не ранее 1915 и не позднее 1918 года.
Зубопротезные пластины и кольцо изготовлены в кустарных условиях из золота, содержащегося в месторождении того же рудника Октябрьского. Срок добычи — не ранее 1967 и не позднее прошлого, 1970 года».
«Я, Каширин Вячеслав Иванович, в присутствии понятых на предъявленных мне фотографиях восстановленного в криминалистической лаборатории изображения, вытравленного кислотой на золотом слитке, изъятом у арестованного Светова И. М., опознаю барса, обвитого змеей, кедр и лавровую ветвь — составные элементы фирменной печати сибирского золотопромышленника Бодылина К. Д.
Этой печатью клеймились все изготовленные на обогатительной фабрике прииска Богоданного фунтовые золотые слитки с 1900 по 1920 годы».
Зубцов убрал в сейф бумаги и торопливо, точно вот сейчас, за углом, получит ответ на все свои вопросы, сбежал вниз по лестнице. С минуту постоял на верхней ступеньке высокого каменного крыльца, не то свыкаясь с грохотом улицы, не то прикидывая, в какую сторону направиться. Впрочем, ему было решительно все равно.
Анатолий уже не мог вспомнить, когда приобрел эту привычку: начиная новую операцию, выходил на улицу и шагал до тех, пор, пока не появлялось нечто похожее на решение или же не уставал от долгой ходьбы. Он возвращался домой. А утром снова шагал и отвергал, браковал казавшиеся такими убедительными версии.
Что-то загудело, застонало над головой. Зубцов осмотрелся. Оказывается, он шел под эстакадой Самотечной площади. Машины карабкались к низким облачкам. Фантастично!
Но разве менее фантастично то, чем живет Зубцов с того июньского утра, когда подполковник Орехов приказал ему найти бодылинский клад и преступников, нацеленных на него. Найти в четырехугольнике Москва — Баку — Краснокаменск — рудник Октябрьский. Как говорят математики: плюс, минус бесконечность…
Впрочем, теперь уже в треугольнике: Москва — Краснокаменск — рудник Октябрьский. После допроса Светова розыск в Баку лишен смысла.
На первый взгляд, все можно разрешить очень просто: объясниться начистоту с Агнией Климентьевной и Николаем Аксеновым. Но не опрометчиво ли вести такой разговор с людьми, которые, возможно, полвека таят фамильные ценности и едва ли откажутся от них добровольно? Как говорить об этом с женщиной, которая менее чем за год изловчилась официально умереть для всех и негласно воскреснуть под другой фамилией. Или с ее сыном, управляющим рудником, откуда утекает золото…
В то же время «кладоискатели» могут начать свой разговор с потомками Бодылина. Могут шантажировать их. А возможно, у преступников есть пароль от Афанасия Бодылина к наследникам сибирского купца. Намекал же Потапов на какой-то условный знак…
В боксе есть такой прием: бой с тенью — очень важный элемент в технической подготовке спортсмена. Зубцов уже неделю находится в положении человека, который сражается с тенями.
Правда, после допроса Светова стало понятным, как попало бодылинское золото к Мамедову. Мамедов для ювелира Никандрова, Закир для гостеприимной Загоскиной? Может быть, он действительно иностранец?
Иностранец, который знает о бодылинском золоте, и, едва заполучив малую толику его, сразу же идет к ювелиру Никандрову, чтобы удостовериться в своей догадке? В это трудно поверить.
Но ведь Афанасий Бодылин эмигрировал за границу. Он отлично знал старые связи отца, знал о бодылинском кладе. Мог же Афанасий Бодылин передать эти сведения верному человеку. Следовательно, нельзя исключить и появление иностранца.
Но как могли оказаться у иностранца самодельные зубопротезные пластинки, да еще из золота с того же рудника Октябрьского?
Зубцов замедлил шаг и повернул в обратный путь.
В кабинет Зубцова заглянула секретарша Орехова:
— Вам письмо, Анатолий Владимирович!
Обратного адреса не было, но на конверте Зубцов разглядел штамп: пос. Октябрьский…
«Глубокоуважаемый товарищ майор Зубцов Анатолий Владимирович! Считаю своим гражданским долгом заявить, что внук купца-толстосума Бодылина, Аксенов Николай Аристархович, обманом пробрался на пост управляющего рудником Октябрьским, бывший прииск своего деда, и систематически, с помощью своих приближенных, похищает государственное золото и сбывает в г. Москве в виде зубопротезных пластин и самодельных колец…»
О том, что начат розыск бодылинского золота, знали или могли догадываться из посторонних только профессор Каширин и сын бывшего компаньона Бодылина, Потапов.
Но, вот, оказывается, знает и кто-то еще. Сегодня этот кто-то сделал смелый шаг. Это ведь не просто анонимное письмо, которое придется зарегистрировать и тщательно проверять, тем более, что в сочетании с колечками и зубопротезными пластинками факты весьма правдоподобны. Это еще и объявление войны, предупреждение о том, что противник в курсе событий…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Июньские ночи скоротечны. Поднялся из ложков и распадков, загустел в вышине сумрак, соединил берега лунный мостик, нырнули в омуты звезды, и уже отлиняла ночная синь. А там медленно раскалится край неба, закипит трава под ветром, взойдет солнце.
В этот ранний час по тропе от поселка Октябрьского к старому приисковому пруду быстро шла девушка. Стекали по плечам за спину рыжеватые волосы. Она замедлила шаг, поднесла к губам ладони и защелкала, засвистела, передразнивая иволгу. Удивленная птица притихла, а девушка засмеялась и, размахивая полотенцем, побежала к пруду.
Розоватая вода клубилась теплым, сладковатым парком. Девушка скинула тапочки, взошла на деревянные мостки, стянула сарафан и осталась в купальнике.
Вдруг на середине пруда, возле травянистого островка, на котором чернела избушка-развалюха, она увидела в лодке человека с длинным удилищем в руках.
Она постояла в нерешительности, раздумывая, не лучше ли убраться восвояси: настроение все равно испорчено, но вода светлела так заманчиво… И раскинув руки, она прыгнула с мостков. Шумно всплескивая, проплыла несколько метров, легла на спину и вдруг услыхала недовольный голос:
— Ты что резвишься, как молодой кит?! Волны, как в семибалльный шторм. Распугала всю рыбу.
Хотя голос был молодым и приятным, окрик показался обидным. Девушка чуть скосила вбок глаза и увидела: рыбак стоит в лодке, он высок ростом, мускулист и, кажется, на самом деле не стар.
— Карасей можно ловить и в луже у бани, — откликнулась она сердито.
Насмешка ли подействовала на него или наскучило смотреть на сонные поплавки, но он проворно смотал удочки и направил лодку к берегу.
По первым взмахам весла она определила: гребец он такой же никудышный, как и рыболов. Лодка вихлялась, кружилась. «Перевернется, чего доброго. И откуда берутся такие неумехи?» Весло выскользнуло у парня из рук, он потянулся достать, лодка накренилась, и он плюхнулся в воду.
«Господи, он даже плавать не может», — подумала девушка и размашистыми саженками устремилась на помощь.
— Хватайтесь за лодку! Можете вы хоть немного держаться на воде? Смелее, смелее!.. — кричала она, желая подбодрить его и все убыстряя свои движения.
Но он не слышал ее слов и не видел лодки, качавшейся рядом. Вскидывая над головой руки, он то выныривал, то снова исчезал в глубине. Она подплыла к нему, ухватила за ворот рубахи. Парень был тяжел и неповоротлив. Девушка с трудом подтянула его к лодке, помогла перевалиться через борт. Он лежал, бессильно вытянув руки и закрыв глаза, дышал тяжело, с хрипом.
Девушка собралась нырять за упавшим веслом, но увидела в лодке багор. Подгребая черенком багра, медленно повела лодку к мосткам. И вдруг почувствовала на себе взгляд парня. Глаза у него были большие, серо-синие, сейчас виноватые и грустные. Отворачиваясь от его взгляда, она проворно заработала багром.
— Сами выйдете или помочь? — не глядя на него, спросила, когда лодка шаркнула о мостки.
— Сам, — тихо ответил он, все так же строго, изучающе и растерянно смотрел на девушку, растроганно сказав: — Спасибо вам большое. Скажите хотя бы, кто вы такая?
— Тот самый молодой кит, который распугал ваш улов, — мстительно проговорила она.
— Кит? — взгляд его стал недоумевающим. — А… извините, пожалуйста. Я ведь первый раз на рыбалке.
— Я так и подумала. — Она примирительно засмеялась. — Но вообще-то, я не совсем кит. Я — Настя, — и договорила, сама удивляясь своей откровенности: — Здешняя жительница. Работаю в клубе. А вы кто?
— Глеб Карасев, старатель. Вообще-то москвич. — Он вздохнул. — Да вот второй сезон приезжаю сюда. Так что тоже почти здешний. — И снова вздохнул.
Глеб наконец поднялся, лодка снова закачалась от его неловких движений.
Тяжело опираясь на ее плечо, Глеб шатко зашагал по хлюпающим доскам. Но вдруг увидел, ощутил напряженно пульсирующую жилку на шее Насти, ее порозовевшую от усилия или от его близости щеку, нервно вздрагивающие ресницы, твердо встал, вскинул девушку на руки, перенес через мостки, бережно поставил на траву. Разбежался по мосткам, исчез в воде, вынырнул на середине пруда с веслом, забросил его в лодку и в несколько бросков достиг противоположного берега.
— Мы еще встретимся, Настя! — весело крикнул он. — Вы мне порвали ру-ба-ху!
Испуганно загомонили птицы.
…ах…аху!.. — долго звенела и смеялась тайга.
2
Зубцов взглянул на жену и почувствовал: Нина сильно обижена на него. Он попытался припомнить свои прегрешения перед нею и, недоумевая, что могло рассердить ее, попробовал настроить жену на чисто хозяйственные заботы.
— Нинок, утром мне потребуется белая сорочка. Тяжело в жару в нейлоне, но завтра… — И обнял жену.
— Раньше ты обычно брал в командировки темные и цветные рубашки. И вдруг понадобилась белая. Это в такую глушь, как Северотайгинский район. Или снова в Сочи? И не один, а с юным лейтенантом в мини…
— Северотайгинский район? От кого ты узнала?
— Пожалуйста, не повышай голос. У тебя просто какая-то мания секретности. Раньше ты хоть снисходил до того, что предупреждал меня о своих поездках, А теперь… В общем, если мы настолько чужие друг другу…
— Кто сообщил тебе? — лицо Анатолия стало отчужденным.
— Не волнуйся. Не частный сыщик. Твой коллега майор Ганичев, Петр Егорович, зам. начальника Северотайгинского райотдела. Надеюсь, ты с ним знаком. Зашел сегодня и сказал, что он проездом, купил кое-что и договорился с тобой, что ты отвезешь посылку его семье, поскольку завтра вылетаешь туда…
— И ты взяла? — В голосе Зубцова смятение.
— Где там! Наизусть затвердила твой приказ: не вступать ни с кем в разговоры о твоей работе, ни от кого не принимать никаких вещей и писем… Прямо домострой какой-то. Ганичев ушел страшно обиженным.
— И на том спасибо, — с облегчением сказал Зубцов. — А как выглядит этот Ганичев?
Нина пожала плечами, но, перехватив напряженный взгляд мужа, заговорила:
— Лет под пятьдесят. Солидный. Внушительные манеры. Смуглое лицо… Я даже подумала, что он уже с курорта. Волосы седые, а борода черная. Ну как, похож?
— Во всяком случае, напоминает. — Зубцов достал из кармана пиджака фоторобот Мамедова:
— Посмотри, не похож ли он на этого человека?
— По-моему, не похож. Хотя глаза, пожалуй… Но этот много моложе. — Она растерянно посмотрела на Анатолия и спросила: — А в чем дело? На снимке кто-то, кого ты ищешь? Или у нас был не Ганичев?
— Мне надо срочно поехать в министерство.
Он вернулся часа через два, заботливо усадил Нину, сел рядом:
— Спасибо тебе, родная. Будет хорошо, если и дальше ты станешь слушаться моих домостроевских приказов. Ганичев действительно в Москве. Час назад я с ним познакомился. Сибиряк-здоровяк, лет сорока пяти. Простецкий мужик с курносым лицом и рыжей шевелюрой. У тебя он не был и, прости, не собирается.
— Что же это, Толя! — Нина теснее придвинулась к нему.
— Война нервов. К этому мы тоже должны быть готовы. Но ты не забыла, что завтра утром мне понадобится белая сорочка?…
3
Генерал Шадричев подошел к окну, распахнул створки, грузно опустился в кресло и сказал:
— Я согласен с мнением отдела: есть основания возобновить прекращенную Лукьяновым операцию. Однако ваша, Михаил Сергеевич, — он обернулся к Орехову, — версия о том, что фамильные ценности хранят потомки Бодылина, мне кажется небезупречной. Нельзя забывать ни о голодной смерти Аристарха Николаевича Аксенова, ни об осмотре Лукьяновым ленинградской квартиры и дачи Аксеновых. Кстати, будем готовы к тому, что мы вообще не сыщем этого легендарного золота. За полвека самый крупный клад мог осесть в торгсинах, рассыпаться на колечки и зубные коронки. Бодылинское золото — самоцель для наших противников. Нам важнее обезвредить Мамедова, лже-Федорина и прочих авантюристов и либо доказать причастность семьи Аксеновых к преступлению Бодылина, либо снять с них все подозрения. Тут надо как можно скорее разобраться в полученной вами, Анатолий Владимирович, анонимке.
— Анонимка, товарищ генерал, не беспочвенная, — сказал Зубцов. — Я запросил Краснокаменск и получил спецдонесение от полковника Патрина: Северотайгинский райотдел проверял документацию в старательской артели рудника Октябрьского. Выявлено несоответствие между объемами перемытых отвалов и съемками металла. Не хватает больше килограмма.
— Проверку начали в связи с анонимкой? — спросил Шадричев.
— В плановом порядке. За пять дней до получения нами анонимки. Это и настораживает.
— Действительно, — согласился Шадричев, медленно поднялся с места, пошел по кабинету, раздумывая вслух: — Похоже, анонимку сочиняли, зная о проверке, предвидя ее результат, стремясь приковать наше внимание к артели и сбить с главного направления поиска.
— Но ведь золото, Василий Матвеевич, утекает именно из старательской артели, — заволновался Орехов. — Экспертизой подтверждено: самодельные колечки и протезные пластины из металла Октябрьского месторождения. Почему все это кажется вам отвлекающим маневром? Мне это видится единой цепью преступлений.
— Нитью скорее, — весело сказал Шадричев. — Где это видано, чтобы такие добрые молодцы, как наши кладоискатели, с их-то прытью, с психологическими подходами, да удовольствовались жалким килограммом.
— И донос написали на себя, — сказал Зубцов.
— Вот именно, — подтвердил Шадричев. — Нет, у них цель потоньше: подставить кого-то из своих в артели и направить по ложному следу. А самим укрыться получше и взять Аксеновых в клещи.
— Но коммерческие связи этого Мамедова с кем-то в старательской артели, пусть косвенные связи, — настаивал Орехов, — они же в свете анонимки и сообщения из Октябрьского бесспорны. И это может стать кончиком, держась за который мы размотаем весь клубок.
— Об этом нет спора, — Шадричев примирительно улыбнулся. — Вскрыть сообщников Мамедова среди старателей для нас очень важно. Кстати, я, Анатолий Владимирович, — генерал обернулся к Зубцову, — не могу согласиться и с вами, что анонимку они писали, зная о нашей проверке. Предвидели результаты? Да. Но о проверке не знали. Их расчет — вынудить нас на проверку, выиграть для себя время и свободу маневра. — Шадричев потянулся было за сигаретами, вспомнил о строгом запрете врачей, отдернул руку, улыбнулся грустно и продолжал: — Дальше — Аксенов. Проверить его связи сложно: управляющий рудником ежедневно общается с десятками людей. Но проверять в свете новых фактов придется. Деликатно, осторожно, тщательно. Соучастие Аксенова в хищениях металла и в хранении клада сомнительно… А взять под наблюдение надо, ради его же безопасности. На этом направлении мы наверняка выйдем и на интересующих нас лиц. — Шадричев сделал паузу и обратился к Зубцову: — Ну, а ваши соображения о визите к вам Мамедова…
— Мне кажется, товарищ генерал, визит ко мне, кроме прямой провокации, преследует еще одну цель: убедить нас, что Мамедов в Москве. Он буквально вызывает огонь на себя. А в это время тот, кто над ним, после его визита (я убежден: в их шайке есть кто-то повыше рангом Мамедова, похитрее, поопаснее) движется в Сибирь или уже находится там. Словом, мне пора получать командировочное предписание…
— Правильно, пора, — согласно повторил Шадричев. — Только вот куда, в какой пункт?
— В Краснокаменск. Тем более, что, как сообщил полковник Патрин, Агния Климентьевна Бодылина-Лебедева вчера возвратилась в родной город.
— А меня, товарищ генерал, — начал Орехов и прокашлялся, — очень тревожит поселок Октябрьский. Ведь исключать полностью сопричастность Аксенова пока не приходится. Нет у нас для этого веских фактов. Одни психологические нюансы: фронтовик, авторитетный руководитель. А ну как руководитель-то в матушку свою — конспиратор! И покуда мы в Краснокаменске обхаживаем Агнию Бодылину, ее отпрыск и дедовский клад пустит с торгов, и заложит собственный из краденого золота.
— Ну зачем же так мрачно, Михаил Сергеевич, — недовольно возразил Шадричев. — Северотайгинский отдел исполняет службу. Да и мы не собираемся оставлять без догляда поселок Октябрьский.
В дверях кабинета появилась секретарша Шадричева:
— Василий Матвеевич, старший лейтенант Федорин явился по вашему вызову.
— В самое вовремя, как говорится, на ловца и зверь… — Шадричев усмехнулся обрадованно. — Я на контроле держу дело Игумнова. Старший лейтенант меня информирует ежедневно.
— Сегодня новости хорошие, — сказал Федорин весело и стал рассказывать…
Валентин Игумнов сидел у стола Федорина, спрятав под стул ноги, стесняясь своих неотутюженных брюк. Оттягивая начало трудного разговора, смущенно улыбнулся и сказал:
— За тридцать лет жизни обзавелся известными привычками. Например, по утрам бриться, причесываться перед зеркалом, разумеется, утюжить брюки. И вот как-то сразу лишен всего.
— Не страшно. Выйдете на свободу и…
— Свобода! — Игумнов горестно вздохнул. — Вы сделаете все, чтобы упрятать меня надолго.
— Я — не суд, сроки не определяю. Взяли вас с поличным. Дальнейшую вашу судьбу определят ваша искренность, ваше стремление к честной жизни.
Игумнов исподлобья посмотрел на Федорина, но тотчас же его запавшие глаза зажглись злостью.
— С поличным! Я пришел в гостиницу, в парикмахерскую, я туда хожу два раза в месяц. Мастер Володя может подтвердить. А вы подставили мне этого щенка — Светова, под руки — да на Петровку.
— Сколько же вы платите за стрижку? — насмешливо перебил Федорин. — Правильно, Светов — щенок. Но шел он к вам, и не пустым. И ждали вы не его одного. Иначе зачем бы вам иметь с собой пять тысяч рублей. Для карманных денег многовато, а для скромного администратора театра — сенсационно много.
— Я экономный человек.
— Не надо, Игумнов. Не надо. Соберитесь с духом сказать правду, сказать все. Это облегчит вашу участь.
— Чего вы хотите от меня?
— Правды. С кем были связаны в своих валютных махинациях? Кого ожидали в гостинице? Кстати, посмотрите эти фотографии, не сыщете ли на них своих клиентов?
Игумнов внимательно разглядывал фотографии, откидывался назад, склонялся поближе, клал на стол, брал снова. Закончил просмотр, отодвинул от себя пачку, один снимок положил перед Федориным.
— Вот этого вроде бы узнаю.
Это был фоторобот Мамедова.
— И кто же это?
— Джафар, по-моему.
— Фамилия? Адрес? Место работы? — Федорин уже справился с волнением, придвинул к себе бланк допроса.
— Фамилии не знаю и не знал никогда. Адреса — тем более. У нас не принято дружить семьями. — Игумнов криво улыбнулся: — Навещал меня в моем служебном кабинете в театре. Предварительно звонил по телефону. Брал контрамарку. Помногу раз пересматривал у нас все спектакли.
— И только? — Федорин с трудом скрывал разочарование.
Игумнов снова растирал свои щеки, сказал устало:
— Искренность так искренность. Нет, конечно, не только контрамарки. Солидный клиент. Покупал много, за ценой не стоял. Случалось, что и продавал.
— Иностранец он или советский гражданин?
— Откуда-то из Средней Азии, судя по некоторым фразам.
— А его профессия?
— Поминал о скорняцком промысле. — Игумнов хитро сощурился и продолжал: — А ведь я, Эдуард Борисович, оказал вам услугу. Вы мне предъявили не фотографию, а фоторобот. Джафара-то взять надо…
— Загоскина опознала на фотороботе Мамедова своего иностранного друга Закира, — закончил Федорин свой рассказ, — зубной же техник Шпрингфельд — иностранца, который продал ему зубопротезные пластинки. Среди скорняков я начал проверку…
— Ну что же, зоркий, значит, взгляд у свояченицы Никандрова, не ошиблась в приметах «азията», — весело сказал Шадричев. — Ты вот что, товарищ Федорин, собирайся в Сибирь, в поселок Октябрьский. Подробные инструкции получишь у подполковника Орехова. Свои действия координируй и согласовывай с майором Зубцовым, который пока будет в Краснокаменске. Подполковнику Орехову возглавить в Москве розыск Мамедова, в том числе и проверку скорняков, и следствие по делу Игумнова, Шпрингфельда, Светова, Загоскиной. Что еще? Да, о кодовом названии операции. Отдел предлагает «Кладоискатели». Я думаю, лучше восстановить название, которое дал ей когда-то Лукьянов: «Золотая цепочка». Иван Захарович вкладывал в него глубокий смысл…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Поселковый клуб с глухими из кондовой лиственницы стенами напоминал Глебу крепостной бастион из «Капитанской дочки». Сегодня он, если не штурмом, то обходным маневром, должен овладеть этим бастионом и взять в плен его гарнизон, правда, состоящий из одного человека.
Один на одного. Кажется, чего проще! И все-таки силы неравны. Глеб вспоминал свою рыбалку, неожиданно сильные руки Насти, ее прохладную тонкую шею с беспокойно пульсирующей жилкой…
И все откладывал свой поход в клуб. Конечно, то, что случилось на пруду, можно обернуть в шутку. Он не сделал Насте ничего плохого, ничем не обидел ее, и все же было совестно встретиться с нею, ломать комедию, выдавать себя не за того, кем был на самом деле. А где-то далеко живет, тревожится, помнит о нем, корит в письмах за молчание Лиза… И как знать, может быть, и пятидесяти тысяч, обещанных Шиловым, окажется мало, чтобы оплатить прощение.
Позавчера Глеб, по требованию Шилова, выгнал Аркадия из своей комнатки в общежитии. Приглушая захлестнувшую его злость, выволок захмелевшего приятеля в коридор, с трудом удерживался, чтобы не поддать Аркашке, не для зрителей, а от души.
— Ты чего это, Глеб? Или перепил? — суетилась дежурная тетя Паша. — Такие дружки — водой не разольешь и вдруг…
— Алкаш! Крохобор! Побирушка! — клокотал Глеб. — Исчезни! Потеряйся!
— Глебка, друг ты мой ситцевый, — лепетал Шилов. — Ну, чего я тебе сделал? Куда ты меня…
— Мир просторен… — успокоил Глеб и поволок упиравшегося Шилова на крыльцо.
Но уже вчера в опустевшей столовой, которая громко именовалась вечерним кафе, Шилов будто из-под пола вынырнул, подсел к Глебу и сказал:
— Молоток! Изгнание мое оформил что надо. Но помни: я рядом, я всегда с тобой. — И спросил с угрозой: — Долго еще думаешь тянуть резину? Со дня на день явится родовитая бабушка. — Приглушенный голос стал шипящим, будто воздух выходил из проколотого мяча. — В общем, разговор у нас последний.
Глеб, кляня в душе Шилова, свою уступчивость, свой запретный промысел, от которого опасностей куда больше, чем барыша, собрался с духом и поплелся в клуб. Едва поднялся на крыльцо и вступил в просторные сени, как услыхал насмешливый голос Насти:
— Май Севостьянович, здесь нарисованы медведи?
— А кто же по-вашему? — спросил жидкий тенор.
— Не знаю, драные кошки, водовозные клячи, что угодно, только не медведи. А разве деревья это? Картофельная ботва и только…
— Не согласен. — Тенор взмыл решительно. — Поскольку в счет-фактуре записано: «Копия с картины Шишкина «Утро в сосновом лесу» и «Пушкин у моря» Айвазовского». Исполнены в копировальной мастерской областного художественно-промышленного комбината. Цена в багетовой раме четыреста пятьдесят рублей за каждую. Вот, пожалуйста, документ по всей форме.
— Документ и тем более цена действительно по всей форме. Но все-таки это не «Утро»… У Шишкина солнцем все пронизано, светом. Присмотришься, честное слово, каждая хвоинка звенит. А мишки какие! У них же, Май Севостьянович, у каждого свой характер.
— Товарищ Аксенова! — язвительно хмыкнул Май Севостьянович. — Какой в зверюге может корениться характер? Все они, извиняюсь за выражение, на одну морду. Вы не заноситесь шибко. Я в рабочком пойду, я к отцу вашему… Он не похвалит за такое… Говорю вам как директор: висеть будут «Мишки» с «Пушкиным», поскольку приобретены в пределах сметы и в соответствии с установкой о создании в клубе домашнего уюта.
— Товарищ Оладышкин! — взмолилась Настя. — Ну какой же это «Пушкин у моря»! Пушкин — это порыв, мысль, страсть! Помните, как писал он о море: «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой…» А разве это Айвазовский! Разве это свободная стихия и гордая краса? Это же голубая каша в тарелке! И вовсе не Пушкин, молодой, мятежный, а… нет, я просто не знаю. Призрак! Тень отца Гамлета.
Оладышкин вздохнул, но объявил властно:
— Вывесим обе. Поскольку приобретены, и я, как директор, отвечаю за это самое… за эстетическое воспитание духовной культуры…
— Май Севостьянович, — сказала Настя неожиданно ласково. — Повесим лучше картины наших самодеятельных художников: «Закат в тайге» Кирилла Щеглова или «Драгеры» Максима Маркелова. Устроим выставку, обсуждение…
— Не классики они, Максим-то с Кириллом, — сказал Оладышкин с горестным вздохом.
Глеб понял, что сейчас спор разгорится с новой силой, и с шумом распахнул дверь. Глядя на Мая Севостьяновича, пробормотал скороговоркой:
— Здравствуйте! Я — в самодеятельность.
Оладышкин, невысокий, рыхлый человек, одетый несмотря на жару в хромовые, до блеска начищенные сапоги и шевиотовый бутылочного цвета костюм, замигал на Глеба белесыми ресницами, но, сообразив, что появление парня сулит ему передышку в безнадежном споре, расклеил в полуулыбке толстые губы и сказал:
— Здравствуй. Входи, пожалуйста. Клуб как очаг культуры всегда готов сказать: добро пожаловать каждому, у кого стремление посвятить способности и досуг…
Настя при появлении Глеба отступила назад, смерила порицающим взглядом и, слегка покраснев, сердито сказала:
— Здравствуйте. Но вы не по адресу. Секция тяжелой атлетики на стадионе. Вас интересует это?
«Меня интересуешь ты. Но я буду последним подонком, если хоть чем-то обижу тебя…»
Это обещание Глеба самому себе несколько успокоило его.
— Я к вам. Пою вот немного и хотел бы…
— Летом приема в кружки нет. Приходите осенью.
— Это как же осенью, — возмутился Оладышкин. — Что за бюрократия?! Товарищ желает вовлечься в культуру. И мы с вами обязаны охватить его, независимо от сезона… — Он ласково взглянул на понурого Глеба и ободряюще сказал: — Значит, к пению испытываешь потребность? Это, брат, исключительно хорошо. Есть потребность петь — пой. Ты не смущайся, как тебя?
— Глеб Карасев. Старатель-сезонник из Москвы.
— Из Москвы! Надо же! Это же исключительно замечательно. Мы тебя и прослушаем сейчас. Товарищ Аксенова может аккомпанировать на инструментах.
Настя спросила, копируя интонации Оладышкина:
— И к какой песне вы «испытываете потребность»?
— Если можно, я спою «Нежность».
Зыбкий вечерний свет лился в распахнутое окошко из палисадника на тусклую крышку пианино, на склоненную голову Насти, на ее лицо, глаза, большие, зеленые, в жарких золотых точечках, выжидающие, снизу вверх смотревшие на Глеба. Он с удивлением подумал: «Неужели не на картинах старых мастеров, а наяву, в жизни, бывают такие теплые, как бы озаренные внутренним светом лица?»
Подошел к пианино, оперся на него рукой и, стараясь не глядеть на Настю, вкладывая в слова всю свою тоску по Лизе, запел:
Опустела без тебя земля.
Как мне несколько часов прожить?
Голос у него был из тех, про которые говорят: «Берет за душу». Пел он искренне, без надрыва и оттого хорошо. Настя с любопытством покосилась на него и повела аккомпанемент мягче, лиричней.
Май Севостьянович сидел, по-старушечьи подперев пухлощекое лицо, светлые глаза влажно поблескивали.
— Эх, до чего же хорошо, жалостно! — восхищенно воскликнул он, когда Глеб закончил песню. — Ты, Глеб, талант! Это очень здорово, что ты пришел к нам. Мы твою способность вылущим, как ядрышко из кедрового ореха. Хочешь, в хор тебя определим, хочешь, подготовим на сольный концерт к седьмому ноября?
— Спасибо, — вяло поблагодарил Глеб, испуганно спрашивая себя: неужели ему придется провести здесь ноябрьские праздники? Неужели Шилов не выпустит его отсюда? Глеб передернул плечами, стряхивая с себя неожиданную и постыдную размягченность, и, снова входя в роль, ускользая от глаз Насти, торопливо сказал:
— Я жить не могу без пения. Заниматься готов каждый день.
— Каждый и станешь, — пообещал Оладышкин. И важно сообщил: — Пойду к себе в кабинет. Надо вести прием персонала по личным вопросам. Да документы подписать. — И величественно зашагал к выходу.
Глеб и Настя, не глядя друг на друга, засмеялись.
— Занятный мужик. Но, кажется, добрый. Без него вы бы меня встретили оглоблей.
— И поделом вору мука.
— Вору? Почему вору?! — пролепетал Глеб, чувствуя, как вдруг перехватило дыхание.
— А то не знаете? Думаете, ваши штучки всем в радость? На пруду, в общежитии. Так
вот: голосок у вас такосенький… — Она показала кончик своего мизинца. — Ну, уж так и быть, стану заниматься с вами. А сейчас мне пора домой. Проводите меня и расскажите толком, чего вас занесло в старатели. Только не надо сказок о Джеке Лондоне, Брет Гарте и романтике…
2
Рядом с Агнией Климентьевной уже не было никого, с кем начинала она жизнь. Она, словно бы откуда-то с высоты, рассматривала череду минувших дней, и не разумом, а душою, всем существом своим уверялась, что ей уже за семьдесят пять, храбрись не храбрись, силы на исходе, наступило, может быть, ее последнее лето и пора без лицемерия выводить в себе итог хорошему и дурному.
Все иное вокруг. Даже горы, даже вода в Яруле. И ветер над рекой не тот, что овевал когда-то ее лицо. Еще древние говорили: нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды уловить дыхание одного и того же ветра.
Сколько не смотри, не увидишь раскрашенного, как пасхальное яичко, теремка бывшей бодылинской купальни. В гранит и асфальт закованы береговые склоны, по которым так часто спускались к реке и поднимались к бульвару Агния и Аристарх Аксеновы. Не сыскать их следов, и невозможно указать место, где почти шестьдесят лет назад повстречались они в утро, предрешившее все в их судьбе.
Нельзя не заглянуть сюда, на берег Яруля, потом не подойти к бывшему бодылинскому особняку, постоять в молчании перед тяжелыми дверями с бронзовыми накладками, потом на другой конец города, к старому саду, в сторожке которого настигла отца смерть, и дальше — на кладбище, к фамильному склепу Бодылиных…
У старости нет времени на замыслы и дальние цели. Старость смотрит в прошлое и признает единственную власть — власть воспоминаний.
На Тополиной улице, извилистой и горбатой, застроенной одноэтажными деревянными домиками, что цепко лепились к бурым глинистым склонам безлесой сопки, не было ни асфальта, ни изогнутых в поклоне светильников. Раскидистые тополя тянули узловатые, ветки через дощатые заплоты и штакетины палисадников, роняли наземь пушистый цвет, и каждое лето кружила над улицей клейкая тополиная метель.
Зимой до окон вздымались снеговые завалы. Весной на влажные проталины огородов черной тучей опускались грачи. Летом под водостоком бубнили врытые в землю кадушки, а за штакетником полыхали золотые вспышки «солнц». Утро начиналось здесь скрипом коромысел и звоном ведер у водопроводных колонок.
Агния Климентьевна, оказавшись здесь после Ленинграда, не сразу привыкла к этому полусельскому укладу жизни. Но постепенно полюбила и Тополиную улицу, и свой приземистый домик, и радовалась в душе тому, что для всех соседей она вдова местного врача Валерьяна Васильевича Лебедева, а как ее девичья фамилия, была ли она замужем за кем-нибудь еще, касается лишь одной ее. Конечно, в ее годы лучше бы перебраться на прииск к сыну. Все вместе — и душа на месте. Впрочем, для кого лучше? Для внучки Насти? Ведь нельзя не признаться, что между нею и сыном Николаем столько набежало разного, что одному не покориться, а другому не поступиться.
В низком свинцовом небе смыкались лохмотья туч. Воздух уплотнился, и дышать стало трудно, сердце Агнии Климентьевны заходилось частыми толчками.
Агния Климентьевна заставила себя поужинать и уселась перед телевизором, но услыхала стук в дверь.
— Входите. Незаперто, — откликнулась она, не оставляя вязания.
Невысокий черноволосый человек, по ее представлению почти мальчик, учтиво наклонил голову и сказал, приглушая голос:
— Добрый вечер, Агния Климентьевна. Удивительно, что у вас незаперто. Днем, к сожалению, не застал вас, а дело неотложное. Я — инженер Зубцов из бюро технической инвентаризации.
— И что же у вас ко мне за неотложное дело?
Он помедлил с ответом. Старость многолика, чаще всего она жалка, а то и вовсе отталкивающа. Старость Агнии Климентьевны была величественной и красивой. Седые до голубизны, пышные волосы оттеняли гладкость ее лица, и сейчас красивого, живой блеск больших глаз. «Бодылинских, фамильных», как определил Зубцов.
— Возникли некоторые вопросы по вашему домовладению, — сказал Зубцов и окинул взглядом помещение.
— Пожалуйте в залу, — пригласила Агния Климентьевна, как бы намеренно усиливая своими словами впечатление архаичности, исходящее от ее жилища.
Мебель в зале — обеденный стол на резных ножках-колоннах, шкафы, диваны, стулья — тоже была старинной, тяжеловесно добротной. Зубцов с интересом и неожиданным почтением рассматривал основательные, уверенные в непреходящей нужности для хозяев вещи. Люстру с массивными подвесками, мастерски исполненные мрачные таежные и речные пейзажи в потемневших рамах, поясной портрет Климентия Бодылина в переднем углу. «Однако и для тайников здесь вольготно. В ножках стола не только фунтовые золотые слитки, но и освежеванного слона схоронить можно… И в то же время… Не признал ведь Игорь Светов на фотографии Лебедевой свою интеллигентную старушку».
— Не знаю, Агния Климентьевна, огорчит вас это или обрадует, но ваш домик, как и вся Тополиная улица, намечен к сносу.
Зубцов не кривил душой: его проинформировал об этом главный архитектор города. Анатолий посмотрел на Агнию Климентьевну, но не уловил в ее взгляде ничего, кроме вежливого внимания.
— И какие же в таких обстоятельствах у меня права по закону? — спросила она с достоинством. — Или вся моя обязанность лишь в том, чтобы к назначенному сроку собрать скарб да перебраться в указанное место?
— Вы можете получить благоустроенную квартиру и компенсацию за сад. Вам могут возместить и стоимость дома, но в таком случае не дадут квартиры.
— А нельзя ли сохранить домик и перенести его на другое место? Мне он очень дорог…
— Нет, строение изношенное, ветхое.
— Следовательно, все уже предрешено. В мои-то лета сниматься с насиженного места…
— Понимаю, — участливо сказал Зубцов. — Только и вы поймите: город обновляется, идет спор эпох, дня минувшего и дня завтрашнего…
— Сколько этих споров эпох, как вы изволите выражаться, довелось мне услыхать на своем веку. Несчетно. — Она поджала губы, как бы замкнув их и подчеркивая, что полагает законченным неприятный разговор.
— Наверное, вы пожелаете получить деньги за свое владение? — нарушил молчание Зубцов. — Соседи говорят: в районе живет ваш сын. Для оценки стоимости дома надо знать его площадь. У меня с собой рулетка. Если не возражаете, мы сейчас же уточним размеры. — Он извлек из кармана рулетку и вопросительно посмотрел на хозяйку: пройтись по квартире было очень заманчиво…
— Не надо обмера! — Агния Климентьевна решительно заступила дорогу Зубцову. — И что соседям за печаль обо мне? Я хочу получить не деньги, а именно квартиру.
— Не совсем понимаю вас. В вашем возрасте оставаться одной… А деньги пригодятся всегда.
— Благодарю вас за участие ко мне, — ответила она насмешливо. — Но деньги меня не интересуют. Я привыкла к одиночеству и к внезапным переменам в своей судьбе. Далеко не всегда к лучшему…
Зубцов чувствовал: настало время прощаться, но важный разговор так и не начался, и, если он уйдет сейчас, то неизвестно, когда встретится со своей собеседницей. Анатолий натянуто улыбнулся и сказал;
— Что ж, поступайте, как вам угодно. Но я прошу вас показать мне документы по домовладению. У нас, в БТИ, отсутствуют некоторые данные.
Он углубился в бумаги, тотчас поданные ему Агнией Клименьевной, равнодушно перелистывал знакомые по инвентарному делу свидетельство о праве наследования дома после смерти Валерьяна Васильевича Лебедева, справку о принадлежности домовладения, план усадьбы и думал: «Однако она — твердый орешек. Очень дорожит своим кровом. И предпочитает жить в одиночестве. А может быть, просто не ладит со своим сыном? Она явно не из тех, кто забывает и прощает обиды».
— Нельзя ли отложить переезд до осени? — озабоченно спросила Агния Климентьевна, когда Зубцов возвратил ей папку. — Я скоро собираюсь в поездку.
— Ну и поезжайте себе. Сейчас трудно предрешать сроки сноса. Да вы, наверное, отбудете недалеко.
— Нет, я не близко, — возразила Агния Климентьевна и, не задумываясь о смысле своих слов, объяснила: — На наш прииск…
— То есть как на ваш?
Во взгляде Агнии Климентьевны проскользнула досада, ровный голос стал торопливым:
— Видите ли, я родилась на том прииске. Там служил мой первый муж. А теперь служит сын. Так что мы привыкли называть его нашим.
— Ясно. — Зубцов кивнул и продолжал с некоторым нажимом: — Своего рода династия золотопромышленников, фамильное владение.
— Может быть, и так.
Молчание становилось тягостным. Зубцов, внимательно глядя на портрет Бодылина, заметил:
— Недюжинный был, видно, человек.
— Да, работа удачная.
— Очень своеобразная манера письма. Надо полагать, это портрет вашего мужа?
— Нет, отца. Не слышали такую фамилию — Бодылин? — Она смотрела на Зубцова, чуть сощурясь.
— Бодылин? Бодылин?…
— Не трудитесь, — Агния Климентьевна усмехнулась. — Когда-то эту фамилию знал в Краснокаменске каждый мальчишка. Пароходы бодылинские, дома бодылинские, прииск бодылинский… А теперь… — Она вздохнула и договорила с горечью: — Теперь осталось единственное — бодылинская могила.
«…да еще бодылинский клад, — досказал про себя Зубцов, — о котором вы, судя по всему, знаете кое-что. Но спрашивать вас о нем не только бесполезно, но и опасно. Вы до сих пор не смирились с тем, что люди позабыли бодылинскую фамилию…»
3
После ухода Зубцова, который решительно не понравился ей навязчивым участием в ее судьбе, Агния Климентьевна долго сидела в кресле перед портретом отца, глядя в его плутовато сощуренные глаза, точно надеясь прочесть в них ответы на свои вопросы. Известие о предстоящем переезде задело ее глубоко. Почти тридцать лет провела она в этих стенах, привыкла к этим комнаткам, уютному потрескиванию горящих поленьев в голландке, к рясным кустам сирени в маленьком саду и к увитому хмелем крыльцу, на котором так приятно сумерничать в летние вечера. Всему этому скоро конец.
С полуночи грянула гроза. Врывались в щели ставен отсветы молний. Крыша вздрагивала от слитного гула дождя и раскатов грома. И Агния Климентьевна опасливо жалась к подушке.
Когда утром она вышла из дому, в прозрачной синеве дремотно раскинулось солнце, капли на мокрых листьях горели радужными искрами. При виде этих, словно бы бенгальским огнем освещенных тополей, почернелых крыш, влажно-зеленой, пахнувшей прелой горечью полыни у Агнии Климентьевны защемило сердце, мысль о том, что скоро всему этому настанет конец, показалась невыносимой. И тут она заметила у соседнего дома человека, который сутулился на раскладном стульчике и старательно что-то зарисовывал в альбом.
В иное время Агния Климентьевна прошла бы мимо, но после встречи с Зубцовым все, что касалось Тополиной улицы, сделалось чрезвычайно значительным. Поравнявшись с человеком, который часто, словно на молитве, вскидывал и опускал голову, Агния Климентьевна остановилась и заглянула ему через плечо.
Она узнала на рисунке домик, перед которым он расположился, и угол своего дома за ветками тополей. На другой страничке были фрагменты резьбы по наличникам и карнизам. Агния Климентьевна удивилась, что не замечала этой искусно выпиленной листвы, диковинных цветов и птиц, сомкнутых в узорный орнамент.
— Между прочим, дом этот ранее принадлежал нотариусу Хлебникову, — негромко сказала Агния Климентьевна в седой, косматый затылок художника. — Он слыл большим оригиналом и ценителем красоты.
— Возможно, — пробурчал художник, не оборачиваясь к ней.
Она, ничуть не обескураженная его холодностью, стремясь поделиться наболевшим хотя бы и с посторонним, сказала со вздохом:
— Скоро всему этому придет крах. Здешних обитателей уведомили: наш квартал подлежит сносу.
Художник резво обернулся к Агнии Климентьевне, испытующе посмотрел и сказал озадаченно:
— Шутить изволите. Этакие уникумы для Кижей и Суздаля впору. Так ведь там они под защитой закона.
Она опять вздохнула и сказала, указав на рисунок:
— И вот мой домик тоже…
— Стало быть, все под корень?! — воскликнул он с неподдельным волнением. — Следовательно, это ваш домик? Жаль! Резьба весьма-весьма… Просматривается влияние новгородских и вологодских традиций.
Агния Климентьевна никогда не слыхала об этих традициях, но подтвердила:
— Дом был поставлен еще в начале века отцом моего покойного супруга, Василием Игнатьевичем Лебедевым. По воспоминаниям мужа, его отец тонко разбирался в прикладном искусстве.
— Вот видите, — сказал художник с таким видом, точно убедил в этом собеседницу после долгого спора, и продолжал с гневным пафосом: — А теперь все это на слом! Сметаем истинные художественные ценности. И вместо этих деревянных кружев, этой своеобразной вязи наставим каменные коробки о пяти этажах каждая. Гибнет старая красота, старые фамильные ценности. — Он покосился на Агнию Климентьевну и озабоченно договорил: — Хоть на бумаге запечатлеть, покуда не распилили на дрова. — И снова склонился над альбомом.
Но Агния Климентьевна не обиделась и даже, посмеиваясь про себя над собственной экспансивностью, чувствовала, что проникается к нему доверием, какое редко испытывала к посторонним. Она все не отходила от художника и после паузы сказала с надеждой:
— У вас, надо думать, есть влияние, связи. Вы не взяли бы на себя труд похлопотать, чтобы оставили в покое эти дома? А коли уж нельзя оставить, перенесли бы на другое место, чтобы сберечь художественную ценность…
Художник с явным неудовольствием выпрямился, с усмешкой посмотрел на нее:
— Влияние? У меня? Какое может быть влияние у заезжего писаки. Простите, я не отрекомендовался вам. — Он встал со стула, приподнял капроновую шляпу: — Степан Кондратьевич Кашеваров. Журналист, историк, этнограф. Приехал познавать сибирскую старину. А старина-то нынче — где она… — Он посмотрел на обескураженную Агнию Климентьевну, договорил мягче: — Я еще несколько дней посвящу вашей улице. Так что свидимся, надо полагать. — И склонился над альбомом, карандаш быстро заходил в его пальцах.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Зубцов читал письмо и видел себя в своей московской квартире вместе с женой и лохматым непоседой Юркой. Обычные житейские мелочи: в лотке на балконе распустились мальвы. Юрка отпилил нос своему Буратино, сказал, что царапается, в Москве на всех углах продают абрикосы…
«Толя, милый, пожалуйста, не смейся надо мной и не доказывай, что у меня расшатались нервы. Мне все время кажется, что кто-то буквально не спускает с нас глаз. На улице это чувство становится особенно навязчивым. Постоянно ощущаю чье-то враждебное присутствие, чей-то пристальный интерес к себе. Каждый день раздаются телефонные звонки. То, услыхав мой ответ, сразу же положат трубку, то невнятный мужской голос начинает выспрашивать: в Москве ли ты, когда бываешь дома, можно ли позвонить поздно?
И я отчаянно вру, что ты в Москве, на работе.
Мне кажется, я была довольно сносной милиционершей. Старалась не мучить тебя бабьими капризами, не роптать на свою судьбу. Но сейчас… У меня предчувствие: кто-то от телефонных звонков перейдет к охоте на тебя. Как ты там, мой самый лучший человек?…»
Зубцов бережно сложил письмо. Конечно, нервы у Нины не совсем в порядке, но о ее тревогах надо поставить в известность товарищей в Москве.
Неделю он в Краснокаменске. Подтвердились его опасения: в архивах не нашлось новых данных о событиях двадцать первого года. А прогнозы генерала Шадричева пока не оправдались: никто не проявлял интереса к Зубцову, никто не появлялся возле Агнии Климентьевны.
2
— Позвольте!
Незнакомый голос был надтреснутым, хрипловатым. «Голос завзятого пожилого курильщика», — определил Зубцов и включил свет. Человек у двери на мгновение заслонился рукой, тотчас же отвел ее и улыбнулся:
— Товарищ Зубцов? Не удивляйтесь, уважаемый Анатолий Владимирович, я, прежде чем постучать к вам, навел справки у коридорной. Я — Кашеваров Степан Кондратьевич, журналист, ваш земляк-москвич. Подвизаюсь на исторических темах в разных печатных органах. Сюда по командировке… — Он несколько иронично назвал популярный журнал. — Заболел темой сбережения тайги-матушки, борьбой против сибирского шелкопряда. Здешние ученые нащупывают любопытные биологические методы защиты леса. Даже препарат изобрели — инсектин. Вирусом, знаете ли, по гусенице…
— Извините за вторжение, — продолжал Кашеваров. — К вам, дорогой земляк, у меня оказия наисмешнейшая. Привык служить музам по ночам, но перед тем, как подсесть к столу, непременно должен приложиться к кофейничку. Этакая бальзаковская причуда. А растворимый кофе, как на грех, позабыл в Москве. Здесь же этого полезнейшего продукта не сыщешь днем с огнем. Ежели запаслись, одолжите баночку.
«Такая пространная тирада», — усмехнулся Зубцов про себя и сказал радушно:
— Что может быть проще. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. — Он открыл чемодан и, подавая кофе, пожелал: — Пользуйтесь на здоровье.
— Кабы на здоровье. — Кошеваров вздохнул горестно. — Ведь сущее зелье. От него и давление повышается, и бессонница гнетет, и годы убавляются. Но и не обойтись без него, особенно ежели работа…
— Даже про шелкопряд не рождается без кофе?
— Сибирский-то шелкопряд — это, между нами, так… для покрытия дорожных расходов, на табачок, да на чай с сахаром, то бишь на кофе. — Кашеваров лукаво и дружески, однако же без тени фамильярности, слегка подмигнул Зубцову. — А соль дела в том, что давненько меня влекла, как Пушкин говаривал, даль свободного романа. И вот по пословице: «Седина в бороду, черт — в ребро…» дерзнул на старости лет, перед выходом на пенсию… — И оборвал фразу, будто вначале интересного эпизода обозначил: продолжение следует…
— А тема?
Зубцов спросил с некоторой опаской: заведет подробный рассказ, а с минуты на минуту должен явиться капитан Осадчий с вечерней сводкой.
— Коли тему четко очертить можно — от сих до сих, — так и роман начинать не к чему, — удобнее усаживаясь в кресле, разъяснил Кошеваров. — «Роман о людях села…» «Роман из жизни геологов…» Это ведь так, для издательских заявок. В романе-то всегда драма духа, дыхание времени, душевные обретения и утраты. В мечтах вижу объемное полотно о судьбах сибиряков, в первую голову сибирских интеллигентов. Среди них, доложу я вам, Сангины были нетипичны. Колоритные, вольнолюбивые, неподкупной честности люди составляли сибирскую интеллигенцию. От Александра Радищева пошла сибирская-то интеллигенция…
Затянувшийся разговор сделался любопытным. Анатолий сказал, явно приглашая собеседника изложить свое мнение:
— Мне кажется, идеализировать сибирских интеллигентов — это все же предвзятость. Пусть не Самгины. Но ведь и не однолики они. Тоже имели душевные трещины и надломы. Всякие, словом, были среди них. Хотя я и не знаток сибирской истории.
Взгляд Кашеварова на мгновение стал торжествующим и азартным. Зубцов решил, что литератор ринется в словесный бой, но тот уступчиво сказал:
— Само собой, всякие. И областники, и либералы-идеалисты, и откровенные колчаковцы. Но я веду речь о доминанте, о тяжком пути через сомнения и утраты, преодоление кастовой замкнутости к великому обретению — народу, к служению революции. Словом, грежу широким социальным полотном. А что выйдет…
— Интересно задумано, — подзадорил Зубцов. — Но и работа адова. Надо психологически переселиться в далекую от нас сибирскую старину. Вам, не сибиряку, это вдвойне трудно.
— Отчего же не сибиряку? Здешний я, тутошний, как выражались прототипы моих персонажей. Родом из Северотайгинского района.
— Откуда? — невольно переспросил Зубцов.
— Из Северотайгинского, — Кашеваров медленно раскурил сигарету, выдохнул густое облако дыма и стал объяснять: — Это километров четыреста от Краснокаменска, вниз по Ярулю, при впадении в него реки Раздольной. Районный центр — поселок Октябрьский. Прежде назывался прииском Богоданным, принадлежал здешнему воротиле, но, между прочим, и образованнейшему человеку — Климентию Бодылину…
Такая, видно, была у него привычка: обрывать рассказ на самом интересном. Анатолий хотел было деликатно поторопить его продолжить ставший увлекательным разговор, но посмотрел на Кашеварова, небрежно и благодушно, закинув нога на ногу, сидевшего перед ним, и уловил в его взгляде поощрительную усмешку. Молниеносно сработали, как называла их в шутку Нина, «профессиональные тормоза». Может быть, этот словоохотливый литератор тот самый, чье появление здесь предсказал Шадричев?… Случайно ли сорвалось у Кашеварова с языка имя Бодылина? Не был ли весь разговор подходом к главной и для Кашеварова бодылинской теме? Но все, что касалось писательских замыслов, прозвучало в его устах неподдельно горячо и страстно… Коль скоро он озабочен судьбами сибирской интеллигенции, он не может не знать о Бодылине.
Зубцов дружелюбно улыбнулся гостю и сказал:
— Я слышал кое-что о Бодылине. Говорят, человек был везучий. — И давая понять, что этой невнятной характеристикой его познания о покойном купце исчерпаны, спросил: — Намерены побывать на родине?
— Непременно, Анатолий Владимирович. Во-первых, шелкопряд водится там в избытке. Но главное — там отцова могила. Отец-то мой тезка Рылеева, Кашеваров Кондратий Федорович, в те места юношей был привезен в ссылку. Да и остался там на постоянное жительство. Вот уж, доложу вам, был интеллигент чистой воды, рыцарь революционного духа. До Октября учительствовал в сельских и приисковых школах, в гражданскую был комиссаром в отряде достославного Филиппа Балкина, потом председателем тамошнего РИКа. А в тридцатом свели кулаки с ним счеты. — Голос Кашеварова поосел, узловатые пальцы плотно заслонили глаза. — Мне в ту пору пошел девятнадцатый год. Ну, я, дай бог ноги, подальше от топоров и обрезов…
— Должно быть, часто наезжали сюда? — спросил Зубцов, пряча неловкость: подумал гадко о человеке с такою крутою судьбой…
— Где там. Не бывал с той поры. — Он сокрушенно развел руками, грустно потупился. — Учился в Ленинграде на филологическом факультете. Потом работал в многотиражке, в районке. То занят, то безденежье. А там война… И снова работа, и снова недосуг. Теперь уж возмещу все долги отцовской памяти и отцовской могиле… А вы, Анатолий Владимирович, на каком поприще? Уж не коллеги ли часом с вами?
— Нет, Степан Кондратьевич, не коллеги, — ответил Зубцов и, мгновение поколебавшись, договорил: — Служу в министерстве внутренних дел.
— Что ж, служба благородная, — одобрительно сказал Кашеваров и сразу посетовал: — Не слишком ли долго держится в нашем быту преступность? — Усмехнулся и заговорил грустно: — Да-с, Анатолий Владимирович, не стану кривить душой, хотя мне и шестьдесят и голова седая, а страшусь, как мальчишка, встречи с Северотайгинским районом. Сорок с лишним лет! И не признаю я там, поди-ка, ничего. Новизна всюду. — Он мягко коснулся пальцами плеча Зубцова. — Я по приезде сюда отправился на Тополиную улицу. Есть такая на окраине города. Посмотреть хотел старинную деревянную архитектуру, образцы настенной резьбы. Мне для романа-то все впору. С вашего позволения, покажу свой альбомчик. — И проворно исчез за дверью.
Зубцов, снимая напряжение, потер виски. Вспомнилось, как однажды ему посчастливилось сыграть шахматную партию с гроссмейстером. Анатолий начал удачно, но примерно на пятнадцатом ходу почувствовал: партию диктует соперник. Все это время он предвидел замысел Зубцова. До самого эндшпиля ему суждено быть придатком чужого ума, исполнителем чужой воли. И Зубцов поспешил остановить часы…
Кашеваров вернулся, протянул Зубцову раскрытый альбом и пригласил:
— Вот, полюбуйтесь, дом бывшего нотариуса. Поёт резьба, право слово.
Зубцов внимательно глядел на угол знакомого ему домика Агнии Климентьевны, который четко просматривался за тополями. Думая о своем, сказал:
— Да, очень своеобразный орнамент.
— То-то и есть. А вот сегодня подходит ко мне старушка чуть не в слезах. Оказывается, улица обречена.
Капитан Осадчий вошел в номер без стука. Искоса взглянув на Кашеварова, сухо кивнул ему, широко улыбнулся Зубцову.
— Ну-с, не смею мешать, — Кашеваров дружески пожал руку Зубцову. — Позвольте навещать по-соседски и сами не побрезгуйте.
Осадчий проводил его тяжелым взглядом и сказал, понизив голос:
— Между прочим, я пришел доложить вам об этом гражданине. Второй день рисует на Тополиной улице. Ребятишки все толклись вокруг, женщины любопытствовали. А утром беседовала с ним Наследница.
— Он только что сам доложил об этом и показал рисунки.
— И что вы думаете?
— А ничего, — Зубцов мягко опустил руку на плечо Осадчему. — Писатели, художники, актеры обычно люди общительные, как теперь выражаются, коммуникабельные. Журналист Кашеваров не исключение… Что еще у вас нового, Алексей Иванович?
— Тут, кажется, объявился еще один «художник». — И протянул Зубцову фотографию. — Подошел к Лебедевой на автобусной остановке. Она сначала разговаривала с ним довольно сухо, потом они вместе отправились к бодылинской могиле. Расстались у кладбищенских ворот очень тепло.
Сомнений быть не могло. Перед Агнией Климентьевной, грустно улыбаясь и почтительно обнажив голову, стоял Павел Елизарович Потапов…
3
Настя Аксенова поджидала осень с тревогой. Еще месяц-другой, и ржавчиной подернется березовый лист, потянут студеные ветры, нашвыряют в речки чешуйки шуги, замрут до весны старательские гидравлики, сезонники разъедутся по домам. А с ними и Глеб.
Каждый раз они вместе выходили из клуба, и каждый раз у дверей своего дома Настя напоминала:
— Завтра в восемь на репетицию, — и добавляла шутливо-жалобно: — Не опаздывай, пожалуйста…
— Даже если ты спустишь с меня не семь, а семьдесят семь потов, я не стану ни соловьем, ни Соловьяненко…
— Ты что же, против репетиций? — спрашивала она обиженно.
— За. За умеренные. Медведям в тайге можно петь и менее профессионально.
Откровенно забавляясь запальчивостью Насти, поддразнивая ее, он с серьезным видом утверждал, что здешний зритель легковерен, лишен всяких критериев хорошего в искусстве, а значит, станет слушать всякого, кто выйдет на сцену. Настя всерьез доказывала обратное, спор едва не заканчивался ссорой.
В этот душный вечер Настя поднялась на сцену, открыла пианино, подвигала по крышке стопку нотных сборников и то и дело посматривала на часы. Скрипнула входная дверь. Настя приветливо окликнула:
— Глеб, ты?
Но вошел грузный мужчина в светлом плаще, с чемоданчиком. Он взглядом из-под нависших бровей обшарил зал и раскатисто, точно команду подал перед строем, спросил:
— Есть здесь кто-нибудь?
— Есть я, — ответила Настя и спрыгнула со сцены. Мужчина покосился на нее и сказал недовольно:
— Мне нужен руководитель.
— Я руковожу здесь самодеятельностью, — сказала Настя, прикидывая в уме, откуда незнакомец. Скупые жесты, скучающий взгляд. Из области.
— Мне нужно главное лицо. Распорядитель кредитов, — еще более недовольно объяснил мужчина.
— Тогда приходите завтра, — Настя нетерпеливо взглянула на часы: что-то Глеб задерживается.
— Вы не могли бы проводить меня до гостиницы? — скорее распорядился, чем попросил мужчина.
— Чего нет, того нет, — Настя усмехнулась. — В смысле гостиницы в поселке. Есть рудничное общежитие. Там комнаты для приезжих.
— Но я — Метелкин! — Он посмотрел на Настю: какое это на нее произвело впечатление. Настя пожала плечами. Он снисходительно объяснил: — Художник Лукиан Метелкин. Слыхали, конечно?
— Признаться, нет. Вы к нам на этюды?
— Я, милая девушка, не писать, я — защищать! Защищать творение искусства от поднявших на него руку невежд. Справедливо сказано: искусство требует жертв. И посягнувший на него — мой личный враг.
Настя посторонилась и спросила с усмешкой:
— Попросту — судиться приехали за то, что мы отказались оплатить вашу, так сказать, живопись?
В светлых, навыкате, глазах Метелкина проскользнула растерянность.
— Стало быть, вы в курсе?
— Именно я и восстала против того, чтобы оплачивать ваши изделия. Так что я, наверное, рухну первой.
— Ради искусства не пощажу и отца родного…
— Вам бы копии научиться писать, а вы жалобы…
— Не забывайтесь!
— Что за шум? — весело спросил Глеб, появляясь в дверях.
Настя обрадованно протянула ему руку и объяснила:
— Ты помнишь картины? Ну, когда пришел сюда в первый раз… Так вот, товарищ приехал доказывать, что на них — не кошки-мышки и не елки-палки…
— Это уже издевательство! — возмутился Метелкин шепотом. — Я вынужден обратиться в соответствующие инстанции…
Настя прислушалась к его удалявшимся шагам, сказала с усмешкой:
— Я-то сначала его за академика живописи приняла. Вот уж действительно встречают по одежке… Начнем заниматься, да?
И осеклась. Оживленное лицо Глеба стало вдруг хмурым и настороженным.
— Нет, сегодня репетиции не получится. Занят я, очень занят… — Он подался к Насте, как бы намереваясь сказать ей о чем-то тяжком и важном для него. Но постоял, молча глядя на нее, махнул рукой, медленно повернулся и выбежал из клуба.
За столиком чайной Глеб рассказывал Аркадию Шилову:
— Понимаешь: приехал и сразу права качать, за горло берет… Ты велел мне говорить, кто появится тут не здешний. Художник будто бы…
— Правильно, что сразу сказал. Ладно, разберемся какая там у него живопись на уме…
4
Начальник Северотайгинского райотдела внутренних дел подполковник Лазебников, выслушав рапорт лейтенанта Копченова о результатах проверки в старательской артели, сказал:
— Спецсообщение есть из Москвы: ребята с Петровки взяли у одного «деятеля» самодельные зубные пластины. Изготовленные из золота Октябрьского месторождения. Далеко утекли наши самородки! Двадцать лет я в этом районе. Начинал с твоей должности, а такое скверное дело в первый раз. В Москве ищут продавца пластинок. Мы должны двигаться навстречу москвичам, искать поставщика золота, и опережающими темпами…
Лейтенант Копченов теперь, как на работу, приходил в районное отделение связи, перелистывал книги регистрации бандеролей, посылок, переводов. Жители Октябрьского отправляли сыновьям и дочкам-студентам переводы, почтовые и телеграфные, посылки с домашней снедью. Кочевое племя сезонников не перегружало почту работой. Несколько переводов женам или матерям, редкие бандероли. Вот в сентябре прошлого года старатель Тимофей Варварин отправил в Москву Дмитрию Ступину посылку весом в четыре килограмма, с объявленной ценностью в двести рублей…
Копченов помнил Варварина, красное, будто кирпичной крошкой присыпанное лицо, обвислые плечи… Сколько раз случалось Копченову призывать Варварина к порядку. Тот отмахивался и с хмельной улыбочкой бормотал:
— Не замай, лейтенант. Не возьмешь голыми руками. Колюч. Костист. Да и заступа у меня…
В поселке знали, что «заступой» этого спившегося человека был управляющий рудником Николай Аристархович Аксенов. А в прошлом году Варварин исчез.
Копченов сделал пометку в блокноте и снова углубился в книгу регистрации. Он и сам не мог объяснить, чем привлекла его внимание запись: «Москва, Большая Калужская улица, дом № 23, квартира 17, Желтову Михаилу Георгиевичу. Бандероль. Отправитель — Смородин Григорий Кириллович».
О Смородине и Желтове никогда не слыхал, но вот улица, номер дома… Лейтенант мог поклясться, что совсем недавно слышал и даже записывал этот или очень схожий адрес.
Он вернулся в райотдел, хмуро кивнул соседу по кабинету Юрию Локтеву, спросил:
— Тебе ни о чем не говорит адрес: Москва, Большая Калужская, дом двадцать три? Живет там Желтов.
— В Москве я бывал проездом. Знаю, что есть там метро «Калужская» — и только, — он из-под очков поглядел на Копченова. — Есть любопытные новости. Петр. Из области приехал в поселок художник Метелкин в связи с оплатой его произведений для клуба. Загорелся вдруг писать портрет Насти Аксеновой и упрашивал позировать ему. Как, Петя, в свете приказа взять под охрану семейство Аксёновых? Не настораживает, а?
— А Смородин Григорий Кириллович? Не говорит ни о чем? — думая о своем, спрашивал Копченов.
— А чем он, собственно, знаменит, твой Смородин?
Выслушав ответ Копченова, Локтев сказал:
— Ну, что тут особенного? Бандероль — дело обычное. И что тебе дает Смородин? Вполне возможно, что он студент-москвич из строительного отряда. Хотя погоди, кажется, я припоминаю. На прииске Сосновском в прошлом году, по-моему, был такой парень…
— Но если Смородин жил в Сосновском, зачем его понесло в Октябрьский, за сто километров отправлять бандероль? В Сосновском своя почта.
Копченов разыскал работницу, которая дежурила на почте в тот сентябрьский день, когда Смородин отправлял бандероль.
Пожилая женщина, сощурясь, долго разглядывала запись в книге регистрации.
— Год ведь прошел без малого.
— Постарайтесь припомнить. Как выглядел парень, который отправлял бандероль? Может быть, еще какие подробности. Пожалуйста, это очень важно.
— Да какие подробности. — Женщина насупилась я спохватилась: — Уж не те ли двое, что приемник проверяли?… Дежурю я, значит. Ну, приходят два парня.
— Два?
— Ага, очень даже хорошо помню: двое. Книжку принесли, толстую такую. Нет, две, однако, книги. Как называются — мне без надобности. Еще принесли приемничек. Ну, эти, как их, транзитные, что ли… Спрашивают, можно это бандеролью отправить? Отвечаю: почему нельзя? Ну, пощелкали они кнопкой, колесико повертели, музыка запела. Я запаковала, выписала квитанцию — и вся недолга. Я говорю, обыкновенно все. Кабы они не запускали транзитник свой, я бы не вспомнила ни за что — год почти прошел.
«Будто продемонстрировать хотели: мол, все в порядке, обычный приемник. А на самом деле это был совсем не приемник…» — подумал Копченов.
— А как выглядели эти двое?
— А тоже обыкновенно. Одетые, как все ходят нынче, в чистом. И на личность ничего особенного. Который сдавал бандероль, я его что-то не примечала в поселке, невидный такой из себя, белесый, скуластенький. Ну, а второй, он вроде нонешний год старается на Светлой. Высоченный такой парень, на лицо приятный. Встретила я его недавно. На улице позвал его кто-то по фамилии. Признать-то сразу его признала, а вот фамилия из головы вон. Съедобная вроде — не то Булкин, не то Лепешкин или Рыбкин…
— Не Карасев, случайно?
— Может, и Карасев.
Ну, конечно же. Как только лейтенант мог позабыть? Он же сам интересовался в старательской артели местожительством работавших в прошлом году сезонников и записал адрес Карасева: Москва, Большая Калужская, дом двадцать пять. Так вот почему привлекла его внимание бандероль к Желтову. Этот Желтов — сосед Карасева. И похоже, что Карасев принимал участие в отправке бандероли. Но бандероль-то отравил все-таки Смородин.
Но стоп! Почему он так уверен в том, что это был Смородин именно из Сосновского, а не другой. И Карасев — парень, которого трудно заподозрить в чем-то. Трудолюбив, культурен, вежлив, к выпивке равнодушен. Вон как дружка своего шибанул за пьянки. Снова приехал сюда и работает на совесть.
И все-таки придется проверять Карасева и его московского соседа Желтова, Ступина, которому отправил посылку Варварин, разыскивать Варварина и Смородина. Осторожно проверять, без шума, чтобы не обидеть напрасно. Но проверять непременно.
5
Вылетая из Москвы, Зубцов надеялся, что сможет найти с Агнией Климентьевной общий язык и, возможно, даже сделать ее своей союзницей. Но то, что удалось уловить при встрече с нею, появление Кашеварова и особенно Потапова поколебало намерения Зубцова и убедило, что разговаривать начистоту опрометчиво.
Преждевременно заводить откровенный разговор и с Аксеновым. Да и нет сейчас его в Октябрьском. Уехал на коллегию министерства, простудился, заполучил тяжелый грипп и неизвестно когда вернется из Москвы.
Отзывы об Аксенове самые лестные, но товарищи из Северотайгинского райотдела подозревают в кражах золота Тимофея Варварина, которому покровительствует Аксенов. Варварин прошлой осенью выехал неизвестно куда. Пришлось объявлять всесоюзный розыск. Дмитрий Ступин, которому Варварин отправил посылку, завербовался в рыболовный флот и промышляет у Огненной Земли.
Московский адресат Григория Смородина, Михаил Желтов, уехал туристом на Кубу. А пока не допрошены Смородин и Желтов, нельзя ничего сказать о роли Карасева. Может быть, он случайно зашел со Смородиным на почту, а может быть, это вообще не Карасев.
Раздумывая об этом, Зубцов закончил зарядку, оглядываясь на дверь, побоксовал подушку, запил кефиром черствую булочку и отправился в областное управление к полковнику Патрину.
Сергей Иванович встретил, как всегда, радушно:
— Хорошо ли отдыхал, Анатолий Владимирович?
— Хорошо, — буркнул Зубцов. — Хотя и устать не с чего. Смотрим, смотрим, а увидеть не можем…
— Эх, кабы могли мы с одного взгляда все рассмотреть, так были бы повсюду тишь да гладь, а мы с тобой хроническими безработными.
— Вот славно бы, пришел с повинной последний неразысканный преступник — и милиция стала безработной. Я переквалифицируюсь в историки. Трактат напишу о борьбе прогрессивных и реакционных тенденций среди дореволюционной сибирской интеллигенции.
Патрин вздохнул:
— Не знаю, что приготовит нам день грядущий, а день минувший принес такие новости: вчера Потапов заходил к Лебедевой. Побыл у нее часа три и уехал на турбазу, где проводит семинар библиотекарей.
— Все у Потапова в ажуре, — отозвался Зубцов. — Но почему он, собираясь на такой же семинар в Тюмень, срочно переиграл командировку и прилетел сюда? Не потому ли, что всколыхнул я его допросом, интересом к Бодылину. Он же сообразил сразу, чем вызван мой интерес. А главное: как вышел на Наследницу? Сам же говорил мне, что дочь Бодылина умерла. Может, он главный в шайке, его сообщники были у Никандрова?… Ох, и глаза у него были, Сергей Иванович, во время нашего разговора! Такая гамма чувств. А с другой стороны, — Зубцов по привычке закружил по комнате, — вроде бы и логично, что приехал в Краснокаменск. Ведь после того не значит вследствие того… Товарищ, которого направляли сюда, заболел. У Потапова в Краснокаменске живут дочь, внуки, он навещал их и раньше. И встречи с Лебедевой естественны: отцы их были знакомы. Но откуда все-таки он узнал про нее? Ладно, через два дня семинар закончится. Посмотрим, как поведет себя Потапов. А пока ждать…
— Совершенно справедливо, товарищ майор, — за спиной Зубцова раздался подчеркнуто внушительный голос. — Генерал Шадричев считает, что нет оснований для изменений тактики. Время решительных действий не наступило.
— На том стоим уже десять дней, — Зубцов растроганно смотрел на Федорина. — Семейство-то видел мое?…
— И не однажды. Между прочим, в Сибири, как в Сахаре, жара, а в Москве дожди. Юрка твой пристрастился сбрасывать сандалии и шлепать босиком по лужам. Нину это приводит в отчаянье. Она уверена: сын получил от тебя порочный генетический код. А вообще-то, просила передать привет и сказать, что все в порядке…
— Спасибо. Если ты уже истощил свое остроумие, расскажи нам с Сергеем Ивановичем о Кашеварове.
— Не так уж много, — Федорин разом отрешился от шутливого тона. — Журналист-профессионал на вольных хлебах. До войны жил в Ленинграде. Всю войну служил в армии, имеет награды. После демобилизации поселился в Москве. Одинок. У него две комнаты в коммунальной квартире. Третью комнату в секции занимает пенсионерка Надежда Алексеевна Завьялова. Ей около семидесяти, в прошлом бухгалтер. У Кашеварова на станции Лосиноостровская скромная дачка. Она замкнута и оборудована сигнализацией. В феврале Кашеваров заключил с журналом договор на статью о сибирском шелкопряде, однако командировку в Северотайгинский район попросил две недели назад, что естественно: зимой шелкопряд в спячке. В издательстве от Кашеварова есть заявка на роман о старой Сибири и сибирской интеллигенции. Подана в июне. Кроме командировки от журнала, он оформил творческую командировку от групкома литераторов для сбора материалов к роману. Так что в Москве у него все в порядке.
— Здесь у него тоже все в порядке, — сказал Зубцов. — Ведет себя, как надлежит в творческой командировке. Побывал в писательской организации, в редакциях газет, в Институте леса, в архивах и музеях, навещает старожилов, иногда рисует на Тополиной улице, но к Лебедевой не проявлял ни малейшего интереса.
— Так, может, и нам к нему — ни малейшего интереса? — спросил Федорин.
— Понимаешь, Эдик, все у Кашеварова в порядке. За исключением мелочей. Заявка подана в издательство в июне, после смерти Никандрова… Или вот… В обществе охраны исторических памятников мне объяснили: наиболее ценные образцы старинной архитектуры находятся на Песочной улице. Кашеваров знает об этом, однако рисует на Тополиной, вблизи домика Лебедевой, хотя резьба там довольно заурядная. Случайностью можно считать и его визиты ко мне. Он каждый вечер рассказывает, чем занимается днем. Не много ли случайностей, чтобы не задуматься о закономерностях?…
— Соседка Кашеварова действительно получала от него телеграмму о растворимом кофе, — рассказывал Федорин. — Я побывал у нее, сказал что издательству необходимо связаться со Степаном Кондратьевичем, а его Краснокаменского адреса мы не знаем. Она показала телеграмму, говорила, что дважды звонили из редакции журнала, интересовались адресом Кашеварова. Секретарь журнала подтвердил, что звонил Завьяловой. Кто был вторым собеседником, пока невыяснено.
— Фоторобот Мамедова не показывали Завьяловой? — спросил Патрин.
— Нет, поостереглись. Но соседям, ребятишкам, постовым милиционерам, регулировщикам, водителям транспорта показывали. Соседям Кашеварова по даче — тоже. Припомнить Мамедова не смог никто. И в районе, где живет Потапов, никто не видел Мамедова.
— Выходит, Мамедов действительно главный? — Зубцов закружил по комнате. — Неужели над ним и за его спиной никого? Или параллельно действуют две группы?
— Разрешите, товарищ полковник? — Капитан Осадчий подошел к столу: — Сегодня утром Потапов опять был у Лебедевой, потом направился в парк, там встретился с Кашеваровым. Встретились как старые знакомые.
— Неужели пересечение? — Зубцов азартно растер лоб. — Первое, за много дней. Интересно, расскажет ли вечером Кашеваров об этой встрече? Мне кажется, Эдик, утром тебе пора в Октябрьской.
— Всегда готов. Документы для меня в порядке?
День клонился к вечеру, когда Зубцову вручили спецсообщение из Москвы.
«В ходе следствия по делу Игумнова произведен обыск в квартире сообщника Игумнова гражданина Сысоева. Изъят золотой слиток весом в 400 граммов с клеймом-печатью Бодылина.
Сысоев показал, что пять дней назад к нему на квартиру пришел незнакомый мужчина лет сорока пяти с условным знаком от Игумнова и предложил купить у него этот слиток. Игумнов категорически отрицает, что направлял кого бы то ни было к Сысоеву. И действительно не ног этого сделать, так как находился под стражей. Сысоев на фотороботе Мамедова не признал. Сысоеву была также предъявлена фотография Аксенова. На вопрос: знает ли он этого человека, Сысоев ответил неопределенно.
В связи с этими обстоятельствами считаем целесообразным ваш выезд в поселок Октябрьский…»
Зубцов, передав документ Патрину, возбужденно сказал:
— Щедрые граждане. Фунтовый слиток…
— Для вящей убедительности Нас прямо-таки заманивают в Москву, услужливо указывают дорогу…
— Не ведут они никуда, дороги-то эти.
— На это и весь расчет. Словом, надо укладывать чемоданы и — в Октябрьский.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
— Лебедева послезавтра вылетает в Октябрьский. Кашеваров тоже купил билет до Октябрьского, — доложил Осадчий.
— Вылетают одним рейсом?
— Он завтра вечером.
Кашеваров вошел по-свойски, шумно отдышался, протер платком потное лицо, сказал с улыбкой:
— Не Сибирь — Африка. Не обессудьте, что поздно. Зашел вернуть долг. Получил вот из Москвы. — И поставил на стол банку растворимого кофе.
— А вы изрядно загорели, Степан Кондратьевич.
— Целый день под открытым небом. То в музей, то в архив, то на Тополиную улицу — бегом от инфаркта.
— На Тополиной-то все шедевры скопировали?
— Так нет на Тополиной шедевров. На Песочной они. Но я ведь приехал не за шедеврами, типичная старая сибирская улица — мне в самую пору.
- И долго еще думаете бегать от инфаркта по Краснокаменску?
— Поспешить надо в Октябрьский. Завтра отбуду. Шелкопряд выходит из коконов, начинается жор. Это мне нужно увидеть своими глазами. Так что надоедаю вам в последний раз. — Он пытливо оглядел Зубцова и заключил дружески: — У меня предчувствие, что судьба сведет нас и в Северотайгинском районе…
— Может статься, что и повстречаемся. Я здесь с инспекторской поездкой.
— Встреча с земляками в такой дальней дали — очень приятна. Сегодня испытал такую радость.
Кашеваров стал неторопливо рассказывать, что в Москве есть у него старинный знакомый, Павел Елизарович Потапов. Подвизается на библиотечной ниве. И вот нежданно-негаданно повстречал он Павла Елизаровича здесь, в парке. Отец Потапова до революции был компаньоном самого Климентия Бодылина…
— Да-с, мир тесен, — заключил Кашеваров философски. — Потапов-то здесь повстречался с дочкой самого Бодылина, Агнией Климентьевной. И сын ее, Аксенов Николай Аристархович, умудрился унаследовать дедовский прииск. Не в собственность, правда, но под свое начало. Встреча с такими людьми. Для моего-то романа!..
Проводив соседа, Зубцов стоял на балконе и раздумывал: не понапрасну ли он насторожен к Кашеварову. Вполне возможно, что все в его устах — сущая правда. И в то же время столичный журналист частенько как бы прощупывает его, их разговоры возвращаются к Бодылину.
Он вернулся в комнату, включил телевизор. Шел концерт самодеятельного хора. Зубцов развернул газету. К хоровому пению он был равнодушен.
— Старинная сибирская песня о Ермаке. Запевает Антон Максимович Овсянников…
Анатолий оторвал взгляд от газеты, прислушался.
— Антон Максимович — один из ветеранов Краснокаменской милиции, начал службу в двадцатом году, вернувшись с фронтов гражданской войны. После Великой Отечественной войны был учителем в сельской школе. В юности полюбил песню, а теперь стал одним из организаторов хора…
Худощавый старичок с седым пышным чубом старательно повел неожиданно крепким басом:
Ревела буря, дождь шумел.
Во мраке молнии блистали…
Дряблая стариковская шея, болезненные подглазницы и горячие, не остывшие с годами глаза.
Зубцов, не дослушав песню, позвонил на студию телевидения.
— Попросите, пожалуйста, товарища Овсянникова после концерта позвонить мне по телефону…
Звонок прозвучал минут через тридцать. Зубцов нетерпеливо схватил трубку.
— Это — Овсянников. — Голос был не такой крепкий, как в песне, а надтреснутый и хрипловатый. — Мне передали номер телефона. С кем имею честь?…
2
— Не думал, не гадал, что встречу вас, Антон Максимович, — повторил Зубцов обрадованно. — Куда я только ни направлял запросы. И в адресное бюро, и в кадры. Ответы, как под копирку: «Не проживает, не значится». «Сведений не имеем». Я и поверил: пропал Овсянников без вести в сорок втором.
Река сонно всплескивала у гранитной стенки. Овсянников стоял, опершись о парапет, стариковская ладошка на сером камне будто выпилена из сосновой коры.
— Пропадал, да вот нашелся… Но вам где же сыскать. Живу в пригородном районе. Сюда наезжаю только на спевки да на выступления хора. А кадровики отставников в таком-то, как у меня не шибко великом звании не жалуют своей памятью, — проговорил Овсянников со вздохом. Потом, словно от забытья очнувшись, продолжал: — Вы спрашиваете меня о Валдисе. Вильгельм Арвидович Валдис был моим начальником, старшим товарищем, уважаемым человеком. Жизнь свою он кончил в схватке с бандитами и похоронен с воинскими почестями. — Он окинул Зубцова острым взглядом и заключил раздумчиво: — Однако же не могу скрыть, что семя сомнений в своей правоте и проницательности Валдис заронил в меня все-таки…
Антон Овсянников не спал третьи сутки. Две ночи просидел в Николиной слободе: брали мокрушника Шишина. Едва доставили раненного в перестрелке бандита в допровскую больницу, как Валдис приказал Антону подменить на дежурстве Федю Сверчкова…
До смены оставался час, тут в дежурку заскочила старуха, закутанная, несмотря на жару, в платок, и спросила:
— Здесь ли, чо ли, имают разбойников?
— Тут, — уныло буркнул Овсянников.
— Слава те! Я, почитай, с обеда тащусь через весь город, управу ищу на татей…
— Да что поделалось-то, гражданочка? — перебил Овсянников. — Только свою фамилию объяви!
— Проколова мне фамилия. Квартирую в слободе, во флигеле, два дома от Бодылинского садоводства. Иду сегодня мимо садоводства, смотрю — калитка нарастопашку и собака воет где-то далеко, ровно по покойнику. Меня будто кто под ребро толкнул: зайди, мол, Власьевна, глянь, что к чему. Вошла, вижу, собака привязана к дровянику короткой цепью. Летник разворочен, дверь напрочь отодрана и крыльцо у дома порушено. Жутко мне стало до невозможности. Сотворила я молитву и на завалинку влезла, стала заглядывать в окошки. Смотрю, а на коврике под образами сам хозяин связанный и убитый, в крови весь… Царство небесное, вечный покой ему, благодетелю нашему…
Овсянников подошел к жестяному рукомойнику, горстями поплескал себе воду на глаза, вышел на крыльцо, скомандовал конюху:
— Запрягай мою оперативную. Происшествие в Бодылинском садоводстве.
В губрозыск Овсянников возвращался под утро. Колеса дрожек по-змеиному шипели в пыли. Тянулись с боку немытые окна магазинов в частой паутине трещин. На пятнистой стене можно рассмотреть облупившиеся буквы: «Торговый дом «Бодылин и сыновья», перед подъездом тумба в лохмотьях старой афиши.
Валдис встретил Овсянникова так, точно ждал в гости. Расстелил на столе газету, принес кипятку, выложил заварку фабричного чаю, полкаравая хлеба, сахарин.
— Ешь, Антон, — отхлебнул чай и спросил: — Ну, что там у Бодылина?
— Ограбление. Убитый он.
— Ограбление?! — Светлые глаза Валдиса сощурились, потемнели. — Что, налет банды?
Овсянников с наслаждением жевал хлеб, не пайковый, пополам с картошкой и жмыхом, а настоящий, домашней выпечки.
— Не было там ни банды, ни налета. Там похитрее было обмозговано. Один человек был у Бодылина. В кухне на столе две стопки, выпивка и закуска. Все чин чином, в аккурат на двоих. В дом его пустил сам Бодылин. Собаку, волкодава этого, мог перевести к дровянику только хозяин. Бандиты, они прежде собаку бы пришибли, чтоб шума не подымала. А тут сам Бодылин подсоблял, человек вошел вполне ему известный.
Валдис, почти не сгибая ног, прошагал по кабинету, остановился за спиной Антона.
— Зачем друг пристукнет своего друга? И как один мог разворочать столько, найти золото и уйти? Банда там орудовала, Антон! Кто-то из них, может, знаком Бодылину, его и пустили вперед для приманки.
«Ну что ты затвердил: банда, банда?… Сам же все напортачил; не отпусти ты Бодылина, не было бы происшествия, и золото лежало бы сейчас в Государственном банке», — думал Овсянников и сказал упрямо:
— По-другому там все было. Когда Бодылина от нас отпустили, кликнул он верного человека или тот сам вышел на купца. И все у них сталося полюбовно. Угостились, и Бодылин ему выдал клад. Потом уж гостенек пристрелил хозяина. На это, само собой, у них не было уговора.
В светлых, водянистых глазах Валдиса свинцовый блеск. Однако начальник, будто от света загородился, прикрыл глаза ладонью, опустился на стул, набил трубку, отфыркал клубы дыма, сказал с усмешкой:
— Может, ты, Овсянников, есть знаменитый сыщик Путилин, Пинкертон, Шерлок Холмс, с одного взгляда проник в тайну и понял все?
Стало обидно от насмешливого тона Валдиса и от того, что тот сравнил его, красного субинспектора, с царскими ищейками и слугами капитала.
— Не я придумал про одного человека. Старуха Проколова видела: крутился там мужик, чернявый, на левый глаз косоватый… А это — приметы Якова Филина…
Валдис настороженно посмотрел на Овсянникова и сказал с укором:
— Ты что, Антон? Разве не ты выписывал препроводиловку для перевода Филина из губернского в Таежинский уездный допр? В Таежинске за Филиным числятся три грабежа, в том числе пристанской кассы. Разве не ты, Антон, подменял на дежурстве нашего самого боевого и опытного инспектора Федю Сверчкова, который уже целую неделю конвоирует в Таежинск Филина и не сегодня-завтра вернется домой? Разве не так?
— Так, — буркнул Антон и смутился: и верно, вышло не очень-то складно. Какой-то старухе поверил, а документам и своим глазам — нет.
— Словом, Антон, составляй рапорт о происшествии. Пиши, как понимаешь, не криви душой. Считаешь, что там действовал один человек, так и пиши. Нам нужна правда. Мы не царская охранка, а рабоче-крестьянская милиция. Но о Филине, послушай моего доброго совета, не вспоминай, наши ребята засмеют тебя: поверил бредням выжившей из ума бабки. А еще лучше, Антон, иди отоспись за трое суток, а рапорт напишешь на свежую голову. Из-за классово чуждого элемента не стоит надсажаться. А золото… Сколько его там, по-твоему, взяли? Пуд примерно. Золото сам и найдешь, когда задержим бандитов. Месяц тебе сроку. Найдешь — заслужишь благодарность рабоче-крестьянской власти…
— И ваши подозрения против Филина не подтвердились? — спросил Зубцов.
— В том-то и штука, Анатолий Владимирович, что и сейчас я не могу ни утверждать, ни отрицать участия Филина. За пять дней до убийства Бодылина Сверчков действительно доставил Филина в Таежинский допр. Однако Филин той же ночью бежал, но куда? Задержан он был в том же Таежинске и неизвестно, выезжал ли в Краснокаменск. Но в жестокости, коварстве расправы над Бодылиным — почерк Филина.
— Что же, Валдис как будто выгораживал его?
— Я этого не утверждал и не утверждаю. Валдис сложил голову в бою. Это забыть трудно.
Едва Антон вошел в здание уголовного розыска, как его вызвал начальник.
— Вы помните, товарищ Овсянников, — холодно начал Валдис, — что после ограбления Бодылина прошло, — он слегка скосил глаза на самодельный календарь, — тридцать два дня, больше месяца!
— Помню, — ответил Антон и горестно вздохнул. В голосе начальника слышалось: «Тюха ты, Овсянников, а никакой не красный субинспектор — гроза пособников контрреволюции».
— В расследовании этого происшествия я дал вам полную самостоятельность и не мешал вам.
«Не мешал, но и пособлял не шибко, — хотел рубануть Овсянников в оправдание себе. — Где бы ни стряслось чего, сразу: «Овсянников, поезжай, разберись». А что ни день — новые происшествия. Об убийстве Бодылина и мозгами-то пораскинуть некогда».
Однако Антон поостерегся высказываться так откровенно. Как ни обиден язвительный тон Валдиса, но крыть Овсянникову нечем. Месяц промелькнул, но ни золото не найдено, ни убийца. Даже и следов никаких. И с обысками по воровским малинам ходил, и скупщиков краденого допрашивал как мог строго, — бодылинское золото растаяло, будто снег весной… А что касается происшествий, так не Валдис же их придумывает, и не один Овсянников в запарке.
Валдис оглядел его пытливо:
— Так где же он есть, тот пуд золота и тот экспроприатор-одиночка?
— Где же ему быть? — Овсянников вздохнул. — Хоронится на хазе. А коли умный, то и вовсе скрылся из города. Может, к границе путь взял. Может, в тайге затаился, ждет, пока все угомонятся…
— Может! Не может!.. Кто ты есть, Овсянников, — красный субинспектор или гадальщик на бобах?
— Не совладать мне одному, нашему губрозыску то есть. Без соседей, без их подсобления нам золото это не сыскать и налетчика не изловить. Надобно всем сибирским розыскам приналечь артельно.
— Артельно! — Валдис фыркнул. — Тебе-то, субинспектору, может, и прилично на всю Сибирь кричать «караул». А мне, начальнику угрозыска, совестно. Скажут, хороша в Краснокаменске революционная милиция и начальник там молодец. Сами палец о палец не ударили, а зовут на помощь: сыщите нам по всей Сибири невесть кого и невесть что. И откуда в тебе, Овсянников, это желание держать ручки в брючки. Нет, ты сам себе набей трудовые мозоли. Говоришь, «на хазе», а ты прошел, проверил эти хазы?
— Кабы знать их все, берлоги эти…
— Хорошо, хоть меня послушал, не написал в рапорте про Филина. Стал бы посмешищем, Филин-то в Таежинске за решеткой…
Овсянников понурился:
— Обозналась, видно, старуха.
— То-то, что обозналась. Где твоя революционная бдительность, Овсянников? А если старуха Проколова в сговоре с бандитами и навела тебя на ложный след? Ты и клюнул на приманку. Скажи спасибо, что я приказал этой старой карге не распускать провокационных слухов. Она бы долго водила тебя за нос, пока вовсе не затащила в контрреволюционное болото.
— Старуха Проколова? Меня в контрреволюционное болото?!
— Стыдно, Овсянников! Враг не спит!.. Кругом враг. А ты берешь под защиту непроверенную старуху. Это же полная потеря классовой бдительности.
Валдис привычно зашагал по кабинету. Поскрипывали начищенные сапоги, туго затянутые ремни портупеи. Сказал с расстановкой:
— Другой начальник угро упек бы тебя под суд революционного трибунала. За халатность, за медлительность в расследовании. Я хорошо отношусь к тебе, Антон, будто к сыну. Возьму твой грех на свою душу.
— Это как? — оторопел Овсянников.
— Прекращать надо, Антон Максимович, дело. Подумай сам. Кто погиб? Наш брат по классу, пролетарий труда? Красный герой? — Валдис пожал плечами, презрительно фыркнул. — И сказать-то противно — Бодылин! Кровосос! Эксплуататор! Да туда ему и дорога. Пристрелили бандиты. Спасибо, пулю нам сберегли. Кабы не золото, мы бы и вмешиваться не стали.
— Так вы же сами, — Овсянников трудно прокашлялся. — Вы же сами говорили: у Бодылина пуды золота А в республике разорение, люди пухнут с голода… А теперь… Ничего не найдя, закрыть дело. И потом… Какой бы он там ни был, Бодылин, пусть и классово нам чуждый, да ведь человек. И убивать его не дозволено никому…
Валдис с недоверчивым интересом окинул взглядом субинспектора от порыжелых сапог до застиранной ветхой гимнастерки и сказал презрительно:
— Ты, Овсянников, не подходишь для нашей работы. Добренький чересчур и классового чутья лишен совершенно. Разве я сказал закрыть дело? Я сказал: прекратить сейчас, — он выделил это «сейчас», — операцию. Хочу помочь тебе, поскольку ты зашел в тупик. И я не сказал; прекратить розыск этого золота. Нам надо быть настороже, и как только бандиты высунутся из укрытия, мы их за ушко да на солнышко. — Валдис потер руки, засмеялся и договорил жестко: — Я хотел по-товарищески помочь тебе. Но ты не хочешь понимать этого. Что же, пиши рапорт, почему провалил операцию. Решим: просто выгнать тебя или под трибунал.
Овсянников живо представил, как его распоясанного поведут под винтовками в трибунал, поежился и подумал, что, может быть, прав Валдис: надо выждать, пока убийца почувствует себя в безопасности.
— Если ваше такое распоряжение, — неуверенно сказал Овсянников, — я могу написать постановление…
— Я не приказываю тебе, а советую, — тихо сказал Валдис. — Дело битое, безнадежное. У нас и так хлопот полон рот. Выноси постановление да езжай в Таежинский уезд. Там убили продовольственного комиссара. Это тебе не бывший человек Бодылин…
— В Таежинске, — продолжал Овсянников, — я пробыл почти год. Пришлось погоняться за несколькими бандами. А когда вернулся в угрозыск, Валдиса уже не было в живых.
— Яков Филин в это время был в заключении?
— Он снова бежал из тюрьмы. Причем бесследно.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
— Пассажир Аксенов Николай Аристархович, вылетающий рейсом до Краснокаменска, вас просят подойти к справочному бюро…
Мужчина за ресторанным столиком отодвинул от себя бутылку пива и неспешно двинулся к дверям. На ходу стало видно, что он высок ростом, плотен и проход между столиками тесноват для него.
— Я Аксенов Николай Аристархович.
— Вас просили позвонить по этому телефону.
Телефон начальника главка. Он недоуменно пожал плечами и торопливо направился к телефону-автомату.
— Здравствуйте, Вадим Павлович. Это — Аксенов.
— Привет, Николай Аристархович. Я считал, что ты уже паришь где-то за Волгой. Но на всякий случай позвонил в порт. Каких, думаю, чудес не бывает в природе и в Аэрофлоте. И точно. Вылет задержали. Считай, нет худа без добра… На коллегии мы разговаривали о лучших формах хозяйственных объединений. Зашла речь и о твоей идее собрать Северотайгинские рудники и прииски в комбинат на полном хозрасчете. Новые формы управления — проблема не простая. Нужен в главке человек, который всецело был бы занят этими вопросами. Прикинули возможных претендентов, решили, что лучшего, чем ты, не сыщем.
— Спасибо, — сказал Аксенов растроганно.
— Может быть, сдашь билет, задержишься на недельку в Москве? Глядишь, все и решится…
Аксенов на мгновение отстранил трубку, ворвался в уши рев авиационных моторов на летном поле. Вспомнился разговор с Настей по телефону: «Папка, я соскучилась по тебе. У меня такие новости… Ты не забыл, что через неделю мой праздник?…»
Нет, он не забыл. И твердо сказал в трубку:
— Спасибо за высокую честь, Вадим Павлович. Но я полечу домой. Надо посоветоваться с дочерью. Она у меня — глава семейства…
На привокзальной площади включили освещение. Вокруг светильников роились ночные бабочки. Смыкались в темноте купы деревьев. За ними небо смотрелось словно бы предрассветным — там была Москва.
Жена Аксенова, Наташа, частенько повторяла:
— Хочу жить в Москве. Готова в одной комнатушке в коммунальной квартире. Ну почему у тебя такая кошмарная профессия? Есть же нормальные люди — архитекторы, асфальтировщики, вагоновожатые. У них работа в Москве. А ты…
— А я, говоря по-старинному, золотоискатель. И обязан жить и работать там, где добывают золото.
— Значит, пожизненно обитать в тайге и ездить на собаках?
— Ну отчего же пожизненно? Золото найдут, например, а Кызылкумах. Можно жить в пустыне и ездить на верблюдах…
Давно утихли их споры. На реке Раздольной перевернуло лодку. Наташу даже не нашли… Как радовалась бы она сейчас переезду в столицу…
Мать тоже обрадуется. Она давно твердит: «Я не понимаю тебя, Николай. Каким ты видишь будущее Насти? Пора серьезно подумать о ее образовании. Или ты уготовил ей участь купринской Олеси?…»
Мать обрадуется перемене в судьбе Насти. А сама Настя? Как приживется она на московском асфальте, вдали от приискового пруда, сопки Ягодной?…
Настя говорит, что, когда ясно осознает свое призвание, будет учиться заочно: отца без своего догляда не оставит. Но теперь-то в Москве вместе…
А ты, Николай Аксенов, так ли уж ты жаждешь переезда?
Конечно, в Москве откроются новые перспективы, иной простор. Простор… И явственно, точно он действительно видел их сейчас, встали перед глазами цепи таежных сопок, сыростью задышали лога и межгорья, река Раздольная ослепила кипением бликов…
2
— Отправление самолета рейсом до Краснокаменска задерживается по метеорологическим условиям, — объявил диктор.
— Как долго может держаться грозовой фронт? — произнес рядом женский голос.
Аксенов, не отрываясь от журнала, чуть скосил уголок глаза. Через кресло от него сидела женщина. В глазах Аксенова зарябило от ее ярко-красного свитера, васильковых брюк и болотного цвета сумки. Но он все же отметил и молодость соседки, и ее привлекательность, и обращенный на него выжидающий взгляд. Аксенов слегка подался к соседке и осведомился:
— Простите, вы что-то сказали?
— Я сказала… Николай Аристархович, долго ли будет держаться грозовой фронт, из-за которого задерживают наш рейс? — Она говорила чуть нараспев, покачивая в такт словам высокой прической. Аксенов озадаченно посмотрел на нее. Она засмеялась.
— Ваше инкогнито, Николай Аристархович, раскрыл диктор. Я стояла у справочного бюро, когда подошли вы. Как видите, никакой мистики.
— Что ж, самые сложные вопросы чаще всего имеют простые ответы. — Аксенов улыбнулся смущенно: совсем обирючился в тайге, непринужденного разговора не можешь поддержать с интересной дамой. Права мать: «Нет в тебе ни грана ни лоска, ни светскости, в кого ты только задался таким мужланом?»
— Извините, но я даже понаблюдала за вашей мимикой в телефонной будке. Мне показалось, вы были взволнованы. Близкая московская знакомая, — она подчеркнула эти слова, — давала вам последние наставления перед возвращением к супруге? — улыбнулась поощрительно.
Аксенов нахмурился, но тотчас же усмехнулся: ее намеки ничуть не оскорбительны. Она видит в нем не старого и даже привлекательного мужчину. А почему бы и нет, черт возьми! Ведь ему еще и пятидесяти нет. Но и выставлять себя перед нею этаким командированным хлыщом было непривычно и неловко.
— Волнение, пожалуй, вы подметили правильно. Звонило начальство.
— Следовательно, ЦУ перед возвращением… на рудник Октябрьский, — она заглянула ему в глаза наслаждаясь его недоумением и весело посмеивалась: — Шапка управляющего рудником не легче шапки Мономаха… И опять, Николай Аристархович, никакой мистики. На Октябрьском второй год работает в старательской артели мой двоюродный брат Глеб Карасев.
— Карасев?… Старатель?… Нет, не припоминаю.
— Естественно. Он рядовой рабочий. А вы… Дистанция, как говорится… Но я слышала про вас от Глеба. — Она пересела в кресло рядом с Аксеновым. — Я — Елизавета Ивановна Гущина, москвичка, младший научный сотрудник. Глеб так восторженно расписывает ваши края. Набралась смелости и решила взглянуть своими глазами. — Она с подчеркнутым интересом засмотрелась на объемистую сетку Николая Аристарховича, заполненную свертками, и заметила с улыбкой:
— Столичные гостинцы для верной Пенелопы.
— Жена погибла. Утонула. Уже пятнадцать лет.
— Простите. — Она мягко коснулась своими прохладными пальцами его руки. — У вас не найдется сигареты?
Николай Аристархович с готовностью протянул ей пачку, щелкнул зажигалкой. Она взяла его за руку, приблизила к себе колеблющийся огонек.
— Дочь у меня, знаете, Настя. Главнокомандующий нашего мини-семейства. Над подарками для нее голову поломать пришлось изрядно. С ног сбился, пока подыскал для нее снаряжение для подводного плавания и отличную «тулку». Двадцать лет девице…
Елизавета Ивановна улыбнулась недоверчиво.
Глеб Карасев прошлой зимой в Москве не раз то почтительно, то с иронией рассказывал о мрачноватом управляющем рудником. И вот полчаса назад, случайно повстречав Аксенова у справочного бюро, желая скоротать затянувшееся ожидание вылета, она решила помистифицировать этого солидного, уверенного в себе человека. Сейчас она с любопытством приглядывалась к своему собеседнику. Красавцем его не назовешь. Да и возраст. Как выражается Глеб, второго срока службы… Не стар, конечно. Но волосы — уже чернь с серебром. Лицо крупное. Тяжелый подбородок. Глаза серые, такие же, наверное, как небо там, в Сибири, смотрят совсем не по-стариковски…
Интуиция подсказывала Елизавете Ивановне: он заметил ее. Что ж, как говорится, еще один: мужики, особенно в годах, любят пялить глаза на молоденьких…
Ей были приятны его внимательный взгляд, грустно-растерянная улыбка и чуть глуховатый голос. И почему-то подумалось, что рядом с ним, наверное, не очень весело, но зато тепло и спокойно.
Ей всегда так не хватало спокойствия. С Гущиным его не обретешь. Оставил отличную должность на спецобъекте, устремился чуть ли не лаборантом, но в науку. Наспех собрал чемодан и отправился в «море-окиян» на «Витязе». На полгода!
А какое спокойствие рядом с Глебом, если… И зачем только в прошлом году, когда застала его за выплавкой самодельной пластины, она не сказала ему решительно «нет». Промолчала, сделала вид, что не поняла, не догадалась. А Глеб неизвестно почему перестал отвечать на письма. Наверное, она поступила по-бабьи, когда решила лететь невесть куда и зачем. И может быть, перст судьбы в том, что встретила Аксенова.
— И все же парадоксально, — сказала она, думая о своем. — Девушке — ружье?…
— Наверное. — Аксенов пожал плечами и неуверенно предложил: — Может быть, пока держится грозовой фронт, мы пойдем в ресторан и поужинаем?
Елизавета Ивановна молча поднялась, решительно надела на плечо свою болотного цвета сумку и взяла Николая Аристарховича под руку.
3
Федотыч, моторист рудничного катера, обернулся к Насте и Глебу, приглашая к беседе:
— Долго нынче держится коренная вода. Но уж зато травы на островах будет укосно. Замочило так, что еле-еле лозняк над водой мельтешит.
— Красиво! Краски-то какие… — воскликнула Настя и не спускала взгляда с раздавшейся вширь реки, с островов с выступавшими над водой кустами, точно крышами града Китежа.
— Рассвет в самой силе, вот небо и полыхает, — подхватил Федотыч обрадованно, будто он сам разлил по воде и тайге эти краски.
Макушки сопок словно бы разрумянились ото сна. Шаром налились облака и поползли в реку в поисках прохлады, и река подернулась розовой рябью.
«Совсем как на пруду в то утро», — Настя посмотрела на Глеба. Он поднял глаза на Настю. И ей показалось: в них тоже плескалась вода. Скулы его порозовели. «Он помнит то утро», — обрадовалась Настя.
— А раньше я любила желтый цвет.
Глеб рассмеялся с вызовом, дерзко, как бы желая стряхнуть с себя оцепенение, и сказал:
— Классический цвет измены.
— Такую нелепость мог распустить по свету лишь очень мрачный человек.
Настя горячо заговорила о том, как жаль ей незрячих людей, кого оставляет равнодушными желтизна сентябрьского леса, подсолнух над плетнем огорода, капля янтаря на морском песке, сгустки меда в зеленоватом воске сот, солнечный луч в траве…
А Глеб впервые разглядел золотистые точечки в ее глазах, желтые крапинки веснушек. Ему захотелось тотчас же сказать об этом Насте, но он подавил это желание, вспомнив циничную тираду Шилова: «В мире есть единственная реальная ценность — золото!»
Глеб наклонил голову и сказал:
— Если уж честно, то всем цветам я предпочитаю фиолетовый… Ночь, предгрозовье, снега из окна вагона. И ночное море. Я очень любил слушать его. Я различал в его гуле то стоны погибших, то голоса надежды…
Глеб замолк. Аркаша Шилов, доведись ему услыхать все это, от души бы повеселился над «карасями-идеалистами», но остался бы очень доволен. Шилов еще вчера поучал: «Девки, они с чего начинаются? С ушных раковин да еще с сердчишка, которое прямо-таки изнывает от желания отогреть чью-то заблудшую душу. Так что ты, главное, капай ей на мозги насчет своих порывов, которые-де вдребезги расшибаются об острые углы бытия. Их, девок, хлебом не корми, только подкармливай байками. И все. И она — твоя…»
— Разве ты жил у моря?
Он не любил рассказывать об этом, был убежден: с родителями ему крепко не повезло. Даже на вопросы Лизы отвечал неохотно. Однако Настя смотрела на него с таким искренним интересом и сочувствием…
…Прохладное северное море. Серо-зеленые волны с ревом рушатся на моторку, норовят захлестнуть ее, зашвырнуть к береговым соснам. Загорелые, в синих змейках татуировки, руки отца крепко держат штурвал. Ветер треплет бронзовый чуб, офицерская фуражка с малиновым околышем чудом держится на затылке. И Глебу кажется: моторка летит навстречу погрузившемуся в море солнцу. Отец выключал мотор, мечтательно говорил:
— Подрейфуем. Доверимся Посейдону. Авось он не проткнет нам днище трезубцем. — Отец ложился на дно лодки, смотрел в небо, по которому быстро, словно кто его чернилами заливал, растекались фиолетовые разводы. — И через тысячу веков море останется таким же, как при Магеллане, Колумбе, Беринге. Так же будут реветь волны, водоросли пахнуть йодом. Нигде человек не соприкасается с природой так близко, как в море.
— Почему ты не стал моряком? — спросил Глеб.
— Родился-то я в Миргороде. И хотя там, кроме воспетой Гоголем лужи, других водоемов не водится, спал и видел себя на мостике корабля. Но война стояла на пороге, определили меня в пехотное училище. И стал я подданным «царицы полей». Хорошо еще, что назначили в приморский гарнизон.
Вскоре они простились с морем и с плаваниями под звездами. Отца с повышением перевели в московский гарнизон. Мама радовалась:
— Я разобьюсь в лепешку, но сделаю так, чтобы твои однополчане, Костя, говорили о нашем доме как о самом гостеприимном.
По вечерам у них частенько собирались гости. Чаще других наведывался «по-холостяцки, на огонек» начфин части Владимир Прохорович Карасев.
Глеб чувствовал: отец не любит этого тучного человека. Зато мама, едва Владимир Прохорович переступал порог, краснела и становилась очень суетливой. И Глебу почему-то делалось стыдно.
Однажды Глеб забежал в комнату и увидел, что отец бьет маму. У отца было бледное, незнакомое лицо. Губы вздрагивали и прыгали, будто отец плакал. Мама увертывалась от ударов, пронзительно выкрикивала:
— Ты этим ничего не докажешь! Ты стал мне еще противнее!
Наверное, маме было больно. Но Глебу стало жаль отца и хотелось заступиться за него.
Отец стал надолго исчезать из дому. Возвращался всклокоченный, с опухшим лицом. Однажды его не было почти неделю. Мать сердито говорила:
— Искать не станем. Спивается.
Но он вернулся. Бочком проскользнул в дверь, остановился, осмотрелся, точно попал в незнакомое место, и пролепетал заплетающимся голосом:
— Нет больше подполковника Надеждина. Все. Демобилизовали.
— Достукался, — зло сказала мама и стала швырять в чемодан вещи отца.
— Нет! Нет! Не пущу! — закричал Глеб и вцепился отцу в колени.
Отец провел рукою по его волосам.
— Я вернусь за тобой, малыш, — хрипло сказал он, втянул голову в плечи и шагнул за порог.
Через несколько дней мать и Владимир Прохорович пришли нарядные, с букетом цветов. Мать ласково сказала Глебу:
— Ты уже большой, все понимаешь. Теперь твоим папой будет Владимир Прохорович Карасев…
А вскоре мама вернулась домой такой расстроенной, какою Глеб не видел ее никогда
— Константин Иванович Надеждин, — начала она с порога, — оказался верен себе. Не хватило силы воли дотянуть даже до совершеннолетия сына. Утонул на своей тарахтелке. Теперь будем получать на мальчика очень небольшую пенсию. Наше материальное положение сильно ухудшится.
Их материальное положение, видимо, ухудшилось не настолько, чтобы отложить намеченную на осень поездку в Сочи. У лесенки вагона Глеба обняла низенькая старушка. Глеб испуганно вертел головой, уклоняясь от ее поцелуев, а она повторяла:
— Глебушка! Внучек! Какой ты большущий!
— Здравствуйте, Елена Андреевна! — сказала мама. — Вам не кажется, что вы травмируете ребенка? — И объяснила Глебу: — Это твоя бабушка — баба Лена, мама твоего первого отца.
Мама и Елена Андреевна отошли в сторону, до Глеба донеслись обрывки фраз:
— Нет, нет, Елена Андреевна, — говорила мама непреклонно. — Это невозможно. Глеб — мой любимый сын. И Владимир Прохорович так привязан к нему…
— Но Глеб для меня — единственная память о Костике. К тому же здесь юг, море.
— Конечно, юг для здоровья ребенка… — начала мама неуверенно.
Теперь Глеб жил в маленьком домике с застекленной верандой, затянутой зеленой шторой винограда. Можно было часами лежать на горячем галечнике и слушать, как шумит пляж, перекликаются огромные, будто айсберги, теплоходы, смотреть, как погружается с пустого неба в морскую пучину солнце. Море вспыхивает на мгновение и сразу же заполняется фиолетовой стынью. И в тот же миг, точно кто-то включает их, как светильники на бульваре, загораются звезды.
Однажды на берег прибежала соседка, с трудом перевела дух, крикнула:
— Пойдем, Глебушка! Бабушка умерла.
Через неделю Глеб снова был в Москве. Владимир Прохорович без улыбки оглядел его, потянулся потрепать по волосам, но раздумал:
— Большой какой стал. Хотя, само собой, под южным солнцем… У тебя здесь народилась сестренка Светланка. Станешь водиться с нею. Матери надо на работу. Нам остро не хватает денег. У каждого в доме должны быть свои обязанности…
Зачем он рассказывал все это Насте? Идиотская сентиментальность, и только. Чистенький домик под южным небом, вздохи отца о вечности моря и даже Лиза с ее хмельным шепотом по ночам и трезвым взглядом на жизнь в таком далеке, что, может, все это пригрезилось ему во сне…
4
Но что это? Тоже сон? Глеб косился по сторонам, желая убедиться в реальности происходящего.
По береговым крутоярам — непролазное чернолесье. Летное поле аэродрома — в рысьих зрачках ромашек. Небо перечеркнул крест антенны домика аэровокзала. А по ступенькам трапа отстукивала каблучками, приближалась к дорожке, на которой стояли Глеб и Настя, Елизавета Ивановна Гущина.
Бежать! Махнуть в реку. Провалиться сквозь землю! Глаза Лизы сузились, потемнели. И ее взгляд, строгий и удивленный, остановился на Глебе. А пальцы Насти, ласковые и нетерпеливые, охватили запястье Глеба и потянули вперед.
— Ну, что ты, Глеб, как вкопанный?! Нельзя быть таким робким. Отец очень простой. Я уверена, вы понравитесь друг другу.
Не выпуская руку Глеба, она другой рукой обняла отца и горячо зашептала:
— Папка! Родной, здравствуй! Это — Глеб Карасев. Понимаешь! — Настя округлила глаза и многозначительно пояснила: — Ну, он мой друг и поет в нашем клубе. — И вложила руку Глеба в руку отца.
— Глеб Карасев, говорите? — у Глеба зазвенело в ушах: таким зычным ему послышался бас Николая Аристарховича. — Рад знакомству очень. Сестра твоя, Елизавета Ивановна, всю дорогу только и рассказывала о тебе. Елизавета Ивановна, да где вы?
— Я здесь! — почти пропела Лиза, выступая из-за широкой спины Николая Аристарховича, коснулась руки Насти, ласково покивала ей, обняла Глеба, приблизила его к себе, крепко расцеловала и сказала не то наставительно, не то предостерегающе:
— Здравствуй, братец! Тебя, Глебушка, не сразу и узнаешь без бороды… Вот и я. Приехала посмотреть на твою возлюбленную… Сибирь. Значит, ты получил мою телеграмму? Я боялась, что не поспеет…
— Я не получал твоей телеграммы, Лиза. И я не встречал тебя. Я ничего не знал о твоем приезде.
— Я в один день изменила свои планы отдыха и решила погостить у тебя. Ты не рад моему приезду, мой милый двоюродный братишка? Ты же давно приглашал меня, не так ли?
— Так, — обреченно подтвердил Глеб.
— Телеграмма не телеграмма. Встречал не встречал, — весело сказал Аксенов. — Важно, что встретились и все вместе… — И, взяв Настю и Лизу под руки, повлек их за собой к выходу.
«Милый двоюродный братишка!..» Зачем понадобилась ей эта комедия? — недоумевал Глеб, шагая следом. Он был зол на Лизу за ее ложь и благодарен ей за нее: эта ложь оказалась спасительной. А что, если взять билет до Краснокаменска, и пусть все останется за бортом. И угрозы Шилова, и нелепое это пение, и выламывание перед Настей, и эта пикантная Лиза, невесть зачем свалившаяся как снег на голову…
Нет, к черту камень на шею, к черту побег. Глеб не предаст Настю, тем более сейчас, когда рядом с нею выстукивает каблучками не меньший, может быть, враг, чем Аркашка Шилов, Лиза не пощадит Настю. Ведь она явилась сюда, чтобы утвердить свои права на него, доказать ему свою любовь и потребовать платы за нее.
Это она, Елизавета Ивановна Гущина, благословила его поездку в эти гибельные места. Узнав правду, напустила на себя вид, что не поняла ее, восхищалась щедростью Глеба, ввела в круг своих друзей. Они пили в ресторанах на деньги Глеба, не спрашивая — откуда у него столько денег? Наверное, они правы: интеллигентные люди, как пробросила однажды Лиза, не спрашивают, откуда у человека деньги. Ради Лизы Гущиной он вновь явился сюда ловить жар-птицу удачи. А поймали его, Глеба. Поймал Аркадий Шилов. Да на такую блесну, что и выпустить жаль, и заглотнуть боязно…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Улицы поселка медленно погрузились во мглу, и молодой месяц в черном небе не высветлил дорогу. Где-то вдалеке всхлипнул и сразу умолк баян. Поселок Октябрьский отходил ко сну.
В доме подполковника Лазебникова стояла тишина.
Он собрался лечь спать, но во дворе скрипнула калитка, предостерегающе зарычал Туман.
Лазебников нахмурился: с приятными вестями в полночь к начальнику райотдела внутренних дел не пойдут.
— Сидеть, Туман! — скомандовал Лазебников и пригласил: — Кто там, проходите. Собака не тронет.
К Лазебникову быстро подошел высокий мужчина.
— Василий Васильевич? — спросил он. — Я — Эдуард Бочарников, спецкор областной газеты.
— Прошу, прошу. С утра поджидаю вас.
Лазебников с любопытством оглядел гостя. Темные глаза Бочарникова из-под щеточек бровей словно бы приценивались к собеседнику.
— Мы с вами незнакомы, Василий Васильевич. Так что позвольте представиться по всей форме. — Он подал Лазебникову удостоверение в красной обложке.
— С Петровки, значит, Эдуард Борисович, — сказал Лазебников не без ревности. — Прибыли показать нам, грешным, столичный класс работы. Ну-с, какие новости?
— Новости обнадеживающие. Желтов возвратился с Кубы, бандероль из Сибири от Григория Смородина получил. Хотя и не был с ним знаком. Познакомились позднее, когда Смородин — и снова не с пустыми руками — прилетел в отпуск в Москву. Желтов не прикасался ни к бандероли, ни к «гостинцам» из тайги, ожидал, пока явится хозяин. Хозяин — Глеб Карасев, его сосед и в прошлом одноклассник. О том, что пришлет посылки, Карасев предупреждал Желтова перед отъездом.
— Все-таки Карасев! Мы-то думали на Варварина. — Лазебников, давая выход возбуждению, заходил по комнате. — На Карасева, правда, сразу обратили внимание, но отзывы о нем самые лестные, и вообще у нас пока нет доказательств, что он крадет золото…
— Это и сейчас пока не доказано, — подчеркнул Бочарников. — Я случайно видел Карасева на аэродроме. Он производит благоприятное впечатление. Попробую завязать с ним контакты, мы ведь с Карасевым соседи по общежитию. Ваша первая задача найти Смородина.
Лазебников усмехнулся:
— Наш лейтенант Локтев отыскал его на прииске Сосновском. — И не удержался, похвастал:- Это только так говорится скромно — район. А район-то по территории обширнее иной области в Центральной России. Да еще бездорожье и не очень надежная телефонная связь… Но как бы там ни было — нашли. Завтра пошлем Смородину повестку.
— Не надо повестки. Прилетит сюда майор Зубцов, съездит к нему. А пока условимся: для всех, в том числе и для ваших сотрудников, я — корреспондент областной газеты, приехал писать очерки о старателях…
2
По травянистому взвозу улица спускалась к реке. В зеленоватой воде раскачивались и морщились плоские отражения домиков. А на другом берегу тайга спускалась к реке, будто искала брод. Клинышек неба над котловиной был пустым и бесцветным. Край света…
«Хвастают еще сибирским простором, а ровного места не сыскали для поселка, — подумал Зубцов и вспомнил дорогу в Сосновский — крутые подъемы на взгорья, обвальные спуски в разломы и усмехнулся, — впрочем, где оно тут есть, ровное место?»
Природа словно с умыслом, чтобы взвинтить цену на золото, а может быть, прозорливо, чтобы уберечь людей от соблазнов «желтого дьявола», расшвыряла, рассыпала крупицы драгоценного металла в самых гиблых краях. Захоронила золото в ледяных подземельях Аляски и Колымы, погребла в раскаленном чреве африканских и азиатских песков, утопила на дне гремучих речек, укутала сумраком таежных урочищ.
Но человек, движимый то вдохновением рудознатца, то неуемной алчностью и слепой верою в шальной фарт, пешим и конным, на собаках и на верблюдах дотянулся до заповедных мест…
Смородин вошел без стука, окинул взглядом Зубцова, потом щербатые стены кабинетика участкового инспектора, письменный стол с продранным зеленым сукном, немытый графин на облезлом сейфе и слегка скривил губы.
«А ведь прав он, черт возьми, — с досадой подумал Зубцов. — Когда только покончим с таким убожеством?
Уважение к милиции — понятие многозначное».
— Смородин Григорий Кириллович?
— Да, — парень наклонил голову. — Участковый сказал, что меня приглашает офицер из военкомата.
Говор у него был певучий, с мягкими протяжными «а». Говор потомственного москвича.
— Да, я поджидаю вас. Садитесь, пожалуйста.
Смородин расстегнул клетчатый пиджак, не спеша сел. Теплым глянцем отливали его желтые летние туфли и медные пуговицы на пиджаке.
«Силой ты не отличаешься, — глядя на его запавшую грудь и узкие плечи, отметил Зубцов. — Но, конечно же, слывешь среди сосновской молодежи законодателем мод. И пиджак-то у тебя в «оксфордскую клетку», и в парикмахерскую ты не считаешь за труд съездить за сто километров в Октябрьский. Здешний цирюльник тебе так локоны не накрутит. А может быть, парикмахерская, ателье, магазин — всего лишь повод?»
— Вы, кажется, москвич? Не скучаете по Москве? Край здесь довольно суровый.
— Скучаю? — переспросил Смородин небрежно. — Я мечтал о такой жизни. Суровая природа, здоровый труд на свежем воздухе. Простые, естественные отношения.
— Разве естественность отношений — это географический фактор?
— Но, согласитесь, в Москве — тьма условностей. Прав был старик Руссо, когда призывал к простоте, к чистоте и ясности нравов. — Он сделал паузу, давая возможность оценить оригинальность и благородство своих суждений. — А что вы агитируете за Москву? Предложите поступить в одно из московских военных училищ?
— Я не из райвоенкомата. Я — старший инспектор министерства внутренних дел майор Зубцов Анатолий Владимирович. Приехал из Москвы для того, чтобы встретиться с вами.
Смородин сел прямее, скривил губы, как тогда, когда осматривал комнату, и сказал с колючей усмешкой:
— Чем же это я так знаменит, что для встречи со мной надо лететь двумя самолетами и выдавать себя за работника военкомата?
— Вы тоже летали в Москву двумя самолетами…
— А что здесь криминального? Домой ведь. А не за тридевять земель… Летал навестить больную мать.
Зубцов вздохнул и сказал:
— Правильно, мать болела. Но ведь вы не только ухаживали за ней, вы встречались с приятелями, заводили новые знакомства.
— Следили, что ли, за мной? Или кто из моих друзей привлек ваше внимание?…
— Человек, которому вы позвонили с аэродрома, назначили свидание и условились, что он узнает вас по цветной косынке на шее. А за три недели до встречи, когда он и не подозревал о вашем существовании, вы отправили ему посылку с довольно ценным подарком…
— Ах, вы о Желтове. А я-то слушаю, слушаю… — Смородин засмеялся и, нанизывая подробности, стал рассказывать, как еще в школе мечтал о мотоцикле с коляской. Но не было денег. А теперь, когда появились, не вдруг достанешь мотоцикл. В прошлом году в Сосновской чайной он познакомился со студентом Павлом из строительного отряда, тот вызвался помочь. В Москве у Павла есть друг, Михаил Желтов, который может достать мотоцикл. Павел собирался в Москву, однако у него на Дальнем Востоке умер отец. Павел улетел на похороны и не успел отправить Желтову купленный для него транзистор. А Григорий как раз ехал в Октябрьский к зубному врачу, вот и вызвался отправить приемник. Вскоре Григорию сообщили о болезни матери, и пришлось срочно вылететь в Москву. Он позвонил из Домодедово Желтову, договорился о свидании. При встрече подарил Желтову кедровые шишки. Потом посидели в ресторане, обмыли знакомство…
— Фамилию и адрес Павла позабыли, конечно?
— Не знал никогда. Я ему — Гриша, он мне — Павел, и точка. Не заполнять же анкеты. Не принято это в нашем возрасте. Верим в человека и ценим таким, каков он есть…
— Очень похвальное качество. — Зубцов усмехнулся. — Мне, к сожалению, придется выяснять у Желтова, есть ли у него приятель Павел. Если окажется, что действительно есть, искать Павла, который в прошлом году вылетел из строительного отряда на похороны отца на Дальний Восток. Искать и проверять ваши показания…
— Пожалуйста, — чуть помедлив, сказал Смородин.
— А к зубному врачу, наверное, так и не успели попасть в тот день, задержались на почте?
— Отчего же? Запломбировали зуб в районной поликлинике. И даже в карточку записали об этом.
«А ты совсем не наивен, Григорий Смородин, — думал Зубцов. Гвоздили, видно, тебя крепко эти посылочки. Грыз тебя страх. Вот и насочинял версию. Совсем не исключено, что вы договорились с Желтовым пустить нас по следу мнимого Павла. Заранее ясно — никакого Павла нет, но пока изобличишь их во лжи, сколько времени утечет. И о Карасеве ловко умолчал, даже намека на него не бросил…»
Смородин вольготнее откинулся на спинку стула:
— Надеюсь, исчерпали свои вопросы?
— Нет, осталось еще несколько, — простецки возразил Зубцов. — Транзистор на почте вы отправляли один или с кем-нибудь из приятелей?
— Мрачная у вас профессия, — Смородин осуждающе покачал головой.
— Что поделаешь? — кротко сказал Зубцов. — Работа, конечно, не из приятных. Но общественно нужная. На то и щука в море, чтобы… Карасев не дремал.
Смородин выпрямился, рука метнулась в карман, извлекла носовой платок. Не разворачивая платка, он потыкал в щеки, в лоб.
— Почему Карасев? Причем здесь Карасев?
— Просто к слову пришлось, — отозвался Зубцов весело и прихлопнул ладонью по столу, будто точку поставил. — Но вы отвлеклись от вопроса: не был ли с вами на почте кто-либо из ваших приятелей? Бандероль отправлена пятого августа прошлого года.
Жидкие, светлые ресницы Смородина дрогнули, словно ему соринки попали в глаза. Но он холодно улыбнулся и сказал осуждающе:
— Далась вам эта бандероль… Ни соболя, ни норку я не отправлял. Отправил транзистор, они пылятся на полках здешнего раймага, а в Москве их нет. Если бы знал, что попаду под следствие, я бы запасся свидетелями. Но у меня их нет. Мне кажется, это говорит в мою пользу так же, как то, что обратный адрес я указал свой.
— Значит, кроме приемщицы, не было никого?
Смородин снова потыкал платком в лоб.
— Подходил ко мне какой-то бородач, включал приемник, проверял, что он берет здесь. Это может подтвердить приемщица.
— Она уже подтвердила. Почему же вы упорно молчали о бородаче?
— Не хотел навлечь подозрения на человека, которого не знаю и которого вам невозможно найти. Изменчивая примета. Побрился и уже не бородач.
— Верно. Тем более, что он действительно побрился.
— Кто он? — Смородин зашелся кашлем.
— Он — это Карасев.
Смородин, еще не унявший кашля, замахал руками, как бы отшвыривая слова Зубцова, сказал сердито:
— Что вы пристаете ко мне с каким-то Карасевым? Пусть он хоть… оскопится. В чем меня обвиняют, гражданин следователь? Так вас, кажется, положено называть? Или гражданин начальник?
— Так сразу и гражданин, — Зубцов покачал головой. — Нервничаете излишне. Я приехал сюда потому, что здесь совершено преступление. И вы имеете к нему касательство.
— Какое преступление? Какое касательство? — голос Смородина сорвался на фальцет.
— Не надо, Смородин! — Зубцов чуть возвысил голос. — Пощадите свое человеческое достоинство. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Прекрасно знаете Карасева. Но молчите о нем. Придумываете мнимого Павла и молчите о том, что Карасев не просто присутствовал на почте, а контролировал отправку приемника, который принадлежит ему. И кедровые шишки, которые вы отвезли в подарок Желтову, дал вам тоже Карасев. И с Желтовым вы познакомились потому, что так надо было Карасеву. Они с Желтовым соседи и одноклассники. Между ними была договоренность об этих посылках. Забрал он у Желтова и транзистор, и шишки. Желтов подтвердил, что получил посылки и не от какого-то студента Павла, а именно от Карасева через вас. Дело тут вовсе не в приемнике и шишках, а в том, что они скрывали в себе, в начинке…
— На какую начинку вы намекаете? — спросил Смородин с усилием.
— Самородки. Золотые самородки, — Зубцов рисковал: не исключено, что самородков все-таки не было или что Смородин впервые слышит о них.
Но Смородин сидел, зябко съежившись, локти упирались в колени, ладони прикрывали веки.
«Попал точно в десятку!» — с облегчением отметил Зубцов и сказал убежденно:
— Я хочу понять: почему вы стали курьером Карасева, прикрытием для него. Я не верю в то, что вы — закоренелый преступник, но не могу поверить и в то, что вы — лишь слепое орудие в руках Карасева.
Смородин тяжело, будто спросонок, зашевелился:
— Правильно. Я не слепое орудие. Но и не предатель. Я не хочу быть виновником несчастий для Глеба, а возможно, и его гибели. Это ведь не моя тайна…
«Все-таки я не ошибся в тебе. Был бы ты вором, не ломал бы голову над этическими проблемами, об одном бы заботился — спасти свою шкуру», — одобрил Зубцов и, переходя на доверительное «ты» возразил:
— А Карасев тебя сколько раз предал, когда втянул в свою авантюру?! А себя, самого себя, будущее свое, Карасев не предал?! Ты говоришь: не хочешь предавать его, но ты уже предал. Когда узнал о его секретном промысле и не схватил за руку, не пришел к нам за помощью, а стал помогать ему. В чем помогать-то? В преступлении! В позоре! Эх, Смородин! А считаешь себя другом Карасева и порядочным человеком…
3
В июне прошлого года Григорий Смородин отпраздновал два радостных события: получение аттестата зрелости и свое восемнадцатилетие. Дедовской постройки, дом в Филях едва вместил родичей и знакомых. Наутро Григорий проснулся поздно, прошел на кухню к матери и, как, бывало, отец в такие минуты, потребовал:
— Налей-ка, мать, солененького чего-нибудь… — Он жадно выпил кружку огуречного рассола, крякнул и сказал: — Да собери чемодан в дорогу. Уезжаю.
— Далеко ли собрался, сынок?
— В Сибирь, — ответил он небрежно. — Есть там такой Северотайгинский район. Золота в нем, говорят, видимо-невидимо. Подработать хочу до призыва в армию.
Мать, разом обессилев, запричитала:
— С похмелья говоришь невесть что! Гляди-ка ты на него, приискатель! В Сибирь собрался. В этакую-то даль. Обморозишься, чахотку наживешь.
Григорий приосанился и возразил с важностью:
— Я совершеннолетний. В Сибири сейчас лето, обморозиться мудрено. Географию надо знать, темнота, или хотя бы по телевизору слушать сводки погоды. В общем, собирай пожитки — и послезавтра в дорогу.
В аэропорту, у стойки, где регистрировали билеты, Григорий оказался в очереди позади рослого парня. Не мог отвести глаз от его шкиперской бородки, могучих плеч, сразу видно, настоящий сибиряк. «В тайге займусь атлетикой, чтобы развить бицепсы», — пообещал себе.
В самолете, подойдя к своему месту, Григорий глазам не поверил: в соседнем кресле сидит чернобородый. Они уже подлетали к Уралу, когда сосед обернулся к Григорию и даже слегка улыбнулся ему:
— Вздремнул немного, — сказал он, позевывая. — Проводы, то да се… Голова, понимаешь, побаливает.
— У меня есть таблетки, — встрепенулся Григорий.
— От такой боли другие снадобья придуманы. — Окинул Григория насмешливым взглядом. — Домой возвращаешься, к маме?
— Наоборот. От матери. — И опасаясь, что соседу наскучит слушать его, Григорий стал рассказывать, что окончил школу и решил стать золотоискателем.
Сосед перестал улыбаться, пододвинулся к нему:
— Я тоже лечу в Северотайгинский…
— Вы инженер? — преданно взирая на него, спросил Григорий и рисовал в воображении, как станет работать под его началом и переймет чуть ленивую манеру разговора, скучающую улыбку и бороду отпустит такую же. Жаль только, он, Григорий, белесый…
— Инженер? Не совсем, — бородач уловил восхищение и робость, какие внушал Григорию, улыбнулся и сказал ласково: — Почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Никакой я не инженер. И лечу туда впервые. Такой же, как ты, искатель счастья, Глеб Карасев.
— Давай в тайге всегда будем вместе, — горячо предложил Григорий.
Однако Карасева в старатели взяли охотно, а у Григория вышла осечка. Председатель артели критически оглядел его и сказал:
— Каши ты ел маловато. Ступай-ка на промышленную добычу. Там по твоей силе да по ухватке поставят на должность с повременной оплатой. А у нас артель тебя обрабатывать не поспеет.
Пока Григорий оформлялся и получал подъемные, жил с Глебом в маленькой комнатке на окраине поселка Октябрьского. Сколько наслушался от Глеба о службе в армии, а еще больше о любви к удивительной женщине Лизе Гущиной. Григорий уезжал в Сосновский счастливым: судьба послала ему редкостного друга…
Смородин привыкал к таежной жизни, приноравливался к работе, набирал силу, мечтал в будущем сезоне попасть к старателям, быть вместе с Глебом. Но встретились они неожиданно скоро. У Григория разболелся зуб. Пришлось ехать в Октябрьский к стоматологу. Из поликлиники зашел к Глебу.
Тот встретил радушно, выставил вино, редкие для этих мест яблоки. Снисходительно слушал излияния захмелевшего гостя. Потом сказал печально:
— Завидую я тебе, Гриша. Веселый, общительный, с людьми сходишься легко. А я, наверное, мрачный тип. Не получается скорой дружбы. И мысли там, в Москве…
Преданно заглядывая в глаза к Глебу, Гриша спросил:
— Лиза, да?…
Глеб грустно кивнул, молчал, улыбался, вспоминал о чем-то очень своем, потом сказал оживленно:
— Ты как нельзя кстати. Я приготовил ей подарок, но не хочу, чтобы знала мать… Давай отправим от твоего имени моему школьному другу, — подмигнул он Григорию.
— Давай, — с восторгом подхватил Григорий.
Они отправились к поселковой почте…
А недели через две Григорий получил телеграмму: серьезно заболела мать. Он взял отпуск и в тот же день был в Октябрьском.
— Поездка у тебя нерадостная, — сочувственно заметил Глеб, — но все-таки, прости, мне завидно. — Завтра в Москве, под одним небом с нею…
— Передать ей что-нибудь?
Глеб пожал плечами, долго расхаживал по комнате, все убыстряя шаг, остужая, оспаривая в чем то себя, то и дело вскидывал глаза на Григория. Наконец остановился, напряженно улыбнулся и сказал:
— Ей ничего не надо передавать. А вот для нее…
Он подлил в стакан Грише вина, налил себе, но отошел от стола, извлек из-под кровати чемодан, бережно достал пакет с крупными кедровыми шишками, положил на стол и сказал просительно:
— Если можно, свези вот это…
И стал дотошно растолковывать, что шишки нужно из рук в руки передать Михаилу Желтову. Назвал номер его телефона, но записывать не позволил, велел договориться по телефону о встрече в людном месте и об условном знаке, чтобы узнать друг друга в толпе.
— Ничего не понимаю, — удивленно сказал Григорий. — Столько шума об обыкновенных шишках. Почему надо отдать их Михаилу, да еще таким хитрым способом. Или снова из-за твоей матери, да?
В глазах Глеба на миг, всего лишь на один миг, проскользнуло смятение. Но вот взгляд его отяжелел, а голос зазвучал незнакомо жестко:
— Шишки только упаковка. — Глеб придавливал Григория взглядом к стулу. — Понимаешь?
— Н-нет…
— Ты знаешь, что значит для меня Лиза… Ради нее — к черту в пекло. Звезды смахнуть с неба! А не только это… — Он так стиснул пакет, что побелели пальцы.
— Уж не хочешь ли ты сказать… — начал Григорий, еле ворочая отяжелевшим вдруг языком…
— Вот именно. Под чешуйками шишек — самородки, — Глеб смахнул со лба испарину, залпом опорожнил стакан с вином и договорил устало: — Теперь ты знаешь все решай: повезешь или нет. Друг ты мне или так… сосед в самолете.
— И ты решил доказать, что ты — настоящий мужчина. Таким-то способом, — сказал Зубцов печально.
— Но ведь Глеб… — вяло возразил Григорий.
— Понятно. Шкиперская бородка… Манеры лорда и… волчья хватка…
— Ну какая там волчья, — почти взмолился Григорий. — Дело ведь не только в нем, но и во мне… — Он заволновался, щеки разрумянились, ярче проступила цыплячья желтизна белесых бакенбардов. — Должен был я себе-то самому доказать, что могу что-то. Не трус, не маменькин сынок, понимаете?
— А если бы твой кумир тебя на убийство послал, тоже поплелся бы, чтобы только не пасть в его глазах?
— А кроме тебя и Желтова, у Карасева есть близкие друзья?
— Он упоминал какого-то Аркадия Шилова. Говорил по-разному: то с восхищением, то как о подонке.
Зубцов внимательно смотрел на Смородина, что-то взвешивая в уме, потом сказал:
— У меня, Гриша, к тебе большая просьба. Повстречайся с Карасевым, скажи, что снова собираешься в Москву. Разговор с ним подробно передашь мне.
Смородин сидел, заслонив ладонями глаза: не то плакал бесслезно, не то прощался с прошлым, не то не мог собраться с мыслями. С усилием отвел руки, медленно провел пальцами по лицу, с неприязнью посмотрел на Зубцова и проговорил устало:
— Придется. Куда же теперь скроешься от вас?
— Да не от нас, — успокаивающе сказал Зубцов. — Просто надо когда-то искупать свою вину. Помоги мне узнать правду о Карасеве. Надо, Гриша, когда-то действительно становиться мужчиной…
— Надо, — Смородин улыбнулся грустно. — Честно-то вам сказать: я после той поездки с шишками спать отвык нормально. Вздрагиваю от каждого стука.
— Про студента Павла байку придумал сам?
— Сам, — Григорий вздохнул.
Когда Зубцов возвратился в Октябрьский, в райотделе внутренних дел ему передали записку. Зубцов узнал почерк Федорина: «Вчера вместе с Аксеновым в Октябрьский прилетела Елизавета Ивановна Гущина, она объявила Глеба Карасева своим двоюродным братом. Судя по реакции Карасева, ее приезд был неожиданным. Аксенов оказывает Гущиной знаки внимания».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
— Неужели вы — Кашеваров? Тот самый? Герой гражданской войны?! — Настя смотрела даже с некоторым испугом. — Вас же считают погибшим…
Кашеваров отечески улыбнулся и сказал шутливо:
— А я вот он, живехонький… — и договорил проникновенно: — Увы, лишь ординарный сын знаменитого отца.
Оладышкин нервно заморгал белесыми ресницами:
— То-то и есть, что знаменитого! И поскольку в нашем обществе нет проблемы ни отцов, ни детей, вы, товарищ Кашеваров, представляете то же самое, что и ваш геройский папаша…
Кашеваров растроганно сказал:
— Благодарю вас. Это так берет за душу: родные места, воспоминания, незримое присутствие отца…
Настя много слышала о Кондратии Кашеварове и теперь удивлялась: оказывается, этот обыкновенный старик сын того Кашеварова. Впрочем, почему «обыкновенный»? Отличный старик, интеллигентный. Только вот разволновался. Чуть не плачет…
Оладышкин налил в стакан воды, почтительно подал Кашеварову и сочувственно сказал:
— Эк вас растрогали эмоции. Попейте. Кипяченая.
— Могила отца здесь, — Кашеваров отпил воды, — не в лучшем состоянии. Оградку и надгробье не мешает подновить. Почему бы одному из пионерских отрядов не присматривать за могилой, а может быть, создать в школе музей Кашеварова. Я полагаю, это не только моя сыновняя забота…
— О чем разговор, Степан Кондратьевич, — смущенно сказала Настя. — Сами-то не могли додуматься, дождались, пока приехал такой человек… Поговорю с отцом. В райкоме комсомола. И сама, чем только могу…
— Мыслить, товарищ Аксенова, надо широко, — перебил Оладышкин, — как требует того текущий момент. Мы должны провести в клубе доклад товарища Кашеварова о жизни и деятельности его незабвенного отца. Вечер воспоминаний о Кондратии Федоровиче. Музей жизни и деятельности легендарного героя развернуть в клубе. Закажем портрет товарища Кашеварова в полный рост…
— Спасибо за инициативу, Май Севостьянович, — сказал Кашеваров признательно. — Действительно масштабно, с подлинно сибирским размахом. Только не надо помпезности. Кондратий Федорович был человеком скромным. И мой доклад едва ли правомерен. Я же от него остался совсем юнцом. Да и пробуду я здесь дней десять-пятнадцать. Нет, пусть лучше кто-нибудь из местных товарищей, да хотя бы вы, приготовьте реферат.
— Ре-фе-рат?… Конечно, само собой…
— И с портретом — прекрасная мысль. У вас, что же, есть художник?
— Есть! Тут в аккурат прибыл Лукиан Филимонович Метелкин.
— Кто такой Метелкин, откуда?
— Художник из области. Товарищ со стажем, опытом и заслугами. По настоянию товарищ Аксеновой рудничный комитет; отказался оплачивать его копии знаменитых русских классиков. Товарищ Метелкин приехал к нам судиться и задержался рисовать местный колорит, ну и портрет товарищ Аксеновой. Его и наймем перерисовать с фотокарточки портрет вашего героического напаши…
— Пьет?… — быстро спросил Кашеваров.
— Кто? Метелкин, что ли? Какой он питок, — Оладышкин горестно махнул рукой. — Примет стопочку для аппетита или там для вдохновения — и пас. А так на руку-то он очень даже проворный. Жены моей, Лидии Мефодьевны, портрет с фотокарточке в три дня перерисовал без никаких там сеансов и позирований. Краску положил густо, без скупости.
— Проворный, значит? И непьющий? — думая о своем, отчужденно переспросил Кашеваров. — Что же, пусть рисует… Только вечер в клубе назначьте, когда будет портрет. Событие станет более впечатляющим.
— Очень ценный совет, — сказал Май Севостьянович и, увидев вошедшего Глеба, просиял: — Знакомься. Это — товарищ Кашеваров, сын героя гражданской войны Кондратия Федоровича Кашеварова. А это, позвольте, Степан Кондратьевич, задержать внимание, Глеб Карасев. Москвич, старатель и лучший наш солист…
Кашеваров задержал в своей руке руку Глеба:
— Приятно встретиться с земляком.
У двери Кашеваров услыхал, как Настя говорила:
— Глеб, ты сможешь снова проводить меня до аэродрома. Вечером прилетает бабушка…
Кашеваров обернулся. Настя и Глеб стояли рядом. Кашеваров понимающе улыбнулся.
2
— Председатель райисполкома и моя дочь, Настя, рассказывали о вашем приезде. А вчера в райкоме был разговор о вас, — сказал Аксенов, пожимая Кашеварову руку.
— Даже в райкоме? — Кашеваров выжидающе улыбнулся. — Возможно, я допустил бестактность, но у меня правило: являться в партийные органы, когда я уже знаком с новыми местами и с новыми людьми. Зайду в райком непременно, но не раньше, чем заполню свои блокноты. А мои личные дела я полагал уладить, не беспокоя районного комитета партии.
— Дела-то не совсем личные. У вас есть основание обидеться на нас, северотайгинцев. Я дал распоряжение начальнику ремонтно-строительного цеха привести в порядок могилу, памятник закажем.
— Спасибо, — горячо сказал Кашеваров.
— Вам спасибо за то, что напомнили о нашем упущении, — Аксенов выразительно посмотрел на часы.
Густые седеющие брови Кашеварова встопорщились. Он тоже посмотрел на часы и, медленно расставляя слова, проговорил учтиво, но с оттенком обиды:
— Жаль, хлопот вам много доставил излишних. При вашей-то занятости…
Аксенов усмехнулся досадливо и смущенно, спросил любезнее:
— Значит, давно не бывали здесь? Наверное, все кажется незнакомым?
— Прямо-таки другая планета! Возникают, правда, какие то зыбкие ассоциации, защемит вдруг душу наплывом чего-то очень родного. Но, в общем-то, все время ощущение, что я не то читал об этом, не то видел во сне. Только сопки были выше, и тайга гуще, и реки полноводнее. А люди… Люди-то совсем иные кругом. Представляем, за три дня не повстречал никого из старых знакомых…
— А мне все время кажется, — сказал Аксенов, — что мы знакомы, встречались где-то, что я слышал ваш голос, видел ваше лицо…
— А я припоминаю вашего отца, смутно, правда, но припоминаю. Знаменитейший горняк, редкого ума и кристальной честности человек. Бодылинское дело держалось и процветало талантом Аристарха Николаевича.
— Ну, Бодылин тоже был не дилетант в золотодобыче. Хотя, нет спору, отец в горном деле — фигура видная.
— Уж вы, Николай Аристархович, простите, коли мой вопрос невпопад. Литераторы народ настырный. Не довлеет над вами, даже и помимо ваших желаний, прошлая-то история прииска?
— А я как-то не очень задумываюсь над прошлой историей. Некогда просто. Хозяйство-то не в пример бодылинскому. Воспринимаю этот рудник, как воспринимал бы всякий иной. Место работы, которую надо выполнять в полную меру сил.
— И все-таки, поди-ка, такие словосочетания, как «Бодылинские отвалы», скребут душу. Не посчитайте за назойливость. Я исключительно из профессионального интереса. Роман задумал о старой Сибири. Хотел и с вами перемолвиться насчет вашего деда, поскольку он видится мне личностью примечательной.
— Что же, замысел, наверное, неплох. — Аксенов старательно выправлял голос. — А что до моего деда, так я о нем не печальник. Уместнее вам поговорить с моей матерью, благо она сегодня будет в Октябрьском. У нее вы встретите взаимопонимание. С моей же точки зрения, Бодылин — никчемный транжира своего инженерного дарования и абсолютный политический слепец. Если бы он не был убит кем-то из сообщников, его следовало бы покарать Советской власти. А вообще-то, простите, я не люблю эту тему…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Весь день моросил холодный дождь, и речка дымилась из-под яра сизым туманом. Прогалины дымчатых туч багровели в отсветах не погасшего еще солнца.
Глебу вспомнился армейский аэродром, сигнальные огни, надрывные, с посвистом, вздохи двигателей. Неужели там-то и была настоящая жизнь? А он не понимал, тяготился ею. Выставлялся перед товарищами: «Афоризм, что каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, — преувеличение. Я не ношу, не только маршальского жезла, но и ефрейторских лычек. В моей парашютной сумке — штатская шляпа…»
— Карасев! Эй, Карасев! — донеслось издали.
Послышалось, окликает Шилов. Глеб прибавил шаг.
— Карасев! Да остановись ты!
Глеб перевел дух: окликает не Шилов, а корреспондент областной газеты Бочарников. Который день торчит на установке. Он поравнялся с Глебом, спросил.
— У тебя что, разряд по спортивной ходьбе?
— Привык так ходить.
На тропе им было тесно. Мокрые ветки цеплялись за плечи, стряхивали за ворот холодную влагу. Бочарников обогнал Глеба, насвистывая, шел впереди.
— Ты, Эдуард, тоже ходок, не замерзнешь с тобой.
— Молва утверждает: журналиста ноги кормят.
— Я считал: для журналиста главное — голова.
— Голова — для всех необходимый предмет. Шапку-то надо носить на чем-то. А иногда и подумать не вредно. Чтобы не раскаиваться ни в чем.
— Шапка, она, конечно, вещь необходимая, В Сибири особенно, — шутливо подхватил Глеб, но помрачнел: — Где ты встречал мудрецов, которые бы не раскаивались ни в чем?
— В общем, не согрешишь — не покаешься… — Бочарников присвистнул насмешливо. — Знакомая песня. Только слабое это утешение: я, мол, не хуже других Лучше стать — вот в чем суть. Надо приумножать свои, так сказать, врожденные добродетели.
Конечно, можно и отшутиться, но Глеб не мог отмахнуться от неожиданных своих мыслей, от сознания загнанности, бессилия, все чаще овладевавшего им.
— Главное, наверное, в том, ради чего приумножать?… А то ведь совесть заест, — сказал он очень тихо.
— Совесть, — обрадованно подтвердил Бочарников. — Надежный фильтр поступков. Отдай людям все доброе, что имеешь в себе, — будешь в ладу с совестью.
— Складно! — насмешливо одобрил Глеб. — Отдать все. Получить ничего да еще прослыть донкихотом…
Бочарников слегка поморщился от слов Глеба, но сказал мягко:
— Чудаком и донкихотом — среди мещан, приспособленцев, стяжателей. Зато человеком — среди людей. А душевный покой, душевная гармония — разве это мало?!
— Много. Но ради этого стать аскетом, отказаться от радостей жизни?! Наслаждаться гармонией в гордом одиночестве?! Нет, не по мне!..
— А разменять совесть и честь на минутные радости и утехи — это по тебе? — наступал Бочарников. — Считаться порядочным человеком, но знать про себя, что преуспеваешь на проценты обманутого тобой доверия, посвящать усилия лишь тому, чтобы укрыть, сберечь свою тайну… Какая тут к черту радость жизни?! Ты иронизируешь: наслаждаться в одиночестве душевной гармонией… А подличать втихомолку — это как? Это же обречь себя на беспросветное одиночество. В могилу себя заживо уложить. Казаться и быть — это, дорогой Глеб, знаешь ли, дилемма…
Смыкались сплющенные темнотой кусты. Чавкала под ногами иссеченная дождем земля. Высоко в черноте голубела звездочка. Давно Глебу не доводилось говорить о разных «высоких материях», как называл он их, и сам старался раздумывать о них поменьше.
Но в последние недели, как бы против своей воли, он все чаще стал возвращаться мыслями к тому, что и как стряслось с ним после отъезда в прошлом году из Москвы. Мысль о неизбежной расплате за тайный промысел навещала снова и снова. Он словно бы привык к ней. Но как привыкнуть, как смириться с коротким, обжигающим, будто удар хлыста, словом, каким станут называть его после ареста. Все чаще он сравнивал: «было и стало» и недоумевал: неужели все случилось на самом деле?… А теперь этот корреспондент словно подслушал тайные мысли Глеба и саданул по самому больному месту. Возразить нечего. Но и отмолчаться нельзя.
Глеб криво улыбнулся и сказал с вызовом:
— Неужели никогда не ловчил? Всегда по совести, без задней мысли, всегда для других…
— Разве я утверждал, что я — эталон морали? Но не отождествляй лукавство, житейскую хитрость с ложью и подлостью, как основой существования… Вообще-то, такие вопросы — запрещенный прием Я же не исповедую тебя в прегрешениях, хотя и должен бы исповедовать…
— Это почему?
— Так ведь я не ради любопытства торчу у вас в артели. Писать намерен о тебе, товарищ Карасев. Мне бы в самый раз выспрашивать тебя где родился, где крестился, из каких побуждений приехал в Сибирь, в чем секрет производственных успехов?…
— Писать… Обо мне?! — Глеб перевел дух и спросил с облегчением: — Что же сразу-то не сказал?
— А зачем говорить? Я ведь не допотопный фотограф, предупреждать: «Улыбнитесь, сделайте умное лицо. Спокойно, снимаю».
— Я говорю, писать не о чем, отрезал Глеб и энергично зашагал по тропе. В душе он был рад. Если председатель артели назвал Бочарникову его в качестве положительного героя, значит, ему, Глебу Карасеву, вполне верят, и то страшное, что маячит перед ним, еще далеко. — Никакой я не герой для очерка там или для репортажа. Самый обычный рядовой.
— Так уж и обычный. Москвич, демобилизованный солдат… Много ли таких среди старателей?
— Да немало.
— Не ломай мне тему Глеб. Я на тебя нацелился сразу. Вон как орудуешь у монитора. Красиво, мастеровито. Верно ребята говорят: двужильный.
Глеб улыбнулся довольно и сказал самым равнодушным тоном:
— У нас не держат филонов Не потопаешь — не полопаешь…
— И все-таки тебя называют в числе лучших. Так что уважай мнение начальства ну и меня бедного, не лишай гонорара. У меня сюжет сложился: москвич отказывается от столичных благ, едет в Сибирь, становится старателем, вступает в конфликт с вредными традициями старого частного старательства.
Глеб снисходительно подумал: «Эх, ты, идеалист» А вслух возразил:
— Так ведь не было этого. Ну, в смысле борьбы с традициями и хулиганами.
— Как же не было? — не сдавался Бочарников. — Ну, может, и не было впрямую. Но автор имеет право на домысел. Твой моральный пример, твое отношение к работе — это уже вызов старым обычаям и нравам. Какой авторитет у тебя среди товарищей! И не по должности, а по мастерству, по личным качествам. Люди чувствуют: приехал не за длинным рублем…
«Эх, твоими бы устами…» — подумал Глеб. И стало тоскливо оттого, что это, мягко говоря, не совсем так. Как сказал этот моралист: «Преуспевать на проценты с людского доверия и посвятить себя лишь тому, чтобы сберечь от посторонних глаз свою тайну…» Не думая, не гадая влепил в самое яблочко! Казаться и быть!.. Нельзя все время только казаться…
— Значит, не за длинным рублем… А за чем же?
Бочарников с пафосом объявил:
— По велению сердца. Движимый патриотическим чувством помочь в освоении Сибири…
— Не было этого. Ну, как ты говоришь: патриотического желания… Было именно стремление заработать рубль, подлиннее, побольше. Демобилизовался, жил в Москве, мягко выражаясь, довольно скромно. Вот и двинул сюда на заработки. А чтобы заработать, работать надо на совесть. Так что никакой я не герой
Бочарников помолчал и сказал с надеждой:
— Ну что ж. Поехал за длинным рублем, но полюбил Сибирь…
— А откуда видно, что полюбил?
— Так ведь приехал на второй сезон, — Бочарников засмеялся торжествующе. — И не уверяй меня, что только из-за денег. Правда, товарищи говорят, что дело тут не только в Сибири, но и в одной юной сибирячке. — Он слегка подтолкнул Глеба плечом. — Ей будет приятно прочесть о тебе доброе слово…
Глеб потоптался на месте, сказал тихо:
— Да, пожалуй…
Впереди уже помигивали поселковые огни, теплые, добрые, надежные.
— Мне в клуб надо, — сказал Глеб. — Я ведь пою немного. Так что договорим завтра.
— Поешь? — обрадованно переспросил Бочарников. — Можно, я зайду с тобой, послушаю…
Пел Глеб негромко, низким глуховатым голосом. Казалось, он рассказывал не только о летчиках, которые погибли, спасая город, но и о чем-то своем, горьком и нежданном. Он часто оборачивался к Насте, и она вскидывала на него глаза и улыбалась ободряюще.
Бочарников слушал песню и думал, что скоро Насте откроется правда об этом, наверное, первом в ее жизни парне, ее ожидает разлука, скорее всего навсегда.
Может статься, что сразу же ей откроется правда о бабушке, с которой она с такой сердечностью знакомила Бочарникова, или, того хуже, — правда об отце. Не останется ли она надломленной, смятой, озлобленной?
Глеб кончил петь, и от дверей раздались одобрительные хлопки. Распахнув полы плаща, к сцене шел Кашеваров.
— Недурно, молодой человек. Право, недурно. — Он поцеловал Насте руку. — Милая Настенька, вас можно поздравить с такой находкой. Зашел случайно и не жалею. Не посетуйте на старика, коли нарушил уединение.
— Какое уединение? Здесь моя бабушка и товарищ Бочарников из газеты. Бабочка Агочка, знакомьтесь, пожалуйста, это — Степан Кондратьевич Кашеваров. Я тебе рассказывала о нем.
— А мы уже знакомы, — весело отозвалась Агния Климентьевна и подошла к Кашеварову.
Он виновато улыбнулся и сказал:
— Простите, глазами, видно, становлюсь слабоват, но не припоминаю…
— Неужто запамятовали? Недели, должно быть, две назад на Тополиной улице вы срисовывали резьбу, а я подошла к вам и просила о заступничестве…
— Господи! Конечно, конечно. А я-то хорош… Вашего имени-отчества спросить не удосужился.
— Агния Климентьевна Лебедева.
Кашеваров отпрянул, шлепнул себя по лбу, воскликнул потрясенно:
— Стало быть, урожденная Бодылина! Вот это встреча! Как во сне, право, как во сне! Несказанно рад видеть вас в добром здравии. Дочь Бодылина! Ей-же-ей, это — дорогой подарок… — Он наклонил голову, благоговейно коснулся губами руки Агнии Климентьевны и скосил глаза на Бочарникова.
— Спасибо, — растроганно сказала Агния Климентьевна. — Но я-то пуще вас опростоволосилась… На Тополиной-то улице вы отрекомендовались, а мне и невдомек, что передо мною сын Кондратия Федоровича Кашеварова. И вот казус: превосходно помню вашего батюшку, а сыночка запамятовала напрочь.
Густые брови Кашеварова сблизились у переносья. Он сощурился, как бы стараясь получше рассмотреть Агнию Климентьевну, и заговорил с грустной усмешкой:
— Эх, память девичья да стариковская… Кабы вы не назвались, так не признал бы вас нипочем. А Климентия Даниловича я отчетливо помню. Могучий человечище, необыкновенной яркости. И телесной, и духовной. Острого ума и многих дарований…
Агния Климентьевна испытующе и строго смотрела на Кашеварова, как бы желая удостовериться в его искренности. Взгляд ее смягчился, щеки разрумянились, глаза заблестели, и голос стал молодым, звонким.
— Спасибо, Степан Кондратьевич, на добром слове и доброй памяти. К сожалению, сейчас редко можно услыхать беспристрастное суждение об отце. Горько, что имя и дела его забылись, а если и вспомнят, то иные до сих пор видят в нем классового врага.
«Один сыночек твой с его филиппиками чего стоит…» — подумал Кашеваров и сказал сочувственно:
— Молодость категорична, рубит сплеча. А потому прямой долг нас, очевидцев, рассказывать правду о прошлых днях. Мечтаю внести посильную лепту. Роман пишу о старой Сибири, о путях здешней интеллигенции в революцию… — Кашеваров осекся и договорил смущенно: — Простите великодушно, увлекся я. Но если бы выкроили вы часок-другой, припомнили некоторые подробности о своем отце. Я был бы весьма благодарен.
— Помилуйте, какие там хлопоты! Рада видеть вас у себя. Кстати, в воскресенье у нас семейное торжество. Настеньке нашей двадцать лет. Не откажите в любезности почтить своим присутствием…
— Сочту за честь.
— И вас, молодой человек, милости просим, — Агния Климентьевна слегка поклонилась Бочарникову.
— Спасибо. Постараюсь быть.
— Вот оно, искренне сибирское хлебосольство, — восторженно сказал Кашеваров, оборачиваясь к Бочарникову. — Коли пир — так на весь мир… — Кашеваров замолк, взглянул на Глеба и объявил виновато: — Действительно, память у меня стала дырявой. Я в клуб-то завернул потому, что одна молодая особа просила вызвать вас…
2
Глеб вышел на крыльцо клуба. Провальная темнота. Скорее почувствовал, чем увидел, как отошла от стены и встала на его пути Лиза.
— Ну, здравствуй.
— Здравствуй.
— Ты откликался на мои приглашения быстрее.
— Прости, — торопливо сказал Глеб, взял Лизу за локоть и, увлекая за собой, быстро зашагал от клуба. — Кашеваров передал мне только что.
Темнели в палисадниках плоские, будто нарисованные деревья, листва отливала густой чернью, как металлические венки на могилах.
— Не подозревала, что ты можешь так трогательно петь. Или для милого дружка и сережку из ушка? — Лиза язвительно засмеялась.
«Для милого дружка можно и самородок…» — подумал Глеб.
Лиза оборвала смех, заговорила зло:
— Вообще, я многого в тебе не подозревала. Прилетела, живу в этой дыре, а ты только и делаешь, что прячешься от меня. Пойми, для брата, — она опять усмехнулась, — ты ведешь себя нелепо. Николай Аристархович и тот…
— Ах, Николай Аристархович!.. — прервал Глеб язвительно. — Я заходил к тебе дважды, но ты отбыла на его персональном катере любоваться живописными берегами реки Раздольной. А вчера… Я просто не решился войти, боялся нарушить ваш тэт-а-тэт.
Глеб не заходил к Лизе, о ее встречах и прогулках с Аксеновым он узнал от Насти. И внутренне обрадовался: появился предлог упрекнуть Лизу. Если же Лиза станет оправдываться или укорять его, дать волю гневу, устроить сцену ревности, быть в ее глазах, а отчасти и в собственных, покинутым и оскорбленным…
Лиза не упрекнула, она погладила руку Глеба и сказала с облегчением:
— Так ты все-таки приходил. Слава богу. А я-то думала… Эх, ты, Отелло! Николай Аристархович — милый, гостеприимный человек. И не более того.
— Зачем ты назвалась моей сестрой?
— Кем же мне было назваться? Кто я тебе: жена, невеста?
— Тебе так нужна определенность? Обходились мы без нее в Москве. Могли бы и дальше.
— В Москве — да. Там можно затеряться в толпе. А здесь я — кто? Любовница? Теперь, правда, выражаются деликатнее: подруга… Но не могла же я объяснять тому же Николаю Аристарховичу: я — подруга Глеба Карасева, лечу за тридевять земель, потому что мой друг перестал писать…
«Переводить деньги и посылать посылки…» — думал Глеб.
— Кем я могла назваться, когда увидела тебя разомлевшим от телячьей нежности рядом с дочкой Аксенова? Нет, я не ревную тебя к этой… — губы Лизы брезгливо дернулись. Она увидела протестующее движение Глеба, продолжала напористо: — Не заявлять же мне было свои права на тебя. Вдруг твоя дама при всем честном народе станет таскать меня за волосы, вдруг ты ответишь мне старой, как мир, сентенцией для таких случаев: «И я не я, и лошадь не моя».
Синева с чернью разлиты кругом. Синела дорога, синели пятна лунного света на стенах и крышах, чернела тайга за речкой, чернели ставни окон.
Глеб ставил ноги бесшумно, будто крался по Бодылинской тропе через гари и сухостой. И все время казалось: это снится ему… Он жалел себя, жалел Лизу, но не мог признаться ей в своей жалости, протянуть руку. Лиза оскорблена его холодностью, нетерпеливо ждет слов, которые сломали бы разделившую их стену, но у него не было права на искренность и откровенность. Откровенность могла стать убийственной, в прямом смысле слова, для него, для Насти, даже и для этой женщины, не подозревавшей, какой опасности подвергает она себя, приехав сюда. Он проклинал себя, но ничего не мог изменить. И вдруг с удивлением и потаенной радостью осознал: дело не только в запрете Шилова…
— Ты думаешь, мне легко?! — услыхал он гневный полушепот Лизы. — Твоя мамаша смотрит волком: как же, совратила ее юное дитятко. Соседи перешептываются мне вслед. Любимый муж красноречиво молчит и отправляется на год в океанское плавание. На прощание говорит: почему бы тебе не провести часть отпуска в Сибири. Ленку можно отправить к моим старикам в Николаев… Какое великодушие! Так сказать, развод по-Каренински! И самое парадоксальное, что я поступаю именно так: отправляю Ленку к старикам и лечу сюда. Ты вдруг перестал отвечать на мои письма. А у меня щемит сердце. Я же знаю, что в любую минуту тебя могут… — Наверное, она здорово разволновалась, едва не произнесла слов, которые были под строжайшим запретом. — С тобой могут произойти неприятности… Прилетела. Потратилась. А для чего? Чтобы тайком встретиться с тобой, выслушивать упреки. И это в поселке, где нас никто не знает! — Лиза громко всхлипнула.
— Лиза, ну не надо! — Глеб коснулся ее плеча.
Она схватила Глеба за руку, потянула к палисаднику. На скамье у ворот обвила руками шею Глеба, приблизила к себе его лицо и горячо зашептала:
— Это же я… Мы! Неужели ты забыл наш солнечный троллейбус… Помнишь, как мы чинили пробки!
Глеб чувствовал: вдруг исчез воздух, пересохло во рту и руки отяжелели. Ощущая на лице обжигающее дыхание Лизы, податливость ее тела, он теснее приник к ней, отыскал губами ее губы…
И тут над головой Глеба просвистел камень. Глеб вздрогнул, прикрыл рукой голову Лизы и не заметил, откуда вынырнул
человек, что шаткой походкой направился к ним. На лбу у Глеба выступила испарина: Шилов!
— Сигаретку поднесли бы ночному страннику… — Шилов всмотрелся в Глеба, пьяно оскалился: — О, Глебка! Друг ситцевый! Здорово, кореш! А это кто с тобой? — приблизил свое лицо к лицу Лизы, заорал возбужденно: — У, какая куколка! Знакомь с подружкой. — И потянул Лизу за руку.
Она возмущенно крикнула:
— Ты почему позволяешь, Глеб, этому… — но, взглянув на остолбеневшего Глеба, закончила гневным полушепотом: — Это какой-то кошмар! Ты струсил! Все здесь какие-то психи! Я завтра же уеду! — и взбежала на крыльцо общежития.
— И правильно сделаешь, — проводив ее тяжелым взглядом, сказал Шилов. — Почему она здесь?
— Так она сама… — стыдясь своего заискивающего тона, пролепетал Глеб.
— Сама-а… — передразнил Шилов. — Ты вот что, карась-идеалист, ты мне шарики не крути. И чтобы я вас больше не видел вдвоем. Помнишь наш уговор? То-то… Ты меня знаешь. Старуха вон приехала. Не дай бог испортить нам обедню.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Агния Климентьевна, разом скинув со своих плеч десятка полтора лет, позабыв о недугах, сновала по поселку в поисках стерлядки, свежих огурцов, клубники, хлопотала на кухне, перелистывала поварские книги и пожелтелые рецепты, предусмотрительно привезенные из дому.
Николай Аристархович благодушно подтрунивал:
— Ты рассчитываешь на недельный пир? Или на то, что за столом у нас соберутся Гаргантюа?…
— Не знаю, приглашал ли ты Гаргантюа, но помню, что ты по деду Бодылин! А у Бодылиных коли в доме пир, так по всей улице неделю похмелье… Ведь будут не только твои сослуживцы, которые совершенно не ценят тонкостей кухни, но и Кашеваров — столичный литератор, светский человек и, как я полагаю, большой гурман, Бочарников — очень интеллигентный юноша. Пригласили эту молодую даму — москвичку. Мне бы не хотелось дать им повод для неудовольствия.
…Первыми из приглашенных пришла чета Панкратовых. Владимир Николаевич, главный инженер рудника, потянулся было привычно потрепать Настю по волосам, но смутился, поцеловал ей руку, торопливо подал подарок и обрадованно, словно год с ним не встречался, устремился к Аксенову.
Надежда Сергеевна улыбнулась Насте:
— А ты, Настюша, становишься красавицей. Не присмотрела еще жениха? Да ты не красней. Как говорят, се ля ви… — И объявила Агнии Климентьевне: — Право же, вы прекрасно выглядите. Вам никогда не дашь ваших лег, тоже хоть замуж выдавай. А что, не присмотреть ли для вас этакого бравого полковника-отставничка, а то и генерала?…
Каждый год Надежда Сергеевна слово в слово повторяла эти речи. Агния Климентьевна благодарила ее за участие и задорно соглашалась: «А что, можно и отставничка. Вполне еще могу составить молодцу счастье жизни. Только я разборчива. Мне подавай чернобрового и черноусого, без одышки и, пардон, геморроя. Так что уж, ежели сватать, то не отставничка, а строевичка». Настя напоминала: «В твоем возрасте, бабочка Агочка, в строю только маршалы. А для маршала ты довольно легкомысленна». Агния Климентьевна заверяла: «Какие мои годы. Посерьезнею». И всем было хорошо. Все смеялись. Такой разговор в этот день стал обязательным, как именинный пирог.
Но сегодня Агния Климентьевна выслушала гостью рассеянно и сказала со вздохом:
— К чему мне отставничок? Наливать две грелки вместо одной? А врачу лечить в одном доме две гипертонии?
Настя с тревогой взглянула на нее, спросила:
— Бабочка Агочка не в духе? Хмуришься чего-то. И вот… замуж не хочешь за отставничка.
Агния Климентьевна улыбнулась с усилием:
— Старость, что осень. То дождь, то вёдро, а то и снежком припорошит. Даст бог, все обойдется.
Настя встречала гостей, благодарила за поздравления, но из головы не выходило: что стряслось с бабушкой. Утром кружила по дому быстрее молодой, напевала даже вполголоса. Потом пошла в магазин, на почту и возвратилась сама не своя. Лицо осунувшееся, как после болезни. Уж не обидел ли кто-нибудь? Она же такая ранимая, незащищенная.
Надо порасспросить бабушку да, может быть, уложить в постель.
Вошел Глеб.
— Поздравляю, — весело сказал он и подал Насте хохломской росписи матрешку. Важная, надутая, она отливала позолотою и лазурью.
Глеб отвел руку из-за спины, протянул Насте букетик лилий.
— Твои любимые, желтые.
«Сейчас лилии можно отыскать разве что на Касьяновском болоте, — прикинула Настя. — Это километров десять от гидравлики по тайге, по ручьям». И у Насти сердце зашлось благодарностью от того, что Глеб продирался двадцать километров по тайге, чтобы нарвать эти самые прекрасные на свете цветы.
Глеб видел проворные руки Насти, когда она наливала воду в вазу, ставила цветы, но не мог отделаться от ощущения, что все это совершается не с ним, что он, Глеб, будто в детстве, поглядывает в щелочку на чужой праздник, и в любую минуту его могут прогнать с позором. Предчувствие того страшного и стыдного, что непременно стрясется с ним, навещало его и прежде. Он свыкся с этим чувством, старался не поддаваться ему. Но после разговора с Лизой ожидание неминуемой расплаты вновь обострилось в нем. Слабая надежда на чудо, на то, что все как-то обойдется, исчезла окончательно. Шилов скоро потребует исполнения третьего желания Великого артиста. И не простит ослушания. И что станется тогда с Настей, с Агнией Климентьевной, с этим таким счастливым сейчас домом?
Может быть, пока ничего не случилось, открыть Насте правду, пусть она вершит суд… Нет, Настя не станет мириться с тем, что он не тот, кем казался… Самое страшное для человека занимать место в жизни по чужому билету. А может быть, права Лиза: главное, уметь подать себя. Каждый в глазах других стоит столько, во сколько он оценивает себя. Каждому честь по собственному тарифу… А вдруг все… проще: Лиза любит его и принимает таким, какой он есть, а Настя выдумала его и не захочет знать иного, не примет иным…
— Ты что, Глеб? — долетел до него голос Насти. — Зову, зову, а ты не слышишь.
— Прости, задумался.
«Сказать?» — Глеб зажмурился, а когда открыл глаза, прямо перед собой увидел портрет старика. Всмотрелся и понял, что там вовсе не старик. Слегка вьющиеся черные волосы разметались над просторным лбом. Широкое лицо с крутыми скулами удлинено бородой. Черные глаза пытливо рассматривали Глеба, и мерцала во взгляде глумливая усмешка. Глебу стало не по себе от его потаенной издевки. Он припомнил, как Шилов наставлял: «Войдешь к ним, сразу увидишь портрет. Ты всмотрись в него да и спроси: не Климентий ли, мол, Данилович Бодылин изображен. А дальше разливайся насчет трагической судьбы…» Замирая от желания ослушаться приказа Шилова, Глеб сказал:
— Смотрю на портрет, знаю, что известный человек, а не могу вспомнить, кто именно…
— Мой прадед, Климентий Данилович Бодылин.
Наслаждаясь неожиданной смелостью, радуясь тому, что действует не по сценарию Шилова, Глеб, передавая инициативу разговора Насте, спросил:
— Бодылинская тропа… Бодылинские отвалы, так? Он кем был, геологом, что ли?
— Отчасти. А вообще-то до революции владел всем этим поселком. Только тогда здесь был прииск, Богоданный. Но он был не только золотопромышленник, но еще довольно известный геолог, географ, инженер…
— Светлая голова, крупная, хотя и трагически противоречивая личность! — с пафосом произнес за спиной Глеба чей-то голос.
Глеб дернулся, как от удара, и обернулся. За спиной у него стояли Кашеваров и корреспондент Бочарников. Кашеваров шагнул вперед, отечески улыбнулся Насте, извлек из кармана коробочку, взял Настину руку, положил коробочку ей на ладонь, пальцем приподнял крышку…
«Светлая голова, хотя и трагически противоречивая личность», — гвоздило в мозгу Глеба. Сомнений не было: именно эти слова повторял Шилов, когда они сидели на лесине в ночной тайге.
И опять душу Глеба щемило тоскливое чувство: он на чужом празднике, откуда его скоро и неизбежно прогонят с позором.
Он прижался к стене, бочком сделал несколько шагов к двери. Но дорогу ему заступили Май Севостьянович Оладышкин и художник Метелкин.
Торжественные, запыхавшиеся, они водрузили посреди комнаты завернутый в холстину предмет.
— Примите, Анастасия Николаевна, ваш портрет, от чистого сердца, — патетически произнес Оладышкин.
2
Агния Климентьевна притулилась на краешке тахты. И была рада тому, что о ней позабыли. Вечер был в той поре, когда уже все перемешалось, каждый веселился как мог.
Май Севостьянович с бутылкой шампанского и двумя фужерами в руках высматривал то одну, то другую жертву, тянул в дальний угол для «конфиденциального тоста», наполнял фужеры и, захлебываясь от умиления, произносил речь, столь длинную и витиеватую, что компаньон, не дослушав, ускользал от него.
Агния Климентьевна покачала осуждающе головой и перевела взгляд на Николая и его партнершу по танцу. Ну и заводила эта московская гостья! И недоумевала про себя: чисто негры на ритуальном игрище. Настя не раз объясняла ей:
— Наше время — время стремительных ритмов.
Стремительных так стремительных. Старость консервативна. Когда-то на чарльстон и фокстрот тоже брюзжали, но с каким упоением отплясывала их Агния Климентьевна в своей ленинградской квартире…
Пока собирались приглашенные, Николенька сделался рассеянным и все нетерпеливо посматривал на дверь. Но едва появилась Елизавета Ивановна, этакая нездешняя «прекрасная дама», сын поддернул узелок на редкость тщательно повязанного галстука, пригладил волосы, с улыбкой направился к гостье и, к удивлению Агнии Климентьевны, галантно поцеловал руку и объявил:
— Друзья, позвольте представить вам Елизавету Ивановну Гущину. Счастливый случай свел нас в самолете, и теперь я рад видеть ее у себя…
«Откуда такое красноречие и эта суетливость, — удивлялась Агния Климентьевна. — Вдовел пятнадцать лет. Сколько женщин имели на него виды, он не дрогнул. Однолюб — и точка. Матери не может простить второго замужества. Замужества! Кто бы знал!.. И вот, на тебе: «счастливый случай в самолете…» Или верно замечено: седина в бороду — бес в ребро!..»
Ох, как бы не к худу… Худого-то и так вдосталь. Агния Климентьевна опустила руку в карман, нащупала письмо.
Уже много часов после прочтения письма Агния Климентьевна приказывала себе позабыть, не думать о нем. Хотя бы ненадолго, хотя бы до завтрашнего утра… Не портить людям настроение своим удрученным видом, не омрачать Настеньке единственного в жизни дня — дня ее двадцатилетия.
Нет, отмахнуться от полученных известий — это по-страусиному голову прятать от опасности. В любое мгновение в этот дом, к милым ей людям может ворваться беда, может пролиться кровь. Ладно бы только ее, Агнии Климентьерны — она свое отжила уже, — но ведь и Николеньки, даже Настеньки… А кто поручится, что уже не ворвалась, что злодей не в доме…
Но кто же он? Кто?! Этот птенец Глеб, так робко и вовсе несовременно влюбленный в Настеньку? Милый, деликатный Бочарников? Экстравагантная Елизавета Ивановна? Такой обходительный Кашеваров? Господи, придут же в голову этакие нелепицы! И все-таки нельзя одной с такой докукой… Поскорее сказать обо всем Николаю. Он мужчина, воин, сумеет заступить дорогу беде.
Но как открыться, покаяться в таком прегрешении даже перед сыном?! Мыслимо ли нарушить клятву, что дала умиравшему Аристарху Николаевичу…
И на свои старушечьи плечи взвалить такую ношу немыслимо. Подломятся… О Настеньке и вовсе речи нет. Лучше в омут головой, чем девочке открыть такое о прадеде и деде…
С кем же поделиться нежданным горем? Агния Климентьевна задержала взгляд на Кашеварове.
Вспомнила, как впервые повстречала на Тополиной улице, еще не зная, что за человек перед ней, потянулась к нему душой, попросила защиты.
А ведь сердце — вещун, первое чувство самое верное. И вообще, у нее всю жизнь тонкое чутье на людей.
Так, может быть, довериться своему первому чувству, не истязать себя страхами, а открыться постороннему, зато хорошему, надежному человеку. Агния Климентьевна снова посмотрела на Степана Кондратьевича и окончательно решила: прирожденный поверенный, солиден. Респектабелен. Рассудителен. А главное, хранит почтительную память о Климентии Даниловиче.
Прогуливались вместе со Степаном Кондратьевичем по окрестностям, и неизменно говорил он о Бодылине, восхищался им, рассказывал о будущем своем романе, в котором во всеуслышание воздаст должное сибирскому магнату. Вспоминал о своем отце Кондратии Федоровиче. И получалось по его словам, что и Кашеваров-старший преклонялся перед Бодылиным. И об Аристархе Николаевиче Кашеваров отзывался весьма лестно.
От его речей теплело на душе Агнии Климентьевны. После стольких лет отчужденности, даже враждебности к отцу, услыхать о нем доброе слово. Да еще от такого достойного человека.
А Кашеваров, словно бы разгадав смятение Агнии Климентьевны, сам подошел к ней и весело пригласил:
— А не выйти ли нам с вами на круг?
Но Агния Климентьевна оглядела его от носков лаковых туфель до седых, все еще пышных волос и после продолжительной паузы сказала озабоченно:
— У меня к вам дело, не терпящее отлагательства.
— Всегда к вашим услугам, сударыня.
— Мне кажется, я попала в довольно двусмысленное положение. Человек вы многоопытный, как мне сдается, искренне расположенный ко мне. Ваш совет крайне ценен. Словом, сделайте одолжение, прочтите это письмо.
То было письмо из Москвы. Свояченица покойного ювелира Никандрова описывала печальное событие в домике на Восьмом проезде Марьиной рощи.
Письмо заканчивалось так: «Поскольку, глубокоуважаемая Агния Климентьевна, ваше поздравление Ивану Северьяновичу с днем ангела не застало его в живых, а я слышала от покойного о вашей к нему доброте и внимании, сочла своим долгом уведомить вас о его кончине и наказать вам беречь себя, не допускать к себе посторонних личностей. Своим же умом я так располагаю: ежели злодеи достигли до Ивана Северьяновича и пытали у него про клады вашего покойного батюшки, так доберутся и до вас, чтобы забрать то, что досталось вам в наследство. Так что остерегайтесь их повсечасно. Помните, что береженого бог бережет…»
Взгляд Кашеварова медленно скользил по строчкам, то и дело останавливаясь и как бы насквозь проницая их. Он закончил чтение, бережно сложил письмо и машинально понес себе в карман.
— Нет, позвольте, — удержала его за руку Агния Климентьевна. — Простите, я не могу доверить его даже вам. Смерть моя, может быть, в этом письме или хуже того — бесчестие на старости лет…
— Фантасмагория! И не менее того. А ваша корреспондентка не того… не преувеличивает? Ведь, чай, в возрасте?
— Увы, не преувеличивает, — печально подтвердила Агния Климентьевна. Как надеялась она, что Кашеваров подскажет ей выход. Но похоже, что и Кашеваров растерян и, пожалуй, напуган не меньше ее самой. Агния Климентьевна заслонилась ладонью от света и почти простонала: — Господи, когда только развеется этот кошмар? Полвека он тяготеет над нашей семьей! Это погубило отца. Укоротило жизнь моему мужу. Теперь, видно, мой черед… Неужели это коснется и Настеньки?…
— Ну, зачем же так? — Кашеваров пожал ее сухие вялые пальцы. — Ведь не на необитаемом острове. Надеюсь, вы поставили в известность Николая Аристарховича?
— К сожалению, такая откровенность с ним исключена для меня.
— М-да, положение… Хотя, коль скоро милиция в курсе, они, конечно, примут превентивные меры.
— А проку? Что они, учредят здесь пост для моей охраны? Да и появление их в доме крайне нежелательно: это значит для меня открыться Николаю и Насте…
— Так, может быть, уехать? — предложил Кашеваров. — Сослаться на необходимость, ну… хотя бы срочной медицинской консультации…
— А куда? Куда уехать, когда все здесь?! — Агния Климентьевна покусывала губы, сдерживая слезы. — Когда в любой момент ждешь гостя.
Кашеваров склонился почти к самому ее лицу и спросил одними губами:
— Какого еще гостя?
На них никто не обращал внимания. Продолжались танцы. Кашеваров нервно потер руки, сказал:
— Ваша тайна — моя тайна. Я вас не принуждаю к откровенности. Но как же в таком случае я подам вам совет?
— Извините меня, — просительно заговорила Агния Климентьевна. — Я совершенно лишилась здравого смысла. Так вот… Но только, ради бога, никому… Вы станете четвертым человеком, кто осведомлен об этом. Ко мне могут прийти от брата Афанасия. Помните его?
— Весьма смутно, — Кашеваров осмотрелся и спросил, понизив голос: — Как я понимаю, к вам придут не для того, чтобы сказать «добрый день!»
— Такова была воля отца. Ну, а я… Вдруг я не смогу выполнить его желания.
— Почему же не сможете? — Кашеваров строго глядел ей в глаза.
— Его требования могут оказаться чрезмерными. Каждый имеет право подумать о себе.
— Позвольте. А как вы узнаете, что гость именно от Афанасия Климентьевича? Или есть какой-то знак, пароль?
— Есть. Я опасаюсь, что Никандрова навестил именно он! Теперь вот сиди и жди. Арестуют его, узнают, куда шел, зачем… Бесчестье мне и перед сыном позор. И встретиться с ним страшно. Чувствую, близок мой смертный час…
3
— Покружимся, братец, — Лиза из-под приспущенных ресниц оглядела Глеба и добавила насмешливо: — Кролик…
Глеб покорно положил свою руку ей на спину, сразу же сбился с такта. Лиза усмехнулась и скомандовала вполголоса:
— Веди на балкон!
Она прикрыла за собой балконную дверь. И Глеб задохнулся от наступившей вдруг оглушительной тишины, от нелепого их уединения. Чтобы стряхнуть с себя мучительную неловкость, произнес фразу, услышанную от кого-то из гостей:
— А партнерша-то у Николая Аристарховича безжалостная. Утанцевала старичка до посинения…
— Ревнуешь?
— Тебя это удивило бы? — Глеб повернул ее за плечо.
— Очень. — Она скинула со своего плеча руку Глеба. — Я ведь не ревную, хотя имею основания. Даже одобряю твой династический брак. Куда спокойнее и вернее, чем твои… приработки. — Балконная решетка лязгнула. Лиза замолкла, покосилась на Глеба. Он перегнулся через решетку, свесился в черный провал. — Я могла бы одним дыханием, — назидательно продолжала она, — смести твои планы. Но я не делаю этого. Разве это не подвиг для покинутой женщины?
— Подвиг?! Ты вынуждена молчать. Мы одной веревочкой связаны. И судьба у нас одна.
— Ну, не скажи. Я справлялась в Кодексе, в худшем случае меня обвинят в недоносительстве. Это далеко не то, что отмерят тебе. К тому же, если я все расскажу, отпадает, естественно, и недоносительство. Хотя, конечно, в любом случае это сопряжено для меня с некоторыми неудобствами. Ты можешь разоблачить меня, предать, так сказать, гласности наше прошлое… Но нам это взаимно невыгодно. Как видишь, я откровенна. Неужели ты и этого не оценишь?
Глеб подался к ней, будто ударить собрался, но сунул руки в карманы и заговорил сквозь зубы:
— Хватит красивых поз! Они-то и загнали меня сюда. А теперь ты рассчитала все выгоды и нацелилась на Аксенова. И я с радостью раскрою ему глаза…
— И поплатишься многими годами свободы, а то и жизнью! — жестко сказала Лиза. — А я лишь репутацией в глазах моралистов. В позиции каждого из нас есть свои плюсы и минусы. А наши интересы, как пишут в коммюнике, совпадают. Придется нам, видимо, забыть некоторые подробности друг о друге.
Живя в Октябрьском, Лиза заставила себя примириться с охлаждением Глеба. Как ни горько было ей, но она понимала: любой нормальный человек поступил бы так же на его месте. Настя откроет перед Глебом иные жизненные возможности. Но понять еще не значило простить, позабыть женскую обиду.
А может, проявить великодушие? Про таких, как Николай Аристархович, говорят: за ним, как за каменной стеной. А для женщины, которой под тридцать, надежность и житейская прочность ее спутника куда важнее привлекательности и пылкости.
Разумеется, Аксенов немолод, угловат, грузен — этакий матерый медведь на задних лапах. Но такая внешность в Москве может показаться даже экзотической: сибиряк в натуральную величину. Верно, он склонен отказаться от предложения переехать в столицу, но придется поднажать. И все будет в порядке. Хорошая квартира, новый круг знакомств, новые родственники. А что? Стать мачехой Насти и… тещей Глеба. Это будет для него страшная месть. Пусть смотрит, ревнует и казнится. Вдосталь насладиться местью, а лет этак через десять, когда Аксенов выйдет в тираж, простить.
Так думала, так мечтала Лиза, но вот уже больше недели она здесь, а Николай Аристархович остается для нее загадкой, «вещью в себе», как кокетливо назвала она его однажды, а он усмехнулся иронически и уклонился от продолжения разговора.
Аксенов очень занятый человек, но все-таки ежедневно находит для нее свободные часы… Сам, встав за рулевого, на своем директорском катере прокатил ее по реке Раздольной. Они встретили закат. По черной маслянистой воде возвращались в посёлок. На прощание он очень пристально заглянул в глаза Лизы. Она знала: в эту минуту глаза у нее были глубокими и лучистыми, но Аксенов поцеловал ей руку — и только. А когда ушел, у Лизы долго горели уши, будто кто надрал их.
Сегодня, войдя к Аксеновым, она по заблестевшим глазам Николая Аристарховича поняла, что тот с нетерпением ожидал ее. Гордо, как свою избранницу, представил гостям, с таким придыханием сказал «о счастливом случае в самолете», что она поверила: все сбудется…
Оставшись с ним наедине, она тепло и одобрительно отзывалась об его семье, его доме. Он благодарно сжал пальцы ее руки. Это прибавило смелости Лизе. И, придав своему тону искренность, задушевность, на какие только была способна, заговорила об одиночестве, имея в виду и себя, и Николая Аристарховича.
Но Аксенов вдруг отпустил ее руку, рассмеялся и грубовато напомнил расхожую мудрость о том одиночестве, которое приятно, когда есть кто-то рядом, кому можно пожаловаться на это одиночество. Лизе хотелось ответить дерзостью, но она весело согласилась. И опять было стыдно, стыдно до слез…
А сейчас Лиза, перегнувшись через балконные перила, пристально всматривалась в черный провал внизу и мысленно клялась себе вновь и вновь штурмовать Аксенова до победы. Ведь ничего еще не потеряно… Она покосилась на Глеба и сказала мечтательно:
— Не исключено, что я стану мамой Насти, а значит, и твоей. Я обещаю быть любящей мамой, мой нервный, вспыльчивый мальчик. Ты ведь знаешь меня, я умею быть нежной… — Она засмеялась, потрепала его по волосам.
Внизу серела, точно пеплом усыпанная, дорога. Еле разжимая задеревенелые губы, Глеб крикнул:
— Дрянь! Просто невероятно, какая ты дрянь… — И ударом ноги распахнул дверь в комнату.
4
Глеб бегом спустился по лестнице, остановился у дверей подъезда: решат, что напился и ударился в бега…
Из окна на землю падали квадраты света, между ними до самого забора тянулись рваные полосы мрака. Чернели гаражи и сарайчики. Надо побыть одному, подумать, особенно когда тебе предлагают такой дружеский союз, какой предложила сейчас Лиза.
На плечо Глеба опустилась чья-то рука. В сумраке смутно проступало лицо Насти.
— Ты здесь? — глаза ее в зыбком свете были огромными и настороженными. Она тревожно заглянула в лицо Глебу, повторила с облегчением: — Хорошо, что ты здесь. Что случилось? Ты плохо чувствуешь себя? Я подумала: вы поссорились. Но она такая веселая. Танцует с папой.
— Танцует, — машинально повторил Глеб и вдруг прижался щекой к Настиной руке. Она стала такой горячей, что кожу на щеке обожгло.
— А лицо у тебя горячущее какое, — Настя ласково пошевелила пальцами, совсем как когда-то его отец, приложила ладонь ко лбу Глеба, спросила тревожно: — Ты не заболел? Мне кажется, у тебя температура! Пойдем наверх! — Настя говорила быстро, не задумываясь над словами, стремясь успокоить Глеба. Она не знала, что встревожило его, но чувствовала: ему плохо, он почти в отчаянии. И сердце Насти заныло, и ей стало холодно, будто на хиусе в январе. — Пойдем, Глеб, простудишься чего доброго. Тебе надо выпить, согреться, успокоиться.
Глеб смотрел в глаза Насти, блестевшие не то от слез, не то от внутреннего жара, и видел в них свою боль, свое смятение и разом, всем существом мужчины понял: вот она, единственная, какую встретишь лишь однажды в жизни. На шее Насти часто пульсировала жилка. Глеб испуганно смотрел на этот трепетный голубоватый жгутик и думал: наверное, это самое уязвимое место у человека. Чтобы жилка не пульсировала так часто, надо, чтобы человек меньше испытывал горя…
Во рту Глеба стало сухо и терпко, к горлу подкатил солоноватый ком. Глеб осторожно привлек Настю к себе, прикрыл жгутик на ее шее своей ладонью.
— Пойдем! — сказал Глеб осевшим голосом. — Туда, — он кивнул в сторону раскрытых ворот.
Луна словно бы стряхнула с себя вялость, раскалилась ярко и щедро. Пологий глинистый взвоз к реке налился теплой желтизной спелого хлеба, у береговой кромки заблестел галечник. Река Раздольная, притихшая, усталая, накрылась лунным рядном, что тянулось от заиндевелого березняка таежной опушки к завесе тумана на другом берегу.
Настя и Глеб, взявшись за руки, почти крадучись спустились к реке. Не разнимая рук, сели в лодку у берега. Плечо Насти согревало плечо Глеба, ее ладошка, твердая и горячая, успокоилась в его широкой задубелой ладони, ее волосы колыхались от его дыхания и скользили по щеке Глеба.
— Никогда не видел такого, — сказал Глеб. — Луна, оказывается, живописец лучше Метелкина…
Настя засмеялась счастливо и сказала:
— Цепь у лодки хрустальная и облачко дышит…
— И волосы у тебя дымятся.
— Что ты! — Настя прикрыла ладонями волосы.
— Это от луны, глупенькая!
Глеб думал о том, что до сих пор он ни черта не знал, не видел вокруг. Не знал, как это отлично, когда кругом тишина, а рядом девчонка, самая обычная, но единственная, поверившая в тебя, в то, что ты такой, какой ей нужен, и лучшего не надо. А ты отшагал двадцать три года и даже не знал, что бывает такое… Тебе некогда было постигать это. Ты пробивал себе место под солнцем, делал деньги, о происхождении которых не спрашивают «интеллигентные люди»… Только хватит ли добытого тобой, чтобы оплатить право видеть, как льется вечерний свет в открытое окошко клуба и жарко вспыхивают золотые точки в глазах той, что поверила в тебя. Как пламенеют на солнце и дымятся от луны ее волосы. А право честно пожать руку твоему товарищу, с чистой совестью прочесть написанное о тебе в газете?
Неужели это право ты обретешь лишь после того, как годы и годы насмотришься на лунные брызги на шипах колючей проволоки… Не слишком ли тяжела плата за слепоту и самоуверенность? Но ведь иной платы нет. Так, может быть, поскорее начать расчеты?!
— О чем ты думаешь? — тихо спросила Настя.
— О чем? — заговорил Глеб, не отводя взгляда от тревожных глаз Насти. — Про человека, который только сам про себя знает, кто он есть на самом деле, который сжег свою юность, а может быть, и всю жизнь ради… Ради черт знает какой мишуры. Который отмерил треть жизни, но не знал, что такое любовь. Да что там любовь! Не знал, что такое лунная ночь, когда тишина и голубая листва. Про человека, которого считают хорошим, добрым, бывалым. В него влюбляются девушки, товарищи ставят в пример, а он, только он один знает, что на самом деле он подонок…
— Про кого ты, Глеб? — повторила Настя еле слышно и встала перед ним.
Глеб напрягся. Нет. Если он скажет, Настя сбежит. Да сначала пощечину влепит. Поувесистей, похлеще… Он скривил губы в ухмылке и сказал:
— Бочарников, корреспондент, как-то рассказывал о человеке, который живет по «чужому билету». Ну, с той поры и заело меня. Если напишут про такого… Интересно, да?
Настя, не отвечая, смотрела на него нахмурившись, не уводя взгляда, сказала, словно бы внушая себе:
— Значит, снова разыграл меня, да? Хорошо, думаешь, постоянно так мучить человека?
— Прости, — начал Глеб, проклиная и жалея себя. Он понял, что ничего уже не в силах изменить ни в прошлой своей жизни, ни в своем отношении к Насте. Ужасаясь, что сейчас, сию минуту он мог потерять ее навсегда, Глеб, будто в земном поклоне, качнулся к ее бледному в лунном свете лицу, сомкнул на ее шее свои напрягшиеся разом руки и, словно во сне, ощутил ее ладони на своей шее, жадно нашел губами ее губы.
— Навсегда, да?
— Навсегда! — клятвенно заверил Глеб. — Навсегда? А если болезнь, позор, разлука, беда какая?
— Все равно навсегда!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Кашеваров вздрогнул, открыл глаза. Всю ночь мучили кошмары: не то спасался от кого-то, не то гнался за кем-то. Болело сердце, не хватало воздуха.
«Старость, видно, — подумал Кашеваров. — Или занемог некстати».
Он стал внушать себе, что совершенно здоров и не по возрасту крепок. Просто устал изрядно, и застолье у Аксеновых было обильным. Но мысли эти не успокоили. Лучшие годы далеко позади, и как ни храбрись, а настигла одинокая старость. Занедужь, застрянь он в этой глуши, исчезни совсем, никто не станет оплакивать, да, пожалуй, никто и не заметит его исчезновения.
Он с досадой посмотрел на часы и присвистнул: оказывается уже полдень. Все встало на свои места, разоспался не в меру, расслабился, оттого и недомогание, и мрачные мысли.
Он энергично сделал несколько гимнастических упражнений, с удовольствием поплескался водой под краном и встал у окна. Так всегда стоял по утрам, обдумывал предстоящий день. Вечером надо убедить Агнию Клименсгьевну отдаться под защиту властей. Старуха, конечно, откажется. Придется порекомендовать ей положиться на волю случая. И обязательно держать его в курсе событий. А самому… Что же, риск так риск.
— А вот рыбка свежая, своя, не заезжая, — долетел из коридора хрипловатый голос. — Налетай, покупай, хоть в уху, хоть в жаркое сгодится чудо такое. Сгодится и на пирожок, да если еще под «посошок»…
Кашеваров усмехнулся: водятся же еще в глухомани этакие зазывалы-балагуры. И поспешил в коридор.
Там, прислонясь спиной к стене, сидел на корточках рослый старик в брезентовом дождевике. Рядом стояла плетеная корзинка. В ней чернели спины переложенных травой стерлядей.
— И что тебе неймется, Прохорович! — сердито выговаривала ему коридорная. — Сколько раз милиция предупреждала, чтобы не разводил браконьерство.
— Мне милиция в таком деле не указ. У реки жить да без рыбы. Инвалид я войны Отечественной, а не браконьер. Ловлю этим, спиннингом. А удача оттого, что места рыбные знаю. Артельные-то рыбаки, они развернутся покудова… А мне и приработок к пенсии, и людям в удовольствие. С доставкой на дом и цена сходная, не базарная. — Старик отмахнулся от дежурной и возвестил на весь дом: — А вот рыбка прямо с воды для царской еды. Эй, налетай, покупай!
Кашеваров порылся у него в корзине, отобрал рыбину покрупнее, протянул деньги, спросил:
— Значит, водится еще в Раздольной стерлядка?
— Водится, коли места знаешь да со старанием, — с достоинством ответил рыболов. — Могу показать, ежели любопытствуете, конечно.
— Давненько я с удочкой не сиживал. — Кашеваров вздохнул. — А хотелось бы.
— Чего же проще? Как надумаете, спросите Кузьму Прохоровича Семенова, всяк покажет мою избушку. Как пожалуете, так и поплывем ко мне на заимку. Только не близко. Это аж на Макарьевском острове.
— На Макарьевском?! Далеконько забрался. Это почти у Валежного, в соседнем районе.
— А мне район не указ, — забубнил бородач. — Была бы река. У меня зверь-моторка…
2
В Северотайгинском райкоме партии Анатолию Зубцову посоветовали поселиться в доме инвалида войны Егора Васильевича Ключникова.
— У него вам будет удобно: и до милиции рукой подать, и, кому не надо, на глаза не попадетесь до срока.
Ключников к просьбе секретаря райкома отнесся шутливо:
— Не иначе вскорости обяжете заезжую открыть. Только не шибко припекайте налогами, не лишайте материального стимула. — Исподлобья оглядел Зубцова. — Вас, если не секрет, конечно, на самом деле Анатолием Владимировичем величают или, может быть, так же, как объявили вот мне, что вы мой племянник по жене-покойнице?…
— На самом деле. Паспорт могу предъявить.
— Паспорт что, он бумага. Я тебя, значит, поскольку ты мой сродный племянник, стану при людях Толяной кликать, а ты меня соответственно дядей Егором. В войну случалось мне ваших ребят провожать к немцам в тыл. Ничего были парни, подходящие. Строгие, на слова тугие. Только и скажут: зовут, мол, Зовуткой, а иду на ту сторону к теще на блины…
— Ну, какой я разведчик? Несравнимо даже, честное слово, — смутился Зубцов.
— А кто же ты есть, как не разведчик, коли райком в порядке партийного задания тебя ко мне постояльцем ставит да еще объявляет моим племянником. Стало быть, есть причина укрыть от чужого глазу.
За своим названным племянником Егор Васильевич ухаживал с истинно родственной щедростью. Выставлял на стол соленых хариусов, грибы, моченую бруснику.
— Ешь, Толяна. Ешь да рассказывай свои случаи-происшествия, если не тайна, конечно…
— От вас не тайна.
Ключников слушал, подперев руками голову. Светлые, с желтинкой глаза остро буравили Зубцова.
— Ну и работенка у тебя, Толяна, Все времечко рассматриваешь изнанку жизни. Зажмуриться не хочется порой? Или пообвык и глазеешь с равнодушием?
— Нет, не привык.
— Вот это главное. Нельзя зажмуриваться вашему брату. Не то короеды эти враз почувствуют слабинку.
— Принимаешь гостей, Егор Васильевич? — донеслось из сеней.
Поскрипывая протезом, Ключников проворно заковылял к двери и сказал радушно:
— Входи, входи. Гостям мы всегда рады.
— Что случилось, Василий Васильевич? Почему сами? — встревоженно спросил Зубцов,
— Жарища, чтоб ее… — проворчал подполковник Лазебников, усаживаясь на стул. — Новости, мне кажется, экстренные.
— Пришла Лебедева?
— Не была у нас Лебедева. И не собирается, по-моему. Так что ваша ставка на ее порядочность не оправдалась. А вот ваша идея насчет письма к Лебедевой сработала. Теперь нет сомнений: клад все-таки у старухи, она сама намекнула на это…
— Кому намекнула?
— Кашеварову Степану Кондратьевичу. Дала прочитать письмо, а потом намекнула, что ценности у нее и что расставаться с ними она не намерена. И еще высказалась в том смысле, что ни к сыну, ни в милицию обратиться с этим не может.
— В милицию с бедой нельзя, к сыну тоже, а вот к Кашеварову, человеку ей не близкому, можно…
— Ну, Кашеваров ей родней родного, их водой не разольешь. Он собирается в книге своей заступиться за Бодылина. Прогуливаются вместе к пруду и по Бодылинской тропе. Разговоры самые нейтральные, вспоминают прошлое, обсуждают замыслы Кашеварова. Лебедевой это как маслом по сердцу.
— Это что, сообщение Бочарникова?
— Отчасти. А главную суть изложил сам Кашеваров. Явился к нам в понедельник вечером.
— Кашеваров явился?! — Зубцов не удержался, быстро заходил по комнате. — А ведь, конечно, дал Лебедевой слово молчать. Это действительно новость!
— Что вас так удивляет? — сказал Лазебников остужающе. — Сын героя гражданской войны товарища Кашеварова — это сын товарища Кашеварова.
— А другие интересующие граждане и гражданки? — спросил Зубцов почти машинально. Наконец, приняв какое-то решение, прихлопнул ладонью по столу и продолжал: — Чем они проявили себя в связи с письмом? Знают они вообще о нем?
— Обязательно. Метелкин был на почте, когда Лебедева получала письмо и читала его. Он даже спрашивал: что с ней, чем расстроена? Я считаю, Метелкин на почте оказался не случайно. И во время разговора Кашеварова с Лебедевой Метелкин все норовил присоединиться к ним. Об этом сообщают Бочарников и Кашеваров. Теперь дальше — Метелкин все старается уединиться с Лебедевой, просит позировать для портрета. Об интимной связи Гущиной и Карасева нам известно достоверно. А здесь они держатся врозь. Все свое внимание оба — семейству Аксеновых. Словом, воля ваша, конечно, но, я считаю, настало время решительных действий, а то как бы не пролилась кровь…
Зубцов все прохаживался по комнате. В раскрытые окна кивали желтыми шляпками подсолнухи, кружилась, рвалась на ветру прозрачная паутина.
— Решим так, Василий Васильевич, — сказал Зубцов. — Сформируйте немедленно оперативную группу, держите ее в райотделе на казарменном положении. Без моего приказа не тревожить никого из названных лиц, в то же время за всеми — неусыпное наблюдение. Конспирации моей конец. Завтра с утра я у вас. Обеспечьте явку Насти Аксеновой и Карасева.
3
Залязгал цепью, зашелся лаем Полкан. Ключников заковылял на крыльцо, вернулся в сопровождении невысокого паренька с копною рыжеватых волос.
— С тобой, племяш, не заскучашь, — в рифму объявил он. — Привратника заводить впору или швейцара.
— Входи, Гриша, не стесняйся, — приветливо пригласил Зубцов. — Ну и что, виделся? Рассказывай.
…Уже стемнело, когда Смородин разглядел возле общежития долговязую фигуру. Глеб тоже заметил человека, остановился, зорко всматриваясь в него.
— Гриша! — неуверенно окликнул Глеб, подбежал и вдруг обнял. — Гришка! Чертушка! Откуда?
— Из Москвы. Понежился недельку дома. Мать снова приболела.
В Москву Григорий не летал и произнес всё это скороговоркой, отводя взгляд от взгляда Глеба.
— Из Москвы?! — Глеб отпрянул от Григория. — А ко мне на обратном пути. Побрезговал, значит. Ну, скажем мягче: поопасался, друг Гриша, что снаряжу дипкурьером. Не снаряжу. У Карасева слово — олово. Можешь спать спокойно и не вздрагивать во сне. Я покончил с тем промыслом…
— Совсем?!
— А тут нельзя наполовину. Тут или-или… Я теперь такой положительный, что даже привлек внимание прессы. Корреспондент Бочарников из областной газеты очерк пишет. И Кашеваров, московский писатель, тоже обещал: расскажу про вас в своих сибирских зарисовках для толстого журнала. Того и гляди, приобрету всесоюзную известность. — Он старался говорить беспечно и шутливо, но проскальзывали в голосе смятение и горечь. — Ладно, двинем-ка в так называемое вечернее кафе. От речей пересохло во рту.
В прошлом году Карасев показался Григорию почти трезвенником. И сейчас Смородин с удивлением смотрел, как Глеб заказывал все новые порции спиртного. Сидел прямой, громоздкий, глядел поверх голов.
— А ты, Глеб, что-то не в своей тарелке, — пособолезновал Григорий. — Случилось что-нибудь? Как у тебя с Лизой?
— Случилось. Слыхал, может, такую песню: «Все, что было сердцу мило…» Ясно? Вот так!..
Григорий встревоженно глядел на Глеба. Он не знал, что в таких случаях полагается говорить: утешать или хвалить за решительность. Молчать было неловко.
— Лиза сейчас в Москве? — выдавил, наконец, Григорий.
— Здесь она.
— Здесь? И что же?…
— А ничего. Я же говорю: «Все, что было…» Теперь у нее другие жизненные планы.
— Значит, из-за нее? — Григорий глазами показал на стакан в руке Глеба.
— Все из-за нее! — обрадованно подхватил Глеб. — Учиться хотел после армии, а сюда рванул. Я же тогда совсем был кутенком. И все, что в прошлом году, — сообряжаешь, о чем я говорю, — все из-за нее. А она… Увидал, в общем, я ее в полный рост, во всем блеске… — Он вопросительно посмотрел на Григория и договорил хмуро: — А может, все получилось так потому, что повстречался здесь с одной… местной жительницей. Смешно! Вроде бы и птичка-невеличка. Но ведь человек! — Он вскинул вверх руку, показывая рост этого человека и застыл с выгнутой рукой.
К столику вразвалочку подошел тщедушный парень, с усмешкой оглядел Глеба, потом Григория, протянул через стол руку Глебу и сказал сипло:
— Здорово, великомученики Глеб и Борис!
Глеб натянуто улыбнулся, вяло пожал руку парню и заметил:
— Он не Борис, он — Григорий.
— Мне один хрен, — сказал парень, не глядя на Григория. — Значит, будем знакомы. Аркадий я, но не Райкин… — И расхохотался, очень довольный собой. Он по-хозяйски уселся за стол, жадно пил, еще более жадно ел и при этом говорил без умолку, зло вышучивал Глеба, громко хохотал и победоносно озирал слушателей. Григорий, досадуя на то, что их уединение так бесцеремонно нарушили, уловив момент, спросил с усмешкой:
— А ты, «не Райкин», с какого прииска?
Взгляд Аркадия стал колючим. Он не то улыбнулся, не то ощерился и заметил осуждающе:
— У-у! Какой скучный человек, какой бюрократ! Подавай ему анкету и трудовую книжку. А я вот без анкет и трудовых книжек. Я, как говорили раньше, человек божий…
— Надо же… А я по твоим ужимкам подумал, что ты — конферансье или коверный в цирке.
— Конферансье. Веселый я. Жизнерадостный такой. Поэтому смени-ка декорацию, пойди полюбуйся звездными мирами, тебе полезна прогулка.
Григорию стало очень обидно и за себя, и за Глеба, покорного, пришибленного. Даже возразить не может этому нахалу…
— А я не хочу гулять, — упрямо сказал Григорий. — Мне здесь лучше с Глебом. Мы пришли с ним…
— Ну, какой же ты зануда, — Аркадий поморщился. — Это я пришел к нему. Ясно? Ну, исповедаться я хочу Глебу, в интимных подробностях. Открыть хочу тайну разбитого сердца. В таком он у меня авторитете.
— Действительно, Гриша… — сказал Глеб просительно.
Случись это не сегодня, Григорий вообще бы порвал знакомство с Глебом. Но он выполнял поручение Зубцова. Гриша поднялся и направился к выходу.
Минут через двадцать из столовой неожиданно твердой походкой вышел Аркадий.
— Очень рад знакомству. Прощения просим, если побеспокоили, — дурашливо сказал он на ходу. — Вообще-то, парень, ты, оказывается, ничего. Любопытный только. А любопытной Варваре нос оторвали.
Григорий не знал, что, едва он вышел из зала, Шилов, разом стряхнув с себя хмель, придвинулся к Глебу и, понизив голос, с угрозой проговорил:
— Все еще отирается здесь твоя разлюбезная.
— Улетит завтра, — заверил Глеб.
— Завтра-а, — Шилов придвинулся к Глебу еще ближе. — Я тебя предупреждал. А чтобы не было чего между нами, неприятностей то есть… Вот тебе сувенирчик… — С этими словами взял Глеба за руку и положил на его покорно раскрытую ладонь что-то твердое, слегка холодившее кожу.
«Пистолет!» — тревожно метнулось в мыслях Глеба. Он посмотрел на свою ладонь, с облегчением перевел дух. Иконка. Маленькая, но тяжелая. Смутно проступали фигуры святых, их руки сжимали эфесы
мечей.
— Тезка твой на этой иконе, — прервал молчание Шилов. — И еще брат его Борис. Тоже великомученик. Как говорится, бери да помни. Да береги пуще глаза. И не приведи тебя бог потерять или словчить как-нибудь. Знай точно: в страшных снах не примерещится тебе такая расплата. Ни тебе, ни Насте, — подчеркнул он. — Нам терять нечего. Ты про третье желание все спрашивал меня. В общем, слушай. Пригласи старушку в лес на прогулку, или для сбора… гербариев. С тобой она пойдет. Ты же свой человек в доме. Выложишь ей мой подарок, на словах скажешь: братец Афанасий Климентьевич кланяется вам низко и посылает родственное благословение. А чтоб старушка не усомнилась ни в чем, ты проделай такой фокус. — Шилов взял икону, повернул ее вверх задней стенкой, нажал еле заметную скобочку. Крышка отошла и Глеб рассмотрел: в углублении уютно свернулась узкая золотая змейка.
— Знаменитая бодылинская! — жарко выдохнул Шилов. — Она у них в семействе как опознавательный знак, чтоб свой своего не попутал. Предъявишь ее бабушке, а на словах скажешь, да построже, повнушительней: мол, братец Афанасий Климентьевич очень огорчается, что долго весточки подать о себе не мог. И просит выделить своему посланцу законную долю по отцовскому завещанию. В какой день вести старушку на прогулку, я тебе скажу. Твое дело передать ей братское благословение. Остальное — наше. Знай, что мы будем рядом. Для этой… для подстраховки. — Шилов облизнул губы, усмехнулся. — И все. И гонорар твой. Ладно, за сим — адью!..
Когда Григорий вернулся в зал, Глеб сидел, пьяно уронив голову на руки. Григорий сказал раздраженно:
— Странный он. Выламывается, кривляется.
— Сволочь он! — с хмельной откровенностью объявил Глеб и зло пристукнул кулаком по столу. — Но ты не задирайся с ним. Шилов, он сволочь беспощадная. — Замолк, испуганно прислушиваясь и озираясь: — Боязно мне. Пошлет меня Шилов не сегодня-завтра в нокаут.
…Прощаясь с Зубцовым, Смородин сказал просительно:
— Не арестовывайте Глеба. Не надо. Скоро он придет сам…
— Арестовывать или нет, зависит не только от меня. А от нокаута я попробую его уберечь.
Едва утихли за оградой шаги Смородина, к Зубцову вошел новый посетитель.
— О, Эдик! — обрадовался Анатолий. — Впрочем, простите, корреспондент областной газеты Эдуард Бочарников…
— И, между прочим, корреспондентский хлеб ем не даром. Если ты помнишь, руководитель операции «Золотая цепочка» майор Зубцов направил в Северотайгинский район корреспондента Бочарникова с двойным заданием: психологически воздействовать на Карасева и собрать сведения о прошлом Степана Кондратьевича Кашеварова. Кашеваров сам помог мне, когда посоветовал заведующему клубом Оладышкину подготовить доклад о Кондратии Кашеварове. Кашеваров-младший надеялся, что Оладышкин загубит дело, не учел, что Оладышкин из тех, кого заставь богу молиться — лоб расшибет…
На семейном вечере у Аксеновых я вызвался помочь Оладышкину литературно обработать собранные материалы. Оладышкин принес объемистый опус. Засел я за него. И был вознагражден за труды. Вот, почитай.
«Общеизвестно, — писал Оладышкин, — что настоящие революционеры, в числе которых состоял и незабвенный Кондратий Федорович Кашеваров, всегда относились с большой заботливостью к подрастающему поколению детей. Красноречивый факт удалось осветить с помощью пенсионерки Клавдии Ивановны Поповой».
Зубцов читал, и за витиеватыми фразами Мая Севостьяновича воскресали давние события…
…В 1907 году пароходом по большой воде на прииск Богоданный был доставлен ссыльнопоселенец Кондратий Федорович Кашеваров. Остались за его спиной рабочие казармы за Нарвской заставой, казематы мятежной крепости Свеаборг, одиночка в «Крестах».
Урядник отвел поселенца на постой в пятистенку Якова Филина — «одного из самых благонадежных обывателей прииска Богоданного». Филин приглашал постояльца с собой в тайгу, но то ли слаб на ноги оказался тот, то ли вышла меж ними какая проруха, только Филин стал опять уходить в тайгу один. Кондратия же Кашеварова вскорости заметил Бодылин и поставил учителем в частную приисковую школу, уряднику строго-настрого наказал: на уроки к Кашеварову не ходить, по начальству о нем ничего не докладывать и дома не тревожить без крайней надобности.
Годы шли. Домохозяин все реже рассуждал с квартирантом о смысле жизни, о грехах замолимых и незамолимых, зато их сыновья-одногодки Васька Кашеваров и Стенка Филин были неразлучны. А когда от грудной болезни померла мать Степки, мальчишка рядом с приятелем и дядей Кондратием скоро позабыл горе.
В восемнадцатом, после отъезда с прииска старого хозяина, исчез Яков Филин, оставив на произвол судьбы шестилетнего Степку, и Кондратий Федорович привел его к себе в дом.
Степке Филину вместе с ним и названным братом пришлось вдосталь подышать дымом костров на партизанских становищах Филиппа Балкина, досыта покормить гнус на таежных тропах. Эти тропы привели ребятишек в город Таежинск, где партизанский комиссар Кондратий Кашеваров стал председателем уездного исполкома.
Зной сменялся стужей, ее размягчала весенняя ростепель. Но напрасно Степка Филин ждал возвращения отца. Бывший вольный старатель будто канул в воду. А от прииска к прииску, от заимки к заимке ползли слухи о Федоре Дятлове, провозгласившем себя «императором всея тайги» и поклявшемся «до смерти не выпускать из рук святого знамени единой и неделимой России». И о верном его наперснике Якове Филине, произведенном «императором» в полковники.
Объявленный Дятловым освободительный поход на Москву откладывался им то из-за весенней, то из-за осенней распутицы. Но и в летнюю жару, и в осеннюю непогоду, и зимними вьюжными ночами дятловцы жгли бутары и вашгерды на приисках, сторожили в засадах комиссаров, чекистов и подгулявших старателей. Врывались в селения, торопливо совали в торока все, что ни попадало под руку. И не мог проскользнуть мимо них ни пеший, ни конный.
Степка слышал, как мужики, привозя на базар скудную снедь, в ожидании парома у глинистого Таежинского взвоза, бабы и старухи на завалинках, лавочках, на церковной паперти, возведя глаза к небу, шептали истово:
— Оборони, господи, от татей Федьки и Яшки…
Лишь Степка не знал, о чем молить ему небо. Жутко было от рассказов о зверствах дятловцев, но рядом с Дятловым в двухпросветных полковничьих погонах, пришпиленных к нагольному полушубку, удирал из острогов, экспроприировал у старателей золото, жег, стрелял красных комиссаров его отец — Яков Филин.
Мальчик во все глаза смотрел, как по улицам Таежинска шел отряд милиции из Краснокаменска. Впереди гарцевал сам начальник губернского уголовного розыска Валдис. Потом из уст в уста полетела весть о гибели «императора всея тайги». И снова шел через Таежинск отряд губернской милиции, поределый, усталый. В некрашеном гробу везли Валдиса, на телегах в окружении конвоиров тряслись уцелевшие дятловцы.
В тот вечер Кондратий Федорович Кашеваров ласково потрепал Степку по жестким волосам и сказал:
— Твой отец в уездном допре. Будет ждать там революционного суда. Такая вот история, брат Степка…
И снова мальчишка не знал: радоваться ему вместе со всеми, что пришел конец дятловскому разбою, или печалиться, что родной папаня стал колодником. А через день-другой поползли слухи: Яшка Филин удавил часового и бежал из тюрьмы.
Якова еще не раз водворяли под замок, но он уходил через стены и решетки. Степка все чаще ловил себя на том, что ему стыдно называть свою фамилию, но и боязно за отца.
Потом утонул в реке четырнадцатилетний Вася Кашеваров, годом раньше Кондратий Федорович похоронил умершую от брюшного тифа жену, и в опустевшем доме они остались вдвоем.
Пареньку сравнялось шестнадцать. Однажды Кондратий Федорович заботливо усадил Степана перед собой и сказал, глядя прямо в глаза:
— Ты должен знать это, Степан. Твой отец причинил много зла людям. Военный трибунал приговорил его к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. — Он замолк, быстро облизнул губы и заключил: — Я давно считаю тебя сыном. Решай, что станешь делать дальше…
Так отпрыск таежного бродяги, налетчика и убийцы Якова Филина стал сыном старого большевика — Степаном Кондратьевичем Кашеваровым.
Зубцов закрыл папку и сказал:
— Действительно новость.
— Это еще не все, — весело заметил Эдуард. — Навестил я Клавдию Ивановну Попову. Комсомолка двадцатых годов, много лет работала с Кашеваровым и, видимо, питала к нему не только товарищескую привязанность. Из Таежинска переехала на работу в Октябрьский вместе с Кашеваровым, была свидетельницей последних лет его жизни. Усыновление Степана Филина происходило на ее глазах. Юноша написал заявление о том, что навсегда отрекается от своего отца, Якова Филина, поскольку тот оголтелый враг Советской власти, и признает своим отцом героя революционных битв Кондратия Федоровича Кашеварова.
Казалось, отношения между отцом и приемным сыном ничто не должно было омрачать. Однако Попова вспоминает, что Кашеваров, правда, вскользь высказывал сомнения в правильности своего поступка. Не чувствовал он сыновней привязанности со стороны приемного сына. А незадолго до своей гибели рассказал Поповой такую историю.
Побывал у него в исполкоме некий Викулов. Он слыл отшельником-старообрядцем. Но оказалось, к нему не раз наезжали за харчем дятловцы, у него скрывался в бегах Яков Филин.
Перед последним арестом Филин в сильном подпитии проговорился Викулову, что тайком наведался в Таежинск в дом «советского исправника» Кашеварова, вызвал своего Степку, говорил с ним за городом с глазу на глаз. В смертный час он будет спокоен: от его семени не быть гнилому племени…
Кондратий Федорович не поверил Викулову, хотя тот принес повинную и заявил: «Чую близкую смерть, а помереть хочу перед державой чистым».
Он все-таки спросил Степана о встрече с родным отцом, тот отрекся от всего, но обиделся на приемного отца, и вовсе не стало меж ними душевной близости.
В начале тридцатого года был убит Кондратий Федорович Кашеваров. Степан тоже получил подметное письмо с угрозами и уехал из Октябрьского, где и не бывал с тех пор…
Рассказывает это Попова к тому, что не вышло по-филински: не дало его семя бандитского племени…
Зубцов, унимая головную боль, энергично растер себе лоб, потом сказал:
— Все это, как выражается Орехов, пока одни лишь психологические нюансы. А чтобы иметь еще и факты, мы подкрепим твое сообщение вот этим. — Он положил на стол завернутую картонную папку. — Вот оно, «Дело по обвинению Филина Якова Ивановича». Нашлось-таки в архивах Военной коллегии. Теперь о нашем друге. Отсюда у него три пути: по воздуху — исключается. Понимает, что не долетит. В тайгу. Нет. Слишком он городской житель. И еще… еще через Макарьевский остров. Там мы его и встретим…
4
— Батюшки, Анатолий Владимирович! — Кашеваров на ходу застегнул домашнюю куртку; двумя руками потряс руку Зубцова. — Очень рад вас видеть в добром здравии. Сбылись-таки мои предсказания. Кофейку не угодно ли? — Не дожидаясь ответа, он тщательно прополоскал кофеварку, наполнил ее водой, включил в розетку. Все получилось у него ладно и споро. Лицо, голос, округлые жесты источали радушие. — А к кофейку-то, к душистому да крепкому, мы еще и гарнирчик сыщем. — Хихикнул возбужденно, извлек из шкафа бутылку армянского коньяку. — Божественный деликатес.
— Браво! — сказал Зубцов одобрительно. — Вам бы, Степан Кондратьевич, свой монолог на магнитофон, да пленочку-то в Бразилию. Большие деньги получите от королей кофейной рекламы. И без риска. Это вам не война с шелкопрядом.
— А здесь какой же риск? В шелкопряде, то есть?
— А гнус-то. Скитались по тайге, а таежный гнус не любит пришлого человека.
— И не говорите… — Кашеваров вздохнул горестно. — Был искусан до крови, до волдырей.
— Кстати, привычкой разбавлять кофе коньяком не в экспедиции обзавелись? Раньше вы славили только кофе, а теперь настаиваете и на коньяке. Наращиваете, так сказать, стимуляторы творчества. Что, работы много? Или нервные перегрузки?
— Памятливы же вы, — сказал Кашеваров с усмешкой. — И насчет нервных перегрузок совершенно правы. Не думал, что это все, — он указал рукой за окно, — так всколыхнет меня. Не юн, не сентиментален, жизнью потерт. Но вот, поди же ты… Воспоминания. Ассоциации. Итоги прожитого. — Кашеваров, давая выход волнению, прошелся по комнате, остановился перед Зубцовым и сказал тоном завзятого гуляки: — А что до коньячка… В моем положении пожить здесь месяц, можно вовсе спиться с круга. Куда не появишься, сразу угощение на стол. Как же — сын Кашеварова!.. Ну, вот и кофе поспел! Не по-турецки, не по-варшавски, а по-кашеваровски… Откушайте, Анатолий Владимирович. Да коньячком разводите. Кашу маслом не испортишь…
Зубцов с наслаждением потягивал кофе, поставил стакан и сказал:
— Я прочитал ваше заявление в местный райотдел. Спасибо вам, вы дали ценные сведения.
— Полноте, какие благодарности. Гражданский долг — не более того. — Кашеваров смущенно улыбался и по своей привычке потирал руки, будто мыл их, но вдруг встрепенулся. — Позвольте, когда же вы успели прочесть? Я понял, вы только что с самолета…
— Нет, я уже дней десять в поселке. Прилетел в связи с делом, в которое вы оказались невольно втянуты. Без вас мы бы не ведали о письме из Москвы…
— Так-то бы и не ведали?! — Кашеваров прищурил один глаз, словно бы прицеливался в Зубцова. — Про кофе-то мы совсем позабыли. Остыл небось. — Но лишь пригубил свой стакан, сидел, напряженно выпрямясь, барабанил пальцами по столу, кривил губы, словно от потаенной боли. У меня впечатление, что я тоже оказался объектом ваших…
— Так вы же рисовали у дома Лебедевой, беседовали с ней…
— И что же следует из этого? Или нельзя на улице поправить шнурок на туфле, заговорить с прохожим? Не ровен час, вступишь в контакт с охраняемым вами или с… опекаемым.
— Вы излишне драматизируете, Степан Кондратьевич. Но нам по долгу службы приходится быть настороже и проверять каждую случайность.
— Справедливо и логично, как все общие принципы, — проворчал Кашеваров, хмуро и зорко глядевший на Зубцова. — Но когда эти общие принципы примеришь на конкретный случай да еще на самого себя…
— Я понимаю вас, — Зубцов сочувственно улыбнулся. — Но и вы попробуйте понять нас. Вы читали письмо из Москвы. Знаете, как нагло повели себя преступники в доме Никандрова. Мы подняли архивные документы и убедились: речь идет о больших ценностях, которые более полувека утаиваются от казны.
— А не мифические они, ценности эти? — Кашеваров одним глотком жадно допил свой кофе. — Не похож был Климентий Данилович на тех, кто набивает кубышки, а потом наседкою сидит на золотых яйцах. — Задумался, как бы всматриваясь в свои воспоминания, и заключил убежденно: — Нет, не похож! Такая широкая и жизненно активная натура не для тайных кладов. А если и отложил что на черный день, так ведь полвека…
— Не исключен и такой исход, — покладисто согласился Зубцов. — Но «крохи на черный день» в масштабах Бодылина могут оказаться далеко не крохами на общие мерки. Если даже вы и правы, бодылинское золото растеклось сквозь пальцы, опять же интересно и важно знать точно, когда, где и сквозь чьи пальцы. Преступники не считают золото мифическим, готовы пойти на все, чтобы завладеть им. С Лебедевой и Аксеновым может произойти несчастье. И каждый, кто контактировал с этим семейством, привлекал к себе наше внимание. Вот и вы оказались в поле зрения милиции.
Кашеваров засопел сердито, вскинул к губам стакан, не замечая, что он пуст, и горячо запротестовал:
— Тогда, на Тополиной, я совершенно не знал, что передо мной дочь Бодылина, и так мало значения придавал этому знакомству, что при встрече с ней здесь даже не вспомнил ее. Ежели бы знать, что попаду под ваше недреманное око, так бог с ней, с резьбой и с потомками сибирских магнатов! Ногой бы не ступил на Тополиную улицу и Агнию Климентьевну бы обежал за три квартала. Репутация дороже.
— Кабы знать, где убиться… Но вообще-то, Степан Кондратьевич, все это и тогда и потом, в Октябрьском, выглядело не совсем случайно…
— А теперь?
— Теперь… — Зубцов, чувствуя на своем лице напряженно-острый, как бы обдирающий кожу взгляд Кашеварова, размял сигарету, медленно раскурил и сказал наставительно: — Теперь есть ваше заявление в райотдел. Оно многое расставило по своим местам.
— Слава богу. — Кашеваров тяжело поднялся, устало сутулясь, побрел по комнате. — Страшная, доложу вам, вещь — быть под подозрением. Унизительная. И расслабляющая. В таком состоянии в душе обостряется комплекс неполноценности. Прошлая жизнь видится цепью улик против тебя, над всеми помыслами доминирует инстинкт самосохранения, проще сказать — страх. — Он брезгливо передернул плечами и признался: — Не могу судить, как ваши подопечные, но я, зная, что меня подозревают, впал бы в панику… Нет, я не выдержал бы, сошел с ума, устроил истерику властям. Наконец, уехал бы отсюда немедленно…
— И укрепили бы нас в подозрении.
— Ох, и логика у вас… После чтения письма я все размышляю о роли Никандрова. Вот вам сила пустейшей случайности…
— Нет. Закономерности нашего бытия. У нас нельзя, пускаясь в такую авантюру, рассчитывать на игру в одни ворота… Но меня занимают практические вопросы: как предотвратить бегство участников авантюры.
— Бегство? Откуда?!
— Из Октябрьского, естественно.
— А они здесь? — Кашеваров снова медленно двинулся вокруг стола.
— Разумеется. Завтра познакомлю с одним из них.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
Зубцов критически оглядел отведенную ему в райотделе комнату. Хозяева повесили новую штору, принесли из кабинета Лазебникова полумягкие стулья.
За окном сочно желтела песчаная дорога, играл бликами стрежень реки, заречные сопки еле проступали в слоистом мареве. Просохшая после дождей трава пахла свежим снегом и парным молоком.
Подполковник Лазебников, гремя сапогами, прошелся по комнате, сказал хмуро:
— Чудно, товарищ майор. Готовитесь изобличать преступников, а хлопот, будто дорогих гостей встречаем.
— Я вам уже говорил, что намерен не просто изобличать преступников, а вести очень трудный разговор.
— Ну-ну… — хмыкнул Лазебников, повернул стул спинкой вперед, уселся на него верхом, уперся тяжелым подбородком в сомкнутые на спинке стула ладони. Долго разглядывал Зубцова. Нет, этот майор в пестреньком штатском пиджаке и в галстуке со стрелкой не укладывался в представлении Лазебникова о посланцах министерства. Даже сержанту или ефрейтору — «простите», «пожалуйста», «благодарю вас»… С теми, кого немедля надо брать, деликатничает, собеседования устраивает на душеспасительные темы и называет эту «резину» накоплением материала.
А какие орлы, бывало, наведывались в район! Повадки решительные, властные, фигуры осанистые, видные. Едва входит, ты уже чувствуешь, кто перед тобой, даст команду, выполнять ринешься бегом, пошутит — смехом зайдешься, распечет — так уж докрасна.
Сидя все так же верхом на стуле и не сводя с Зубцова пристального взгляда, сказал со вздохом:
— Может, устарел я. Пятьдесят пять все-таки и тридцать лет с гаком — в органах. Или недопонимаю чего. Но только не одобряю я это… — Он глубоко вдавил подбородок в скрещенные на спинке стула ладони. Круглая голова с жестким ежиком седых волос запала меж вскинутыми недоумевающе плечами с подполковничьими погонами.
— Что «это», Василий Васильевич?
— Все! — отрубил Лазебников и выпрямился. — Моды разные! Профилактики, уговоры, социологические исследования, психологические эксперименты, подходцы всякие… Нет, я, конечно, придерживаюсь и следую. Приказано создать группу профилактики — есть! Социологически обследовать клиентов медвытрезвителя — слушаюсь! Я — солдат дисциплинированный. Но душевно одобрить, извиняюсь…
Зубцов сказал, не сдерживая раздражения:
— Мода, мода… Что сверх привычки и шаблона, то от лукавого! А вы, наверное, философию изучали, зубрили перед зачетом: диалектика есть наука о наиболее общих законах движения… Все течет, все изменяется. Зубрили, повторяли и, выходит, ничего не поняли, не задумались о том, что вместе со временем движется, изменяется жизнь, понятия, представления, методы работы. В том числе и нашей…
Лазебников с интересом смотрел на Зубцова. Таким сердитым нравился он ему куда больше.
— Вы, товарищ майор, все о высоких материях, — примирительно сказал Лазебников, — а я о земном, житейском. Нянчимся мы чересчур с разной дрянью. Ему закон — не закон, а мы все по закону. Носы им утираем и печемся, как бы не забыть побрызгать на шелковый платочек духами…
— Слышал такие суждения. Но от работника милиции слышать, право, неловко. Обывательские это разговорчики и жестокие, бездушные. Маркс еще говорил: плохо то общество, которое видит в преступнике лишь преступника и не замечает, не признает в нем человека… Преступник чаще всего сам махнул на себя рукой и не верит в перемены к лучшему в своей судьбе. Даже в собственных глазах он не человек. В глазах сообщников — тем более. Должен же кто-то напомнить ему, что он человек, что у него были и есть мать, нормальные товарищи, планы и желания, добрые начала в душе…
— Спасать, стало быть, заблудших. Такая, значит, нынче установка. То-то, я смотрю, вызвали к себе матерого ворюгу, потенциального убийцу, а будто к встрече персидского шаха готовитесь. А по мне… — глаза Лазебникова сузились, голос сорвался на злой полушепот: — По мне этого голубчика под конвоем доставить, того лучше — в наручниках. Да сразу в камеру. И при допросе не зашторивать решетку на окошке, не прятать. Смотрит пусть и казнится. Трепещет перед нашей формой!
— Дрожащий и сплющенный он мне не нужен. Думающий, взволнованный, критически осмысливающий себя — другое дело. Что толку, если он станет трепетать передо мной? Не лучше ли внушить ему доверие, вызвать на искренний разговор?
— Товарищ подполковник, — в дверях появился дежурный по отделу. — Спецсообщение из Москвы и справка нашего паспортного отделения.
Лазебников вскрыл конверт, прочитал бумагу, подавая Зубцову, сказал обрадованно:
— На фотографии Шилова, которого мои ребята засняли в вечернем кафе, старушка Максимова признала того, кто был у Никандрова под видом Федорина.
— А вы предлагали Смородина в кутузку. Как же без него вышли бы мы на Шилова?
Лазебников, не отрываясь от бумаги, проворчал:
— Выйти-то вышли. Но вот найти его…
Паспортное отделение сообщало, что среди жителей района в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет — тридцать четыре Аркадия, но среди них нет Шилова. А среди сорока Шиловых нет Аркадия…
— А может, его вообще нет у нас? — спросил Лазебников с надеждой. — Повидался и — до свидания.
— Здесь он, — сказал Зубцов убежденно. — Ему еще прощаться с Октябрьским рано.
— Тогда не иначе, как в тайге. А это — что малек в океане. Может скрываться до второго пришествия. Ускользнуть и водой, и сушей. И вынырнуть где-нибудь за тысячу километров.
— Перекроем. Все пути. И за тысячу километров, и за две, и дальше. Я убежден: Шилов сам появится в Октябрьском.
2
Кашеваров молча поклонился Зубцову, поставил у дверей раздутый портфель, оглядел комнату и сказал с натянутой улыбкой:
— Совершенно не компетентен в обстоятельствах вашего ведомства. Последние контакты имел с ним году в сорок шестом. Получал после демобилизации паспорт. Бессрочный, как фронтовик и кавалер ордена.
Зубцов смотрел на этого человека, который причинил ему немало беспокойства, но лишь теперь заметил, как стар и утомлен Кашеваров, как темнеют у него под глазами водянистые отеки, как дрябла и желта кожа на его лице, как глубоки морщины на лбу и у губ. Зубцов потер себе лоб и сказал ободряюще:
— Мужество, наверное, в том, чтобы и в шестьдесят смотреть вперед.
Кашеваров усмешливо взглянул, явно намереваясь вступить в спор, но вошла Настя Аксенова. За нею тяжело шагнул Глеб Карасев. Настя перевела дух и спросила:
— Это вы нас вызывали, товарищ?
— Я, Настя. Садитесь, пожалуйста. И вы присаживайтесь, товарищ Карасев. — Зубцов подождал, пока Глеб уселся рядом с Настей. — Позволь и мне представиться: Зубцов Анатолий Владимирович, майор милиции, сотрудник министерства внутренних дел.
Кашеваров закинул ногу за ногу, достал сигарету и проговорил веско:
— Насколько я представляю характер предстоящей беседы, главные действующие лица еще отсутствуют?…
— Нет, все в сборе, — сказал Зубцов. — Я пригласил вас потому, что нам стало известно: шайка валютчиков готовится похитить золото, принадлежавшее приискателю Климентию Даниловичу Бодылину. Золото хранится в тайниках, известных близким покойного…
Настя широко раскрытыми глазами смотрела на Зубцова, рука ее сжимала запястье Глеба:
— Золото?! В тайниках? Какая злая и неумная выдумка! Близких Бодылина, Аксеновых то есть, всего трое: бабушка, папа и я. Золото в тайниках! Кто же хранит-то его? Папа, может быть?! Бабушка? Или, может быть, я — хранитель? — Настя жалобно, почти умоляя о помощи, поглядела на Глеба, закаменевшего рядом с ней, ожидая, что он засмеется над заявлением Зубцова и майор поймет всю чудовищность своих слов, тоже посмеется вместе с Настей и Глебом.
Но Глеб не засмеялся, не разжал губ, только облизнул их. И хотя пальцы Насти по-прежнему сжимали его запястье, рука Глеба и весь он был далеко-далеко от нее, как на берегу ночью, когда он заговорил про человека, который живет по чужому билету… Настя посмотрела на столичного майора. И в глазах этого совсем чужого человека уловила скорбь и напряжение.
— К сожалению, Настя, ни вы, ни даже ваш отец не знает, что Бодылин перед смертью выдал сообщнику часть своих богатств, чтобы понадежнее укрыть остальное. Не знаете вы также, что в течение полувека власти стремились вернуть утаенное Бодылиным золото, а разного рода авантюристы до сего дня не отказались от попыток завладеть им.
— Но почему вы говорите об этом мне, а не бабушке и отцу? — запротестовала Настя. — Даже странно.
— А вам не кажется странным, что вы узнаете обо всем лишь от меня? Не кажется странным, что бабушка не рассказала вам ни о событиях полувековой давности, ни даже о том, что в день ваших именин получила письмо, в котором ее предупреждали об опасности. Но она скрыла его от вас с отцом и от нас. Спасибо Степану Кондратьевичу. Не приди он к нам, мы так бы и не узнали о письме.
— А он… — Настя опустила голову и кивнула в сторону Кашеварова. — Откуда узнал про письмо?
— Агния Климентьевна собственноручно дала мне письмо, просила прочесть, сохранить в тайне и посоветовать, как поступить далее. Поскольку к вам с отцом она в силу каких-то причин обратиться не может. Мне дорого благополучие вашего семейства, и я счел должным прибегнуть к защите.
Зубцов вышел из-за стола, сел рядом с Настей и сказал так, словно бы они беседовали наедине:
— Вы взрослый человек. Комсомолка. И даже общественный деятель в поселке. В жизни каждого наступает пора, когда надо отрешиться от детских иллюзий. Агния Климентьевна не хочет или не может раскрыть нам свою душу. Не станем пока судить ее за это. Мы еще не знаем всего. Но я прошу вас вместе с отцом стать опорой и защитой бабушке. Станьте зоркой к людям, которые окружают вас, которые появляются рядом с вами… — Зубцов обернулся к Глебу. — Я уверен, вы справитесь с этим испытанием У вас есть верный друг. Не так ли, Глеб Карасев?
Все, как по команде, посмотрели на Глеба. Он сидел неестественно прямо, упираясь затылком в стену. В глазах билась такая тоска, что у Насти зашлось сердце. Он снял со своей руки руку Насти и, не меняя позы, сказал в пространство:
— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Где уж мне сторожем стоять у аксеновских дверей, когда от меня их запирать надо. — Глеб чувствовал неуместность, даже нагловатость своего тона, но добавил с вызовом: — Да и не холуй я больше никому…
Он осознал: отступать некуда. Сейчас ему придется во всеуслышание признаться в том, что давило его в последние месяцы. Он желал одного: непременно вызвать к себе отвращение Насти. Пусть она посчитает его фатом, нахальным и примитивным, только пусть не смотрит на него с таким испугом и состраданием…
Однако Настя коснулась своим плечом его плеча, заглянула Глебу в глаза и сказала еле слышно:
— Ничего не понимаю, Глеб! О чем ты?!
В комнате стояла такая тишина, что было слышно, как на дальнем конце поселка стучит движок электростанции, как плещется на пруду гусиный выводок. В этой тишине глуховато прозвучал голос Глеба:
— Все правильно. Третье желание Великого артиста-профессионала. Правильно. Все как в сказке.
Глеб, будто нырнуть собираясь, набрал в грудь воздуха, сунул руку в задний карман джинсов и протянул Зубцову иконку. Однако не отдал ее, повернул задней стенкой вверх, нажал скобочку, крышка отошла, и на ладонь Зубцова сползла узкая золотая змейка.
— Это что, молодой человек, у вас за ящик Пандоры, — вяло, точно с внезапной дремотой борясь, спросил Кашеваров, и только Зубцов заметил, как высветлила белизна его скулы.
— Вот, значит, какая она, золотая бодылинская цепочка, — взвешивая на ладони золотую змейку, сказал Зубцов. — Жаль старика Никандрова. Порадовался бы Иван Северьянович находке. — Зубцов обернулся к Глебу: — И для чего вручена вам эта драгоценность?
— Должен я был Агнию Климентьевну в тайгу заманить. И там ей эту штуку… Привет, мол, вам от братца Афанасия Климентьевича… А дальше они, великие-то артисты, сами должны были управляться…
— Господи, Глеб! О чем ты? Кого ты должен был убить? — испуганно воскликнула Настя.
— Не знаю кого. Может, и тебя… А вот бабушку твою к смерти привести — это точно. — Он услыхал свои слова, и они обожгли его. Лицо, шею, глаза, руки Глеба обдало жаром. Он прислонил ладони к щекам и, тяжело переведя взгляд на Зубцова, заговорил: — Это я был заслан в дом к Аксеновым.
— С какой целью?
— Чтобы золото взять это. Бодылинское. Так я понимаю теперь. А вообще-то Шилов мне ничего не сказал конкретного. Крутил только мозги насчет «трех желаний» да «сувенира» их главного… — Глеб повернулся к Насте и, разом позабыв свое намерение вселить ей отвращение к себе, сказал торопливо: — Ты уж прости меня, Настя, если можешь. За то, что я к тебе… по чужому билету. Подослали меня к тебе. Прости меня.
Настя, защищаясь от его слов, прижала руки к груди и сказала:
— Ох да и выдумщик же ты, Глеб! Неужели все, что было… Мы же поклялись: всегда вместе! Помнишь? Или тоже велено было, да?
— Что ты, Настенька! Что уж вовсе я, по-твоему, подонок?! Хорошее, оно потом само пришло. На берегу тогда я и хотел тебе об этом рассказать, чтобы все у нас стало чисто и честно. Да побоялся расплаты, что уйдешь, побоялся…
Зубцов посмотрел на поникшую Настю, вздохнул печально и сказал, обращаясь к Карасеву:
— Надеюсь, теперь, наконец, расскажете?
Глеб склонился вперед и монотонно, равнодушно стал рассказывать о встрече с Шиловым на Бодылинской тропе, об его приказе и обещании по-царски наградить за услугу.
— Терять нечего мне было тогда. — Глеб с тоской посмотрел на Настю, махнул рукой и договорил: — И отказать Шилову я не мог. На крючке я у него сижу крепко. Прошлый сезон… баловался, в общем, я золотишком в артели. А Шилов знал подходы к скупщикам и, когда появился товар, стал коммивояжером.
— И много вы с Шиловым расторговали?
— С килограмм приблизительно. На том и кончилось дело.
Зубцов усмехнулся и покачал головой.
— Ваша сестра, Елизавета Ивановна Гущина, прилетела сюда не за свежим товаром?
— К товару она никогда не прикасалась. И вообще не спрашивала, откуда у меня деньги. — Глеб покосился на Настю, заговорил торопливо: — Да и не сестра мне она. А как бы вам сказать… подруга, словом. — Он снова посмотрел на Настю, договорил для нее: — Не звал я ее сюда. Прилетела, потому что перестал ей писать. А здесь на Николая Аристарховича нацелилась. Только пустой номер получился. Уехала вчера ни с чем.
Совсем близко за окном пулеметной очередью прострочил вертолет. Блеснула и растаяла в мареве гремучая черная стрекоза.
Настя очнулась от оцепенения, будто слепая, нащупала пальцами замок сумочки, открыла ее, достала косынку, по-струшечьи затянула узлом под подбородком, не глядя ни на кого, спросила:
— Вы позволите мне уйти?
Зубцов виновато посмотрел на нее, затоптался на месте, сердито шаркнул себя рукой по лбу и сказал:
— Конечно, Настя, конечно…
Настя поднялась медленно и осторожно, на мгновение ресницы ее дрогнули, взгляд коснулся Глеба. Глеб рывком подался к ней, но ресницы Насти опали. Она повернулась спиной и тихонько побрела к двери.
Кашеваров проводил ее взглядом, зачем-то расправил лацканы пиджака и с ухмылкой сказал Зубцову:
— Так испаряется и тает романтический флер… И обнажается скотское естество во всей наготе. — Он кинул испепеляющий взгляд на Глеба и продолжал патетически: — Каков ловкач! Я — старый воробей, и то чуть не склевал эту мякину. Писать о нем хотел в своих сибирских этюдах. Он за сребреники иудины душу свою готов заложить и дьяволу, и любому бронтозавру преступного мира. Ей-же-ей, Анатолий Владимирович, кабы сам не слыхал, нипочем бы не поверил. Фантасмагория! Тайные анналы с купеческими сокровищами. Прямо-таки гангстерская шайка. Приказы, слежка. Мафия! Коза ностра! И не менее того!
— Великий артист! — Зубцов пристукнул рукой по столу, давая выход раздражению и, не глядя на Кашеварова, продолжал, обращаясь к Карасеву: — Это что, кличка? Вы встречались с ним?
Зубцов смотрел на Глеба, но даже и не видя Кашеварова, чувствовал, как напряжен Степан Кондратьевич. Заскрипел стул, Кашеваров двинулся к двери.
— Слыхал только от Шилова, что он щедрый к друзьям, ну и беспощадный, само собой. А кто он, где, каков из себя, понятия не имею.
— Шилов знает его?
— Вроде бы. Хотя не уверен. Между ними скорей всего есть еще промежуточный человек.
— Шилов не намекал вам или, может быть, вы почувствовали, не появился здесь Великий артист?
Глеб удивленно посмотрел на Зубцова:
— Да что вы! Разве этакий деятель сунет свою голову в петлю. Он за деньги «негров» наймет или на испуг поймает дурака вроде меня…
— Значит, нет его здесь, в Октябрьском. А где я могу встретиться с Шиловым? — Зубцов сел на стул рядом с Глебом.
— Между прочим, Шилов был мне все-таки другом… Где он сейчас, не знаю. Но уверен, не в поселке. Хотя и недалеко, в тайге, видно. Находил меня, когда я был нужен, спрашивал, какие новые люди появляются у Аксеновых.
— Про меня вы доложили ему? — спросил Кашеваров.
— Сообщил, конечно.
— И что же он?
— Сказал: «Этот старый хрен мне, как рыбке зонтик…» Как я понимаю, приберегал он меня для решающего удара.
— Вы все честно сказали, Карасев?
— Все. — Глеб вздохнул. — Теперь мне уж все равно. По правде сказать, я сам хотел прийти сюда. — Он помолчал, вдруг слабо улыбнулся Зубцову и признался с явным облегчением: — Вообще-то… Не поверите, но я рад, что уже здесь, в милиции, словом, что позади все. Я ведь мог и до высшей меры допрыгаться… А так… Отработаю, что отмеряют. И вернусь к людям, со своим билетом вернусь. Может, и она простит…
Зубцов пошел по комнате, рассуждая вслух:
— Значит, Великий артист предпочитает загребать жар чужими руками, оставаясь в шапке-невидимке. — Анатолий остановился перед Глебом, устало заключил: — Что же, гражданин Карасев Глеб Владимирович, я вынужден взять вас под стражу.
Глеб тяжело поднялся с места, обреченно шагнул навстречу явившемуся на звонок Зубцова сержанту.
Кашеваров проводил его безучастным взглядом:
— Порок наказан, торжествует добродетель… Что же, Анатолий Владимирович, спасибо за наглядный урок. Мне пора.
— Степан Кондратьевич, не хотите со мной навестить Аксеновых?
Кашеваров искоса посмотрел на Зубцова, пошевелил губами, словно пережевывая что-то, медленно застегнул пиджак и сказал с натянутой улыбкой:
— Что же, назвался груздем — полезай в кузов. Всегда готов сопутствовать, Анатолий Владимирович…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
В межгорьях загустели последние сумерки. Потеплели, налились желтизной окна в поселке. Только в доме Аксеновых не зажигали огня.
— Ты плачешь, Настенька? — спросила Агния Климентьевна чуть слышно. — Не сдерживай слез. Женщине когда-то непременно доводится поплакать, даже поголосить. От этого мы становимся крепче и добрее.
— А надо ли… добрее-то?
— Непременно. Без сострадания да без веры в людей душа — каменная пустыня. Я внушала тебе это, да, видно, говорила невнятно.
— Ты еще учила меня быть откровенной, а сама…
— Всему свой час, Настя.
— Все отговорки! То маленькая чересчур, то жаль причинить боль, то сомневаемся, поймет ли нас другой человек. Он тоже вот… боялся причинить боль. А разве мне теперь меньше больно?! Может, мне и ему сострадать? Да пусть буду я трижды каменной… Я подумала: если он врал, то почему ты не можешь?
— Не ожесточайся. Когда остынешь, вспомни: на камне только змеи греются на солнце.
— Не пожалеть ли его ты призываешь меня?
— К пониманию и состраданию. Любит он тебя, Настя. И того не забывай, какую он муку испытал, когда открылся во всем. Не спеши рубить сплеча. Наша сестра отходчива. Сострадаем любимому человеку, каков он ни есть. Такова уж наша бабья душа…
— Не смогу я никогда позабыть, что подослали его ко мне. Для меня он навсегда предатель! Навсегда…
Стукнула дверь. Вспыхнул свет. Настя заслонилась рукой, а когда отвела ее, увидела отца, майора Зубцова и Кашеварова.
— Кому это, дочка, ты выносишь приговор? — спросил Николай Аристархович с напускной бодростью.
Настя шагнула навстречу отцу и, не обращая внимания на его спутников, сказала звонко:
— Глебу Карасеву, передовику производства и самодеятельному артисту! И всем проходимцам. Помнишь «счастливый случай в самолете»?…
— Помню, Настенька. И все знаю…
— И невозмутим?!
Николай Аристархович, не отводя от нее взгляда, опустил руку на плечо дочери — плечо дрогнуло — и сказал, приглушая голос:
— Отволновался я уже, дочка. Анатолий Владимирович Зубцов сразу после твоих именин посвятил меня.
— И просил Николая Аристарховича хранить все в секрете, — пришел на помощь Аксенову Зубцов.
Кашеваров нервно потер руки и сказал возбужденно:
— Та-ак. Ловко. Обкладывали его, значит, как волка. Стало быть, истинное лицо Карасева для вас не было тайной. Но вы ждали, когда созреет плод…
Агния Климентьевна приблизилась к Зубцову, водрузила себе на нос очки, часто мигая, всмотрелась и сказала осуждающе:
— Выходит, и я волчица в вашем понятии. Водили старуху за нос, играли в прятки. Техником сказались по сносу домов, а сами-то аж из Москвы, из милиции. Сына моего посвятили в свой секрет, внучке не постеснялись разбередить душу. Мне одной отказали в доверии…
Зубцов взял Агнию Климентьевну под руку, довел ее до кресла, заботливо усадил, сел рядом и сказал:
— К сожалению, Агния Климентьевна, у нас есть серьезные основания считать вас хранительницей клада.
— Любопытно проследить ход ваших умозаключений, — с вызовом сказала Агния Климентьевна.
— К осени двадцать первого года в России из детей Бодылина остались только вы. Климентий Данилович очень любил вас и, отправляя с мужем вас в Петроград, не мог не позаботиться о вашем будущем, не мог скрыть от вас и Аристарха Николаевича утаенные ценности.
Агния Климентьевна, тяжело опираясь о подлокотники кресла, поднялась, подошла к платяному шкафу, достала из него старинный, в шотландскую клетку плед, закуталась и сказала надменно:
— Мне отец о ценностях не говорил ничего. А я не вникала в секреты отца и мужа. И Аристарх Николаевич, и я воспитаны в строгих правилах: не выспрашивать близкого о том, о чем он предпочитает молчать.
Кашеваров метнул взгляд на Зубцова и сказал благодушно:
— А может, и не было их вовсе, утаенных богатств? Национализировали движимое и недвижимое, а потом еще и ограбили Бодылина?
— Ограбили уже после отъезда молодоженов, — напомнил Зубцов. — И вы не оригинальны, Степан Кондратьевич. Такая точка зрения отражена и в некоторых документах двадцать первого года. Но уже тогда и представители власти и разного рода авантюристы, даже в эмигрантских кругах, думали иначе. Вы, Агния Климентьевна, хотите сказать, что ничего не знали ни о действиях властей, ни о махинациях преступников?
— Так оно и есть на самом деле.
— Трудно оспаривать это. Но есть объективные данные. В конце мая этого года в Москве на аллейке сквера некая старушка интеллигентного вида задешево продала фарцовщику Светову разрезанную золотую цепочку и разрезанный же фунтовый слиток с вытравленной печатью. Светов был задержан. Экспертиза установила, что слиток из золота, добытого на прииске Богоданном в 1915 — 1919 годах, и заклеймен личной печатью вашего отца. Цепочку в виде змейки-медянки к карманным часам вашего отца опознал ваш старинный приятель Иван Северьянович Никандров. Произошло это в те дни, когда вы находились в Москве. Это мы знаем точно: авиационные билеты именные.
— Пустила-таки Полина с торгов завещанное ей матерью. — Агния Климентьевна гневно прихлопнула ладонью по подлокотнику кресла.
— Какая Полина?
— Феоктистова Полина Степановна, Гликерии Мартыновны дочка… — думая о своем, почти машинально отвечала Агния Климентьевна. — Как наказывала ей Гликерия Мартыновна, чтобы и в мыслях не держала распродажу. А она… Эх, жадность да корысть… — Агния Климентьевна вздохнула, сказала с облегчением: — Вон, значит, из каких мест потянулась эта цепочка. А я-то думала… — Она взглянула на Зубцова, заметила укоризненно: — А вы решили: Агния Климентьевна не молода, в некотором роде интеллигентна. Следовательно, это она ринулась в золотую коммерцию!
— Возможно, у вас есть право на иронию, — сказал Зубцов. — Но как случилось, что умершая в мае сорок третьего года и похороненная в Кировской области Аксенова Агния Климентьевна через полгода благополучно достигает Краснокаменска, простите меня, скоропалительно вступает в новый брак и превращается в гражданку Лебедеву? Коль скоро
вам нечего скрывать и некого опасаться, зачем понадобилась вся эта одиссея с исчезновениями и превращениями?
Агния Климентьевна тяжело вздохнула, скорбно посмотрела на Николая Аристарховича, и сказала:
— Сын мне доселе простить не может этого, и вот вы… По дороге в Краснокаменск снова я захворала и добралась до родного города еле живехонькой. Из вагона попала прямо в больницу, в палату к Валерьяну Васильевичу Лебедеву, другу моих гимназических лет, который еще «на заре туманной юности» питал ко мне привязанность. А зимой сорок третьего стал при мне и доктором, и нянькой. Привязалась я к нему не из опасений и страхов, как вы трактуете, а просто по-человечески. Аристарх Николаевич скончался в блокаде, сына считали пропавшим без вести, впереди у меня — ничего, кроме одиночества. Не из корысти, и уж, поверьте мне, не по страсти… — Она осуждающе посмотрела на сына и договорила с усмешкой: — А свидетельство о смерти я сама себе не выправляла. Спрос за него с тех канцеляристов, что сочли меня умершей, когда сняли без сознания из эшелона в Котельниче Кировской области. А Гликерия Мартыновна Феоктистова, добрая душа, никому не сказываясь, забрала из санпропускника к себе домой. Там я и отлеживалась полгода. Время военное, никто обо мне не запрашивал, так и затерялась я в тогдашней сумятице, записали меня за упокой…
Зубцов пошел было по комнате, но сразу же вернулся к Агнии Климентьевне и спросил:
— А Павел Елизарович Потапов не говорил вам, что я расспрашивал его о бодылинском золоте?
— Потапов? Павел Елизарович? Действительно, мы познакомились с месяц назад. Наведал он меня, обсказал свое происхождение, но, кроме как на самые общие темы, мы не говорили с ним ни о чем. Посетили городское кладбище. Куда же еще нынче идти потомкам Бодылина и Потапова?… А про ваши с ним встречи не намекал и звуком. Упомянул только, что он, как все, считал меня умершей и нипочем бы не сыскал, но перед отъездом в Сибирь ему сказали, что я живехонька.
— Кто именно сообщил ему эту новость? Он вам не называл?
Кашеваров зашелся таким кашлем, что побагровел и проворно закрыл лицо носовым платком
— От кого он услыхал? — растерянно переспросила Агния Климентьевна. — Вовсе из памяти вон… Хотя, позвольте, припоминаю, он говорил… Да, однако, вас он помянул, Степан Кондратьевич… Явственно помню, вас…
— Путаете что-то, сударыня, — сквозь кашель пробормотал Кашеваров. — Это я про вас услышал от Потапова. Я же вам еще сообщил, помните, Анатолий Владимирович?
— Помню. — Зубцов усмехнулся и снова обратился к Агнии Климентьевне:
— Несколько дней назад вы получили из Москвы письмо от свояченицы покойного Никандрова. Вы не посвятили в содержание письма даже близких, доверили свой секрет Степану Кондратьевичу. Письмо из Москвы отправлено с нашего ведома. Расчет наш был прост: коль скоро вам нечего таить, то после получения письма единственный для вас путь — это путь в милицию или откровенный разговор с вашим сыном. Но вы промолчали…
Агния Климентьевна сидела неподвижно, опустив взгляд. Она с усилием подняла голову, провела рукой по лицу, как-то зыбко улыбнулась Зубцову:
— Все логично у вас. Да только не так все оно на самом деле… И молчать мне дольше никак нельзя. Время рассказать без утайки. Мне кажется, все началось с того, что я разлила воду…
2
… Боль огненной змейкой проскользнула по телу. Агния Климентьевна вздрогнула, испуганно ойкнула:
— Арик!
Никто не ответил. Агния Климентьевна медленно открыла глаза. Над крутобокими завалами грязного снега вздымались серые дома с бельмами зашторенных окон. Она вспомнила, как закачались, пошли хороводами дома. Быстрее, быстрее, пока не сомкнулись в черную пелену… Она не знала, сколько времени провалялась в сугробе, — минуту, час, полдня?! Закрыть глаза, как в детстве, подтянуть колени к подбородку и, пусть на снегу, заснуть хотя бы ненадолго.
Но Агния Климентьевна представила, как один-одинешенек лежит на диване в кабинете Аристарх Николаевич, ее Арик, и тревожно прислушивается: не возвратилась ли она. Запоздай она, может статься, что Аристарха Николаевича не подбодрят ни кипяток, ни даже ломтик хлеба…
Агния Климентьевна села, суетливо зашарила руками по снегу и замерла: хлеб?! Где же хлеб?! Неужели, пока она валялась в обмороке, кто-нибудь… Нет, слава богу! Цел! Даже теряя сознание, она телом накрыла сумку. Кончиками пальцев Агния Климентьевна трепетно коснулась шершавой краюшки. Рот наполнился слюной. Агния Климентьевна облизнула губы, вытянула из сумки руку и медленно поднялась. Она с надеждой взглянула туда, где, по ее представлениям, стоял бидончик с водой и вскрикнула: бидончик валялся на боку, и на Агнию Климентьевну мутно и незряче глядела подернутая льдом лужица.
Она подняла бидончик, оглянулась на окутанную густым паром прорубь внизу, на нескончаемые, будто спуск в преисподнюю, обледенелые ступеньки к реке, со стоном вздохнула и проговорила виновато:
— Ты уж прости, Арик, сегодня без кипятку придется. И на растопку не нашла ничего. Да ежели и найду, дотяну едва ли…
В кабинете стояли запахи настылого кирпича и промерзлой бумаги, рвался из-за штор ветер, метался, трепетал желто-черный язычок коптилки на столе.
— Арик! — негромко окликнула Агния Климентьевна.
Муж не ответил. Она взяла коптилку, заслонила ладонью дрожащий огонек, подошла к дивану, склонилась к лицу Аристарха Николаевича, уловила его дыхание и сказала с облегчением:
— Спит, слава богу!
Седые брови Аристарха Николаевича, сомкнутые веки дрогнули. Он с усилием открыл глаза и сказал:
— Я мыслю, следовательно, я существую.
Агния Климентьевна присела на диван, ласково коснулась спутанных седых волос мужа:
— И о чем же ты мыслишь?
— О нашем Коле, Агочка.
— Разве есть известия о Коле? — спросила она еле слышно. — Ты ничего не скрываешь от меня?
Аристарх Николаевич вздохнул:
— Какие могут быть вести. Почта-то… Сама знаешь, блокада! О другом я. Видение одно меня одолело.
Он с усилием облокотился на подушки и стал рассказывать о том, что вчера еще было запретным в разговоре с женой.
Уже много дней и ночей, едва закрывая глаза, Аристарх Николаевич непременно видел сына. Девятнадцатилетний Николай второй год служил в саперных войсках, но в видениях являлся отцу одетым в танкистский шлем и комбинезон. Аристарх Николаевич спешил к Николаю, но тот влезал в танк, и танк сразу же трогал с места.
Аристарх Николаевич знал: впереди, в зыбкой синеве леса, затаились чужие батареи, Николай или не знал этого или бравировал опасностью. Он стоял, как на параде, по пояс высунувшись из башни, сбив на затылок шлем. Ветер путал волосы Николая, крыльями вздымал наушники шлема, и казалось, что в голову сына вцепилась хищная птица.
Рявкали затаившиеся в лесу пушки. Николай по-прежнему стоял в полный рост, и на темени у него трепетала крыльями черная птица. Танк окутывало пламя. К Аристарху Николаевичу подкатывался огненный шар. Отец слышал, как трещит в огне одежда сына, видел его глаза, разъятые мукой, и угадывал в предсмертном хрипе слова: «Как отомстишь? Чем отплатишь, отец?…»
Едва Аристарх Николаевич замолк, Агния Климентьевна шатко побрела к столу, намерзлые валенки стучали, будто солдатские сапоги. Она сказала, заглатывая слезы:
— Ты успокойся! Пожалуйста, успокойся. Нервы все это, болезнь! Куда ночь, туда и сон… Нянька Степанида наставляла, бывало: «Ты перед страшным сном не робей. Страшен сон, да милостив бог. Ан все и станется наоборот…» Коленька жив-здоров. Положись на мое материнское предчувствие…
— Все-таки в чем смысл его вопросов? Что кроется за ними? — размышлял вслух Аристарх Николаевич.
Агния Климентьевна села к столу, распустила узелок шали за спиной, расстегнула полушубок. И разом навалилась усталость, снова закружилась голова, тело ныло, как там, в сугробе.
— Не знаю, что кроется за всем этим, — сказала она. Вздохнула протяжно и, сама ужасаясь своей отчаянной откровенности, стала рассказывать о сегодняшнем выходе в город, о том, что немецкий снаряд угодил в их булочную и теперь за хлебом надо добираться так далеко. Рассказала и про свой обморок, и про разлитую воду, и про то, что не нашла ни щепочки на топливо… И заключила просительно:
— Может быть, книги, Арик? Ты не возмущайся. Я понимаю: конечно, вандализм. Но в таких-то обстоятельствах…
— Книги?! — Аристарх Николаевич выдохнул это слово с неожиданной силой. Во взгляде его, отсутствующем, устремленном в себя, промелькнули растерянность и испуг. — Книги?! Как же это я не сообразил, старый олух?! Вот и ответ на вопрос Николая…
Агния Климентьевна попятилась от него, лихорадочно прикидывая, как приглушить его галлюцинации:
— Не волнуйся, если ты против, я не трону книги.
Он с трудом всполз спиною на подушки, выдохнул протяжно, потом, как в детстве, перед прыжком с плота в ледяную круговерть Раздольной, набрал в грудь воздуха, зажмурился и сказал:
— Да о разном мы толкуем с тобой. Ты — о сугреве, о спасении тела, я — живой души… Помнишь ли ты книги, которые подарил мне твой отец, а я после нашего приезда отдал на сохранение моей троюродной сестре, Дарьюшке Соломиной…
«Надо, видно, разыскать врача. Совсем плох…» — с тревогой думала Агния Климентьевна. Концами шали смахнула слезинки с глаз и щек и сказала безразлично:
— Припоминаю что-то. «Жития святых», изданные чуть ли не первопечатником Иоанном Федоровым. Отец с них пылинки сдувал. Ты всю дорогу до Петрограда сидел на них. А как приехали, взял и отвез Дарьюшке… Так что же ты разрешишь взять мне со стеллажа?…
— Правильно сделал, что отдал Дарьюшке на сохранение. Книги-то ведь золотые…
Агния Климентьевна не слышала мужа, жалеючи себя, думала о том, что сегодня ее не узнала при встрече бывшая парикмахерша Варенька, что в ее внешности не осталось ничего от прежней моложавой профессорши, что в этих разношенных мужских валенках, в стянутой за спиной шали она вылитая торговка снедью с довоенных перронов. Было жаль себя, жаль Аристарха Николаевича: ослаб настолько, что стал заговариваться…
— Агния, прошу тебя понять, — горячо убеждал Аристарх Николаевич, — я в своем уме. Книги эти золотые. В прямом смысле. В них — сто фунтовых слитков…
Агния Климентьевна попробовала все обернуть в шутку:
— Кто же их вложил, слитки-то эти? Дарьюшка, что ли?
А он, радуясь, что жена услыхала его, сказал с облегчением:
— Нет, не Дарьюшка. Твой отец, Климентий Данилович. При муниципализации бодылинских домов библиотеку Климентия Даниловича, как ты знаешь, изъяли. Оставили ему лишь «Жития святых», сочли их «опиумом для народа». Климентий Данилович перевез фолианты в сторожку, сделал двойные кожаные переплеты и заложил в них слитки. А после нашего венчания передал мне. Взял с меня клятву, что сберегу до малой толики, и велел немедленно отъезжать из Краснокаменска.
Агния Климентьевна с трудом выпрямилась, обернулась к мужу:
— Ты не бредишь, Аристарх?! Сколько, ты говоришь, там? Сто фунтовых слитков? Это же… Это же два с половиной пуда золота! — И разом скинув с себя бессилие и усталость, молитвенно воздела к закопченному потолку свои красные, так похожие на гусиные лапки, руки и выкрикнула: — Слава тебе, господи! Не допустил гибели нашей! — Осеклась, и спросила неприязненно: — Но почему отцовское, наше ты отдал своей родственнице?
Аристарх Николаевич с сожалением взглянул на нее: жена спрашивала не о том, о чем должна спрашивать в такую минуту.
— Климентий Данилович при расставании наказывал: хранить подальше от дома. Как в воду смотрел. Помнишь, налетчики трижды устраивали в нашем доме полный разгром? Это они золото искали. А у Дарьюшки, одинокой поденщицы, кому придет в голову…
Агния Климентьевна, заломив руки, топталась по комнате:
— Надеюсь, у тебя хватило ума не посвящать сестрицу в подробности?
— Хватило.
— Но ты уверен, что все цело? Что сохранился Дарьюшкин дом? Что Дарьюшка не умерла? Когда в последний раз ты встречал свою сестрицу?
— Встречал?! — Испуганно переспросил он. — Дай бог памяти… В конце весны. Нет, пожалуй, в начале лета…
— Минимум полгода назад! — Агния Климентьевна схватилась за голову и застонала. — Ты что же?! Не понимаешь, в какое время и где мы с тобой живем? Кстати, исключительно по твоей воле. Ты отказался эвакуироваться из Ленинграда. Теперь я догадываюсь почему…
Аристарх Николаевич вздрагивал и сжимался от ее слов, точно она била его по щекам.
— Мы оба полагали: когда Коля на фронте, у нас нет права на заботы о нашем благополучии.
Агния Климентьевна вздрогнула, но сказала гневно:
— Николаю после войны нужны не героические покойники, а живые родители. И ты, имея исключительный шанс выжить, полагаешься на волю случая! Ты полгода — и это здесь, в блокаде! — не знаешь, целы ли доверенные тебе тестем сокровища! Господи, и почему папенька был так недальновиден. Ведь прекрасно сознавал твою непрактичность в житейских делах… Доверил бы ценности мне, и наша жизнь могла пойти по-другому.
— За жизнь твою опасался Климентий Данилович, потому и распорядился таким образом, — растерянно сказал Аристарх Николаевич.
— Одно из двух — либо ты лишился рассудка, — наступала Агния Климентьевна, — либо задумал воспользоваться всем после моей смерти… Надеюсь, ты не станешь отрицать, что ценности, принадлежащие моему отцу, — мои по праву наследства.
Аристарх Николаевич замигал часто и болезненно: неужели он вовсе не знает женщину, бок о бок с которой прошел почти четверть века, мать своего единственного сына? Неужели невзгоды и лишения так меняют людей? Да, суть, конечно, в этом. И он, конечно, извинит свою Агочку…
— Господи, неужели мы спасены! — донесся до него радостный голос Агнии Климентьевны. — Я слышала, даже здесь, в этом кромешном аду, есть запасливые и добрые люди… На золото у них можно выменять и крупу, и картофель, и хлеб, и даже, страшно сказать, жиры и сахар!.. Я найду их. Непременно найду!.. Дать тебе бумагу, ты напишешь записку Дарьюшке?
Он заворочался на своем ложе, порываясь встать, но лишь откинулся на подушки и спросил очень тихо:
— И ты, мать солдата, станешь шнырять по их мышиным норам, выискивать этих мародеров?
Агния Климентьевна вздрогнула, напряглась и проговорила клятвенно:
— Ради того, чтобы воскресить тебя. Чтобы не рухнуть самой. Стану…
— И при встрече открыто посмотришь в глаза сыну-фронтовику?
— Посмотрю, — ответила она после колебания.
— И всем ленинградцам посмотришь в глаза? Ленинградцам, которые не меньше нас с тобой страдают в блокаде, но не имеют в тайниках краденого золота?
Агния Климентьевна медленно отступила в угол. В сумраке смутно белело ее лицо.
— То есть как это краденого?! Опомнись, ведь ты говоришь…
— Говорю о твоем отце. О Климентии Даниловиче Бодылине, которого любил бесконечно, да и теперь отношусь к нему с величайшей благодарностью. Хотя он меня, как мальчишку, клятвой этой связал, сообщником сделал его преступления.
— И давно… — Агния Климентьевна сделала усилие над собой и все-таки усмехнулась, — ты стал так гадко думать о нем?
Аристарх Николаевич заворошился на диване, как бы силясь скинуть с себя свои сорок одежек, но задохнулся и проговорил сквозь кашель:
— Чехов говорил: выдавливать из себя по капле раба. Да, видно, не про меня, тугодума, было написано. Сколько лет, чего уж теперь-то лукавить, гордился я доверием Климентия Даниловича. Лишь в последние годы тяготиться стал. А как Николенька на фронт ушел, мне и вовсе стало невтерпеж… Я знаю, мне больше не подняться. И, кажется, понял: ложь это, что мертвые сраму не имут. Судят живые ушедших и строго воздают по их делам. Не могу смириться с мыслью, что после смерти назовут меня Цербером на золотой цепи! Золотая цепь! Золотая цепочка!.. — Он вдруг осекся, виновато взглянул на жену. — Цепочка золотая!.. Совсем разум мутится, из памяти вон. В книжном шкафу она, в потайном ящике. Цепочку Климентий Данилович собственноручно раскромсал надвое. Половину — тебе, половину — Афанасию Климентьевичу, чтобы дети ваши и внуки могли опознать друг друга…
— Афанасию?! Этому бездельнику и моту!.. И как долго обязан ты хранить это золото?
— Двадцать пять лет. До сорок шестого года. А сейчас на исходе сорок второй! Если теперь мы не вернем утаенного Климентием Даниловичем законному хозяину, наше преступление станет еще страшнее…
3
Агния Климентьевна оборвала свой рассказ. Глаза ее поблескивали горячо, сухо. Снимая оцепенение, со стоном вздохнула и сказала:
— Утром Аристарха Николаевича не стало…
— Ну, а вы? — спросил Кашеваров.
Агния Климентьевна тяжело вышла из комнаты, вернулась, держа в руке старенький ридикюль. Достала из него и протянула Зубцову пожелтевшую бумагу.
— Вот, Анатолий Владимирович, убедитесь.
— Тридцать первого декабря 1942 года, — читал Зубцов вслух, — в контору Госбанка… района города Ленинграда явилась гражданка Аксенова А. К. и заявила, что при осмотре квартиры умершей ее дальней родственницы, Соломиной Д. С., ею, Аксеновой, обнаружены золотые слитки в большом количестве. Сотрудники Госбанка совместно с участковым уполномоченным милиции, понятыми и гражданкой Аксеновой А. К. осмотрели названную квартиру.
В чулане, в переплетах старинных книг, обнаружены девяносто девять золотых слитков, клейменных выпуклой печатью с изображением обвитого змеей барса, дерева и ветки. Контрольное взвешивание показало, что каждый слиток имеет вес ровно 400 граммов. Гражданка Аксенова заявила, что она желает, чтобы найденное ею золото было передано для строительства танков для нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Представители банка от имени героических защитников Ленинграда выразили гражданке Аксеновой благодарность за ее патриотический поступок.
Золотые слитки в количестве 99 единиц общим весом 39 кг 600 г оприходованы и обращены в доход государства…»
— М-да! Финал. Бог экс махина, как выражались древние. Или «Сюжет для небольшого рассказа», как остроумно заметил Чехов… — усмехнулся Степан Кондратьевич, встал со стула и побрел к окну. На маслянисто-черном куполе неба — ни искорки. Он заговорил, и слова его глухо падали за окно в черноту. — Все в высшей степени благородны, все движимы самыми высокими намерениями. Что же вы, Агния Климентьевна, при нашем с вами тэт-а-тэт умолчали о такой мажорной концовке? Хотя, извините, и солнце не без пятен. Не до конца все-таки исполнили завет Аристарха Николаевича, утаили-таки золотой фунтик на зубок.
— Верно, есть у вас поводы для укоров, — печально согласилась Агния Климентьевна. — Ослушалась я Аристарха Николаевича. Мечтала: выеду из Ленинграда, моя эвакуация была делом решенным, и после войны восстановлю отцову цепочку. Судите, как знаете, да только отец он мне, и эту милую его сердцу вещицу очень мне хотелось иметь в прежнем виде. Тем более, я знала, что в Москве Иван Северьянович Никандров.
Но через Ладогу перевезли меня еле живую. Ну, а дальше вы знаете. Отлеживалась я в доме Феоктистовых в Котельниче в Кировской области. Выходили они меня, хотя им самим было туго. Чем я могла им воздать за такую доброту? Вот перед отъездом в Сибирь и отдала я Гликерии Мартыновне самое ценное, что осталось у меня, — цепочку и слиток. Ведь Феоктистовы стали мне родными. И в конце мая не было меня дома потому, что летала я на похороны Гликерии Мартыновны. А Полина-то сразу после смерти матери, выходит, пустилась в торги.
Анатолий Зубцов все рассматривал поданную ему Агнией Климентьевной пожелтелую бумагу с тусклыми оттисками печатей.
— Значит, банк принял и оприходовал золото, найденное в квартире умершей гражданки Соломиной… Поди-ка, догадайся, чье оно на самом деле. Да еще в Ленинграде в декабре сорок второго. Вот почему Иван Захарович Лукьянов не обнаружил следов бодылинского золота и прекратил розыск. Оказывается, у вас, Агния Климентьевна, недюжинные способности конспиратора.
— Взяла я на свою душу тяжкий грех перед Дарьюшкой-покойницей. Но поймите меня, не могла я хотя бы малую тень бросить на Аристарха Николаевича. Поклялась над его гробом, что никогда, никто, даже наш Николай, не узнает об этой подробности отцовой жизни. Потому и руки были у меня связаны, и рот на замке. Судите меня, как хотите, но бодылинское золото вернулось-таки к законному своему хозяину — государству…
— Вернулось, но отец был прав в главном, — заговорил Николай Аристархович. — Не бывает лжи во спасение, а полуправда — тоже ложь. Вот она и опутала нас: и тебя, мать, и меня, и Настю. Помню, я приехал с фронта, Рядом с тобой — незнакомый мне человек. Ты уверяла, что он дорог тебе, что ты благодарна ему. Но я чувствовал: ты все время боишься чего-то.
— Ты прав, Николай, я боялась. Боялась появления Афанасия. Их ведь много возвращалось тогда, репатриантов. Боялась, чтобы ты не дознался правды об отце и деде. Ты и без того деда за родню не считаешь Портрет держишь в доме как произведение живописи…
Настя вскинула голову, метнула взгляд на портрет Климентия Бодылина, почти выкрикнула:
— Да уж осчастливил прадед наследством…
Николай Аристархович подошел к дочери, ласково опустил руку на ее плечо, сказал успокаивающе:
— Что же, каждый по-своему заботится о потомках, имеет свою меру ценностей. Не только тебя, но и меня не было на свете, когда твой прадед оделил нас от щедрот своих. И первым рухнул жертвой своего «благодеяния». Мой отец прозрел лишь в ленинградской блокаде. Бабушка сделала хорошее дело, но вынуждена была солгать и очернила имя ни в чем не повинного человека. Я помню ее, Дарьюшку эту. Безответная, полуграмотная, но в высшей степени добрая и честная женщина.
— И каждый лгал из лучших побуждений, — сказал Зубцов. — Климентий Данилович солгал Советской власти, заботясь о благе своих потомков. Аристарх Николаевич двадцать с лишним лет лгал жене, сыну, сослуживцам, троюродной сестре, себе самому, чтобы сохранить порядочность перед тестем. И вами, Агния Климентьевна, двигали лучшие намерения: спасти репутацию покойного мужа, оградить его от возможных сыновних упреков. И тот, кто охотился за бодылинским золотом, тоже обрек себя на сплошные утраты. И тоже лгал, лгал, казался и… был на самом деле!..
Кашеваров отвернулся от окна, метнулся взглядом к дверям, перехватил напряженный взгляд Зубцова, сказал печально:
— Наверное, так, майор!
Уткнув лицо в диванную подушку, плакала Настя. Горько и безутешно, по-детски. О чем? О страшном ли конце своего прадеда или о позднем прозрении деда. Или от неожиданной вины перед незнакомой ей Дарьюшкой Соломиной.
Или стало ей стыдно оттого, что ее кристальная бабочка Агочка оказалась такой расчетливой и такой слабой. Или Настя вдруг поняла, как тяжко быть непреклонным судьей, и, ощутив в себе предсказанную ей извечную бабью жалость, плакала о Глебе…
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Под ногами прохожего поскрипывали плахи ветхого тротуара. Человек всматривался в силуэты домиков за острозубыми балясинами палисадников. Остановился у запертых ворот, пошевелил кольцо калитки. Во дворе зарычала собака. Ей тотчас же отозвались соседские псы, а через минуту сонная улица сотрясалась от пронзительного и яростного лая.
— Кто там? — донесся наконец из-за ворот осевший со сна голос.
— Кузьма Прохорович, отвори, будь другом! Это я, Кашеваров.
— Не знаю никаких Кашеваровых. Старик я, боязно мне отворять тебе в такую полночь.
— Ты что, Прохорович? Вспомни, в гостинице я у тебя покупал стерлядку. Договорились еще, что повезешь на рыбалку.
Из-за калитки донеслось напряженное дыхание, потом послышался протяжный смачный зевок.
— Это который же гостиничный постоялец? Кондрат Степанович, что ли?
— Разумеется, я — Степан Кондратьевич. Признался-таки, наконец, Кузьма Прохорович.
— Цыц, Шайтан! Пшел на место! — прикрикнул Семенов на собаку и усмехнулся: — Лют он больно. Не ровен час, порвет долгожданного гостенька. — Он открыл калитку, стиснул руку Кашеварова своей твердой и широкой, как лопата, ладонью. Бережно поддерживал гостя под локоть, помогал взойти на крыльцо. — Осторожнее, Степан Кондратьевич, тут порожек.
— Водички не найдется у тебя?
— Чего там водички, я кваску расстараюсь. Собственной, Степан Кондратьевич, закваски. — Семенов снял с гвоздя вместительный ковш, поднял тяжелую крышку подпола и заковылял по лесенке вниз.
Кашеваров сидел, уперев плечи и затылок в стену. Наслаждался минутным одиночеством, даже глаза прикрыл от удовольствия.
— Во, Степан Кондратьевич, отведай! Справный задался квасок. Шипучий, ядреный. Со льда!
Кашеваров жадно отхлебывал из ковша квас. Заломило зубы, сперло дух, но он все пил, пил…
2
Лодку то и дело покачивало, ровно стучал хорошо отлаженный мотор. Кашеваров знобко натягивал на уши ворот куртки, плотнее смыкал веки. И голова его начинала клониться на плечо Семенову.
— Дремли, Кондратьевич. Добрые люди в эти поры третий сон смотрят, а мы с тобой водоплавающие, поскольку рыбаки.
Кашеваров не открывал глаз. Все равно не различишь ничего, кроме слабенького мерцания воды за бортом, упрешься взглядом в черноту берегов и задохнешься: покажется, что замурован в стену или положен в гроб. И вспомнилась часовня у бодылинских могил в Краснокаменске. Он распахнул чугунную калитку семейного погребения. Вдоль и поперек исходил часовню, простукал стены, проверил их рассчитанную на века прочность, в задумчивости постоял перед пустым иконостасом. Долго разглядывал тяжелые гранитные плиты, читал старинную вязь эпитафий…
Но почему это так назойливо мерещится здесь, на реке? Не потому ли, что тогда над кладбищем тоже висела слепая ночь, и воздух был вязким и редким, будто высоко в горах.
Тогда впервые поколебалась надежда, взяла за душу тоска до воя. Всю жизнь прислушивался он к голосам предчувствий. А тут отмахнулся. А надо было повернуть восвояси. И остался бы майор при пиковом интересе. Так нет, взбунтовались отцовы гены. Вынырнул на поверхность. В первый раз почти за пятнадцать лет.
Кашеваров судорожно глотнул речной воздух и открыл глаза. Тускло мерцала водная рябь, клубилось чернотой небо, по обе стороны вздымались черные стены берегов, где-то в первозданном мраке вздыхала, охала, стонала во сне тайга.
Кашеварову стало не по себе от этой, хоть глаз выколи, мглы, стонов тайги, всплесков реки, так похожих на всхлипывания. Он не мог заглушить в себе чувство, что это причитают над ним, Степаном Кашеваровым. Чтобы скинуть наваждение, он прижался своим плечом к плечу Семенова и замер потрясенно: как же это, оказывается, приятно ощутить рядом плечо даже и постороннего человека.
Навести его раньше такое желание, он бы самого себя засмеял. К врачу бы немедленно отправился.
Кашеваров тяжело зашевелился на перекладине и снова коснулся плеча Семенова. Тот забубнил:
— Дремлешь, Кондратьевич? Правильно, сейчас и положено дремать, самый сон в эту пору. — Он сладко зевнул и признался мечтательно: — Славно бы прикорнуть на часок-другой.
— Так прикорни, а руль дай мне. — И сразу почувствовал на себе осуждающий взгляд Семенова.
— Тебе — руль? В этакую-то темень да на такой характерной реке! И где же я проснусь с таким надежным рулевым — на мели, а то и вовсе — тьфу, тьфу, тьфу! — на том свете!..
Кашеваров до подбородка натянул воротник куртки, попробовал задремать, но снова, как частенько в эти дни, вспомнился Кондратий Кашеваров, его слова о святости честного товарищества и тлетворности одиночества. Кашеваров пытался оживить в своей памяти что-то приятное, светлое, уверял себя, что за шестьдесят лет пережил немало возвышающего, радостного, но с болью убеждался: за исключением детства и ранней юности, в общем-то, и вспомнить добром нечего… И, наверное, лучший исход для него — махнуть через борт — и привет, майор Зубцов! Был Степан, да весь вышел… Он пододвинулся к борту. Громче забурлила река. Вот сейчас Семенов услышит тяжелый всплеск…
Он так явственно ощутил пронзительный холод речной воды, свое полное бессилие перед ее нескончаемой круговертью, что у него застучали зубы.
А Кузьма Прохорович, будто мысли пассажира читал, заговорил:
— Ты чего это мостишься к борту? Обкачнешься, не ровен час, а вода-то на стрежне дюже холодная…
— А ежели я нарочно, прыгать надумал…
Семенов рассудительно заметил:
— За что же ты, Степан Кондратьевич, имеешь на меня такой зуб? Ну, втемяшилась тебе в башку этакая блажь, — скакнешь ты, как я-то должен поступать в таком разе? Сигать следом за тобой, чтобы два утопленника было вместо одного, так мне на тот свет не к спеху. А не скакну, чем потом оправдаюсь перед милицией да прокурором: куда, скажут, девал пассажира?
— Да полно тебе, Прохорович! — Кашеваров вдруг развеселился. — Кто станет чинить тебе спрос, кому известно про нашу поездку?
Семенов набил трубочку, разжег ее и стал объяснять:
— Столичный ты человек, грамотный, и царя в голове имеешь, а такую, господи прости, несешь околесицу: кто видел, кто спросит? Да ты хотя бы то в расчет прими, что встретились мы с тобой не где-нибудь у медвежьей берлоги, а в прилюдном месте и наш с тобой уговор о рыбалке слыхали люди. А ежели оно бы даже и пронесло, не взяли бы меня на цугундер, так разве сам я не пришел бы к начальству, не покаялся? Молчанка-то ведь она, по мне, горше всякого суда. Совесть заест напрочь. А тебя не заест разве?
— Ну, разумеется… Конечно, совесть, — проговорил Кашеваров.
«Слыхали люди, — повторил он про себя. — Вот так. Выдал тебе раздолинский рыбак притчу: не вздумай, мол баловать, о нашей поездке известно в поселке. А я, случалось, позабывал эту мудрость. Вот и прокололся с подставкой Потапова. Правильно, что в Сибирь Потапова увлек. А вот про то, что якобы услыхал от Потапова про Бодылину, мне докладывать Зубцову было необязательно… Перебор. Нарочитость. И уже совсем худо, что в Октябрьском, когда Агнии Климентьевне представляли, сделал вид, что впервые вижу ее. Крупный перебор! Занесло. Теперь Зубцов об этом знает. И это для него психологическая улика. Эх, знать бы, сколько у него прямых…»
Впереди, ослепительно яркий в кромешной мгле, вспыхнул свет, сразу же погас, вспыхнул и погас опять. И в третий раз все повторилось снова. Сигнал был точно таким, какого ожидал Кашеваров.
— На Макарьевском острове фонариком забавляются. Заплыл, стало быть, кто-нибудь. Случается.
Кашеваров, не дослушав, выхватил из кармана фонарик, трижды подмигнул им.
Совсем близко обрывистый берег и силуэт стоящего у воды человека. Кашеваров до рези напрягал глаза, старался рассмотреть; кто именно стоит на берегу. Прижимал фонарик к груди, унимал часто стучавшее сердце, убеждая себя: у воды стоит именно тот, кого надеялся он застать на острове.
— Привет таежникам! — с надеждой воскликнул Кашеваров, когда моторка подвалила к берегу, и замер в ожидании условленного ответа: «Здесь нет таежников, одни рыболовы».
Но с берега донесся знакомый голос:
— С благополучным прибытием!
Кашеваров рассмотрел корреспондента Бочарникова и еще несколько человек, молча глядевших на причалившую моторку.
«Засада…» — Кашеваров выхватил из кармана куртки пистолет и в то же время затрепыхался, пытаясь скинуть со своих плеч медвежьи лапы Кузьмы Прохоровича.
— Не балуй! — ребром ладони он вышиб у Кашеварова парабеллум. Пистолет стукнул о дно лодки. Семенов ногой наступил на него и сказал с угрозой: — Ты не брыкайся. Я ведь не как товарищ старший лейтенант, — он кивнул на прыгнувшего в лодку Бочарникова, — я не при исполнении. Ежели станешь баловать да брыкаться, очень свободно могу и веслом огладить.
— Я предупреждал вас, Кузьма Прохорович, — сказал Бочарников, — пассажира повезете опасного.
— Думал я, грешным делом, обознались вы, — загудел Семенов. — С виду-то он куда с добром.
Кашеваров не то засмеялся, не то закашлялся и сказал зло:
— Торжественная встреча. Не пойму только, к кому угодил…
— Старший лейтенант милиции Федорин, — представился Бочарников и, полуобняв Кашеварова, приподнял его и вытолкнул на берег. — Вы арестованы, Кашеваров. Все. Должен огорчить вас: ваш приказ Шилову сегодня в полночь явиться на Макарьевский остров перехвачен нами. Шилов у нас. Он понимает, что мы спасли ему жизнь от вашей пули. Паспорт на имя Петра Николаевича Сажина с вашей фотографией изъят у Шилова. Не по годам прыть. Вам ли исчезать в нелегалы…
Кашеваров попробовал усмехнуться, но лишь скривил губы и хрипло, витиевато выругался.
3
Зубцов думал: сейчас введут Кашеварова, и тот начнет выказывать свое молодечество, плести словесные кружева и бессовестно лгать.
Конвойный впустил Кашеварова в комнату, и Зубцов понял: его предположения не сбудутся.
Кашеваров стоял у дверей, отведя за спину руки и смотрел на Зубцова напряженно и очень устало. Всегда молодцеватый, подтянутый, сейчас он казался много старше своих лет. Зубцов ободряюще кивнул ему:
— Входите. Присаживайтесь.
Блеклые губы Кашеварова дернулись, он стал усаживаться тяжело, основательно. Зубцов слышал его трудное хриплое дыхание, видел отечное пожелтелое лицо, вздувшиеся жилы на шее и спросил участливо:
— Вы не больны? Может быть, пригласить врача?
Кашеваров провел рукой по небритым щекам, подбородку, печально усмехнулся:
— Насколько я понимаю, приносить извинения вы — ни в какую… Или меня подводит интуиция?
Кажется, Кашеваров все-таки начнет никчемную полемику.
— Не подводит, Степан Кондратьевич. Наивность не по возрасту, не по ситуации и не по стажу.
— И что же это за тяжкая для меня ситуация? — с вызовом спросил Кашеваров. За хранение огнестрельного оружия — два года лишения свободы. Как говорится, перетопчусь.
— А валютные операции? — ввернул Зубцов.
— А доказательства? — в тон ему отозвался Кашеваров.
— Старший лейтенант Федорин уже сообщил вам о задержании Шилова. Того самого, который, как вы слышали в этой комнате, вручил Карасеву бодылинскую цепочку. Сам Шилов все в той же иконе получил ее от некоего Рашида Хафизова. Он арестован в Москве. Любопытная, должен вам сказать, личность. По паспорту и удостоверению рядовой агент Госстраха, он под именем бакинского музыканта Мамедова, меховщика Джафарова и даже иностранного коммерсанта Закира скупал и продавал частным лицам драгоценные металлы. Так вот, по свидетельству Хафизова, бодылинскую цепочку он заполучил случайно через Светова, представил ее Хозяину, как называет его Хафизов, а тот немедленно направил его к ювелиру Никандрову. Да что мне вам рассказывать. Вы же знаете все и во всех подробностях. Ведь Хозяин Хафизова — вы. Приказали отправить в Сибирь Шилова — опять же вы. Вот такая ситуация. Такая свивается «золотая цепочка» от мертвого купца Бодылина к вам. От вас через Хафизова и Шилова к Карасеву…
«Вот и все. Амба! Много же ты успела…» — Кашеваров побледнел, схватился рукой за сердце. Зубцов быстро налил стакан воды, протянул ему.
— Выпейте. Каким вы пользуетесь лекарством?
Кашеваров губами выхватил из пластмассовой трубочки таблетку валидола, откинулся на спинку стула, сидел, прикрыв глаза, растирал себе грудь. Потом выпрямился, зыбко улыбнулся Зубцову:
— Спасибо. Мне уже лучше. — И, слегка сощурясь, спросил: — И вы можете мне показать Хафизова?
— Конечно. В Москве. На очной ставке. Ваш верный Рашид уже с неделю у нас. Шилов общался не с ним, а с подполковником Ореховым…
— Верный… — Кашеваров усмехнулся печально. — Наговорил вам, поди-ка, собственную-то шкуру спасая.
Можно было и не отвечать. Но слишком жалок был старик, сидящий по другую сторону стола, и отчаянье в его голосе звучало совсем ненаигранно. Зубцов вздохнул и рассказал, как в поисках подручных для себя и Кашеварова явился Хафизов к своей подружке Марии Загоскиной, вернулся под утро домой, а минут через десять его навестили оперативники. Рассказал Зубцов, как, потрясенный арестом, Рашид признался Орехову в том, что получил от Хозяина команду ликвидировать ювелира Никандрова, но ослушался. Не скрыл Рашид и того, что Кашеваров, отправляясь в Сибирь, велел ему пустить в Москве «дымовую завесу» и выделил для нее два фунтовых золотых слитка с бодылинским клеймом. Как договорились они с Кашеваровым о том, что приказы Шилову будет отдавать только он, Рашид. В свою очередь Шилов будет поддерживать связь с Глебом Карасевым. Таким образом, Кашеваров останется невидимым для сообщников.
— Какой разговорчивый козел! — Кашеваров зло усмехнулся. Давая выход клокотавшему негодованию, он стукнул кулаком по колену, сквозь зубы проговорил: — Фатальное невезение!
— Мне кажется, наоборот, Степан Кондратьевич, вам удивительно, я бы сказал, фантастически повезло… Я имею в виду те далекие дни, когда Кондратий Федорович Кашеваров приютил брошенного родным отцом Степку Филина, а потом усыновил его.
По лицу Кашеварова растеклись красные пятна:
— Вон откуда вы повели меня. Да. Кашеваров усыновил меня в шестнадцать лет. А по рождению я — Степан Филин. Но что в этом криминального?
— Помните раннюю осень двадцать седьмого года? На окраине Таежинска Степан Кашеваров слушал исповедь Якова Филина о том, как тот убил и ограбил своего благодетеля Климентия Бодылина, обманул, а позднее тоже убил нового благодетеля — Валдиса, и главное — где спрятано награбленное Филиным золото. И еще услыхал Степан отцовский наказ: непременно овладеть ценностями, которые утаил Бодылин от Советской власти. В тот день Степан стал владельцем бандитского тайника и начал страшную двойную жизнь. Он посвятил ее накоплению, скупке, кражам золота… В тот день Яков Филин совершил самое тяжкое свое преступление: искалечил душу и жизнь своему сыну.
Впервые Кашеваров с такой силой чувствовал годы и свое не сильно здоровое сердце, и то, что воздух в одно мгновение может стать тугим и редким.
Будто через стену доносился голос Зубцова. Степан Кондратьевич слушал, впервые в жизни слушал горькую правду о родном отце и потрясенно сознавал, что в душе его нет негодования и протеста против того, на чем настаивал майор. Более того, в глубине души он, пожалуй, даже склонялся к тому, чтобы согласиться с майором. И чтобы ни единым взглядом не намекнуть Зубцову на эту свою надломленность, Кашеваров устремлял мысль в другом направлении, старался оживить в себе другие картины…
…Это было лет сорок назад. Никогда не утихавшее студенческое общежитие, водянистые супы в столовке, разноцветные талончики продовольственных карточек, хвосты очередей в продуктовых магазинах.
В просторных дверях магазина «Торгсин» Степан вдруг оробел. Здесь не шуршали талончики карточек и газетные завертки с ржавой селедкой. Здесь белела в банках крупчатая мука, благоухали колбасы и копчености, слезились сыры…
Но за все это сказочное, похожее на сновидение великолепие надо было платить. Платить золотом.
Подходили к оценщику старики и старушки в пропахших нафталином ротондах, дамы в облезлых горжетках, со вздохом протягивали броши, серьги, колечки… Степан тоже протянул перстенек с камушком, один из двух десятков, что прихватил с собой из отцова клада перед бегством в Ленинград из Сибири.
Щелкнули аптечные весы. Оценщик повертел перстень в руке, недоверчиво осмотрел Степана и спросил:
— К нам не нагрянет уголовный розыск?
— Не нагрянет, — заверил Степан осевшим голосом.
— Значит, все чисто?
— Вполне. Достался в наследство от отца.
— И документы есть? Кто же он, ваш заботливый папаша?
— Мой отец Кондратий Федорович Кашеваров, его знают большевики Краснокаменской губернии. Вот копия свидетельства об его кончине от кулацкой пули.
— Прощения просим, — пробормотал оценщик и вдруг понизил голос: — Если еще что-нибудь надумаете продать из… отцовских вещиц, можете заглянуть по этому адресочку. Там чуть дешевле, чем здесь, но зато никаких очередей и… документов. — Он слегка подмигнул и сунул в руки Степана бумажный жгутик.
Степан сунул бумажку в карман. А после того, как неделю провел в комнатке секретарши декана Аллочки, той самой Аллочки, что вчера еще смотрела мимо него, переложил адресок в студенческий билет.
Он ездил на автомобиле и рядом была Аллочка. Они сидели в торгсиновском ресторане… В те дни он окончательно поверил в мудрость родного своего отца:
— Золото, оно, Степка, всей жизни начало и вершина. В золоте — и сила, и власть, и любовь…
Сорок лет он верил в эти постулаты. Верил, таясь чужого взгляда, верил всюду, даже в прифронтовой полосе. И в мирные дни, когда стал выступать в прессе с очерками на исторические и природоведческие темы. Верил до последней минуты…
…Голова Кашеварова склонилась совсем низко к столу. Но вот он медленно выпрямился. В глазах его застыла такая тоска, что Зубцов поспешил отвести свой взгляд. Кашеваров с усилием проглотил слюну и сказал:
— А вы, однако, фантазер! Вы что же, на сосне сидели? Подсматривали и подслушивали? А ну, как не было ее вовсе, встречи-то этой? — И не справился с собой, вперился в Зубцова с неприкрытой тревогой.
— Была, — убежденно сказал Зубцов. — И даже не одна. И разговор там шел именно об этом.
— Доказательства?! — потребовал Кашеваров.
Зубцов слегка улыбнулся и ответил чуть загадочно:
— Доказательства на дне колодца.
— Простите, не понял.
— На дне колодца. Есть, знаете, на станции Лосиноостровской скромная на вид дачка. Пестренький домик в три оконца, веранда, сигнализация от воров. Словом, все как быть должно. На огороде — колодец. Над срубом — деревянное распятие из Бессарабии. Хозяина не было дома, но мои коллеги с Петровки, само собой, с разрешения прокурора и в присутствии понятых, заглянули в колодец. И на дне среди прочего, — Зубцов слегка выделил два этих слова, — обнаружили в прорезиненном мешке фунтовые золотые слитки с бодылинской печатью. Один такой же слиток изъят у Рашида Хафизова, а получил он его от Степана Кондратьевича Кашеварова. Еще один такой слиток изъят три недели назад у сообщника Хафизова некоего Сысоева. В трибунале Яков Филин показал, что по приказу замаскированного белогвардейца Валдиса выманил у Бодылина пуд золота. Это золото у Филина якобы украли, за что Валдис стал преследовать своего подручного, пока тот в бою под Таежинском
не убил Валдиса. Но, как теперь ясно, Филин и перед смертью бессовестно лгал. Бодылинское золото преспокойно лежало в тайнике, о котором знал лишь его сын и наследник.
Спина Кашеварова прогнулась, словно бы он взвалил на себя тяжкий груз. Не то заслоняясь от солнечного света, не то от слов Зубцова, он прикрыл ладонью глаза. Отвел руку, и взгляд уперся в расчерченное квадратами решетки, точно шрамами изрытое, небо. Где-то далеко гудели на ветру сосны, всплескивала река, но, заглушая звуки, долетавшие оттуда, из расчерченного квадратами мира, комнату заполнял голос Зубцова:
— Так началось ваше падение, ваш путь к такому вот финишу. — Зубцов повел головой в сторону зарешеченного окна. — Вовсе не страх перед кулацкой расправой погнал вас в тридцатом году из Октябрьского в Ленинград. Вы устремились туда, чтобы пожить на широкую ногу, и в погоню за Аксеновым, за бодылинскими сокровищами. Для всех вы были сыном героя революции, начинающим журналистом, но это не мешало вам вступать в связи с уголовниками. Налеты, о которых вспоминала Агния Климентьевна, — дело ваших рук.
— Прямолинейная логика, — проворчал Кашеваров как-то нехотя. И снова взгляд его пристыл к решетке.
— Сорок с лишним лет, — продолжал Зубцов, — всю свою сознательную жизнь вы посвятили золоту. Вы жили ради него одного. Все инстинкты, все стремления подавила в вас алчность. Золото! Золото! Еще и еще… Ради него вы лгали, двурушничали, скупали, воровали. Посылали на гибель сообщников и медленно гибли сами…
Кашеваров протестующе вскинул руку, но сказал вяло:
— Я просил бы без нравоучении, тем более без сочувствий. Чего уж теперь… Да и не так все мрачно, как видится вам. Вы усматриваете в моих поступках лишь алчность, к тому же сгущаете многое: крал, например, и прочее. Ей-же-ей, не крал. Да, хранил завещанное родным отцом, да, прикупал кое-что, да, мечтал о бодылинском кладе, стремился овладеть им. Но, право же, не такой уж я злодей.
Зубцов не отвечал. Он вспомнил себя новоиспеченным лейтенантом на Петровке. Был промозглый ноябрьский вечер, через ветровое стекло машины Анатолий смутно различал в пелене дождя у входа в ресторан «Балчуг» высокого, подчеркнуто солидного человека. Вот он открыл тяжелую дверь и исчез в вестибюле. Зубцов знал: сейчас в ресторане высокий встретится со своим сообщником. Этой встречи Зубцов и товарищи по оперативной группе ожидали вторую неделю.
Зубцов в машине нетерпеливо посматривал на часы: вот сейчас последует условный сигнал. Время шло. Входили в ресторан и выходили из него люди. Потом мокрую улицу перебежал Костя Степанов, тоже молодой лейтенант. Юркнул в машину, виновато сказал:
— В общем, Толя, рапорт надо писать начальству. Ушел Матвейчик. Разделся в гардеробе, вошел в отдельный кабинет, задернул занавеску — и как сквозь землю.
Анатолий посмотрел на Кашеварова, вздохнул, достал из портфеля картонную папку и спросил:
— Фамилию Матвейчик вы запамятовали, конечно?
Кашеваров, прищурясь, взглянул на Зубцова:
— Разве упомнишь всех встречных-поперечных?
— Этого поперечного вы должны помнить! — Зубцов пододвинул Кашеварову фотографию.
— Впервые вижу, — сказал Кашеваров и опять с трудом проглотил слюну.
— А эта фотография вам знакома?
— Естественно. Это мой снимок.
— Эксперты утверждают, что на снимках один и тот же человек в разном возрасте, что бесследно исчезнувший пятнадцать лет назад Осип Матвейчик и Степан Кондратьевич Кашеваров — одно и то же лицо.
Кашеваров обшарил взглядом снимки, перечитал заключение экспертов, развел руками и возразил упрямо:
— Внешнее сходство между людьми — не такая уж редкость. Для суда сходства между мной и этим… как бишь его… Матвейчиком, увы, маловато.
— А если к этому добавятся еще и туманы?
— Это в каком же смысле?
— В нумизматическом. В 1943 году из музея одного прифронтового города похитили уникальную коллекцию старинных золотых монет, в том числе и древнеперсидских туманов. Спустя больше десятка лет несколько монеток промелькнули у спекулянтов. Кто-то пустил исторические ценности в розничную продажу. Спекулянты и навели на Матвейчика, который дал им монеты на комиссию. Но тот бесследно ушел от нас в ресторане «Балчуг». И вот со дна того же колодца на даче мы извлекли резиновый мешок, а в нем остатки музейной коллекции.
Кашеваров быстро, словно бы от удара, сомкнул веки, сказал с горькой усмешкой:
— Глубокий, однако, колодец, прямо-таки бездонный, — он прикинул что-то в уме и продолжал покладисто: — Что же, видно, и впрямь вы правы: вселил в меня папаша преклонение перед золотым тельцом. Каюсь, не устоял, слаб, должно быть, оказался душой. Скупал. Страсть коллекционера. Я полагаю, суд поймет мои чувства.
— Нет, суд вас не поймет. Вернее, не поверит в благородную страсть коллекционера. Коллекционеры не грабят музеи. А тот музей в прифронтовой полосе вы взяли собственноручно. Кстати, по какому праву выдаете вы себя за фронтовика? В прифронтовой полосе, в интендантствах вы служили, но на передовой — ни одного дня. И не надо благородного негодования. Вот посмотрите… — Зубцов раскрыл перед Кашеваровым папку. — Это отпечатки ваших пальцев на стаканах из-под кофе. Мы с вами выпили его порядочно. Это отпечатки на древних монетах в колодце, а это отпечатки, оставленные грабителем на стекле шкафа, где хранились монеты. Криминалисты утверждают, что все отпечатки принадлежат Степану Кондратьевичу Кашеварову.
Брови Кашеварова всползли вверх, но голос прозвучал почти спокойно:
— С наукой, само собой, не поспоришь. Может, и наследил где. Запамятовал уже. Ведь давность…
— Видно, плохо Кодекс читали. — Зубцов усмехнулся. — Не распространяется давность на тех, кто скрылся от наказания или совершил новое преступление. А вы и скрылись, и совершили не одно.
Кашеваров сидел облокотись на стол. Подернутые дымкой, смутно проступали сизые таежные взгорья. «Горит, что ли, где-то. Таежный пал — самое страшное… — Кашеваров поймал себя на этой привычной с детства тревоге и усмехнулся беззвучно. А какое, собственно, ему теперь дело до лесных пожаров? Если даже вся тайга станет сплошным пепелищем, в судьбе Степана Кашеварова, точнее, Степана Филина, ровным счетом ничего не изменится. И до конца дней смотреть ему на тайгу, на пашни, на быстрые и на сонные реки, на городской асфальт и на траву деревенских околиц только через решетку.
Наказание! А было ли преступление? Нет, не по закону. Тут, в конце концов, кто кого пересилит: закон тебя или ты сумеешь ускользнуть. И в этом — высшая радость. Годы и годы противоборствовал закону, годы и годы заставлял себя верить, что ни в чем не преступал перед людьми.
И верил. А вот в решающий момент рука дрогнула. Надо было самому открыться Карасеву, всучить ему цепочку, пусть бы выложил ее перед старухой. Так нет же, тянул, выжидал и дождался: опередил Зубцов дня на два. Два дня — только и всего! Тянул. В милицию явился, думал обелить себя. Карасева подставить, а самому… Эх, судьба-индейка…»
Кашеваров выпрямился, провел руками по лицу. Снова зашуршала под пальцами запущенная щетина. Он поморщился и спросил зло:
— А ради чего я должен был поступать иначе?
— Вы человек далеко не примитивный. Отлично знаете меру добра и зла.
— Добро и зло, справедливость! Иметь в десятки, а может быть, и в сотни раз больше, чем имеют разные законопослушные граждане. Иметь потому, что я не фетишизирую закон. Потому что я предприимчив, находчив, смел. Разве это не справедливо? В большинстве цивилизованных стран, в отличие от нашей, коммерция — отнюдь не преступление. Самосознание, что я владею ценностями, недоступными другим, доставляло мне высочайшее, почти сладострастное наслаждение. Пусть лишь один я знал истинную свою цену, эта цена доставляла мне радость. А совесть… Ведь ни я, ни мои сподвижники никого не убили, не ограбили. Мы только занимались коммерцией в соответствии с законами коммерции. Так что совесть моя вполне спокойна.
— Даже когда ломали жизни таким, как Глеб Карасев, — Зубцов не сдерживал возмущения. — Ведь Карасев не один на вашем счету.
— Чем же это я сломал Карасева? Самородочки-то прикарманивал он вполне самостоятельно.
— По настоянию Шилова и Хафизова, то есть практически опять же для вас. Шилов направил к нам анонимку об Аксенове в расчете на то, что мы очень скоро вскроем истинное лицо Карасева, займемся им, а вы тем временем выудите у Агнии Климентьевны ценности и скроетесь незамеченным. А Карасев с цепочкой, которой снабдил его Шилов, останется козлом отпущения. Вы же скроетесь через Макарьевский остров. Напрасно вы надеялись, что нам неизвестна ваша договоренность со здешним рыбаком Семеновым вместе попытать рыбацкого счастья. Разве это не коварство, не игра чужой судьбой. А вы говорите: законы коммерции. Преступные законы преступной коммерции! А как старались вы набросить тень на Потапова, который преклоняется перед вами как перед литератором. Неужели вы не чувствуете, что в своем отношении к людям, в бездумной готовности ломать их судьбы вы, такой респектабельный внешне человек, не отличаетесь от бандита Якова Филина.
Кашеваров закрыл руками лицо, сказал в ладони:
— Анатолий Владимирович, нельзя ли, чтобы дальше я значился так, как был в свое время записан в церковных книгах — Степаном Филиным? И еще… Дайте мне, пожалуйста, чистой бумаги и верните мою ручку. Я опишу вам свою золотую одиссею.
1972–1975
Печатается по тексту: Сибирцев И. И. Золотая цепочка. Роман. — Красноярск: Кн. изд-во. 1976.
ОТЦОВСКАЯ СКРИПКА В ФУТЛЯРЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Или январь в этих краях был для Павла Антоновича Селянина самым злосчастным месяцем, или так совпало, но как и два года назад рейс в такой же вьюжный день выдался хлопотным и долгим. Задержался под загрузкой в Хребтовске, а к вечеру не на шутку запуржило. Хребтовские шоферы уговаривали переждать непогоду, да разве в такую ноченьку заснешь где-нибудь, кроме своего дома.
Лучи фар меркли в кутерьме снега, по обе стороны дороги кюветы будто дымились, и «дворники» не поспевали счищать налипавший на стекло снег. Павел Антонович тормозил, сшибал снег рукавицей, жался коленями к разогретому мотору и все озирался: не проскочить бы в этакой круговерти известную всей округе кривую березу с обрубленной молнией вершиной…
А в тот день два года назад домой он приехал веселым. Фрося — тогда еще живая была, царство ей небесное, — покосилась недоверчиво и губы поджала сердито: не приголубил ли где стопку? А он радовался, что в метельную ночь не довелось нигде «загорать», и выспится дома, в тепле. А чему радовался? Кабы знать все наперед, нарочно бы тормознул, пусть бы самого засыпало снегом, зато, может, отвел бы лютую беду…
Жадно поужинал и прямо из-за стола — даже телевизор не стал включать — в постель: разморило от сытости и тепла. Дремал уже, но вдруг, точно кольнуло что в сердце, вскочил: где же Юрка? Фрося успокоила: «Прямо уж — припозднился! Десяти еще нет. Дело молодое. И получка у него сегодня. Может, где и посидит с приятелями… А может, сам Федор Иннокентьевич, — она нараспев произнесла это имя, — опять куда послал по работе».
— Сам-то он, конечно, сам, да только Юрка при нем не зам, — хотя и в рифму, но сварливо возразил ей Павел Антонович. — Двадцать пять парню, пора бы уж настоящее дело в руках держать, а он не поймешь кто: экспедитор не экспедитор, особоуполномоченный при Федоре Иннокентьевиче… Вот засиживаться с дружками Юрка стал частенько. Что-то шибко праздничная жизнь у парня. Не нагулял бы какого худа…
Сказал и заснул на полуслове. Снился Черемуховый лог. Будто с Юркой, мальцом еще, пошли по ягоды. Ягод на кустах видимо-невидимо, аж ветки гнутся к земле, солнышко размахнулось во все небо. И вдруг загромыхал гром. Почернело в логу и не видать Юрки…
Павел Антонович открыл глаза, облегченно вздохнул. Но снова загромыхало. Спросонья не сразу понял, что кто-то изо всей силы дубасит в ставень. «Юрка, видать, навеселе», — подумал он с досадой. Не включая света, нашарил тапочки, набросил на себя полушубок, выбрался в сени, отворил дверь. На крыльце стоял сосед Василий Клоков.
— Беда, Павел Антонович, — сказал Клоков, и у него вдруг перехватило голос. — Юрку твоего на шоссе сбило машиной.
Павел привалился к стене, жадно заглотнул воздух и выдавил еле слышно:
— Насмерть?!
— Едем. Я машину подогнал. Да куда же ты в шлепанцах?
Металась по избе и причитала Фрося, ползал в поисках валенок и шапки Павел Антонович. Потом с Клоковым они ехали нескончаемой темной дорогой, до того тряской, что у Павла Антоновича не попадал зуб на зуб.
— Здесь, — сказал Клоков и выпрыгнул на шоссе.
Павел Антонович вдруг позабыл, что рядом боковая дверца, полез следом за Клоковым, зацепился полушубком за руль и. мешком вывалился из кабины. В завесе снега, словно кланяясь ему низко, тянула в его сторону обрубки веток присадистая береза. А напротив нее снег словно бы веником смахнуло с дороги и на рябом гравии будто тень от той березы — мазутное черное пятно.
Ноги Павла Антоновича подкосились. Не замечая расступившихся при его появлении людей, он рухнул на колени, коснулся руками пятна. Гравий под пальцами был вроде бы еще мокрым. Павел Антонович каким-то боковым зрением увидел, как виновато отвернулись люди, и понял: это — кровь, кровь его Юрки.
— Ну, хватит, Паша, поедем! Чего уж тут! — теребил его за плечи Клоков. Оторвал Павла от земли, втолкнул в кабину. — Не поспели мы. Люди говорят, в больнице Юрий…
— В больнице?! Значит, живой?! А там что? — Павел Антонович повел головой и, не получив ответа, уронил лицо на руки и заплакал.
В больнице Павел Антонович отпихнул державшего его под руку Клокова, рванулся к мужчине в докторском халате.
— Ну, как? Что с моим сыном? С Юрием Селяниным?
Доктор вздохнул и отвел взгляд.
— Когда мы с лейтенантом, — он кивнул на стоявшего рядом участкового Сомова, — приехали по вызову товарища Чумакова к ДОЗу, ваш сын был уже мертв. Смерть наступила сразу после наезда машины.
Павел Антонович медленно поднял голову, и лампочка в белом абажуре под высоким белым потолком, задернутые белыми чехлами стулья, доктор и участковый закружились, как давеча снеговые хлопья перед ветровым стеклом.
Когда Павел Антонович открыл глаза, то увидел, что сидит на стуле, а рядом стоит девушка в белой шапочке и протягивает ему стакан с лекарством.
Он покорно отхлебнул из стакана, поставил его на пол и тут до него дошло, что сейчас он должен увидеть Юрку, мертвого Юрку… «Куда же ударило парня? Неужто в голову?» Павел Антонович помнил эту голову совсем маленькой, с дышащим темечком, с шелковистыми волосами…
Павел Антонович, будто наваждение отгоняя, замахал руками и, отдаляя неизбежное, проговорил:
— Как сбили его? Сзади, что ли, кто наскочил в метели?
— Лежал он на дороге, вот и зацепило… — произнес над самым ухом чей-то голос, и Павел Антонович только сейчас разглядел, что к нему наклонился, поглаживает его плечо Юркин начальник, Федор Иннокентьевич Чумаков, тоже зачем-то наряженный в белый халат.
Павел Антонович дернул плечом, скинул его руку:
— С чего бы он лег на дорогу?
— Лежал. Авторитетно говорят тебе, — сказал со вздохом лейтенант Сомов. — Пьяный был сильно. Упал, заснул. Так все и получилось. В одиннадцать вечера на ДОЗе пересменок. Поляков, шофер ихний, — знаешь его, конечно, — стал рабочих развозить по домам. Повернул к Катиному логу, там у него Агафья Мохова выходит. Затормозил, смотрит: впереди темнеет что-то на дороге. Вроде бы человек лежит. Только хотели подбежать, взглянуть, а тут, понимаешь, обогнал их бортовой ГАЗ, кузов с тентом, да на всей скорости и поддел его колесом, аж крутанул на дороге. Лесопильщики подбежали, а это твой Юрка, не дышит уже, в крови весь и пульса нет.
Павел Антонович грузно поднялся со стула:
— Кто же это Юрку-то так? Или ушел?
— Пытался, да от меня не уйдешь, — важно подчеркнул участковый. — Пришлось, правда, погоняться за ним по поселку. Да куда он денется. Сидит уже под замком.
— Чужой? Из Шарапово? Хребтовска? — сумрачно добивался Павел Антонович, как будто в этом сейчас было главное.
— Здешний. Степан Касаткин, знаешь такого?
— Касаткин?! Степан?! — эхом откликнулся Селянин. — Ну, сосед!.. Как же это он! Он же Юрку пацаном еще знал. На полуторке, бывало, катал не раз. Как он мог человека на шоссейке не углядеть? Двадцать пять только парню сравнялось… — Губы у Павла Антоновича задергались, голос набух слезами.
— Пьяней вина был Касаткин. Гуляли они чуть не с обеда в Черемуховом логу. Высоковольтники там были из хозяйства Федора Иннокентьевича, — как бы извиняясь перед ним, произнес Сомов имя и отчество Чумакова. — Потом Степан мотанул домой. Вот и доездился лет на восемь! — Сомов засмеялся, довольный своей остротой, оборвал смех. И стало заметно, что лейтенант тоже выпивши, не так чтобы сильно, но, как говорится, навеселе.
Чумаков расхаживал по комнате, ступал так тяжело и устало, что половицы поскрипывали жалобно, и говорил возмущенно:
— Восемь лет! Да еще, поди-ка, с зачетами и льготами. Я бы за такое к стенке — и весь разговор! Я считаю: сел пьяный за руль, задавил человека — умышленное убийство!
— Похмелью Касаткина тоже не позавидуешь! — снова усмехнулся Сомов. — Намылили ему шею лесопильщики. Я, грешным делом, отвернулся: не вижу, мол, ничего… И с вами я согласен, Федор Иннокентьевич. Может, и умышленное убийство, и стрелять таких надо. Но ведь закон есть закон. Больше десяти, а то и восьми лет не дадут. Статья 211, часть вторая гласит. Да ведь ты сам знаешь, Павел Антонович, шофер же…
— Ага, гласит. Восемь лет, значит, да еще с зачетами, — начал Павел Антонович, но вдруг сорвался до полушепота: — Ты вот что, лейтенант, ты сам учти и начальству своему накажи: держите Степку этого где-нибудь за семью замками, чтобы он мне на глаза не попался… Восемь лет! Мне теперь терять нечего. Я кровь своего сына видел на дороге. Пролил ее Степан Касаткин, и смыть ее могу я только Степкиной кровью!
— Ну, знаешь! — возвысил голос участковый. — Не вздумай мне самосуд учинять. Юрия все одно не воротишь, а на свою голову накличешь беду…
А вскоре — два месяца только прошло — снег еще не сошел ни с Юркиной могилы, ни с Фросиной рядом с ней, вовсе свежей, — ехал Павел Антонович из Хребтовска… И как повелось у него с той январской ночи — страшился проскочить березу.
Вот она — старуха, пришибленная бедой, и вот оно, то место…
Павел Антонович остановил машину, смахнул с головы шапку и нажал рукой на сигнал. Застонали над дорогой и над зимним лесом автомобильные гудки.
— Ту-у… Ту-у… Юрка! Сынок. Я помню. Ты всегда со мной!..
Метель взвихрилась с новой силой и словно бы из своего чрева выпихнула на дорогу ходока. Павел Антонович торопливо натянул шапку и призывно засигналил прохожему. Соболезновал: эк тебя прихватило, бедолагу. Пешком в такой хиус.
Прохожий рысцой затрусил к машине, сунулся в кабину, сказал признательно:
— Ох, спасибо тебе, добрая душа. Напрочь заколел я. От райцентра топаю… — Но вдруг замолк, будто поперхнулся, опасливо загородился рукой и проворно выпрыгнул из кабины.
Одет прохожий был явно не по погоде: шапчонка да телогрейка на рыбьем меху. Павел Антонович удивленно окликнул:
— Куда ты! Ошалел, однако, от стужи. Да стой ты! — прикрикнул Павел Антонович. — Провалишься в кювет, там снегу выше башки.
И словно бы ветер простонал в ответ:
— Ты… ты, что ли, не признаешь меня, Павел Селянин?…
Селянин включил фары.
— Касаткин?! Степан?!
— Я самый, Павел Антонович, — тоскливо подтвердил Касаткин. — Такая вот, значит, выпала нам с тобой встреча.
У Павла Антоновича стало сухо во рту. Он с трудом пошевелил шеей, обшарил рукой сиденье, под которым лежал инструмент. Выхватить сейчас монтировку и… Пусть потом законники рассуждают, самосуд там, благоразумное поведение…
Селянин стиснул пальцами монтировку. Но вдруг вспомнилась Клава — жена Степана. Почти каждое утро встречал ее Павел Антонович. Она вела в ясли мальчишек-двойняшек. Встречались они у ворот и расходились молча. Как незнакомые. Клава отворачивалась. Но Павел Антонович различал разлитый в ее глазах укор, будто он был виноват в ее соломенном вдовстве, ее материнском одиночестве. А мальчишки таращились на него испуганно и не по-детски хмуро. Он не раз встречал их на дороге за поселком, смирных, притихших, как бы ожидавших кого-то. А проходя по улице, Павел Антонович часто из-за забора ловил на себе их осуждающие взгляды.
«Кровь за кровь!» — подогрел себя Селянин. А Степан все также понуро стоял у края дороги и смотрел на Павла Антоновича вопрошающе и тревожно, совсем как его сынишки, переступал с ноги на ногу.
— Сбежал? — строго спросил Селянин.
— Отпустили. Бумага при мне, честь честью. Показать могу.
— Как отпустили! Тебе же восемь лет… говорили капитан Стуков и участковый. А только два месяца прошло. Суда не было еще.
— А сам капитан Стуков и подписал эту бумагу собственноручно. И начальник райотдела подполковник Нестеров был при этом. «Нет в твоих действиях, Степан Егорыч, преступного состава». Попеняли, что за руль пьяным сел, бумагу пошлют в гараж, чтоб меня, значит, из шоферов…
— Это как же преступного состава нет?! — переспросил Селянин. — Тебя надо не водительских прав лишать, а казнить. По твоей милости даже Юркин гробовой сон следователь капитан Стуков потревожил, тело его подымал из могилы. А ты, Степан, и участковому нашему лейтенанту Сомову, и всей дозовской смене, и мне на очной ставке признавался, что ты моего Юрия с пьяных глаз своей машиной…
— Не могу толком сказать тебе этого, Павел Антонович, — вовсе тихо начал Степан, но с каждым словом голос его набирал уверенность и силу. — Сам в толк не возьму. Только есть у капитана Стукова документ из области, что я на твоего сына наехал уже на мертвого. И потому капитан Стуков говорит, что с Юрием твоим произошел несчастный случай…
— Это как же, на мертвого, — откачнулся Павел Антонович от Касаткина, вцепился рукой в баранку от такой новости, сказал тяжело: — Ну вот что, Степан, раз ты уж такой везучий, садись. Не бросать же тебя в метель… — И, давая выход переполнявшей его ярости, признался: — Ну, капитан Стуков, Василий Николаевич… Хотя и большой ты начальник, а найду я на тебя управу, сверну и тебе рога…
Сколько лет провел Степан за рулем, сколько поездил в такие вот студеные ночи, а не ценил, что в кабине такая благодать… Вот доберется до дому, Клава непременно сразу протопит баньку. Кости попарить не грех, смыть с себя все, что налипло на душу. Два месяца… И капитан Стуков обходился с ним строго. И обижаться не на кого — убийца. Да и самого изгрызла совесть…
Степан припомнил все это и с горечью подумал: а может, Клава и не станет баньку топить. Может, у нее в такую стынь не только баньку — избу протопить нечем? Кто ей дров припас? Одна с тремя малолетками, старший — Валерка — не добытчик еще. Двое маленькие — вовсе ясельники.
Степан стянул свою затертую шапчонку, обмахнул задубелой рукавицей пот со лба и трудно, со стоном вздохнул. Он думал о том, какую злую шутку сыграла с ним судьба-планида на последних километрах к дому. Когда Степан, не веря в чудо, вышел из райотдела, автобус в Таежногорск уже ушел, а следующий отправлялся утром. Степан битый час проторчал на развилке шоссе в ожидании попутной машины, но, видно, и впрямь в этот вечер нечистая сила закрыла движение на поселок. И вот когда до поселка всего ничего оставалось, а он вовсе выбился из сил, он услыхал автомобильные гудки, тревожные и надсадные, будто кто искал кого-то в кромешной тьме. И надо же — за рулем машины Павел Селянин. В страшном сне такое не примерещится. Лучше с медведем-шатуном повстречаться. А может, это в наказание?…
Степан вздохнул, теснее прижался к дверце кабины.
— Ты что мостишься? — прервал молчание Павел Антонович. Говорил он медленно и глухо, словно боялся расплескать спокойствие. — Чего ты к дверке приклеился? Садись по-людски. — Он усмехнулся, будто всхлипнул, покрутил головой, спросил горько: — А почему я сигналить стал, ты понял?
— Я так соображаю: увидали пешехода в метели, пожалели…
Селянин долго молчал, отводил суженые злостью глаза, заговорил хрипло:
— Эх, не ко времени, видно, я твоих пацанят вспомнил: удержался, чтобы монтировкой тебя не погладить. Память, значит, у тебя, Касаткин, короче заячьего хвоста. А совесть и того меньше. Не ворохнулась она на этом месте. Ты же напротив этой лесины кровь Юрки моего с гравием перемешал. Неужто позабыл?!
Он ничего не позабыл. До сих пор и сам не мог ответить себе, почему не остановился, увидав на дороге людей. Ровно злой дух подтолкнул под руку, даже скорость прибавил, объезжая толпу. Потом машина подпрыгнула на каком-то ухабе и сразу же, заглушая вой ветра и стук двигателя, донеслось:
— Стой, гад! Человека переехал…
А он опять, ровно злой дух под руку, включил четвертую скорость…
Потом была бессмысленная гонка по улицам спящего поселка. Мелькнула мысль: «Врезаться в стену — и конец…» Но увидел поставленный поперек дороги грузовик: закрыл глаза и… все-таки включил тормоз…
Дверцы кабины рванули. Степан сжался у руля и вдруг встревожился: «Стекла повыбивают!»
Его, как мешок, выволокли на снег, сбили с ног. Заслоняясь, увертываясь от ударов, он видел занесенные кулаки, перекошенные злостью лица.
— А ну, расступись! — В гвалте Степан узнал голос участкового Сомова. — Расступись! Так и до смерти забить недолго. Мало вам одного покойничка…
«Покойничка… Насмерть я, значит, его…» — Степан застонал от этой мысли.
— Чего смотришь? — строго спросил участковый и по своей привычке стал наставлять: — Раньше надо было смотреть, за рулем: — Он сердито притопнул ногой и вдруг спросил, будто они на завалинке толковали: — Как же это нанесло тебя, Степан Егорович? Вроде и шофер не из последних.
— Кабы знать, где убиться… — осевшим голосом проговорил Степан. — Пьяный был, вот и нанесло.
— Ох, водка, водка… — укоризненно заметил участковый, но спохватился, прикрыл рот рукой, кашлянул смущенно и спросил официальным тоном: — Сколько выпили? Где? С кем?
Касаткин затоптался на месте, обвел взглядом бледные в свете фар лица. И, стараясь вызвать к себе сочувствие людей, вместе с которыми ему не однажды случалось и за обновками в раймаг съездить, и в тайге шишковать, и «раздавить бутылку», стал рассказывать, как с обеда загулял с заезжими хребтовскими шоферами. Нельзя было при людях правду открыть. Перед Клавкой стыдоба… Да и какое значение имела сейчас эта правда!
— Так что, сколько я выпил, сказать не могу, — закончил Касаткин. — Принимали, так сказать, по потребности. Ну, что скрывать, захмелел крепко. Не помню даже, куда и с кем ехал. Вот и нанесло…
— Опохмеляться теперь лет десять придется, — строго сказал участковый. — Ты ведь насмерть Юрку Селянина…
— Кого?! — Степан с трудом удержался, чтобы не сесть на снег. Ежась от нервного озноба, проговорил чуть слышно: — Как?… Юрку?! Господи! Как же так?!..
Из-за угла вывернул мотоцикл, остановился перед участковым:
— Товарищ лейтенант! Федор Иннокентьевич Чумаков и главный врач больницы послали за вами. Они там на дороге обследуют погибшего, зовут вас осмотреть место происшествия.
Лейтенант Сомов шагнул к мотоциклу, но снова взвихрился снег, налетел ветер. Сомов остановился, сдвинул на лоб шапку, смачно поскреб затылок и сказал:
— Сошлось все как назло. Свадьба у меня, у единственного сына. Самый разгар. — Затоптался перед мотоциклом и сказал: — Передай доктору: лейтенант Сомов по вызову товарища Чумакова там был уже, видел, что надо. Пусть теперь доктор делает, что полагается, а я напишу протокол. Все совершенно очевидно. Свидетелей вон сколько. Все своими глазами видели, как пьяный Юрий Селянин лежал на дороге, а пьяный Касаткин наехал на него. Дорожное происшествие. Тут ни Шерлок Холмс, ни эти самые Знатоки не потребуются. Тут и мы разберемся. Задержанный признает свою вину. Ты, Касаткин, как, признаешь себя виновным?
Касаткин помедлил с ответом. Вспомнилась Клава, тихая, беззлобная, слова укора не слыхал от нее никогда. И ребятишки вспомнились, сыновья-двойняшки, Витька и Вовка, совсем еще малыши, старший, Валерка, только будущей осенью в школу пойдет. Каково-то Клаве придется с тремя парнями? У Клавы и специальности никакой. Как говорится, кто куда пошлет… Лет десять отмерят… Человека задавил… И кого? Юрку Селянина… На глазах рос парень. И в песочке играл, и в школу пошел, и с девчонками сумерничал на лавочках. Как Павел горе такое переживет. И Фрося… Надо же случиться такой беде…
Степан переступил с ноги на ногу, втянул в себя морозный воздух и сказал твердо:
— Чего же не признавать-то, гражданин участковый. Хоть и не помню я по пьяному делу, как наехал на него, но против факта не попрешь…
На том и стоял Степан Касаткин на следствии в райотделе. Ответ его звучал одинаково: «Как наехал на погибшего, не помню, а что наехал — не спорю, люди видели. Моя вина…»
А через полчаса, прислонив свою задубелую, колючую щеку к мокрому от слез лицу Клавы, Степан нашептывал:
— Хоть на побывку отпустили к тебе с ребятишками — и на том спасибо…
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Среди своих коллег Григорий Иванович Макеев слыл личностью сухой, желчной и крайне суровой. «Не человек, а компьютер, запрограммированный на букву закона, — говорили о нем. — Такой родного сына за малую провинность бестрепетно отправит на скамью подсудимых». А другие возражали: «Зато безвинного никогда не упечет за решетку».
И лишь близкие Григорию Ивановичу люди знали, что стареющий полковник милиции давно тяжело болен, что в мальчишестве пережил он ленинградскую блокаду, схоронил там родителей и с тех черных дней понес через жизнь мучительную болезнь желудка.
Вызов к полковнику Макееву капитан Денис Щербаков воспринял с некоторой надеждой: вдруг да полковник в добром расположении духа и рапорту Щербакова, на который он возлагал столько надежд, будет дан надлежащий ход. Но едва Щербаков вошел в кабинет полковника, как тот сразу же и безжалостно перечеркнул все надежды.
— Прочитал я ваш рапорт, Денис Евгеньевич, — обычным своим желчным тоном начал Макеев, — и, простите, не желаю даже входить в обсуждение. Намерение ваше уволиться из органов внутренних дел и поступить в аспирантуру университета поддержать не могу. В заочную аспирантуру — сколько угодно… А в очную… — Он развел руками: — Не говоря уже о материальных утратах, и весьма для вас и вашей будущей супруги чувствительных, главное то, что вы, капитан, — следователь! На научной стезе только маяться станете. А чтобы не было у вас излишних сомнений в себе, отправляйтесь-ка прямо сегодня в командировку, в Шараповский райотдел. Есть, знаете ли, в этом райотделе старший следователь капитан Стуков. Известен он мне давно. Человек в нашем аппарате даже заслуженный. Вот этот Стуков два года назад прекратил уголовное дело по автоаварии со смертельным исходом, расценив происшедшее как несчастный случай. Между тем отец погибшего юноши принес мне на днях жалобу, требует найти виновника гибели сына. Я ознакомился с делом. Есть в доводах потерпевшего, над чем подумать. Я тоже усомнился в том, что это несчастный случай, и отменил постановление Стукова. Вам теперь надлежит установить истину.
Щербаков, с трудом сдерживая в себе обиду (признает следователем, а посылает на такое пустяковое дело), спросил довольно ершисто:
— А есть ли там истина иная, кроме той, какую установил Стуков?
Полковник в задумчивости подвигал по столу очки и сказал:
— Понимаете, Щербаков, я ведь в нашей службе прошагал все ступеньки от опера в райотделе вот до начальника следственного управления областного УВД. И остаюсь в убеждении: есть все-таки у нас, следователей, профессиональная интуиция. Она-то и диктует мне, Денис Евгеньевич, что дорожное происшествие может оказаться своеобразным айсбергом. Потому и посылаю вас, что надеюсь… — Замолк и закончил шутливо: — Ну, а если там точно несчастный случай, не постесняюсь подать генералу рапорт, чтобы отнесли ваши командировочные на мой счет.
Любимую присказку полковника Макеева об айсбергах Денис хорошо знал и помнил. Но сейчас, в номере районной гостиницы, вспомнив вчерашний свой разговор с начальником, он вдруг представил себе прикосновение своих босых ног к настылому полу, знобко поежился в кровати и подтянул одеяло.
И даже не хотелось думать о цели своего приезда сюда, о том, айсберг или не айсберг это давнее дорожное происшествие…
Он вспомнил, что ему приснился полет в облаках под звездопадом и удивленно спросил себя: с чего бы это ему стали сниться такие нелепые сны? Может быть, потому, что прожил свои тридцать лет так заземленно, большая задолженность накопилась перед собственной судьбой. Ни падений, ни взлетов. Только перелеты на самолетах местных авиалиний… От происшествия к происшествию. «До второго пришествия», как несколько старомодно выражался его отец. И замечал грустно: «Второе пришествие проблематично. А происшествия перманентны. Следовательно, «мы, друзья, перелетные птицы». Мне же, между прочим, под шестьдесят и как никак два инфаркта…»
«Ты полагаешь, я должен сменить профессию?» — безошибочно разгадывал Денис ход его мыслей.
«Решай. Ты взрослый. И, как утверждают, — умный».
А Елена недавно заявила категорически:
«При твоем образе жизни вместе нам не быть. Провожать и встречать тебя из нескончаемых командировок меня как-то не очень прельщает».
«Но милость к падшим, доктор…» — взмолился Денис.
«Милость к падшим ты можешь проявлять и на кафедре уголовного права в университете. В научных статьях, в диссертации…»
Денис вспомнил споры с отцом и Еленой, и номер в районной гостинице, которому еще вчера вечером он был искренне рад, сейчас, в тусклом свете февральского утра, ему показался убогим и тесным. Узкая железная койка с провисшей сеткой была на редкость скрипучей.
Ему было тоскливо и одиноко в этом номере, в этом поселке. И с покорностью, впервые без внутреннего протеста, он подумал о том, что отец, наверное, прав, хотя и прямолинеен, когда говорит:
«Пора тебе, Денис, кончать с этой тихой романтикой…»
Но и сермяжной правды у старика не отнимешь. Глядя фактам в лицо, надо признать, что следственная работа, как бы ни ободрял его полковник, лавров не принесла. Как говорится, середняк. Нила Кручинина — советского Пинкертона, сверхпроницательного криминалиста, воспетого лет двадцать назад Николаем Шпановым, как видно, не получилось.
Денис усмехнулся этому открытию и поклялся, что упорядочит свои довольно запущенные личные дела. Отбудет эту командировку, добросовестно выполнит приказание Макеева и дойдет до генерала, но переведется в очную аспирантуру. А там, чем черт не шутит, к следующей весне напишет диссертацию. Займется делом, станет читать лекции по уголовному праву будущим сыщикам…
2
— Капитан Щербаков Денис Евгеньевич.
— Капитан Стуков Василий Николаевич.
Денис Щербаков позавидовал выдержке Стукова: провел старик трудную для него встречу, что называется без сучка без задоринки. В полном согласии с велениями вежливости и канонами субординации. И встал, как положено при появлении старшего по должности, и улыбнулся, и руку пожал, и сесть пригласил широким гостеприимным жестом. Но в каждом слове и жесте Стукова, в каждой морщинке немолодого рыхлого лица сквозили досада и даже осуждение. И во взгляде часто мигавших глаз читалось: «Принесла нелегкая этого коллегу из области на мою седую голову…»
— Рад знакомству. Полковник Макеев очень лестно отзывается о вас, — позолотил пилюлю Денис.
— Благодарю.
На оплывшем лице капитана Стукова не дрогнул ни один мускул. Даже взгляд не потеплел. Василий Николаевич понимал, что старший следователь областного УВД капитан Щербаков совсем не повинен в отмене полузабытого в текучке дел постановления по факту гибели Юрия Селянина. Послало его начальство. Вот он и явился в Шарапово. Оценивающе оглядел Дениса и решил: «Нет, такой не разделит его точку зрения, как пытался успокоить Василия Николаевича подполковник Нестеров, такой буквоедствовать станет, землю рыть, чтобы только доказать правоту своего высокого начальства, поверившего вдруг не опыту Стукова, а воплю ополоумевшего от горя Павла Селянина.
В другое время Стуков осадил бы себя: какие резоны у него думать так плохо о приезжем коллеге, таком же, как и он, офицере милиции. Но сейчас ему было приятно думать так плохо о незнакомом капитане Щербакове, жалеть себя и возмущаться даже и самим полковником Макеевым.
Стуков откинулся на спинку стула, в упор разглядывал Щербакова с усмешкой. Вот сидит он перед ним, выпятив подбородок, светлые глаза из-под очков в позолоченной оправе так и стригут. Благоухающий сидит после бритья, розовощекий, уверенный в себе, в своем праве подправлять, менять продуманное…
Такой небось ни разу в жизни не глотал голодную слюну, не растягивал на несколько раз зачерствелую краюху хлеба, не месил грязь в рваных опорках, не донашивал латаный-перелатаный отцовский пиджак. Такому все готовым на блюдечке поднесли: и сытость, и уют, и университетский «поплавок», и капитанские звездочки на погоны. В этаком-то хрупком возрасте…
А он, Василий Николаевич Стуков, за свои немалые уже годы выше глаз похлебал всякого лиха, и горького, и соленого, и горячего до слез. К тридцати годам, в возрасте этого пижона, он только до погон младшего лейтенанта дотянулся. Один просвет, одна звездочка… Так-то… И все-таки это был просвет в его жизни.
Стуков видел себя сейчас то в кабине ЧТЗ на дальнем поле родного колхоза, то в свежевырытом окопчике у лафета противотанковой пушки. И на экзаменах в заочной юридической школе он видел себя. И хотя тогда ему уже подкатывало под тридцать, и на заношенном кителе горели ленточки наград и нашивки за ранения, дрожал на экзаменах бывший сержант как пятиклассник: выпадет или нет счастливый билет. Выпал! Получил бывший сержант высокое право пребывать в этом кабинете, за этим столом. Так неужели он употреблял свою власть во зло людям, неужели не заслужена репутация, пусть в границах всего лишь района, но прочная репутация строгого и справедливого следователя.
Но высказать все это заезжему человеку было невозможно, и Василий Николаевич, сознавая, что молчание уже становится неприличным, вздохнул, отвернулся от Щербакова и посмотрел в окно на улицу в рыхлых сугробах, по которой тридцать с лишним лет вышагивал на службу в райотдел, улицу, на которой ноги помнили каждый ухаб. Посмотрел на присаженные снегом домики: их обитателей он всех знал в лицо, знал многие подробности их жизни, и они знали его, старшего следователя капитана Стукова, и — он истово верил в это — относились к нему с почтением.
Наконец Стуков очнулся от своих дум, сказал печально:
— Да, тридцать пять лет я на службе, в кабинете этом, при исполнении. Бит, терт и молот на всех жерновах. Не стану кривить душой, и доследования случались, и оправдания в судах, и прекращение дел. Воспринимал самокритично. Делал надлежащие выводы, А тут как про отмену своего постановления узнал, ровно кто меня обухом огрел по темени. Который день будто не в своей памяти хожу. Душу гложет стыдоба… Неужто в этот раз просмотрел чего, склевал старый воробей дармовую мякину. — Стуков подался через стол к Денису, понизил голос, продолжил доверительно: — Да ежели у меня хоть грамм сомнений был в причинах гибели Юрия Селянина, я бы не стал дожидаться вашего приезда, до Генерального Прокурора дошел бы, вел бы следствие хоть три года, пока бы не доискался до истины. Ведь Стукова в районе стар и мал знает. И у всех капитан Стуков в авторитете. Такая в службе здесь, в глубинке, особенность. Просматриваемся со всех сторон…
В другую минуту Денис шуткой постарался бы рассеять тягостное настроение Стукова, но сейчас, когда сам полной чашей испил досаду за себя, он не годился в утешители.
Сначала не без скепсиса: ищет самооправдания, а затем с участием слушал Щербаков исповедь Стукова и думал о том, что этот капитан давно уже вышел из капитанского возраста, но, судя по всему, не обойден славой Шерлока Холмса районного масштаба. И вот сейчас, когда эта слава в зените и старослужащему следственной службы перед отставкой и выходом на пенсию забрезжила майорская звездочка, на его седую голову обрушилось доследование дела, которое он считал «железным». Теперь старик опасается, что его надежды на почетную отставку находятся под угрозой… Сколько таких Стуковых встречал он в скитаниях по районам. Они раздражали Щербакова самоуверенностью и упорством в отстаивании своих позиций, а случалось, и заблуждений.
А Василий Николаевич Стуков слабо улыбнулся Денису, вздохнул и сказал, не скрывая обиды:
— Отзывается, говорите, лестно обо мне наш полковни… А вот не согласился с моей версией о несчастном случае, командировал вас, товарищ капитан, ворошить «битое» дело, хотя мы с вами и в одном чине.
— Случается, — попробовал успокоить Денис. — Но вообще-то я рад, Василий Николаевич, что вместе станем ворошить. Ведь вы, так сказать, абориген. Знаете районные условия и всех действующих лиц досконально.
— То-то и есть, что районные, — злорадно подхватил Стуков. — Вы в областном управлении озираете всех с больших высот. А спуститесь-ка на грешную землю, в нашу обстановку. Районную…
— И чем же они так сложны, — усмехнулся Денис, — эти ваши «районные будни?»
— А тем и сложны, что районные, тесные. Здесь расстояния невелики. Что бы где ни стряслось, район гудит назавтра, — он окинул Дениса пытливым взглядом — понимает ли тот подтекст его речи? — и продолжил напористей: — А тут не рядовой случай — погиб парень, да еще на глазах многих людей. Все только твердили: Касаткин задавил Юрия Селянина. В таком гуде нашему брату следователю не оглохнуть мудрено. Да еще сам Касаткин с его признаниями и раскаянием, — Стуков замолк, вспоминая те давние дни, и продолжал откровенно: — А я ведь не оглох, не поддался слепой очевидности, не допустил произвола. Навеки стал врагом Павлу Селянину, но эксгумировал тело его погибшего сына,
подверг комиссионной областной экспертизе. И спас свободу Касаткину…
Денис, заражаясь горячностью и гордостью Стукова за свою следовательскую честность, не удивляясь быстрой смене своего настроения и отношения к этому, видимо, совсем не простому и неоднозначному человеку, проговорил:
— Да, Василий Николаевич, в областном управлении все, кто знакомился с делом, по достоинству оценили вашу удачу.
Перед глазами Дениса снова как бы открылись страницы знакомого дела. Уважаемые в области судебно-медицинские эксперты писали:
«Причиной смерти Юрия Селянина является глубокая прижизненная травма правой лобно-височной кости. Эта травма может быть следствием сильного удара по голове Юрия Селянина твердым тупым предметом. Не исключено нанесение травмы выступающими частями движущейся автомашины. Не исключено также приведшее к смерти повреждение головы Юрия Селянина, полученное при ударе о дорожный грунт в результате падения… Перед наездом автомашины Касаткина погибший лежал поперек дороги на правом боку, что исключает возможность смертельного повреждения правой лобно-височной кости Юрия Селянина в результате удара колесом автомашины под управлением Касаткина. Хотя удар баллоном автомашины по телу Юрия Селянина, судя по материалам дела, свидетельским показаниям, действительно имел место. В результате тело Юрия Селянина изменило первоначальное положение, оказалось лежащим вдоль дороги, и шапка слетела с его головы. Случаи, когда колесо автомашины не переезжает тело, а отталкивает его от себя в сторону, — известны. С учетом единственной прижизненной травмы правой лобно-височной кости, отсутствия других повреждений на теле и одежде пострадавшего, отсутствия следов протектора на теле Юрия Селянина, следует считать, что переезда Юрия Селянина автомашиной Касаткина не произошло. Вывод: к моменту наезда колеса автомашины под управлением Касаткина на лежавшего на дороге Юрия Селянина последний был уже мертв…»
Денис как бы наново перечитал этот основной в деле о гибели Юрия Селянина документ. И хотя все еще не мог заглушить в себе чувство признательности к профессионализму седовласого капитана, все же остудил себя: полковник Макеев командировал его сюда не для реверансов и комплиментов. Да и нельзя не признать, что в данном деле Стуков все-таки проявил себя не безупречно. Двинулся было правильным путем, да пошел на компромисс с самим собой и замер, остановился на полдороге… Денис вздохнул и проговорил с мягким укором:
— В материалах экспертизы сформулированы три возможных причины гибели Селянина: удар по его голове твердым тупым предметом, травма от выступающих частей движущейся автомашины и, наконец, повреждение головы, полученное при ударе о дорожный грунт в результате падения… Вы же, Василий Николаевич, справедливо сняв обвинение с Касаткина, почему-то напрочь исключили возможность умышленного удара Селянина по голове преступником и возможность наезда на него автомашины не Касаткина, а другой, которую видел с крыльца слесарки ДОЗа свидетель Яблоков, кстати, почему-то так и не допрошенный вами. А избрали из возможных трех вариантов наиболее простой и, простите меня, легкий для завершения следствия — вариант падения погибшего на дорогу.
Стуков, воспрявший было и даже как бы помолодевший от ободряющих слов Щербакова, снова поник, отвернулся к окну, невидяще уставился на заснеженную улицу.
— Прочитал, значит, не так… — наконец сказал он сварливо. — Не было вас на мою беду рядом консультантом.
— Да если б только на вашу, — с обычным холодком в голосе подчеркнул Щербаков. — На вашу, на беду то есть. Общая наша беда в том, что Юрий Селянин два года как мертв, а причины его гибели, увы, не ясны совершенно. Его отец, несмотря на угрозы в ваш адрес, спохватился поздненько и подал жалобу в УВД лишь месяц назад.
Стуков, отдуваясь, как после парной бани, не преминул уколоть:
— Я вижу, что в отличие от меня, грешного, вас, товарищ Щербаков, более всего устраивает первая версия — умышленный удар по голове Селянина неизвестным злодеем. Я разумею: для вашей следовательской репутации раскрытие такого дела, да еще два года спустя, куда как престижно. Да только такого не может быть. Я тридцать пять лет в этом районе в нашей службе и могу заявить официально: примерно четверть века уже не было у нас в районе умышленных убийств. Бытовые, в пьяных драках, случаются. А от умышленных, как говорят, бог милует… Кто и за что станет убивать парня, за которым не значится ни доблестей особых, ни пороков. На грабеж, согласитесь, не похоже. Даже зарплата, которую он получил в тот день, оказалась при нем. Из ревности? Так вроде бы ревновать не к кому… — Стуков уже победоносно посмотрел на собеседника и продолжал увереннее: — Какую же я, Денис Евгеньевич, версию должен был принять, когда весьма и весьма уважаемый в наших краях хозяйственный деятель Федор Иннокентьевич Чумаков, допрошенный мною в качестве свидетеля, и еще добрый десяток совершенно объективных людей в один голос показали, а экспертиза подтвердила, что покойный незадолго до своей гибели находился в тяжелой степени опьянения и даже учинил дебош в вечернем кафе, прерванный Чумаковым.
— Однако свидетель Яблоков, который писал свои жалобы независимо от Селянина, трактует эти события по-иному.
— А, что там Яблоков!.. — с раздражением отмахнулся от слов Щербакова Стуков, словно бы отпихнул от себя настырного свидетеля. — Я уже докладывал вам про районные условия. И расстояния здесь невелики, и отношения между жителями весьма близкие. Яблоков родственник Касаткину и Селянину. Вот вам и объективные свидетели.
И то ли сердце его вдруг приоткрылось справедливым укорам Щербакова, то ли зашевелилась в нем следовательская совесть, которой он гордился и за которую больше всего ценили Стукова начальники и коллеги, но вспомнилось…
Кузьма Филиппович Яблоков, непривычно раскрасневшийся, почти яростный, чуть не с кулаками подступал к столу Стукова:
— Неправое дело сотворил ты, Василий Николаевич, уважаемый товарищ капитан Стуков! Воистину, как в старину говорили: «Когда бог захочет наказать, то прежде всего отымет у человека разум!». Вот сейчас ты и не по разуму и не по совести своей поступил. Попомни меня: каяться еще будешь за то, что прикрыл следствие о гибели Юрия Селянина…
Стуков, слегка опешив от такого натиска, сказал оскорбленно:
— Я не «прикрыл следствие», а прекратил дело на основании авторитетного заключения областных судмедэкспертов.
— Авторитетного… Почему же ты меня на следствие на свое из командировки, из Хребтовска, не вызвал? Ведь всем известно: я последним встречался и разговаривал с Юрием Селяниным. И поклясться могу: шел он твердо, не качался, не падал. Так ответь ты мне: с чего бы это ему лечь посередь дороги? И другую автомашину с крыльца дежурки я видел, навстречу Юрию неслась она. Как же можно следствие закрыть, не удостоверившись, что не та машина Юрия сбила?
А он, Стуков, сказал твердо:
— Зачем же мне тебя, товарищ Яблоков, надо было из командировки вызывать? Кидать на ветер государственные деньги, когда двадцать человек видели и подтвердили и сам Касаткин признался, что наехал он на лежавшего на дороге Юрия Селянина.
— Вот именно, что лежавшего, — запальчиво возразил Яблоков. — А с чего бы лечь ему на дорогу? Не задал ты ни себе, ни другим этот вопрос.
— То-то и есть, что задал, — победоносно усмехнулся Стуков. — Самому Федору Иннокентьевичу Чумакову. Он ведь тоже видел твоего родственничка незадолго до его гибели. Пьян в стельку был твой Юрий Селянин. Вот и весь ответ.
— А мне на свои глаза свидетелей не надо! Не мог он свалиться на дорогу. Рабочее честное слово даю тебе: хоть и уважаю тебя, а писать на тебя буду до самой Москвы. Пока не добьюсь, чтоб следствие провели по всей форме и выслушали меня тоже.
Денис, снова удивляясь многоликости этого человека и с трудом сдерживая закипавшее в нем раздражение, сказал:
— Я обещаю вам опираться только на факты и прошу вас, по долгу службы, помочь мне в этом.
— Что же, буду помогать в меру сил и со всем старанием, согласно дисциплине. Но душевно принять и одобрить ваше доследование, виноват, не могу. Дело, которое вы прибыли вершить, по моему понятию, пробороздит душу не одного человека, породит нежелательные суждения среди граждан о местных правоохранительных органах.
— Об органах?! — жестко спросил Щербаков. — Или конкретно о следователе капитане Стукове?
— Правильно. И о Стукове тоже. Я себя от нашей службы не отделяю. Меня критикуют — службе урон. Однако позвольте договорить… Однобокая, говорите, истина? Может, и так. Мне спорить не приходится. Поскольку я мотивировал ее в постановлении о прекращении дела. И как теперь выясняется — попал впросак… — Стуков вдруг улыбнулся, видно, обрадовался осенившей его мысли и продолжал ершисто: — Однако ведь и ваша, товарищ капитан, истина, которую вы найти стремитесь, не объемнее моей. Простите за откровенность, истину вашу еще доказать надо, она щупальца тянет ко многим людям.
— Простите, что за сложные ассоциации?
— А никаких ассоциаций, — горько усмехнулся Стуков. — Об одной стороне доследования я уже толковал вам. Про авторитет и местных следственных работников, что поколеблет его ваше доследование и породит нежелательные суждения среди граждан. Другая сторона — это Селянин Павел Антонович. Фрося-то его, будет вам известно, на месяц всего пережила своего сына. И Павел стал форменным стариком, хотя ему чуть за пятьдесят, и забутыливать стал. — Стуков даже привстал от возбуждения. — Не помню кто, но мудрый кто-то говорил: «С горем надо переспать…» Так вот, Селянин за два года переспал со своим горем семьсот раз. Только-только свыкаться стал со своей бедой, а тут вы с вашим доследованием. Допросы, расспросы, напоминания. Душу ему опять бередить. Как я понимаю, не исключена еще одна эксгумация тела Юрия Селянина?
— Возможно.
— Вот-вот, возможно. Стало быть, опять Павла Антоновича на погост к сыновней могиле приводом вести.
«Наверное, Стуков житейски в чем-то прав, — озадаченно думал Щербаков, — но только житейски. А по большому счету, перед законом?»
— Вы хотите отменить дополнительное расследование? Слишком ярко живописуете неприятности от него для Селянина.
Стуков понимающе посмотрел на своего рассерженного оппонента, но сказал почти кротко:
— И не только для Селянина, Денис Евгеньевич. Касаткиных возьмите. Ту же Клаву. Она ведь за два года успокоилась за мужика. Я уж про самого Касаткина не говорю. Каково будет ему снова возвертаться в подследственные.
— А почему непременно Касаткину возвертаться? — Денис намеренно ввернул это словечко из лексикона Стукова. — Откуда такая уверенность? Вдруг да не ему, а кому-то другому?…
— Это кому же другому? — Стуков засмеялся и закрутил головой, будто от малютки услыхал забавную нелепость. — Ох, да и фантаст же вы, оказывается. Прямо Жюль Верн.
Денис уже не сочувствовал личным и служебным проблемам капитана Стукова с его житейской смекалкой и упрямством. Денис холодно сказал:
— Не знаю, как насчет фантазии. Но объективность и всесторонность необходимы нам крайне. Кто даст гарантию, что банальное дорожное происшествие, как напутствовал меня один весьма знающий товарищ, не является всего лишь внешней оболочкой событий? Кто поручится, что простой по виду несчастный случай не маскирует собою более опасного преступления?! Ведь полковник отменил ваше постановление далеко не по формальным мотивам.
Стуков горестно вздохнул и отвернулся к окну. Невидяще глядя на улицу, огорченно подумал, что не стоит тратить слова, чтобы в чем-то поколебать Щербакова. Такой родного отца не пощадит ради параграфа законоустановления.
— Что же, давайте исполнять, как вы изволите выражаться, веление закона, — неожиданно устало сказал Стуков. — Давайте осмысленно, как вы настаиваете, отвернемся от очевидной для всего района очевидности и примем за версию бредни свидетеля Яблокова о том, что с крыльца дежурки ДОЗа тот якобы видел прошедшую навстречу Юрию Селянину грузовую автомашину, за рулем которой сидел Игорь Постников. Давайте поверим Яблокову, возьмем Постникова на цугундер. То-то Постникову это в масть. Он, к слову сказать, уже два года как от нас уехал, в областном центре на хорошей должности, семья у него чудесная. Кстати, Постникова я тоже имел в виду, когда говорил о моральных издержках дела, которое вы прибыли вершить.
«Вы что же, отменить хотите дополнительное расследование?» — едва не выпалил Денис, но ответил холодно и чуть возвысив голос:
— В общем, товарищ Стуков, вы довольно верно определили цену начатого доследования. Но ведь вы — юрист. Ваше постановление отменили не по формальным мотивам, а потому, что не исследованы важнейшие обстоятельства гибели Юрия Селянина. Находясь в плену очевидности, вы даже не допросили свидетеля Яблокова. Машина Касаткина наехала все-таки на лежавшего без движения человека, и на теле погибшего нет следов протектора, и цела одежда погибшего, а судебно-медицинская экспертиза всего лишь не исключает того, что причиной гибели Селянина была автотравма. Как видите, дорогой коллега, набирается довольно много вопросов и упущений. И мне кажется, что моральная цена истины в таком деле оправдывает названные вами моральные потери.
— Ну что же, полковнику и вам, как говорится, с горы видней. Наше дело солдатское…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
За мутной наледью бокового стекла газика проступали гребни бесснежных холмов, черные космы зимних сосен, оголенные березки и осины, сползал в кювет колючий кустарник. А над кюветами, словно застывшие волны, вздымались сугробы.
Скоро Таежногорск. Капитан Стуков все-таки не зря витийствовал перед Денисом. Заронил-таки в его душу семена скептицизма. И не было сейчас в душе капитана Щербакова ни привычного азарта перед началом расследования, ни уверенности в своей бесспорной правоте перед законом и перед всеми, чей покой будет потревожен его действиями.
— Все. Приехали, — сказал сидевший за рулем газика сержант Родченко из местного райотдела. — Вот она, береза эта. Возле нее тогда все и получилось.
Денис, отрешаясь от невеселых мыслей, ступил на гравий. Обочь дороги нависла ветками над сугробом горбатая почернелая береза,
— Выбрал же Юрка Селянин место, где смерть найти. Как говорится, нарочно не придумаешь, — покачал головой сержант. — Самое уродливое дерево в округе. И молнией его обжигало, и к земле пригнуло, а спилить жалко: вдруг воскреснет. — Родченко задумался, словно бы о судьбе березы, но заговорил о другом: — Юрка-то, не тем будь помянут, шибко беспутно жил последний год и помер как-то чудно… Если по всей правде, никак не возьму в толк, с чего бы он середь дороги завалился. Что греха таить, пил много, последний год особенно, но только памяти не терял и на ногах стоял твердо.
— А злобствовал на кого в пьяном виде?
— Да как сказать? На всех. Ходил сам не свой. Вроде бы жениться самая пора, собой он был не из последних, любая девка не отказала бы ему. А он, может, оттого и не в себе был, что вдвоем с Николаем Матвеевым присохли к Татьяне Солдатовой. Везде они втроем бывали. Она вроде бы на Юрку сначала глаз положила, а потом дала от ворот поворот.
Денис не без сожаления думал о том, что протоколы допросов бессильны передать интонацию свидетеля и обвиняемого. Ведь нигде в деле не отражены подробности, которые сейчас привел милицейский сержант. Или Стуков счел их мелочами, не заслуживающими внимания? Или не сумел расположить к себе душевно допрашиваемых? Между тем в горячности и категоричности тона сержанта Родченко, практически не допускавшего для Юрия Селянина возможности вдруг лечь на дорогу, куда больше того, что один писатель метко назвал «информацией к размышлению»
Значит, не все в районе приняли официальное объяснение причины гибели Юрия Селянина.
Стало быть, прав Стуков: хотя моральная цена доследования и тяжела и велика, но и доследование это все-таки нужно и важно многим людям.
— Вы, Родченко, конечно же, не можете помнить: была ли в тот день дорога очень скользкой?
— Конечно, товарищ капитан, любой шофер не может упомнить, где и на каком гололеде занесло его машину. Но ту ночь все-таки помню. У нас ведь не Чикаго, где каждую минуту человек отдает концы. Такое происшествие, как с Юрием Селяниным, на моей памяти — первое. Так что помню. Метель была много дней. Снегу намело, можно было и поскользнуться.
Денис слушал сержанта и внимательно смотрел на березу: если бы она могла поведать о том, что случилось здесь два года назад! А может быть, нет их, никаких ответов, кроме тех, что зафиксировал в деле капитан Стуков?
— Изучаете место происшествия? — по-своему истолковал молчание Дениса сержант. — Только какие теперь тут следы. Две зимы пролетели и два лета. И снегом следы присыпало, и ливнями ополаскивало.
Денис, удивляясь тому, что сержант словно бы читает его мысли, спросил:
— Сильно изменилось это место с тех пор?
Сержант осмотрелся и сказал рассудительно:
— Чему тут меняться-то? Пожалуй, только та перемена, что в заплоте ДОЗа, вон там, за кюветом, дыру заделали. А тогда человек в нее свободно пролезать мог.
— Значит, вы, товарищ сержант, бывали на месте происшествия?
— Я сразу лейтенанта Сомова привез на мотоцикле. Юрий лежал вдоль дороги, мертвый уже. А поза у него была такая, ровно бы он споткнулся на бегу и упал. Хотя, я говорил уже, дорога была не скользкая.
2
Калитка отворилась, и Павел Антонович Селянин из-под лохматых бровей зорко оглядел Дениса, потом его служебное удостоверение и спросил угрюмо:
— С чем прибыли, товарищ капитан, на мое пепелище?
Щербаков, проникаясь все большим сочувствием к человеку, не по своей вине оказавшемуся на склоне лет «на пепелище», мягко сказал:
— Приказано мне, Павел Антонович, проверить и оценить все обстоятельства гибели вашего сына. Начальник следственного управления УВД облисполкома отменил по вашей жалобе постановление местного следователя о прекращении уголовного дела по факту гибели Юрия Селянина.
— Так. Есть все-таки на земле правда, или, сказать по-старинному, достигли мои молитвы божьих ушей… Пусть теперь капитан Стуков постоит «смирно» перед старшим по должности да предъявит свои умозаключения… — Тяжело вздохнул и продолжал сожалеюще: — Хотя, к слову сказать, я тоже медленно запрягал. Первый год подкошенный бедою был шибко: легко сказать, в один месяц остался полным бобылем… А второй год, честно признаться, сомневался, что есть где-нибудь правда. Думал, ежели уж сам Стуков отмахнулся, кто же на высоких-то этажах меня услышит… Да. Ну, а тут Кузьма Яблоков, дай бог ему здоровья, прямо-таки насел на меня: стучись, мол, в область… Словом, пожалуйте в дом…
В небольшой опрятной комнате Павел Антонович прервал сильно затянувшуюся паузу и спросил настороженно:
— Чего о нем говорить, о Юрке? Все, что надо, сказали при его погребении. Даже товарищ Чумаков держал речь. — Вздохнул и пояснил: — Это вот и есть комната покойного сына. Соблюдаю все, как было при нем, до его последней ночи. А вернулся он уже не сюда, а в залу…
Денис обвел взглядом комнату: нельзя было поверить, что она нежилая. Но как ни силился найти в ней нечто, свидетельствующее о каких-то индивидуальных душевных привязанностях Юрия Селянина, не нашел ничего. Тщательно застланная расписным покрывалом кровать. Под ней черные чушки гантелей. Платяной шкаф с зеркалом, Небольшой письменный стол, несколько стульев вдоль стен, на тумбочке магнитофон и проигрыватель, над столом книжная полка. На столе фотографический портрет Юрия. Денис сразу узнал его, хотя до этого видел лишь приложенные к делу посмертные снимки.
А этот Юрий, живой, полный сил, весело смотрел на следователя большими, широко открытыми глазами. Впрочем, так ли уж беспечен и весел этот светловолосый парень? Наверное, старался предстать перед объективом жизнерадостным. Но затаилась меж густыми бровями скорбная бороздка. Что пропахало ее? Безответная любовь? Размолвка с другом? Крушение романтических надежд на быстрый жизненный успех? Или у такого открытого, обаятельного парня была какая-то очень глубокая от всех тайна?
— Ну, нагляделись? И каков же он, по-вашему, есть? — Голос Павла Антоновича звучал деловито и спрашивал он, как о живом.
— Что же, неплохой малый, — искренне сказал Денис. — Веселый, должно быть, добрый. Только вот, по-моему, угнетало его что-то, какая-то потаенная печаль. Не замечали?
Павел Антонович, как бы не слыша вопроса, обрадованно подхватил:
— Уж что хорош, то хорош, слов нет. И веселый, правильно, компанейский. В любой компании — первый заводила. И спеть, и сплясать, и на магнитофоне музыку запустить. И сыграть, что твоей душе угодно, на каком хочешь инструменте.
— А выпить? — осторожно напомнил Денис.
В материалах дела о пьянстве Юрия Селянина, за исключением описания предсмертного хмельного дебоша, не упоминалось. Только констатация факта в акте судебно-медицинской экспертизы. И в постановлении о прекращении уголовного дела: «Юрий Селянин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял на ходу равновесие, упал и от удара о дорожный грунт получил смертельную травму правой лобно-височной кости…
Павел Антонович внимательно посмотрел на портрет сына, точно советовался с ним, как ответить, сказал недовольно:
— Ну и вцепились вы, по-бульдожьи прямо. Подавай вам признание, что был Юрий алкашом. Так ведь не был, не пытайте. Любого в поселке спросите, не станут возводить на него напраслину. Хотя контора-то ваша ведь не на облаке, знаете, что по нынешней поре, ежели где компания собралась, заделье там какое, торжественное событие или просто молодежь сойдется потанцевать, покрутить магнитофон, как тут обойтись без бутылки. И когда у нас сходились, мы с Фросей выставляли всегда. Ведь не скупые и не беднее других.
— Пусть так, Павел Антонович, — прервал его Денис. — Поймите, я не хочу набросить тень на вашего сына, но мне надо точно знать: бывало ли так, что ваш сын терял контроль над собой?
— Перебор может быть у каждого, — философски заметил Павел Антонович. — Но вообще-то Юрка знал меру, — задумался, поскреб рукою в затылке и вдруг сказал: — Хотя не стану врать, товарищ областной следователь, последний год Юрка к водочке прикладывался почаще и домой приходил потяжелее. Теперь я так понимаю: видно, было предчувствие, чуяло его сердце, что недолго тешиться осталось. Вот и заливал душу… Так что вполне могло получиться, что переложил в тот вечер сверх меры.
— Стало быть, и вы, Павел Антонович, допускаете, что Юрий упал на дорогу вследствие тяжелого опьянения? Тогда в чем же ваше несогласие с позицией капитана Стукова?
Павел Антонович не ответил, смотрел в окно на присыпанный снегом двор, плотно запертые ворота. Добротные, старые ворота. Которые, однако же, не уберегли хозяина от беды. Теперь эти задраенные наглухо доски как бы стерегли его горе, отгораживали от людей, делали пленником прошлого.
Вот Павел Антонович зашевелился, как бы пробуждаясь ото сна, и привел решающий аргумент в пользу Юрия:
— Был бы Юрка мой забулдыгой, разве ходил бы в таком авторитете у Федора Иннокентьевича Чумакова?
В материалах дела Денис читал протокол допроса бывшего начальника Таежногорской передвижной механизированной колонны «Электросетьстроя» свидетеля Чумакова Федора Иннокентьевича, который вместе с рабочими ночной смены ДОЗа был в тот вечер на месте происшествия и первым вызвал по телефону милицию и врача. Щербаков понимал, что столь значительный в масштабах небольшого района хозяйственный руководитель пользовался всеобщим уважением, почти поклонением. Добиться его расположения непросто. И Денис, не скрывая удивления, спросил:
— А на чем держался этот авторитет? Юрий был экспедитором в отделе снабжения. Согласитесь, в передвижной механизированной колонне должность не самая видная.
— А это вы уж у самого Федора Иннокентьевича спросите, — отрезал Павел Антонович. — Он сейчас в больших чинах в областном центре. — И засмеялся колюче: — Все вам вызнать надо: отчего да почему?… Конечно, каждый человек — человек. Так ведь не каждый каждому мил и угоден. С одним всю жизнь готов идти в обнимку, а на другого и глянуть тошно. Так вот, вошел Юрий в душу Федору Иннокентьевичу. Может, веселостью приглянулся парень, может, сообразительностью, расторопностью. Каждому большому начальнику приятно, чтоб у него под рукой был верный человек. Вот и вся причина. А уж что отличал Федор Иннокентьевич Юрия, что обласкан был им Юрка — это точно. И нам, родителям, было лестно, что видный такой человек с нашим сыном, как с ровней…
Снова, как вчера и капитан Стуков в своих предостережениях, Павел Антонович в отповеди Денису был житейски прав. Мы действительно не вольны в своих симпатиях и антипатиях, влечении и неприязни.
Но неужели житейская правота всегда в таком непримиримом конфликте с элементарной логикой? Ведь стоит отвлечься от расхожей мудрости: «Не по-хорошему мил, а по-милу хорош…» и поискать убедительную причину тяготения всесильного в районе хозяйственного деятеля к заурядному, в общем-то, выпивохе парню-экспедитору, и вопрос — почему погибший был обласкан Чумаковым? — повиснет в воздухе…
Денис вздохнул и сказал:
— Что же, будем считать, что Чумаков просто любил вашего сына, любил — и все. И мысленно заключил: «Так сказать, влечение — род недуга…» — И сразу предложил иную тему:
— У вас ведь есть еще сын, Павел Антонович, — и осторожно прокинул: — Почему бы вам не поехать к нему?
— Есть старший сын, Геннадий, — сумрачно сказал Павел Антонович. — Он от меня давно отрезанный ломоть: почитай, уж лет десять рыбак в Находке. На берегу и не живет почти, чуть ли не целый год в океане. Ко мне он не переедет. Куда ему от рыбалки своей и от деньжищ этаких. А я — правильно — одинокий. Только я от могил Юрия и Фроси никуда не могу. И права не имею такого, чтобы покинуть их, пока мои кости не лягут рядом. Я, будет вам известно, редкий день у этих могил не сижу, мысленно не перемолвлюсь с покойными.
3
Степан Касаткин снова крутил баранку, колесил на своем ЗиЛе по хребтовским и шараповским дорогам. И дома вроде бы все ладно, все по уму. Клава — нет ей цены — так старалась после его возвращения. И приласкать по-молодому, когда ребятишек нет в избе, и накормить повкуснее, и отбирала у мужа всякую работу по хозяйству. Можно бы и отдохнуть, отмякнуть душой, позабыть о давних черных днях. Тем более, что и срок-то не велик, что провел под стражей, и кончилось все — спасибо Стукову — по-доброму. А вот остался шрам на сердце. И мысль гложет, ночами грызет прямо: над Стуковым-то много всякого начальства. Запустят наново грозную свою машину, и не устоит Стуков, и сметет злым ветром и Клаву, и ребятишек, и его… Ведь многие в поселке смотрят на него волком: убийца, автолихач, а от наказания ускользнул. Так что все может статься: Павел Селянин грозит и Яблоков пишет…
Когда однажды застучали в дверь — Степану послышалось очень громко и властно, — он выглянул в окно: у ворот стоял милицейский газик. Сердце ухнуло куда-то вниз. Вот оно, сбылись страшные сны… Степан обреченно побрел в сени, ожидая увидеть капитана Стукова.
Но на крыльце стоял не Стуков, а давний знакомый Касаткина, райотдельский водитель сержант Родченко.
— Собирайся, Касаткин, едем. Начальство ждет.
В знакомом уже Касаткину кабинете кроме капитана Стукова сидел у стола человек в штатском костюме и с любопытством рассматривал его из-под узеньких стеклышек очков.
— Здравия желаю, гражданин начальник! — как только смог бодро сказал Степан. — Доставлен, значит, по вашему приказанию.
Но капитан Стуков подошел к нему и, чего за ним отродясь не водилось, взял за плечи и даже встряхнул:
— Степан Егорович, равные мы с вами люди. Я, как вам известно, Василий Николаевич, а это — Денис Евгеньевич Щербаков. И не доставлены вы к нам, а приглашены для беседы с капитаном Щербаковым.
Денис поймал себя на том, что в этот миг завидует Стукову. Наверное, в детективных романах здорово преувеличивают радость следователя, когда он после долгих поисков, многих ошибок настигает матерого преступника, когда следователь, покружив по лабиринтам хитросплетений своего противника, может сказать ему: «Вы полностью изобличены в совершенных вами преступлениях. Мне остается лишь напомнить вам, что чистосердечное раскаяние облегчит вам душу и участь в суде».
Конечно же, это радость следователя. И немалая. Нельзя не испытывать гордости за свое профессиональное умение, проницательность, сметку. Гордости и радости от того, что не без твоих усилий в этой разноликой жизни стало чуточку меньше зла…
И все-таки, наверное, для следователя куда большая радость сказать, как два года назад Стуков сказал Касаткину: «Ознакомьтесь с постановлением о прекращении в отношении вас уголовного дела. Можете быть совершенно свободны».
Да, разорвать цепь грозных улик, вернуть человеку свободу, право на самоуважение и уважение других — это высшая радость следователя!
А пока не только радость, но и стимул к работе. Потому что все-таки есть некто виновный в гибели Юрия Селянина. И предстоит до конца пройти путь до этого некто, чтобы исчерпывающе ответить на вопрос: стал ли Селянин жертвой несчастного случая или пал от руки убийцы?…
Значит, снова, уже в который раз, не выполнить своих обещаний отцу и Елене! Сегодня же дать телеграмму в УВД с просьбой о продлении командировки…
— Товарищ Касаткин, — улыбнулся штатский, — а вы в прошлый раз сказали капитану Стукову неправду.
— Это какую же неправду? Сказал все как есть, как было…
— Где же, как было? Не такой вы человек, чтобы в подворотне «соображать на троих» да еще не помнить: где, с кем и сколько выпили, как доказывали тогда. Вот и скажите честно: кто, где и зачем напоил вас в тот вечер?
— Кто?! — Касаткин помолчал, потом, набравшись решимости, усмехнулся: — Должно быть, и верно — вы видите сквозь землю… Короче, проклял я тот день и час, когда к нашему Бочонку согласился ехать на именины.
— К Бочонку? — переспросил Стуков. — Это к Жадовой, что ли? Впервые слышу от тебя…
— К ней, — замялся Касаткин. — Теперь я уж вам, как на духу…
Еще со времен службы в армии Касаткин усвоил правило: не мельтеши перед глазами начальства, понадобишься, оно само найдет тебя, возвысит, покарает. Так Степан и работал в своем гараже, за спины товарищей не хоронился, но и не высовывался, дорогу не заступал никому. А потому январским вечером два года назад, когда он припозднился на работе и к нему вдруг подошла с тяжелой сумкой в руках неведомо как очутившаяся в гараже Надежда Гавриловна Жадова, Степан растерялся. Была Надежда Гавриловна, по таежногорским меркам, начальством немалым — командовала железнодорожной станцией.
Хоть станция и не шибко велика и расположена не на магистрали, а на тупиковой ветке, а все-таки ворота в белый свет. С этой станции, пусть с пересадками и перевалками, в любой конец податься можно.
— Машина у тебя на ходу, Касаткин? — как всегда властно спросила Жадова.
— Вроде тянет, — неопределенно ответил Степан и с досадой подумал о том, что сейчас Бочонок — так звали Жадову в поселке — отправит его, на ночь глядя, невесть куда, а Клава наказывала близнецов взять из яслей.
Жадова так же властно распорядилась:
— Свези меня, Касаткин, домой.
Степан облегченно вздохнул: дорога не дальняя, успею за ребятами обернуться. Он поставил сумку Жадовой в кузов, распахнул дверцу кабины. Надежда Гавриловна грузно села рядом, искоса осмотрела Степана, и машина тронулась. Не знал, не гадал тогда Касаткин, что недальняя эта дорога обернется такой долгой…
Степан остановил машину у дома Жадовой и, позабыв про сумку, совсем было собрался распроститься с пассажиркой, но Надежда Гавриловна опять осмотрела его и сказала насмешливо:
— Может, занесешь в дом поклажу? Мужик ведь…
В доме Надежды Гавриловны прямо у порога в кухне лежала ковровая дорожка, да такая яркая, какой Степану видеть не доводилось. Ступить боязно — наследишь на этакой красоте.
— Ну, чего ты, Егорыч, как петух на насесте топчешься? — почти пропела Надежда Гавриловна. И Степан подивился, каким переливчатым стал вдруг ее басовитый, почти мужицкий голос. — Зашел, так проходи.
«Не иначе мается бабьей дурью…» — встревожился Степан.
— Спасибо за приглашение. Как-нибудь в другой раз. Дома Клава дожидается меня, ребятишек надо взять из яслей.
— Ничего, потерпят и Клавдия твоя, и пацаны… — вроде бы шутливо, но и начальственно отрезала Надежда Гавриловна и вдруг призналась не без лукавства: — Именинница я сегодня, Степан Егорович. День рождения у меня. А какой по счету — не скажу. А ты, Егорыч, в такой день у меня дорогой гость.
От этих слов у Касаткина язык к гортани присох. С чего бы это вдруг он стал дорогим гостем на именинах такой персоны. Однако же, когда Надежда Гавриловна цепко взяла его за руку и потянула за собою в глубь дома, он не посмел противиться. Ему ли противиться воле, пусть даже прихоти такого значительного лица? Надежда-то Гавриловна Жадова ведь не просто заблажившая невесть почему баба. Она — сила! Чуть меньше по значимости, чем Федор Иннокентьевич Чумаков. И Степан покорно позволил ей расстегнуть и стащить с него полушубок и, как бычок на веревочке, послушно поплелся в парадную горницу, откуда в кухню долетали голоса, смех и приглушенная музыка.
И опять Касаткин замешкался на пороге, жмурясь от яркого света тяжелой люстры под потолком, блеска хрустальных ваз и салатниц, разноцветия ковров на полу и на стенах.
— Степан Егорыч Касаткин, — будто в кинокартинах про старые времена, объявила Надежда Гавриловна. — Мой уважаемый всеми сослуживец…
От этих слов Степану стало вовсе неловко, и он почти не заметил, как оказался сидящим за столом, и только потом рассмотрел своих компаньонов.
Напротив Степана, развалясь в кресле, не то дремал, не то шибко задумался Валентин Павлович Пряхин. Несмотря на то, что ему было уже порядком за сорок и должность он занимал по местным меркам заметную — состоял у Надежды Гавриловны Жадовой заместителем по вагонному хозяйству, никто за глаза не величал его Валентином Павловичем, а все называли Валькой Пряхиным. Причиной тому была легкость его характера, постоянная готовность выпить, приволокнуться за любой юбкой, потрепаться, помыть зубы, потравить похабные анекдоты. В поселке злословят, что с хозяйкой дома Вальку крепче крепкого связывает не только служба…
Касаткин кивнул Пряхину. А вот расположившемуся на диване Игорю Петровичу Постникову Касаткин улыбнулся обрадованно и даже рукой помахал приветственно. По своим шоферским делам Касаткин часто встречался с этим автомехаником из колонны высоковольтников, искренне уважал его: башковитый мужик, с понятием.
При виде же соседки Постникова Касаткин обмер, как давеча на пороге при виде редкостной дорожки — рядом с Игорем Петровичем, небрежно кинув на колени руки с унизанными перстнями пальцами и жарко наманикюренными ногтями, беззвучно посмеиваясь чему-то, сидела сама Лидия Ивановна Круглова.
Молодая, дородная, из тех, кого называют вальяжными, была она, смело можно сказать, самой заметной женщиной в поселке. И собой хороша, и первая модница, и, судя по всему, при деньгах. Словом, завидная невеста. Да только не то Лидия Ивановна в чужих краях имела сердечного друга — из поселка она отлучалась по делам частенько и надолго, — не то еще какая причина была тому, только поселковых ухажеров она не жаловала и жила на виду у всех — женщина-загадка.
Скажи кто Касаткину утром, что ему доведется вечером пировать с самой Лидией Ивановной Кругловой, он бы посчитал за глупую шутку. Но похоже, доведется и за одним столом сидеть, и рюмками чокнуться, а то и перекинуться словом. Так, может быть, спасибо Надежде Гавриловне за ее приглашение. Будет потом что рассказать мужикам в гараже.
— Здравствуйте все! — громко сказал Касаткин и вопросительно посмотрел на Лидию Ивановну, но она и бровью не повела.
Зато Валька Пряхин, видно затосковавший по собутыльнику, обрадованно вскинул над столом руки и крикнул:
— А… Товарищ Касаткин! Представитель, так сказать, героического рабочего класса! Рад тебя видеть, Степан Макарыч!..
— Степан, только не Макарыч, а Егорыч, — поправила Жадова. — Кадры изучать надо. — И, ласково коснувшись плеча Касаткина, договорила ободряюще: — Сегодня на моих именинах, — она предостерегающе взглянула на привставшего Пряхина. — Ты дорогой гость. Не стесняйся, налегай, Степа, на водку и закусь. Ешь и пей в свое удовольствие.
Поесть Степан любил и понимал в еде толк. Да и Клава умела кухарничать. Но такие редкостные кушанья да в таком наборе, как на этом столе, он, пожалуй, видел впервые за всю тридцатилетнюю жизнь. Золотился на узорчатом блюде балык, в вазочке краснела икра, лежали на тарелках ломти окороков и колбас, громоздились в вазе румяные яблоки.
«Надо как-то улучить момент да стянуть пацанам и Клаве по яблочку», — подумал Степан, глотая голодную слюну.
И снова он был благодарен Надежде Гавриловне за ее приглашение и не думал уже больше о том, что стоит за ним — бабья дурь, каприз или что-то другое, — и с нетерпением смотрел, как Валька Пряхин наполнил его стакан водкой, а хозяйка щедро накладывала закуску на тарелку.
Касаткин пригладил вихры на макушке, сдернул замасленный пиджачишко, расправил на шее ворот заношенного свитера, поднялся со стаканом в руке и сказал истово:
— Что же, с днем рождения, значит, вас, Надежда Гавриловна. И всего вам, значит, хорошего в вашем труде и счастья в личной жизни! Кабы раньше намекнули об именинах, я бы подарочек припас.
— Во-во! — Валька Пряхин поперхнулся не то смехом, не то водкой. — Золотую рыбку ей, чтобы была у нее на посылках. Поскольку начальница наша — владычица морская…
— И чего ты мелешь, Валентин?! — совсем зло оборвала Жадова. — Какая там еще владычица морская? Всего лишь начальник тупиковой станции.
— А я к тому, — Пряхин виновато замигал белесыми ресницами, — что эти самые… именины в поселке сегодня, должно быть, не у нас одних. Так земляки наши разной картошкой, моркошкой, сальцем домашнего засола да еще хеком заздравные чары зажевывают. А вот этакий стол на весь поселок один. А то и на весь район. А почему? Потому что именинница наша — душа человек. И подруга у нее, Лидия Ивановна Круглова, расторопная. Раздобыла нам кушанья аж в солнечной Средней Азии. Так что давай, Степан Макарыч, за наших милых дам, за их, значит, душевное притяжение…
Лидия Ивановна прикрикнула:
— Смотри, Пряхин, не сглазь. А то ведь, знаешь… И незаряженное ружье раз в семь лет стреляет. — И, обернувшись к Постникову, стала объяснять: — Мы с Надей со школьных лет — не разлей вода. А все-таки боязно. Вдруг да между нами пробежит черная кошка. А у Валентина, как говорят, глаз дурной…
Думая о чем-то о своем, Постников успокоил сумрачно:
— Не сглазит. Не сглазит, говорю, Пряхин никаким дурным глазом. С такими женщинами, как ты, Лида, не порывает никто. Такие женщины порывают сами.
Касаткин уже впал в то блаженно-размягченное состояние, какое наступало у него всякий раз после выпитой водки. По телу разлилось тепло, все стали милыми, даже Валька Пряхин, который отчего-то разозлился, сидел насупясь, не то носом клевал, не то выжидал момент для замысловатого тоста. Щечки его раскраснелись. Казалось, на дряблую шею кто-то водрузил спелое яблоко с двумя червоточинками острых глаз.
Чудной этот Пряхин! Разоряется, несет какую-то околесицу про рыбок. А что хек? Тоже рыба. Особенно если под маринадом…
И Касаткин, проникаясь хмельной нежностью и к рыбе хеку, и к картошке, и к салу домашнего засола, сказал ни к кому не обращаясь:
— Такие разносолы, наверное, даже богатые купцы не едали каждый день. — И вдруг потребовал: — Гавриловна! А не найдется ли у вас сальца с чесночком да капустки? Очень уважаю!
Прошуршал легкий смешок Лидии Ивановны, однако же вовсе не обидный для расхрабрившегося Касаткина. Надежда Гавриловна окинула всех усмешливым взглядом и успокоила:
— Найдется, Степан Егорыч. Я хотя женщина и бессемейная, а держу и капустку, и сало. Прав ты, Егорыч, такие разносолы у нас лишь про свят день…
Она вышла на кухню. Вернулась с миской, наполненной капустой и салом, сказала:
— Под такую любимую закусь не грех и на брудершафт…
И Касаткин, проникаясь к себе высоким почтением, — такие люди ровней принимают его! — напыжился и дозволил:
— Можно и брудершафт!
Надежда Гавриловна под общий смех с неожиданной силой крутанула руку Степана, в которой он держал стакан с водкой, почти насильно влила ему в рот водку из своей рюмки, а потом обхватила его двумя руками за шею и, притянув лицо Касаткина к своему лицу, вдавила его губы в свои — мягкие и жадные.
От такой ласки Надежды Гавриловны Степан так разнежился, что у него слезы выступили на глазах, и захотелось тотчас же перецеловать всех. Но тут же ему сделалось неловко, будто нагишом выставили перед этими малознакомыми людьми. Да и тревога мелькнула: машина! И Степан сказал почти трезво:
— Мне все, баста! За рулем я.
Но Постников успокоил:
— Ничего, Степа, я тоже за рулем. Доберемся до дому. Какая тут опасность? Дорога пустая. Не автострада Москва — Симферополь. В крайности, выспимся в кювете.
— А чего ему в кювете спать? — проворковала Жадова. — Ему у меня перина найдется…
Все, что было потом, рассыпалось, разорвалось в памяти Касаткина на какие-то разноцветные лоскутья…
Валька Пряхин с перекошенным злостью лицом размахивает перед хозяйкой кулаками и орет, что старый друг лучше новых двух. Потом, сжав кулаки, рвется к нему, к Степану, и, не стесняясь женщин, матерится и орет, чтобы Степан исчез куда-нибудь…
К Пряхину, тоже сжав кулаки, бросаются уже он, Степан, и Надежда Гавриловна, но им решительно заступает дорогу Постников. Он хватает Вальку за шиворот и выволакивает его на кухню.
Снова пили. Гремела заграничная магнитола. Лидия Ивановна танцевала с Постниковым, нежно опустив ему на плечо золотоволосую голову, потом пела что-то задушевное про снегопад и про бабье лето. Степан слушал и засаленным рукавом пиджака вытирал слезы.
А Валька
Пряхин ходил в пляске, потом потребовал, чтобы все выпили за драгоценное здоровье Федора Иннокентьевича Чумакова, поскольку сильнее и щедрее нет человека в поселке.
Но Лидия Ивановна заупрямилась и сказала, что пить за такого бюрократа, который ее к себе даже в кабинет не пускает, она не намерена. А уж если хочется выпить за хорошего человека, так лучше выпить за близкого друга Чумакова, отличного парня Юрия Селянина.
Теперь вскочил побледневший Постников, назвал Лидию Ивановну жестокой женщиной и пообещал, если она не выкинет из головы этого суслика Юрку, он непременно убьет его. А Лидия Ивановна блаженно смеялась и говорила: мол, не пугай, Игорь, да еще к ночи…
Чем кончилась перепалка, Степан не слышал, его здорово замутило, и он выбежал на мороз. А когда, маленько взбодренный, вернулся на кухню, зачерпнул из кадки ковш воды, вдруг услыхал из боковой комнаты совершенно трезвые деловитые голоса Жадовой и Кругловой.
— Зачем тебе понадобился этот шоферюга? После него скатерть не отпаришь, — брезгливо спросила Лидия Ивановна.
— Затем и понадобился, что шоферюга. У тебя ведь всегда транспорт в дефиците. А у этого на шее трое пацанят, ему приварок не лишний. Да и мужик он вроде бы покладистый… — Она нехорошо засмеялась.
Степана ровно обожгло. Ему стало нестерпимо стыдно перед Клавой, перед своими мальчишками, перед собой. Целовался на брудершафт с этим Бочонком. А они: «Шоферюга! Скатерть не отпаришь…» Он громко выругался, схватил полушубок и выскочил из этого увешанного коврами рая.
— Вот так оно было, — подытожил Касаткин свой рассказ. — Как поехал, куда — не помню ничего. Помню только, злость душила. Кабы не ГАЗ был у меня, а бульдозер, честное слово, своротил бы ей дом, чтоб неповадно было нос драть перед людьми. Не стану кривить душой, видел все, как в тумане: и машину поляковскую, и людей возле нее, и что чернело что-то на дороге. Понадеялся на себя, объехать хотел, да еще с форсом, на скорости… Но, видно, бес попутал. Или попросту сказать — водка. В общем, погулял с начальством, до сих пор опохмеляюсь…
Щербаков и Стуков слушали Касаткина не перебивал. Денис по привычке мерял шагами тесную комнату, Василий Николаевич, чуть прищурясь, смотрел на него, словно бы в душу Касаткина заглянуть стремился, покачивал сочувственно головой, а порою и вздыхал грустно.
— Что же ты, Степан Егорыч, — укоризненно начал Стуков, — при наших с тобой, так сказать, собеседованиях, умолчал про эту вечеринку. То есть, в ней самой я ничего подозрительного не усматриваю. А вот то, что инженер Постников грозился Селянина из ревности лишить жизни, подробность настораживающая. Так чего же ты молчал об этом? Твердил мне, как попугай, про свои выпивки с разными людьми, которых вроде и не помнил даже. Ведь я тебе ничего не навязывал, честно все выяснить старался, держал тебя без лишней строгости.
— Есть такой грех. Не поворачивался язык назвать Жадову. Какая бы блажь не зашла ей в голову, а казалось мне, проявила она ко мне внимание. И трепать ее имя — не по-мужицки это. Да разве это оправдание — с кем я напился. Да и перед Клавдией стыдоба: от такой жены двинул налево… Вот и не оглашал.
Денис спросил:
— Жадова на прежней работе?
— Конечно, чего ей поделается? И станция на месте, и Жадова, — ответил Стуков. — Авторитетная женщина, деловая.
— Деловая, это точно, — горько усмехнулся Касаткин. — И Пряхин Валька — на старом месте. Зашел я к ним в контору недавно — морду воротит: не желаю, мол, знаться с таким преступником. Как же, он — чистенький. А все одно — был он Валькой, Валькой и остался.
— А Круглова Лидия Ивановна, она при встрече отвернулась или раскрыла объятия? — не скрывая иронии, спросил Денис.
— Нет ее сейчас в районе, — даже с сожалением сообщил Стуков. — Она тоже из людей заметных была. Вроде торгпреда от колхозов Средней Азии. Для узбеков, таджиков, киргизов закупала лес: для стройки и для разных поделок. У них каждый чурбачок на счету, а у нас одни высоковольтники сколько валят леса. Да еще и местные порубки. Не гнить же ему в просеках… — Стуков вдруг оборвал фразу и сказал растерянно: — Ведь уехала-то она отсюда сразу после гибели Юрия Селянина. Это, знаете ли, наводит…
Денис все отчетливее сознавал, что гулянка в доме Жадовой с обильной жратвой и пьяным бахвальством — не просто локальное событие, поставившее Касаткина почти в трагические обстоятельства. Персонажи застолья имеют какое-то касательство к тому, что часом позднее произошло с Юрием Селяниным…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
И снова милицейский газик подпрыгивал на ухабах от Шарапово к Таежногорску…
Денису снова вспомнилась исповедь Касаткина в райотделе… Капитан Стуков житейски прав: в самом застолье у Жадовой нет ничего подозрительного. И все-таки внезапно пробудившееся в нем, как иронизировал над собой Денис, «шестое следовательское чувство» беспокойно покалывало сердце: есть в этом застолье нечто настораживающее. Двусмысленные намеки Пряхина, понятные лишь посвященным. И кажется, посвященные понимали их… Тосты в честь Чумакова и его лучшего друга Юрия Селянина. Что за этими тостами?
А спустя еще несколько минут, заслоняя массивными плечами полураскрытую калитку, перед Денисом стоял Павел Антонович Селянин, простоволосый, в накинутом наспех полушубке.
Денис невольно поежился от взгляда Селянина и сказал:
— Есть, знаете ли, некоторые вопросы.
— Снова «бог свое, а черт свое», — проворчал Селянин и молча двинулся к дому.
Денис шел следом за ним, смотрел, как разлетались на ходу полы его полушубка. И вдруг живо, словно сам присутствовал при этом, представил все, что рассказывал ему Стуков об эксгумации тела Юрия Селянина…
«Павел Антонович, обхватив руками красную полированную гранитную глыбу на могиле Юрия, лежал на ней грудью… А когда из черной пасти могилы подняли гроб и подняли крышку, он рухнул на колени и заплакал навзрыд:
— Ну, здравствуй, Юрка… Ты уж прости, сынок, что дозволил, чтобы так вот с тобой… — Потом Павел Антонович, упершись руками о землю, встал, нашел глазами Стукова и прохрипел:- Не забуду вовеки!..»
Сейчас Павел Антонович сидел перед Щербаковым сгорбленный, мешковатый, смотрел не мигая перед собой и вдруг выругался длинно и витиевато:
— Что же это получается, товарищ следователь: парень-то погиб — это факт всем известный. А кто же его? За что? Почему? По какой такой причине? С чего бы Юрию лечь на дороге?
Денис, ожидавший от Селянина брани и угроз в адрес следствия, успокаивающе сказал:
— Именно эти вопросы, Павел Антонович, мы с капитаном Стуковым теперь и ставим перед собой. Конечно, нельзя исключить и несчастный случай: у каждого из нас в конце концов может подвернуться нога. Но все-таки мы зафиксируем в своих документах несчастный случай лишь после того, как отработаем все достоверные версии гибели вашего сына от руки преступника. И если это так, найдем его.
— А сыщете? — с надеждой спросил Павел Антонович и, не дожидаясь ответа Дениса, стал раздумчиво рассуждать: — Конечно, вы и сила, и власть, и люди знающие. Да ведь два года прошло. Я, бывает, одним глазком смотрю по телевизору разные случаи из вашей работы. Там всегда какие-то следы имеются. А тут пусто.
— Бесследных преступлений не бывает. Если, конечно, было совершено преступление… Вы, должно быть, кругом в долгах, Павел Антонович?
— Отродясь не занимал ни у кого, — опешил Селянин. — С чего это вы вдруг?
— Да памятник-то на могиле Юрия один такой богатый на здешнем погосте. Должно быть, стоит немалых денег.
— Наш пострел везде поспел, — осуждающе усмехнулся Селянин. — Уже и погост обозрели… — И стал объяснять: — Так ведь и сын у меня один из всех. — И вдруг не на шутку рассердился. — Думайте лучше, как злодея поймать. А то считаете в чужом кармане: занял там, продал чего. Не продавал и не занимал.
Денис слушал сердитые слова Павла Антоновича, а «шестое следовательское чувство» все более укрепляло его в мысли, что Селянин не столько рассержен, сколько встревожен и озадачен этим его вопросом.
Павел Антонович сделал паузу и объявил не без внутреннего торжества:
— Хотите знать, Юрка сам себе поставил этот памятник.
После гибели Юрия не было для Павла Антоновича дела более желанного и более важного, чем войти в опустевшую комнату сына, смахнуть накопившуюся пыль, открыть шифоньер, перетрясти, перечистить и без того безукоризненно чистые костюмы, пальто, рубашки, свитеры Юрия.
Павел Антонович перебирал заскорузлыми пальцами мягкие пиджаки и пуловеры и, словно бы Юрку, совсем еще маленького, гладил по шелковистым волосенкам. Он начинал мысленно, а то и вполголоса разговаривать с Юркой, сетовать на горькую судьбу, жаловался на свою старость.
В то утро Павел Антонович приметил, что корешки Юркиных книжек на полке припылились. Он скинул тапки и взгромоздился на стул. Снимал с полки книги, обмахивал тряпкой пыль, читал названия и ставил томики на место. Вот взял с полки толстую книгу в разноцветной обложке.
— Аркадий Адамов, — прочитал Павел Антонович. — А название какое-то чудное: «Черная моль». Ох, и зловредное насекомое моль эта…
Вдруг в середине книги увидел две сберегательные книжки. Он раскрыл их, прочитал записи на первых страницах. Обе безымянные — на предъявителя. Обе оформлены в сберегательных кассах областного центра.
— Пустые, однако, обе, — унимая внезапную тревогу, успокоил себя Павел Антонович.
Но когда рассмотрел сумму вкладов, опасливо заозирался: не видит ли кто…
Денис сделал усилие, чтобы скрыть охватившее его возбуждение, даже улыбнулся Павлу Антоновичу, переспросил:
— Сколько, сколько вы говорите?
Павел Антонович уловил взволнованность следователя и запоздало всполошился: не повредил ли Юрке своей откровенностью. Но отступать уже поздно… Он нахмурился и ответил колюче:
— Ясно говорю, десять тысяч…
Хотя он сказал: «Ясно говорю», но сумму произнес невнятно. И опять, как и сразу же после находки сберегательных книжек, задумался: откуда у Юрки такие деньжищи? Надо отвечать следователю коротко, обходить опасные вопросы.
Но следователь не задавал опасных вопросов, с ободряющей улыбкой спросил как бы из любопытства:
— И как же вы, Павел Антонович, распорядились этими деньгами?
— Да как… Почти все и заломили с меня за памятник. Но сделали, правда, на совесть.
— Как вы отважились на это, Павел Антонович? Не боязно, что придет владелец денег и потребует их? В каком вы тогда окажетесь положении?…
Павел Антонович стал с подчеркнутым простодушием объяснять:
— Где это он найдется, этакий чудик, который такие деньги положит на безымянный вклад, и сберкнижку, и контрольные талоны к ней отдаст чужому дяде без никаких расписок.
— А если у кого-то есть такая расписка? Если он все-таки придет к вам?
— Не пришел же никто за два года. Да пусть еще докажет, что это его!.. Не лезет это, я говорю, ни в какие ворота, чтоб деньги в сберкассу, а сберкнижку на ветер!.. Лучше уж в землю зарыть сберкнижку, надежнее. Да и чего же их вообще-то прятать, ежели все честно…
— Вот именно, зачем же прятать, — согласился Денис и ввернул как бы мимоходом: — Ну, а если бы эти деньги потребовал товарищ Чумаков?…
— А зачем, скажите на милость, Федору Иннокентьевичу этакие фокусы? От кого ему прятать свои кровные? Чумаков ведь у всех на виду. И оклад дай бог всякому, и премиальные каждомесячные.
— Допустим, Круглова предъявит расписку?
— Такую я не знаю и знать не хочу, — зло ответил Павел Антонович.
— Но почему же тогда прятал деньги ваш сын?
Хотя Павел Антонович давно уже приготовил ответ, который должен был, на его взгляд, рассеять сомнения следователя в отношении Юрия, этот прямой вопрос поколебал его. И опять сделалось тревожно, как в самые первые дни после находки сберкнижек.
— Это почему же прятал?! Хранил деньги в государственной сберкассе. А как понадобились бы деньги — так в потратил бы их, не таясь никого.
Павлу Антоновичу нельзя отказать ни в логике, ни в преданности своему сыну. И все-таки придется задать ему самый главный и самый трудный для него вопрос.
— Пусть так, Павел Антонович. А все-таки откуда у Юрия такие деньги? Ведь и должность и оклад у него были довольно скромными.
Павел Антонович даже обрадовался этому вопросу. Он прямо посмотрел в глаза следователя и сказал убежденно:
— А нету тут никакого секрета. Играл он в это самое… в «Спортлото». Говорил, что выигрывал, а когда и сколько — не знаю, говорил только, что еще не хватает до «Волги»…
«Да, в находчивости Павлу Антоновичу не откажешь, — снова признал Денис. — Всякое, конечно, случается. Может быть, и «Спортлото».
А Павел Антонович сказал торжественно, как в клятве:
— В одно твердо верую: деньги эти у сына не ворованные. — И продолжал умоляюще: — Ну, не марайте вы его, богом прошу вас. Не верите мне, людей о нем расспросите. Татьяну вон Солдатову… Невестой считалась его. Теперь выскочила замуж за Кольку Матвеева, Юркиного дружка. Так вот, Николая расспросите того же… Да что там их… С Чумаковым Федором Иннокентьевичем поговорите. Он вам все объяснит про Юрия.
Денис слушал Павла Антоновича и с горечью сознавал, что зародившееся при разговоре с Касаткиным предчувствие укрепляется: смерть Юрия Селянина — не какой-то несчастный случай.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Повестка, уведомлявшая, что Постников Игорь Петрович обязан явиться в Шараповский районный отдел внутренних дел, а в случае неявки без уважительных причин будет доставлен туда приводом, врезалась в уютный мир семьи Постниковых, как торпеда в судно при входе в гавань.
А как все отлично складывалось до этой злополучной повестки. Федор Иннокентьевич Чумаков, вечная ему благодарность, когда переезжал из Таежногорска на высокую должность в областной центр, не забыл об Игоре Постникове.
А вполне мог позабыть. Чумаков ведь не просто начальник передвижной мехколонны, как сотни. Он — специалист… Он и в тресте не засидится. Он еще главком командовать будет, а то взлетит и повыше…
И такой человек его, Игоря Петровича Постникова, автомеханика, на удивление всем, даже самому Игорю Петровичу, забрал с собой, дал хороший оклад, двухкомнатную квартиру и поручил ему сложное автохозяйство треста.
Правда, из Таежногорска Постников уезжал не без грусти: с такой женщиной, как Лидия Ивановна Круглова, легко мужчины не расстаются. Одно утешало: не станет больше мельтешить возле Лидии Ивановны этот жеребеночек Юрка Селянин. Как говорится, прибрал господь… Не будут по тайге шастать вдвоем, шарить в завалах тонкомера…
Звал он Лидию Ивановну в город, но она отрезала:
— Я растение сугубо таежное. В городе не приживусь. Поезжай со спокойной душой. Что у нас было хорошего, останется с нами. А вместе? Не годимся мы для семейной жизни. Вспоминать, конечно, тебя буду… Но не вечно же…
После переезда в областной город Постников с удивлением заметил, что вспоминает о Лидии Ивановне все реже: было и прошло…
А тут появилась в техотделе инженер Варвара Коптева. Дородностью, осанкой и пышным снопом светло-золотых волос Варя очень напоминала Лидию Ивановну. Он в первый же день их знакомства пригласил ее на концерт гастролировавшей в городе Эдиты Пьехи.
И вот почти два года они неразлучны.
Сегодня он задержался на селекторном совещании у Чумакова. Теперь поспешал домой. Выплеснуть Варе свою радость. Федор Иннокентьевич доверительно намекнул ему, что скоро в тресте быть большим переменам. Он, Чумаков, отбудет в Москву, главный инженер Селезнев наследует его должность, а ему, Постникову, прочат в сферах пост главного инженера. Постников робко усомнился: ведь он не энергетик, а автомеханик… Чумаков отечески улыбнулся:
— Встарь сказано было: главное — попасть в случай…
Игорь Петрович открыл дверь квартиры с радостным ожиданием: сейчас протянет навстречу ему ручонки с визгом и улыбкой годовалая Аленка. Потом ему станет жарко от блеска глаз Вари…
Он торопливо скинет дубленку, обнимет жену и, ликуя в душе, что «попал в случай», благодаря судьбу за свой налаженный уют, закружит Варю, косясь в настенное зеркало и пропоет традиционное:
Мы с женой моей Варварой -
исключительная пара…
Но едва открыв дверь, он почувствовал недоброе. Не было слышно лепета и радостного визга Аленки. А Варя смотрела настороженно.
— Тише, Игорь, пожалуйста. Аленку я уложила раньше. Игорь, кажется, у нас неприятность. Пришла повестка. Тебя вызывают к следователю Шараповского райотдела внутренних дел…
Еще не восприняв значения этого известия, досадуя, что она какой-то повесткой мешает сообщить ей главное, Постников сказал:
— Какая еще повестка? При чем тут Шарапово? Меня скоро назначат главным инженером. Слышишь, Варя?
Варя не только не улыбнулась, но отпрянула от него, словно бы он сказал что-то неприличное, потом с каким-то суеверным страхом вперилась взглядом ему в лицо и, покусывая свои губы, сварливо проговорила:
— О каком высоком назначении ты говоришь, когда тебе грозят приводом в случае неявки. Ведь это же милиция!
— А за что, собственно? — бодро переспросил Постников.
— Откуда мне знать, что ты там натворил, в своем Шарапово? Не за тем же тебя вызывают туда, чтобы поздравить с высоким назначением.
Хотя Постникова покоробил панический тон жены, но он с испугом осознал, что у него нет сил и права обидеться на Варю. Стараясь ничем не выдать навалившегося страха, Постников заставил себя усмехнуться:
— Зачем же так волноваться? Вызывают в свидетели. Я три года работал в этом районе. Выл автомехаником. Возможно, вскрылось какое-то старое, допущенное не по моей вине нарушение техники безопасности.
Постников ухватился за это предположение, заставлял себя поверить в его правдоподобность. И лихорадочно ворошил в памяти эти три года, стремясь припомнить, что могло бы стать поводом для вызова в милицию. Но как ни перебирал все свои служебные и житейские прегрешения, что было бы достойно внимания милиции, ничего не прояснилось в его памяти. За те годы, что ведал он автохозяйством в мехколонне, в Таежногорске произошла только одна автоавария Погиб Юрий Селянин…
Постников едва не вскрикнул от этого воспоминания…
Перед самым отъездом из Таежногорска погасшие глаза Лидии Ивановны, ее прыгающие губы и рваный шепот:
— Юрка-то Селянин… Ах, бедняга… Ведь мы с тобой, Игорь, хоть малым краешком, да виноваты…
Постников тогда едва не поссорился со своею подругой… Придумала на прощание ласковые слова. Какая может быть их вина, когда все, даже сам Федор Иннокентьевич, говорят: Касаткин… Зачем только Надежда Гавриловна затащила его к себе в дом. Правда, Касаткин давно на свободе. Сам Стуков говорил Постникову при встрече, что с Юрием произошел несчастный случай. И все-таки на что намекала тогда Лидия? Какой краешек вины? Ничего не помнил Игорь Петрович из последней поездки с ней…
— Ты, по-моему, не слушаешь меня, — откуда-то издалека долетел голос жены. — В каких далях витаешь, мечтатель? Надо приготовиться к худшему. Завтра сними со своей сберкнижки все деньги и отдай мне. Я положу их в надежное место. И главное — завтра же иди к Федору Иннокентьевичу. Он добрый, к тебе относится хорошо. И вхож всюду. Возможно, что-то придумает…
2
Чумаков встретил Постникова поощрительной улыбкой, даже подмигнул по-свойски. Широким гостеприимным жестом указал на кресло возле письменного стола и спросил:
— Как спалось молодцу в преддверии воцарения?
Постников не смог улыбнуться ответно и молча протянул через стол милицейскую повестку.
Федор Иннокентьевич с откровенной брезгливостью взял ее за краешек, прочитал, кинул на стол. Но спросил сочувственно:
— И что же из этого следует?
— Ехать надо. Вызывают.
— Это само собой. Не пойдешь, поведут силой… — Он постучал по повестке выхоленными пальцами, сказал недовольно: — Ах, как некстати, с учетом предстоящих в тресте перемен. А теперь… «Суд наедет, отвечай. Век я с ним не разберусь…» Пушкин. Мудрейший, между прочим, пиит. — Он опять побарабанил пальцами по повестке: — Однако при всем при том можешь мне честно сказать, что привлекло к тебе внимание доблестных стражей порядка? — И, не дожидаясь ответа Постникова, фальшиво пропел: — «Суд наехал с расспросом — тошнехонько. Догадались деньжонок собрать…»
Постников знал, что Федор Иннокентьевич не шибко большой певун и любитель стихов. И если сейчас цитировал поэтов и даже пропел — значит, он очень встревожен и прячет важную мысль. А что может быть сейчас для Федора Иннокентьевича важнее судьбы будущего главного инженера треста?
Постников влюбленно взирал на Чумакова и признательно думал об отзывчивости Федора Иннокентьевича, о редкостных его душевных качествах.
Как во вчерашнем тягостном разговоре с женой, Постников не мог припомнить никакой провинности и даже хотел призвать в свидетели своей безупречности самого Чумакова — ведь жизнь и работа Постникова в Таежногорске протекали на глазах Федора Иннокентьевича. Но вспомнил о тревожных намеках Лидии Ивановны и свел свои слова к невеселой шутке:
— Не знаю, не крал, не грабил, не убивал, в казну не запускал руки. И… И даже в пьяном виде по ночам песнями не будил обывателей.
— Значит, чист как стеклышко, — заметил Чумаков, как бы сожалея об этом. И опять, как показалось Постникову, пряча какую-то потаенную тревогу, продолжал почти ёрнически: — Значит, не грабил, не убивал, песен не орал по ночам и даже в казну не запускал руку… Ну, спасибо тебе, родной! Утешил! Грабить, убивать и казнокрадствовать — это, знаешь ли, нехорошо. Аморально это. По закону это преследуется. И строго!.. — Он замолк, долго крутил пальцами лежавшую перед ним на столе повестку. Потом сказал уже без иронии: — Что же, коли все у тебя в порядке, так и тревожиться не о чем. Какая-нибудь накладка бдительных товарищей. Они ведь могут тебя зацепить на крючок потому, что ты когда-то сидел за рюмкой водки с каким-нибудь взяточником или казнокрадом. Возьмут этого проходимца на цугундер, а тебя в свидетели, как да что… Или, помнишь, в одной кинокартине, название забыл. Там один бич пристроился к одной доверчивой девчонке: отец, мол, я твой, который тебя потерял в войну. И вдруг его вызывают в милицию. Он туда топает на полусогнутых. А оказывается, только всего и делов, что он не встал на воинский учет… И ты, может, сняться забыл с учета? — Чумаков не то засмеялся, не то кашлянул. И сказал уверенным, властным тоном, каким отдавал служебные распоряжения: — Но вообще-то, Постников, если что получится худо, я всегда чем только смогу… — И продолжал, должно быть, лишь сейчас вспомнив об этом: — Кстати, на последнем техсовете шла речь о поездке в Шарапово твоей или Кости Максимова. Так что я твой отъезд по вызову этих казуистов оформлю командировкой… Ты повестку когда получил? Вчера? Я датирую приказ позавчерашним числом. Так что о твоей явке в казенный дом будем знать только мы с тобой…
— Спасибо, Федор Иннокентьевич! — чуть не со слезами произнес Постников.
И такая растроганность добротой Чумакова, такая благодарность к нему, дальновидному и чуткому, готовому ради него поступиться даже принципами безупречно честного человека, переполнила сердце Игоря Иннокентьевича, что он понял: будет последним подонком, если утаит события того январского вечера, из-за которых, Игорь Петрович уже не сомневался в этом, его и вызвали для объяснений в шараповскую милицию…
Чумаков слушал сбивчивый рассказ Постникова, холеное, мясистое лицо Федора Иннокентьевича каменело, в больших черных глазах взметнулись гневные сполохи, яркие губы оттопырились, а голос стал хлестким:
— Ну, Постников, ты, оказывается, хохмач! Не заскучаешь с тобой. А прикидываешься ягненком: дескать, кругом чист… Не ожидал я от тебя такого. Это же до какой надо дойти безответственности, чтобы мертвецки пьяным сесть за руль да еще пассажирку взять в кабину. И жать на всю железку. Это в метель-то, по тамошним дорогам!.. А еще автомеханик.
— Не пойму даже, Федор Иннокентьевич, как допустил такое… Мы ведь частенько собирались то у Надежды Гавриловны, то у Лиды. И всегда все обходилось аккуратно…
— Частенько! — зло передразнил Чумаков. — А на какие-такие, собственно, трудовые сбережения? Ну, Круглова еще туда-сюда, при деньгах, по-старому говоря — лесопромышленник, лесоторговец. А Жадова на какие шиши такие пиршества закатывала?! Да еще до такой безответственности докатилась — пьянствовать с подчиненными… Смотри, мол, Касаткин, как мы шикуем… — Давая выход распиравшему его гневу, он грохнул по столу кулаком и после долгой паузы сказал вдруг с глубокой печалью: — А каков результат этого вашего «традиционного сбора»? Прямо скажем — трагический результат! Безвременно погиб Юрий Селянин, а ты знаешь, как я был привязан к нему… — Чумаков, видно, слезы прятал, прикрыл ладонью глаза: — Да-а… Юрий погиб. Касаткин чуть не угодил в тюрьму. А теперь вот и тебя таскают. А может, это действительно ты Юрия бортом зацепил?! — Чумаков остро воззрился на Постникова и продолжал официально: — И Лидия Ивановна твоя намекала на что-то…
— Все может быть, Федор Иннокентьевич… — уже почти поверив ему, пролепетал Постников.
Чумаков ровно бы обрадовался этому допущению Постникова, шумно выдохнул, будто тяжелый груз свалил с плеч, и заговорил сухо, но с сочувствием:
— Ну ладно, Постников, даже если и ты… Бог не выдаст, свинья не съест… Не раскисай раньше времени. Давай обмозгуем твою позицию на этот случай. Хладнокровно давай. Чего такого страшного могла видеть на дороге твоя разлюбезная? Газовал ты, как я понимаю, с ветерком, к тому же метель, какая там видимость! На вечеринке Круглова пила, как я понимаю, не только ситро. Так что зрение могло обмануть ее. А еще и о том вспомни, что Круглова с ее темпераментом за два года в солнечном Ташкенте семь раз замуж вышла и восемь раз развелась. И до девичьей фамилии ее никакие сыщики не докопаются. Ну, а если даже и отыщут ее, не годна она в свидетели обвинения. Что могла она видеть из кабины? Пьяного Селянина на дороге? Ну и на здоровье. Может, по ее понятию, краешек вины в том, что не усадила его к себе в кабину? Но пригласи она Селянина в кабину, это привело бы всех вас к кровавому эксцессу. И не скажешь, что лучше для Юрки и для тебя… Хотя, по моральным нормам, это можно считать виной. В общем, видела, не видела — это еще доказать надо. Да и какое это сейчас имеет значение. Юрка два года в могиле. Дело два года как прекращено. Так что же теперь?… — Он зорко оглядел Постникова и заметил сочувственно: — А тебя, остолопа, жаль. Станут раскручивать ваши мальчишники-девишники, всплывут твои юношеские шашни с Кругловой. Дойдет до Варвары. А она у тебя — кипяток. Может получиться нехорошо…
— Да-да! — сокрушенно подтвердил Постников.
— Ладно, хоть, как известно, дураков и в церкви бьют… Попробую помочь тебе, дон Жуан поселкового значения… — Он пододвинул к себе телефонный аппарат, долго накручивал диск. — Это Шараповский райотдел внутренних дел? Приемная подполковника Нестерова? Здравствуйте! Чумаков… Соедините меня с Михаилом Григорьевичем… Что? В районе? Будет только дней через пять? Жаль… Да, а старик Стуков работает еще? Ну, я рад за него. Вы не подскажете его номер?…
Снова он накручивал диск, ждал ответа. Наконец покровительственно забасил, должно быть, не давая собеседнику вклиниться в поток своих фраз:
— Здорово, Стуков! Привет, Василий Николаевич! Здравствуй, старый конь, который борозды не портит. Федор Иннокентьевич говорит. Пульку без меня рисовать не разучился? — Но вот ухмылка сползла с его лица: — Это не Стуков? А где же Василий Николаевич? В Таежногорске? — И ввернул шутливо: — А с кем же я так содержательно? Кто?! Щербаков Денис Евгеньевич? Старший следователь УВД? М-да… — Чумаков облизнул пересохшие губы, но тут же заговорил уже всегдашним с теплинкой тоном: — Извините, Денис Евгеньевич, за такую комическую увертюру. Это Чумаков, из треста «Электросетьстрой». Я уверен, вы не откажете мне в помощи. Дело в том, что ответственный работник нашего треста Постников Игорь Петрович совершенно неожиданно для нас вызван в шараповскую милицию. Работник отличный, семьянин… Естественно, всполошилась вся общественность. Может быть, Денис Евгеньевич, будете настолько любезны и скажете, зачем понадобился он вам в казенном доме? И что нам делать? Потерпеть пару-тройку дней без него?… Или всем коллективом брать его на поруки, сушить ему сухари?… — И засмеялся, сведя все к шутке. Но сразу же оборвал смех и процедил сквозь зубы: — Не полномочны, значит, давать такие разъяснения. А вы, оказывается, товарищ Щербаков, формалист. Я ведь к вам не как частное лицо, а как руководитель крупного производственного коллектива, человек известный в области и в нашей отрасли… Что-что?! Перед законом все граждане равны? — Чумаков побагровел, заклокотал от негодования и спросил опрометчиво: — Это что же, вы в том смысле, что и меня, как бедного Постникова, вызовете повесткой да еще с угрозой привода? Ах, пока не требуюсь? И на том спасибо. Стало быть, со временем могу и потребоваться… Ну, утешили… А я в свою очередь обрадую вашего генерала, поблагодарю его за воспитание работников в духе уважения к руководящим кадрам…
Чумаков швырнул трубку, растер руками посеревшее лицо, будто умываясь, зло заключил:
— Сидит, там, понимаешь, хмырь какой-то. Бюрократ! Угрожает еще: понадобитесь, вызову… Словом, езжай, не мандражи… В случае чего подмигни — и я мигом туда. Разъясним им, кто есть кто…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
— Помню ли я тот вечер? — невесело усмехнулся Кузьма Филиппович Яблоков в ответ на вопрос Дениса Щербакова. — Не раз «воспоминания» свои писал во все концы…
Было только девять часов вечера, когда Кузьма Филиппович Яблоков засобирался на ДОЗ. Заступать на ночное дежурство ему только в одиннадцать, но путь до завода такому ходоку, как Яблоков, неблизкий. К тому же пуржит, и по такой мерзкой погоде может не выйти в рейс старенький поселковый автобус.
Добравшись до автобусной остановки, он решил сделать передышку: хотя и утлый закуток, а все какое-никакое затишье. Кузьма Филиппович прислонился к деревянной стойке павильончика и стал ждать: не подфартит ли с автобусом.
Далеко, в снеговой завесе, сначала совсем тускло, потом ярче зажелтел светлячок. «Автобус!» — обрадовался Яблоков. Но вскоре понял, что ошибся. Просто брел по метельной улице пешеход, подсвечивая себе электрическим фонариком.
Заставив Яблокова попятиться и зажмуриться, луч фонарика скользнул по его лицу, и прозвучал властный голос:
— Эй! Кто там хоронится в потемках?!
Яблоков, успевший присмотреться в темноте, увидел, что перед ним стоит с фонариком в руке не кто иной как Федор Иннокентьевич Чумаков.
И хотя Яблоков был человеком не робкого десятка, и фронт прошел, и не раз потом доводилось испытать разные передряги, но под нацеленным на него взглядом Чумакова ему вдруг стало так жутко, словно бандит какой нож наставил на него. С трудом ворочая языком, Яблоков пролепетал:
— Я это, Федор Иннокентьевич, Яблоков. Слесарь с деревообрабатывающего завода при вашей, Федор Иннокентьевич, ПМК.
— А, Яблоков, значит, — признал его Чумаков и не удержался, блеснул своей редкостной памятью на имена и отчества подчиненных: — Кузьма Филиппович, кажется? Так?
— Точно так, Федор Иннокентьевич! — признательно подтвердил Яблоков, с облегчением чувствуя, что страх и оторопь первых мгновений глохнут. Перед ним, слава богу, не разбойник какой, а сам Федор Иннокентьевич Чумаков. А если он попервости и спраздновал труса, так это от изумления: про Чумакова в поселке слава шла, что он даже в сортир ездит на машине, а тут, в этакую непогодь, топает на своих двоих, как простые смертные, подсвечивает себе фонариком…
— А ты чего, Филиппыч, ошиваешься тут в темноте? — вопрос этот, как послышалось Яблокову, Чумаков задал с неудовольствием, будто укоряя за неожиданную встречу, но тут же постарался смягчить тон грубоватой шуткой: — Может, ты, Филиппыч, в потемках того… девок караулишь? А? — И его раскатистый, смачный хохот заглушил посвист метели.
Яблокову стало обидно от этих шуточек: большой человек, а несет несуразное. И он объяснил с достоинством:
— На смену мне заступать в одиннадцать. Вот и жду, может, автобус. — И сам не понял, как дальше сорвалось с языка: — Я-то — ладно. Наше дело привычное — на своих двоих. А вот вы чего пешие по такому ветрюге?…
— Доктора говорят, вечерние прогулки полезные. А также насчет закалки в любую погоду. Если же серьезно, то позарез надо к вам на завод. Машина, как на грех, на приколе. В такую погоду, сам знаешь, хороший хозяин собаку не выгонит на двор. Как же мне шофера тревожить? Вот и шествую чинно…
— Оно конечно, Федор Иннокентьевич, — деликатно согласился Яблоков, — если для дела надо, не только пехом — ползком поползешь,
— Вот-вот, — подхватил Чумаков с облегчением. — Стали ко мне поступать сигналы, что у вашего Лукова не все ладно в ночной смене, когда начальство крепко спит. Разбаловался кое-кто, понимаешь? Водочка, то да се в рабочее время. Народ сейчас сам знаешь какой — оторви да брось. Глаз да глаз нужен. Вот и решил убедиться лично. Ты уж, Филиппыч, никому о нашей встрече, чтоб не спугнуть!..
Опять Яблокову стало как-то неловко: вроде бы на вранье поймал уважаемого начальника. Говорил тот как всегда решительно, но как-то замедленно, будто на ходу придумывал слова. А пуще всего донимало сомнение: вся ночная смена — десятка два человек: дежурный мастер, пяток дежурных слесарей, электрик, пожарные, сторожа. Люди все в годах, кто на пенсии уже, кто до пенсии отсчитывает последние недели. Все службу знают. И чтобы там водка или еще какое баловство, об этом и слыха не было. Впрочем, начальству виднее что к чему…
А Чумаков вдруг засуетился:
— Ну, Филиппыч, ты морозостойкий. Жди автобуса. Может, и подфартит тебе. А мне торопиться надо к пересменку.
Напрашиваться в попутчики к Чумакову, чем-то крепко рассерженному, было бы для Яблокова пойти поперек самолюбия. Позови его кто, он без звука пойдет провожатым даже до дому. А напрашиваться в поводыри ни к Чумакову, ни к самому министру не станет. Не холуй он, Яблоков, — солдат и ветеран труда.
Яблоков проводил взглядом Чумакова, которого сразу же скрыли тьма и снег, и решил потоптаться здесь еще четверть часа, чтобы не нагнать ненароком Федора Иннокентьевича.
Снова рванул ветер, взвихрил, закрутил снег. Яблоков попятился в глубь своего укрытия, загородился воротом полушубка. И вдруг не слухом услыхал, а всей кожей почувствовал, что кто-то надвигается на него. Должно быть, этот «кто-то» по-кошачьи различал в темноте предметы. Он вплотную подошел к Яблокову, тронул его за плечо, но спросил совсем не страшно:
— Спичек нет, земляк? — И на Яблокова пахнуло водкой.
Яблоков перевел дух, протянул прохожему спички, а когда всмотрелся внимательнее, то обрадовался:
— Селянин, что ли? Юрий Павлович? Никак ты?
— Я самый, — не очень твердо отозвался Юрий, зажег спичку, ловко прикрыл ее ладонью от ветра, прикурил сигарету, на мгновение высветил лицо Яблокова: — А, дядя Кузьма! Здорово!
Яблоков был рад этой встрече. Юрия Селянина, своего двоюродного племянника, он уважал. Из молодых да ранний. И у начальства в большом авторитете. И характер у него уживчивый. И хоть не вошел еще Юрий в настоящие годы и не занимал видной должности, Яблоков в глаза и за глаза почтительно величал его Юрием Павловичем.
Довольный тем, что наконец-то у него нашелся попутчик, да еще такой приятный, Яблоков пошутил:
— Я сегодня тут, как этот самый… как радиомаяк… Все на меня выходят. Сейчас вот ты. А давеча сам Федор Иннокентьевич. Хоть и не велел сказывать, но уж ладно, по-родственному…
— И куда же Федор Иннокентьевич в шапке-невидимке путь держали-с? — с издевательской почтительностью спросил Юрий.
— На завод.
— Чего же он тебя-то не подхватил в свою машину? Или оборзел вконец…
— Да на что было ему подхватывать меня? На закукорки себе, что ли? Пешком он.
— Пе-е-шком?! — Юрий даже попятился от Яблокова. — А тебе, дядя Кузя, не того… не примерещилось в метели? Кто из нас, интересно, из вечернего кафе? Я или ты?!
— Ты! Отродясь не захаживал в твое кафе. Точно тебе говорю — Федор Иннокентьевич. Разговаривал с ним, как вот с тобой. Машина, говорит, на приколе. А на заводе неотложные дела…
— Дурью мается, — с неожиданной резкостью рубанул Юрий. — Злость свою волчью остужает, вот и рыскает по дорогам. Всюду из себя начальника корчит. В вечернем кафе мы сидели: Татьяна Солдатова, Колька Матвеев, я, так Чумаков выступать начал: дескать, пьяные мы сильно, ведем себя нетактично. И к официантке: «Не отпускать, мол, этим алкашам спиртного». Та, понятно, вытянулась на копытцах: слушаюсь! — Юрий даже задохнулся от негодования: — А чего ему, козлу жирному? Нет, ты скажи мне, дядя Кузьма, чего? Скажи, я тебя уважаю, чего ему надо? Ведь на свои пьем. Пусть из его рук полученные, а все же на свои… И порушил нам компанию. Какую компанию порушил! Изгадил последний мой вечер. — Юрий зло сплюнул себе под ноги. — И про машину на приноле врет все. На ходу машина. Я сам вечером на ней вернулся из Хребтовска. А по морозу босиком он шастает, чтобы злость остудить свою, даю слово. Или яму роет вашему Лукову. Чумаков только лыбится ласково, а сам злой, как гадюка. Ох, какой он злой на меня, дядя Кузьма.
— Видно, прав Федор Иннокентьевич, — укоризненно сказал Яблоков, — перебрал ты сегодня. Несешь несуразное. Заглазно лаешь такого человека, злобствуешь за то, что не позволил вам упиться.
— И ничегошеньки ты не понял, дядя Кузьма, — уже трезво возразил Юрий. — Оно, может, и к лучшему…
Яблоков и Юрий уже шли по дороге к заводу и к улице Подгорной, на которой жили Селянины. Ветер бил в спину, подгонял их, но все-таки идти было трудно, а разговаривать и того труднее.
— Неблагодарный ты, Юрий Павлович. Кто же в поселке не знает, что товарищ Чумаков тебе подсобляет во всем, отличает из всех.
— Отличает… — согласился Юрий, но сразу же колюче засмеялся: — Только вот не все знают, что товарищ Чумаков ничего не делает просто так…
— Ох, Юрий Павлович, не возводи напраслину на хорошего человека. Платить надо добром за добро. Без этого не людская жизнь, а волчья стая, пауки в банке…
— Ох, Филиппыч, голубиная твоя душа… Неужели не понял: жизнь — это пасть зубастая. В ней хоть всего себя изведи на разное там добро, хоть чужое добро век помни, а все равно, как в волчьей стае. Хочешь жить, умей не подставлять свои бока под чужие клыки, а умей сам клацать зубами. Жить надо так, чтобы тебя боялись. — Замолк и добавил, как бы подумал вслух: — Это твой хороший человек как-то объяснил мне… — И уже без прежней хмельной задиристости признался: — А вообще-то, дядя Кузьма, хрен с ним, с Чумаковым, хороший он мужик или малость похуже… С ним у меня — все. Он на днях уезжает в область, а я уже неделю — вольный казак. Заявление подал по собственному желанию, срок еще на прошлой неделе кончился. А товарищ Чумаков возражает, не отдает приказ об увольнении. А потому кадровик тянет с трудовой книжкой, бухгалтерия — с расчетом. Вот и живу в подвешенном состоянии — не работник ПМК и не уволенный.
— Неужто отстанешь от Чумакова? — еще надеясь, что у Юрия с Федором Иннокентьевичем все обойдется по-хорошему, спросил Яблоков. — И куда же ты навострил лыжи?
— Уеду я отсюда, дядя Кузьма. Может, к брату Геннадию в Находку. Подамся там в рыбаки. Может, еще куда подальше, на полярную зимовку. Кем возьмут, хоть разнорабочим… — И с какою-то мукой в голосе, словно душу свою распахивал перед Яблоковым, договорил чуть слышно: — А главное… Главное, дядя Кузьма, нет мне без Таньки Солдатовой жизни. А я ей, как выяснилось, не в масть…
Яблокову были ведомы и суровый характер Тани Солдатовой, и потешавшее весь Таежногорск присловье о «святой троице»: Татьяне, Юрии и Николае Матвееве, которые, как зубоскалили поселковые бабы, только в бане мылись порознь.
Но в тот миг Яблокову стало жутко, как в тот момент, когда на остановке вперился в него взглядом Чумаков. Кузьма Филиппович лишь сейчас осознал, что брань и проклятия Юрия на голову Чумакова и намерение уехать — это вовсе не пьяная болтовня. Что между Чумаковым и Юрием пробежала черная кошка. Нет, разверзлась пропасть вражды и ненависти. И ничто и никто не наведет моста через эту пропасть.
Они уже стояли у распахнутых заводских ворот. Их створки дергались и скрипели на ветру, будто где-то вдалеке выли собаки. Яблокову в третий раз за этот вечер сделалось жутко. И стало боязно отпускать от себя Юрия, у которого что-то неладное в душе…
Яблоков коснулся рукой плеча Юрия и сказал с теплотой:
— Ты вот чего, Юрий Павлович, ты, это самое… Может, проводить тебя до дому? А то шоссейка, машины. Не ровен час, наскочит кто сослепу в метели. На грех, как говорят, мастера нет…
— Спасибо, дядя Кузьма, — тоже растроганно ответил Юрий. — Я заговоренный от всех напастей. И от ветра, и от машин на шоссе, и от… товарища Чумакова. Мать любит поговорку: «Семь лет беды нет — еще семь не будет…» Так что, все будет нормально. А разговор наш не бери в голову. Под газом я все-таки. В общем, все нормально.
Помахав Яблокову рукой, Юрий двинулся по шоссе, и снежное крошево сомкнулось за ним, будто штора на окошке упала. Яблоков шел по заводскому двору и все не мог унять в душе ноющую тревогу: чего все-таки не поделили Юрий Селянин с Чумаковым? Хоть и свел Юрий все вроде бы к пустому: наболтал, мол, спьяну. Не бери в голову. А как не возьмешь? Когда по всему видно, далеко зашло между ними. А вот с чего бы? По службе Юрий Чумакову не ровня и уж никак не помеха. Может, девку или бабу какую не поделили? У Юрки — дело молодое — кровь играет. А Федор Иннокентьевич — мужик и собой видный, и в самом соку… Такие и до молодых баб охочие, и девку не пропустят мимо. Не иначе как замешана юбка. Что еще может быть другого?
Шагая между грудами присыпанных снегом бревен в изголовьи лесотаски, мимо похожих ночью на обгорелые срубы штабелей уже напиленных досок, Яблоков машинально покосился на окна конторы. В кабинете Лукова — темень. Может, в лесопилку пошли вдвоем с Чумаковым. А может, Чумаков нагрянул неожиданно, и Луков еще в пути, вызванный из дому.
С
этой мыслью Кузьма Филиппович поднялся на высокое крыльцо барака, где коротали ночи дежурные слесаря.
С крыльца как на ладони был виден кусок возвышавшейся над заводским двором шоссейки. А глаза у Кузьмы Филипповича были еще острые, да и ветер поутих, снежная сетка поредела, и Яблоков увидел, как вскинулись над дорогой яркие сполохи фар, а потом разобрал шум мотора и силуэт промелькнувшего на бешеной скорости бортового ГАЗа с кузовом, крытым брезентовым тентом.
Яблоков знал, что в поселке грузовичков с крытыми брезентом кузовами всего два. Один на товарном дворе станции Таежногорск. Водил его дальний родственник Кузьмы Филипповича Степан Касаткин. Другой, разгонный, — в гараже ПМК высоковольтников. У него вроде бы даже не было и постоянного шофера. За руль его часто садился инженер-автомеханик Игорь Петрович Постников.
«Разве можно при такой малой видимости так газовать, — подумал Яблоков, стоя на крыльце. — Отчаянный какой-то за рулем, вовсе отчаянный. Не сносить ему башки при такой езде. Неужели Степан так лихачит? Не приведи господи, и сам не соберет костей, и если наскочит на кого…
Кузьма Филиппович заспешил в дежурку. Первым делом подкинул в печурку опилок и нарубленных из горбылей полешек. Посидел на корточках перед разрумянившейся печкой, достал из ящика кусок войлока, молоток, щепоть сапожных гвоздиков и уже собрался латать обивку на входной двери, но тут услыхал на заводском дворе рокот автомобильного мотора, топот ног, смех и голоса.
«Вечерняя смена отработала, — понял Яблоков. — Сейчас Володька Поляков повезет их по домам».
Кузьма Филиппович накинул на плечи полушубок и вышел на крыльцо. Овладело вдруг любопытство узнать, провожает ли смену Чумаков. Торопился ведь к пересменку.
И все-таки Яблоков замешкался. Машина с будкой в кузове, заменявшая на ДОЗе автобус, уже тронулась, и Кузьма Филиппович лишь проводил взглядом остывший уголек стоп-сигнала.
Двор опустел, и в темноте скорее угадывались, чем просматривались груды хлыстов, штабели досок. Окна лесоцеха были черными, нежилыми.
«Где же Федор-то Иннокентьевич? — встревожился Яблоков. — Уж не стряслось ли чего? Своими ногами да еще по такой погоде товарищ Чумаков ходить не привыкший».
Яблоков решил обождать еще минут десять, и если Чумаков не объявится, пойти к дежурному мастеру: может, снарядить кого на розыски начальника.
Но едва Яблоков шагнул с крыльца, как над черным заводским двором взметнулся к черному бездонному небу истошный женский вопль:
— Ой! Задавили, душегубы, сердешного! Размозжил злодей колесом головушку…
Яблоков дернулся, как от удара электрическим током. В глазах зарябило от множества людей, бежавших по двору.
«Юрия? Или Чумакова?!» — ахнул он.
Мимо Яблокова пробежали несколько человек, но он не узнавал никого, не различал лиц, он слышал лишь крики, причитания, брань…
— Какого парня угробил!..
— У всех на глазах!..
— Удрал, сволочь!..
Никто не произнес имени погибшего, но Кузьма Филиппович понял, о ком идет речь. Все еще надеясь, что страшная догадка не подтвердится, он ухватил за рукав какую-то женщину и, выстукивая зубами, выдавил:
— Кого задавило? Юрия Селянина, да?!
— Его! Кого же еще?
— Как же получилось такое? — задохнулся Яблоков.
— Лежал он на дороге. С километр отсюда. А тут гад этот сзади, да на всем ходу и давнул Юрия. Подбежали мы к нему, а он не дышит уже…
— Погоди, Лукерья! — признал собеседницу Яблоков. — Ты, часом, не путаешь чего? Как это может быть, чтоб Юрий лежал на дороге, когда я полчаса назад разговаривал с ним у ворот. Был он живой, здоровый. Ну, выпивши… Но не сильно. Мы с ним от автобусной остановки шли до ворот. Шел он твердо, не падал.
— Сама видела, своими глазами. Юрий это, Селянин. Он лежал на дороге — точно.
Ноги у Яблокова стали ватными, и, не подопри его Лукерья своим плечом, он рухнул бы на снег.
— Эх, Юрий! Как уговаривал проводить тебя. А ты все поперек… К брату собрался — в Находку. А уехал так далеко, что ни брат, ни мать с отцом не догонят.
И вздрогнул: на плечо ему легла чья-то твердая рука и над самым ухом прозвучал незнакомый, перехваченный слезами голос:
— Убиваешься, Кузьма Филиппович?!
Яблоков вскинул голову: рядом стоял Федор Иннокентьевич Чумаков. Лицо его в лунном свете будто натерто мелом, губы кривятся, в глазах — беспросветная мгла.
— Господи, почему вы в снегу? Ровно валялись в сугробе… — машинально сказал Яблоков. — Не зацепил ли тот лихач, которого видел я с крыльца? Ведь тоже, как и Юрий, были на шоссейке.
Тот, не снимая своей руки с плеча Яблокова, сказал успокаивающе:
— Не тревожься, Филиппыч, целехонек. А в снегу потому, что сторожей проверял. Ленятся сугробы разгрести у своих будок, вот и выкупался… — И, словно бы очнувшись, продолжал печально: — Да, горькая утрата для семьи, для нашего коллектива и для меня лично. — Глубоко вдохнул кружившиеся на ветру снежинки, закончил деловито: — Жаль парня, но сам виноват, напился до безобразия, так что ноги не несли, лег мешком на дорогу…
Яблоков отступил назад от этих слов Чумакова, ровно бы тот ударил его или нанес кровную обиду.
— Побойтесь бога, Федор Иннокентьевич. Клепать на покойника грех. На свои глаза мне свидетелей не надо. Вместе с ним шли до ворот завода. В твердой памяти он был. Душу мне свою распахивал настежь и на ногах был крепкий.
— Мне на свои глаза тоже свидетелей не надо, — горестно усмехнулся Чумаков. — В стельку пьяным я его видел за час до кончины в вечернем кафе. — И продолжил приказным тоном: — Ты, Яблоков, вот что: ступай-ка к себе в дежурку и голову себе не ломай: кто, кого и где сбил. Я вызвал на место происшествия и милицию и врача. Лейтенант Сомов разберется, кто прав, кто виноват. А следственное дело поведет капитан Стуков…
Ослушаться Чумакова Яблоков не мог. И все время, пока лейтенант Сомов и доктор Шилов фотографировали при свете электровспышек тело Юрия Селянина, вымеряли расстояние от ворот завода до березы, от березы до тела Юрия, все это время Яблоков провел у себя в дежурке и довольствовался скупыми сведениями от забегавших туда людей.
— По голове ему проехало колесо.
— Увезли покойника в больницу. Кровищи осталось на шоссейке, ужас!..
— Поймали Степана Касаткина. Пьяный в дугу. Оказывается, это он Юрия…
— Павла Селянина туда привезли. Еле живехонький. Еще бы, такое горе…
Как ни рвался Яблоков побывать на месте происшествия, так и не смог. Сменный мастер в ту ночь был какой-то шибко шебутной: то пошлет в лесоцех, то в котельную, то в гараж: «Сбегай, Филиппыч, а то без тебя там зарез…»
Филиппыч бегал. И хотя зареза никакого нигде не было, работа находилась всюду, а отлынивать от работы Яблоков не умел никогда.
Утром, едва Яблоков, усталый и измученный событиями этой ночи, вышел на крыльцо дежурки, перед ним, будто из-под земли, вырос посыльный из главной конторы ПМК и вручил Яблокову казенную бумагу. Это был приказ по ПМК за подписью самого Федора Иннокентьевича Чумакова, которым слесарь ДОЗа Яблоков К. Ф. был срочно командирован на месяц из Таежногорска в распоряжение начальника Хребтовского строительно-монтажного участка для оказания помощи в профилактическом ремонте техники.
— Там я и прокантовался месяц. Начальник участка, Скворцов, горазд был придумывать работу, — закончил Яблоков свой грустный рассказ. — А когда воротился до мой, Юрия Павловича похоронили, только и успел помянуть в сорок дней. Капитан Стуков следствие по делу о гибели Юрия закруглил быстро. А от моих слов, что видел я с крыльца дежурки такую же машину встречь покойному Юрию, и о том, что Юрий в своем уме был и на ногах тверд, от этих слов капитан Стуков отмахивался: «Сам Чумаков видел покойника бесчувственно пьяным». Вот и пришлось мне писать в область. Но все же услыхали нас в конце концов…
— Вы считаете, Кузьма Филиппович, в вашей поездке в Хребтовск не было производственной необходимости?
— Да как вам сказать? Рабочие руки всегда нужные…
Яблоков замолчал, видно, снова вспомнил эти трудные для него годы. Потом грустно сказал:
— За это время, Денис Евгеньевич, хватил я, как говорится, горячего до слез. И в сутяжниках походил, и в клеветниках даже. Многие соседи лица отворачивать стали. Капитан Василий Николаевич Стуков серчал на меня совершенно открыто. Товарищ Чумаков, когда сюда из области приезжал поохотиться в здешних угодьях, в дела ПМК вникнуть, к Павлу Селянину завернуть, посидеть с ним на могилке Юрия: так вот, товарищ Чумаков совсем здороваться перестал со мной. Да только что мне капитан Стуков, и даже Чумаков! — Яблоков вдруг засмеялся: — Меня не только Чумаков, меня и сам товарищ министр моего слесарного чина лишить не в праве. Руки мои всегда при мне.
Денис уважительно думал: «Чуть не на всех углах призывы вывешиваем: не проходите мимо!.. А ведь проходят. Отмахиваясь, отворачиваясь проходят мимо уродливых явлений: не мое, мол, это дело… Пусть разбираются компетентные органы. Эх, побольше бы нам таких, как Кузьма Яблоков…»
Яблоков чутко уловил, что этот вежливый следователь как-то отдалился от него. Громко кашлянул в кулак, напомнив о себе, сказал:
— Спасибо вам, товарищ Щербаков. Спасибо, что меня выслушали. А мой вам совет, коли позволите, гляньте позорче на Постникова да еще на Николая Матвеева. Может, при этом и прояснится кое-что.
Крепко пожав на прощание руку Яблокову, Денис включил магнитофон, внимательно прослушал рассказ старого слесаря о трагических событиях того метельного вечера и, глядя на кассеты магнитофона, подумал:
«Хотя вы в глазах многих святее самого римского папы, боюсь, что придется вам, «работник известный в области и в своей отрасли», все-таки явиться на допрос по повестке. У следствия появились к вам не терпящие отлагательства вопросы…»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Василий Николаевич Стуков долго сидел, полошив голову на руки, потом, как бы очнувшись, распрямился, придвинул лист бумаги и каллиграфическим почерком вывел: «Рапорт… В связи с достижением пенсионного возраста и выслугой лет прошу уволить меня из органов внутренних дел».
Он представил, как старый его товарищ из областного управления прочтет рапорт и подчеркнуто бодро возразит:
— Ну, что ты надумал, старина!.. Без тебя же брешь образуется в следственном аппарате. Рано еще, Василий Николаевич… Столько лет мы в одной упряжке. — А потом вздохнет горестно и проговорит тише: — Хотя и прав ты по-своему: годы не обманешь. У меня тоже, понимаешь, и желудок не дает житья, и разные там валидолы-нитроглицерины бренчат в кармане. Скоро и мне идти с таким рапортом к начальнику управления. Да и молодые нам дышат в затылок. У меня тридцатилетние майоры, знаешь, как лихо дела раскручивают. Прав ты, старик, пора нам с тобой и честь знать. Все правильно, все как в нашей песне: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет».
Утешить Стукова старый товарищ, может, и утешит, уговорит даже повременить с отставкой. Только сам же он и подтолкнул его к этому рапорту. Недоверием своим подтолкнул, отменой постановления, вынесенного в полном согласии с его следовательской совестью и в полном убеждении в своей правоте.
Что касается до почета, то его на прощание будет хоть отбавляй. Подполковник Нестеров, который в последнее время не скрывает своей досады на Стукова, обставит все на высшем уровне. И речи проникновенные скажут коллеги, и адрес со слезой поднесут в красной папке, и грамоту Почетную от областного управления, а то и на Почетный знак размахнутся. И подарят что-нибудь: транзистор или электросамовар. Выслушает Василий Николаевич эту панихиду по себе, а потом, как водится в пенсионерском звании, снимет с заношенного мундира уже ненужные погоны и сядет в укромном месте на бережку речки пытать рыбацкое счастье…
Но вдруг да случится так, что нежданно-негаданно усядется рядом, захочет свежей ушицы Павел Селянин. Как положено, спросит о клеве, пожелает таскать не перетаскать… И вроде бы забудет о нем. Но он затылком, всей кожей своей почувствует невысказанный укор Павла Селянина на то, что так и не найден виновник гибели его сына.
Можно уйти от дел, как принято выражаться, на заслуженный отдых. Только дела от этого не станут ни проще, ни легче. Уйти на заслуженный отдых сейчас — это вроде бы дезертировать. Всему свету признаться, что ослеп и оглох на старости.
Нет, Василий Стуков никогда дезертиром не был. Ни в смертельных боях, ни в этом вот кабинете. А значит — разорвать этот рапорт, смирив гордыню, и плечом к плечу с этим въедливым Щербаковым разгадывать шараду, которую сам и создал.
2
Чего уже давненько не водилось за Василием Николаевичем, к встрече с инженером Постниковым он готовился, ровно к первому допросу. Даже Уголовно-процессуальный кодекс перелистал и статью семьдесят восьмую подчеркнул красным, которая трактует важнейший принцип: признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь в том случае, если оно подтверждено совокупностью других доказательств по делу. Постарался припомнить все хорошее, что знал об инженере Постникове. И получилось, что плохого о Постникове он не помнил ничего. Автомеханик знающий, машинный парк содержал в порядке, за шоферскою дисциплиною наблюдал строго… Ну, а если выпивал порой, так это в нерабочее время и не в общественном месте. Частенько у Жадовой собирались, заходил Постников туда с Лидией Ивановной Кругловой. Так ведь сам был холостым и они холостячки…
Но едва Постников появился в кабинете, Стуков даже крякнул раздосадованно: эк тебя, пижона!.. Уж больно щегольски, прямо напоказ одет Игорь Петрович. А всяческое пижонство Стуков не одобрял. Не в гости, не на званый вечер явился, гражданин Постников. Место казенное, строгое. Отсюда и в КПЗ угодить запросто. А он напялил на себя дубленку, джинсы, шапку в триста рублей… И тут же притормозил себя: «Чего это я на него? Что носит, в том и приехал…»
Но как ни пытался Стуков настроиться на прежний дружеский лад к Постникову, тот все больше его раздражал. Мало того, что был вызывающе одет, он появился без робости, осклабился на пороге, ровно увидел что-то потешное, и сказал легкомысленным тоном:
— Здравствуйте, Василий Николаевич! Сколько лет, сколько зим! Федор Иннокентьевич передал вам привет и просил не задерживать, — Постников чуть надавил на это слово. — Очень я нужен в тресте.
Хотя Постников ни в словах, ни в поведении не допустил ничего вызывающего, просто держался независимо, все это покоробило и рассердило Стукова. И даже привет от Чумакова, которым бы он еще вчера гордился, показался неуместным: укрыться хочет за широкую спину начальства… И Стуков, вроде бы позабыв все хорошее, что недавно думал об этом человеке, разом утратил свою благожелательность к нему, ответил холодно, официально:
— Здравствуйте, Постников. Садитесь. За привет, за память — Федору Иннокентьевичу мое спасибо. А что до сроков вашего пребывания здесь — обещать ничего не могу. Пробудете — сколько потребуется следствию.
Не знал Василий Николаевич, какого напряжения стоил Постникову его независимый тон, и потому, уловив строгость в голосе Стукова, Игорь Петрович растерянно проговорил:
— Хорошо еще, что в Таежногорске наша ПМК, а у меня туда командировка. А то ведь ваше приглашение для треста накладно.
— Вас, товарищ Постников, не пригласили, а вызвали. И не для решения производственных вопросов в Таежногорской ПМК, а в связи с начатым нами доследованием факта гибели Юрия Селянина. Поэтому заниматься служебными делами вам будет несподручно. Селянина помните, надеюсь?…
Постникову стало жарко, будто он непосильную тяжесть поднял, и что-то оборвалось у него внутри, даже сердце замерло. Все-таки Юрий Селянин! При жизни торчал на пути и после смерти не оставляет в покое… Сбудутся, наверное, пророчества Вари.
— Помню такого, конечно, — как только мог равнодушно ответил Постников. — Работали в одном коллективе. Но близкого знакомства между нами не было. Он — конторский работник, я — инженер.
Стуков чутко уловил смятение Постникова при упоминании о Юрии Селянине, уловил и напряженную его позу и разом потускневший голос и уже от души пожалел его: «Неужели Кузьма Яблоков окажется в своей версии проницательнее нас, профессионалов?…»
Но спросил спокойно, как обычно вел допрос:
— Стало быть, дружбы не было между вами? А вражды?
И снова от наметанного глаза Стукова не ускользнула тень тревоги на лице Постникова. И все же Игорь Петрович улыбнулся, сказал небрежно:
— Я уже говорил: мы находились на разных служебных полюсах. Он конторщик, бумажная душа. Я — производственник. Все время с автомашинами, с людьми, в рейсах, в ремонтах. Точек соприкосновения практически не было. А коли нет дружбы или хотя бы общения, откуда взяться вражде?
Постникову так понравилась собственная находчивость, что он и плечи подрасправил, и смотреть стал увереннее.
А вот Стукову очень не понравилась неискренность Игоря Петровича. Ну, допустим, дружбы между покойным Селяниным и Постниковым действительно не было, но ведь вражда-то была. Не придумал же Касаткин сцену ревности на гулянке у Жадовой. Ведь угрожал же Постников Селянину расправой.
Неискренность — не в пользу подозреваемого. Но это не противоречит закону. Доказать обоснованность подозрений — долг следователя. А подозреваемый, спасая себя, вправе не распахивать перед следователем свою душу. Но и следователю, если он знает дело, до поры необязательно высказывать свою осведомленность.
Поэтому Стуков задал вроде бы сторонний вопрос:
— А с кем все-таки дружил Юрий Селянин?
— Насколько помню, со всеми у него были неплохие отношения. А если говорить о дружбе… Пожалуй, ближе других ему был бульдозерист Николай Матвеев. Они навещали один другого и поклонялись Бахусу вместе, — Постников уже веселее усмехнулся. — Но… жизнь воистину полна парадоксов… Они же были и самыми непримиримыми врагами. Оба питали нежные чувства к Татьяне Солдатовой. Она сейчас работает в бухгалтерии ПМК. Естественно, ревновали один другого к своей избраннице. Перед гибелью Селянин крупно поссорился с Матвеевым в вечернем кафе. Да вы же, Василий Николаевич, были информированы об этом Федором Иннокентьевичем и другими свидетелями.
Стуков кивнул: подозреваемый и не подозревал, каким бумерангом может обернуться его ответ.
— Да. Я знаю. Но вот то, что вы, по вашим словам, человек, далекий от Селянина, а так осведомлены о его личной жизни, не кажется ли вам удивительным, а? Может быть, вы все-таки держали Юрия Селянина в поле зрения? Или кто-то информировал вас о нем?
Если этот инженер чист перед законом и перед памятью Юрия Селянина, он не скроет своей неприязни к нему, не станет умалчивать, что в подробности жизни Юрия посвящала Круглова, не скроет и ревности к Селянину, и даже того, что угрожал ему.
Так решил Стуков и сделал вид, что ответы его не интересуют совершенно. Однако же заметил, как во взгляде Постникова вновь проступила настороженность, хотя тон не утратил уверенности.
— Какие информаторы. Об этом же все в поселке знали. И про его любовь к Солдатовой, и про дружбу с Матвеевым. И про ссору их в вечернем кафе. Ссору видели многие. Сам Федор Иннокентьевич был свидетелем.
Постников стал нанизывать подробности происшествия, которого не видел и не мог видеть.
А Стукова словно бы обожгло: эти же подробности и теми же самыми словами приводил ему Федор Иннокентьевич Чумаков. Прямо-таки смаковал пьяную ссору Матвеева и Селянина. Эти подробности во многом определили тогда позицию Стукова. И другие свидетели тоже самое говорили, будто магнитофонную запись речей Чумакова прокручивали…
И вот снова те же слова и те же подробности. Чумакова эта информация, Чумакова! И ничья другая. Так кому же из них, Чумакову или Постникову, выгодно обвиноватить Матвеева, навести на него подозрение?
Стукова кинуло в жар. Он торопливо утер со лба испарину и уже не сомневался. Чумаков если и не суфлировал Постникову, то кое в чем наставлял перед отъездом в Шарапово. Стуков решил исподволь подвести Игоря Петровича к признанию этого.
— А вы от кого узнали о ссоре Селянина и Матвеева?
— Не помню уже. Весь поселок гудел об этом. Подробности последних дней умерших обычно известны всем.
— С кем еще был дружен погибший Селянин?
— Пожалуй, не вспомню. Два года все-таки. Компанию водил со многими, но вот чтобы дружить…
«Ясное дело, наставлял тебя Чумаков, — уже утвердился Стуков в своей правоте. — Эх, Федор Иннокентьевич! Загадочная вы все-таки натура. То красуетесь на первом плане, то норовите ускользнуть в тень. Но мы попробуем вас сейчас высветлить…»
— А разве с Федором Иннокентьевичем у погибшего Селянина не было дружбы?
Постников долго молчал, обдумывая наиболее удачный ответ. С одной стороны, нелепо отрицать очевидное. Была ведь дружба — влечение начальника ПМК к рядовому снабженцу, и весь поселок знал об этом. Но, с другой стороны, подтвердить этот факт Постников не имел права, потому что, благословляя на поездку в Шарапово, Федор Иннокентьевич ему сказал: «Ты вот что, Постников… Оно, конечно, вопросы этих казуистов предусмотреть трудно. Но мой тебе совет: про гулянку у Жадовой и про то, что ты пьяный вез Круглову домой, помолчи. И вообще про Круглову молчи. Не наводи их на Круглову. Она с твоей Варварой может тебе все порушить по своей бабьей дури и тебя самого подвести под монастырь. А еще просьба — не афишируй, пожалуйста, мои какие-то особые отношения к Селянину. Просто, мол, заботился о его воспитании, мечтал парня поставить на ноги…»
Все это помнил Постников, искренне верил, что все советы Федора Иннокентьевича ему на пользу. И удивлялся: как проницателен Чумаков. Но Игорь Петрович не знал, что незадолго до его появления в кабинете Стукова Денис Евгеньевич Щербаков попросил своего коллегу:
— Вы, Василий Николаевич, когда поведете с ним речь о дорожном происшествии, постарайтесь высветлить все, что касается Чумакова. Не знаю как вас, а меня он интересует все больше.
— Так все-таки была или нет дружба у Чумакова и Селянина? — напомнил вопрос Стуков.
Кажется, Стуков рассчитал все точно. Постников не удержался, вздрогнул при упоминании имени Чумакова. Заказано, видно, Постникову поминать имя высокого начальства. И все-таки, как ни растерян Игорь Петрович, а надо отдать ему должное, нашелся быстро:
— Ну, что вы, Василий Николаевич! Федор Иннокентьевич, можно сказать, деятель! В любой кабинет министерства вхож… и зеленый парень, почт неуч, рядовой экспедитор: «Достать то, приобрести это…» Чувствуете дистанцию? Какая между ними может быть дружба?
«Вот именно, — мысленно согласился Стуков. — Не зря этой дружбе все в поселке дивились, и сам я недоумевал. А тем не менее была эта дружба, была. Бабы чесали языки: чудит, мол, Чумаков. То любимчика своего, вусмерть пьяного, на персональной машине Чумакова домой доставят, то требование постройкома о наказании Селянина Чумаков отведет своей властной рукой. А когда погиб Юрий, так Федор Иннокентьевич речь на могиле произнес. Будто заслуженного ветерана труда оплакивал. И как же вы, Игорь Петрович, позабыли, а вот Касаткин помнит, как на вечеринке у Жадовой подымали тост за здоровье Чумакова, а ваша подружка Круглова — о ней вы молчите упорно — предложила выпить за его верного друга — Юрия Селянина. И вы, гражданин Постников, за это чуть не избили ее, а Селянина и вовсе грозились убить…»
— И все-таки согласитесь, Игорь Петрович, — сказал Стуков раздумчиво, — товарищ Чумаков оказывал Юрию Селянину знаки особого внимания. А как он убивался о Юрии, как стремился помочь мне в следствии своими советами…
— Разве это необъяснимо? — с облегчением улыбнулся Постников, — Федор Иннокентьевич — человек такси большой души. Ему каждый работник — как сын родной. А если говорить о расположении Федора Иннокентьевича к подчиненным, выходит, ко мне у него двойное расположение. Хотя я был совсем зелен, меня он забрал в трест, а о переводе Селянина не было речи.
«Яблоков эти события толковал совсем по-другому», — отметил про себя Стуков и сказал согласно:
— Да. Вы уехали от нас сразу после похорон Юрия. Вы, вообще-то, знаете, как он погиб?
Изумление, проскользнувшее было во взгляде Постникова сменилось настороженностью. Говорил он хотя и спокойно, но паузы между словами затягивались, будто с усилием припоминал давно позабытое:
— Кто же не знает об этом? Всей округе известно. После скандала с Матвеевым пьяный Селянин пошел домой, упал на дороге и проломил себе череп… Правда, сначала считали, что на него наехал своей автомашиной пьяный Касаткин. Но вы, Василий Николаевич, проявили бдительность и мастерство, распознали, как все было.
Стуков поморщился, но спросил ласково:
— А где и с кем напился Касаткин в тот вечер?
У Постникова скулы закаменели. И все-таки хватило сил чуть шевельнуть ими в кособокой ухмылке:
— Вот уж чего не знаю, того не знаю… Я не был с ним.
Стуков всю жизнь исповедовал принцип: даже самый закоренелый преступник — человек. А коли так, имеет право защищаться в единоборстве со следователем, возводить баррикады контраргументов, посылать логические доводы в контратаки. Но заведомой лжи, даже в качестве последней соломинки, Стуков не мог простить никому. В его глазах ложь не только втаптывала в грязь остатки человеческого достоинства, но и глубоко оскорбляла следователя. Коли лжет, значит, далек от мысли о раскаянии и во мне человека не уважает, считает круглым дураком…
И сейчас не сдержался Стуков, повысил голос:
— Знаете, гражданин Постников! И нам это известно. А вы темните, изворачиваетесь!
Четкие скулы Постникова стали вовсе белыми. Нет на его лице ни тени улыбки, и губы еле разжимаются, процеживают слова:
— Что за тон, товарищ Стуков? Меня совершенно не касаются пьянки Касаткина. Он ведь не работал у нас в ПМК… И позвольте, почему «гражданин Постников»? Мне кажется, я могу быть полезен вам лишь в качестве свидетеля и не утратил права на общепринятое обращение «товарищ»!
Ох, не надо Постникову становится в эту позу. Стуков, разом отринув те добрые чувства, которые пытался пробудить в себе к этому человеку, такому, оказывается, заносчивому и такому неискреннему, холодно проговорил:
— Пока свидетель. Но не исключено, что можете стать подозреваемым… Я толкую с вами не ради приятного времяпрепровождения, я выясняю обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к смерти Юрия Селянина… Мое постановление о прекращении уголовного дела по факту гибели Селянина отменено…
Щеки и подбородок Постникова стали серо-синими. Стуков налил в стакан воды, протянул ему через стол.
— Что же это за криминальные обстоятельства? — с трудом выдавил Постников.
«Жидок на расправу, Игорь Петрович, — уже от души посочувствовал Стуков. — Мужику не к лицу так размазываться по стенке, даже и виноватому».
— Ну, не впадайте в панику, Игорь Петрович. Подозреваемый — еще не обвиняемый. Доказать еще надо подозрения…
— Так чем же я привлек ваше внимание?
— Тем, что 10 января 1978 года вы, будучи в нетрезвом состоянии, управляли грузовой автомашиной ГАЗ с кузовом, крытым брезентовым тентом, следовали по шоссе, по которому в то же время навстречу вам двигался Юрий Селянин, могли не справиться с управлением автомашиной и совершить наезд на любого пешехода, в том числе и на Селянина…
Постникову показалось, будто что-то оборвалось у него внутри и сердце остановилось.
— Позвольте, позвольте. Это злое недоразумение. Не в моих правилах ненастной ночью, при плохой видимости гонять на машине да еще, как вы утверждаете, в нетрезвом состоянии. Так что, уверяю вас, явное недоразумение.
Стуков тщательно скрывал охватившую его брезгливость: нельзя же так трусливо и неумно врать. Ну, отбивайся, выдвигай правдоподобные версии, но не уподобляйся мальчишке, который с измазанным ртом отпирается, что лазил в банку с вареньем. Василий Николаевич молчал, великодушно давая Постникову возможность собраться с мыслями.
А мысли Постникова мешались. Если бы сейчас в кабинете рухнул потолок или с улицы влетела в форточку шаровая молния, Игорь Петрович был бы напуган и потрясен куда меньше.
Такого оборота — отмены устраивавшего всех постановления Стукова в областном центре — не мог предвидеть даже Федор Иннокентьевич. Пожалуй, одна только Варя, ни во что не посвященная, предчувствовала такой кошмарный исход. Любящее сердце — вещун…
Да еще Лида Круглова давно делала намеки о каком-то краешке их вины, о том, что они могли бы предотвратить гибель Селянина, но не сделали этого…
Тогда он отмахнулся от этих намеков. И вот расплата…
Собрав остатки своего мужества, Постников решил попытать судьбу и сказал:
— Новость действительно ошеломляющая! Помнится, вы, Василий Николаевич, и все кругом были уверены в том, что Селянин — жертва несчастного случая. — Он словно бусы на нитку, нанизывал слово за словом, оттягивал решающий вопрос. И все-таки настало мгновение, когда уже нельзя было не задать этот вопрос: — Только и сейчас не могу я взять в толк: в чем подозревают меня? Пусть смерть Селянина — следствие чьего-то злого умысла. Так ищите убийцу… Но я-то при чем тут, если меня даже не было на этой дороге?
Стуков брезгливо поморщился, но сказал сдержанно:
— Вы настаиваете, что не проезжали в тот вечер по дороге?
— Да. Насколько я помню, так. — Ответ звучал не очень твердо, но Игорь Петрович решил пойти ва-банк.
— Может быть, позабыли? — с напускным сочувствием заметил Стуков.
— Да-да, переезд в трест. Дела, знаете, заботы, занятость…
— Да, да, — понимающе покивал Стуков. — Но есть свидетель, который отлично помнит события того вечера. Вашу машину с брезентовым тентом, которую он ясно видел и которой пользовались в тот день только вы. Видел как раз в тот момент, когда погиб Селянин. И на том месте… Он даже прикинул скорость — километров за восемьдесят вы гнали. Именно недозволенная скорость привлекла внимание этого человека к вашей машине.
— Свидетель!.. Яблоков ваш… Яблоков!.. Только и свету в окошке… Все он видел, все он знает. Одно только забывает, что родственник и Селянину и Касаткину. Значит, заинтересованное лицо. — Тут бы Постникову и остановиться. Но он не смог сдержаться и раздраженно продолжал: — И что он мог рассмотреть с крыльца дежурки — это же метров триста до шоссе, да еще в пургу. Снег мело так, что света белого не видно.
Он произнес эти слова и сразу же пожалел о них. Но было уже поздно. Капитан Стуков заметил с укором:
— Странно как-то у вас получается, Игорь Петрович, нелогично. Поездку свою вы отрицаете, а вот что уличает вас в этой поездке именно Яблоков, вам это доподлинно известно. Еще раз скажу: нелогично и, простите, неумно, Игорь Петрович. Вы же сразу после похорон Селянина отбыли в область, а Яблоков впервые заговорил о вашей поездке через месяц после возвращения из командировки в Хребтовск. И погода в тот вечер вам тоже запомнилась.
— Что же тут нелогичного… Погоду помню, потому что жил в тот вечер. А не запомнить его, согласитесь, невозможно. Что касается наветов на меня Яблокова, бывал-то я в Таежногорске за два года не раз, а здесь, простите, только дворовые собаки о яблоковских догадках не брешут…
Стуков не без внутреннего смущения припомнил свои споры и ссоры с таким настырным Яблоковым, несколько озадаченно сказал:
— В общем-то, вы правы и насчет погоды, и, простите, даже насчет собак… Но все-таки, Игорь Петрович, так сказать, по старой дружбе, я стучусь к вашей совести, ехали ведь вы по шоссе. Так соседствовал вам кто-нибудь в кабине или вы там были один?
— Простите, Василий Николаевич, но ваш вопрос мне кажется провокационным. Я настаиваю на том, что вообще не садился в тот вечер за руль, а вы спрашиваете, кто был со мной в кабине?
— Да полно вам, Игорь Петрович! — строго урезонил Стуков. — Какие там провокации? Мне, право же, стыдно за вас. Следствие располагает данными, что в тот вечер в доме вашей хорошей знакомой Надежды Гавриловны Жадовой был богатый ужин. В нем принимали участие Пряхин, Касаткин, ваша близкая подруга Лидия Ивановна Круглова и вы собственной персоной. Нам известно, что вы в нетрезвом виде вели автомашину, в кабине которой вместе с вами находилась Круглова. Кстати, Лидия Ивановна вскоре после вашего с Чумаковым переезда в область тоже покинула поселок. Перед самым отъездом она призналась близким ей людям, что сидела с вами в кабине, вы ехали по шоссе мимо ДОЗа. Она дрожала, что вы на скорости перевернете машину. Она видела кого-то на дороге, но не думала, не гадала, что кончится все так трагично. Что виновата она перед Юрием сильно… — Стуков смущенно кашлянул и, не щадя больше перед этим двоедушным человеком своего следовательского самолюбия, признался с невеселой усмешкой: — Собаки об этом, правда, как выражаетесь вы, не брехали, но слушок был среди близких вам с Кругловой лиц.
Постникову показалось, что сердце у него оборвалось и рухнуло куда-то далеко вниз. «Лидия успела растрепать свои бредни…» Это печальное открытие лишило Игоря Петровича не только остатка сил, но и дара речи. Он сознавал, что молчать самоубийственно, надо немедленно противопоставить нечто убедительное намекам, да что там намекам — обвинениям Стукова. Но не мог вымолвить ни слова в свою защиту.
И тут Стуков неожиданно бросил ему спасательный круг:
— Может быть, Круглова перепутала чего-нибудь? Так вот, Игорь Петрович, чтоб у нас с вами тоже не возникло путаницы, вы, пожалуйста, припомните тот вечер, скажем, часиков с шести и до отхода ко сну. Восстановите, с кем общались, что делали, когда и как вернулись домой. Напишите все собственноручно. Думаю, вам это не составит труда. Погоду и ту помните отлично, а прочие подробности, конечно, у нас в памяти. Ночь та для всех памятна. А потому мы для точности спросим об этом совместно с вами Круглову и еще кое-кого… И тогда все станет ясно. Мы оба изрядно устали. Ступайте отдохните, подумайте, а утром, пожалуйста, ко мне. Утро вечера мудренее. Продолжим на свежую голову.
3
Пока Василий Николаевич Стуков, все более досадуя на Постникова, безуспешно пытался разбудить в нем совесть и искренность, в соседней комнате Денис Щербаков встретился с очевидцами событий той ночи.
Первым был Владимир Семенович Поляков — водитель машины, которая 10 января 1978 года повезла по домам рабочих вечерней смены ДОЗа. Теперь Поляков был на пенсии, крепко прихварывал. Вошел, с трудом справляясь с одышкой, однако отмахнулся от предложенного Денисом стула и сказал колюче:
— Я о ваших правилах, товарищ следователь, кое-что начитался и по телевизору насмотрелся. Знаю, что вопросы задаете только вы, но позвольте и мне задать вам вопрос, поскольку, извиняюсь, гражданская и человеческая совесть прямо-таки скребут мне душу. Повстречал на днях Степана Касаткина, козырем, понимаешь ты, ходит. И права ему на блюдечке поднесли. Так вот, интересуюсь я, товарищ следователь, да и многие затылки чешут: как же получается, где же здесь справедливость!.. — И не без ехидства прищурился на Дениса. — Так что предупреждаю, куда бы вы следствие ни поворачивали, я от своих прежних слов не отступлюсь ни на шаг. Я ведь не как некоторые, у которых в городе Степан, а на селе Селифан. Да еще к тому же собственные домыслы. Я рабочий человек, хотя и пенсионер, и про знак ветерена на своей груди тоже помню. Был я первым свидетелем по этому делу и останусь им. Я не с крыльца ДОЗа шоссейку просматривал. Я самым первым увидел лежавшего на дороге Селянина, и на моих глазах Касаткин его давнул, а после этого из головы Юрия хлынула кровь… Так какой же здесь к лешему несчастный случай?…
Денис, удивляясь легковерности иных обывателей и живучести предрассудков в таких населенных пунктах, как Таежногорск, учтиво сказал:
— Все правильно, Владимир Семенович. Селянин лежал на дороге, и Касаткин задел его колесом своей автомашины, и кровь после этого хлынула из головы Юрия… Так вот, чтобы следствие не уклонилось никуда в сторону, расскажите все как было тогда, все по порядку. В ту ночь вы оказались как бы впередсмотрящим…
Поляков не без раздражения тем, как ловко и вежливо отвел следователь его вопросы, утвердился на стуле, перевел дух и заговорил:
— Был я, значит, в ту ночь в гараже дежурным. Автобуса у нас нет, людей развозим на грузовой с будкой в кузове. В одиннадцать пересменок на заводе, подал я во двор свою карету. Сели в нее люди, и двинулся я к Катиному логу. Там я высаживал Агафью Мохову… Ехать было тяжело, видимости никакой. Тянул я всего километров на сорок. Проехал минуты две — это чуть больше километра от ворот завода, и тут показалось мне, что на дороге что-то чернеет вроде. Я подумал: уж не березу ли ветром своротило? Притормозил, направил фары. Нет, береза на месте, а рядом с ней поперек дороги чернеет не то человек, не то зверь. Остановился я, значит, выскочил из кабины, стучусь к своим пассажирам в будку: ребята, мол, лежит кто-то на дороге. Ну, повыпрыгивали, присмотрелись: человек лежит, прильнул к гравию, как к подушке. Кинулись мы к нему — и тут сзади бортовой ГАЗ с кузовом под тентом. На такой скорости шарахнул что нас всех только ветром обдало, а он — колесом по лежачему. Того беднягу аж вдоль дороги развернуло. Кровь растеклась по шоссе… Добежали мы до него, ахнули — Селянин Юрий. Пульса нет…
Поляков с усилием выровнял дыхание, долго молчал, видно, снова был мысленно на той дороге.
— Потом я уже узнал, что это Степан Касаткин так его… Только если по правде, то у Касаткина хотя и большая вина, что пьяный гнал километров восемьдесят, а есть хоть маленькое да оправдание. Из-за моей машины не мог он видеть лежавшего Селянина, обогнул он меня правильно, а затормозить уже не поспел, я ведь до Селянина не доехал метров десять…
— Выходит, Владимир Семенович, шоферские права Касаткину, правда, не на блюдечке, но вернули не совсем зря, — с усмешкой заметил Денис, — коли, по вашим же словам, не мог он видеть лежавшего Селянина.
— Нет! Виноват Степан, и крепко. Нас всех он не мог не видеть. Гнал с такой скоростью, что половина моих пассажиров могла на шоссейке остаться.
— Владимир Семенович, то, что могло случиться, но не случилось, закон в вину не ставит. Значит, «скорую» и милицию вызывали сами рабочие?
— Всех опередил Федор Иннокентьевич Чумаков. В ту ночь он какими-то судьбами оказался на заводе. Он и вызвал. Только зачем? Могильщик требовался — и больше никто.
— А когда вы повезли людей по домам, видели вы Чумакова во дворе или в цехе?
— Нет, не заметил.
— Не обратили внимания, в кабинете директора вашего завода были в тот момент освещены окна?
— Вроде бы нет. Стояла темень.
— Когда же в тот вечер вы впервые повстречали Чумакова?
— А когда он прибежал на место происшествия… Хоть и здоровый мужчина, а не хуже наших баб, только что в голос не причитал. Больше всех суетился над Юрием. Даже искусственное дыхание делать начинал. Хотя всем ясно было — это без толку. А потом, когда лейтенант Сомов и доктор Шилов прибыли, он все им твердил про то, как Юрий Селянин сильно пьяным был в вечернем кафе и на ногах не стоял… А еще очень злился на Степана Касаткина. Меня в погоню за ним послал и кричал, что таких мерзавцев, как Касаткин, без суда расстреливать надо на месте. Мне капитан Стуков пенял потом, что не должен был я с места происшествия уезжать, поскольку лейтенант Сомов фиксировал следы случившегося.
— Владимир Семенович, дело прошлое, скажите откровенно, лейтенант Сомов был в нетрезвом состоянии?
— Да, припахивало вроде бы от него. Позже я узнал, что сына он женил как раз. Так что вызвали его со свадьбы.
— Вы подписывали протокол осмотра места происшествия?
— Вроде подписывал чего-то.
— Как по-вашему, все в нем точно указал лейтенант Сомов?
— А чего там указывать-то? Береза эта и сейчас на месте. Я уж говорил вам, Селянин лежал возле нее. А следы? На гравии, да еще в метель, какие там следы.
Денис внимательно слушал Полякова, но в памяти неожиданно очень отчетливо прозвучал, казалось, позабытый уже голос сержанта Родченко — водителя газика в райотделе:
«Чему тут меняться, да еще сильно? Пожалуй, против того только та перемена и есть, что в заплоте ДОЗа, вон там, за кюветом, дыру заделали. А тогда торчала, человек в нее свободно пролезть мог, даже и с плахой».
Еще не полностью осознав важность этой неброской, на первый взгляд, подробности, Денис спросил:
— Значит, никаких особых примет и следов? И заводской забор был в полном порядке, и снежный наст нигде не нарушен?
Поляков сначала удивленно, потом как бы ошарашенно посмотрел на следователя и даже ладонью себя по колену прихлопнул:
— А ведь правильно, язви тебя! Напротив той березы в заводском заборе дыра торчала, ее вскорости после всего заделали. А что до наста? Так был он порушен, и крепко. Бросилось мне в глаза и мужикам тоже, что в кювете, опять же аккурат напротив березы, яма чернела, ровно в ней медведь кувыркался. Или застрял человек. Я еще подумал, что Юрий Селянин по пьянке в кювет свалился, выбрался и на дороге отлеживался.
«Дыра в заборе. Чернела яма в сугробе… Черные дыры в космосе — загадки науки», — вроде бы без связи с рассказом Полякова подумал Денис, но спросил деловито:
— А еще каких-либо следов в кювете не было?
— Да вроде бы ничего не видел. Хотя, я вам говорил уже, пуржило, могло и замести.
— Одежда Селянина была в снегу?
— Да нет. Видно, недолго он лежал, запорошить не успело.
Поляков замолчал, с хитренькой усмешкой посмотрел на Дениса, напомнил подчеркнуто вежливо:
— А от моего вопроса вы уклонились, товарищ следователь. Я о том, что кровь из головы покойного хлынула на виду у всех после того, как Касаткин колесом его развернул на дороге. Как же это понимать? Причина и следствие…
— Мертвым был Юрий Селянин к моменту толчка его машиной Касаткина. Мертвым на дороге лежал! — с грустью ответил Денис. — Вот так оно было, Владимир Семенович. Эксперты отметили, что кровь после удара Селянина чем-то по голове скопилась в его шапке, а когда его машина Касаткина резко развернула, она хлынула на дорогу. Вот вам, Владимир Семенович, и очевидность, и причина, и следствие… Логика говорит: после того — не значит вследствие того. А верующие люди раньше утверждали: если что-то кажется
тебе — перекрестись. Ну, а мы, безбожники, исповедуем: показалось, даже увидел, подумай, и крепко подумай, что к чему…
4
Афанасий Григорьевич Охапкин сидел перед столом Дениса, далеко выставив перед собой негнущуюся ногу. Был он седоголов, но в движениях не по-стариковски проворен. А вот на вопросы отвечал раздумчиво, не то нехотя, не то скрыть пытался что-то.
— И давно вы в ночных сторожах?
Даже и на это Охапкин ответил не сразу, прикинул сроки в уме:
— А с той поры, как объявилась в наших местах ПМК и открылся ДОЗ. — Вздохнул и признался более словоохотливо: — Надоело числиться за собесом с самой войны. Да и не шибко денежно оно. А тут какой-никакой приработок, да и на людях.
— Начальство часто по ночам будит?
— Начальство ночами крепче нашего спит, — назидательно сказал Охапкин. — А мы, сторожа то есть, на посту согласно инструкции. Спать нам не положено. Хотя, по правде сказать, на моем объекте — никаких происшествий.
— Как же никаких происшествий? — стал заходить со стороны Денис. — Два года назад почти напротив вашей сторожки погиб при загадочных обстоятельствах Юрий Селянин.
Охапкин посидел молча, будто даже это известное всему району происшествие ему требовалось припомнить:
— Да, погиб. Царство ему небесное… Это вы, значит, про ту ночь, когда меня Федор Иннокентьевич навестил. — И настолько сильным, может быть, даже болезненным было в душе Охапкина это воспоминание, что он, не дожидаясь вопросов следователя, заговорил пространно: — Обошел я в ту ночь оба вверенных мне склада, вернулся к себе в сторожку…
— Не скажете, в котором часу вернулись? — прервал Денис.
— Часов нет при мне, но зашел я к себе, должно быть, за полчаса, как шум поднялся на дороге. Значит, в пол-одиннадцатого примерно. Только взялся я за дратву — валенки подлатать старухе, вдруг грохот в дверь, будто миной шарахнуло по землянке, как нас в сорок третьем году подо Ржевом. Я опешил малость, замешкался, доковылял до дверей, открыл, а там сам Федор Иннокентьевич, будто дед Мороз, только на бровях нет снега. Вообще-то, он уважительный мужик, всем работягам и руку подаст, и по имени-отчеству величает… А тут, видно, чем-то сильно был раздосадован. Даже, извиняюсь, матом меня, инвалида… Спишь, говорит, старый хрен. Я, говорит, все кулаки оббил о дверь, пока тебя добудился. Говорит, я обошел все твои объекты, в сугробах досыта накупался, размести дорожки ленишься. Я подумал: когда это он успел объекты обойти, когда я сам только что в сторожку со складов явился. Так-то, говорит, ты охраняешь вверенную тебе ценную социалистическую собственность. И еще напустился на меня: «Почему дыра не заделана в заплоте, через нее не только тесину, а медведь пилораму уволочь может». Вроде бы позабыл, что это вовсе не мое дело. Я, понятно, объясняю ему, что уже совершил положенный мне обход и вовсе не спал. Федор Иннокентьевич в конце концов отмяк душой, человек-то он отходчивый, выпил ковш воды. Расстались мы с ним по-хорошему, я с него еще снег голичком немножко обмахнул…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Она прикрыла за собой дверь бухгалтерии, приветливо взглянула на ожидавшего ее в коридоре Дениса Щербакова и сказала как старому знакомому:
— Я знала, что вы придете. Слух по поселку: снова подняли дело Юрия Селянина. А я — Татьяна Матвеева, в прошлом — Солдатова. Вас интересует только Солдатова…
Последняя любовь Юрия Селянина не взяла бы приза на конкурсе красоты. И ростом невеличка, и станом полновата, и черты лица вовсе не классические. Круглое лицо с ямочками на румяных щеках. Но во взгляде светло-серых глаз — такая доброта, спокойствие и основательность, которых нельзя не увидать и которые, скорее всего, привлекли к ней смятенную душу Юрия Селянина…
— Я сразу догадалась, что вы из этих… как их… органов.
— Правоохранительных, — подсказал Денис и представился.
— Ясно. После гибели Юрия, — лицо ее потемнело, — меня и Колю уже расспрашивали про тот вечер. — И забеспокоилась: — Здесь, в коридоре, все время ходят и хлопают дверьми. Не получится у нас с вами разговора. Если бы вы были комиссар Мэгре или сыщик Пуаро и вообще жили бы где-нибудь в Париже или в Риме, пошли бы мы с вами в какой-нибудь погребок и заказали бы там по чашечке кофе, а то и по рюмочке как его… кальвадоса, и там бы вы услышали от меня все, что вас интересует… Но в Таежногорске кафе только вечернее, днем — обыкновенная столовая, где подают отварную мойву прошлогоднего завоза. Там не поговоришь. На улице еще холодно. Поэтому вот что, Денис Евгеньевич, двинем-ка к нам домой…
Денис поблагодарил и, обескураженный Таниным позерством, — нет ли в нем стремления спрятать тревогу? — покорно дал ей взять себя под руку и подравнял свой размашистый шаг к ее семенящей походке.
2
Николай Матвеев оказался русоволосым парнем огромного роста, с задубелым от ветра лицом. Спортивная куртка, казалось, расползется по швам на его саженных плечах.
Перехватив недоумевающий взгляд мужа, Таня сказала предупредительно:
— Знакомься, Коля. Это товарищ Щербаков, капитан милиции. Ты же слышал: опять интересуются, как погиб Юра Селянин, и Денис Евгеньевич желает поговорить все о том же, о последнем ужине с Юрием…
Таня, Юрий и Николай повстречались три года назад в том самом вечернем кафе, где год спустя провели свой последний вечер.
Юрий и Николай сидели за столиком, разомлелые от духоты, выпивки, обильной еды, оглушенные лязгом музыкального автомата. И оба одновременно разглядывали в толчее танцующих темноволосую невысокую девушку. Танцевала она радостно, самозабвенно. Всплескивали над быстрыми плечами струйки темных волос, взлетали над головой руки, жарко блестели в улыбке глаза и зубы…
— Вот это девчонка! — ахнул Юрий.
— Сильна! — поддакнул Николай.
— Не знаешь кто такая?
— Вроде бы Василия Ивановича Солдатова дочка. Но раньше не встречал ее здесь.
Юрий, потом Николай пригласили девушку на танец, а там подсели к столику, за которым она сидела со своими подружками. Юрий завязал разговор с ней, как со старой знакомой, Николай застенчиво помалкивал. Вскоре парни узнали, что она действительно Таня Солдатова, заканчивает в областном центре финансово-экономический техникум, приехала сюда на преддипломную практику и уже получила распределение в Таежногорскую ПМК.
— Так что, мальчики, возвращаюсь в родные места, — сказала она с удивительной своею улыбкой. — И заживем мы все вместе…
— Вместе-то чего хорошего? — простодушно возразил Николай. — Вдвоем жить надо. Когда вдвоем — семья.
— Вон ты куда загадываешь, не рано ли? — засмеялась Таня. — Я пока не собираюсь замуж. Даже и за тебя… богатырь-красавец…
— А уж за меня, маломерка, и подавно, — ввернул Юрий.
— А может, маломерки мне больше нравятся. Я ведь и сама невеличка. Может, влюблюсь в тебя с первого взгляда…
Николай заметно помрачнел. А Юрий сказал непонятно:
— Ненадежная моя любовь, Таня. Нынче — князь, завтра — грязь.
— Ой, да ты, оказывается, мрачнющий, — разочарованно заметила Таня. — Ладно, мальчики, давайте пока просто танцевать…
Когда парни у ворот Василия Солдатова простились с Таней, Юрий подождал, пока за ней захлопнулась дверь в сени, ухватил Николая за локоть и сказал твердо:
— Вот что, Коля-Николай, я вижу, ты на Татьяну тоже положил глаз. Все понятно. Так вот что, Николай, чтобы нам не изломать из-за нее нашу дружбу и не стать врагами по-страшному, давай договоримся: никаких свиданий наедине, тем более — объяснений, всегда и всюду только втроем. И пусть она, как говорят в ООН, сделает свободный выбор…
— Да вроде бы так. Вроде бы правильно. Все, как в ООН. Кому судьба, тому и фарт.
— Фарт что, фарт всегда в наших руках. Тьфу! Тьфу!.. — вроде бы покрасовался Юрий перед приятелем. — А вот судьба? Судьба, Коля, дело туманное…
За год никто из них не нарушил уговор. Если Николай работал в вечерней смене, Юрий не показывался у Тани. Если Юрия отправляли в командировку, Николай всячески уклонялся от встречи с девушкой.
В тот непогожий январский вечер они завернули в вечернее кафе тоже втроем.
Сели за столик, обогрелись. Николай внимательно оглядел Юрия, встревоженно заметил:
— Ты сегодня какой-то вроде бы не такой. Лицо горит, глаза блещут… Вроде бы лихорадка у тебя…
— И правда, Юра, — согласилась с Николаем Таня. — Какой-то ты встопорщенный, что ли.
— А, ерунда, — беспечно отмахнулся Юрий. — Ветром нажгло, вот и горят щеки.
Заказывал Юрий ужин с напугавшей Таню жадностью:
— Куда так много? Будто купец в старину…
Юрий накрыл своей ладонью лежавшую на столе ладонь Тани, искательно заглянул ей в глаза и сказал робко:
— Догадливая, Танюша. — И признался вроде бы шутливо, но с несвойственной ему отчаянностью: — А вообще-то, к месту про купцов. Сегодня мне охота напиться именно по-купецки. Так, чтобы по мордасам лупить кое-кого, зеркала, посуду…
— Ничего себе. Скромное желание, — напряженно засмеялась Таня. — Может быть, мы уйдем, Коля? Пусть он один дерется и ломает все вдребезги.
— Вроде уговор же у нас, — возразил Николай, — чтобы всюду втроем.
Едва официантка подала заказанное Юрием, он, не притрагиваясь к еде, с жадностью опорожнил фужер водки. Посидел, словно бы закаменев, наполнил фужеры шампанским и сказал глухо:
— Коля ты мой, Николай! Давно я порывался сказать тебе, как в той частушке: сиди дома, не гуляй. Да все не поворачивался язык. Уговор наш, дружбу нашу с тобой ломать не хотел. Ты знаешь, Коля, слово свое я держал твердо. Ни разу Танюшу за руку не взял за твоей спиной, ласкового слова не шепнул ей. — Он заслонил ладонью глаза от света и сказал еще глуше: — Один я знаю, чего это стоило мне… Ведь люблю я Таню больше жизни, больше матери своей люблю…
— Ты, парень, что-то вовсе с тормозов соскочил, — испуганно и осуждающе сказал Николай. — Видно, сегодня водка тебе не впрок Уговор же у нас…
Юрий смотрел прямо перед собой и, казалось, не видел покрасневшей до слез Тани, но все же уловил мгновение, когда она попыталась встать. Мягко, но властно накрыл своей ладонью ее ладонь на столе и сказал, словно они были наедине:
— Не уходи, Таня. Прошу тебя. Трезвый я. И к тебе со всей моей душой. Хочешь, при всех на колени перед тобой встану… Только ты одна, Таня, спасти меня можешь. Уйдешь, значит, все — гибель мне, без тебя нет для меня ни жизни, ни солнца, ни стариков моих, никого. И сил моих никаких нет, не выгрести мне без тебя к берегу… Люблю я тебя и при нем, при Николае, прошу тебя, Таня, стать моей женой. А откажешь, с любовью этой уйду в могилу!.. — И, точно лишь сейчас вспомнив о Николае, всем телом крутанулся к нему и заговорил умоляюще: — Ты, Коля, зла не держи на меня. Знаю, что только ты мой истинный друг, прочие так… собутыльники на дармовщинку… Ты пойми меня правильно, друг единственный, найдешь ты еще свою судьбу и любовь, а мне без Тани не жить… — И, низко склонившись над столом, приник губами к дрогнувшей руке Тани.
Таня растерянно оглянулась на соседний столик, где перестали звенеть рюмками и ножами, прислушиваясь к словам Юрия, сглотнула слезы и спросила гневно:
— Ты что, артист? Новую роль репетируешь? Чувствуется богатый опыт и навык! Только я не Лидия Ивановна Круглова, перед которой все поселковые кавалеры ползают на коленях и ручки ее целуют! И не пугай. И могила тебя минует, и прочие страсти… И у нужного берега ты вынырнешь… А что до твоей необыкновенной любви ко мне, то спасибо, конечно. Только вот беда, нечем мне тебе ответить. Нет у меня любви к тебе. Нет! — Она словно задохнулась на этой фразе, договорила грустно: — Ты уж прости меня за это. Но сам понимаешь, разве кто волен в любви. А если уж честно… Я люблю Николая и пойду замуж только за него, если он, конечно, возьмет меня…
— Да что ты, Танечка… Да я! — Губы Николая дрогнули, покривились, казалось, он заплачет.
Юрий медленно и тяжело, точно она была перешиблена, снял свою руку с руки Тани и сказал:
— Куда ни кинь — кругом клин. Может, ты и права, Танюша. Может, ясновидица ты! Какой я против Николая жених! У него бульдозер в руках. И сегодня, и завтра, и до скончания дней. А я нынче — князь, завтра — грязь. Кончилась моя карьера. — Он снова заслонил лицо ладонью, не то от света, не то от любопытных взглядов, и сказал с неожиданной лихостью: — А! Все, как говорит один мой недобрый знакомый, гримасы бытия… Я с вами, друзья мои, последний нонешний денечек… Нынче — здесь, завтра там. Да так далеко, что и в лупу это место не рассмотришь на карте. А поскольку на свадьбе мне у вас не быть, вот тебе, Таня, мой свадебный подарок! — Он быстрым движением извлек из кармана коробочку, раскрыл ее и надел Тане на палец золотое кольцо-веточку с тремя крохотными лепестками и с тычинками-бриллиантиками посередине. Сказал с горькой усмешкой: — Вознесся я в мечтах, думал, станет обручальным это колечко, а теперь вот примите, как говорят дипломаты, уверения в моем совершенном к вам почтении… — Лицо его потемнело, голос стал сдавленным: — Между прочим, на кольце, под лепестками, буковки Т. С. Думал — Татьяне Селяниной, а сейчас просто Татьяне Солдатовой.
Таня взглянула на свой палец, этикетку на кольце и сказала мягко, но решительно:
— Ты прав, Юра. Коля мой — обычный бульдозерист, я — рядовой бухгалтер. И такие дорогие подарки нам отдаривать нечем.
— Правильно, Танюша, — с облегчением сказал Николай. — Не к лицу нам такие подарки.
— Стало быть, и в этом прокол. Что же, на нет и суда нет. — Юрий сам снял с пальца Тани кольцо, осмотрелся, обрадованно крикнул попавшейся на глаза официантке: — Эй, Тася, ты, кажется, Сергеева. Так что все буковки сойдутся. Иди-ка сюда, озолочу тебя… На память от бывшего Юрки Селянина. Может, ты хоть когда вспомнишь, что был такой в поселке.
Тут Юрия властно крутанула за плечо чья-то сильная рука. Перед ним стоял и пепелил его взглядом суженных яростью черных глаз Федор Иннокентьевич Чумаков.
— Ты что тут выступаешь, молокосос! Устроил, понимаешь, спектакль! То в дон Кихота играешь и Дульсинею Тобосскую, то бижутерией разбрасываешься! Напились, понимаете, до потери сознания и ориентировки. Не можете водку, пейте кефир. Безответственность! Только позорите честь нашего славного рабочего коллектива. А ты, Тася, — начальственно кивнул он поспешившей на зов Юрия официантке, — ступай и продолжай работать. И не слушай этого суслика. Устроили, понимаешь, представление!
Юрий скинул со своего плеча руку Чумакова, сказал с дерзкой усмешкой:
— А, ясновельможный товарищ Чумаков! Собственной персоной. Ужинаете, значит, с народом. Трогательно, аж слеза прошибает… А вот чужие разговоры подслушивать — нехорошо!.. Нехорошо, Федор Иннокентьевич, как вы любите говорить, аморально! И не бижутерия это, а мои деньги и мой каприз. И никакой я не член рабочего коллектива. Это вон Николай рабочий человек. А я — порученец, как говорит мой отец, Селянин Павел Антонович, при вашей особе.
Большие выпуклые глаза Чумакова вовсе сузились, артистически поставленный голос стал шипящим:
— Правильно, ты, Селянин, не рабочий и не порученец. Ты — просто шпана и алкоголик! И ты еще пожалеешь о своем дебоше…
Юрий словно бы от удара отпрянул назад и проговорил сдавленно:
— Спасибо, Чумаков, спасибо за все! Уж коли подслушивал сейчас, послушай и мой последний сказ. Сегодня я полдуши друзьям распахнул, а завтра… — Он понизил голос почти до шепота. — Завтра могу и всю душу…
— Распахивай! Если кто ее рассматривать станет, — усмехнулся Чумаков. — Чужая душа, как говорится, потемки…
— Федор Иннокентьевич, — напомнила о себе снова подошедшая официантка. — Давеча вы заказывали навынос бутылку шампанского. Так будете брать?
— Непременно, — с готовностью сказал Чумаков. — А этим пропойцам больше ни грамма!..
— Слушаюсь, Федор Иннокентьевич, — заверила официантка.
Держа за горлышко бутылку, точно противотанковую гранату, Чумаков медленно и грузно двинулся к выходу…
Юрий осмотрел зал, но, не уловив ни одного сочувственного взгляда, вернулся к своему столику и грустно сказал:
— Не помню, в чьей-то пьесе кто-то говорит: «Испортил песню, какую песню испортил дурак…»
— Вот и все, — со вздохом подытожила Таня. — Выпили по рюмке, Юра, не спрашивая счета, швырнул официантке на стол много денег. Та аж ахнула… На улице мы расстались. В первый раз за год пошли в разные стороны. Мы с Колей к моему дому. Юра к себе. Пошел — и не пришел никуда… — Таня потупилась, поскребла ногтем на полированной столешнице какое-то пятнышко и сказала тихо: — Так что я себя и Колю виню. Пошли бы мы тогда вместе с Юрой, сейчас бы он был живой… А мы сильно счастливые были тогда. Очень обошлись с ним круто, не дошло до нас, что маялся он чем-то… Ведь он же, подумать только, даже на Федоре Иннокентьевиче выместил зло. В тот момент все равно ему было, кто перед ним. Он бы и отца родного не пощадил… Сильно я его тогда подкосила. Но ведь сердцу не прикажешь, верно? — она улыбнулась виновато и грустно.
— Да, Таня, сердцу не прикажешь, — подтвердил Денис, думая о важных подробностях, какие только что услыхал от Матвеевых, о том, что Чумаков и другие свидетели, пожалуй, не преувеличили, расписав Стукову пьяный дебош Селянина, и Стуков на основе этих показаний сделал логически верный вывод. Не задумался только: дебош ли это был или же бунт? Бунт! Но против кого и чего?… — Конечно, можно сказать: роковое стечение обстоятельств. Вы с Николаем были слишком счастливы, чтобы думать о нем. Яблоков хотел его проводить, но Селянин отказался. А как вы считаете: Юрий, когда вы расстались, был сильно пьян?
— Да как вам сказать? — Николай пожал плечами. — В кафе пришел трезвым, выпил умеренно, говорил связно, хотя зло и непонятно. А на ногах держался твердо.
— А как же дебош? — вспомнил Денис. — Оскорбление Чумакова?
— Я считаю, не было никакого дебоша, — убежденно сказала Таня. — Была просто истерика. Или бунт против чего-то.
— Или против кого-то?
— Против меня, наверно, — предположила Таня после долгой паузы. — Я его тогда обидела сильно.
Уже убежденный в том, что версия об убийстве Юрия Николаем Матвеевым из ревности совершенно беспочвенна, Денис сказал:
— Вот теперь, через два года, и гадай, что стряслось с ним: с отчаяния сам лег под машину, пьяным упал в кювет, как думают некоторые, выбрался и отлеживался на дороге или кто-то проломил ему голову…
— Может, — начал Николай, — ни то, ни другое, ни третье? Просто на бегу подвернулась нога, упал, а вот подняться сил не хватило. А чтобы голову ему проломить… Кто?! За что?! У него же весь поселок в друзьях. Не было врагов у него. Ну, а если он стекла кому по пьянке выхлестал, так за это не убивают…
— Значит, вы не были на месте происшествия? Когда же вы узнали о гибели Юрия?
— Да утром уже. Сразу-то мы к моим родителям пошли. Сказали им, что хотим пожениться. По-старому, вроде бы спросили благословения. Папа с мамой растрогались, сразу угощение на стол. Так до утра все вместе и просидели, проговорили о будущей жизни.
— Таня, как я понял, в кафе вы недобрым словом вспомнили Лидию Ивановну Круглову. Разве у Юрия с ней были отношения?
От взгляда Дениса не укрылось, как быстро переглянулись супруги Матвеевы, и Николай, опережая ответ жены, сказал:
— Откровенничал со мной Юрий. Лидия Ивановна заигрывала с ним всячески, когда он на лесных делянах отмеривал ей положенные по договору кубометры. Ну а Круглову эту, всему поселку известно, обхаживал инженер Постников. Так что между Постниковым и Юрием пробежала черная кошка… А если правду сказать, то последний год Юрий на всех шибко злиться начал: и на Круглову, и на Постникова, и даже на самого Чумакова. Поругивал их частенько. И еще намекал, что судьба его сразу может сломаться. И надо ему торопиться жить.
— И что же, он торопился? Сорил деньгами? Делал дорогие покупки?
— Нет, жил, пожалуй, в пределах своей зарплаты, — рассудительно оказал Николай. — Ну, прогрессивки были. В доме Селяниных заведено было, что свои деньги Юрий держал при себе, не давал на хозяйство. Да и не было в доме Селяниных никакого богатства. А когда Павел Антонович на могилу Юрия чуть не мавзолей поставил и по поселку слухи пошли разные, то он объяснил, что деньги это Юрия, и наиграл он их в «Спортлото».
— А вам Юрий говорил о «Спортлото»?
— Были разговоры. Ездил он в область, покупал карточки. И по телевизору всегда смотрел тиражи. Он ведь, Юрий-то, вообще был азартный. Но о выигрышах скрытничал.
И снова перед глазами Дениса всплыл памятник на могиле Юрия Селянина на неказистом Таежногорском погосте, и зашелестели пересуды по поселку, и замаячили где-то вдалеке сберегательные книжки. Вклад в десять тысяч рублей. И не было разумного объяснения происхождению этих ценностей, кроме не очень правдоподобного «Спортлото». А теперь еще засверкал бриллиантовыми тычинками на золотых лепестках перстень. И Денис, не сдержав озабоченности, спросил:
— А что, Таня, перстень, который дарил вам Селянин, действительно был бижутерией, как определил Чумаков?
— Да нет, Юрий сам опроверг это. Федор Иннокентьевич его видел издалека, а мы с Колей рассмотрели во всех подробностях. В футлярчике для перстня была этикетка магазина. Цена — тысяча семьсот рублей. Так что настоящие в нем бриллианты.
— Где теперь этот перстень? У Павла Антоновича?
— Этого я не знаю, никогда разговора не заходило…
3
Едва взглянув на вошедшего к нему капитана Стукова, Денис опять подивился способности Василия Николаевича преображаться внешне в зависимости от своих служебных обстоятельств. При первой встрече Стуков показался Денису немощным, глубоко уязвленным в самолюбии, сейчас он смотрелся бравым, не простившимся еще с молодостью офицером, исполненным достоинства, взгляд его был уверенным и твердым.
— Что, Василий Николаевич, отрадные новости?
— Да, оправдываются наши расчеты. Постников начал «работать» на пользу следствию.
— И что же он «наработал» за два дня?
— Как мы с вами и предполагали, он кинулся к своим старым связям. Сначала заявился к Жадовой, и примерно через полчаса оба рысью затрусили к Пряхину, где провели весь вечер. Не надо особой проницательности, чтобы догадаться: Постников обеспечивает себе у Жадовой и Пряхина алиби: не был, мол, я с вами в тот вечер, когда погиб Селянин. Но вот дальше… Дальше начинается, Денис Евгеньевич, любопытное. На следующее утро, вместо того чтобы явиться на работу, Пряхин сел в свой «Москвич» и двинулся в соседний райцентр — Еловское. И представляете, мимо почты проехал, а со станции отстучал две телеграммы. Вот вам и Валька Пряхин. Все его ветродуем считают, а он, гляди-ка ты, — конспиратор. Ну да и наши ребята глазастые… А телеграммы явно условным текстом. Вот копии: «Трест «Электросетьстрой», Чумакову Федору Иннокентьевичу. Решения кардинальных вопросов перспективного развития Таежногорской ПМК необходимо ваше присутствие. Постников». Эти «кардинальные» вопросы, — с усмешкой продолжал Стуков, — надо полагать, стали известны Постникову еще перед отъездом в Шарапово. Фокус в том, что, занятый своими хлопотами, сей командированный ко времени подачи телеграммы так и не удосужился явиться в ПМК.
— Просчет для такой ситуации непростительный, — насмешливо заметил Денис. — Неужели Чумаков, заранее обговорив с Постниковым условный текст, не дал ему наставлений?
— Бывает и на старуху проруха… — усмехнулся Стуков, мысленно удивляясь тому, что в первый раз неуважительный намек на Чумакова не вызвал в нем внутреннего протеста.
Стуков услышал фамилию Чумакова и вдруг вспомнил, как в ходе предварительного следствия по делу Касаткина внимал каждому слову Федора Иннокентьевича, чуть не поддакивал ему и не задался самым главным вопросом: почему, по какой причине не очень пьяный, пусть нашумевший в тот вечер в кафе Селянин оказался лежащим на дороге…
— А вот еще одна любопытная телеграмма: «Ташкент. Улица Намаганская, дом 12, квартира 9, Кругловой Лидии Ивановне. Вспомни моем дне рождения. Готовься срочному приезду Шарапово, Надя». Надя — это Надежда Гавриловна Жадова…
— У Надежды Гавриловны, — засмеялся Денис, — прямо скользящий график ее появления на свет. Два года назад она отмечала свое тезоименитство десятого января, теперь вдруг передвинула на март. — Денис тепло улыбнулся Стукову и сказал: — Спасибо вам и вашим глазастым ребятам, Василий Николаевич. Сдается мне, что это приглашение на бал не менее важно для нашего дела, чем даже вопль Постникова о помощи… Первый естественный вывод: мадам Круглова на расстоянии держит в поле зрения все Шараповско-Таежногорские дела. Доследование причин гибели Юрия Селянина, интерес следствия к Постникову для всей компании небезразличен, — Денис взглянул на внимательно слушавшего Стукова и почувствовал, что не может не признаться ему в том, что отчетливо нарастало в его сознании: — Знаете, стократ хваленая следовательская интуиция подсказывает мне, что мы едва ли закончим дело о причинах гибели Юрия Селянина, даже если там действительно несчастный случай. Хотя едва ли несчастный… И очень возможно, что дело о трагическом дорожном происшествии перерастет в довольно сложное разветвленное дело о должностных и хозяйственных преступлениях.
— Чем черт не шутит, когда бог спит, а точнее, местная милиция.
— И еще, Василий Николаевич, по-моему выходит, что Федор Иннокентьевич Чумаков очень заинтересован в исходе дела Постникова и вообще в наших следственных действиях. — Денис остановился перед Стуковым, тепло улыбнулся ему: — В общем, похоже, что вы раскопали в мякине полновесное зерно. И если я не совсем профан — скоро мы встретимся с главными действующими лицами.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
И снова за стеклами газика мелькали домики Таежногорска. Над ними из печных труб извивались сизые дымки. Обочь дороги из кюветов вздымались и горбились подтаявшие ноздреватые сугробы. А за кюветами, куда ни кинь взгляд, чернела зимняя тайга.
И сейчас, в пути, и до этого в гостинице, и в райотделе надвигалась на Дениса лавина вопросов: почему гордый, самолюбивый, всеми почитаемый Чумаков после публичных оскорблений Юрия Селянина не вызвал милицию, как, наверное, поступил бы каждый на его месте? Почему, купив бутылку шампанского, отправился с нею не к себе домой, а на ДОЗ, в поздний час, когда его там никто не ждал? Да еще пешком, в метель. Почему солгал Яблокову, что его машина «на приколе»? Где находился Чумаков с того момента, когда расстался с Яблоковым, до встречи с ним на заводском дворе? Почему никогда до этого не проверял сторожевые посты, а перед переездом затеял обход сторожевых будок? Почему срочно отправил Яблокова в командировку в Хребтовск сразу после гибели Селянина, хотя начальник Хребтовского участка Скворцов показал, что был удивлен приездом Яблокова. Почему грубо нарушил трудовое законодательство: задержал приказ об увольнении Юрия Селянина, его трудовую книжку и расчет? По какой причине хотел Селянин уехать на край света?… Наконец, кто автор явно условной телеграммы Постникова? Если Чумаков — это значит, что он так же, как Круглова, держит в поле зрения все, что касается гибели Юрия Селянина… А из этого следуют прямо-таки сенсационные выводы — между Чумаковым, Постниковым и этими дамами существовала преступная связь. И Постников совершил наезд своей автомашиной на Юрия Селянина… по приказанию Чумакова или с ведома его…
Дойдя до этого ошеломляющего вывода, Денис начинал спор с самим собой.
Но что могло лежать в основе их преступной связи? Хищения? Но чего? Бетона? Стальных опор? Провода? Изоляторов? Запасных частей к строительным механизмам? Малоправдоподобно. В ближайшей округе нет спроса на эти ценности. Что же остается? Лес? При прокладке просек для высоковольтных линий в здешней чащобе вырубаются десятки тысяч кубометров древесины. А Круглова представляла здесь интересы нескольких среднеазиатских колхозов по закупке леса… Начальник ПМК Чумаков, экспедитор Юрий Селянин, автомеханик Постников и «торгпред» среднеазиатских колхозов Круглова — вполне возможная преступная группа. С внутренним разделением труда и замкнутой криминальной технологией.
Такая гипотеза объясняет многое. Странную дружбу Чумакова с Юрием Селяниным, поведение Чумакова и Юрия Селянина в кафе и в разговоре с Яблоковым, двусмысленные речи и тосты за столом у Жадовой. Кстати, дружба Кругловой и Жадовой — а телеграмма Жадовой полностью подтвердила ее — тоже носит «производственный характер». Вагоны — дефицитнейшая вещь, а лес в Среднюю Азию везти надо…
Как всякая гипотеза, эта выглядит убедительной. Но, как многие гипотезы, может не выдержать проверки реальностью.
Против Чумакова — предприимчивого, масштабного, умелого хозяйственника — нет никаких фактов. Малоправдоподобна и версия о том, что Чумаков расправился с Юрием Селяниным, почему-то ставшим неугодным ему, руками Постникова. Во-первых, зависимость Постникова от Чумакова должна быть поистине рабской. А во-вторых, как Чумаков мог скоординировать скорость движения Юрия Селянина и машины Постникова? Юрий Селянин мог в ту ночь не пойти домой. Заночевать, скажем, в дежурке у Яблокова. Наконец, если Постников ехал с намерением сбить Юрия Селянина, зачем посадил к себе в кабину Круглову?
Вот тебе и «убедительная гипотеза»!.. Все возвращается на круги своя… Несчастный случай — падение с высоты собственного тела… Чего не исключает и медицинская экспертиза. А стойкая преступная группа махинаторов с древесиной — это, увы, даже не гипотеза, а домыслы следователя, плоды его так называемой профессиональной интуиции…
Значит, банальный несчастный случай… Да здравствует следователь Стуков и его здравый житейский смысл… Даже и полковнику Макееву изменила его хваленая интуиция. И стало быть, придется Григорию Ивановичу, как сам же пообещал сгоряча, раскошеливаться за безрезультатную командировку капитана Щербакова…
Эти мысли и дискуссии с самим собой, неотступно сопутствовавшие Денису в последние дни, сейчас вдруг словно бы поблекли, потускнели в свете набиравшего весеннюю силу солнца и в блеске выпавшего ночью снега.
Денис спустил боковое стекло газика, всей грудью вдохнул струю ветра.
И с умилением, присущим всем городским жителям при встрече с природой, думал о том, что кто-то мрачный и напрочь лишенный чувства красоты высокомерно назвал такие, теперь все более редкие, уголки земли «медвежьими»…
Вспомнились рассказы космонавтов о том, какой нежно-голубой, прекрасной и тревожно-маленькой смотрится из космоса Земля. И припомнилась гипотеза известного астронома об уникальности жизни на Земле, неповторимости ее нигде в галактике, а возможно, и во всей вселенной… Гипотеза, опять гипотеза…
Пока нет фактов, чтобы подтвердить ее. Но нет пока фактов и для того, чтобы ее опровергнуть. Страшно, немыслимо, невозможно согласиться с тем, что наша голубая Земля — всего лишь микроскопический островок разумной жизни в межзвездных безднах, что нигде на пространствах в миллиарды парсеков нет у землян собратьев по разуму, по формам жизни.
Как же дорога нам должна быть наша мать-Земля и все на ней: и громады городов, и сельские избы, речные плесы, таежные дебри и снеговые завалы… Как дорого все живое, как бесценна и уникальна жизнь каждого человека. А тот, кто посягает на нее — враг всех людей, он недостоин звания человека…
Юрия Селянина кто-то или что-то лишило жизни. Что-то или кто-то? Несчастный случай? Роковое стечение обстоятельств? Или тщательно задуманное и искусно исполненное преступление?
С этой обретшей прежнюю остроту мыслью старший следователь областного УВД Денис Щербаков вошел в кабинет начальника Таежногорской ПМК «Электросетьстроя» Дмитрия Степановича Афонина.
2
В просторном, по-современному обставленном кабинете Афонина при разговоре со следователем присутствовали трое. Сам Дмитрий Степанович — молодой, чуть старше Дениса, громогласный краснолицый крепыш; главный бухгалтер Нина Ивановна Шмелева — сухонькая, седовласая женщина; начальник отдела кадров Семен Потапович Усенко — тщедушный, лысый, очень болезненный человек.
Однако после первых «пристрелочных» вопросов у Дениса возникло ощущение, что с ним беседуют четверо.
Словно бы скользнул тенью в кабинет и незримо уселся в кресло, подавал реплики, своевременно напоминал о себе Федор Иннокентьевич Чумаков. Имя, прежняя и новая должности Чумакова звучали едва ли не в каждой произнесенной собеседниками Дениса фразе.
Афонин не преминул подчеркнуть, что Чумаков, при котором Дмитрий Степанович работал главным инженером колонны, передал ему сложное хозяйство в образцовом состоянии. Планы строительно-монтажных работ перевыполнялись из месяца в месяц, высокими были и другие экономические показатели.
А как заботился Федор Иннокентьевич о людях, о престиже колонны! Сколько индивидуальных домиков и общежитии возвели в поселке хозспособом. А почему бы и не строить? Леса вон сколько остается при прокладке линий. Или о престиже… Никогда не забывал Федор Иннокентьевич ни о материальных, ни о моральных стимулах повышения производительности труда. Сколько статей в местную печать написал о лучших людях колонны, с представлением к правительственным наградам знатных строителей никогда не запаздывал. В районном центре флаг трудовой славы в честь лучших бригад подымали торжественно каждую неделю, а ведь район-то сельскохозяйственный. Словом, десятки, да что там десятки, сотни людей в поселке обязаны Федору Иннокентьевичу и достатком своим, и репутацией.
— Уж как заботлив он был к рабочим, — вклинилась в разговор Нина Ивановна Шмелева. — В нашей колонне самые высокие тарифные ставки по тресту, а трест едва ни не крупнейший в стране — двенадцать колонн. — Она вздохнула, точно бы у нее дух захватило от масштаба треста, который теперь возглавлял Чумаков, и продолжала с неподдельной гордостью: — Сколько внезапных ревизий наезжало: и трестовских, и министерских, и из областного КРУ. Строгие ревизии, придирчивые… Но ни одна не вскрыла ни одного рубля приписок строительно-монтажных работ, нарушений финансовой дисциплины. Разве что по моей части мелкие упущения в оформлении документации. А Чумакову после ревизии непременно благодарность.
— Или вот мелочь, кажется, — снова заговорил Афонин, — кабинет этот. Распорядился Федор Иннокентьевич отделать и обставить его в соответствии с самыми высокими современными стандартами. Некоторые злословили тогда: нескромность, мол.
Денис лишь сейчас оценил деревянные панели вдоль стен, полированную мебель, тяжелые портьеры на окнах.
— В таком кабинете, — снова донесся до Дениса голос Афонина, — даю вам честное слово, и ты сам, и тот, кто на прием приходит, воспринимает тебя личностью. Так что дальновидно это со стороны Федора Иннокентьевича. По одежке встречают…
Афонин не то удивленно, не то не скрывая восхищения покачал головой и весело, громко засмеялся, как смеются дети да еще очень чистые и спокойные душой люди:
— По телевизору программа такая есть: «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Так вот, хочу признаться: три с лишним года главным инженером я все делал заодно с Федором Иннокентьевичем. Без него изо всех сил стремлюсь делать, как делал бы он сам. А вот лучше не получается. — Он опять засмеялся. — Видно, в коленках слабоват. — И продолжал уже серьезно: — И знаете еще, что в нем очень ценно: Чумаков — не просто администратор, талантливый хозяйственный руководитель, но и не менее талантливый инженер. Могу свидетельствовать это со знанием дела, поскольку возглавлял при нем техническую службу в колонне. Мы, инженеры, диву давались, с какой быстротой, легкостью и, не боюсь этих слов, инженерным изяществом решает он специальные проблемы. Без преувеличения говоря, может рассчитать не хуже ЭВМ технологию установки опоры ЛЭП-500 и на голой подоблачной скале, и в болотной топи. Да так водрузить мачту, что она как дерево из земли растет и всегда росла здесь. Не инженер, а тончайшая электроника последнего поколения! Не зря в министерстве поговаривают, что для Федора Иннокентьевича готовят там большой кабинет.
— Стало быть, дела в колонне обстоят хорошо, перспективы ее работы ясны, ничего чрезвычайного в последние дни не стряслось и в срочном появлении Федора Иннокентьевича нет необходимости? — заметил Денис.
— Да что вы?! — разом прозвучали три удивленных голоса. — Ни о каких чрезвычайных происшествиях — тьфу, тьфу, тьфу — не было и речи. Хотя приезду Федора Иннокентьевича мы, разумеется, всегда рады.
— Работники треста вас часто навещают? Передовой коллектив. Передовой опыт…
— Да не обижают вниманием, — сказал Афонин. — На днях появился здесь Игорь Петрович Постников.
— И чем же он интересовался?
— Ну, само собой, ходом выполнения плана. Потом по своей должности: состоянием автопарка и строительных механизмов. Побывал в гаражах, в мастерских, дал кое-кому разгон. И засел в постройкоме: проверял жалобы на разные бытовые неурядицы. — Афонин покачал массивной головой и засмеялся: — Чудеса! Игорь Постников привыкает басить. Чувствует себя уже главным инженером треста…
— Уже басит? — ответно засмеялся Денис. — А ведь Постников — бывший ваш работник?…
— Да. Работал у нас после института, командовал автопарком, строительными механизмами.
— Что, очень способный инженер, если прочат его на высокую должность?
— Приказы начальства не обсуждают, — усмехнулся Афонин. — Но поскольку трудился он под моим руководством, я бы не дал ему очень уж блестящей аттестации. Обычный дипломированный специалист, каких десятки тысяч выпускают наши вузы.
— Чем же тогда он так ценен Федору Иннокентьевичу?
— Я говорю, приказы не обсуждают. А может быть, Чумаков тоньше нас проникает в творческие потенции человека.
— Многих, кроме Постникова, работников колонны перевел Федор Иннокентьевич в трест?
— Постникова, значит, Савельеву из бухгалтерии, шофера своего Шапошникова, секретаря Нину.
— Очень ценные работники?
— Савельева — отличный, растущий товарищ, — заметила Шмелева. — Постников — это, наверное, каприз Федора Иннокентьевича, а шофер и секретарь — привычка.
«Ну, каприз, пожалуй, слишком легковесное объяснение для многомудрого и многогранного Федора Иннокентьевича…» — усмехнулся Денис и спросил:
— Наверное, Федор Иннокентьевич забрал бы с собой и Юрия Селянина, если бы тот не погиб. Чумаков очень дорожил Селяниным.
— Не думаю, чтобы Селянина Федор Иннокентьевич забрал с собой, — заговорил кадровик Усенко. — Селянин недели за три до отъезда Федора Иннокентьевича подал заявление об уходе по собственному желанию.
— Оно у вас хранится в архиве? Можно с ним ознакомиться?
— Конечно. Куда ему деваться? — В тоне Усенко проскользнули нотки самодовольства. И стало ясно, что архивы у него в полном ажуре и никакой комар не подточит к ним носа. Но вдруг он вздохнул и добавил: — Памятно оно мне, это заявление… Когда Селянин, значит, подал его мне, я, согласно существующего указания о сокращении текучести кадров, провел с Юрием подробную беседу и уговаривал остаться. Но безрезультатно. Упрям был покойник. И чем-то очень озлоблен. А Федор Иннокентьевич пришел прямо-таки в сильное негодование. Сказал, что это со стороны Селянина мальчишество и пьяный бред. Он запретил мне готовить приказ об его увольнении и выдавать трудовую книжку. И сам пытался Селянина убедить забрать заявление. Федор Иннокентьевич выразился в том смысле, что в интересах всего треста, чтобы Селянин остался…
— Чем же был так ценен Селянин, да еще для всего треста?
— Даже затрудняюсь ответить, — белесые ресницы Усенко вспархивали растерянно, часто. — Федор-то Иннокентьевич ведь, как хороший шахматист, на много ходов смотрел вперед. А Селянин… Он, конечно, экспедитор в отделе снабжения. Но для Федора Иннокентьевича Юрий Селянин был особым человеком. Федор Иннокентьевич ему всегда самые ответственные поручения доверял по части добывания запасных частей. Ну, и опять же снисходительность, терпимость к его грехам прямо-таки отцовские.
— А грешки-то серьезные? Или шалости мальчишеские?
Афонин, Усенко, особенно Шмелева, перебивая один другого, вспоминали Юрия Селянина.
Их рассказы отнюдь не разрушали представления Дениса о Юрии, каким сложилось оно по воспоминаниям Павла Антоновича, Яблокова, Тани и Николая Матвеевых.
Добрый, компанейский, веселый парень. Правда, в последний год он словно чувствовал близкую гибель, попивать стал частенько. А как говорится, где пьют, там и льют… И прогулы стал допускать, и скандалы случались. Поселок невелик, слухи и сплетни разносятся быстро. Постройком дважды просил уволить Юрия за прогулы. Но Федор Иннокентьевич заступался и настаивал на своем.
— Конечно, оставался, — насмешливо заметил Денис. — Как не остаться, если Чумаков даже после заявления Селянина видел в нем опору треста.
— А вы напрасно иронизируете, товарищ Щербаков, — с явной обидой на неуважительный отзыв о Чумакове упрекнул Афонин, — я после того как потянул эту упряжку, ни за какие коврижки не отпустил бы с работы Селянина. Ярко выраженная коммерческая жилка была у него. Своего рода талант. Кроме своей работы в отделе снабжения занимался он еще сбытом отходов лесоповала, которые образуются при прокладке линии. И вот вам факты: за три года до отъезда Федора Иннокентьевича было реализовано более пятидесяти тысяч кубометров. Это дало колонне свыше миллиона рублей дополнительных прибылей. Отсюда и премии, тринадцатые зарплаты и прочие блага. Не говоря уже о таких дарах природы, как вагоны среднеазиатских яблок, дынь, арбузов для наших орсовских столовых, магазинов и детских садов. Что, к слову сказать, и в областном центре редкость. И вся эта благодать по государственным ценам… А я за два года при всем старании реализовал почти в десять раз меньше… Вот вам и Юрий Селянин…
Денис, как бы только для поддержания разговора, спросил:
— Судя по всему, тонкомер шел туда, где произрастают дары природы?
— Точно. Безлесным районам Средней Азии. Здесь даже постоянно находилась их представительница Лидия Ивановна Круглова, — рассказывал Афонин, всей душою одобряя предприимчивость Чумакова и коммерческую жилку
Селянина. — Непосредственно отпуском леса занимался Селянин, платежные документы Кругловой оформляла бухгалтер Савельева, которая теперь в тресте. Федор Иннокентьевич, очень поддерживая эти операции, говорил, что большая от них польза государству: и отходы древесины идут в дело, и казне доход, и крепнет дружба народов, и ПМК выгодно.
— А что же вы теперь не укрепляете?…
— Да вот нет такого коммивояжера, как Селянин. И Круглова уехала куда-то. К тому же на тонкомер почему-то упал спрос. А деловую древесину мы продавать не имеем права. Обязаны поставлять деревообрабатывающей промышленности.
— И поставляете?
— Да как вам сказать, — замялся Афонин. — Поставляем, конечно, но… до плановых уровней далековато. Сами знаете, как с рабочими руками дела обстоят повсеместно. Ну и транспорт, прежде всего специализированный, лесовозный, — опять же проблема. Не говоря уже о вагонах… Так что чего кривить душой — гибнет деловой лесок. И много… — Он вздохнул, жалея этот лес, и продолжал с откровенной завистью: — А вот Федор-то Иннокентьевич и Юрий Селянин умели даже дровяник обратить в доход государству.
Денис, как бы не уловив его откровенной зависти к Чумакову, заинтересованно спросил:
— А при Федоре Иннокентьевиче планы поставок делового леса государству выполнялись успешно?
— Я бы не сказал, — покачал головой Афонин. — И при Чумакове, и до него, и после меня останутся те же объективные условия, о которых я рассказывал раньше. К тому же надо иметь в виду, с нас, строителей ЛЭП, практически и спроса нет за этот лес, идет он совсем по другому ведомству, в производственные планы не засчитывается. Для нас это своего рода довесок, так сказать, благородное патриотическое дело.
Хотя у Дениса, что называется, на кончике языка была гневная и, увы, расхожая филиппика против живучей безхозяйственности, заговорил он совсем о другом:
— Простите, Дмитрий Степанович, разумеется, я никого ни в чем не подозреваю, просто как коммунист с коммунистом. Можно, по-вашему, этот практически бесхозный деловой лес сбывать налево под видом тонкомера?
— Ну… при охоте, можно, конечно, — снова замялся Афонин, — известно, что кошка к салу найдет дорогу. Только для этого «налево» отчаянность нужна, грязные руки и грязные помощники. Сильно это против закона и против совести коммуниста…
Тут возвысила гневный голос Нина Ивановна Шмелева:
— Вы это на что же намекаете, товарищ Щербаков? Уж не на то ли, что в бытность начальником ПМК всеми нами уважаемого Федора Иннокентьевича и при моем, стало быть, содействии, как главного бухгалтера, творились в колонне противозаконные операции? Разбазаривался ценный и дефицитный деловой лес? Да будет вам известно, товарищ Щербаков, прежде чем заключить со среднеазиатскими колхозами, представителем которых была Круглова, договор о поставках им порубочных отходов и тонкомера, товарищ Чумаков заручился официальным согласием райисполкома и треста и поставил в известность наш главк. Более того, когда был составлен и подписан договор, Федор Иннокентьевич лично пригласил в ПМК прокурора района товарища Власова и проконсультировался с ним о законности этого документа. — Нина Ивановна перевела дух и сказала мягче: — Нет, Денис Евгеньевич, все было совершенно законно. Ни Федор Иннокентьевич, ни я не отпускали, вернее, не выпустили из своих рук ни одного кубометра без предварительной оплаты по чековым книжкам. Какая у кого из нас могла быть корысть, если расчеты были безналичными, а деньги существовали лишь номинально.
«Черт знает, может быть, на самом деле я, не желая того, обидел хороших и ни в чем не повинных людей, — смущенно подумал Денис, — Но все-таки… Все-таки этот здоровяк Афонин не исключает возможности махинаций с лесом».
— Ну, хорошо, я ни минуты не сомневаюсь, что вся ваша лесоторговля абсолютно законна, — Денис улыбнулся Шмелевой. — Но ведь бревно, пусть даже тонкомерное, или, как это называется на языке специалистов, кажется, хлыст, — это не груздочек, не ягодка-земляничка, которые из леса можно вынести в лукошке. Как же осуществлялась эта громоздкая операция, кем? Где брались погрузочные механизмы, лесовозы, рабочая сила, а главное — железнодорожные вагоны? Кем это оплачивалось?
— Это вы спросите у Кругловой. Договором это не обусловлено. Никаких обязанностей ПМК на себя не брала.
— А кто непосредственно отмерял на просеках лесоматериалы?
— Это была обязанность Селянина. И только его.
— И какими же документами все оформлялось?
— Как положено: актами об отпуске леса, которые составлял Селянин. Утверждал их Федор Иннокентьевич Чумаков.
— Сколько же кубометров леса было продано по этим договорам со среднеазиатскими колхозами?
— Я уже говорил вам, — сказал Афонин, — за предшествующие моему назначению три года реализовано более 50 тысяч кубометров. А сколько непосредственно по интересующим вас договорам, Нина Ивановна к вечеру представит исчерпывающие данные. Что касается вагонов — все сведения об этом на станции, у Жадовой. Но считаю своим долгом подчеркнуть: с нашей стороны все в этих операциях совершенно законно и честно.
— Я тоже не сомневаюсь, что с вашей стороны, Дмитрий Степанович, все совершенно честно и абсолютно законно.
3
На обратном пути в Таежногорск Денис не думал ни о гипотезах знаменитых астрономов, ни о хрупкости жизни на земле… Он мучительно доискивался у себя: почему, по какой причине он, интеллигентный и вроде бы даже тонко чувствующий и понимающий других людей, заболел самой опасной следовательской болезнью — подозрительностью? На каком основании сделал из показаний Яблокова и Матвеевых такие оскорбительные для Чумакова выводы?… Какие у него объективные доказательства? По словам Яблокова, Чумаков отсутствовал в конторе, хотя предположительно должен был находиться там. Явно не криминал. В конце концов любой человек, как говорится, может выйти до ветру… Одежда была в снегу? Так Охапкин подтвердил, что Чумаков действительно инспектировал сторожевые будки.
Что же остается? Причастность к возможному преступлению Юрия Селянина. Взялись же у того откуда-то эти шальные деньги? Но пока не допрошены по лесоторговле Постников, Пряхин, Круглова, Жадова. Рано говорить и о вине Юрия Селянина.
Так думал, убеждал, корил себя Денис. И снова оживала привычная мысль о срочной надобности поменять следственную работу на преподавательскую. И в то же время где-то глубоко, словно бы тревожный крик ночной птицы из-за реки, нарождалась, крепла мысль о том, что давно канули в Лету мордатые нэпманы с мутными после вчерашней попойки глазами, которые за мелкие взятки добывали в молодых советских синдикатах пачки сапожных гвоздей для своих мастерских или дрожжи для процветающих булочных… Тревожила мысль о том, что нынешний махинатор респектабелен и безупречен в своей репутации. Он не просто в чести у начальства, он, как говорится, шествует впереди прогресса, он генератор смелых инициатив и самых благородных починов…
Нет, не парадоксы разумной жизни в галактике разрывали болью голову Дениса. Парадоксы нашего бытия. Парадоксы будничной следственной работы…
— Парадокс! Денис Евгеньевич, такой парадокс, что, как говорится, ни в сказке сказать… — с непривычным возбуждением встретил Дениса капитан Стуков.
— Что еще, Василий Николаевич? — Денис остановился на пороге и вдруг поймал себя на том, что не ждет никаких отрадных новостей: только новые загадки, новые парадоксы…
— Вот, ознакомьтесь, — Стуков подал Денису чертеж и таблицу, заполненную цифрами.
— Ничего не понимаю, что за цифирь.
— Цифирь эта свидетельствует о том, что Постников не давил Юрия Селянина, — с откровенной гордостью стал пояснять Стуков. — Разрабатывая линию Постникова, я, так сказать, дерзнул подвести под нее теоретическую базу. Есть достоверные данные экспериментальной Ленинградской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы, что молодой человек в возрасте Селянина движется со скоростью 6,8 километра в час. А человек пожилой в возрасте Яблокова пройдет за час лишь 5,3 километра. Теперь посмотрите на чертеж. Здесь я пометил ворота ДОЗа, возле которых расстались Селянин и Яблоков. Вот путь, который проделал Яблоков от ворот до крыльца дежурки, откуда он сразу же увидел автомашину Постникова. Путь этот, а я неоднократно промерял его вместе с Яблоновым и понятыми с точностью до сантиметра, составляет ровно двести метров. Теперь давайте вновь обратимся к приведенным мною расчетам. Из них вытекает, что за то время, пока Яблоков, двигаясь со скоростью 5,3 километра в час, прошел двести метров, Юрий Селянин должен был пройти по шоссе двести пятьдесят семь метров. И если бы его действительно сбила автомашина Постникова, тело Юрия Селянина было бы обнаружено именно на таком расстоянии, то есть в двухстах пятидесяти семи метрах от ворот ДОЗа. Однако труп Юрия Селянина обнаружен на расстоянии тысячи метров от ворот. Получается, что Селянин после предполагаемого наезда автомашины Постникова, после нанесения ему смертельной травмы мертвым еще прошел семьсот сорок три метра. На что даже здоровому человеку в возрасте Селянина требуется шесть минут и тридцать четыре секунды. Или, округленно говоря, получается, что Селянин после того, как на него наехал Постников, то есть после своей гибели, резво шел по дороге еще шесть с половиной минут. Чего не может быть, потому что не может быть никогда. — Стуков перевел дух после пространной тирады и заключил: — Эти шесть с половиной минут — неопровержимое алиби для Постникова. Он не причастен к гибели Юрия Селянина. И, видно, нам надо отпускать его с миром…
Денис, невольно любуясь возбужденным, откровенно гордым своим открытием Стуковым, вновь и не без зависти подумал о том, что везет же старому капитану на добрые дела, но сказал сдержанно:
— Отпускать его с миром я бы воздержался. Во всяком случае до того, пока Постников не даст показаний о своем отношении к лесоторговле, которая при Чумакове и Селянине процветала в ПМК.
И Денис стал подробно рассказывать Стукову о своем визите в ПМК.
— Словом, складывается у меня впечатление, что погибший Юрий Селянин, реабилитированный вами Постников и пока еще наши дальние знакомые Круглова, Жадова, Пряхин имели немалую корысть от операций с лесом. Хотя внешне все обставлено законно, с ведома и при попустительстве, а то и благословении Чумакова, и не только его. Роль Федора Иннокентьевича видится мне крайне двойственной: не исключено, что он окажется в положении обманутого супруга, но вполне возможно, что…
— Нет, пожалуй, дорогой Денис Евгеньевич, это невозможно. Не видели вы Чумакова. Воплощенный авторитет и честность… По части общения с товарищем Чумаковым опыт у меня богатый. И потому считаю долгом предостеречь — не спешите с версиями. На грубое нарушение закона Чумаков не пойдет. Да и то имейте в виду, что это вам не Касаткин, не удовлетворится он нашими с вами извинениями. И ни он сам, ни его многочисленные покровители в области и в Москве не простят нам малейшего ущемления его достоинства и тем более свободы. Тут, Денис Евгеньевич, хотите, не хотите ли, не только моя седая голова, но и ваша буйная и красивая полетит с плеч…
Как много раз в общении с капитаном Стуковым Денис не мог не отдать должного житейской правоте и даже умудренности Василия Николаевича. За восемь лет следственной работы Денис и в собственной практике, и в практике своих коллег мог с горечью припомнить случаи, когда чье-то покровительство оказывалось значимым и заведомые негодяи иногда выныривали, что называется, сухими из воды…
Так, может быть, стоит послушаться Василия Николаевича и не пытать лишний раз судьбу? Ведь на работу в университет из УВД надо переходить по собственному желанию и с незапятнанной репутацией.
Так чего проще… Продублировать постановление Стукова о прекращении дела по факту гибели Юрия Селянина. Ведь версия о наезде на Селянина автомашины Постникова, для проверки которой и командирован в Шарапово капитан Щербаков, рухнула с треском. А версию о несчастном случае с нетрезвым Селяниным, упавшем, согласно акту судебномедицинской экспертизы, с высоты собственного роста, не опровергнет даже Пленум Верховного Суда СССР. И никто не предъявит к нему никаких претензий. В конце концов никто: ни начальник следственного управления, ни начальник УВД не поручали Денису Щербакову расследовать возможные преступные махинации с лесом в Таежногорской ПМК «Электросетьстроя» и доискиваться до фактов, набрасывающих тень на безупречный облик Федора Иннокентьевича Чумакова…
Может быть, в эту не единственную для него минуту слабости Денис и поколебался бы в своей решимости продлевать командировку, удлинять разлуку с отцом и Еленой, но Стуков заметил с усмешкой:
— Я вам еще не все доложил: наш общий знакомый Пряхин Валентин Павлович в последние дни ведет себя очень странно. Вдруг надумал продавать дом, «Москвич» свой № 11 — 11, на котором он перекатал всех здешних девок. Отпуск вдруг взял среди зимы, гоняет на своем «Москвиче» по району. Родня у него большая, развозит ребятишек по дядькам и теткам. А между прочим, каникул в школе нет. Может, это потому, что на днях ушла от него жена. Всегда был, простите за выражение, жизнерадостным придурком, а сейчас ведет себя очень нервно. Или у меня сверхбдительность?…
— По-моему, никакая это не сверхбдительность, а очень ценное сообщение. Давайте-ка, Василий Николаевич, навестим вместе Пряхина. Не хранит ли его назначенный к торгам дом нить Ариадны от лабиринта Таежногорской ПМК…
— Нет, его жену зовут Зинаидой, — засмеялся Стуков.
4
Когда Денис со Стуковым миновали просторные сени дома Пряхиных, в кухне их встретил хозяин столь низкорослый и тщедушный, что, если бы не морщинистое лицо и лысина в седеющих волосах, его можно было принять за мальчика.
Испуганно взглянув на Стукова, Валентин Пряхин попятился, как щитом загораживаясь голозадым ребенком на руках, и вдруг сказал почти обрадованно:
— Сами, значит, явились! А то ведь я из дому не могу отлучиться…
— Что вдруг в такой восторг вошел, гражданин Пряхин? — строго спросил Стуков. — Или пьян снова?
— Ни слезинки, ни капельки во рту с того дня, как ездил в Еловку с телеграммами… К тому же исполняю обязанности детной матери. Зинка опять дверью хлопнула и подолом вильнула. А ребятню — на меня. А их у меня пятеро, старшему двенадцать, — заглядывая в глаза Денису, объяснил Пряхин.
— С очередной любовью накрыла тебя, бедного? — кольнул Стуков.
— Где там! — с искренним сожалением вздохнул Пряхин, — монашествую, Василий Николаевич, который месяц. А Зинку предчувствие взяло. «Посадят, говорит, тебя, Валентин, вместе с твоей толстомясой Надькой. А я, говорит, не хочу с арестантом иметь дела. Как творили махинации с Надькой, так и расхлебывайте». Вот и ушла. Теперь бобылем живу. И стал я готовиться, когда моя милиция, которая меня стережет, явится за мной… Развез старшеньких по родичам. Даже кум одного взял, а на малого пока опекуна не нашлось. Вот и задерживаюсь к вам с повинной. Но, думаю, войдете в мое положение. Зачтете мне явку с повинной, поскольку все вещественные доказательства налицо. Вот котомка, бельишко в ней, сухарики, сальце, сигареты и любимый роман «Женщина в белом» А вот то, что преступно нажито, из-за чего пришлось собирать котомку… — Он с неожиданной ловкостью, как баскетбольный мяч в корзину, кинул младенца в кроватку, и тот, должно быть, привыкнув к такому обращению, даже не пикнул…
Пряхин вынес из комнаты ученический портфель, с видом фокусника встряхнул его и вывалил на стол перевязанные ленточками пачки денег.
— Вот они. Четыре тыщи четыреста сорок рублей. Все свои нетрудовые доходы возвращаю государству, — горестно вздохнул и сказал с неподдельной печалью: — А ведь был Валентин Пряхин человеком высокой честности и прозрачной морали. Пришел на станцию рядовым счетоводом, вырос до крупного руководителя, заведовать стал всей лесопогрузкой и все платформы под лес сосредоточил в своих руках.
— А вы не могли бы яснее насчет нетрудовых доходов, Валентин Павлович? — напомнил Щербаков.
— Так все яснее ясного, — приободрился от его обращения Пряхин. — Район у нас, можно сказать, сплошь в зеленом золоте. И государство здесь лес добывает, и от республик Средней Азии есть леспромхозишки. А еще высоковольтники стали лесоповальщиками. И вот товарищ Круглова Лидия Ивановна, а она, между прочим, хорошая подруга Надежды Гавриловны Жадовой, стала у высоковольтников лес этот закупать для среднеазиатских колхозов. А вагонов-то у нее нет. Вот начальник станции Жадова и дала мне указание выделять товарищу Кругловой вагоны вне очереди и вне плана. Ослушаться я не мог. Приказ начальства.
— Не безвозмездно, как я вижу, исполнили приказ то…
— А кто теперь что делает безвозмездно? — горячо, с чувством собственной правоты возразил Пряхин. — Я прошлый год был в командировке в Москве. — Он смущенно поскреб лысину. — Между нами, мужчинами, откровенно познакомился там с шикарной дамой, каких в Таежногорске и во сне не увидишь. Решил быть на уровне, пригласил ужинать в ресторан. Отказа, понятно, мне нет. Перво-наперво, я в Сандуновские бани. Как консультировал однажды Федор Иннокентьевич Чумаков, когда мы, здешние руководители, парились в местной сауне… Массаж, этот самый педикюр сделал. Оплатил все, как положено. Обслужили, правда, честь честью. Аж обдули всего. А потом такую «благодарность» потребовали, что я в этих Сандунах ползарплаты оставил. Рады, говорят, еще вас видеть у себя… Пошел в салон сделать прическу, опять должен мастера отблагодарить. Я уж про официантов молчу. Можете мне сказать: «Поделом тебе, блажь свою тешил». Но вот просрочил я с той дамой командировку, домой вылетать надо срочно. Билетов нет. Бывалый человек шепнул мне: ты, мол, десятку в паспорт сунь и подай кассирше. Я подал, а она возвращает мне паспорт, смотрит на меня бесстыжими глазами и говорит: «Пятнадцать!» Выходит, такса у этой кассирши была установлена… У нас район, глушь, а вот тоже был случай. Поцарапал я свою машину, срочно нужно отремонтировать, чтоб Зинаида ничего не узнала. Приехал в Автосервис, мне говорят: «Можно и срочно». И такую цену заломили, что ни в одном прейскуранте не найдешь. Взяточники нахальные! Так что, как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Вот и положил я с Кругловой по два червончика за платформу…
— Значит, по принципу: вы с меня — я с вас, — начал Денис и не сдержал печального вздоха. — Причем когда с меня — взятка. А когда мне: «Хочешь жить — умей вертеться…»
Он сказал это и замолк надолго. Невеселыми были его мысли, да такими, что вслух не скажешь. Пряхину нельзя отказать в житейской наблюдательности, известной сметке и даже склонности к анализу. Все обозначенные им факты, как пишут в официальных бумагах, иногда еще имеют место… Конечно, можно утешить себя тем, что ловелас и пройдоха Пряхин поделом был наказан другими такими же пройдохами. Но наша общая беда в том, что чужеродную нам тягу к шикарной жизни проявляет не только этот сорокапятилетний Валька Пряхин. А вот ты, Денис Щербаков, юрист, потенциальный ученый муж?… Честный человек, который никогда не возьмет и не даст никому взятки… Разве ты не поощряешь это явление?!. Шофер такси с озабоченным видом очень медленно отсчитывает сдачу. Так медленно, что тебе становится совестно сидеть и ждать перед раскрытой дверцей, ровно водитель дает тебе подаяние. И ты, невнятно буркнув слова благодарности, выходишь и вздыхаешь с облегчением лишь после того, как машина вместе с принадлежащими тебе монетками рванет с места… Солидный гардероб уважаемого учреждения культуры. Седовласый, похожий на английского лорда гардеробщик мягко, но настойчиво отстранит от пальто твою руку, с нежностью облачит тебя в него, водрузит тебе на голову шляпу, благоговейно смахнет с тебя невидимую пушинку и преданно и благодарно станет засматривать тебе в глаза. И твоя рука автоматически скользнет в карман, где лежит заранее приготовленный на этот случай гривенник, и он со звоном упадет в стоящую за барьером тарелочку…
И вдруг из глубины памяти, из далекого детства Дениса наплыли кинокадры… Матросы в черных бушлатах под иссеченным пулями знаменем в последних смертных атаках… Болезненно исхудалые комиссары в затертых кожанках на утлых островках трибун над бушующим людским океаном…
Так неужели бы они позволили, чтобы священные эти кожанки и бушлаты лапали лакейские руки? И разве поверили, смирились бы они с тем, что их дети и внуки позволят такое?… Почему же мы, встречаясь иногда с подобными фактами нередко забываем о тех бессмертных бушлатах и кожанках?!.. Почему незаметно выходит из обихода хорошее русское слово «спасибо» и понятие благодарности для очень многих становится синонимом денежной или вещевой подачки?!
— Что же, правильно. Ты мне, я тебе, — откуда-то издалека раздался голос Пряхина. Валентин даже блеснул эрудицией: — Как сказано в науке, сумма цен товаров равна сумме их стоимости. Я так понимаю: я приплачиваю, скажем, банщику, а Круглова компенсирует мне эти расходы. Государство не становится беднее, поскольку деньги, которые в обращении, просто переливаются из кармана в карман.
— И сколько же вы презентовали Кругловой платформ? — спросил Стуков. — Сколько «перелили» в свои карманы?
— Я подытожил точные данные. Двести двадцать две. В среднем на шестьдесят-семьдесят кубиков на платформе. С Кругловой за это — два червонца. Я не горлохват какой!.. Другие берут дороже.
— Тоже такса сложилась? — брезгливо спросил Денис.
— Вроде бы так. Надежда Гавриловна разъясняла… — Пряхин вздохнул и продолжал даже с некоторым самодовольством: — Положа руку на сердце, граждане милиция, не вижу я за собой большой вины. Без меня, то есть без моих платформ и козловых кранов, эта самая Круглова сидела бы здесь на своих бревнах, а хлопкоробы Средней Азии ютились бы в глинобитных домиках.
— Следовательно, вы пользовались современной техникой при погрузке — козловыми кранами, — заметил Денис. — Грузили тонкомер и порубочные отходы?…
— Сколько там его было, тонкомера этого. Больше деловая, я бы сказал, отборная древесина.
— А кто подвозил ее на железнодорожную станцию?
— Лидия Ивановна и сама договаривалась с шоферами, и Игорь Петрович Постников помогал ей транспортом.
— А Постников тоже не брезговал сухой ложкой, которая, говорят, рот дерет? — усмехнулся Стуков.
— Точных сведений не имею. Знаю только, что Игорь Петрович испытывал к Лидии Ивановне возвышенные чувства.
— А ваша начальница, Надежда Гавриловна Жадова, тоже не брезговала «барашком в бумажке»? — спросил Денис.
— Мне она не докладывала, — замялся Пряхин. — Могло, конечно, быть всякое. Но вагонами для Кругловой она распоряжалась сама.
— А знала она про ваши два червонца за платформу? — спросил Стуков.
— Сама установила таксу. И наказывала: не зарывайся, Валентин.
— Вы давали Жадовой деньги?
— Нет, у них были свои расчеты с Кругловой.
— С Постниковым вы были в хороших отношениях?
— Да не в плохих, в общем. Много раз за одним столом сидели вместе.
— Не можете припомнить: не имел ли он разрешения от товарища Чумакова на использование автомашин и автокранов для вывозки Кругловой леса с просек ПМК?
— Что вы! Что вы! — подпрыгнул на стуле Пряхин. — Постников и заикнуться бы не посмел об этом Федору Иннокентьевичу Уж если кто и стоит на страже государственных интересов, так это товарищ Чумаков. Круглова частенько его, в своем кругу, конечно, костерила. Зимой, мол, снега не выпросишь. Ни машин, ни рабочей силы не включил в договор. Даже в тросе несчастном отказал, пришлось Постникову трос этот в городе у какого-то деляги покупать.
Денису снова, как в кабинете Афонина, показалось, что в этой обставленной на старокрестьянский лад кухне незримо присутствует при разговоре четвертый — Федор Иннокентьевич Чумаков. Очень мобильный товарищ: то выступит на первый план во всем блеске и объеме, то скроется в такой глубокой тени, что не различишь ни лица, ни фигуры.
— Котомку-то давно собрал, Павлович? — спросил Стуков.
Пряхин встал, повернулся к нему спиной, взял из кроватки заревевшего густым басом малыша, покачал его, подождал, пока он затих и сказал:
— А как Постников и Жадова известили меня, что вы, Василий Николаевич, шибко нашими гостеваниями у Жадовой интересуетесь, да отправили с телеграммами аж в Еловку. А тут еще запрос пришел от вас про вагоны на Среднюю Азию. И понял я, что погорел Пряхин Валентин Павлович…
— Только ли вагоны для Кругловой грызут вам совесть?
— Только. Только с них имел я навар. Остальные шли по графику и за ту зарплату, которую платило мне мое государство. Вот и решил я двинуть с повинной. Может, родная милиция войдет в положение. Пятеро все-таки на моих руках малолеток, а Зинка деру дала. Машину продал, задаток по расписке получил — четыре тысячи.
— А дом зачем продавать надумал? — со вздохом спросил Стуков.
— Если уж по-честному, так конфисковать ведь можете. Да и Зинке, стерве, в отместку. Меня бросила… Дом-то мой, наследственный, от деда еще… Как хочу, так и ворочу.
— Ну, вот что, Валентин Павлович, — поднялся со стула Денис. — Котомку вы собрали не зря. Она вам пригодится. Но мы пока вас под стражу брать не станем, поскольку вы исполняете обязанности… детной матери да и ведете себя искренне. Ограничимся до суда подпиской о невыезде. Явитесь завтра утром ко мне в райотдел. А сейчас оформим акт о сдаче вами денег, о вашей добровольной явке с повинной. Думаю, это не противоречит истине.
Когда Денис и Стуков вышли из дома Пряхиных на улицу, Василий Николаевич спросил:
— Ну что, Денис Евгеньевич, нашли вы свою желанную нить Ариадны? Или это нить Зинаиды?
— Кажется, пока только Зинаиды. А если всерьез… Мы с вами установили только то, что за вагоны Круглова давала взятки Пряхину и, скорее всего, Жадовой. Видимо, без этой дамы здесь каша не варилась. И что вместе с тонкомером грузили деловой лес. Но даже и при этом, вполне возможно, Чумаков действительно скалой стоял на страже государственных интересов…
Они остановились перед газиком, который должен был доставить их в райотдел. Денис удержал руку Стукова, потянувшегося открыть дверцу, и сказал:
— Василий Николаевич, мне кажется, пришло время писать по начальству рапорт: «Для выполнения неотложных следственных действий…» Словом, выправляйте литер до солнечного города Ташкента да ставьте по своим каналам в известность ваших узбекских коллег, чтоб не спускали глаз с гражданки Кругловой Лидии Ивановны, если, конечно, после телеграммы Жадовой она не растаяла в сиянии голубого дня. А сами вы, Василий Николаевич, первым же ташкентским авиарейсом навстречу среднеазиатской весне. И на встречу с гражданкой Кругловой. Там организуйте товарную экспертизу леса, поступившего из Таежногорской ПМК, если действительно под видом тонкомера шла деловая древесина, возьмите Круглову под стражу, этапируйте сюда. Похоже, что это хищная и крупная птица.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
В райотделе навстречу Щербакову и Стукову поднялся рослый черноволосый и черноусый мужчина. Одернул форменный китель и доложил:
— Таежногорский участковый инспектор старший лейтенант милиции Сомов.
— А я представлял вас совсем молодым… — сдержанно сказал Денис.
— Вообще-то товарищ Сомов в нашем райотделе один из самых глазастых участковых, — мгновенно разгадав подтекст слов Дениса, уважительно подчеркнул Стуков.
Сомов, пряча смущение, кашлянул в кулак и заговорил:
— Спасибо, Василий Николаевич, на добром слове. Но чего уж теперь… В песне-то про нас поется правильно: «Служба дни и ночи». А в жизни нашей, инспекторской, да еще на таком вот участке, служба и вовсе бессонная… А ведь участковый тоже человек. Могут выдаться у него и крестины, и именины, и свадьбы, и похороны. И хозяйство опять же требует свое время. А тебя в любой час и с покоса, и с полка в баньке, и из-за свадебного стола призывают к исполнению…
— С чем прибыли, старший лейтенант? — давая понять, что неприятная для всех троих тема исчерпана, спросил Денис.
— Воротясь из отпуска, — с облегчением начал Сомов, — получил я указание немедленно информировать райотдел о появлении в поселке новых лиц. Так вот, вчера на наш аэродром, не знаю, заинтересует ли вас это или нет, прибыл товарищ Чумаков. Его встречали на машине Афонин и Постников. Товарищ Чумаков весь день провел в конторе ПМК, а вечером проведал Павла Селянина и Кузьму Яблокова. Чудно! Филиппыч говорит: раньше его Федор Иннокентьевич не наведывал никогда, а тут прямо-таки зазывал с собой на охоту. После чего выехал в районные руководящие организации. — Сомов выжидательно взглянул на Дениса. Тот слегка улыбнулся и сказал:
— Очень интересует нас ваше сообщение, товарищ Сомов. Несите свою трудную службу и дальше. — И, обращаясь к Стукову, продолжал: — Следовательно, завтра у меня с Чумаковым первое свидание. Давайте, Василий Николаевич, условимся так: о ваших выводах в отношении Постникова никому ни слова. Пусть Постников пока походит в подозреваемых, тем более, что его роль в махинациях с лесом неясна.
— На первое свидание товарища Чумакова повесткой известить или вызвать по телефону? — спросил Стуков.
— Ничего не предпринимайте. Он явится сам.
2
Он действительно явился и сразу заполнил собой всю небольшую комнату: рослый, выхоленный, словно бы излучающий основательность, добротность, надежность. И тотчас же почти ослепил Дениса горячим блеском темно-серых выпуклых глаз и сахарно-белых зубов в широкой улыбке.
Еще не здороваясь, по-хозяйски скинул со своих плеч и неспешно водрузил на вешалку пальто с шалевым норковым воротником и норковую шапку, делавшие его неуловимо похожим на старомосковского барина прошлого века — либерала, гурмана и члена Английского клуба.
Вальяжно подошел к столу, с той же ослепительной улыбкой протянул Денису руку и произнес переливчато:
— Чумаков Федор Иннокентьевич.
Денис назвал себя и не без удивления подумал о том, что, кажется, почти десятилетняя следовательская практика и почти бессонная ночь в ожидании встречи с этим человеком, за долгие часы которой Денис один за другим прикидывав и браковал варианты своего поведения в предстоящем разговоре с Чумаковым, оказались совершенно напрасными. Правила игры в этой встрече станет задавать не он, капитан милиции Денис Щербаков, а этот искусный в житейской дипломатии человек.
Злясь на себя за излишнюю предупредительность тона. Денис сказал:
— Садитесь, пожалуйста.
— Благодарю вас, — с достоинством ответствовал Чумаков, основательно утвердился на стуле, вновь разулыбался и молвил:
— Заглянул, так сказать, на старое пепелище. Начальник этого учреждения, Михаил Григорьевич Нестеров, — давнишний мой сотоварищ по охоте. Только подполковник сейчас на сочинском солнышке запасает калории. Словом, потоптался я по коридору да незванно-непрошенно нагрянул к вам. Исправить неловкость, которую допустил в нашем суматошном телефонном разговоре. В общем, простите великодушно, Денис Евгеньевич. И, как говорится, забудем.
— Забудем, — чуть растерянно повторил Денис.
Такое начало разговора никак не укладывалось в ночные прогнозы Дениса. Ожидал, что Чумаков с порога станет возмущаться задержкой Постникова, а Чумаков настроен на самый мирный светский разговор, который может позволить себе человек, уверенный в благополучном исходе этого разговора. На красивом диковатой красотою лице Федора Иннокентьевича нет и тени тревоги.
— Вот, значит, вы какой, Денис Евгеньевич Щербаков — старший следователь и прочая, и прочая… — Чумаков щедро обдал Дениса теплом своего взгляда и вдруг продекламировал: — Здравствуй, племя, младое, незнакомое!..
— Незнакомое — верно, — удивляясь тому, с какой легкостью и непринужденностью уходит Чумаков от главной цели своего визита, с усмешкой подтвердил Денис. — Но такое ли уж младое?
— И не говорите, Денис Евгеньевич, младое, — горячо возразил Чумаков. — Конечно, если по паспорту считать, по меркам демографической науки мы с вами, в общем-то, в рамках одного поколения. Вам, как я понимаю, тридцать, мне сорок два. Но если помнить крутые уроки истории, мы с вами представители разных поколений. Между нами — война со всеми ее последствиями…
— Но вас тоже миновала окопная юность, — довольно сухо напомнил Денис, давая понять Чумакову, что тому пора переходить к истинной цели своего визита. А истинной целью могли быть лишь судьба Постникова и проявленный следователем интерес к операциям с лесом в разговоре с руководством ПМК. О чем, естественно, Федор Иннокентьевич иноформирован досконально.
Однако Чумаков вроде бы даже и не заметил сухости тона Дениса. Лицо его притуманилось скорбью, поостывший взгляд устремился в себя, и заговорил он очень проникновенно о том, что, видимо, действительно не гасло в его душе:
— Совершенно справедливо заметили: в окопах не сидел, в атаки не ходил, рожей в грязь не плюхался под бомбами. Орденов за ратные подвиги, естественно, не имею… В июне сорок первого мне было три года. — Чумаков, не то скрывая волнение, не то нарочито выплескивая его, похлопал себя по карману, извлек пачку сигарет, радушно протянул ее Денису: — Не угодно?
— Спасибо, не курю, — сказал Денис, думая о том, что вроде случайно предложенный Чумаковым поворот в их разговоре позволит и ему, Денису, вооружиться любопытными фактами.
— Кабы не проклятый июнь сорок первого года, — разгоняя рукой облачко дыма, продолжал Чумаков, — вырос бы я интеллигентным сыном интеллигентных родителей. Ходил бы в музыкальную школу со скрипочкой в футляре, учился бы в средней школе с английским, а то и французским языком… и был бы не технарем, как сейчас, а наделенным звучными титулами комментатором нетленных шедевров мировой культуры. Родители-то мои получали зарплату в Московской филармонии. О скрипочке в футляре вспомнил я не для красного словца. Мне исполнилась всего неделя, когда отец с матерью получили дипломы Московской консерватории. По этому случаю прославленный профессор презентовал отцу старинной работы скрипку, на футляре которой была монограмма: «Иннокентию Чумакову и его сыну Федору с искренней надеждой…» В октябре сорок первого отец и мать — говорят, она была талантливой певицей — добровольно отправились под Можайск в составе фронтовой концертной бригады. И погибли во время концерта от одной немецкой бомбы. В наследство от родителей мне осталась скрипка с обязывающей надписью маэстро на футляре да недописанное письмо отца, в котором он восторженно напоминал, что скрипка — лучший инструмент на земле, основа симфонических оркестров и инструментальных ансамблей. И завещал мне, чтоб я никогда не изменял скрипке. Словом, призывал к творческому подвигу… Однако и скрипку, и отцовское завещание воспринял я много позже со слов сестры отца — тети Шуры. Она стала мне опекуном и первым наставником в жизни. Была она человеком не шибко большой грамоты, крутого нрава, отоваривала продуктовые карточки в закрытом распределителе. Так что голодуха военных лет нас миновала. Но в девятом классе остался я совершенно один. Померла тетя Шура. Мешок с сахаром подхватила в недобрый час. Пришлось мне кормиться одному. Тогда-то, чуть ли не ребенком, на всю жизнь открыл я важную истину: ни одна копейка не дается даром, а в рубле копеек этих сто… Как же тяжело мне доставались эти рубли-копейки. Случайная работенка, скудные харчи, а чаще и вовсе впроголодь. И все-таки хватило сил вырвать в школе золотую медаль и двинуть в институт. В Московский энергетический!.. Жаждал строить линии высокого напряжения. Так сказать, артерии жизни современной цивилизации.
Чумаков торжественно, точно гимн услышал, поднялся со стула, размашисто шагнул за спину Дениса, сделал второй шаг, но ударился грудью об угол сейфа. Однако же продолжал с пафосом:
— А годы-то были романтичнейшие… Старт широкого наступления на Сибирь, Братская ГЭС, Красноярская ГЭС, песню пели: «ЛЭП-500 — не простая линия…» Ради будущего диплома я разгружал вагоны на станции Москва-Сортировочная, сторожил ларьки на Цветном бульваре, подметал асфальт на Садовом кольце. Словом, был, по Федору Достоевскому, униженным и оскорбленным. И подобно его любимому герою Родиону Раскольникову — в гордости своей уязвлен сильно. Не стану скрывать, честолюбив был тоже не менее его. Однако же старушку-процентщицу не убил. — Чумаков усмехнулся. — Хотя страдал от хронического безденежья. И завидовал моим однокашникам, кого в те времена называли стилягами. Честно вам скажу, от поисков той процентщицы спасла меня повышенная романтичность в оценке своей профессии. Виделся я себе этаким Ермаком Тимофеевичем эпохи НТР во главе дружины высоковольтников на сибирских просторах. В конце концов достиг кое-чего. Недавно прикинул — за семнадцать лет после института я эти «непростые линии» протянул больше чем на половину земного экватора. Не обижен по службе. Ценят в нашем самом многопрофильном в Союзе министерстве. И ордена появились. Словом, не зря жизнь живу: хотя течет она при ЭВМ и опорах, а вот отцовская скрипка в футляре покоится на антресолях… На черный день… Знатоки утверждают — целое состояние…
По мере того как Федор Иннокентьевич нанизывал подробности своей далеко не прямой и не гладкой жизни, Денис проникался к нему все большим сочувствием. Когда же Чумаков, пусть несколько высокопарно, заговорил о своей романтической профессии, о том, что проложенными им высоковольтными линиями можно опоясать половину земного экватора, Денис почувствовал, что близок к тому, чтобы разделить всеобщее восхищение этим человеком. Следователь Денис Щербаков верил, что, независимо от возможных конфликтов Чумакова с законом, перед ним мастер своего нелегкого дела, человек, могущий и имеющий право вести за собой людей.
А Федор Иннокентьевич вопросительно взглянул на Дениса, улыбнулся грустно и сказал:
— Играть на скрипке я так и не научился. И даже не знаю, есть ли у меня музыкальный слух. Пою, простите, только на дружеских застольях. — Чумаков снова разулыбался ослепляюще и радушно: — Так, может быть, мы с вами сочиним его, застолье-то? Не до песен, конечно, а так, по рюмочке коньячку для приятной беседы. Время обеденное. Как вам эта идея? — И, заранее уверенный в согласии Дениса, поднялся, снял с вешалки шапку.
«Мелковато, — оценил мысленно Денис. — Неужели только ради рюмочки коньячку проведена эта словесная артподготовка?» Но сказал с искренним дружелюбием:
— На службе ведь я, и коньяк-то нынче…
— Дороговат, хотите сказать? — озорно подхватил Чумаков. — Так ведь не дороже жизни, Денис Евгеньевич. А жизнь-то, она ой как дорога и быстротечна. И надо следовать советам врачей: дышать свежим воздухом. А у вас душновато здесь и, пардон, очень уж неуютно, казенно.
— Да, с вашим бывшим кабинетом в ПМК не сравнишь, — радуясь тому, что Чумаков намерен продолжить разговор, и, возможно, удастся вывести его на более близкую к существу дела орбиту, согласился Денис.
— И с нынешним в тресте тоже, — как бы мимоходом пробросил Чумаков. — А здесь, прямо скажу, бедновато.
— Да, небогато. — Денис хотел было ограничиться этим лаконичным признанием, но, мгновенно оценив выгоды для себя случайно поднятой Чумаковым темы, продолжал словоохотливо: — Пока небогато. Но убежден — не за горами время, когда построим подлинные Дворцы юстиции, Дворцы правосудия, внушающие гражданам благоговение перед законом.
— А вы, Денис Евгеньевич, простите, фантаст! Да еще пылкий! Дворцов культуры покуда не достает. Жилья, знаете ли… А вам Дворцы правосудия подавай, и не менее того… — Он заговорил горячо, с неподдельным волнением, как произносил, должно быть, речи с самых высоких трибун: — Слышали, возможно, в первые годы революции песня была: «Церкви и тюрьмы сровняем с землей». Тоже, знаете ли, фантазировали пылко. А в реальности-то сегодня и церковный благовест слышен, и тюрьмы, как их там ни называйте «следственный изолятор», «колония», функционируют, и достаточно интенсивно. И сровнять их с землей время еще не приспело. Воруют, дорогой Денис Евгеньевич, и много. И в пьяном виде физиономии ни за что ни про что кровянят. И другие совершают более тяжкие эксцессы. А ведь шестьдесят с лишком лет прошло. Не сровняли! Не вышло! Думаю, и за сто лет не сровняем. Так сказать, вечная проблема! — закончил он с неожиданным торжеством.
— Снимем! Снимем, Федор Иннокентьевич, эту вечную проблему, как сняли многие другие, не менее жгучие. Сровняем тюрьмы с землей. Вы говорите: не вышло за шестьдесят лет! Они же полны драматизма, борьбы, лишений. В первые годы революции решение многих социальных проблем виделось простым и однозначным. Считали, что социализм автоматически снимает «вечные проблемы». Но на то они и первые годы… Покончили же за эти шестьдесят лет — это факт и вместе с тем наша гордость, — покончили с профессиональной преступностью. У нас нет гангстерских синдикатов и всюду проникающей мафии. Но вот мелкие воришки, карманники еще есть, и есть, так сказать, более «интеллигентные» — казнокрады, взяточники, спекулянты — еще не вывелись. Для их скорейшего искоренения потребны и Дворцы правосудия, и специальные службы, и названные вами специальные учреждения…
Чумаков невозмутимо и вроде бы согласно кивал в лад словам Дениса. Потом заметил с покровительственной ухмылкой:
— Вот спасибо вам, просветили меня, темного. Значит, снова виноваты во всем пережитки проклятого капитализма?
— В немалой степени — да! Частнособственническая идеология уходит корнями в глубокое прошлое. И она очень живуча. Но списывать все наши беды, живучесть преступности только на пережитки — это крайне облегченный ответ. Тут множество аспектов: нравственные, экономические, гражданские и, если хотите, даже биологические. Нельзя забывать известных противоречий нашей жизни. Социализм еще не устраняет имущественного неравенстве граждан. Это порождает у какой-то части людей жажду стяжательства, накопительства. А различные диспропорции, дефицит? Это же питательная среда для спекулянтов. Ну, а пьянство, безнравственность, моральная распущенность, жестокость иных субъектов… Словом, обществу нужны Дворцы правосудия,
нужно привитие каждому гражданину благоговения перед законом…
Чумаков помолчал, обдумывая услышанное, и сказал ухмыляясь, только ухмылка стала зыбкою — не то по-прежнему покровительственной, не то грустной:
— В общем-то, убедительно, Помогай вам бог в вашем многотрудном деле. Осточертела честным людям преступность. Только, простите, ваша ли это стезя? Не в обиду будет сказано, вы — не бесстрастный страж закона, а скорее проповедник, лектор.
«И отлично, — порадовался Денис. — Похожу покуда и в проповедниках». А вслух дружелюбно сказал:
— Вам нельзя отказать в проницательности. Перед отъездом сюда была у меня мысль расстаться со следственной работой и пойти на кафедру в университет. Но вот срочная командировка сюда и… — Денис взмахнул рукой, намеренно обрывая фразу.
По мнению Дениса, Чумаков просто не мог не задать вопроса, что изменило жизненные планы следователя и привело его в Шарапово.
Однако Чумаков ни о чем не спросил, а как бы мимоходом сказал:
— Собрались в университет? Так у меня же ректор, профессор Медников, можно сказать, близкий друг. По субботам частенько сходимся за пулькой. Если будет нужда, готов поспособствовать…
— Спасибо. Я уж как-нибудь сам.
— Как хотите, — покладисто сказал Чумаков. И, против ожидания Дениса, опять пустился в философствование:
— Верно сказано: «Человек предполагает, а бог располагает». Вы, стало быть, на кафедру, а вам — командировочку в Шарапово. Вот и размышляйте в этом Шарапово о причинах живучести преступности да ворошите прошлое, в который раз уже проверяйте, что именно стряслось два года назад с Юрием Селяниным. Нелегок ваш хлеб, не позавидуешь. Столько хлопот, и все ради чего? Единственно ради того, чтобы поменять подследственного Касаткина на подследственного Постникова…
Наконец-то произнесено имя человека, ради которого, конечно же, и пришел сюда Чумаков и, умело отвлекая Дениса от главной цели визита, все-таки пришел к ней. Конечно, сказать, что Постников не виноват в гибели Селянина, Денис счел преждевременным и промолчал, стойко выдержав вопрошающий и нетерпеливый взгляд Чумакова.
Так и не распознав реакции собеседника, Чумаков продолжал не без пафоса:
— Ах, Постников, Постников! И как только я, старый волк в кадровых вопросах, мог совершить такую ошибку. Я уже приказ заготовил поставить его главным инженером треста!
Денис вежливо улыбнулся и, переходя в контратаку, спросил подчеркнуто равнодушно:
— И что же помешало вам отдать ваш приказ?
Чумаков мог безупречно владеть собой и все-таки на мгновение, на одно лишь мгновение что-то дрогнуло в его лице.
— Шутить изволите. Постников у вас в обвиняемых ходит. Плакался мне в жилетку. И улики против него самые веские. Видел же рабочий Яблоков на шоссе его автомашину с брезентовым тентом. Яблоков и тогда твердил об этом, но Касаткин спутал все карты и вам, и мне.
— Но Постников не признает себя виновным, — подбросил хворосту в огонь Денис. — Говорит, что в этот вечер безвыходно сидел дома.
— Это как же дома?! — гневно зарокотал Чумаков. — Он же сам перед отъездом сюда открылся мне, что в тот вечер мертвецки пьяным вел машину и в кабине с ним была его подружка Круглова. Кто же кроме Постникова мог задавить Селянина…
«А на предварительном следствии вы, товарищ Чумаков, настаивали, что всему виной сильное опьянение Селянина…» — отметил про себя Денис.
— С вами Постников откровенничал. Верил вам как близкому и доброжелательному к нему человеку, а с нами запирается. — Денис замолк, снова взвешивал то, что должен был сказать сейчас, уже не мог не сказать, даже, возможно, вселив этим в Чумакова враждебность к себе. Враждебность, которая будет сильно мешать дальнейшей следственной работе с этим очень искусным в житейской тактике человеком. И пробросил как бы мимоходом: — И правильно делает, что не признает себя виновным в гибели Селянина. Надо уметь стоять за себя. За свою свободу, за свое доброе имя…
Выпуклые большие глаза Чумакова на мгновение стали еще больше. Но голос остался спокойным, доброжелательным, даже ироничным.
— Простите, не понимаю подтекста. Я все время полагал, что беседую со следователем. А оказывается, говорю с адвокатом.
— Нет, вы беседуете именно со следователем, — сказал Денис и, стремясь хотя бы в порядке психологического эксперимента поколебать невозмутимость собеседника, побудить его к опрометчивым словам и поступкам, продолжил: — Со следователем, коллега которого, капитан Стуков, к счастью для Постникова, для исхода всего дела, произвел тщательные расчеты скорости движения по дороге Селянина… — Денис подробно изложил Чумакову сущность этих расчетов. — Согласитесь, выводы Стуков сделал сенсационные.
— Воистину, с вами не соскучишься, — сказал Чумаков без прежней бархатистости в голосе. — Прямо-таки шкатулка сюрпризов. Но позвольте мне, грешному, и попенять вам. Все-таки я руководитель вышеозначенного Постникова, могли бы, как говорится, поставить в известность о его алиби и без внешних эффектов.
Денис с удивлением уловил глубоко в себе нечто похожее на профессиональную гордость: оказывается, непробиваемый, неуязвимый Чумаков, как и все люди, подвержен и волнению, и растерянности. Похоже, что своим сообщением Денис попал в самое больное, самое уязвимое место этого человека. Теперь Денис знал точно: Чумакову больше всего на свете хотелось обвинить Постникова, сделать его ответственным за смерть Селянина. Почему?
— Поверьте, Федор Иннокентьевич, никаких эффектов, — дружелюбно сказал Денис и даже руками развел: виноват, мол, что получилось так нескладно. — Сказал вам об этом, когда пришлось к слову. До этого я с удовольствием слушал вас. А вообще-то, сообщил вам совершенно доверительно. Тайна следствия не подлежит разглашению.
— Тогда, если это не еще более страшная тайна следствия, может быть, посвятите, почему освобожденный от обвинения Постников до сих пор не знает об этом и ему не разрешен выезд из Таежногорска?
— Так он же в служебной командировке в Таежногорской ПМК и даже призвал вас прибыть для решения кардинальных вопросов перспективного развития колонны. — Денис с невозмутимым видом достал папку, вынул из нее телеграфный бланк, подал Чумакову. — Получали, Федор Иннокентьевич?
— Получал, — даже не заглянув в текст телеграммы, подтвердил Чумаков. — Разочарован я вами, товарищ Щербаков. Больны вы подозрительностью. Это что же такое получается? Похоже, вы даже за моей служебной перепиской установили контроль?
Сделав вид, что не слышит и не замечает гнева в голосе Чумакова, Денис заметил спокойно:
— А между прочим, по мнению Афонина, в вашем прибытии сюда не было срочности.
Длинные, с выхоленными ногтями пальцы Чумакова плотно сомкнулись в кулак, и голос, когда он заговорил, был оскорбленным:
— На это я мог бы сказать: никакому нижестоящему руководителю внезапный приезд его начальника не в радость… Если вас заинтересовала целесообразность моего приезда в Шарапово, ознакомьтесь с протоколами совещания, которое я вчера провел в ПМК. Но я скажу по-другому: не слишком ли широко понимаете, товарищ Щербаков, свои служебные функции? Или, говоря по-старинному, по плечу ли своему рубите дерево? Я ведь, простите за банальные слова, на самом деле номенклатурный работник, причем не областного, а союзного масштаба. И знаю дорогу к прокурору области и в другие руководящие инстанции.
Можно было, честно говоря, и даже хотелось ответить резкостью. В скольких лицах предстал в этой комнате Чумаков? Прямо маски Аркадия Райкина… И все-таки на резкость нет права у представителя закона. Да и не время, не время еще… И Денис решил попробовать расширить брешь в неуязвимой, на первый взгляд, круговой обороне Чумакова. И как бы пропустив мимо ушей угрозы Федора Иннокентьевича, сказал покладисто:
— Что касается телеграммы, то, право же, депеша, отправленная частным лицом, да еще из другого населенного пункта, это уже не служебная переписка, а предмет размышления для следствия. А что до запрета Постникову покидать Таежногорск, то не стану скрывать… Мы подозревали Постникова в двух преступлениях: в неосторожном, а может быть, даже умышленном наезде на Селянина и в том, что Постников, пользуясь своим служебным положением, вполне возможно, что не бескорыстно оказывал Кругловой содействие в вывозе приобретенного ею леса до железнодорожной станции.
Денис очень рассчитывал, что после этого сообщения Чумаков сыграет немую сцену из «Ревизора». Но Федор Иннокентьевич лишь покачал сокрушенно своею массивной головой и сказал с неподдельной печалью:
— Ну, Постников! Скользкий он все-таки человек! Неужели за моей спиной мог с этой бабой-торговкой предоставлять для ее бизнеса производственный транспорт, вступать в преступные сделки с подчиненными да еще иметь от этого выгоду?! Поверьте, самое горькое, что за моей спиной. Выходит, я тоже косвенно виноват. Прошляпил. А еще начальник главка ставит меня в пример коллегам: ты, говорит, Чумаков, зоркий хозяин.
Федор Иннокентьевич сделал долгую паузу: не то остужал в себе раздражение настырностью следователя, не то свыкался с новостью о моральной нечистоплотности Постникова, не то давал возможность Денису оценить мнение о себе начальника главка. Потом улыбнулся, правда, натянуто, но сказал дружелюбно:
— И все-таки у вас, слуг закона и Фемиды, подозрительность — болезнь профессиональная. То, понимаете, бедняга Касаткин за рупь двадцать чуть не угодил валить лес под конвоем, то Постников чуть не записан в убийцы, и никто, понимаете, ответственности не несет за слепоту и своеволие следствия! В общем, простите за назойливость, но мне хочется от души выразить вам свое сочувствие. Заместитель вашего главного шефа — Николай Николаевич — мой товарищ еще со студенческих лет. Ну, бывает, пускается со мной во внеслужебную откровенность. И понял я его в том смысле, что самое гадкое для вашего брата — это когда вы, проев в командировках государственные копейки, не сыщете виновного и бываете вынуждены приостановить дело за необнаружением преступника, а то и совсем прекратить его. Так вот, примите мой совет. Денис Евгеньевич… Честно скажу: несмотря на все ваши выверты, приглянулись вы мне по-человечески. Не знаю, как там с лесом. Не дай бог!.. А что касается гибели Селянина, так не вступайте в конфронтацию с очевидностью, нет виновного в его гибели. Заурядный несчастный случай с пьяным. На шоссе все произошло. Грунт мерзлый. Покачнулся, упал, и делу конец… Как я понимаю, единственный логический выход для вас — повторная констатация несчастного случая. — И, не дожидаясь ответа Дениса, вдруг засобирался: — Ну, как говорится, спасибо за привет, за ласку. Поговорили очень содержательно и полезно. Просветили меня во многом… Едва ли снова сведет судьба.
Денис, пожимая сильную широкую ладонь Чумакова, сказал:
— Не исключено, что я напишу постановление, в котором признаю: Селянин — жертва несчастного случая, но сделаю это после того, как полностью исключу версию о его умышленном убийстве.
— Как говорится, безумству храбрых… — усмехнулся Чумаков.
Оставшись один, Денис торопливо распахнул форточку, глотнул пронзительный мартовский холодок, потом долго сидел, подперев голову руками, одолевал навалившуюся на него тяжелую усталость и словно бы во сне думал: кто же он есть, этот Федор Иннокентьевич Чумаков? На самом деле — скала на страже государственных интересов?… Или самый опасный преступник из всех, с кем сводила Дениса Щербакова следовательская судьба? Но тогда трагическое происшествие с Юрием Селяниным действительно айсберг…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
О Лидии Ивановне Кругловой, молодой вдове тассовского корреспондента унесенного неизвестно куда и неизвестно зачем, среди ее ташкентских знакомых ходили легенды. Женщины откровенно завидовали ей и судачили о причинах ее популярности. Мужчины мечтали оказаться в поле зрения Лидии Ивановны и проникнуть в ее салон, как торжественно именовала на старинный лад она свою трехкомнатную со вкусом обставленную квартиру в кооперативном доме.
Лидия Ивановна поддерживала славу своего салона и каждую пятницу, из уважения к обычаям местного населения, сходились в нем избранные счастливцы. Молва утверждала, что в долгих скитаниях со своим мужем, журналистом-международником, о котором, однако же, Лидия Ивановна воздерживалась распространяться, освоила она чужеземные обычаи. И потому «кругловские пятницы» отмечались неизменной чашечкой кофе, рюмочкой ликера или коньяку и крохотными, как называла Лидия Ивановна, сандвичами с деликатесной начинкой. Фрукты же, по ташкентскому изобилию, не в счет.
Притягательной силой для завсегдатаев «кругловских пятниц» были не разносолы, а обаяние и веселый нрав хозяйки да еще местные и заезжие знаменитости, которых можно было встретить здесь.
Правда, было загадкой — каким магнитом притягивала она под свою крышу наезжавших в Ташкент именитых гастролеров.
Женщины изумлялись стойкости, с какою Лидия Ивановна противостояла гастрономическим соблазнам, мужеству и терпению, с какими выполняла она упражнения гимнастики йогов, ее готовности даже зимой ежедневно бывать в плавательном бассейне. И конечно же, искусству и вкусу ее портных. Шили на Лидию Ивановну только московские мастера, и каждый год, возвращаясь с курорта, потрясала она знакомых ослепительными нарядами.
Лидия Ивановна охотно принимала всеобщее поклонение и знаки внимания, относилась ко всем ровно, благожелательно, никого особо не выделяла.
Местные или даже заезжие почитатели, воздавая должное красоте и стилю хозяйки, ее гостеприимству и радушию, не без удивления слушали ее высказывания о Станиславском и Вахтангове, Мейерхольде и Товстоногове, Ефремове, Брехте, секретах инструментальной и симфонической музыки, законах киномонтажа Куросавы и Феллини. Суждения ее были непрофессиональны, но и явных благоглупостей профессионалы не отмечали.
И никто, ни поклонники, ни завистники, не знали о том, что, готовясь «угостить» завсегдатаев салона очередной знаменитостью, Лидия Ивановна, как студентка, не выходила из читальных залов, лихорадочно перелистывала энциклопедии, справочники, специальные монографии, мемуары великих людей. Ведь в пятницу ей предстояло встретить гостя и предстать перед ним знатоком и ценителем его искусства, его ремесла, удивить его и своих знакомых эрудицией.
А назавтра, позабыв и чужие афоризмы, и гостя, который, как не сомневалась Лидия Ивановна, тоже позабудет ее, едва покинет Ташкент, она начинала насыщаться новыми афоризмами для встречи очередной знаменитости. В душе Лидии Ивановны теплилась утлая надежда, что встреча с новым именитым гостем окажется более счастливой и прославленный маэстро наконец-то введет ее в вожделенный, недосягаемый мир искусства. И тяжелый театральный занавес навсегда укроет от посторонних глаз и саму Лидию Ивановну, и ее тайну.
Ведь никто, ни завистники, ни поклонники, не знал о том, что, проводив гостей, она забьется в уголочек тахты, подожмет под себя ноги и просидит до утра, прислушиваясь не то к себе, не то к тишине квартиры, вздрагивая от каждого шороха, ожидая, что вот сейчас, сию секунду, прогремят на лестничной площадке тяжелые шаги, раздастся звонок у дверей…
И тогда рухнет все: эти светские сборища, и ставшая привычной даже для самой легенда о муже — журналисте-международнике, и главное — ее надежда обрести непробиваемую для властей броню, за которой можно укрыться от своего прошлого и от иссушающего душу страха…
А прошлое то оживало в памяти, а то и вовсе непрошенно врывалось в ее дом. Ведь как ни скромны были фирменные ужины Лидии Ивановны, деньги таяли неумолимо.
Лидия Ивановна пересчитывала в уме оставшиеся суммы. А перед глазами, будто цветная кинолента, разматывались таежные просеки… И по ночной метельной дороге, низко пригнувшись, навстречу автомашине, ветру, навстречу своей гибели брел человек…
Неужели снова туда? На поруки к матери, если только она жива, с ее вечными ахами и домостроевскими моралями… В дебри, в глушь!.. За будущим? Снова за деньгами?… Нет, никогда! На первый раз пронесло. Вторично судьбу пытать нельзя. Но ведь настанет день, когда в последний раз захлопнется дверь за последним гостем. И что же тогда?! Что делать, когда будет истрачен последний рубль?…
Работать? Тошнит от одной мысли. Кем, куда? Снова билетером или приемщиком заказов в фотоателье? Но разве насытят, ублажат ее потребности те жалкие несколько десятирублевок каждый месяц. И это после жизни, к которой стремилась с детских лет, к которой успела привыкнуть.
На содержание, что ли, напроситься к кому-нибудь?… Но давно вывелись бароны Нусингены, осыпавшие своих избранниц драгоценностями. Нынешние мужчины, даже и денежные, прагматичны. Или тоже пребывают в страхе перед всеведущим ОБХСС? Потому весь гонорар за тайную любовь — бутылка шампанского, букет цветов, коробочка с шоколадным набором, ну, в самом лучшем случае — путевка в сочинений пансионат…
Последний рубль еще не был истрачен, но впервые за два года Лидия Ивановна, сославшись на нездоровье, отменила очередную пятницу. В строго отобранном кругу знакомых Лидия Ивановна слыла предельно искренней, даже излишне прямолинейной. Но на этот раз она сильно покривила душой перед знакомыми.
У Лидии Ивановны не было высокой температуры, как сообщала она всем по телефону, и не навещала ее накануне «неотложка». Подурневшая, с рассыпавшимися по спине волосами, она сидела на неприбранной постели, обхватив руками колени, и с ужасом смотрела на лежавшую перед ней телеграмму от Надежды Жадовой…
Лидия Ивановна поймала себя на мысли о том, что телеграфный бланк кажется ей похожим на мину с часовым механизмом. Мины Лидия Ивановна видела только в кино, но ей отчетливо слышалось, что невидимые часы неумолимо отсчитывают секунды. Мгновение, еще мгновение. Сработает завод, грянет взрыв — и ничего не останется от ее созданного такими трудами и такими ухищрениями мирка. И эта квартира, столь завидная для многих действительных и мнимых друзей, и все, что связано с «кругловскими пятницами», — превратится в прах, и не останется никакой памяти об этих пятницах, об их очаровательной устроительнице, которой в этих стенах было сказано столько комплиментов. И ничего, кроме гадливости и стыда, не испытают при упоминании ее имени те, кто рассыпался здесь в комплиментах.
Ведь последние годы «вдову трагически погибшего журналиста-международника» окружали честные люди, а честные люди не прощают, не заслоняют грудью тех, к числу которых пять лет назад примкнула Круглова…
Может быть, пока не слишком поздно, захлопнуть за собой дверь, схватить такси, ринуться в аэропорт? Нет, в аэропорт нельзя: там фиксируют фамилии пассажиров. Лучше на вокзал… Или на автостанцию. И рейсовым автобусом в самый дальний, самый глухой кишлак… Замуж за первого попавшегося чабана, быть ему верной женой и уйти с его отарой на дальние пастбища. Или забиться в щель, как тараканы в дни ее детства в избе матери в Шарапово. Только какой во всем этом прок? Тараканов вымораживают, а в распоряжении тех, кто ринется по следу Лидии Ивановны, средства куда более действенные…
Значит, никакой надежды на таинственное исчезновение интеллектуальной и прекрасной хозяйки популярного артистического салона. Полный крах взлелеянной ее усилиями легенды о себе и своем супруге, и еще много дней все ее «друзья» будут сплетничать об «арестованной авантюристке»…
Что же остается ей в конце концов?! Есть ли у нее хотя бы какой-то выбор? Бегство бессмысленно, бегство лишь усугубит положение. Остается — ждать. И попробовать припомнить в подробностях, что было до телеграммы… Долго ли двигалась она к ней? Восемнадцать лет! Неужели целых восемнадцать лет?! Неужели когда-то ей было семнадцать?…
Лидия Ивановна подошла к входной двери, поставила замок на предохранитель, словно это могло уберечь ее от чего-то. Вынула из штепсельной розетки вилку телефона. Говорить больше было не с кем и не о чем. Настоящее исчезло. Будущего у нее не было. В ее власти осталось лишь прошлое…
2
В ту весну Лида Круглова получила аттестат зрелости. И вскоре стены родного домика в Шарапово словно бы потемнели, потолок потяжелел, навис над головой. Мать, Анна Федоровна, ходит вялая, спросонок будто, на все углы натыкается, охает, а нет-нет и всплакнет.
— Бессердечная ты, Лидка! Безмозглая. В Москву, вишь ли, навострилась она…
— Да. Только в Москву, — с вызовом отвечает Лида, высокая, статная, красивая, на вид много старше своих семнадцати лет. — В Москву, в театральный институт или в училище. Не сидеть же вечно в этих медвежьих углах.
— Уж так-то и в медвежьих! — вскидывается сердито мать. — Не только медведи тут живут — людей полно. Ты вон вымахала в «медвежьем» углу — в добрый час сказать, в худой помолчать — всем на загляденье…
— Тем более, — еще ершистее твердит Лида и косится на себя в зеркало. — Если всем на загляденье, пусть полюбуются в столице нашей Родины. А может, меня в кинофильме сниматься пригласят. Тогда как?! — Лида замолкает и пытается смягчить неумолимость своего решения, подбегает к матери, начинает кружить ее и повторяет: — Пусть вся страна знает, какая у тебя видная дочка.
Мать упирается, прерывает это кружение, сердито отмахивается:
— Правильно говорят: «Дурак мыслями богат…» Одна только ты и есть красавица писаная, чтобы снимать тебя в кино… — Мать устало качает поседевшею головой: — Чем в актрисы рваться, лучше бы поехала в область и поступила, как все нормальные люди, учиться на врача или на инженера. Чем плохо? А она аж в саму Москву. Верь материнскому предчувствию, несбыточно это! А мне больно. Вырастила я тебя одна-одинешенька. Отца своего, солдата убитого, ты не видела и в глаза. Все я для тебя… А теперь и вовсе остаюсь одна. Да еще там пойдешь по рукам…
Сейчас Лидия Ивановна поняла бы свою мать… Села бы рядом с ней на крылечко самого доброго, самого уютного дома на свете — их с матерью дома в Шарапово, — обняла бы мать да и заголосила бы по своей разлезшейся вкривь и вкось жизни…
Но тогда Лида не рассмотрела слез матери, не уловила в ее словах боли и отчаяния, не расслышала предостережения. Тогда Лида сказала самонадеянно:
— Твои, маманя, ахи и охи — все это, как говорит Геннадий Павлович, безнадежный провинциализм и домостроевщина. А еще Геннадий Павлович говорит, что у меня самобытный талант, что он меня на своих руках внесет в мир искусства. А Геннадий Павлович, слава богу, понимает в этом. Режиссер гастрольной бригады Московской филармонии! Слышал, как я читаю с эстрады стихи Евтушенко.
Мать поворачивает к ней заплаканное лицо и произносит слова, от которых сейчас Лидии становится жутко: озарение тогда на мать сошло, что ли? Не зря говорится: материнское сердце — вещун.
А сказала Анна Федоровна так:
— Попомни мои слова, Лида. Внесет тебя, конечно, на руках твой Геннадий Павлович, но только в свою постель. И вернешься ты со стыдом, как с братом. Школу кончила, вполне взрослая девка, должна сознавать, по какой-такой причине заезжий, в годах уже семейный мужик рассыпается перед тобой мелким бесом…
Не по возрасту яркие и, казалось ей, всегда горячие губы Геннадия Павловича стали вдруг вялыми. Но голос прозвучал привычно уверенно:
— К сожалению, Лидуся, в ГИТИСе приемная комиссия тебя не оценила. Хотя, видит бог, как я старался. У тебя же, Лидия, талант, но, к сожалению, рекомендации Геннадия Павловича Воеводского — это не только входной билет в мир искусства, но и, как ни парадоксально, преграда для такого входа. У меня же, как у всякого талантливого человека, — масса недругов, завистников, творческих противников. Вот их интриги и… — Он оборвал фразу, побарабанил пальцами по ночному столику у кровати.
За окном, внизу, взвыла сирена. Лида вздрогнула. Пожар? Милиция? Или «скорая помощь?» Все равно где-то беда. И в первый раз обожгло: беда не где-то, беда с ней, с Лидией Кругловой, семнадцатилетней выпускницей школы в таежном поселке Шарапово, общепризнанной артисткой районного Дома культуры.
Лидия приподнялась на локте, заглянула в лицо лежавшего рядом Геннадия Павловича. И отпрянула: в полусвете гостиничного номера лицо Воеводского было землисто-серым, чернели провалы глазниц… Вечером при свете люстры лицо это было, пожалуй, даже привлекательным. Еще вчера она с нежностью и надеждой глядела в его возбужденно блестевшие глаза. А сейчас не лицо, а посмертная маска…
— Что же мне делать теперь? — не столько у Геннадия Павловича, сколько у самой себя спросила Лида.
— Тебе-то? Тебе? — бормочет Воеводский. Тоже приподымается на локте и продолжает звучным, хорошо поставленным голосом: — Я полагаю, наилучший выход, детка, возвращаться домой. В Москве без прописки, без работы пропадешь.
— А если в твою бригаду, Геннадий? Чтецом, а?
Он трагически заламывает руки и кричит:
— О чем ты говоришь, детка?! Разумеется, если бы все зависело лишь от меня… Но все много сложнее. Ты простодушна, доверчива, дитя природы… Ты не поймешь!.. Опять же эти завистники. Интриги, присущие миру Мельпомены… — Он пытается обнять Лиду, но она отстраняется от него. Он говорит, будто монолог читает с эстрады: — То, что я предлагаю тебе, вполне логично и единственно разумно. Должен признаться, только строго между нами, мои акции повышаются, мне намекнули по секрету верные люди, что скоро меня представят к заслуженному. Представляешь?! Тогда и твои акции подскочат в приемной комиссии. Ты поживешь год дома. А через год я вызову тебя телеграммой. Нет, лучше я приеду за тобой. И непременно внесу на руках в мир искусства…
Он утомленно целует Лиду. А та вдруг истерически, со всхлипыванием хохочет ему в лицо. Ведь ей в эту минуту явственно слышится голос матери: «Не в мир искусства он внесет тебя на руках, а в свою постель…»
Так закончилось девичество Лидии и ее путешествие в заманчивый, но недосягаемый мир искусства.
А дальше, как ни силится Лидия Ивановна припомнить нечто цельное, не получается. Смешалось, стерлось все. То высветит память стеллажи в районной библиотеке, где работала Лида после возвращения из Москвы, то входную дверь в фойе РДК, возле которой сидела билетером во время киносеансов, то столик в районной фотографии, за которым оформляла заказы…
И мужские лица. Будто портреты на фотовитрине: Аркадий — районный архитектор, Валерий — из райпотребсоюза, Кирилл — из районной сберкассы, нет, кажется, из «Вторсырья»… И злой голос матери:
— И когда только ты, Лидия, возьмешься за ум?
— А что мне за него браться. Он всегда при мне.
— Зубоскалишь еще. Не больно что-то видать ума твоего. Школьные подружки скоро уж с институтом распрощаются, самостоятельными людьми станут. А ты, видно, от большого ума чуть не каждый вечер с новым хахалем телесами трясешь на танцульках. Да каждое утро маешься со своего шампанского…
Лидия на мгновение, на одно лишь мгновение наклоняет голову, но говорит с вызовом:
— Пусть подружки грызут грани науки, а мне зубы беречь надо. Они хотят эмансипации, чтобы во всем быть наравне с мужчинами, а я жажду порабощения у семейного очага.
— Тьфу ты, господи прости! Выучилась разным словечкам: очаг ей подавай. А про то не думаешь, что тут не Москва, где ты путалась с кем хотела. Тут Шарапово! У всех на виду. Не зря сказано: «Добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит». Мне в хлебный зайти стыдно. Найдется ли такой слепошарый, кто возьмет тебя к семейному очагу…
Но на этот раз ошиблось даже чуткое материнское сердце.
Видно, в счастливый для нее день оказалась Лида на Шараповском рынке. На столе, слепя глаза, горели груды румяных яблок и янтарно-прозрачных груш.
А над этой ароматной благодатью возвышался смуглолицый черноглазый красавец в радужной тюбетейке. Лида, что называется, кожей почувствовала на себе восторженный взгляд заезжего торговца фруктами. И, выпятив свою налитую грудь, подошла к столу и спросила звонко:
— Почем груши, джигит?
Черные глаза торговца замаслились. Он поцокал языком, разулыбался блаженно и ответил осевшим голосом:
— Ты сама, ханум, слаще груш, слаще винограда. Тебе отдам даром. Бери сколько душе надо. Только скажи, где живешь…
Вечером стол в доме Лидии едва не ломился от обилия восточных яств. Мать сидела поджав губы, словно воды в рот набрала, искоса посматривала на болтавшего без умолку гостя.
Так в нудную районную жизнь Лидии Кругловой ворвался житель ташкентского пригорода Рахманкул Нуретдинов.
Он не был сто вторым сыном эмира Бухарского, как в шутку любил говорить о себе. Но имел деньги, не просто большие, а в понимании Лидии — огромные деньги. От торговли ранними овощами, фруктами, самодельным вином, каракулевыми шкурками.
О том, что такая коммерция называется спекуляцией и наказывается по закону, ослепленная сладкой жизнью Лидия узнала лишь на суде над Рахманкулом.
На суде вместе со словом «спекуляция» часто звучало слово «преступление». «Но какое же это преступление?» — возмущалась Лидия. Отправляясь в Сибирь с ящиками овощей или фруктов, Рахманкул имел справку, что все это выращено его трудами на приусадебном участке. А то, что Рахманкул прикупал на местном рынке еще добрую толику товара, Лидия не брала в расчет. Он возвращался с чемоданчиком денег! Так ведь не грабил же он банк или сберкассу. Цены такие на сибирских рынках устанавливал не Рахманкул.
Лидия следом за Рахманкулом повторяла, что сибиряки должны быть благодарны Рахманкулу. Без его дорогой, но очень нужной продукции сибиряки вовсе бы захирели без витаминов. И Лидия готова была вместе с Рахманкулом возносить хвалу аллаху за то, что сибирские потребсоюзы никак не развернутся скупать овощи и фрукты по местным дешевым ценам в среднеазиатских колхозах. Молить аллаха, чтобы многие годы у сибирских деятелей не было надежных овощехранилищ и чтобы поскорее исполнился головокружительный проект обводнения всех земель Средней Азии… Вот дожить бы до такого дня! Сколько под благодатным узбекским солнцем можно будет разбить новых садов, сколько Рахманкул и его предприимчивые дружки выручат денег на сибирских рынках.
Как завороженная, слушала Лидия Рахманкула о коране, вековых устоях Востока, священном праве правоверного мусульманина иметь гарем… Но чаще всего о деньгах, о всесилии их. О том, что только человек большого ума, великой настойчивости и беспощадности способен изыскивать источники добывания денег, сколько ему хотелось бы их…
Рахманкул и Лидия были убеждены, что о действительных доходах скромного рабочего совхоза знают лишь они.
Но однажды, когда Рахманкул пересчитывал выручку, дверь дома бесшумно распахнулась и в зашторенную веранду вошли двое в милицейской форме.
Минуло еще несколько месяцев, и Рахманкул по приговору суда на десять лет уехал в очень далекие края, а Лидия осталась одна, без привычных денег.
Снова, так сказать, родное Шарапово. В нем показалось Лидии холоднее и глуше, чем прежде. Так называемый отчий дом совсем врос в землю, а праведные речи матери стали еще нуднее:
— Снова ты, Лидка, восвояси со стыдом, как с братом… Вовсе стала попрыгуньей-стрекозой. Смотри, как бы и тебе не пришлось плясать на морозце босиком… Ведь заматерела уже… А ни мужа настоящего, ни дитенка. Одна только сладостная жизнь на уме.
Лидия морщилась, отмахивалась сердито от материнских нескончаемых нравоучений, а в памяти оживал голос мудрого Рахманкула: «Красивая женщина — драгоценность, а драгоценность нуждается в прекрасной оправе. Прекрасная же оправа — деньги».
И снова танцы под пластинки в районной чайной. По старой памяти Лидию навещал районный архитектор. Но прежнего веселья не было. Или это мать своими проповедями спугнула его? А может, потому, что никак не уходит из памяти смуглый человек с хитрыми глазами и неумолимо тают остатки его денег.
Районный архитектор, Аркадий Лузгин, отмечал день своего рождения. В числе самых почетных гостей была и Лидия. Уже успели поднять не один тост за здоровье хлебосольного именинника, когда в зал столовой, где совершалось торжество, уверенно и по-хозяйски вошел Федор Иннокентьевич Чумаков.
С радостным воплем ринулся из-за стола навстречу высокому гостю виновник торжества. Следом за своим неизменным поклонником устремилась, хотя и не официальная, но всеми молчаливо признанная хозяйкой застолья Лидия.
Пока Аркадий трепыхался в медвежьих объятьях рослого, могучего Чумакова, Лидия успела оглядеть и оценить мужские стати известного ей понаслышке Чумакова. Что и говорить, хорош собою был Федор Иннокентьевич. Пожалуй, затмит даже незабвенного Рахманкула. И высок, и дороден, и в плечах размашист, и лицом свеж. А главное — первый в районе хозяйственник. У такого и сила, и власть, и, конечно же, деньги. И когда пришел ее черед быть представленной Чумакову, она взглянула на него своим испытанным взглядом, от которого мужики приходили в великое возбуждение, но сказала с рассчитанной простотой:
— Лидия Ивановна, — опустила глаза и добавила вкрадчиво: — Можете, конечно, просто Лида…
Но уверенный в себе Чумаков даже бровью не повел, не рассмотрел толком ее, как надеялась на то Лидия. Он прошествовал к столу, решительно отказался от «штрафного» стакана водки и в уважительной тишине, воцарившейся с его появлением, поднял рюмку «за здоровье, процветание и творческие успехи многообещающего нашего зодчего, Аркадия Лузгина». После чего снова облобызал «новорожденного», не спеша сел, не спеша наполнил свою тарелку закусками и стал не спеша жевать, наслаждаясь вкусной едой.
Игривый беспредметный разговор за столом с приходом Чумакова незаметно пошел по иному руслу. Заговорили о хозяйственных и торговых неурядицах, о дефицитности многих товаров. Теперь за столом все чаще слышалось укоризненное слово «бесхозяйственность».
Федор Иннокентьевич так же с наслаждением ел, не принимал участия в застольном разговоре. Но вот положил на стол нож и вилку, протер салфеткой яркие губы и в воцарившейся сразу тишине сказал, не напрягая голоса, как говорил, наверное, на совещаниях в своем кабинете:
— Да, бесхозяйственность есть, только надо самокритично признать, что и мы с вами на местах не всегда активно поддерживаем руководящие органы. Как достичь достатка, тем более изобилия, когда мы с вами, вопреки многочисленным руководящим указаниям, не научились ценить народное добро. — Он отхлебнул боржоми и заговорил печальнее: — Не стану кивать на других, скажу о порученном мне государством хозяйстве. Как известно, наша передвижная механизированная колонна прокладывает линии электропередач напряжением 220 и 500 киловольт. Сооружения громоздкие, сложные. Ведем просеки в непроходимой тайге. Естественно, валим много леса. По-доброму надо бы разделать древесину, вывезти на специализированные предприятия. Да где взять для этого людей и транспорт? И то и другое у нас, как везде, в дефиците. И лежит по обе стороны просеки поваленный лес. Часть его разделываем, а львиная доля гибнет, превращается в труху, кормит разных короедов, заражает окрестную тайгу. — Чумаков низко наклонил над столом массивную голову: не то судьбе тайги соболезновал, не то лицо прятал. — А ведь это — дерево! Сколько в нем всяких полезностей.
Лидия вздрогнула: показалось, ленивый и вместе с тем испытующий, как бы вопрошающий о чем-то взгляд, каким обвел компанию Чумаков, чуть задержался на ней. Показалось, Федор Иннокентьевич даже слегка подмигнул ей, как бы приглашая к чему-то…
Лидия сидела, прикрыв ладонями разом запылавшие щеки. А перед глазами вдруг потянулись ряды мазанок в кишлаках, куда частенько приходилось наезжать вместе с Рахманкулом. И неизменные сетования за богатыми дастарханами о том, что надо строить и жилища, и кошары, и другие хозяйственные помещения.
Незадолго до ареста Рахманкула Лидия услышала такой разговор:
— Ты, Рахманкул, настоящий батыр базаров, — похвалил гостя председатель богатого колхоза. — Да только не пора ли тебе кончать с базарами. Бери от нас доверенность, езжай в свою Сибирь, заключи там договора, добывай лес. Полномочия даем неограниченные. В барыше будешь больше, чем от груш и винограда.
Прав, тысячу раз прав этот умнейший, хозяйственный Чумаков: там же каждая доска на вес золота…
— Вы, Федор Иннокентьевич, согласитесь продать бросовый лес колхозам Средней Азии? — осмелилась Лидия подать голос.
— Отчего же нет? Если, конечно, все по закону. Разумеется, необходимо, чтобы у представителя колхозов имелись надлежащие полномочия, чтобы оплата производилась только предварительно и только по чековым книжкам. И главное, чтобы я получил разрешение треста и местных властей на такую операцию.
— И в таком случае продадите строевой лес? — совсем осмелела Лидия.
— О, нет! Только тонкомер, — решительно отрезал Чумаков. Замолк и сказал раздумчиво: — Хотя, конечно, могут быть обстоятельства… Дружба народов и прочее… Ну, и разрешение опять же…
Через неделю Лидия Ивановна была в Ташкенте…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Все произошло именно так, как рисовала в воображении Лидия Ивановна. Взревел и заглох под окном автомобильный мотор, хлопнула дверца.
Лидия Ивановна выглянула в окно… У подъезда стояла «Волга», только опоясана она была не красной, а синей полосой. И на этой полосе четко выделялось слово «милиция». Она покорно побрела к двери, сняла замок с предохранителя. На лестничной площадке загремели тяжелые шаги, кто-то остановился у двери напротив, послышался звонок в соседнюю квартиру, негромкий разговор. Потом раздался звонок у ее двери. Резкий, требовательный, властный.
Не промедлив и секунды, Лидия Ивановна с облегчением открыла дверь. На площадке стоял знакомый ей по Шарапово капитан Стуков, еще один милицейский лейтенант и соседи-пенсионеры из квартиры напротив.
— Гражданка Круглова? — официально, но больше для порядка спросил Стуков. — Лидия Ивановна?
— Да. Круглова Лидия Ивановна, — ответила она.
— Ознакомьтесь с постановлением прокурора на обыск в вашей квартире. Прошу добровольно выдать имеющиеся у вас драгоценности, деньги, а также оружие, если оно у вас есть.
— Пройдемте в комнату, Василий Николаевич, — убито сказала Лидия Ивановна. — Вот сберегательная книжка. Все, что осталось. И драгоценности есть. Даже с товарными чеками. Все куплено в магазинах «Ювелирторга». Оружие отродясь не держала. Да вы же знаете это, — и как-то по-ребячьи добавила: — дядя Вася…
Стуков, тщетно пытаясь скрыть проступавшую в каждом движении неловкость, перелистнул сберегательную книжку, заглянул в коробочки с драгоценностями и сказал дрогнувшим голосом:
— Как же это ты, Лидия? — прокашлялся и продолжал: — Конечно, по закону я обязан обращаться только на «вы»… Но ведь ты же наша, шараповская. Отца твоего, Ивана Кузьмича Круглова, я помню. Жили и росли с ним на одной улице, в армию призывались вместе. Я тебя с малых лет знаю. Помню, как ты в клубе со сцены декламировала: «Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра…» Стишки этого поэта, который песню еще написал про то, что вальс старый теперь, а кругом этот…
— Твист! — машинально добавила Лидия Ивановна.
— Во-во, твист, — даже обрадовался Стуков. Чувствовалось, что этот разговор очень нужен капитану для того, чтобы дать выход переполнявшей его горести и бессильному состраданию к этой непутевой, сломавшей свою судьбу женщине. И, продолжая этот разговор, он сказал: — Раньше-то я только прозу признавал, думал, стишки — так, забава, складные слова, и только. А теперь понял: большой в них, в стихах этих, смысл.
Лидия Ивановна следила за лейтенантом, который в строгом соответствии с требованиями криминалистики начал по часовой стрелке осмотр ее жилища, сказала:
— Да. «Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра». — И спросила печально: — Мать-то жива еще?
— Неужто тебе и это неведомо! — ахнул Стуков, и лицо его побурело. — Померла Анна Федоровна прошлой зимой. Схоронили ее соседи и Заготзерно, откуда она ушла на пенсию. — И вдруг, озлившись, добавил: — Тебе не давали телеграмму, не знали адреса. Надьке Жадовой ты вот оставила свой адрес, а родной матери — нет…
В комнате воцарилась тишина. Только слышались шаги милицейского лейтенанта да приглушенные перешептывания понятых. Но вот Стуков, сидевший у стола напротив хозяйки, сказал укоризненно и вместе с тем соболезнующе:
— Эх, Лидия, Лидия. Как же это ты ударилась в такую жизнь? Ведь в каком городе поселилась… Загляденье, сказка! У нас сугробы еще не сошли, а тут пьянеешь от весенних цветов. На базар пришел, глаза слепнут от фруктов. Баба ты красивая, выбрала бы мужа да и жила бы на радость. Растила детишек, а ты… Ведь тридцать шесть уже…
— Тридцать пять, — встрепенулась Лидия, но, встретив укоризненный взгляд Стукова, спросила: — А что со мной будет, Василий Николаевич?
— Что будет? — строго начал Стуков. — Этапируем в Шарапово, где творила свои художества. Проведем следствие, выявим связи, сообщников. А там суд отмерит по содеянному тобой. — Он вдруг вскинулся на стуле и спросил с хитроватой прищурочкой: — Что же ты не удивляешься ни приезду моему, ни обыску, ни тому, что я тебя конвоировать собрался в родимые твои места. Или знает кошка, чье мясо съела?
— Знает, — убито подтвердила Лидия.
— То-то, что знаешь, — укоризненно, но не без гордости сказал Стуков. — Я ведь, можно сказать, землю перерыл, а все твои договора, все накладные прочитал своими глазами, подсчитал все купленные тобою кубики. Прямо иллюзионист Кио! Рассчитываешься в Таежногорске за тонкомер, а здесь, я поглядел, — все понастроено из деловой древесины. Теперь твой черед подсчитывать все рублики, которые ты себе в карман положила за эти кубики и своим радетелям раздарила. Учти, кое-кто из них свои подсчеты уже представил нам. Ну, и сама знаешь про чистосердечное признание…
Лидия Ивановна прикрыла ладонями разгоревшиеся щеки и сказала, глядя куда-то в себя:
— Что же, Василий Николаевич, чем в таком вечном страхе незамужней вдовой дрожать, лучше срок мотать. Да и все, видно, вам все известно…
— Да вроде бы знаем кое-чего. Так вот, гражданка Круглова Лидия Ивановна, — уже строго сказал Стуков, когда удалились исполнившие свою миссию понятые. — Обязан я вам
официально предъявить обвинение в хищении в особо крупных размерах лесоматериалов с просек Таежногорской ПМК «Электросетьстроя» и в даче взяток должностным лицам. Признаете ли вы себя виновной в этом?
Лидия Ивановна набрала в грудь воздух, будто запеть собралась, но сказала очень тихо:
— Признаю, Василий Николаевич. Признаю полностью. Куда денешься, но подробно все поясню только в присутствии Чумакова.
— Это что еще за фокусы? — заворчал Стуков. — Что же, принуждать не имею права. Обвиняемый — не свидетель, он может вовсе отказаться от дачи показаний… — И стал записывать, повторяя вслух: «Виновной себя признаю полностью, но подробные пояснения о содеянных мною преступлениях дам в присутствии товарища Чумакова Ф. И.»
— Все еще товарища? — чуть насмешливо спросила Лидия.
— А как бы ты думала? Товарищ Чумаков таким товарищам товарищ, что нам с тобой и во сне их увидеть боязно…
2
Василий Николаевич Стуков вошел в кабинет Дениса Щербакова, должно быть, прямо с аэродрома, с дорожным портфелем, не по-здешнему загорелый. Молча порылся в раздутом портфеле, извлек из него румяное яблоко, положил на стол перед Денисом и улыбнулся:
— Отведайте, Денис Евгеньевич. Так сказать, гостинец.
Подсел к столу, хмуро, но не скрывая удовольствия, посмотрел, как Денис вгрызался в сочное яблоко. Потом, отвечая каким-то своим, видимо, не дававшим ему покоя мыслям, сказал:
— Все-таки трудная у нас работа, Денис Евгеньевич, мучительная порой. Правильно вы однажды заметили: молоко надо выдавать нашему брату за вредность производства.
— Что, Василий Николаевич, нелегкая выдалась поездка?
— Поездка как поездка. Мотался по кишлакам, пролил семь потов под тамошним злым, даже в марте, солнцем. Трудность в другом, Денис Евгеньевич… Есть у нас, в Шарапово, обелиск Вечной славы. На нем фамилии моих однополчан, с которыми хлебал солдатскую и свинцовую кашу. Пятился в активной обороне аж до самой Волги, а потом города брал обратно. Пятьсот фамилий шараповцев, не вернувшихся с фронта. Среди них семеро Стуковых, отец мой, два родных брата, ну, и, значит, четверо более дальних родственников. В этом же списке и сержант Иван Кузьмич Круглов. Вместе с этим Ваньшей Кругловым мы на пересыльном пункте грызли мерзлые концентраты и на фронт ушли с одной маршевой ротой. Дальше уж нас разбросала война. Помню я Ивана Круглова так, что вижу его даже с закрытыми глазами. — Стуков махнул рукой, провел ладонью себе по лицу и сказал глухо: — А теперь вот этапировал я в Шарапово арестованную мною в Ташкенте родную дочь Ивана Круглова, Лидию. Вы человек начитанный, интеллигентный… Вот как вы понимаете? Мне, солдату, службисту, милиционеру легко это?…
— Трудно, Василий Николаевич, очень трудно, — не скрывая волнения, подтвердил Денис. — Тяжкий хлеб у нас с вами. Заместитель прокурора области однажды в минуту откровенности признался, что довелось ему давать санкцию на арест школьного друга, который был уличен в махинациях. А что делать, Василий Николаевич? Еще древние греки утверждали: «Платон мне друг, но истина дороже». А тут ведь — закон!.. А в общем-то, ох, как я понимаю вас, Василий Николаевич. И если так уж трудно, может, мне одному врубаться в эти лесные дебри?
Блеклые губы Стукова мгновенно поджались, и голос стал таким, как в самые первые дни их общения:
— Не обижайте, Денис Евгеньевич. В предвзятости и кумовстве не повинен… Говорил я вам уже — солдат я и коммунист… И вам верю: вы лишку не отмерите, не возведете напраслину и не пойдете на послабление. Верьте и вы мне. Даже если передо мной дочка однополчанина…
— Ну что же, Василий Николаевич, — Денис улыбнулся, — будем считать, что мы с вами полностью объяснились. По-мужски и профессионально. Как я понял вас, Лидия Ивановна Круглова находится в здешней КПЗ. Следовательно, мы с вами не ошиблись в допущениях и в командировке у вас появились веские основания для ее ареста…
— Да есть кое-что, — уклончиво ответил Стуков. Потом, не скрывая переполнявшую его гордость, сказал, ровно бы о сущем пустяке: — Семь потов пролил, но обшарил там всю округу. И сам, и вместе с узбекскими ребятами — джигиты они все-таки — пересчитали каждое бревнышко. Двенадцать тысяч кубиков — тютелька в тютельку. Стоят, вернее, лежат в различных постройках. В жилых и хозяйственных.
— И все строевой лес?
— Почти, но сверх того — около трех тысяч кубометров тонкомер. Для маскировки. А свыше двенадцати тысяч кубиков деловой древесины. Правда, во всех накладных значится только тонкомер. И отпускная цена тонкомера. Провел соответствующие экспертизы — строевой лес. Станция отправления — Таежногорск. Отправительница — Круглова Л. И. Все даты отправления…
Денис несколько раз прошелся по комнате, остановился перед Стуковым и сказал:
— Спасибо вам, Василий Николаевич. Не случайно мне говорили о вас, как об очень опытном следователе…
— Круглова признала себя полностью виновной в хищениях деловой древесины и в даче взяток должностным лицам, но заявила, что подробные показания она даст лишь в присутствии Федора Иннокентьевича Чумакова.
— Опять Чумаков! — сказал Денис. — И на какие же размышления это вас наводит, Василий Николаевич? Зачем потребовалась ей очная ставка с Чумаковым? В чем намерена она его изобличить? Ведь не в неверности же собственной жене. Так в чем же? В получении взяток? В попустительстве хищениям леса или еще в каких-то, мягко говоря, неблаговидных поступках?…
— А я думаю, что Чумаков для Кругловой, — сумрачно заметил Стуков, — это уловка, оттяжка времени, может быть, поиск той самой каменной стены, за которой можно получить меньше оплеух. Ведь что бы вы ни говорили, а Чумаков — это Чумаков!..
Денис резко, точно споткнулся, остановился перед Стуковым, заговорил энергично, убеждая себя и выверяя каждое слово:
— Сговорились все, что ли, с этаким рабским придыханием: Чумаков! Федор Иннокентьевич!.. Только почему-то при этом забывают, что репутация бывает и дутой, что она не всегда адекватна подлинной сущности человека, что человек способен рисоваться, выказывать себя в выгодном свете, что механизм общественно-привлекательной мимикрии у отдельных глубоко аморальных субъектов доведен до высочайшего совершенства, до артистического блеска.
— Все понимаю, — горестно вздохнул Стуков. — И дутый авторитет, и рисовку, и эту шибко ученую мимикрию. Только вот приложить это конкретно к Чумакову…
— Трудно, — с усмешкой договорил Денис. — Гипноз имени, психологическая инерция…
— Гипноз, инерция… Опять ученые словечки. А я правильно говорю: трудно… И не то трудно, что поверить не могу, будто Чумаков к лесоторговле этой приложил свою вельможную руку… А профессионально говорю: трудно! Нам с вами, дорогой мой самоуверенный и пылкий коллега, трудно будет доказать причастность вышеназванного Чумакова и привлечь его по всей строгости. И у вас, поди-ка, случалось. Доподлинно знаешь, что перед тобой прохиндей и хапуга… Да множество уважаемых и влиятельных товарищей пытаются остановить тебя на всем скаку. Сначала по телефону сожалеют о досадном недоразумении, потом высказывают искреннее недоумение, как это, мол, хороший, заслуженный человек ошибся, попал под влияние, вляпался в неблаговидное дело. Может, оговаривает кто или нажал ты на него и он с испугу берет на себя лишку… А дальше требования: спустить на тормозах, закрыть глаза, мол, конь о четырех ногах и тот спотыкается. А дальше уж без дипломатий: ты, мол, устал, пора тебе на заслуженный отдых…
Кружишь-кружишь по этакой спирали и впрямь сомневаться начнешь, убеждать собственную душу, что конь о четырех ногах и тот спотыкается. И в конце концов вручаешь этому хапуге или прохиндею постановление о прекращении уголовного дела за нецелесообразностью привлечения к уголовной ответственности и о применении мер общественного воздействия. Да еще с этакой подленькой улыбкой, за которую самому стыдно до смерти, а вручаешь… Ну ладно, я слаб душой, стар. В этом Шарапово у меня все корни, и кроме Шарапово мне и работать негде… А разве с вами, Денис Евгеньевич, не случалось такого?…
Денис молчал. Стуков со своей житейской правотой, похоже, снова брал верх над ним. Вспомнились тягостные разговоры в разных кабинетах. По молодости лет ему, правда, не предлагали уйти на пенсию, но прозрачно намекнули: не лучше ли попробовать свои силы в качестве адвоката или юрисконсульта. Но у него хватило сил противостоять натиску…
— Случалось, — подтвердил Денис.
— То-то и есть, что случалось, — печально констатировал Стуков. — Рветесь вы, Денис Евгеньевич, в бой на Чумакова, а, простите меня, ни острого оружия, ни нужных боеприпасов… — И вдруг заговорил, как бы читая по-писаному, должно быть, повел речь о давно продуманном им, взвешенном, во что верил прочно: — Я в свое время проявлял интерес к истории. Ну, к слову сказать, заглядывал и в петровскую табель о рангах. Помните, четырнадцать классов? С четырнадцатого класса до первого, от коллежского регистратора до канцлера, что соответствовало генерал-фельдмаршалу. Мы с вами по этой табели — капитаны — особы девятого класса, то есть титулярные советники, птички-невелички. Песня такая была: «Он был титулярный советник, она генеральская дочь, он скромно в любви объяснился, она прогнала его прочь…» Так вот, по этой же табели Чумаков — его превосходительство, статский генерал… Трест у него, то есть целая дивизия, и ворочает он ежегодно десятками миллионов рублей… Защитников и покровителей у него добрая рота. И давайте пораскинем мозгами, к чему Федору Иннокентьевичу с его достатками и перспективами пускаться в авантюры с какой-то разбитной и не шибко чистоплотной бабенкой?…
— Спасибо вам, Василий Николаевич, — иронично сказал Денис, — за напоминание про табель о рангах, но табель о рангах в октябре семнадцатого года отменен. И перед лицом закона Чумаковы точно такие же граждане, как все в стране. — Он покружил вокруг задумчиво молчавшего Стукова и азартно спросил: — Какие, по вашему, Василий Николаевич, два самых страшных врага человека?
— Ну, пьянство, наверное. Жестокость. Глупость. Уже не два, больше получается. Можно и дальше перечислять: эгоизм, бездуховность, суперменство…
— И все-таки это, пожалуй, лишь производные от главных причин, разъедающих не столь малое число душ человеческих. Я убежден: два самых опасных врага человека — это властолюбие и корыстолюбие. Они коварно подстерегают нас на пути, как едва присыпанный снежком гололед. Одни осмотрительны, устойчивы на ногах, благополучно преодолеют опасное место. Другие послабее духом и ногами, падают в полный рост и тотчас же впиваются в них микробы этих злых напастей…
Достаточно один лишь раз даже не сказать, а только подумать: «Я должен стать превыше всех» или «Я должен иметь больше, чем все». И человек сломан, душа его мертвеет. Он превращается в пройдоху, готового на любую низость, лесть, подлость. Благопристойный гражданин становится мещанином, стяжателем, скрягой…
Этой горькой участи, к несчастью, не всегда способны избежать даже потенциально крупные личности. И на свет является беспощадный тиран. Либо же, а такое тоже не исключено, смешной в своих потугах на величие честолюбец…
— Все верно, Денис Евгеньевич. Только не верится мне, что Чумаков — богатырь сорока двух лет от роду, видный хозяйственник, отмеченный орденами, искренне уважаемый и далеко не неимущий, продал душу черту, растянулся на этом вашем гололеде.
— Я, в отличие от вас, не усматриваю в этом парадокса: как же так, сам Чумаков — и вдруг?… Боюсь, Василий Николаевич, что это «вдруг» стряслось с ним много раньше, когда он, как сам мне исповедовался, отчетливо осознал цену каждой копейки и понес через жизнь расхожую истину, что в рубле этих копеек — сто. Тогда-то он из чувства уязвленного самолюбия решил жить всем на зависть. То есть поскользнулся на льду корыстолюбия…
А дальше… Дальше события развивались в соответствии с неумолимой логикой стяжательства. Корыстолюбие неутолимо. Можно удовлетворить самые обширные и самые изысканные потребности чревоугодия. Но с тем, что касается денег, вещей, степени комфорта, дело куда сложнее. Всегда найдется некто, кто по меркам корыстолюбца живет лучше него. У кого больше денег, больше золотых колец на пальцах, красивей обставлена квартира. И такой субъект способен искренне страдать от своей мнимой ущербности и готов на любое преступление, чтобы превзойти соперника. И предела такому соперничеству нет. Всегда появляется нечто, чего еще нет у тебя. При этом некоторые теряют голову. Мне случалось вести дела расхитителей, у которых было изъято пятьдесят костюмов, сто двадцать пар обуви, которые имели две дачи, три автомашины. Это, конечно, уникумы. Но глядя на них, ломаются души у таких, как Чумаков. Рождаются более мелкие, но не менее опасные хищники…
— А причина? — спросил Стуков.
— Думаю, что в нашу жизнь вторглось множество привлекательных вещей раньше, чем успели воспитать у людей подлинную культуру потребления, привить им меру истинной ценности вещей в быту человека. Помните у Евтушенко: «Вещи зловещи…»?
— И еще, наверное, мещанство, — брезгливо сказал Стуков. — Мещанин питается вещизмом. Вещизм кормится мещанством.
3
Солнце разлеглось на выметенном дочиста мартовскими ветрами небе. Заискрились заплатки льда на стеклах гостиничных окон.
Начиналось двадцать первое утро Дениса Щербакова в Шарапово.
В коридоре райотдела Дениса поджидал Павел Антонович.
— Здравия желаю, — поприветствовал он следователя.
— Здравствуйте, Павел Антонович. Рад вас видеть.
— Какая там радость, — отмахнулся Селянин, подавая тяжелую, заскорузлую руку. — Я уже позабыл, когда она была, радость. И от меня людям только докука.
В кабинете окинул Дениса испытующим взглядом, сказал с уже знакомой ершистостью:
— Стало быть, опять зигзагами. По прямой-то, видно, трудненько. Касаткина обелили, теперь, слыхать, и Постников ни при чем. А вы вместо того, чтобы найти виновников смерти Юрия, вдруг лесной торговлей заинтересовались.
— Говорят, все в жизни взаимосвязано и переплетено.
— Какое там переплетение: бревна эти и смерть моего сына.
— А вы от кого узнали, Павел Антонович, про то, что мы вникаем в лесные дела?
— От самого авторитетного и знающего человека. — Селянин даже приосанился. — От Федора Иннокентьевича Чумакова. Посетил он меня, не побрезговал. Ладно мы с ним вечер посидели. Он мне и сказал: поскольку государственное следствие лесными делами заинтересовалось, а занимался ими в мехколонне только твой покойный сын, то у него об этих делах какие-нибудь записки остались. Мало ли там что. Пометил себе для памяти мелочь какую или расчеты. Тебе, говорит, они без надобности, ты их можешь выбросить запросто, а для следствия они могут стать документами. Так ты мне их отдай, а я передам следователю, поскольку с ним хорошо знаком. Порылся я у Юрия в столе, в книгах, никаких записок нет. Так и доложил Чумакову. Чумаков вроде бы остался доволен.
— Остался доволен и не просил вас молчать о его визите? Не обращался к вам ни с какой просьбой?
— Да вроде бы ни с какой. Хотя, постойте… Верно, пробросил: ты, мол, сильно-то, Павел Антонович, не распространяйся о наших с тобой разговорах. Сам знаешь, могут истолковать превратно. Ненароком набросят тень и на Юрия. Поскольку власти, похоже, ищут жуликов.
— Что же вы нарушили приказ Чумакова? Разгласили мне ваши секреты?
Павел Антонович смутился, но ответил с достоинством:
— Про вас он не заикался даже. Я ведь не где-нибудь среди кумушек на базаре. А в нужном месте. И нужному человеку… Я вас, прошу прощения, теперь уже почитаю за своего, поскольку разбираться приехали в причинах гибели Юрия.
— Спасибо, если так, Павел Антонович, — тепло сказал Денис.
А Селянин, удивляясь своему душевному порыву, а может быть, уже сожалея о нем, заговорил сумрачно:
— Век бы мне их не знать, дел этих лесных. Вы человек городской, начитанный, может, посмеетесь надо мной. Да только сызмальства я вырос в понятии, что не бывает никакой торговли на чистом сливочном мюле. Даже присказка такая есть: не обманешь, не продать… Да зачем куда-то далеко залетать. Бывало, Фрося моя вынесет на базарчик к рейсовому автобусу редиску. И трухлявая есть в пучке. Так ведь она отмоет, причешет ее, да так, что купят с лету. Или сальце выложит на прилавок, вывернет его тем боком, в котором мясные прожилки почаще… А потому, если говорить прямо, тянуло меня за душу, что сын мой в дела продажные впутался. Часто его выспрашивал: все ли, мол, у тебя чисто, не имеешь ли от кого навара, потому что выпивать стал частенько. Лес-то, понимаете сами, он кому дрова, кому громадная ценность. А в тайге его все еще прорва. Юрка, бывало, только усмехнется в ответ и разные ученые словечки: ныне, мол, предприимчивость и ловкость в большом государственном почете. Ну, а главное: не бери, мол, в голову, батя, Федор Иннокентьевич самолично каждому бревну ведет счет и с просек наших не спускает глаз. Покуда Федор Иннокентьевич на своей должности, со мной все нормально…
Денис признательно думал о том, какое важное, если не сказать сенсационное, сообщение сделал этот простодушный человек. И давая выход неотступно преследовавшей его мысли, спросил:
— Помните, вы рассказывали мне, что Юрий увлекался «Спортлото». Видели ли вы когда-нибудь у него карточки «Спортлото»?
— Видел. Не раз. Фрося даже выметала из избы ненужные, — и встревожился: — А к чему бы вам это?
— Да так, к слову. Известно вам, что ваш сын имел не только крупные сбережения, но еще и приобретал ценные вещи?
— Помню, за неделю, до того, как с ним получилось, вернулся он из области и показал мне золотое кольцо с камушками. Купил, говорит, дешево, по случаю. Надену, сказал, его на палец своей невесте. И похвалился, что на кольце мастер в магазине нацарапал мелконькие буковки Т. С., значит, Татьяне Солдатовой. — Павел Антонович, покряхтывая, поднялся, постоял у окна, не то смотрел на тихую улицу, не то прятал навернувшиеся слезы… Потом заговорил медленно, тяжело: — Да, Татьяна Солдатова… Не судьба, значит. А крепко она ему зашла в душу…
— Павел Антонович, — чувствуя неловкость за такой разговор, начал виновато Денис. — Могли бы вы показать это кольцо?
Павел Антонович отошел от окна, растерянно посмотрел на Дениса:
— Так нет у меня этого кольца.
— Где же оно? Мне известно, что в свой последний вечер в кафе ваш сын надел это кольцо на палец Солдатовой, а когда она отказалась принять подарок, забрал кольцо и положил к себе во внутренний карман пиджака.
— Одежду Юрия, в которой он был в тот вечер, мне выдали наутро в больнице. Точно по описи. Кольца при мертвом Юрии не было. — И вдруг вскинулся от внезапной догадки: — Так, может, за это кольцо и убили моего сына на дороге? Грабеж получается…
— А вы могли бы узнать это кольцо?
— Как сейчас вижу. Я ведь кроме этого кольца других за всю жизнь не держал в руках. Ну, кольцо, значит, обыкновенное, золотое, блещет. На цветочек похоже. Камушки сверкают сильно. И я говорил: буковки Т. С.
И снова Павел Антонович, помрачневший, отрешившийся от следователя, стоял у окна, смотрел на почернелые сугробы и как бы раздумывал вслух:
— Шибко подлую роль эта Танька Солдатова сыграла в судьбе Юрия… Я ведь к вам неспроста приехал. Когда Геннадий, старший мой, на похороны Юрия прилетел, привез он с собой последнее письмо Юрия, которое тот за два месяца до своей кончины отправил ему. В этом письме прямо сказано: Татьяна всему горю главная причина.
Павел Антонович долго не мог попасть дрожащими пальцами во внутренний карман пиджака. Наконец-то извлек пожелтевший, затертый конверт.
Денис взял конверт, начал читать:
«Генка, братан, здравствуй! — и вдруг подумал, что он давно занимается историей гибели Юрия Селянина, но вот впервые как бы слышит его самого. — Как там твои сейнеры, траулеры и весь рыболовецкий флот? Не помню уж, сколько футов надо морякам под килем для полного спокойствия, но желаю тебе именно столько, сколько надо. А я, брат, хоть и сухопутный, хоть и от океана черт-те в каком далеке, а сижу на мели. Да так прочно, что никакой кран не отдерет задницу от этой мели. Не подумай, Генка, что бедствую или обижен по службе. Живу денежно и пьяно, но тошно. Живу в авторитете, а вот рта не могу раскрыть. Если тявкну невзначай, такие кедры в здешней тайге повалятся, что аж земля затрясется. Словом, срываться мне отсюда надо по-быстрому, а то как бы меня не заглотнула «зубастая акула». Старикам, сам понимаешь, открыться не могу. А тебе, когда увидимся, выложу все без утайки. Отец все нудит: пора, мол, своим обзаводиться сынком, внуком, значит, Павлу Антоновичу. Я б с радостью. Семья там и прочая прелесть. Да где она, семья эта? Есть тут, правда, одна золотоволосая… И я, тебе честно скажу, готов душу свою прополоскать дочиста и швырнуть к ее ногам, пусть ходит по ней. Только, видно, и в этом я невезучий.
Она в сердце и уме держит другого.
Так что, Гена, будь благодетелем, шли вызов. Готов там у вас быть, кем скажешь: хоть палубу, как ты говоришь, драить, хоть рыбам обрезать хвосты. Только бы подальше от здешней благодати: «акул», кедров, разборчивых девчонок. И вообще подальше от всех. Твой брат Юрий».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Капитан Стуков впустил в комнату Круглову, прикрыл за собой дверь и сказал:
— Вот, знакомьтесь: капитан Щербаков — старший следователь УВД.
И включил магнитофон.
Стоявшая перед Денисом женщина была так вызывающе красива и так не к месту элегантно одета, что он только хмыкнул смущенно. В присутствии красивых женщин старший следователь УВД краснел и терялся. А тут еще ситуация, прямо скажем, своеобразная: и высказать свое восхищение нельзя, и глаз отвести невозможно.
Лидия Ивановна безошибочным женским чутьем оценила состояние молодого следователя, но сказала сердито:
— Мне кажется, в этой комнате не хватает еще одного человека. Я предупреждала Василия Николаевича, что подробно расскажу обо всем только в присутствии Чумакова.
Денис стал объяснять, что ее требование пока невыполнимо: очную ставку, по закону, он может устроить лишь после того, как предварительно будут допрошены оба ее участника, то есть она, Круглова, и Чумаков.
— Закон, конечно, что нож острый, — со вздохом сказала Круглова. — А я мечтала, как погляжу в бесстыжие глаза товарища Чумакова. Как выложу здесь правду-матку про то, чего простить себе не могу с той ночи, когда погиб Юра Селянин. — Пристукнула кулаком по колену и со слезами выкрикнула: — Не могу!.. Два года ночь ту проклятую позабыть. Пусть мне тоже не поздоровится… Ведь мог Юрий остаться живым. Он же шел навстречу нам. Останови я машину, ухвати Игоря за руку, когда увидела Юрия, и был бы Юрий живой…
Денис подал ей стакан с водой и сказал настороженно:
— Я не совсем понимаю вас. Вы с Постниковым встретили на дороге Селянина. Каким образом могли вы предотвратить его гибель?
— А так вот и могла. Только струсила в ту минуту. Побоялась сводить под одной крышей Игоря Постникова и Юрия Селянина. Постников ведь знал, что на Селянина я, втайне от Юрия, не могла наглядеться…
Денис посмотрел на Стукова и заметил, как тот пожал плечами: бабья, мол, благоглупость.
— А какая опасность угрожала тогда Селянину?
— Страшная, — сказала Круглова твердо. — Останови я машину, был бы жив Юрий. Ведь видела я, видела ясно, что у березы дожидался Юрия злодей. — И не сдержалась, всхлипнула.
— Какой еще злодей? — сердито спросил Денис, опасаясь, что и эти слезы, и искренние слова — всего лишь уловка для затяжки следствия, для направления его на ложный, никуда не ведущий путь. И упрекнул: — «Злодей!» Слово-то выбрали какое…
— А кто же он еще, как не злодей? Да еще самый лютый. — Звонкий голос Кругловой как бы надломился и звучал вроде бы откуда-то издали, и каждое слово давалось ей с великим трудом.
— Да кто же там стоял, в конце концов, у той березы? — не выдержал Стуков. — Бандит, что ли, уголовник какой, вам известный? Может, Кешка Сморчков — тогдатошная гроза здешних мест? В ту пору как раз объявлен был на него всесоюзный розыск…
— Нет, не гроза… А гордость и краса здешних мест — Федор Иннокентьевич Чумаков, который, по вашим словам, Василий Николаевич, таким товарищам товарищ, что нам с вами на них и взглянуть боязно.
— Как Чумаков?! — разом воскликнули Стуков и Денис.
А Василий Николаевич начал увещевать:
— А ты, девка, не того, не переложила в тот вечер лишку, не примерещилось тебе? Соображаешь, кого называешь?
— Соображаю. Чумаков там был. Это точно.
Денис быстро прошелся по комнате, успокаивая себя, спросил настороженно:
— Прикажете, Круглова, понимать вас в том смысле, что товарищ, — он нарочито выделил голосом это уважительное слово, — товарищ Чумаков затаился в темноте у березы и дожидался идущего по дороге Юрия Селянина, чтобы лишить его жизни? Почему же вы два года назад не сказали об этом?
— Именно так. Чумаков! Затаился и подкарауливал Юрия… — ни секунды не колеблясь, подтвердила Круглова. — А не сказала?… Так ведь меня никто не допрашивал. Все верили: Юрия задавил Касаткин. Да если бы и спросили, не сказала бы ни словечка. Мы с Чумаковым вроде как заложники один у другого.
Стуков, часто мигая, растерянно и подавленно засматривал в глаза то Лидии Ивановне, то своему коллеге, потом шумно отдуваясь, как после жаркой бани, достал носовой платок, обмахнул багровое, взопревшее лицо и сказал хоть и строго, но не очень уверенно:
— Ты что же, Лидия, своими глазами видела убийство?
— Вы что, Василий Николаевич, или уж вовсе не знаете Чумакова? Желаете, чтоб такой пройдоха и ловкач убийство совершил на глазах всего честного народа?
— Значит, это ваши предположения? — с непонятным облегчением спросил Денис.
— Уверенность! И полная. Чумаков даже за березу вильнул, когда мы его осветили фарами. Постников не заметил его. А я усекла и фигуру его медвежью, и шапку боярскую, на всю округу единственную! Василий Николаевич, когда из Ташкента меня вез, объяснил, что Постников не наезжал на Юрия. Да это я и сама знаю. Но Юрка-то мертвый… Кто же мог лишить его жизни? Сердце мое чует — только Чумаков! С чего бы ему ночью в метель прятаться за эту березу в километре от ворот завода. Он и днем мимо нее только на машине проезжал. Таких совпадений не бывает. Чумаков прячется ночью за березой и там же погибает Юрий!.. Мы с Игорем до центра поселка доехали и кроме Юрия и Чумакова никого не встретили. Разве это не доказательство? Или опять старая песня: «Товарищ Чумаков таким товарищам товарищ…»
Денис, свыкаясь с этой ошеломляющей новостью, снова думал: сколь велика порой брешь между доводами так называемого здравого смысла и строгими велениями закона. И, наверное, это очень хорошо, что такая брешь существует… Что прежде, чем доводы здравого смысла и даже убеждения следователя станут формулировками обвинительного заключения, будут не раз взвешены неопровержимые факты, не допускающие никакой двусмысленности в их толковании.
Василий Николаевич Стуков, должно быть, тоже подумал об этом. И спросил недоверчиво:
— Вы что же это, гражданка Круглова, располагаете данными, что у товарища Чумакова были важные причины, чтобы физически устранить Юрия Селянина?
Лидия Ивановна замолкла надолго. Разгорелись на лице красные пятна, будто следы пощечин, потемнели кукольные глаза… И голос изменился, осел, хрипловатым стал…
— Эх, не миновать, видно, во всем колоться… Были у него причины, важнейшие из важнейших. Чумаков молится двум богам. Один бог — власть, должность. Другой — даже повыше первого — деньги. А получилось так, что Юрий Селянин мог этих богов заставить отвернуться от Чумакова.
Лидия Ивановна сидела, подперев руками лицо, смотрела себе под ноги, мысленно снова и снова спрашивала себя: неужели последняя черта? Неужели нет никакого запасного выхода? И в первый раз поверила: да, последняя, отступление невозможно. Вздохнула, подняла бледное лицо, кивнула на жужжащий магнитофон и сказала с вызовом:
— Припасайте побольше пленки, рассказывать буду долго…
2
После именин Аркадия Лузгина, когда Чумаков вскользь упомянул про древесину, поваленную высоковольтниками, Лидия Ивановна в первый раз задумалась: что это?… Перст судьбы? Благословение Рахманкула?
Ее не печалили баснословные убытки, какие несло государство от бессмысленной порчи ценнейшего природного сырья. Всю ночь просидела Лидия Ивановна над листком бумаги, испещренным столбиками цифр. Подсчитывала, зачеркивала столбики, писала новые. Возбужденно потирала руки. Выходило, что прав был тот гостеприимный председатель колхоза: прибыли от перевозки этого бросового леса в среднеазиатские селения намного превосходили доходы денежных дел мастера Рахманкула…
С этой утешительной мыслью и отбыла Лидия Ивановна в Ташкент.
Не прошло и двух месяцев, как Лидия Ивановна возвратилась под крышу родного дома.
— Я теперь, мама, важный человек. Права мне даны такие большие. — Она многозначительно кивнула на привезенный с собой тощий портфельчик. — Вскоре передо мною всяк станет шапку ломать. А ты говоришь, недоучка, балаболка.
— «Не хвались, идучи на рать…» — проворчала Анна Федоровна.
На следующее утро Лидия Ивановна, приняв самый деловой вид, на какой только была способна, явилась в райисполком.
— Здравствуйте. Я — особоуполномоченный группы среднеазиатских колхозов по заготовке для них леса. Вот мои документы.
И, припомнив застольные речи Чумакова, пустилась в пространные рассуждения о вреде бесхозяйственности, в результате которой гибнут тысячи кубометров поваленной строителями высоковольтных линий древесины, о ее поистине золотой ценности. И, конечно же, о дружбе народов, о долге сибиряков помочь хлопкоробам в жилищном и хозяйственном строительстве.
Ответили ей, как того она и ожидала:
— Езжайте к Чумакову, утрясите детали. С нашей стороны возражений нет. — И начертали соответствующие резолюции.
С тем же тощеньким портфельчиком в руках прибыла Лидия Ивановна в малознакомый ей Таежногорск. И надо же случиться такой приятной, а главное — полезной встрече. Не успела Лидия Ивановна сойти с автобуса, как попала в объятия своей еще со школьных лет знакомой, Надежды Гавриловны Жадовой.
— Лидка!
— Надька!
— Ой, какая у тебя шубка миленькая! — Заплывшие глаза Жадовой поблескивали восхищенно. — Удачная цигейка.
Лидия Ивановна приосанилась, но сказала почти равнодушно:
— Нет, натуральный мех.
Взгляд Жадовой вспыхнул откровенной завистью:
— Да, да, конечно. Я не сразу вспомнила, что ты замужем и, говорят, за денежным тузом.
— Я приехала сюда одна.
Жадова, сообразив, что допустила бестактность, попробовала замять неловкость шуткой:
— Ты, Лида, в школу, что ли, снова поступать с таким портфельчиком?
Но Лидия Ивановна, холодно глядя на Жадову, с видимым усилием, точно портфель был набит кирпичами, приподняла его и сказала:
— В этом портфельчике, Надя, все мое будущее. — И добавила загадочно: — А может быть, и твое. Ты ведь, кажется, заместитель начальника станции?
— Уже начальник. — Теперь Жадова не скрывала гордости.
— Тогда мы дружим с тобой, Надежда! Моя Надежда!..
Спустя полчаса, в уютном домике Жадовой подруги шептались о баснословных барышах, какие можно огрести, если весь поваленный людьми Чумакова строевой лес переправить в Среднюю Азию…
— Только вот как его заполучить, строевой-то, — озабоченно прикидывала Лидия Ивановна. — Начальство Чумакова может разрешить продажу только тонкомера да разных древесных отходов.
— Надо искать способы. — Жадова выразительно прищелкнула пальцами. — Сухая ложка, как говорится, рот дерет…
Лидия Ивановна только и ожидала такого намека.
— Ты считаешь, Надя, что Чумаков… — с напускным испугом начала Лидия Ивановна, но тут же заспорила с собой: — А что? Чумаков тоже человек. А человек, известно, ищет где и что лучше… Время дураков бессребреников прошло. В цене комфорт. А даже за маленький комфорт надо платить большие деньги…
Лидия Ивановна говорила и не слышала свои слова. В эти решающие мгновения она видела и слышала своего Рахманкула…
А ее полузабытая школьная знакомая, которая, оказывается, так кстати имеет доступ к бесценным вагонам, казалось, давно ожидала Лидию и этого разговора, подхватила на лету ее мысли.
— Конечно, если ты, Лида, станешь в разных сферах добиваться нарядов и разрешений на лес да вагоны, так до своей старости, может, и добьешься. А если ты, так сказать, подмажешь телегу, так она и скрипеть не будет и пойдет куда надо. И не ты станешь искать наряды и разрешения — они тебя найдут сами.
На этих словах Надежда Гавриловна приостановилась и спросила озабоченно:
— А есть ли чем телегу-то, в смысле, подмазать? Или у тебя одни только полномочия да заклинания про дружбу народов?
— Есть. Есть и полномочия, и чем подмазать телегу есть…
Она замолчала. Думала о том, что предусмотрительно поступила в колхозах, которые она представляла в этом поселочке, поставив им условие, что за каждый закупленный кубометр леса они будут выплачивать ей по десять рублей комиссионных. Хватит, чтобы подмазать и телегу, и вагоны. И себе останется, как говорится, на хлеб с маслом да на чай с сахаром…
Но говорить об этом даже с доброжелательной и щедрой на советы Жадовой все-таки не стоит. Она компаньонка, да в таком деле поостеречься нелишне.
И Лидия Ивановна постаралась увести разговор от опасной темы. И со вздохом призналась:
— Права ты, Надежда… Не подмажешь, не поедешь… И платить надо за комфорт, — и, передавая инициативу разговора Жадовой, сказала: — А боязно к Чумакову с таким делом. Больно он важный и правильный… Может и в милицию сдать!..
Жадова суетливо затопталась по комнате, крыльями взмахивали полы ее халата.
— Да, Чумаков крепкий орешек. Верно: и важный, и правильный. К нему с таким делом не подступишься. Язык проглотишь со страху. — Она метнулась к окну, выглянула во двор и, словно бы рассмотрев там кого-то, возбужденно хлопнула себя по лбу:
— А знаешь, Лида, можно не подступаться к Чумакову, если уж такой мандраж перед ним. Есть у меня, понимаешь, на примете один здешний парень — Юрий Селянин. Работает в отделе снабжения в хозяйстве Чумакова. И вообще, говорят, Федор Иннокентьевич очень ценит его. Приглашу-ка Селянина на пельмени…
— Ой, Надька, век тебе не забуду такую услугу…
А увидела Юрия Селянина и чуть не позабыла про все дела. Бывают же такие казусы в бабьей жизни. Кажется, ничем этот Юрий не взял — ни ростом, ни статью, ни красотою лица. А как вошел, как взглянула на него Лидия Ивановна, так будто жаркой волной окатило ее.
Не отводила от него заблестевших глаз и вдруг, чего уж давно не случалось с нею, покраснела, поймала в себе желание оплести руками шею этого парня, притиснуть его к себе, обжечь поцелуями еще мальчишеское лицо. Пусть будет что будет. Пусть судят и пересуживают здешние кумушки занятную новость про то, как не первой молодости баба совратила и закружила желторотого юнца… Надька-то Жадова с какой ухмылочкой поглядывает. Почуяла, стерва! Бабы на такие тайны ох как догадливы…
Будь прокляты эти придуманные во зло нормальным людям бесконечные «нельзя». Открыться в любви приглянувшемуся парню — нельзя. Делать деньги, как делал их Рахманкул, — нельзя. Жить на эти деньги в полное удовольствие, жить так, чтобы все лопались от зависти, — опять нельзя. ОБХСС не дремлет…
Лидия Ивановна неприязненно покосилась на Жадову, потом на Селянина, удивленно взиравшего, с чего бы такая гордая и красивая баба то краснеет, то бледнеет, — и сказала ласково:
— Будьте нашим гостем.
Юрий охотно ел пельмени, еще охотнее прихлебывал из рюмочки коньячок и беседу вел самую интеллигентную: об изъянах и достоинствах наших и зарубежных вокально-инструментальных ансамблей, фигурном катании, киноактере Михаиле Боярском…
А в душе недоумевал: с чего вдруг затащили к себе в дом эти малознакомые ему старухи, уставили стол коньяком, дорогими закусками, кормят, поят, слушают будто мудреца, и смотрят такими глазищами, что аж озноб продирает.
Лидия Ивановна, всегда уверенная в своей красоте и неотразимости, чувствовала себя отвергнутой: милый, но неказистый Селянин не обращал на нее никакого внимания.
Лидия Ивановна пожирала глазами этого птенчика и мысленно клялась: когда осуществятся ее планы и у нее будет много денег, она непременно купит, что бы это ни стоило, эти руки, эти глаза, эти губы. Только ради этого и стоит затевать то, что задумала она…
Наконец Жадова согнала со своего лица блаженную улыбку, с какою слушала излияния Селянина, и сказала озабоченно:
— Юрий, значит, такое дело. Гостья наша, Лида, значит, сюда не на побывку приехала, а по государственной надобности. И нужна ей наша помощь.
Юрий положил вилку, отодвинул рюмку:
— Какой же я в государственных делах помощник? Я человек маленький.
— Не такой и маленький, если разобраться, — назидательно начала Жадова. — Снабженец! — Она вскинула к потолку пухлую руку. — К тому же запросто вхож к одному влиятельному человеку.
— К Федору Иннокентьевичу, что ли? — Юрий приосанился. — Верно, у нас с товарищем Чумаковым все нормально, все по уму. А чего требуется? Какая помощь государству? Экскаватор, может? Или кран? Мне запросто замолвить словечко.
— Ты лучше, Юрий, замолви, чтоб принял Чумаков нашу Лидию Ивановну. Да поласковее. Лес ей, понимаешь, нужен, который валите на просеках. Не абы какой, а деловая древесина.
— Лес! — Юрий оживился. — Я обязательно передам Федору Иннокентьевичу. Обещать ничего не могу, но товарищ Чумаков частенько насчет леса беспокоится: как наладить его сбыт, поскольку бесхозяйственность и порча народного добра.
3
Но или плохо объяснил Юрий Федору Иннокентьевичу нужды Кругловой, или основных дел у него было невпроворот, только встретил он Лидию Ивановну холодно. Едва кивнул начальственно, ткнул пальцем воздух, указуя на стул. А когда Лидия Ивановна с ослепительной улыбкой сказала, что они знакомы: встречались на дне рождения архитектора Лузгина, он лишь плечами пожал безразлично, буркнул: «Возможно». Когда же Лидия Ивановна стала пространно излагать цель приезда в Таежногорск и, желая угодить Федору Иннокентьевичу, его же словами заговорила о нетерпимости к бесхозяйственности и о дружбе народов, помянула о том, что запаслась разрешением райисполкома, он прервал ее властным тоном:
— Короче, гражданочка, короче. Селянин, — Чумаков кивнул на присутствовавшего при их встрече Юрия, — описал мне вашу миссию. И в райисполкоме против продажи вам леса действительно не возражают. Полагаю, не возразят и в тресте. Но я еще на всякий случай свяжусь с главком. Договоримся сразу с вами так: меня ваша коммерция не касается совершенно. Меня по этим вопросам беспокоить не надо. Для решения таких непроизводственных задач у нас существует товарищ Селянин. Так что держите связь с ним. А вообще… Он сделал паузу и энергично пристукнул ладонью по столу: — Я дам только порубочные остатки. А ваше дело найти рабочих разделать лес на просеках, вывезти на станцию, изыскать вагоны, погрузить и отправить по адресам. Нас, то есть механизированную колонну, эти ваши операции не касаются абсолютно. Меня интересует только, чтобы все было по закону. Чтобы имелся договор с колхозами, оплата была предварительная и по чековым книжкам. Вам все ясно? Деньги на кон — и лес ваш.
Лидия Ивановна, подавленная жестокостью этих условий и сложностью разом рухнувших на нее проблем, пролепетала:
— Ясно, Федор Иннокентьевич.
— Ну, коли ясно — по рукам, — удовлетворенно подытожил Чумаков. — Ты, Селянин, отвези гражданку, покажи ей лес на Ганиной гари. Дальнейшее — ее дело.
— Ганиной гари?! — привстал опешивший от чего-то Юрий.
— Именно на Ганиной, — подтвердил Чумаков.
Вдоль просеки шуршали, встряхивали колючими лохмами красностволые сосны. Взвывая мотором, газик подпрыгивал на ухабах и оплетавших просеку корневищах.
Лидия Ивановна в лад этим прыжкам раскачивалась на переднем сиденье и через плечо косилась на сидевшего сзади Юрия.
Да, видно, не властна была над Селяниным даже модная телепатия. Не доходят до него мечты и мысли Лидии Ивановны. Сидит, будто проглотил аршин, насвистывает что-то и даже бровью не поведет.
— Ты, Юрий, всегда такой? — игривым голосом осведомилась Лидия Ивановна.
— Какой такой? — Лицо Юрия каменное. Ни улыбки на нем, ни оживления.
— Серьезный. Угрюмый, — ответила она. А так хотелось сказать: «Чурбан бесчувственный. Пень равнодушный».
— Всегда.
— Да парень ты? Или только так носишь штаны? — зло выпалила Лидия Ивановна и под смех шофера, перед самым носом Юрия, будто в пляске, повела открытыми полными плечами.
А ему все трын-трава. Мямлит, словно спросонок:
— Говорят, парень.
— Кто говорит, тот, может, и проверил. А меня берет сомнение…
Но Юрий то ли сделал вид, что не расслышал ее игривых намеков, то ли были они ему «до лампочки», сказал деловито:
— Все. Приехали. Вот Ганина гарь. Выбирайте товар.
Лидия Ивановна, разом позабыв об уязвленном женском самолюбии, осмотрелась вокруг и едва не вскрикнула.
По обе стороны просеки ровно яростный ураган пролетел. И выворотил из земли корявые березы, тонкостволые осинки, кустарник-недоросток. Свалил, смешал все беспорядочной грудой, намертво переплел ветки, раскорячил иссохшие корневища.
Такой бурелом, завалы этакие не всякий бульдозер осилит, и даже в безлесной Средней Азии никому не нужна эта труха. За такую древесину колхозы не только не оплатят комиссионных, но и саму поставщицу прогонят взашей.
Лидия Ивановна еще раз обвела взглядом груды лесных завалов и, разом позабыв взлелеянную в душе нежность к Селянину, едва сдерживая душившие ее гневные слезы, яростно сказала:
— Ты это куда меня привез, безобразник?!
— Не ругайтесь. Привез, как было при вас приказано товарищем Чумаковым, на Ганину гарь.
— А зачем мне эти банные веники? — Лидия Ивановна всхлипнула.
— Так это же тонкомер-дровяник. Да и не мое это дело. Товарищ Чумаков приказал, я исполнил.
— Исполнил! — вспылила Лидия Ивановна. — Молод ты, парень,
шутки шутить надо мной. Ты меня не на гарь эту Ганину, ты меня в Красный лог вези. Знающие люди говорят, у вас там лесу этого припасено много. Да настоящего, строевого, сухонького… Мне такой подавай.
— Не было указаний насчет Красного лога.
Лидия Ивановна уловила в спокойном ровном тоне Юрия какую-то неуверенность, заминку. Ей даже показалось, что Юрий пытается скрыть от нее, что какие-то указания, причем именно относительно Красного лога, Чумаков все-таки дал ему. Тогда Лидия Ивановна, страшась в душе спугнуть везение, получить отпор от этого увальня, сделала решающий шаг в своей жизни. Впрочем, то, что это был решающий шаг, Лидия Ивановна в полной мере осознала лишь сейчас. А тогда, отведя Юрия в сторону от шофера, сказала:
— Ты вот что, Юрий Селянин… Послушай теперь мои указания… Давай-ка мы с тобой так поладим: я начинаю отгрузку строевого леса из Красного лога. Ты, как представитель мехколонны, оформляешь акт честь по форме, что это тонкомер и ничто другое и что взят он из Ганиной гари. Столько-то кубометров. И, как полагается, даешь на утверждение товарищу Чумакову. Я по чековым книжкам оплачиваю этот лес, как тонкомер. А в благодарность за вашу любезность за каждый кубометр товарищу Чумакову по два целковых, а тебе за старание по полтиннику.
Сказала и попятилась: вот сейчас этот непробиваемый Юрий Селянин заорет: «Вы что?! Взятку предлагаете?! И кому? Самому товарищу Чумакову?!» Да еще кулаком даст по физиономии вместо поцелуя…
Но Юрий сказал деловито и спокойно, ровно о решенном давно и прочно:
— Товарищу Чумакову — три рубля, мне — рубль.
— Не жирно ли? — азартно, будто с торговцем арбузами на ташкентском базаре рядилась, радостно возразила Лидия Ивановна.
— Дело ваше, — невозмутимо сказал Селянин. — Как говорится, у нас — товар, у вас — купец. Жирно — пользуйтесь этой вот Ганиной гарью. У нас тоже свой риск и свой расчет. И на этот риск товарищ Чумаков меньше чем за трешку не согласен.
Через три дня Селянин отвез Лидию Ивановну в Красный лог, отмерил ей тысячу кубометров строевого леса, деловито пересчитал тысячу рублей для себя и три тысячи для Чумакова. Рассовал их по разным карманам и сказал:
— Федор Иннокентьевич велел сверху прикрыть тонкомером.
Так все и началось…
— И как долго продолжались ваши коммерческие отношения с Чумаковым? — спросил Денис, выслушав исповедь Лидии Ивановны.
— Три года. До перевода отсюда Чумакова. И до убийства Юрия Селянина. Вернее, до того дня, когда Юрий наотрез отказался провести последнюю операцию. Как ни нажимал на него Чумаков, как ни упрашивала я, Юрий ни в какую. Это обошлось мне в десять тысяч моих комиссионных. Я ведь предварительно оплачивала покупки, а после смерти Юрия его преемник отмерил мне один дровяник. В полном соответствии с договором. Я вынуждена была проглотить эту пилюлю: погрузить и отправить тонкомер адресатам, тысячу кубометров. На этом мои полномочия закончились. В колхозах мне было сказано, что такой товар им не нужен. А что я могла сделать? Ведь не было в Таежногорске ни Селянина, ни Чумакова.
— Сколько всего вы закупили леса?
— О, мы вели дело с размахом! — На мгновение в погасших глазах Лидии Ивановны зажглись искорки былого азарта. — Отгрузили за это время четырнадцать тысяч кубометров.
— Спасибо, Лидия Ивановна, вы говорите правду, — думая о том, что жестокой правдой против Чумакова, должно быть, являются все показания этой «деловой женщины», сказал Денис. — Привлеченные капитаном Стуковым эксперты установили, что в числе этих четырнадцати тысяч свыше двенадцати тысяч кубометров деловой древесины. Остальное — действительно тонкомер, или, как называют его специалисты, — дровяник. Материальный ущерб, нанесенный государству вашей преступной группой, составляет свыше ста двадцати тысяч рублей. Согласны вы с этим?
— Об этом спросите Чумакова. Он знает цену каждому кубометру. Я платила по ценам, указанным в счетах.
— Следовательно, Чумаков получил от вас за эти двенадцать тысяч кубометров деловой древесины, — начал Денис, но Круглова перебила его:
— Чумаков получал оптом за всю древесину, независимо — деловая она или какая. Я передала для него Селянину сорок две тысячи рублей.
— Послушай, Лидия, — задвигался на своем стуле Стуков, — а ты не допускаешь, что этот самый Юрий только работал под Чумакова и прикарманивал все эти день?
— Больно уж хочется вам, Василий Николаевич, хоть за уши да вытащить Чумакова из грязи, — с усмешкой сказала Круглова. — Конечно, деньги, они такие, они липнут к рукам. К тому же Юрия спросить уже ни о чем нельзя. Чумаков позаботился об этом. Да только никак я не допускаю, чтобы такой деляга, как Чумаков, без всякого личного интереса так оплошал и допустил такую халатность, что у него под носом возили из Красного лога чуть не корабельные сосны, а он подмахивал акты Селянина о том, что возят дровяной осинник из Ганиной гари. Да и сам не раз наезжал в Красный лог, видел своими глазами. Можете спросить об этом его персонального шофера. — Круглова тяжело вздохнула и добавила: — Хотя, наверное, зря я требовала с ним очную ставку. Обставил он свою безопасность железно. Я ведь ни разу с рук на руки не передала ему ни рубля. И вообще виделась с ним редко. О деньгах разговора не вели никогда. А Юрия, через которого делалось все, нет в живых. И выходит, что я перед таким высоким лицом клеветница и оговорщица.
Казалось бы, еще после допроса свидетеля Яблокова, после встречи в конторе ГШК с Афониным и другими закралась у Дениса робкая, но не дававшая покоя мысль о том, что Федор Иннокентьевич Чумаков, если не прямо, то косвенно имеет касательство и к гибели Юрия Селянина, и к загадочному, на первый взгляд, интересу среднеазиатских колхозов к лесу-тонкомеру. Мысль эта не давала покоя, приходилось сопротивляться ей, отгонять… А после встречи в этом кабинете с самим Чумаковым неловко было даже заподозрить в чем-нибудь такого сильного и гордого своим делом человека. Но сейчас эта женщина напрямую подтверждает самые дерзкие предположения следователя…
— Лидия Ивановна, по вашему трудовому соглашению, колхозы выплачивали вам по десять рублей комиссионных за каждый купленный вами кубометр. За что такая щедрая оплата?
— Ребенку понятно, — усмехнулась Круглова. — Древесина эта в тайге, обделать ее, хоть бы те же ветки обрубить, погрузить на машины, доставить на станцию, погрузить на платформы. А даром делать никто ничего не станет. Ну, и мне вознаграждение за труды. Я ведь тоже не из энтузиазма старалась. Мне тоже полагается зарплата. Мои заказчики сказали: хочешь — всю десятку положи себе в карман и сама на закорках таскай бревна, хочешь — раздай до копейки. Но доставь нам эти кубометры. Распоряжайся комиссионными по своему усмотрению.
— Ну, и как же вы ими распорядились? Документами подтверждено, что вы получили от колхозов сто двадцать тысяч рублей.
— Правильно, больше ста двадцати тысяч, — кивнула Круглова. — А должна была получить сто сорок. Подкузьмил Селянин… А куда ушли? Считайте… Чумакову, как я уже сказала, больше сорока двух тысяч. Селянину — больше двенадцати, Пряхину и Жадовой — больше восьми, тысяч двадцать пять на круг за разделку и за погрузочные работы. Сколько там остается? Около сорока тысяч. Это, значит, мне. Все-таки кооперативная квартира, колечки, сережки, ну и светская жизнь. Словом, ребятишкам на молочишко… — Тяжело вздохнула и призналась: — Только это пустые слова… Нету у меня ребятишек. А деньги как пришли, так и ушли…
— А вам не кажется, что вы позабыли упомянуть Игоря Петровича Постникова, — напомнил Денис. — Ведь немалая часть погрузочных работ осуществлялась с помощью Постникова.
— Этого голубка не припутывайте сюда, — почти умоляюще сказала Круглова. — Чистый голубок он. Не получал он ни копейки. Как-то заикнулась, что, мол, колхозы могут ему сверх оклада выплачивать премиальные, так он прямо рассвирепел: «Не вздумай Федору Иннокентьевичу заикнуться об этом. За такие премии судить будут и тебя и меня». Тогда я к нему с другой стороны… Ко дню рождения браслет к часам презентовала. Потом и не рада была. Игорь мне его чуть в лицо не швырнул и закричал: ты что меня за Альфонса принимаешь?! Чудной он, Игорь этот, как в церкви говорят: невинный отрок. И откуда такие берутся?… Месяц я после этого браслета избегала его, к телефону не подходила. А с вывозкой леса прижало. Но тут Игорь сам пришел. Простила я его за невежество с радостью. Не за деньги старался Постников. Мне стоило только бровью повести — и он бы сам на загорбке бревна эти с просеки на станцию поволок и уложил на платформу.
Василий Николаевич Стуков, все это время задумчиво молчавший, сказал грубовато:
— Ты вот что, Лидия, ты уж извини на резком слове. Да только объясни начистоту: ты вот здесь свою любовь с первого взгляда к Юрию Селянину расписывала. Так, может, эта любовь такая же, как твоя любовь к Постникову? Чтобы, значит, тебе бровью повести, а он за тебя и в огонь, и в воду? Может, все для того, чтобы сберечь лишний рублик на кубометре?
Разом побагровевшая Круглова с усилием заглотнула слезы, но сказала твердо:
— Конечно, я виновата. Да только оскорблять меня не положено. И вы это знаете. Но раз уж вы, дядя Вася, запустили такой вопрос, я отвечу, как земляку… Верно, мужиков в моей жизни было много. И молодых, и постарше. А вот Селянин Юрий, хоть и не был моим, один он такой в моем сердце. И поведи он бровью, только намекни мне: мол, брось, Лидия, свое поганое ремесло, уедем с тобой на край света… Я бы с ним прямо от Надьки Жадовой, еще при первой встрече, хоть в тундру, хоть в пустыню, и от денег отказалась бы бешеных…
Она посидела, подперев руками лицо, потом сказала Денису:
— Могла бы я потянуть резину, поломаться, покуда бы вы искали доказательства. Нашли бы, конечно, я понимаю. Но я сама все рассказала. А почему сама, спросите?… Есть у меня три причины: страх сжирал меня за коммерцию, и даже в жарком Ташкенте колотил озноб. Понимала, что не миновать расплаты. Знала и другое: не остановится Чумаков. Вкусил сладкой жизни. Она ведь как паутина… Со мной обошлось, с другими наколется. Значит, размотается клубок, и меня тоже к ответу!.. Вторая причина — смерть Юрия простить себе не могу. А третья — главная: не могу, чтоб Чумаков процветал на чужих костях. До меня ведь в Ташкент слух дошел, будто совсем уже решено забрать его на работу в Москву. Значит, будет он и в больших чинах, и при больших деньгах, и не захлебнется Юркиной кровью. А это, граждане следователи, не по-человечески. Земля остановится, если случится так…
— И все-таки, Лидия Ивановна, — почти сочувственно начал Денис, — что же стало, по-вашему, решающим мотивом для Чумакова в расправе над Селяниным? Его хозяйственное преступление, допустим, мне понятно: решил стать подпольным миллионером, втянулся в аферы, обуяла жадность, не мог остановиться… Но убить человека — это уже совсем иная психология, крайняя мера жестокости, тем более убить человека, которого он любил…
— Любил! — засмеялась Круглова. — Покуда Селянин прикрывал его своей спиной да мошну ему набивал моими трешками. Чумаков, как рассказывал Селянин, так планировал: его переведут в трест, Селянин останется здесь, а трешки эти с каждого кубометра, хоть и пореже, но потекут к нему. Ну, а если какой прокол, в ответе за все Селянин. А Юрий, на свою беду, в последние месяцы взбунтовался. Может, страх его настиг, может, совесть. Только Чумакову он отказал наотрез провести последнюю со мной операцию, да еще пригрозил Чумакову и мне, что заложит всю кодлу. Я поверила: заложит. И впору было самой бежать отсюда… А Чумакову ведь некуда бежать. Боялся он тогда Селянина. От одного слова Юрия могла рухнуть вся судьба Чумакова. Вот и решился Чумаков. — Круглова, как бы ища согласия и поддержки, обвела вопрошающим взглядом Стукова и Дениса и заключила печально: — Вполне я сознаю, кто Чумаков и кто я. И понимаю, что цена моим словам грошовая. Станете вы их еще проверять да примерять, но Чумаков вместе со мной сядет на скамью подсудимых… Так вот, чтобы получилось это скорее, хочу я вам назвать одно местечко. Поскольку Юрий Селянин был для Чумакова не только золотой жилой, но и золотой рыбкой на посылках, доверял Чумаков ему и свои амурные дела. Ему одному. В дачном поселке под городом, на улице Лесной, номер дачи не знаю, есть такой терем-теремок, как пасхальное яичко. Подъезжала я к нему вместе с Юрием. Он поклажу доставлял от Чумакова. Я дожидалась его в машине. Юрий потом шепнул мне, что хозяйкой в тереме Тамара Владимировна. А фамилию не назвал. И намекнул, что Чумакову эта хозяйка ближе родной жены. А еще Юрий говорил, что покуда к Чумакову не потекли мои трешки, терема этого у Чумакова не было. Жил с женой в обычной квартире, как все прочие труженики… Туда Юрий, хотя и реже, но тоже возил поклажи.
Когда конвойный вывел из кабинета Круглову, Денис энергично растер свою раскалывавшуюся от боли голову и сказал устало:
— Вот вам, Василий Николаевич, его превосходительство статский генерал Чумаков.
Стуков ответил почти умоляюще:
— Погодите, Денис Евгеньевич. Свыкнуться мне надобно со всем этим. Но и не верить Лидии не могу. Смысла не вижу для нее в обмане. И какою бы тяжелой ни была ее вина, я помню, что эта самая Лидка Круглова — моего однополчанина дочка. А стало быть, солдатская совесть велит мне тщательно вникнуть во все, о чем она толковала здесь, и, если это правда, то костьми лечь, но снять с этого статского генерала его погоны!..
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Денис представлял Постникова самоуверенным, склонным порисоваться человеком.
Однако сейчас перед Денисом сидел гражданин с осунувшимся, усталым лицом… И Денис подумал: «Общение со следствием ни для кого не проходит бесследно».
Стараясь ободрить Постникова, видно, не верившего в поворот к лучшему в своей судьбе, Денис сказал сочувственно:
— Устали, Игорь Петрович, изнервничались?
— Ясно понял: самое страшное — жить в подвешенном состоянии, не зная, в чем виновен и чем обернется завтрашний день. Да еще тоска по жене, по дочке. Всего какой-то час лету, но ваш коллега лишил меня права на этот час…
— Капитан Стуков сделал, Игорь Петрович, все для того, чтобы не просто вернуть вам право на встречу с вашей семьей, но и вернуть вам право на свободу, на доброе имя и добрую репутацию. — Денис вынул из папки расчеты Стукова и, как несколько дней назад Чумакову, протянул их Постникову. — Вот математически точное свидетельство вашей невиновности в наезде на Селянина.
На порозовевшем лице Постникова проступили смятение и радость. Когда он взял листок, пальцы его дрогнули.
— А, это те спасительные для меня шесть с половиной минут, о которых рассказывал мне Федор Иннокентьевич. — И не удержался, кольнул: — Так сказать, научный подвиг капитана милиции Стукова.
— Вы напрасно иронизируете. Это не научный подвиг, а проявление следовательской честности, высокого профессионализма, я бы сказал, следовательской удачливости. Без этих расчетов ваша судьба и судьба всего дела о гибели Селянина могли завершиться иначе.
— Может быть, капитан Стуков и честен, и профессионален, только мне от этого не легче. Какими профессиональными мотивами руководствуется он, когда эти расчеты не доводит до моего сведения и я продолжаю пребывать в незавидном положении подозреваемого без права выехать к месту жительства.
«Следовательно, словоохотливый Чумаков посвятил Постникова лишь в часть нашего разговора. О расследовании лесных дел умолчал». Отметив про себя, что обстоятельство это, правда, опять косвенно, свидетельствует против Чумакова, Денис сказал:
— Напрасно вы сетуете на Стукова. Выезда из Таежногорска не разрешали вам по моему настоянию. В ходе доследования обстоятельств гибели Селянина нас заинтересовала торговля лесом, которую вела Таежногорская ПМК со среднеазиатскими колхозами. Установлена и частично обезврежена группа расхитителей.
— Прикажете понимать вас в том смысле, — убито сказал Постников, — что я имею честь принадлежать к этой группе?
— А как вы полагаете, положа руку на сердце?
— Ну, если положа руку на сердце, позвольте еще вопрос.
— Задавайте.
— Лида Круглова тоже обезврежена?
— Да. Но почему вы сразу заговорили об этой женщине?
Постников с опаской взглянул на Дениса, прикидывал в уме: какой новой бедой обернется его откровенность.
— Во-первых, все знали, что лес в ПМК закупает Круглова, во-вторых, хотя это грозит моему семейному очагу, я любил эту женщину. В-третьих, у меня есть основания думать, что Лидия Ивановна не простила мне разрыва с ней и в отместку за мою скорую женитьбу оговорит меня в чем угодно. Не знаю, как на ваш взгляд, но есть достоверное свидетельство моей непричастности к махинациям, если они были, конечно. Любящий мужчина никогда не разменяет своих чувств на денежные, тем более с любимой женщиной.
— В общем-то, логично, — подбодрил Постникова Денис. — Хотя в жизни бывают всякие аномалии… Но вы напрасно не доверяете вашей бывшей подруге. Она встала за вас стенай.
— Спасибо ей за правдивость, — облегченно вздохнул Постников. — Но есть более авторитетное мнение обо мне. Спросите Федора Иннокентьевича Чумакова. Он подтвердит, что помогал Кругловой в грузовых операциях я лишь по его просьбам, в интересах ПМК, и, естественно, не имел ни малейшей корысти. Тому, что скажет обо мне Федор Иннокентьевич, можно верить.
Скрывая удовлетворение поворотом беседы, Денис сказал не без иронии:
— В таком случае, Игорь Петрович, следствию, вопреки научному подвигу капитана Стукова, пришлось бы поверить Чумакову и брать вас под стражу. Поверить в то, что вы и только вы сбили своей автомашиной идущего по дороге Селянина, что вы, отнюдь не бескорыстно, в обход письменного запрета начальника ПМК, злоупотребляли служебным положением, использовали ведомственный автотранспорт, краны и подчиненных вам людей для оказания помощи расхитителям леса.
Лицо Постникова стало изжелта-бледным. В глазах проступил ужас:
— Так показал Федор Иннокентьевич?
— А кто же еще? — стараясь внушить хотя бы толику спокойствия Постникову, сказал Денис. — Именно Федор Иннокентьевич, сидя на том же стуле, на котором вы сидите сейчас.
Постников вскочил, словно ему стало нестерпимо сидеть на стуле, на котором недавно сидел Чумаков и оговаривал его, своего любимца, в преступлениях немыслимых, никогда им не совершенных. Постников налил из графина стакан воды, залпом осушил его и сказал запальчиво:
— Как же так? Федор Иннокентьевич?! Ведь заготовил приказ о назначении меня главным инженером!.. И это «вопреки его письменному запрещению» да еще не бескорыстно?! — Постников уселся напротив Дениса на другой стул и заговорил спокойнее: — Действительно, Чумаков отдал письменное распоряжение не отвлекать ни одной машины или другого какого-нибудь механизма и ни одного человека для непроизводственных нужд. Но месяца через два-три Чумаков вызвал меня к себе и сказал, что у него есть личная просьба: в нерабочее время в интересах ПМК оказать содействие Кругловой в транспортировке леса до станции. Естественно, я не мог ослушаться и стал договариваться с подчиненными, чтобы они за отдельную плату выполняли работу для Кругловой. Потом Чумаков несколько раз повторял эту просьбу. Ссылался на то, что из среднеазиатских колхозов в порядке шефства поступают овощи и фрукты.
— А лично Чумаков присутствовал при погрузочных операциях?
— Нет, он был очень занят. Припоминаю единственный раз. Приехали мы по производственным надобностям с Чумаковым в Красный лог. А там Круглова чуть не плачет: остановилась погрузка леса из-за отсутствия троса. Она к Чумакову. Тот отказал, но потом велел мне выдать ей трос. Только оформить отдельным счетом.
— Вы, Игорь Петрович, хорошо помните, что это происходило именно в Красном логу?
— Хорошо. В Красном логу техника была в тот момент сконцентрирована.
— Какой лес грузили там — деловую древесину или дровяник?
— Из Красного лога грузили только сосновые и даже кедровые бревна. Строевой лес…
— Мне хочется возвратить вас к событиям того вечера, когда погиб Селянин. Почему на первом допросе вы скрывали, что ехали с Кругловой по той дороге?
Постников сказал, как бы преодолев что-то в себе:
— Так советовал мне Чумаков. Я считал: из симпатии ко мне.
— Не можете припомнить, кого встретили на шоссе?
— Шел навстречу Селянин возле самого ДОЗа. Лидия потом твердила о каком-то краешке вины. Я видел вину в том, что мы не взяли Селянина в кабину. Наверное, он бы остался жив.
— А возле березы не встретили никого?
— Мелькнул кто-то. Но кто — не рассмотрел. Был сильно пьян и вел машину.
Оставшись один, Денис вызвал по телефону секретаря начальника Таежогорской ПМК и попросил пригласить к телефону Федора Иннокентьевича Чумакова. Секретарша ответила, что он уже отбыл в областной центр. Денис положил трубку и сказал:
— Придется, Федор Иннокентьевич, побеспокоить вас в областном центре…
2
На этот раз Чумаков не ослеплял Дениса блеском горячих глаз и белых зубов в дружеской улыбке. Выхоленное лицо и дородная фигура источали оскорбленное достоинство и то смирение, о котором метко говорят, что оно паче гордости.
С плохо скрытой неприязнью взглянул на Дениса и наклонил голову — не то злость прятал, не то отменную вежливость проявлял, не то намекал, что повинную голову меч не сечет.
— Вот, значит, как довелось нам во второй раз…
Он произнес это с искренним сожалением и положил на стол повестку с таким скорбным видом, что следователь невольно подумал: наверное, с таким же видом возлагал свой венок на могилу Селянина.
И все-таки Чумаков оставался Чумаковым. Без приглашения прочно уселся на стул, улыбнулся грустно и, указав на повестку, сказал.
— Воистину, от сумы да от тюрьмы… — Вопросительно взглянул на Дениса. Теплилась еще в глубине Чумаковой души надежда, что говорун-проповедник, в общем-то свойский парень, каким постарался предстать Денис при первой встрече, рассеет тревоги Федора Иннокентьевича, и их отношения вернутся в ровное и доброе русло.
Но Денис молчал холодно и выжидательно. И Чумаков, глядя на повестку, продолжал горестно:
— Изменчивость судьбы. Я вам рассказывал: прошел путь от грузчика до руководителя треста. Победителем соревнования во всесоюзном масштабе был, особо ответственные задания выполнял, в коллегиальных органах состоял и состою, а вот подозреваемым — бог миловал… Не скажу, что очень приятное состояние. — Сделал паузу и пробросил как бы между прочим: — Поэтому направляясь к вам, я поставил в известность кое-кого из товарищей, от которых зависит кое-что в этой жизни, где меня искать, если вдруг потеряюсь… Вдруг да вы с присущим вам служебным рвением велите прямо в кабинете заковать меня в кандалы и отправить в холодную…
Все это было сказано как бы полушутя, но Денис уловил и скрытую угрозу, и глубокое презрение к нему, Денису Щербакову, крайне мелкой сошке, по мнению Чумакова, и растерянно подумал: «Что это? Привычная для Чумакова поза? Суперменство, ставшее второй его натурой, приведшее в конце концов его в этот кабинет, пересилившее в душе этого человека и память о завещанной отцом-солдатом старинной скрипке в футляре, и романтический ореол вокруг своей профессии, и все добрые порывы…» Денис был поражен цинизмом Чумакова, упрекавшего его в жестокости. Ведь в отношении Юрия Селянина этот респектабельный человек дважды проявил изощренную жестокость. Сначала растлил неокрепшую душу парня, посеял в ней ядовитые семена стяжательства и языческого поклонения деньгам, а потом физически уничтожил, растоптал вышедшего из повиновения раба.
Эти очень горькие и очень справедливые слова Денису хотелось выкрикнуть в лицо Чумакову, но надо соблюдать процессуальные нормы, надо помнить о неписаном кодексе этики следователя. Этот кодекс не позволяет допускать грубость, резкость, окрик по отношению к человеку, сидящему по другую сторону стола, в какой бы глубочайший конфликт не вступил тот с законом. Тот, кто по другую сторону стола, лишен возможности ответить следователю на резкость. Силы не равны. Грубость, окрик следователя — это проявление неуверенности и слабости. А сейчас по другую сторону стола следователя сидел Чумаков и всем своим видом требовал извинений за его нарушенное повесткой спокойствие, человек очень сильный, умеющий рассчитывать слова и поступки на много ходов вперед, беспощадный, уверенный в себе, в непробиваемости и прочности своих заслуг и званий. В поединке с ним нельзя поддаться слабости, раньше времени выказать истинное к нему отношение, дать ему оружие против себя.
Денис, сделав над собой немалое усилие, сказал почти дружелюбно:
— Ну, отчего же сразу в кандалы. Подозреваемый не всегда становится обвиняемым.
— Надеюсь, и меня минует чаша сия. Не возьму в толк, в чем вы меня заподозрили?
— В деле, о котором я вам рассказывал при первой нашей с вами встрече, — Денис старательно выравнивал голос, — возникли неожиданные обстоятельства, и потому у меня появилась надобность допросить вас в качестве подозреваемого в хищениях в особо крупных размерах государственного имущества — деловой древесины, неоднократном получении вами взяток при вашем ответственном положении, а следователь прокуратуры допросит вас об умышленном убийстве Юрия Селянина с целью сокрытия другого тяжкого преступления, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями девяносто третьей прим частью второй статьи сто семьдесят третьей и пунктом «е» статьи сто второй Уголовного Кодекса РСФСР.
Всякий человек, услыхав такое сообщение, изменился бы в лице, покрылся испариной, попросил воды, а то и валерьянки. Чумаков лишь облизнул все же пересохшие губы, но даже позы не изменил. В заледенелом взгляде его не проскользнуло ни ужаса, ни потрясения.
И Денис невольно вспомнил о том, что вот также бесстрастно выслушал формулу обвинения сидевший на стуле, где сидел сейчас Чумаков, бежавший из мест лишения свободы Михаил Корякин, уже признанный судом особо опасным рецидивистом, еще при задержании готовый к тому, что его за очередное преступление приговорят к исключительной мере наказания — расстрелу. Но у Михаила Корякина за плечами было почти два десятка лет пребывания в исправительных колониях, побеги, прозябание по воровским «малинам». За сорок лет он не завел семьи, не постиг никакого ремесла и не чтил в своей беспутной жизни ничего, кроме воровского «закона».
И вот Чумаков — респектабельный, действительно заслуженный, не бывший под следствием и судом. Что это? Снова суперменская маска? Крайняя эмоциональная тупость? Бесстрастность робота? Результат многолетней тренировки, тайной готовности к тому, что рано или поздно его настигнет возмездие!..
— И что же мне грозит по этим частям, статьям и пунктам? — осведомился Чумаков и даже вежливо улыбнулся.
— Меру наказания определяет суд. Названные статьи предусматривают длительные сроки лишения свободы, а при особо отягчающих обстоятельствах — исключительную меру наказания. — С этими словами Денис подал Чумакову Уголовный кодекс.
Самообладанию Чумакова мог позавидовать даже индийский йог. Он подержал на ладони, будто взвесил кодекс и, не раскрыв его, положил на стол.
— В чем конкретно я повинен? Может быть, вы расшифруете ваши сногсшибательные формулировки?
Денис, невольно подстраивая свой тон к подчеркнуто безразличному тону Чумакова, стал излагать, конечно же, отлично известную Федору Иннокентьевичу печальную и постыдную историю о том, как его стараниями с просек Таежногорской механизированной колонны под видом бросового дровяника похитили свыше двенадцати тысяч кубометров деловой древесины, чем причинили государству ущерб на сумму более ста тысяч рублей. В благодарность Чумаков получил от так называемой представительницы среднеазиатских колхозов Кругловой свыше сорока двух тысяч рублей. И хотя это была компетенция следователя прокуратуры, капитан милиции Щербаков не умолчал о том, что когда в январе 1978 года активный участник преступной группы Юрий Селянин отказался совершить очередное преступление и угрожал разоблачить Чумакова, последний убил Селянина…
Чумаков выслушал Дениса с подчеркнутым интересом, словно тот поведал ему занятные подробности о совершенно постороннем человеке. Усмехнулся криво и спросил:
— А в прошлогоднем лунном затмении над Парасельскими островами или в убийстве братьев Кеннеди вы не обвиняете меня? — И стекло в окне звенькнуло от его хохота.
Денис плотнее прислонился к спинке стула и сказал:
— Не надо, Чумаков, этих вывертов. Невменяемого вам сыграть не удастся.
На твердых скулах Чумакова проступили красные пятна, а бархатистый просторный голос наполнился такой лютой ненавистью, что у Дениса холодок пробежал по спине.
— Правильно, Щербаков, я в здравом уме и твердой памяти. И я займу круговую оборону. Защищаться буду до последнего зуба во рту, до последнего ногтя на пальце. Вы позабавили меня пикантной историей. Уверен, что авторы детективных романов щедро бы заплатили за такой сюжет. Но ведь сюжет-то, Щербаков, голый. Я подозреваю, что доказательств у вас к нему — с гулькин нос. В законах наших советских я, хотя и не так, как вы, но все-таки подкован и знаю основополагающий принцип: не обвиняемый должен доказать свою невиновность, а вы, товарищ, гражданин или как вас там… следователь — мою вину. И не только мне, но и высокому советскому суду и общественным организациям, которые до суда станут решать мою участь…
Мартовский день выдался мглистым, ненастным. Но сейчас ветер раздвинул облака, приоткрыл дорогу солнечному лучу. В свете этого луча ярко заблестел на лацкане добротного пиджака Чумакова знак заслуженного энергетика, а над грудным карманом планка наградных ленточек…
Денис опустил взгляд, сказал грустно:
— Вы правы, Чумаков, моя обязанность доказывать вашу вину. Постараюсь исполнить свой долг. Наберитесь терпения. Но прежде вопрос: вы помните голос Кругловой?
— Откуда мне его помнить? Она не пела мне соло и не было у нас дуэтов.
— Я познакомлю вас с магнитофонной записью показаний Кругловой, данных ею два дня назад в Шараповском районном отделе внутренних дел. Вот идентичный записи протокол допроса Кругловой, собственноручно подписанный ею.
Вращались головки магнитофона. С легким шуршанием двигалась пленка. Звучал голос Кругловой. Чумаков, развалясь на стуле, как в кресле, сидел, расстегнув пиджак, будто в президиуме на скучном совещании слушал скучный доклад… На мгновение показалось, что Чумаков, вопреки здравому смыслу, вопреки всему происходящему, задремал. Денис собрался было окликнуть этого непостижимого подозреваемого…
«…Ведь видела я, видела ясно, что у березы дожидался Юрия злодей…
— Да кто же там стоял, в конце концов, у березы? Бандит, что ли, уголовник какой, вам известный? Может, Кешка Сморчков — тогдатошная гроза здешних мест? В ту пору как раз объявлен был на него всесоюзный розыск.
— Нет, не гроза… А гордость и краса здешних мест — Федор Иннокентьевич Чумаков…»
Голос Кругловой, казалось, набрал силу и заполнил всю комнату. Денис заметил, как напряглись, будто свинцом налились мускулы лица Чумакова, отвердели и разом обмякли. И по его холеному, закаменелому сейчас лицу, морща кожу, волной проскользнула дрожь. Денис понял, как жутко этому человеку, какой невероятной ценою дается ему его напускное спокойствие.
Но ни упоминание о взятках, ни сделанные экспертами подсчеты ущерба, нанесенного государству, не поколебали невозмутимости Чумакова… А когда затих в динамике магнитофона голос Кругловой, Чумаков, словно бы и на самом деле очнувшись от забытья, потер рукою веки, усмешливо посмотрел на Дениса и сказал также усмешливо:
— Я говорил вам уже, что авторы детективов оторвут с руками у вас этот сюжет. Вы даже Чехова превзошли. Помните у него «Сюжет для небольшого рассказа»? Вы создали сюжет для небольшого романа. По всем канонам. Женщина — вамп. Роковая страсть к растленному юнцу, а за спиной у них не то, как изволила она выразиться, «злодей», не то благородный обманутый слепец. — Он вопрошающе посмотрел на Дениса и продолжал напористо: — Прелюбопытнейшая получается картина. Дама без определенных занятий и, мягко говоря, не самых строгих правил, не затрудняя себя ни фактами, ни логикой, обвиняет во всех смертных грехах человека, имеющего определенные заслуги и перед областью, и перед нашей энергетикой. А старший следователь областного УВД — некто Щербаков, не затрудняя себя анализом объективности и достоверности так называемых показаний Кругловой, высказывает мне черт знает какие-то подозрения. Право же, при нашей первой встрече вы показались мне порядочнее и, простите за такую наивность, умнее.
«Действительно, молоко надо выдавать за вредность такого производства, — подумал Денис. Вот сидит по другую сторону стола напыщенный, благородно негодующий человек, уверенный в себе, уверенный в том, что может безнаказанно поносить кого угодно, что его заслуги — гарантия его неуязвимости. Неужели этот самонадеянный гражданин забыл, выжег из памяти, из своего сердца предсмертный вопль Юрия Селянина. Или тот рухнул молча на мерзлый гравий от тяжкого удара по голове бутылкой с шампанским. Забыл безутешные слезы Павла Антоновича и безвременную смерть Ефросиньи Макаровны Селяниной. Забыл завещанную отцом-солдатом скрипку, о которой распинался так трогательно… И два с лишним года, двадцать шесть месяцев, платил партийные взносы, вальяжно восседал в президиумах, произносит правильные речи, незамутненно смотрел в глаза жене, сыну и этой… хозяйке терема-теремка Тамаре Владимировне!..
Чумаков говорил назидательно и возмущенно:
— Видно, уроки истории не пошли вам впрок, Щербаков! Мне кажется, вам даже неведомы такие термины, как «фабрикация уголовных дел и клеветнических обвинений», «произвол», «беззаконие», «вымогательство показаний с помощью запрещенных приемов следствия». Между прочим, эти чуждые духу советской юриспруденции методы давно и решительно осуждены нашей партией, и возврат к ним совершенно исключен. Так почему же, по какому праву вы, Щербаков, воскрешаете позорные методы и делаете меня жертвой своих карьеристских ухищрений?!
Как ни убеждал, как ни требовал от себя Денис выдержки, но на такое обвинение он не мог не ответить, сказал горячо, даже с места встал:
— Не кощунствуйте, Чумаков! Не поминайте всуе те горькие факты, не вам ворошить печальное прошлое. Да еще манипулировать святыми для нас понятиями… Вы прекрасно знаете, что уголовное дело против себя старательно фабриковали вы сами. И учтите: я требую от вас не рассуждений о нормах закона и права, а конкретных пояснений по существу высказанных мною подозрений.
Денис сознавал, что после этой тирады Чумаков навсегда станет его беспощадным врагом. Что Чумаков использует все способы, чтобы не просто защитить себя, но и сломать, растоптать его, Дениса Щербакова. Но сказать по-другому Денис не мог. Это было бы изменой Павлу Антоновичу Селянину, поверившему в то, что он найдет убийцу его сына, и старому солдату закона — Василию Николаевичу Стукову, его солдатской клятве: вывести Чумакова на чистую воду. Было бы изменой самому себе.
Чумаков почувствовал перемену в настроении следователя, его убежденность в правоте и силе своей позиции. Застегнул пиджак, подтянул к столу ноги и сказал с неприкрытой ненавистью:
— А что мне, собственно, пояснять? Известная неразборчивостью в своих интимных связях дама неоднократно домогалась моего внимания и намекала мне об этом даже через Селянина. Не добившись желаемой цели и оказавшись под следствием и арестом за махинации с государственным лесом, то есть, говоря языком тридцатых годов, за «экономическую контрреволюцию», она ищет того, кто называется на языке этих деляг «паровозом», то есть человека, который понес бы главную ответственность. Расчет при этом у нее точный и умный: надеется прикрыться моей широкой спиной, надеется, что я вытащу ее из дерьма, что к максимальной мере меня, с учетом моей личности, не приговорят. И она, как второстепенная фигура, отделается сравнительно легким испугом. Мечтает, что я с лихвой из своего кармана покрою подсчитанные вами убытки в сто двадцать тысяч рублей. — Замолк, мысленно взвесив эти убытки, и воинственно предложил Денису: — Опровергайте, следователь Щербаков!
Представить Круглову отвергнутой возлюбленной было для Чумакова самым простым и выгодным. Денис предвидел это и, честно говоря, побаивался такого выпада Федора Иннокентьевича. Слишком тонкая и хрупкая сфера, тем более, не исключена известная доля правды. А правдоподобие опровергается много труднее, чем заведомая ложь.
— А зачем опровергать. Мы постараемся заглянуть в сферу ваших сугубо деловых отношений с Кругловой. Но сначала вы, Чумаков, объясните, какими сказочными путями с просек ПМК перекочевали на просторы Средней Азии двенадцать тысяч кубометров деловой древесины? А вы утверждали представленные Селяниным акты об отпуске тонкомера. Круглова рассчитывалась с вами за тонкомер, вследствие чего государство и понесло убытки более ста двадцати тысяч.
— Вот именно: представленные Селяниным, — подчеркнул Чумаков. — Ваша главная свидетельница обвинения ясно изложила мое требование при заключении договора: не беспокоить меня по вопросам лесоторговли, а иметь дело только со снабженцем Селяниным. — Он вздохнул и добавил печально: — Но вот Селянин, в силу тех или иных причини, ушел в мир иной. Мертвые же, как известно, сраму не имут. Известно также и то, что, по канонам вашей морали, если совершено преступление, должен быть виновный. За отсутствием реального виновника вы делаете ставку на меня.
— О причинах гибели Селянина мы еще поговорим. А пока вернемся к лесоторговле. Вы не отрицаете, что настойчиво искали покупателей на этот лес?
— Не искал бы или не нашел — сгнил бы этот лес и государство не имело бы за него ни рубля компенсации. — Чумаков горестно вздохнул, соболезнуя судьбе леса, и сказал не без гордости: — К вашему сведению, за свою предприимчивость в реализации бросового в сибирских условиях дровяника в безлесные районы Средней Азии я получил благодарность начальника главка. Это было отмечено, как проявление ценной хозяйственной инициативы, ПМК имела дополнительную прибыль. Смею утверждать, наши торговые операции имели не только хозяйственное, но и политическое значение, и мое мнение разделяют начальник главка и курирующий нашу подотрасль заместитель министра…
— Помните, Чумаков, — сказал Денис, — у Ленина есть выражение «формально правильно, а по существу издевательство». Ни начальник главка, ни зам. министра, поощряющие вас за инициативу и предприимчивость, еще не знают об этих двенадцати тысячах кубометров деловой древесины. Вы перечисляете свои действительные и мнимые заслуги и ускользаете от ответа на вопрос. Вы знали, не могли не знать, что Селянин отгружает лес не с Ганиной гари, где действительно свален дровяник, а грузит строевой лес из Красного лога. Вы же бывали там. Круглова в вашем присутствии грузила первоклассный лес, мы располагаем по этим фактам свидетельскими показаниями. Вспомните хотя бы случай с тросом.
Нет, Чумаков, на самом деле тщательно готовился к этому неизбежному разговору со следователем, к этому вопросу об обстоятельствах, прямо уличающих его в причастности к махинациям. Он снова расстегнул пиджак, сел вольготнее, покровительственно улыбнулся и стал назидательно втолковывать:
— Денис Евгеньевич, простите, но думаю, что в любом моем положении я имею право на такое обращение… Не сочтите за оскорбление, но сдается мне, что, взявшись за это дело, вы не представляете себе круг обязанностей начальника ПМК. — Едва он произнес эти слова, как, точно по волшебству, преобразился и снова стал тем гордым своей профессией высоковольтником, каким предстал при первой их встрече: — ЛЭП-500 Шарапово-Хребтовск — действительно не простая линия. Двести одиннадцать километров. Но что за километры? Почти три десятка рек, лога, скалы, сто семьдесят километров первозданной тайги, десятки километров болотных трясин. Словом, лунный пейзаж! Это вам не директор завода, у которого и цеха в кулаке да еще АСУП с ЭВМ третьего поколения. Мы — высоковольтники, строители железных дорог, газопроводчики, нефтепроводчики — великие кочевники. У нас машиной воспользуешься не всегда. У нас, вопреки песне, помните: «В этот край таежный только самолетом можно долететь…» У нас много таких мест, куда и на вертолете не доберешься. А я ведь обязан своими глазами увидеть, своими ножками пройти каждый километр. Опоры вроде бы все одинаковые. Да у них, будто у людей, у каждой своя биография. И фундамент у каждой на свой манер, и монтаж. На просеках, помнится, мелькала Круглова. И довольно часто. В том числе и в Красном логу встречал ее. Мне действительно бывать там приходилось многократно. Почва там оказалась проектом не предусмотренная: топь, плывуны. Пришлось и мне, и Афонину крепко мудрить с фундаментами. Так рассудите, Денис Евгеньевич, мог ли я присматриваться к тому, что, куда и зачем грузит Круглова? Да я, при всех ее бабских стараниях, воспринимал ее боковым зрением. А что касается троса… Мог дать распоряжение. Но, право же, не помню. А линию Шарапово-Хребтовск не забуду до конца жизни, сдали ее досрочно. Получил за нее правительственную награду, повышение по службе. И в страшном сне не снилось мне, что за эту линию, за гордость мою — попаду под следствие…
Денис снова с горечью думал о том, как ловко, умело, бессовестно сплетает Чумаков поистине высокую правду и подлую, низкую ложь. Сплетает так умело именно потому, что заранее взвесил, рассчитал каждое слово, каждый факт, каждую улыбку, позу и даже одежду с наградной планкой и знаком заслуженного энергетика.
— Под следствием, Федор Иннокентьевич, — сказал Денис с плохо скрытой горечью за бессилие или неумение пробить брешь в круговой обороне Чумакова, — под следствием вы оказались не за прокладку этой прекрасной и нужной множеству людей линии, а за то, что, позабыв о своем долге руководителя и гражданина, преступно воспользовались самыми низменными душевными качествами Селянина, его раболепием перед вами, сделали его орудием преступления, с его помощью нанесли крупный
ущерб государству и получили за свои вместе с Селяниным преступления более пятидесяти тысяч рублей взяток.
— Мне известно, что я вправе вообще отказаться давать показания. Но с учетом нашей с вами первой приятной встречи я повторю вам то же самое, что в свое время говорил Кругловой: «По всем недоразумениям с погрузкой леса и по так называемым взяткам, которые, судя по всему, Селянин бессовестно брал у доверчивой, обожавшей его Кругловой под мое имя и под мое положение, обращайтесь к Юрию Павловичу Селянину…»
Снова надо было изо всех сил сдерживать себя в рамках благопристойности и втайне жалеть о том, что нет на столе ни старомодного массивного чернильного прибора, ни тяжелого пресс-папье, приходится пользоваться обыкновенной шариковой ручкой. И нечего двинуть по столу, уронить на пол. А ведь нужна же, нужна какая-то разрядка для перенапряженных следовательских нервов. Тут Денис, к своему ужасу и стыду, почувствовал, как шариковая ручка бесшумно переломилась в его пальцах. Денис с сожалением посмотрел на обломки и сказал сурово:
— Не потому ли вы отсылаете меня к Селянину и живописуете его преступления, что я ни о чем не могу спросить у Селянина, о чем вы позаботились предусмотрительно и жестоко.
— Это каким же образом? — осведомился Чумаков.
С трудом подавляя нахлынувшую ненависть к сидящему напротив со скучающим лицом человеку, Денис стал излагать не раз проанализированные им факты о ссоре Чумакова с Селяниным в вечернем кафе, о публичной угрозе Селянина разоблачить Чумакова и об ответной угрозе Чумакова припомнить Селянину этот бунт. Денис говорил о крайне экстравагантной для Чумакова ночной, да еще в метель, пешей прогулке от кафе до деревообрабатывающего завода, о его встрече с Яблоковым и об обещании Чумакова встретиться с директором ДОЗа и поинтересоваться работой ночной смены, о замеченном Яблоковым отсутствии Чумакова не только в конторе, но и на заводском дворе, о появлении его через пролом в заборе в сторожке Охапкина. Привел решающий, с точки зрения Дениса, довод о том, что, проезжая в машине Постникова, Круглова видела Чумакова возле березы, у которой был найден труп Юрия.
— А летающую тарелку или папу римского Павла-Иоанна Круглова не видела? Пьяна же она была в стельку вместе с Постниковым! А на почве пьянства возникают галлюцинации.
— Но чем вы объясните ваш более чем странный маршрут в тот вечер? Почему вы миновали ворота ДОЗа и появились на его территории через пролом в заборе? Да еще весь в снегу.
— Этого вам никто не подтвердит. Вошел я на заводской двор как всегда — в ворота. Миновал территорию и пошел не в контору, а к сторожу Охапкину, с трудом его добудился. Может быть, действительно был в снегу. Виноват, упал во дворе, хотя и был трезвым. В проломы в заборах не лазил ни разу в жизни. Хожу только прямыми дорогами. — Чумаков замолк, не скрывая торжества, обозрел Дениса, привстал, коснулся руки следователя и сказал с напускным сочувствием: — Словом, Денис Евгеньевич, хотя вы и громко возвещали мне аж смертную казнь, сильно не сходятся у вас концы с концами. Все это психологические мотивы да подоплеки. Прямо следователь Порфирий Петрович из известного романа Достоевского. Только я ведь, к вашему сведению, не Раскольников, не убивал старуху-процентщицу и нет рядом со мной кроткой страстотерпицы Сони, которая побудила Раскольникова к покаянию и принятию мученического венца…
— Между прочим, гражданин Чумаков, — злясь на себя, на то, что не сумел заронить в душу Чумакова искру раскаяния, не разбудил его совести, не поколебал веру в неуязвимость его, Чумаковой, позиции, сказал Денис. — Между прочим, гражданин Чумаков, роман этот называется «Преступление и наказание»…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Григорий Иванович Макеев, болезненно худой, с бледным лицом, сидел за массивным письменным столом сумрачный и усталый. При виде Дениса Щербакова начальник следственного управления УВД слегка шевельнул светлыми густыми бровями и, видимо, счел на этом обмен приветствиями законченным. Поморщился и спросил совсем не служебно:
— Кишечник у тебя как, ничего?
— Ничего. Даже при командировочном меню.
— А вот у меня болит, проклятый. Даже и на домашних харчах. Совсем было собрался вызвать врача, отлежаться с неделю, потешить брюхо диетой, попить травки. — Вздохнул и сказал с явным сожалением: — Да помешала твоя обоюдоострая ситуация. — Опять вздохнул и, не пускаясь в объяснения, полюбопытствовал с живейшим интересом: — Что же, он у тебя и селедку приемлет, и соленое сальце, и водочку, когда случается?
— Кто приемлет?
— Да все он же — кишечник, говорю.
— Приемлет, — ответил Денис, настораживаясь: всему управлению было известно, ежели полковник начинал с медицинских тем, значит, дела его собеседника были незавидны.
А Макеев, продолжая ту же тему, вдруг возликовал:
— Вот что значит молодость — все приемлет! А с годами обзаводишься печеночными, почечными, кишечными коликами и прочей дрянью. Плешину обретаешь во всю башку. — Он погладил рукою свою напрочь лишенную растительности голову. — Правда, с годами, говорят, под черепом прибавляется извилин. Хотя наука утверждает, что еще никто из людей не использовал полностью энергию отпущенных нам природой нейронов. — Он посидел, уперев подбородок в положенные один на другой кулаки, оглядел Дениса и сказал вроде бы опять невпопад: — Хотя, в общем-то, годы не гарантия.
— Что случилось, товарищ полковник? — не выдержал Денис.
— Что случилось? — Макеев, что водилось за ним крайне редко, увел взгляд в сторону. — Случилось, наверное, то, что и должно было случиться, в соответствии с внутренней логикой событий и логикой поведения человеческих индивидуальностей. — Макеев прокашлялся и продолжал хладнокровно, но в каждом слове сквозило глубокое недоумение и недовольство: — В общем, вчера вечером, поддавшись твоему натиску и начитавшись реляций о добытых тобою уликах и доказательствах против Чумакова, отправился я к прокурору области, Петру Михайловичу, за санкцией на арест гражданина Чумакова. Ну, ты Петра Михайловича знаешь. Он санкцию на арест даже задержанного на месте преступления карманника не дает без неопровержимых доказательств вины. В полном соответствии с законом, между прочим. А тут — Чумаков! Субъект, и верно, не без заслуг. Оседлый, не из тех, кто ударится в бега… Сидим мы с Петром Михайловичем, беседуем, не скажу, чтобы очень дружелюбно. Взвешиваем, пробуем на глаз и на зуб каждый твой довод. Клониться он уже стал к нашим позициям. Постановление на арест положил перед собой… И вдруг вбегает дежурный прокурор и докладывает: управляющий трестом «Электросетьстрой» Федор Иннокентьевич Чумаков в своем служебном кабинете покончил жизнь самоубийством.
Петр Михайлович аж побелел: «Дорасследовались, говорит, Пинкертоны. Санкцию на него дал сам господь бог…»
Макеев умолк, переживая тот горький момент, сказал с мрачной усмешкой:
— Как сказали бы верующие, предстал перед судом всевышнего… А проще говоря, покуда мы обговаривали да согласовывали водворение его высокой особы в следственный изолятор, ускользнул от народного суда…
Денису показалось: яркий мартовский день за окном погас, как при полном солнечном затмении. Уняв рухнувшее куда-то вниз сердце, Денис невольно оглянулся на выключатель. Так хотелось зажечь электрическую лампочку. Макеев по-своему истолковал его движение и сказал:
— Не озирайся. Призраки не являются днем. — Вздохнул и продолжал печально: — Но это не весь сказ. Вот сейчас тебе действительно придется повертеться. Дежурный прокурор привез с места происшествия предсмертное письмо Чумакова, а сегодня утром легло мне на стол заявление сына Чумакова, Егора Чумакова-младшего, требование продолжать расследование в отношении Чумакова Федора Иннокентьевича с целью полной его реабилитации.
— То есть как реабилитации?! — воскликнул Денис и услыхал свой голос, будто из соседней комнаты.
— То, что слышишь. Такое ведь возможно по закону, — грустно сказал Макеев, потом протянул Денису распечатанный конверт и сказал: — Вот, почитай. Поймешь все сам. По-моему, как раз тот случай, когда мертвый хватает живого…
«Прокурору области, государственному советнику юстиции третьего класса… — пробегал Денис глазами строчки, исписанные размашистым, угловатым, трудно воспринимаемым почерком. -
Глубокоуважаемый Петр Михайлович!
Надеюсь, не позабыли меня и тех добрых слов, которые не раз звучали в мой адрес в вашем присутствии на различных совещаниях.
И вот, Петр Михайлович, конец всему — любимому делу, любимой семье, уважению людей, не побоюсь этих слов — известной славе. Следователь местного УВД, капитан Щербаков, по совершенно непостижимым причинам избрал меня жертвой своих карьеристских устремлений. О существе дела писать нет ни времени, ни желания, ни сил. Полагаю, что теперь вы будете вынуждены познакомиться с делом и убедитесь, сколь чудовищны и нелепы обвинения, возведенные на меня. Убедитесь, что у Щербакова нет доводов и доказательств, чтобы обвинить меня. Но самое страшное в том, что у меня нет сил и аргументов, чтобы опровергнуть напраслину.
Я прекрасно отдаю себе отчет, чем может обернуться это ловко сфабрикованное Щербаковым дело.
«Клевета как уголь, не обожжет, так замарает». Невыносимо, что Щербаков обрекает меня на постыдную и унизительную процедуру следствия, допросов, обвинений, очных ставок, а может быть, и суда. Разве можно после этого жить, смотреть в глаза людям, семье, товарищам?
Не скрою, я привык к почету, известному комфорту, масштабному и громкому делу. И вот из-за произвола Щербакова — всему конец.
Уношу с собою в могилу свое честное и доброе, как мне верится, имя. Ухожу из жизни человеком и гражданином.
Федор Чумаков».
Денис медленно, бережно — пальцы невольно вздрагивали, и он боялся выронить листок на пол — положил его на стол и вопреки всему, что он знал, передумал, перечувствовал за время общения с Чумаковым, у него словно бы вспыхнул вопрос: неужели я стал жертвой пресловутой очевидности, не вдумался, не постиг рокового стечения обстоятельств и своими оскорбительными вопросами, нотациями и подозрением убил достойного человека?!
Но в ответ на этот мучительный вопрос, заглушая, осуждая его, зазвучали голоса. Недоумевающий, почти оскорбленный — начальника ПМК Афонина:
«Можно и строевой лес продавать, только ведь это сильно против закона и совести коммуниста».
Потрясенный — Постникова, который сознался, что лгать следствию его учил Чумаков, и Постников верил, что делал это Чумаков из лучших побуждений.
Перехваченный гневом и слезами — Кругловой:
«Не могу, чтобы Чумаков процветал на чужих костях, что будет он в больших чинах и при больших деньгах и не захлебнется Юркиной кровью…»
Суровый, сдержанный, будто в присяге — голос капитана Стукова:
«Если это правда, костьми лягу, чтобы снять с этого статского генерала его погоны».
Размытый горем — голос Павла Антоновича Селянина:
«Неужто не найдете убийцу моего Юрки?»
Неужели удачливый во всем Чумаков перехитрил, обошел этих людей? Сделал самый страшный, но и самый ловкий ход в своей жизни? И выстрел в служебном кабинете навсегда останется тайной следствия. А в газете появится проникновенный некролог с выразительной фотографией Федора Иннокентьевича Чумакова, в котором с глубоким прискорбием будет извещено о его безвременной кончине.
И тысячи высоковольтников, искренне влюбленных в своего обаятельного начальника, поверят, что от переутомления и забот его внезапно настиг столь распространенный в наши дни инфаркт миокарда…
Денис брезгливо поморщился и с какой-то особой ясностью постиг, что Чумаков перехитрил и обошел прежде всего его, капитана милиции Дениса Щербакова, на какое-то время перечеркнул его репутацию, жизненные планы. Генерал, конечно, отстранит его от ведения дела. И ему много раз придется отвечать на вопросы разных официальных лиц, ловить на себе косые, осуждающие взгляды товарищей, тягостное сочувствие отца и Елены.
— Ну как, прочувствовал? — с натянутой усмешкой спросил Макеев. Уловив утвердительный кивок Дениса, продолжил: — А вот неопровержимые, с точки зрения Егора Чумакова, доводы в пользу посмертной реабилитации его отца. Аж школьное сочинение принес парень. Написано пять лет назад, то есть в самый разгар интересующих нас событий. — Макеев бегло перелистал ученическую тетрадь и признался с искренним недоумением: — Не могу, понимаешь, Щербаков, взять в толк: сыновняя ослепленность тут или сверхмаскировка отца. Ты, естественно, не раз займешься этим сочинением. Но я хочу привлечь твое внимание к некоторым деталям. — Макеев прокашлялся: — Тема: «Каков он, наш современник». Или по Маяковскому: «Делать жизнь с кого?» Так вот Егор Чумаков, как пишет он, в отличие своих однокашников, не мечтает быть похожим ни на космонавтов, ни даже на Сергея Павловича Королева, ни на покорителей Антарктиды. Не завидует ни их славе, ни их наградам. Он хочет быть похожим только на своего отца. Чумаков был счастливым отцом. Он привил подлинное поклонение к себе сына. Сын знает весь его жизненный путь, присутствовал при вручении ему всех наград. Верит в его непогрешимость, гордится его инженерным талантом, его трудолюбием, его честностью. У меня сложилось впечатление, что Егор Чумаков, кстати, сейчас он учится на факультете журналистики, плечом к плечу прошел с отцом все километры его линий электропередач. Парня, естественно, восхищает героизм отца. Но в его сочинении есть немало бытовых и психологических подробностей. Вот тебе информация к размышлению. Когда юный Егор Чумаков решил «потерять» библиотечный томик братьев Стругацких, Чумаков-отец подверг малолетнего сына подлинному бойкоту, полмесяца не общался с ним. А потом раз и навсегда объяснил, что главное душевное качество советского человека — абсолютная честность во всем. А сколько раз Егор Чумаков был свидетелем горячих слов отца, обращенных к матери, о пользе скромности и даже аскетизма в жизни.
Вот уже действительно волнующий факт. Оказывается, семилетний Егорка, сам не ведая того, спас жизнь трехлетней незнакомой девочке, которая ухватилась за электрический провод под напряжением. Егор попытался оттащить ее, естественно, принял разряд на себя. Опомнился через много дней в больнице на руках отца. И первые слова, что он услыхал: «Спасибо, сын, что вернулся к жизни и спасибо тебе за то, что ты настоящий человек». Тут действительно задумаешься, кто есть кто. Кто он, твой Чумаков? — задумчиво подытожил Макеев.
Но для Дениса, особенно после рассказа Макеева, уже не существовало этого другого вопроса. Он слушал Григория Ивановича и думал о горе и потрясении Егора Чумакова, примчавшегося чуть свет в прокуратуру в поисках справедливости со школьным сочинением в руках. Егора, бескомпромиссно верящего в честность, гражданственность, человечность отца, по вине какого-то Щербакова трагически оборвавшего свою жизнь. Страшно подумать, парню предстоит узнать тяжкую правду о своем отце, в совершенстве владевшем искусством лжи, наживы, демагогии, мимикрии.
Денис знал и раньше: убийца, взяточник, казнокрад готов на все. Конец Чумакова вполне логичен. Он продиктован отчаянием, бессилием, безысходностью и страхом. Но даже наедине с собою Денис не допускал, что растленный внутренне Чумаков постарается превратить свою смерть не только в жалкий фарс, но и в орудие страшной мести живым.
— О чем задумался, детина? — нарушил молчание Макеев.
— О многом. Наверное, с таких, как Чумаков, ни на минуту нельзя спускать глаз. Мы-то знаем, кто он на самом деле, какова цена и его предсмертному письму и представлению о нем сына.
На лбу Макеева выступили капельки пота. Должно быть, у полковника снова начинались боли. Он великим усилием сдерживал себя, чтобы не застонать. Но отдышался и сказал:
— Мы-то с тобой знаем всю подноготную, но ведь прокурору области, тем более суду, нужны не наши эмоции, а доказательные, объективные данные, факты. Там же, Денис Евгеньевич, юристы милостью божьей, не плоше и не глупее нас с тобой, грешных. А после окончания следствия и в суде вступят в действие еще и адвокаты. Среди них же, признаюсь тебе по своему опыту, есть такие зубры… Словом, тут криком — убийца, вор, держи его, вяжи его — не проймешь никого. А потому езжай-ка, как вознамерился, в названный тебе Кругловой терем-теремок. И вот тебе последнее слово мое и нашего генерала: докажешь умышленное убийство Чумаковым Селянина — круг замкнется. Не докажешь — придется тебе поискать более легкую и менее ответственную юридическую работу… Сам понимаешь… Так что займись-ка этой дамой. Авось да сыщутся факты, которые представят проблему реабилитации Чумакова в несколько ином свете.
2
Денис Щербаков считал, что он в полной мере обладает профессиональной зрительной памятью. И все-таки с трудом признал в вошедшей к нему женщине Тамару Владимировну Фирсову — хозяйку метко названного Кругловой терема-теремка в дачном поселке.
С Тамарой Владимировной Денис встречался в первое утро после самоубийства Чумакова…
Служебная машина остановилась возле ворот дачи. И едва затих скрип тормозов, распахнулась калитка, и в ее проем ринулась женщина с вскинутыми руками, рассмотрела машину, вышедшего из нее незнакомого человека в форме, и руки ее обвисли.
Потом Денис шел следом за этой женщиной по нескончаемо длинной, тщательно расчищенной от снега дорожке к высокому крыльцу, напоминавшему резными перилами крыльцо терема.
В то утро он не рассмотрел, а скорее всего не посмел заглянуть ей в лицо, когда сухо известил о самоубийстве Чумакова. Долго потом звучал в его ушах исторгнутый глубинным отчаянием вопль, помнились ее трясущиеся руки. Они указывали за плечо Дениса, на дверь…
Сейчас она вошла без стука, уверенная в своем праве войти сюда и высказать ему, Денису Щербакову, нечто сокровенное.
Так же, как Федор Иннокентьевич Чумаков, она сняла и по-хозяйски утвердила на плечиках светло-серое пальто с меховой опушкой по воротнику и манжетам. И Денис впервые воспринял ее бледное лицо, черные волосы, сколотые на затылке тяжелым жгутом, подумал о том, что она кажется сошедшей с портретов русских мастеров восемнадцатого века, что ценители женской красоты не смогут не увидеть в ней элегантности. Еще Денис подивился переменчивости ее больших светло-серых глаз. Едва она опускала ресницы, по лицу ее разливалось удивительное спокойствие, но вот ресницы вспархивали и открывалась такая глубина в ее глазах, что трудно было отвести глаза от ее лица.
Она подошла к вставшему при ее появлении Денису, с грустной улыбкой протянула ему узкую, прохладную руку и сказала:
— Простите меня. В прошлый раз я наговорила вам много злого и лишнего.
— Пустое. Не смертельно. — И осекся: в доме повешенного не говорят о веревке.
Она села на тот же стул, на котором за несколько дней до нее восседал Чумаков. И хотя Денису было не по себе от этого, он промолчал, щадя ее и передавая ей инициативу в их разговоре.
— Сегодня девять дней с кончины, — она слегка споткнулась на этом слове, и губы ее задрожали, — Федора Иннокентьевича. — И призналась с поразившей Дениса искренностью: — По русскому обычаю, полагается поминальный обед. Но, понимаете, страшно ложное положение. Я ведь для многих его знакомых — фантом, человек-невидимка. Все-таки пристойнее поминать его в доме Маргариты Игнатьевны Чумаковой.
Денис соглашался: действительно, она была при Чумакове фантомом, женщиной-невидимкой. Какие причины, какое душевное влечение, какая его власть над ней заставили ее согласиться с такою ролью, постыдной и мучительной для женщины.
Денис уже имел представление о некоторых привычках и складе характера Тамары Владимировны, о том, что не очень проницательные люди осуждающе именуют гордостью и даже высокомерием, о ее крайней щепетильности во всем, что касалось отношений с сослуживцами. Это Денис успел узнать, осторожно побеседовав о Тамаре Владимировне с ее коллегами по отделу иностранной литературы областной библиотеки и с ее соседями по дачному поселку.
Денис думал о том, сколь изобретательна жизнь на разного рода бытовые драмы и психологические дилеммы: долг, обязанность и душевное влечение, страсть… Наверное, эти коллизии сохранятся, пока жив сам род людской.
— Не знаю, как насчет поминального обеда, но по старому русскому, точнее, по православному обычаю, самоубийц даже не хоронили на кладбищах.
И тут же пожалел о своих словах: они были слишком ранящими ее. Однако при всей осведомленности об этой слабой на вид женщине Денис, оказывается, не представлял истинной меры ее душевных сил. И потому искренне удивился, когда она заговорила бесслезно, раздумчиво поверяя нечто выстраданное ею:
— Да, самоубийство… Величайшая тайна человеческого духа. Вечная загадка. Повод для споров церковников и моралистов. Мама рассказывала, что в ее пионерское время, в тридцатые-сороковые годы, вообще категорически отрицалось право человека распорядиться собственной жизнью. А ведь именно в это время ушли из жизни Есенин и Маяковский. На все трагические случаи следовал однозначный ответ: испугался трудностей. Этим объяснялось все. Мама вспоминала: когда она училась в восьмом классе, покончил с собой ее одноклассник. Неразделенная любовь. И вот… Так это тоже объяснили страхом перед трудностями. И, что действительно страшно, классный руководитель запретил ребятам хоронить этого беднягу… Теперь, слава богу, взгляд и на эту сложнейшую проблему и на многое другое в нашей жизни стал много шире. Мы поняли, что за этой страшной решимостью далеко не всегда стоит боязнь трудностей и уж, конечно, не социальный разлад с действительностью, а множество других, известных только самому ушедшему из жизни причин: отвергнутая любовь, рухнувшие честолюбивые планы… Да разве вспомнишь и перечислишь все! Между прочим, русская классическая литератур» держала эту проблему в поле своего зрения. Вспомним Островского Чехова, Толстого, Горького.
Денис не без смущения поймал себя на том, что почти завороженно слушает ее и смотрит в удивительные ее глаза. Хотя и понимал: пространные «просветительские», как определил их про себя Денис, размышления о проблеме самоубийства продиктованы единственным намерением: приподнять нравственно Чумакова, найти оправдание его смерти. Но это значило бы найти и оправдание его жизни. А этого Денис не мог позволить этой женщине не только в силу своего служебного долга, но и движимый тревогой за ее будущее. Ведь Тамаре Владимировне Фирсовой, независимо от того, станет ли она хранить память о Чумакове или вычеркнет его из своего прошлого, жить и жить и держать ответ перед своей трехлетней дочкой. Денис досадовал на эту такую непростую служебную и человеческую необходимость, но сказал твердо:
— Я прекрасно понимаю, Тамара Владимировна, подтекст вашей речи. Сознаю и, поверьте, уважаю все ваши мотивы. Но я не осмелился бы поставить знак равенства между Катериной Островского и Чумаковым. Там трагические обстоятельства, которые оказались выше и сильнее незаурядной личности. В нашем случае — незаурядный человек, своею волею поставивший себя в трагические обстоятельства, замкнувшийся в порочном круге.
— Вы до сих пор злы на него, — с горечью сказала Тамара Владимировна. — Не можете простить ему предсмертного письма. Кстати, как ваши дела в этом?
— Боюсь, вы и в этом несколько субъективны. У нас, у следователей, есть один из основополагающих принципов: ненавидеть не самого преступника, а преступление, которое он совершил. Вы правы, я зол на Чумакова. Но не за то, что перед смертью он попытался погубить меня, а за то, что разменял свой талант инженера, жар сердца, а ведь все это было отпущено ему щедро, — на какой-то эрзац, подобие сиюминутного успеха, разбудил в себе самые страшные, самые низменные инстинкты и сам же рухнул их жертвой. Что же до обвинений против меня… Он не оригинален. Преступник, в душе которого не пробудилось раскаяние, который не осудил себя судом собственной совести, всегда считает виновником несчастий следователя или судью. И жалуется на них куда только возможно. Письмо Чумакова не возымело желаемого им эффекта. За восемь с лишним лет моей работы в УВД мои руководители достаточно присмотрелись ко мне и способны отличить правду от напраслины. Как ни печально вам слышать об этом, большинство товарищей разделяют мою позицию в отношении Чумакова.
Густые ресницы Тамары Владимировны поникли. Лицо ее дышало спокойствием, но какие-то неуловимые признаки свидетельствовали о том, что в душе этой женщины клокочет, противоборствует намерение ответить резкостью на слишком официальное заявление следователя с решимостью постичь для самой себя, для своей дочери, измерить истинную правду о дорогом для нее человеке.
— Да, действительно, — сказала она, все также полуприкрыв глаза. — Для меня это невыносимо печально. Я все еще не могу поверить в те страшные преступления Федора Иннокентьевича, которые вы ему инкриминируете. И в то же время я не могу отринуть их. Не стану скрывать: часто, ах, как часто, он был непостижим для меня, как тесно было сплавлено в его душе прекрасное и нечто отвратительное, что пугало меня, вынуждало бояться за него и за себя даже в минуты его наивысшего триумфа. В общем, я не намерена ни обличать, ни защищать Федора Иннокентьевича. Просто я считаю долгом приоткрыть краешек нашей с ним жизни и совсем не простые отношения…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Дом Прасковьи Ивановны Чижовой, в котором прошли почти все студенческие годы Тамары Фирсовой, она не просто любила, но поэтизировала и готова была доказывать, что на всей окраинной улице города нет другого дома с такими светлыми окнами, такой причудливой резьбой и такой яркой крышей. Она любила его весной и ранним летом, когда распахнутые оконные створки обстреливали прохожих солнечными зайчиками, в комнату тянулись тугие гроздья черемухи и сирени, наполняли ее таким ароматом, что кружилась голова и клонило в дремоту. Любила осенью, когда затяжные дожди не затеняли ни белизны стен, ни сочной голубизны ставен. Любила зимой, когда над снеговой шапкой на крыше вздрагивали завитки дыма. В комнатах становилось прохладно, но можно закутаться в старый оренбургский платок Прасковьи Ивановны, подсесть поближе к голландке, услышать потрескивание горящих поленьев. По телу разливалась истома, а душа наполнялась отважным спокойствием, какое бывает лишь в безмятежном детстве.
В этом домике студентка факультета иностранных языков местного пединститута, Тамара Фирсова, поселилась вскоре после приемных экзаменов. Не оказалось места в общежитии. А вскоре Тамару навестили родители, учителя начальных классов в районном городке Сосновске, и единодушно определили, что под надзором одинокой и очень доброй Прасковьи Ивановны, дальней их родственницы, их единственная дочь будет надежно защищена от возможного дурного влияния и вообще от всяческих житейских соблазнов.
Старушке подкатывало под восемьдесят, но, несмотря на столь почтенный возраст, она не приседала целый день. Полола грядки у дома, старательно смахивала пыль с небогатой обстановки, хлопотала на кухне, чтобы повкуснее накормить жиличку. Суетилась и частенько напевала: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Ведь улыбка — это флаг корабля… Картину про этих самых детей капитана Гранта, — не раз объясняла она Тамаре, — мы смотрели с Витенькой и Катей, школьниками они тогда были».
Фотографии Виктора в необношенной гимнастерке с двумя треугольниками на петлицах и Кати в пилотке и с сумкой медсестры через плечо теперь висели по обе стороны образа Казанской божьей матери в переднем углу залы.
Тамара ночами часто слышала доносившийся оттуда горячий шепот Прасковьи Ивановны: «Упокой, господи, души убиенных воинов Виктора и Катерины…»
О своем благополучии и здравии Прасковья Ивановна никогда не просила небо.
А когда наступало утро, из кухни снова доносилось: «Капитан, капитан, улыбнитесь…»
Прасковья Ивановна ревностно относилась ко всему, что напоминало о минувшей войне. Часами сидела перед маленьким, еще первых выпусков, телевизором, если показывали фильм о войне. Водрузив на нос очки, шевеля губами и шепча наиболее понравившиеся ей слова, читала военные книги.
Тамара была на четвертом курсе, когда в институте организовали коллективный выход в театр на инсценировку романа Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» Тамара торжественно объявила Прасковье Ивановне, что приглашает ее в театр.
Представление кончилось. Отшумели аплодисменты, откланялись благодарным зрителям воскресшие из мертвых героини спектакля. Сомкнулись полы тяжелого занавеса, в зрительном зале зажглись люстры. Тамара вывела всхлипывавшую старушку в фойе, усадила на низенький бархатный диванчик и сама устроилась рядом с ней.
Тамара тоже не могла сдержать слез и не заметила, как притушили в фойе свет, как поредела толпа перед гардеробом, в распахнутой двери в зрительный зал было видно, как служители театра в синей униформе бережно натягивали чехлы на новенькие кресла. Тамара думала о трагической судьбе девушек. Думала об этих чудом искусства обретших плоть и кровь незнакомых людях и уголком глаза косилась на Прасковью Ивановну, которая в этот момент, конечно же, оплакивала своих Витю и Катю.
— Девушка плачет, — раздался над головой Тамары бархатистый уверенный голос. — Догадываюсь о причине: жалко Женьку Камелькову?
Тамара подняла лицо. Перед ней стоял высокий черноволосый мужчина и смотрел на нее участливо с едва скрытым любопытством. От ласковой участливости этого незнакомого, но, наверное, такого чуткого человека, от горячего блеска его глаз Тамара заплакала еще сильнее и, не стесняясь его, всхлипывала и шмыгала носом.
— У-у! Целый поток! — заметил он с искренним сочувствием, заслонил своей спиной Тамару от любопытных взглядов и, не то утверждая свое право на такое с ней обращение, не то еще завоевывая это право, достал из своего кармана носовой платок, уверенным движением отца или старшего брата приподнял за подбородок лицо Тамары, приблизил его к себе, бережно обтер слезы.
Потом опустил платок себе в карман, осмотрелся и улыбнулся озорно и щедро, блеснув великолепными зубами:
— Нет, я понимаю, конечно, великая сила искусства, но так надрывать свое юное сердце!.. Оплакиваете навзрыд эту самую Женьку… А она… Вон она, то есть не она, конечно, а артистка Рюмина, которая играла ее, жива и здоровехонька шествует к выходу, И думает, чем кормить на ужин мужа и отпрысков.
К дверям направлялась скромно одетая женщина, и ничто — ни ее утомленное лицо, ни усталая находка — не напоминало об ослепительно красивой, искрометной Женьке Камельковой.
— Бабусе, мне кажется, тоже пора осушить глаза, — уверенно сказал он Прасковье Ивановне.
Прасковья Ивановна тыльной стороной ладони смахнула слезинки и сказала неожиданно для Тамары сварливо:
— Я вам, гражданин, не бабуся. Нет у меня такого внука. Я — Прасковья Ивановна.
— Ах, вот как, — улыбнулся он на ее отповедь. — В таком случае, с вашего позволения, я — Чумаков Федор, сын Иннокентьев. — И, по-прежнему утверждая свое, видимо, бесспорное для него право на покровительство, фамильярное обращение с Тамарой, ласково, но твердо взял ее за локоть и спросил, как у старой знакомой:
— Каким транспортом предпочитаете добираться домой?
— Пойдем на троллейбус, потом пересядем на автобус, — сказала Тамара, напуганная и вместе с тем почему-то обрадованная этим натиском.
— Головоломная рокировка, — непонятно для Тамары сказал он, и продолжал ласково: — Могу предложить четыре служебных колеса. Автобус Таежногорской ПМК. Есть, знаете, такая на свете. Сегодня у нас коллективный выезд на спектакль о героическом прошлом.
Тамара не знала, что такое ПМК. Но в этом странном слове ей чудилось нечто привлекательное и вместе с тем могучее, и она подумала, что этот Чумаков Федор сын Иннокентьев, должно быть, занят очень важным и очень нужным делом, которое умеет делать мастерски, в полную меру своей излучаемой каждым его движением энергии и силы. Тамара подосадовала на заворчавшую Прасковью Ивановну и не посмела протестовать, когда Чумаков властным движением взял ее и Прасковью Ивановну под руки и, подравнивая свой размашистый шаг к мелким шажкам старушки, повлек к гардеробу.
Чумаков заботливо помог подняться в автобус сначала Прасковье Ивановне, потом Тамаре, вошел сам. Тамара сразу почувствовала, что в этом переполненном суматошном автобусе ожидали Чумакова и что он здесь главный, потому что диванчик за спиной шофера был свободным и Чумаков уверенно опустился на него. Потянул за руку 'Тамару, пригласил Прасковью Ивановну.
Прасковья Ивановна церемонно села, и сразу из-за спины Чумакова раздался молодой насмешливый голос:
— Что Федор Иннокентьевич, подобрали себе нового заместителя по общим вопросам или… по лесоповалу?
— Помолчи, Селянин! — оборвал Чумаков. — Уступи лучше девушке место. Прояви раз в жизни джентльменство
— Раз в жизни согласен. Постоянно не обещаю. Ноги затекут стоявши.
С этими словами со второго диванчика поднялся невысокий, должно быть, озорной парень в лохматой шапке, расшаркался перед Тамарой и сказал:
— Прошу, мадемуазель.
Чумаков обернулся к Тамаре, заботливо спросил:
— Вам удобно? Назовите ваш адрес. — Повторил шоферу улицу и номер дома, отвернулся от Тамары и, кажется, забыл о ней.
Дорога до дому Тамаре показалась в тот вечер обидно короткой. Когда настало время прощаться, Чумаков сказал назидательно:
— Не забывайте о театральной условности. Если каждый спектакль воспринимать как реальную жизнь, не хватит сердца и слез.
В этих словах не было никакого откровения, но Тамара была благодарна ему за то, что эти слова он обратил к ней. И едва не надерзила Прасковье Ивановне когда та сказала, глядя вслед удалявшемуся голубому автобусу:
— Ох, и чистохватчик! Положишь палец в рот, отхватит всю руку… Слава богу, хоть в гости не напросился!..
Он не спросил ее имени, не сказал ни одного ласкового слова, лишь успокаивающим жестом отца или старшего брата подняв за подбородок ее лицо, приблизил к своему лицу, как бы внимательно вглядываясь в него, и вытер ей слезы. И права Прасковья Ивановна: он действительно чистохватчик. Тамара не знала точного смысла этого слова, но угадывала в нем что-то недоброжелательное. И, вопреки здравому смыслу, вопреки строгим наставлениям матери о девичьей гордости, чистоте и стыдливости, ждала чуда.
Она поймала себя на том, что стала прислушиваться к шуму автомашин за окнами. Спорила с собою, даже издевалась над своими фантазиями, но все-таки верила, что однажды — почему-то ей казалось, что это будет в солнечный воскресный полдень, — у ворот остановится знакомый голубой автобус, из него выйдет этот загадочный самоуверенный человек. Поднимется на крыльцо, появится в доме, и ее жизнь, неизвестно почему и каким образом, изменится к лучшему, станет такою полной и счастливой, о какой она только читала в хороших книгах…
Был канун нового, 1976 года. Тамаре нездоровилось и она уклонилась от студенческой вечеринки. Было решено встретить Новый год вдвоем с Прасковьей Ивановной.
Была ли тому виной небольшая температура или Тамара за эти месяцы устала ждать чуда и убедила себя, что в ее жизни не предвидится никаких перемен: только она, полусонная, сидела перед телевизором и безучастно следила за мелькавшими на экране силуэтами. Прасковья Ивановна, как бы священнодействуя, накрывала на стол, даже выставила заветную бутылочку домашней настойки.
И шум автомобильного мотора на лице не привлек внимания Тамары: к соседям кто-то, решила она.
Но новогодняя ночь — это действительно ночь чудес. Потому что через минуту кто-то осторожно, как бы просительно, постучал в ставень.
— Кого там бог дает? — удивилась Прасковья Ивановна.
А Тамара, повинуясь вдруг воскресшему предчувствию чуда, уже веря и ликуя, лихорадочно набросила на плечи платок Прасковьи Ивановны, сунула ноги в валенки, и, позабыв о простуде, о температуре, о том, что на дворе студеная декабрьская ночь, ринулась навстречу этому стуку.
Задрожавшими руками Тамара отбросила щеколду, распахнула калитку. Перед калиткой стоял он.
— Ну, здравствуй! С Новым годом. Сумасшедшая! Простынешь, — сказал Чумаков почему-то осевшим голосом и, каким-то шестым чувством ощутив нервный озноб, сотрясавший ее, одним взмахом распахнул свою шубу, бережно привлек к себе Тамару, бережно укутал полами шубы и сказал властно: — Едем!
— Вы, как дед Мороз, — стуча зубами, выдавила Тамара.
— Нет, я еще не волшебник, я только учусь, — серьезно ответил он.
Потом все было суматошно и радостно, как на праздничном карнавале. Испуганный, потом осуждающий, наконец, совсем сердитый взгляд Прасковьи Ивановны, когда они появились в домике, и Тамара, ничего не объясняя, начала лихорадочно одеваться. Торопливо поцеловав ошеломленную старушку, Тамара выскользнула вместе с гостем за дверь.
Мотор «Волги» пел какую то понятную лишь им двоим веселую песню без слов. Мелькали огрузневшие от снега ветки деревьев на бульварах и скверах, разноцветные елки в окнах домов, мелькнула городская огромная переливчато-разноцветная елка, тени человечков у ее подножия. Наверное, это были очень несчастные, очень одинокие люди. Потом замелькали живые елки. Они тянулись к ветровому стеклу, словно засматривали в лицо Тамаре, и она клонила, прятала лицо от их взглядов. А еще на ветровое стекло сыпались осколки разгоравшихся в небе звезд. Тамаре казалось, что они даже постукивают по стеклу, не то просятся к ним в машину, не то предостерегают ее: куда, зачем, с кем?
А он — загадочный, далекий и уже близкий, сидел, как в том стареньком голубом автобусе, казалось, совсем позабыв о Тамаре. Крепко держал в руках рулевое колесо, не отводил глаз от дороги. Тамара вспомнила, как почти полгода мучительно ожидала этого человека и, вопреки всему, верила в его появление. Ей стало знобко и страшно. Она качнулась и доверчиво прислонилась к его чуть дрогнувшему плечу.
«Волга» свернула в распахнутые ворота какой-то дачи. Света в ее окнах не было, но все-таки Тамара определила, что дача большая и очень красивая. Чумаков заботливо запер дверцу машины, твердо взял Тамару под руку, помог взойти на высокое крыльцо. Отпер дверь, щелкнул выключателем: Тамару обдало устоявшимся теплом, и перед нею открылась крутая лестница вверх. Чумаков склонился к лицу Тамары и сказал, наверное, самым ласковым и добрым на свете голосом:
— Ну, еще раз с Новым годом. Как твое имя? Входи, будущая маленькая хозяйка этого большого дома…
Когда Тамара вернулась в домик Прасковьи Ивановны, та внимательно оглядела ее красными от слез глазами, сказала грустно:
— Ох, девка, закружит он тебя до гибели. Двоедушный он, фальшивый. Признался хоть, что женат?
— Да, — чуть слышно сказала Тамара, оправдывая про себя резкость Прасковьи Ивановны тем, что старушке пришлось в одиночестве встречать Новый год, да еще волноваться за нее, за Тамару.
— Вот видишь, — торжествующе подчеркнула Прасковья Ивановна. — И дети, поди-ка?
— Сын десятиклассник. Да только мне это совершенно все равно.
2
Близилась ночь встречи нового, 1977, года. Тамара закончила институт и теперь постоянно жила в той даче, где провели они с Чумаковым самую первую и самую незабываемою ночь. Жила не одна. В крохотной кроватке уже третий месяц спала, плакала, марала пеленки Ксюша. Ксюша Чумакова.
Теперь для Тамары существовали два звука, которые она, как локатор, улавливала издалека: голос Ксюши и шум мотора автомашины Федора Иннокентьевича.
Чумаков тогда вошел раскрасневшийся, возбужденный. Тамару обдало сладким морозным воздухом, запахом загородного девственного снега.
— Осторожнее, Федор Иннокентьевич, — сказала Тамара. — Ксюше будет холодно. — Она поймала себя на официальном обращении к нему, с горечью и удивлением подумала о том, что за год так и не привыкла, не посмела называть его на «ты» и просто Федором.
А в самые святые, самые потаенные их минуты, целуя его в жаркой темноте, она горячо шептала: «Мой Федор, сын Иннокентьев…»
— Ничего, пусть закаляется, — весело сказал Чумаков, подкинул дочку к потолку и торжественно возвестил:
— Отныне вы, Тамара Владимировна, и эта вот, значит, Ксения Федоровна Чумакова — полноправные хозяйки этого терема и прилегающей усадьбы. — Он положил Ксюшу в кроватку, жестом фокусника извлек из кармана пачку документов, протянул Тамаре, стал деловито объяснять: — Вдова профессора Горлышкина наконец то рассталась с фамильным владением. — Обвел торжествующим взглядом стены комнаты и тоном завзятого игрока азартно признался: — А ты еще не решалась оформить доверенность на совершение этой сделки. Договор мы составили, как многие умные люди. Поставили в нем цену — десять тысяч. Фактически старушка получила пятнадцать. Сэкономили полторы сотни на госпошлине. Ксюшке на игрушки. А если уж положа руку на сердце, стоит эта дачка все двадцать. Убедил я бабушку, что износ строения большой, что нуждается дом в срочном капитальном ремонте…
— Но ведь она вдова вашего, вы же сами говорили, старого приятеля? — напомнила Тамара.
— Э, Томик, — весело воскликнул Чумаков, — книжные томики царят в твоей хорошенькой головке. А жизнь — штука жестокая, беспощадная. Как кость обгложет дочиста. В ней без комбинаций и компромиссов не проживешь. Давай-ка условимся: я буду противостоять эксцессам естественного отбора, вести борьбу за существование, ты — растить мою дочку. И не бери в голову, почему купчая оформлена на тебя. В моем деле много риска. Вдруг да рухнет на голову какая-нибудь лесина. У нас вон березу у самого поселка молнией опалило. То и диво, что не подоблачную сосну, а присадистую березу. Поэтому в полном сознании суровых жизненных реальностей я хочу, если и меня молнией, то чтобы моему так называемому законному семейству — никакого наследства… Ну, не хмурься, они тоже не обижены. И знаешь, с соседями о том, что у дачи переменилась хозяйка, не пускайся в откровенности…
3
Лето 1978 года было самым памятным в их жизни. Ксюшу отвезли к бабушке на домашнее молоко. А Тамара с Федором
Иннокентьевичем улетели на Рижское взморье. Сняли комнатку в чистеньком домике стариков латышей. С утра, набрав в саду в кулек клубники, отправлялись к морю.
Погода стояла отличная, и они часами нежились на горячих дюнах, а потом, взявшись за руки, медленно брели у берега по песчаному дну такого ласкового моря.
Единственным, что тревожило Тамару, была расточительность Федора Иннокентьевича. К двухлетию Ксюши он обычным жестом фокусника извлек из кармана и выложил две коробочки:
— Это тебе за дочь, Тома, — сказал Чумаков и торжественно открыл коробочки.
Тамара ахнула. В одной сверкали бриллиантовые серьги, в другой — золотое кольцо с бриллиантом.
— Но это, наверное, стоит уйму денег, — испуганно сказала Тамара.
— А почему ты думаешь, что у меня нет этой уймы? Как говорили раньше: слава богу, при должности. Как добавят теперь: слава богу, при зарплате, при премиях и прочих поощрениях…
На Рижском взморье, в Юрмале, Чумаков старательно приучал Тамару к тому, что уважающий себя человек на отдыхе должен обедать только в ресторане. Причем по самому изысканному меню.
В один из пасмурных вечеров Тамара с Федором Иннокентьевичем, которому, как давнему и дорогому знакомому, почтительно поклонились и швейцар у входа, и старик гардеробщик, и величественный, как иноземный посол, метрдотель, минуя длинную очередь у входной двери, вошли в переполненный зал и проследовали к столику с табличкой «занято».
Чумаков утвердился на стуле, обвел взглядом зал и вдруг подтолкнул под локоть Тамару:
— Посмотри, вон туда, налево. Мне кажется, наглядный урок истинных и мнимых жизненных ценностей.
За столиком, куда указал Чумаков, сидел немолодой человек с усталым лицом.
— Ты видишь, Тома, что у него на груди?
— Конечно. «Золотая Звезда» Но что тут особенного?…
— А то, — незнакомо жестко процедил Чумаков, — что этот Герой Труда, как ты видишь, потребляет комплексный обед. — И, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, переключился на подошедшего к ним официанта, медленно перелистывал меню, придирчиво выспрашивал о вкусовых качествах и особенностях приготовления блюд, потом стал заказывать, как бы специально выбирая самые дорогие, самые экзотические. С редкой эрудицией гурмана наставлял, что надобно подольше подержать на вертеле, что подать полусырым, что пощедрее сдобрить уксусом и специями. И уже совсем ошеломил Тамару, когда потребовал от угодливо кивавшего официанта доставить порцию устриц.
— Не всегда в наличии, — уклончиво прокинул официант.
— Найти! Доставить из Франции! — подмигнул официанту Чумаков. — Доставку оплатим.
Проводив взглядом рысцой удалявшегося на кухню официанта, Чумаков налил большую рюмку водки, залпом выпил ее, густо намазал ломтик хлеба горчицей, жадно затолкал его в рот, зажмурился, прожевал и сказал не столько Тамаре, сколько самому себе:
— Вот так. В кавалерах «Золотой Звезды» мы покуда не состоим… Хотя, может, и сподобимся… Еще парочка таких ЛЭП, как Таежногорская, и, чем черт не шутит, заблестит, засверкает… Но пока находим свою дорогу без звезд. И, прямо скажем, живем вкуснее некоторых звездоносцев. — И вдруг возмущенно посмотрел в сторону Героя, словно тот сорвал с лацкана модного пиджака Чумакова эту «Золотую Звезду».
Перед людьми с «Золотыми Звездами» на груди Тамара со школьных лет испытывала благоговение и потому спросила испуганно и, пожалуй, с осуждением:
— Что с вами, Федор Иннокентьевич?! Что вы напустились на неизвестного вам человека. Ведь он совершил подвиг…
— Наверное, совершил, — покладисто сказал Чумаков. — И получил в награду чисто моральное удовлетворение.
Тамара с испугом взглянула на него. Впервые в их безоблачной жизни он говорил такие странные, такие чудовищные слова. Наверное, потому, что в обед выпил больше обычного и вот опять наполнил рюмку.
— Ах, вы о деньгах, — разочарованно сказала Тамара и даже осмелилась отодвинуть от него рюмку. — У нас в доме всегда был скромный достаток. Мои родители не боготворили деньги.
— И совершенно напрасно, — веско изрек Чумаков и с силой придвинул к себе рюмку. Выпил, аппетитно закусил, протер салфеткой губы, закурил, сел поудобнее. Тамара знала: такая расслабленная поза свидетельствовала о желании завести обстоятельный разговор.
— Ты знаешь, Тома, — начал Чумаков, — как я люблю тебя и Ксюшу. Я молодею рядом с тобой, расслабляюсь от перегрузок. И потому ведем мы себя, как новобрачные в пору медового месяца. Я ни разу не говорил с тобой серьезно…
Он еще ничего не сказал, но Тамаре вдруг стало страшно. Страшно было услышать то, что собирался сказать Федор Иннокентьевич, и страшно было не узнать об этом. И Тамара с женской хитростью попробовала сманеврировать:
— А что тут, собственно, знать, Федор Иннокентьевич? Ваша жизнь три года проходит у меня на глазах — опоры электропередач, заседания, поощрения, ваши триумфы.
— Все правильно, — сумрачно усмехнулся Чумаков. — И опоры, и заседания. Но что, по-твоему, главное для человека?
— Любимое дело, любимая семья, — уверенно сказала Тамара.
— Конечно. И все-таки, я думаю, главное — две вещи, два качества. Когда у тебя все в подчинении, все боятся тебя, и когда ты можешь все купить!..
— Но разве это хорошо, когда все боятся?
— Да не в этом смысле, Тома, — поморщился Чумаков. — Я говорю о власти, о диапазоне, влиянии, о роли данного человека среди прочих индивидуумов. — Он опять опорожнил рюмку и заговорил, приглушая голос: — Я никогда не беседовал с тобой об этом. И ни с кем не беседовал. Потому что люди — человеки, они ведь разные. Они улыбаются тебе в лицо, а за пазухой держат камень. И только поскользнись… — Он взмахнул рукой, как бы хватаясь рукой за что-то при падении. — А тебе скажу, потому что верю: любишь, значит, поймешь, не осудишь и не продашь… Сейчас мне сорок. Ты знаешь, мои служебные дела, — он суеверно постучал пальцами по столу, — идут неплохо. Не думай, что пьяная похвальба, я вполне допускаю, что лет через двадцать могу скакнуть аж в министры. Хочу ли я этого? Не стану кривить душой: хочу! И власть, и почет, сама понимаешь… А вот буду ли я счастлив эти двадцать лет, пока, обламывая ногти, стану карабкаться по служебным ступенькам, — это большой вопрос. За эти двадцать лет, чтобы не просто сносно существовать, а гордиться собой, счастливым себя чувствовать и тебя видеть счастливой, мне ой как много надобно! И тут я, при всем почтении к твоим старикам, согласиться с их бессеребничеством не могу никак. Может быть, потому, что запомнил с самого раннего моего детства от многомудрой тети Шуры… Я рассказывал тебе: после гибели родителей переслали слушатели последнего концерта отца старинную скрипку в футляре с надписью. Повертела ее тетка, повертела в руках, поцокала языком, потом говорит: «Дорогая, должно быть, вещь. Только без надобности она. За нее на Тищинском рынке ведро картошки разве что дадут». И лежит эта скрипка с тех пор в уголках шифоньеров, пылится футляр, темнеют буквы на металлической накладке, бесполезная вещь. Я так и не вышел в Паганини и, наверное, к лучшему… Так вот, эта тетя Шура вернется, бывало, из своего распределителя для научных работников, осушит маленькую с устатку и пустится в философию: «Ты, говорит, запомни, Федька, главное в жизни — сытный да смачный кусок. Вот в распреде у нас стоит перед твоим прилавком будь он там хоть сам профессор, хоть самый заслуженный, хоть кто. А я, неграмотная баба, у весов. Вешаю тому профессору, допустим, печенку. И если я ему по доброте своей лишние полкило отвалю, он и улыбнется мне, и Александрой Фоминишной повеличает, и шляпу вежливенько снимает, и поклонится своей лысой умной головой, и спасибо семь раз скажет. — Чумаков снова потянулся к рюмке, но передумал и продолжил с пугающей Тамару обнаженностью: — Ладно, ладно, Тома, не морщись. Чувствую, коробит тебя. Меня по мальчишеской наивности тоже коробило. А тут еще разные школьные прописи: «Бедность — не порок», «Не в деньгах счастье». Вот я подумал, подумал, когда мурцовки хватил, своими руками стал зарабатывать копейку, и понял, почему «люди гибнут за металл».
Медленно пуская к потолку колечки сигаретного дыма, он продолжал говорить. И Тамаре сделалось страшно, поняла: говорит о сокровенном, а главное, как по писаному… Значит, давно это выстрадал, обдумал, принял…
— Ты знаешь, конечно, в годы гражданской войны и вскоре после нее, когда миллионам горячих голов казалось, что остался один лишь шаг до мировой революции, многие грозились отправить деньги в небытие. Но вот за нашими плечами больше шести десятилетий после тех огненных лет, а деньги не только не сгинули в тумане истории, но, сумею уверить тебя, обретают новую силу. Нет, конечно, в нашей действительности даже самые большие деньги не дают права положить себе в карман завод, рудник или строительную фирму вроде моей. Но и прошло безвозвратно время бессмертного подпольного миллионера Корейки в холщовых портках, который страшился свою любимую пригласить в ресторан. Нынешние Корейки покупают на имя двоюродного дяди своей троюродной сестры палаццо на берегу Черного или вот этого благословенного Балтийского моря, осыпают избранниц драгоценностями, ставят у своего подъезда на круглосуточное дежурство такси, а то и держат в собственном гараже «Мерседес» или «Шевроле». Заказывают в ресторанах заморские яства… — Он замолк, принимая из рук подобострастно улыбавшегося официанта блюдо, на котором на диковинных листьях лежали никогда не виданные Тамарой устрицы.
— И что же, так до бесконечности? — убито сказала Тамара, отстраняя от себя блюдо с устрицами.
— Как повезет… — ответил Чумаков. — Пока какой-нибудь бдительный инспектор ОБХСС не заинтересуется размерами и источниками доходов этих современных Кореек. А пока не заинтересуются, этим Корейкам, теперь их называют денежными или даже деловыми людьми, им, в общем-то, принадлежит жизнь: номера-люкс в лучших отелях, каюты-люкс в океанских лайнерах, любовь самых красивых женщин…
Тамара с трудом преодолевала мучительное желание встать и уйти: так страшен был ей сейчас обнажившийся вдруг Чумаков, и впервые кольнула стыдная мысль: а не купил ли он ее любовь, пусть не ценою палаццо в Сочи, а всего лишь дачей в Сибири и этими драгоценностями, которых она до сих пор стеснялась и надевала лишь по его настоянию.
Но она тут же заспорила с собой: разве Федор Иннокентьевич покупал ее чувство? Она сама, ослепленная влюбленностью, очертя голову, не зная даже, кто он, кинулась ему на шею. И все-таки Тамара сказала обиженно:
— Что же, Федор Иннокентьевич, по-вашему, всюду одни эти пресловутые Корейки? Вы-то ведь не Корейко?
— Да, не Корейко, — твердо и вместе с тем с сожалением сказал Чумаков. — Я только хочу открыть тебе глаза на то, что в нашей жизни всюду, в этом зале тоже, — он обвел руками переполненный ресторанный зал, — существуют две категории людей: деловые люди, о которых я тебе говорил, и люди, которые в душе молятся деньгам, страстно жаждут обладать ими, но по лености, тупости, трусости не умеют их делать. Смертно завидуют деловым людям, но всюду громко проклинают их и клянутся в своем бескорыстии. Эти никчемные неудачники изловчаются жить на умеренную зарплату, обуздывают свои потребности, но каждую ночь перед засыпанием страстно вожделеют: угадать шесть номеров в очередном тираже «Спортлото», а наутро, наспех выпив стакан кефира, снова заводят гимны бескорыстию… Я не верую в непорочную честность. Деньги решают все…
Заметив протестующее движение Тамары, он накрыл своею рукой ее лежавшую на столе руку и сказал:
— Я часто вспоминаю Алексея из «Оптимистической трагедии». Помнишь, он делится с Комиссаром опасениями в том смысле, чтобы не поскользнуться нам на понятии «мое». Ну, что-то вроде — моя баба, моя гармонь, моя вобла… К сожалению, поскользнулись. И долго еще, наверное, будем скользить. Пока не научимся быть не деловыми людьми, а людьми дела, действительно рачительными хозяевами… — с печальной усмешкой закончил он.
Ночь после этого ужина у Тамары была бессонной. Сон на короткие минуты навещал ее, и тогда, как пушкинская Татьяна своего Онегина, видела Тамара перед собой Чумакова, но у него не было привычного лица. На его плечах была голова неведомого доисторического зверя. Зверь шарил в пустоте длинными когтистыми лапами и рычал: «Мое». Тамара вздрагивала и просыпалась. А наутро ее ожидало новое тяжелое испытание.
Чумаков в углу комнаты тщательно брился перед настенным зеркалом. Тамара в легоньком сарафанчике, прижимая ладони к вискам, слонялась по веранде. Вдруг настойчиво застучали в дверь. Чумаков, решив, что кто-то из квартирных хозяев, не поворачивая головы, отозвался: «Войдите!»
— Так вот ты где, Федя. Насилу разыскала тебя, — прозвучал у него за спиной голос такой знакомый ему, что он вздрогнул, уронил бритву на туалетный столик.
Перед ним стояла Маргарита Игнатьевна, законная и единственная, как писал он в своих анкетах, жена Чумакова.
Когда-то она была красива. Сейчас же стояла перед ним поблекшая сорокалетняя женщина с утомленным лицом, выжидательно и удивленно смотрела то на него, то на электробритву, надрывающуюся в надсадном жужжании.
— О, Маргоша! — наконец выдавил из себя Чумаков. И в радостном порыве руки к ней простер и взял ее за плечи.
Тамара не слышала их разговора, но через стекло веранды видела каждое их движение и угадывала каждое их слово. Впервые за годы отношений с Чумаковым Тамаре стало так больно и стыдно за эти отношения, за свое нестерпимо фальшивое положение на даче Чумакова, на этой веранде. С трудом переступая ногами, Тамара с пылающим лицом шагнула в комнату.
Чумаков воровато смахнул свои руки с плеч жены и сказал первое, что пришло ему в голову:
— Хозяйская дочь Вия.
В это мгновение Тамара постигла глубинный смысл выражения «провалиться сквозь землю». Она готова была провалиться в тартарары, только не покрывать его постыдную ложь. Потому шагнув к Маргарите Игнатьевне, протянула ей свою дрогнувшую руку и сказала твердо:
— Тамара Фирсова.
— Маргарита Игнатьевна Чумакова. — Она понимающе и страдальчески улыбнулась и добавила: — Я вас, Тамара Владимировна, представляла старше и более уверенной в себе…
4
В тот же день Тамара покинула Ригу. В Сосновске родители обрадовались внезапному приезду дочери, но встретили ее настороженно:
— Что вдруг прервала приятное времяпрепровождение? — спросил отец. — И без мил-сердешного друга?
Тамара знала: отец и мать с неодобрением относятся к ее взаимоотношениям с Чумаковым. Отец, тяготясь тем, что не может назвать Федора Иннокентьевича мужем дочери и своим зятем, придумал для него насмешливое и, как казалось Тамаре, пренебрежительное прозвище: «мил-сердешный друг». Хотя у Тамары до сих пор горели щеки при воспоминании о встрече с Маргаритой Игнатьевной и звучал в ушах постыдно заискивающий голос Чумакова: «Хозяйская дочь Вия», она, глядя на весело прыгающую вокруг нее Ксюшу, удивительно повторившую лицом и фигурой отца, сказала не без вызова:
— Он действительно для меня сердечный друг.
— Что же, не нами сказано: «Понравится сатана лучше ясна сокола»… — И оборвал разговор с дочерью.
Две недели Тамара прожила в их доме. Она устала от не отпускающих ее взглядов стариков, от постоянной необходимости выказывать свое незамутненное настроение. Она вдосталь наплескалась с Ксюшей в узенькой тиховодной речке Сосновке, обе приохотились к выдернутой из грядки морковке, к густому и сладкому, не в пример магазинному, молоку, к сметане такой плотной, что ее можно было резать.
Тамара играла с Ксюшей, на разные голоса читала ей сказки и старательно приглушала, отгоняла от себя тлевшую в сознании, как упрямый уголек, мысль: что же дальше? Порою ей казалось, что она приняла окончательное решение порвать с Чумаковым. Немыслимо сохранять это фальшивое положение и оставаться для Федора Иннокентьевича, для его не очень многочисленных друзей, а как выяснилось, и для проницательной, умной и тактичной жены «мил-сердешным другом»…
И приходили горькие сравнения с героинями книг классиков, в которых повествовалось о незаконной, с точки зрения церкви и общества, любви. Повествовалось то с состраданием, то с осуждением, но неизменно подчеркивалось, насколько мучительна и тягостна такая любовь. Тамара совсем было отважилась высказать это Чумакову при встрече и навсегда отвергнуть его…
Стояла теплая августовская ночь. Тамара сидела на крыльце, закутавшись в старенькое, еще школьных лет, пальтишко. И чтобы не уноситься мыслями в такое туманное и такое пугающее будущее с Федором Иннокентьевичем или без него, Тамара заставляла себя прислушиваться к тревожному шелесту листьев, тоскливой перекличке ночных птиц, тягостным вздохам коровы в хлеву.
Где-то вдалеке застучал автомобильный мотор. Тамара вздрогнула и стала прислушиваться к приближавшемуся рокоту. А когда свет фар полоснул по черным макушкам яблонь и ударил ей в лицо, она, радостно вскрикнув, что есть духу помчалась к воротам и опомнилась уже в цепких объятиях Чумакова.
И снова, как в первую их ночь, мелькали по обочинам дороги спящие ели, снова стучали в ветровое стекло осколки сыпавшихся с неба щедрых августовских звезд. Только теперь на руках Тамары посапывала, улыбалась чему-то во сне Ксюша.
Дыхание дочери, ласковый голос Чумакова, перестук звездных осколков по ветровому стеклу были такими убаюкивающими, что Тамара даже не вникала в слова Федора Иннокентьевича. Ей было все равно, о чем он говорил. Главное, он был рядом.
А он просил у нее прощения за свою, как выразился он, спасительную для них ложь в Риге и убеждал Тамару, что ей осталось совсем недолго таиться в загородном гнездышке: очень скоро его переведут на работу в столицу. Но могут и не перевести, если возникнет персональное дело о бытовом разложении. А потому надо избегать скандалов, потерпеть несколько месяцев эту двойственность. Тем более, что уже виден конец. У него был откровенный разговор с Маргаритой Игнатьевной, она сказала, что ей давно известно о существовании Тамары и Ксюши. Маргарита понимает, что они с Федором Иннокентьевичем чужие друг другу. Она обещала сама подумать над ситуацией в их семье. Поэтому им с Тамарой остается одно: любить друг друга и ждать, когда отвергнутая жена развяжет им руки и уйдет. Уйдет сама! Тогда в Москву они приедут с чистой совестью, мужем и женой перед богом и людьми.
Заставив себя поверить Чумакову, Тамара впервые отмахнулась от его уговоров и устроилась на работу в отдел иностранной литературы областной библиотеки. Тогда она еще не знала, что это был первый шаг к освобождению от сладкой Чумаковской каторги.
5
И вот последняя их встреча. Тогда ей было неведомо, что эта встреча последняя, что Федору Иннокентьевичу оставалось лишь несколько часов жизни. Он приехал домой среди дня. Вошел необычно бледный, не снял в передней пальто. Всегда безукоризненно причесанные волосы топорщились острыми тугими вихрами.
Вошел и, чего за ним не водилось никогда, даже не взглянул на спящую Ксюшу.
— Тамара! — первый раз он назвал ее полным именем. — Послушай меня внимательно. Это очень важно для нас двоих… — Он оглянулся на Ксюшу и поправился: — Для нас троих. Ты знаешь, я много лет жил, как говорится, у бога за пазухой. Рос по службе, получал поощрения, мы с тобой не знали нужды. И вот у меня крупные неприятности. Наверное, потому, что впервые я, кажется, теряю голову. Даже начинаю паниковать… Но самое страшное: начинаю верить в то, что повинен… Дело в том, что у меня за спиной, когда я работал в Таежногорской ПМК, орудовала шайка преступников. Они воровали лес, сбывали его в Среднюю Азию и наживали огромные барыши. А сейчас, когда их настигла расплата, они, будто утопленники, хватаются за соломинку, называют меня своим главарем и даже обвиняют меня в том, будто я, Тамара, — это я-то! — убил человека… — У Чумакова вдруг дрогнули и подогнулись колени. Он почти упал на стул. Посидел, прикрыв руками лицо, отвел от лица руки, пытливо посмотрел на Тамару и сказал тоном гипнотизера, как бы вколачивая в ее сознание каждое слово: — Поверь, Тамара, я ни в чем, совершенно ни в чем не виноват, на меня клевещут хапуги и завистники. Но ты понимаешь: следствие есть следствие. Могут быть крупные неприятности и всякие неожиданности, вплоть до обысков, допросов и прочих «прелестей». Я не боюсь, но ведь всего лишь шаг отделяет меня от Москвы. Я должен вынырнуть чистым из этой грязи, избежать сплетен и злопыхательств. Я прошу тебя, Тамара, помочь мне, принять меры предосторожности. Ты должна сегодня же сделать два дела: спрятать хотя бы у Прасковьи Ивановны твои драгоценности. Конечно, я мог бы вынести их из дома сам, но за мной может быть слежка… И сегодня же уехать в Сосновск, договориться со своими стариками о том, чтобы они твердили любому следователю: дача куплена на твое имя на их сбережения, которые они делали всю жизнь… Извини, Тамара, что возлагаю на тебя столь неделикатную миссию. Пойми меня правильно: сейчас до копеек будут пересчитывать заработную плату, все премии, которые я получал, и даже гонорары за мои статьи в областной газете. И хотя, поверь мне, мои доходы значительно превышают стоимость дачи и твоих побрякушек, но доказывать все это для меня, с моим характером, с моими привычками, моим служебным и общественным положением крайне унизительно, если не убийственно. Поэтому прошу тебя сейчас же отправляться в Сосновск.
Теперь пришла очередь Тамары как подкошенной опуститься на стул. Она едва удержалась, чтобы не закричать от нестерпимой боли, захлестнувшей ее тело. В первую минуту она усилием воли удержала себя от желания кинуться к Федору Иннокентьевичу, рухнуть перед ним на колени, целовать руки. Ведь Тамара чувствовала: сейчас ее любимому, ее Федору, сыну Иннокентьеву, отцу ее Ксюши, было больно и страшно — так, как в ту незабываемую ночь в Юрмале, когда Федор Иннокентьевич грезился ей в виде доисторического зверя…
Это воспоминание мигом воскресило в ее душе другое: подвыпивший самодовольный речистый Федор Иннокентьевич над блюдом устриц в Юрмальском ресторане, его уверенный голос: «Я, Тома, вообще не верую в прирожденную честность. Деньги решают все…» От этого воспоминания по телу Тамары пробежала знобкая дрожь. И каким-то подспудным, еще неведомым науке чувством любящей женщины и матери она постигла: Чумаков, давая ей клятву в своей честности, гражданственности, безгрешности, бессовестно лжет. Лжет, как лгал все эти годы ей, Тамаре, как лгал своей жене, когда обнимал ее за плечи в домике на Рижском взморье, зная, что Тамара не может не видеть через стекло веранды эту сцену, как лгал, глядя в доверчивые глаза Ксюши, а еще раньше, глядя в глаза своему первенцу Егору, когда втолковывал ему святые понятия порядочности, честности, достоинства.
Так неужели проницательнее ее, начитанной, свободно владеющей двумя иностранными языками, оказалась полуграмотная Прасковья Ивановна Чижова, которая при первом знакомстве с Чумаковым нарекла его фальшивым и двоедушным?!
Она сейчас постигла, что в разное время и по разным поводам стучались в душу сомнения в правдивости и праведности слов и поступков Чумакова, всегда такого приверженного своему непростому делу, увлеченному, красноречивому. Тамара потрясенно думала: неужели любовь — прекраснейшее из чувств, воспеваемое поэтами и композиторами, может быть такой стыдной?!
Тамара нашла в себе силы подняться со стула и подойти к Чумакову. Она не рухнула перед ним на колени и не поцеловала, как рвалась это сделать минуту назад. Избегая умоляющего взгляда Чумакова, она сказала:
— Как тебе это не горестно, Федор, я не могу выполнить твоих просьб. Я воспитана в понятиях, прямо противоположных твоим. Отец и мать с детства внушали мне, что честность и чистая совесть выше наворованного богатства. К тому же мои родители никогда не имели сбережений и ни за какие мольбы не согласятся солгать и объявить эти хоромы принадлежащими им. И я никогда не посмею просить их об этом. — Тамара, страшась, что неожиданная решимость может оставить ее в любую секунду, набрала в грудь воздуха и почти выкрикнула: — Поэтому пусть следствие идет своим чередом. А если спросят меня, я скажу только правду. — И зарыдала, будто по покойнику.
Но сквозь слезы она увидела исказившееся яростью лицо Чумакова и заплакала еще горше и громче, потому что поверила: человек с таким лицом не остановится ни перед чем, даже и перед убийством.
С потрясшей ее отрешенностью она подумала: кого и за что убил Чумаков? И с ужасом осознала, что в эту секунду сама готова стать жертвой Чумакова: умереть, чтобы никогда не узнать правды об этом человеке.
— Скажешь правду и будешь полной дурой! — орал над ней Чумаков. — Ты наивное дитя. Все, что есть у нас, конфискуют. Тебе придется снова тащиться в комнату за печкой к твоей старухе и жить на свои копейки библиотекаря. Ты навсегда потеряешь меня, Ксюша потеряет отца. Если ты сейчас же не поедешь в Сосновск, значит, ты предала меня, нашу любовь…
В душе Тамары шевельнулась жалость к Чумакову, но в это мгновение она услышала покряхтывание Ксюши и, обретя неожиданное спокойствие и твердость, сказала:
— Я не поеду, Федор. Мне очень жаль тебя, но сейчас я поняла: в жизни бывают вещи выше даже любви.
Чумаков откинул голову, будто задохнулся. У Федора Чумакова всю жизнь были три тайные карты: деньги, власть, рабская преданность любящей женщины. Сейчас он физически ощутил, как эти три карты выпали из его рук и у него не было сил поднять их…
6
Денис внимательно, не перебив ни единым словом, выслушал откровенную, обезоруживающую своей искренностью исповедь Тамары Владимировны. И невольно вспомнил, как несколько дней назад слушал вместе с Василием Николаевичем Стуковым исповедь Кругловой.
Денис думал о том, что эти две несхожие между собой женщины вместе с тем чем-то и похожи одна на другую. И в то же время, глядя на Тамару Владимировну, Денис думал о том, что эта хрупкая женщина, не знавшая до встречи с Чумаковым жизни, оказалась душевно намного сильнее не только Лидии Кругловой, заворожено пошедшей по стопам сломавшего ее Рахманкула. но и старого солдата Павла Антоновича Селянина, вопреки здравому смыслу, жизненному опыту, вопреки мучительным подозрениям убедившего себя в том, что Юрий нажил свое богатство счастливыми выигрышами в «Спортлото». Так неужели, как сказала сейчас Тамара Владимировна, действительно прекрасное чувство любви становится порой слепым и постыдным, даже опасным. Любовь женская… Любовь родительская… Или дело тут вовсе не в любви, не в ослепленности ею, а в замшелости души, равнодушии, глухоте к общественным проблемам, в нежелании трезво и зорко взглянуть на поведение близкого человека, когда оно выходит за рамки привычных норм? Страусиная позиция, когда уже очевидно, что близкий и дорогой человек катится в бездну.
В не меньшей степени ослепляет иных и увлеченность масштабным делом… Тот же Афонин, преемник Чумакова в Таежногорской ПМК, или Нина Ивановна Шмелева, главный бухгалтер… Восторгались водруженными Чумаковым опорами электропередач, сотни раз бывали у этих опор, радовались внеплановым прибылям и не замечали, не видели, а может быть, не хотели видеть автопоездов с краденой древесиной.
— Спасибо вам, Тамара Владимировна. Вы помогли нам заглянуть в потаенные уголки души Чумакова.
— Поверьте, Денис Евгеньевич, мне было очень больно сделать это. Ведь где-то в глубине души кровоточит зароненная им мысль о том, что я предала его. Может быть, это на самом деле так? Может быть, я просто женщина, неблагодарная к любившему меня человеку…
Денис отчетливо ощущал переполнявшие ее боль и тревогу и сказал подчеркнуто:
— Не истязайте себя, пожалуйста, этими мыслями. У вас достаточно образования и ума, чтобы понять: вас и вашу дочь, вашу любовь и доверчивость предал, воспользовался ими во зло многим людям Чумаков. Простите за откровенность, Тамара Владимировна, но думаю, что вы поступили не лучшим образом по отношению к дорогому вам человеку, когда позволили оформить на ваше имя дачу, не пришли к близким людям, не рассказали им о страшной исповеди в рижском ресторане, не ударили, что называется, в набат.
— Может быть, вы и правы, — печально согласилась она и продолжала уже веселее: — Попробую как-то жить без него. Пока сбываются пророчества Федора Иннокентьевича: перебралась в комнатку к Прасковье Ивановне, привыкаю до работы выстаивать за молоком для Ксюши, учусь сводить концы с концами на зарплату библиотекаря. Вообще многому приходится учиться. Но каждый день убеждаюсь в правоте моих родителей и Прасковьи Ивановны: честная и чистая совесть выше неправедного богатства. — Тамара Владимировна замолкла, прислушиваясь к себе, и продолжала: — Но вообще-то я к вам пришла не только с исповедью. Уж если жечь за собой мосты, так жечь… Купчая на дачу, которую Чумаков просил прикрыть именем моих родителей, конечно, уже у вас. А вот то, что он называл побрякушками…
С этими словами она выложила на стол перед Денисом коробочки для ювелирных изделий. Когда Денис раскрыл одну из них, то увидел серьги с крупными бриллиантами, раскрыв другую, Денис едва не выронил ее. На черном бархатном дне лежало кольцо с веточкой из трех золотых лепестков с тычинками-бриллиантиками…
Дрогнувшей рукой Денис поднес перстень поближе к своим очкам. И ясно увидел выгравированные на внутренней стороне буквы Т. С. — Тане Солдатовой.
— Что означает эта гравировка? Она не совпадает с вашими инициалами.
— Чумаков уверял, что купил этот перстень по случаю, и попросил выгравировать на нем буквы, удивившие и меня. Чумаков объяснил, он ведь был щедр на фантазии, что это означает многое: Тамара — свет, Тамара — солнышко, Тамара — счастье… Словом, читай и понимай, как знаешь…
Денис все сжимал в кулаке перстень, потрясенно думал о том, что взяточник, казнокрад, убийца Чумаков к тому же еще и мародер. И это звенья единой цепи безудержного падения человеческой души в бездну преступлений, измены самому себе, измены всем, кто его любил и кто ему верил.
ЭПИЛОГ
Есть неподалеку от поселка Таежногорск затерянное в дебрях озеро. Стеной обступили его пихтач да ельник. И глубокие воды озера часто бывают совсем черными. Окрестные жители давно прозвали озеро Темным.
Из поселка, из большой жизни, кажется, давно и навсегда отвернувшейся от озера, ведет к нему узкая, сплетенная древесными корневищами, проросшая травой, а зимой придавленная снеговыми завалами дорога.
Пустует дорога. Лишь иногда проскочит по ней мотоцикл или многотерпеливая «Нива». Кто-то двинулся попытать рыбацкого счастья.
В эту летнюю ночь, взвывая на ухабах грунтовки, пятился к озеру самосвал. Сидевший за рулем Павел Антонович Селянин прикинул, что на узком и обрывистом берегу озера машину не развернуть и осторожно, как бы на ощупь, пятил ее к урезу воды.
Шестым шоферским чувством Павел Антонович ощутил, что задние колеса самосвала захлюпали по отмели. Затормозил и выпрыгнул из кабины.
И сразу вздрогнул, съежился от пронзительно холодной мокрети дыхания озера, от стона тайги, такого тоскливого, что Павла Антоновича мороз продирал по коже.
Ночь была ветреной, светлой. Озеро всплескивало невысокой волной. Волны раскачивали, силились загасить, разорвать лунную дорожку, но она лишь вздрагивала, морщилась и снова натягивалась от берега к берегу зыбким переливчатым мостиком. В лунном голубом свете вода утратила обычную черноту у берега. И проступило дно, ощеренное острыми каменюками.
Павел Антонович посмотрел на эти зубья и поймал себя на мысли, будто видит мерзлый гравий на шоссе, черное пятно крови. Крови его Юрки… «Знать бы тогда, кто и за что пролил эту кровь!..»
Эти слова Павел Антонович сказал областному следователю Денису Евгеньевичу Щербакову после того, как строгий судья огласил приговор.
Павел Антонович ускользнул в темный уголок поселкового клуба, где выездная сессия областного суда неделю слушала уголовное дело по обвинению Кругловой, Жадовой, Пряхина, дождался, пока опустел зал. В ушах пулеметными очередями звучали слова:
«Селянин Юрий Павлович, вступив в преступный сговор с бывшим начальником Таежногорской ПМК Чумаковым Федором Иннокентьевичем и представительницей среднеазиатских колхозов Кругловой Лидией Ивановной, в 1974–1978 годах совершили хищение деловой древесины, нанесли ущерб государству в особо крупных размерах… Кроме того, Селянин систематически получал от Кругловой для себя и Чумакова крупные суммы взяток…»
Низко наклонив голову, Павел Антонович, разом вдруг почувствовавший и свое одиночество, и свои немалые уже годы, брел после суда по улице. Он услыхал за собой чьи-то быстрые шаги и почувствовал, что кто-то ободряюще сжал его локоть. Павел Антонович сердито дернулся, покосился. Рядом с ним стояли и внимательно смотрели на него два майора милиции: Денис Евгеньевич Щербаков и Василий Николаевич Стуков.
Павел Антонович, не расставаясь с одолевшими его в эту минуту мыслями, сказал:
— Добился я на свою голову переследствия, доискался правды… Хорошо еще, что Фрося не дожила до такого срама. — Затряс головой и запричитал: — Эх, Юрка! Мой сын!.. Балованный, слабодушный… Знать бы мне тогда, кто и за что размазал твою кровь по шоссейке… — Павел Антонович горько усмехнулся. — Я-то еще, старый дурень, грешил на Степана Касаткина. А Касаткин сам зашиблен этим праведным краснобаем…
Денис, принимая приглашение к разговору, сказал:
— Да, зашиб он многих. И Юрия вашего. И Касаткина. И сына своего. И двух очень несчастных женщин. И тысячи честных трудяг, которые так верили своему Чумакову. Будто от камня тяжелого, круги по воде…
— Правильно камень в воду — и все концы… — непонятно о чем сказал Павел Антонович.
— А уж что краснобай праведный — этого Чумакову не занимать… — усмехнулся Стуков. — Я его, так сказать, сочинениями поинтересовался. Он, как известно, был в чести. Любил напоминать о себе и поэтому частенько выступал то в местной, то в областной газетах. Что ни статейка, то «готовя достойную встречу…», «следуя программным указаниям…», «еще выше поднимем трудовую активность». — Стуков вздохнул и заключил вроде бы невпопад: — Если бы все эти клятвы да искренние… А ведь мог стать достойным сыном своих родителей. Но так и не извлек из футляра отцовскую скрипку. Услышал и запомнил на всю жизнь только тетю Шуру…
Павел Антонович, все также раздумывая о своем, покосился на него и заметил хмуро:
— Правильные слова восклицать, рубахи драть на себе, чтобы правильность твоя видна была всем, в этом многие поднаторели крепко.
— Правильными словами, наверное, Енисей запрудить можно, — согласился Денис. — Правильных гражданственных мыслей, поступков, особенно наедине с собой, куда как меньше. — Денис усмехнулся. — Когда-то было в быту выражение: «О душе думать надо». Потом кое-кто из наших ярых безбожников поспешил термин «душа» зачислить в разряд поповщины. А ничего поповского в понятии «душа» нет. Естество человека, истинная его сущность — вот что это… И надо всячески будить в человеке душу. Тогда и Чумаковых не станет…
Павел Антонович вздрогнул, посмотрел на Стукова, на Дениса и проговорил:
— Правильно. Каждый сам себе ставит предел дозволенному. А стало быть, верно, душа… — Он вопрошающе вперился в Дениса и вдруг всхлипнул: — Как же это я, старый хрыч… Жизнью тертый. Вроде бы умею отличать белое от черного, правду от кривды. И про душу помню. Такой недогляд с Юркой… Куда укрыться от срама… Разные были у нас в роду… И солдаты, и пахари, и работяги. Казнокрадов и лихоимцев не было.
Павел Антонович вспомнил все это, сглотнул слезы, со скрипом вдавливая сапогами гальку, подошел к машине, влез в кабину, нажал на стартер.
Послушный его воле самосвал дрогнул, попятился к воде. Дрогнул и резко накренился кузов. В лунном свете холодно блеснул край отполированного гранита и позолоченные слова: «Селянин Юрий Павлович. 1953–1978. Помню и чту вечно».
Тяжелый всплеск потряс приозерную тишину. По воде, сразу почерневшей, расходились тугими петлями волны. Где-то в чаще ухнул филин, стоном откликнулись ночные сосны.
Павел Антонович стоял на берегу, смотрел на воду, где навсегда упокоилось богатое Юркино надгробие. В стоне сосен ему слышался жалобный и укоризненный Юркин голос. На душе Павла Антоновича стало жутко. Успокаивая себя, он тихо сказал:
— Помнить буду. Чтить не могу…
1979–1982
Борис Силаев
ВОЛЧЬЯ ЯМА
Повести

ОБЯЗАН ЖИТЬ

«…Стальной несокрушимой крепостью станет наш пролетарский город на пути кровавых Деникинских орд. Ни малейшей паники! Дисциплина и сознательность! Организованный порядок, веру в нашу окончательную победу и силу красных штыков противопоставим провокаторам и распространителям панических слухов!..»
Из городской газеты, органа рабоче-крестьянских и солдатских депутатов, за 12 июня 1919 года.
Глава 1
На заборах еще выгорали обрывки газет десятидневной давности, а вниз, к мосту, через мелкую речушку уже тянулись покидающие город обозы. Орудия белых бухали рядом, редкие цепи красных с трудом сдерживали натиск деникинской пехоты. Мост трещал под грузом бесчисленных подвод, двуколок и санитарных фур. Беспрерывно гудя, медленно проталкивались легковые запыленные машины. Мерно жуя жвачку, круторогие волы тянули возы, полные тюков и патронных ящиков. Стуча ножнами о стремена, проходили эскадроны, и перепутанными рядами, не в лад покачивая штыками длинных винтовок, шли усталые пехотинцы…
В это время на заднем дворе центральной тюрьмы подвели к стене высокого, небритого человека. На нем был английский френч с накладными карманами, бриджи, еще хранившие наглаженные стрелки, и желтые краги. Он исподлобья смотрел на выстроившихся перед ним бойцов. Их лошади, привязанные к одинокому дереву, тревожно переступали копытами.
Командир комендантского взвода стал хрипло читать по бумаге:
— «…Военный революционный трибунал… Именем революции… Присуждает бывшего начальника укрепрайона… За измену рабоче-крестьянскому делу… За связь с деникинской разведкой… За выдачу белому командованию планов обороны города… Бывшего полковника белой армии, затесавшегося в ряды Красной Армии… Приговорить к высшей мере наказания — расстрелу…»
Человек у стены не шевелится. Он слушает грохот далеких орудий.
— Ваше последнее желание? — хмуро спрашивает командир, пряча в карман приговор.
— Дайте папиросу, — говорит полковник.
Командир протягивает ему жестяную банку с тонкими папиросами.
— Благодарю, — вежливый голос полковника звучит в гулком дворе. — Почти как в романах… С последним желанием.
— Курите, — обрывает его командир. — У нас мало времени.
— У вас его значительно больше, чем у меня, — голос пресекается, и полковник смотрит на небо, слушает далекую канонаду и крошечными затяжками сжигает папироску.
— Вы хотите что-либо сказать? — командир взвода хмуро смотрит в глубоко запавшие глаза полковника.
— Благодарю, — одними губами отвечает полковник и прикрывает веки. — Нет… Приступайте…
Командир взвода круто поворачивается на каблуках и шагает к шеренге бойцов. Он становится сбоку и поднимает руку.
Его истончившийся в крике голос одиноко поет в тишине тюремного двора:
— Взво-о-од… На руку-у-у!!!
С лязгом взлетают тяжелые винтовки, неровная строчка тонких штыков, заколебавшись, сходится остриями к груди полковника, который, косо изогнувшись напрягшимся телом ладонями закрыл лицо.
— Взво-о-од… — продолжает командир и отводит плечо, чтобы с размаху рубануть рукой по воздуху.
Полковник отшатнулся от стены и вдруг слабо выкрикнул:
— Стойте-е!..
На подгибающихся ногах, облитый потом, он пошел на штыки и остановился, ухватившись побелевшими пальцами за острия.
— Я не все вам сказал… Будьте вы все прокляты… Я скажу…
Во дворе Чека сжигали архивы. За костром следил красноармеец с винтовкой. Он тупым носком ботинка ворошил пласты слежавшейся бумаги, и пламя, бесцветное, но жаркое, поднималось в двухметровый рост и стояло шатким качающимся столбом, в котором корчились твердые переплеты папок и завивались папиросные листы…
У коновязи тревожно топтались оседланные лошади, косили черными зрачками на пепел, летящий по воздуху. За литой чугунной оградой изредка тарахтела колесами по булыжнику военная двуколка или проезжал тяжелый, как зеленый утюг, бронеавтомобиль с намалеванным на борту номером…
Бойцы выносили из дверей особняка охапки документов и швыряли их в костер.
Один из них подбежал к Андрею:
— Товарищ Комлев, вас вызывает председатель Чека.
— Хорошо… Иду, — отозвался Андрей.
Он зашел в свой кабинет — каморку с покатым под самой крышей потолком. Еще раз осмотрел раскрытые шкафы, выдвинул ящики стола и на минуту задумался, сидя на венском стуле посреди комнатушки.
…Куда-то судьба забросит дальше? Сколько? — всего один месяц он в этом городе, а теперь снова в дорогу… Работы было так много, даже спал в кабинете — из комендантской приносил матрац, бросал на него шинель, кожанку и, пожалуйста, — роскошная королевская кровать. Знакомых у него тут почти нет — только одна Наташа. И все-таки за месяц он немного узнал город и даже привязался к нему. Вытянувшийся вдоль небольшой мелкой речушки и пронизанный поперек стальной нитью железной дороги, город лежал на двух холмах — на вершине одного стоял полуразрушенный древний кремль, а на втором — приземистая тюрьма с метровой толщины стенами и вышками по углам. Центральные улицы украшали пятиэтажные здания городской думы, ломбарда, дворянского собрания. Выложенные из тесаного камня с многофигурными скульптурами и геральдическими щитами дома выстраивались вдоль булыжных мостовых, выставив на обозрение прохожих парадные фасады, созданные лучшими архитекторами России. Плечистые соборы высоко поднимали золотые головы над многокилометровым скопищем крыш и башен. Тонкие колокольни, казалось, узорными крестами касались
облаков. По праздникам на город, точно с неба, лился многоголосый колокольный звон. Но чем дальше от центра, тем ниже становились здания, пока не начинали тянуться наспех сколоченные хибары и длинные бараки. Это был рабочий пригород. Здесь, на прокопченной земле, плохо росла трава, дороги, посыпанные паровозной гарью, курились пылью. Тут вместо соборов возвышались прокопченные чадом, с выбитыми окнами заводские цеха. Дымовые трубы, сложенные из красного кирпича и стянутые стальными обручами, частоколом заставляли горизонт. Рабочие окраины окружали город кольцом заводов, паровозных мастерских, железнодорожных депо и ткацких фабрик. Отсюда в центр города приходили колонны демонстрантов со своими духовыми оркестрами. На площади маршировали отправляемые на фронт рабочие полки.
У изгиба реки, кажется, день и ночь бушевал южный говорливый базар. Продавали и покупали все — хлеб, сало, краденную со складов мануфактуру, фамильное серебро. У дезертиров можно было достать даже партию маузеров еще в заводской смазке или замки пулеметов «максим».
Каждую неделю милицейские облавы, как гребнем, прочесывали эту бурлящую, крикливую толпу, уводя в тюрьму не одного налетчика и спекулянта. Здесь ловили переодетых деникинских офицеров, воров и махновских мародеров, приехавших сбыть драгоценные камни и золото, чтобы приобрести у проверенных людей коробки с дефицитными в Гуляйполе пулеметными лентами и ручные гранаты — «бутылки».
В зданиях на центральных улицах зрели заговоры. На чердаках чекисты находили ящики с винтовками, заваленные поломанными стульями и всякой рухлядью. Из подворотен в сотрудников стреляли картечью. Ночами на улицах нападали на милицейские патрули. Бандиты грабили частные магазины. Их арестовывали, отправляли в тюрьмы. Заговоры раскрывали и дела передавали революционному трибуналу. Рабочие отряды устраивали в домах центральных улиц повальные обыски и каждый раз в Чека приводили подозрительных лиц с фальшивыми документами или даже без них.
Деникин неумолимо шел на город, и подпольные офицерские организации создавали боевые отряды. На подступах к городу сутками не прекращались работы по усилению укрепрайона, и были все возможности если не удержать позиции, то хотя бы нанести врагу ощутимый урон, но предательство начальника укрепрайона окончательно решило судьбу города. Красная Армия отступила.
Андрей сидел в пустой комнатушке, с тоской оглядывал обшарпанные, давно не беленные стены, единственное окно, до половины закрытое от солнца порыжевшей газетой, и думал о том, что смертельно устал за эти последние дни — кружится голова, хочется спать. Соснуть бы часа два или три, ведь впереди еще столько работы. Отступление, даже самое организованное, несет в себе хаос и беспорядок. Приказ командования о сдаче города белым поставил работников Чека перед рядом задач, решить которые было просто невозможно за сорок восемь часов — с того момента, как стало известно о выдаче деникинской разведке секретных планов обороны. Оставался слишком малый срок, чтобы передислоцировать войска, найти для артиллерии новые закрытые позиции, подвести полки к слабым местам фронта. Противник уже воспользовался преимуществом, неожиданным ударом прорвал плохо укрепленные фланги, ввел в тылы Красной Армии кавалерийские части генерала Май-Маевского.
И в таких условиях чекистам надо было организовать и оставить в городе подполье, наметить тайные явки, обусловить на все случаи связь, заложить склады оружия, не только наметить, но и разработать практические основные задания большевистской организации — пропаганду в частях противника и подготовку вооруженного восстания.
Сорок восемь часов быстрых совещаний, коротких встреч с нужными людьми, разъездов по городу в закрытой машине, посещения воинских эшелонов, парикмахерских, ресторанов. Комлев перечитывал десятки папок с личными делами паровозных машинистов и адвокатов, учителей и грузчиков, уточнял пароли и согласовывал подпольные клички. И хотя казалось, что в общем-то с работой справились, многих, и Андрея в том числе, не оставляло ощущение какой-то неуверенности. Он понимал, что все ошибки, которые уже обнаружатся потом, будут искупаться смертью, и, наверное, не одного человека. Он знал — предусмотреть все невозможно, но эта спешка… Эти сорок восемь часов — очень малое время для создания крепкой подпольной организации… И, главное, все время не оставляют мысли о раскрытом заговоре и предательстве начальника укрепрайона. Он расстрелян по приговору ревтрибунала, схвачены соучастники, но так и не удалось проследить дальнейшие нити, идущие от бывшего полковника к другим группам широко разветвленной офицерской организации. У деникинцев работают люди с опытом царской армейской контрразведки и охранки, К их услугам агентурная сеть, которую плели не один десяток лет, заранее рассчитывая на многие случаи жизни. Не до конца обезвреженные, тайно следящие за действиями Чека, за поведением населения и передвижением войск, эти силы после вступления в город Май-Маевского станут ножом, занесенным над каждым подпольщиком.
Всей организацией подполья руководит председатель Чека товарищ Бондарь. Возможности у него большие — в этом городе он вырос, работал грузчиком на товарной станции, здесь его первый раз арестовали. Кажется, нет жителя, которого бы Бондарь не знал в лицо. Ему известны почти все проходные дворы и дыры в каменных заборах. Мальчишкой он руководил самыми отчаянными сорвиголовами рабочего пригорода…
«…И Наташу не успею повидать, — с отчаянием подумал Андрей. — Что она обо мне знает? Ничего… Простой совслужащий из одного из бесчисленных учреждений…» Он с ней даже не попрощался. Через несколько часов появятся последние машины, на которых сотрудники Чека проедут по пустынным улицам к вымершему зданию вокзала. У перрона будет стоять дышащий паром локомотив с прицепленным к нему штабным вагоном. И вернется ли когда-нибудь сюда Андрей, или судьба обведет его стороной — этого никто сказать не может. Время такое — сегодня еще жив, а завтра уже мертв…
Андрей вышел из комнатушки и длинным хмурым коридором прошел в кабинет к Бондарю.
— Вы звали, Вадим Семенович?
— Садись, — Бондарь указал на пустой стул и навалился грудью и локтями на стол. Председатель Чека был широкоплечий, громадного роста. Бритая голова его походила на гладкую, загоревшую под солнцем тыкву. Сросшиеся брови торчали щетками, а небольшие синие глаза смотрели с холодным вниманием.
В кабинете Бондаря царил беспорядок. На столе навалом лежали папки, валялся маузер в деревянной кобуре и раскатившиеся желтые патроны. Скрестив на коленях руки и поджав под кресло ноги, напротив председателя сидел щуплый мужчина с аккуратным пробором в желтых волосах. Андрей мельком бросил на него взгляд и отметил скромность позы и невыразительность черт худого лица.
— Садись, — сказал Бондарь и снова повернулся к собеседнику. — Продолжай, пожалуйста.
— В общем я удовлетворен, — пожал тот узкими плечами. — Склады хорошо замаскированы… Обеспечен явками. Некоторые из них мне знакомы, между прочим, еще по подполью при немцах.
— От того времени мало что осталось, — задумчиво проговорил Бондарь. — Было еще и подполье при гайдамаках и петлюровцах. — Он катнул по столу маслянисто блестящий патрон.
— Связь с вами?
— Вот через него. — Бондарь кивнул на Андрея. — В городе он, пожалуй, никому не известен. По нашим подсчетам, ожидайте его к себе примерно дней через двадцать. Он пройдет линию фронта и вернется.
Председатель раскрыл тоненькую папку с веревочными тесемками и повел пальцем по строчкам машинописи:
— А вообще… каждую среду в первой половине дня в кафе Фалькони на Пушкинской улице ждите нашего человека. Пароль: «Кофе надо пить из фарфоровой чашечки…» Отзыв: «Был бы кофе… Можно из стакана…» Вот так, без всякой многозначительности. Еще раз напоминаю, подпольная кличка у тебя «Туча». Уже сейчас, Андрей, ты можешь его так и называть. Вопросы?
— В городе существовала подпольная офицерская организация? — спросил Туча.
— Она обезврежена органами Чека.
— Вся?
— Я так думаю, — неуверенно ответил Бондарь. Он мельком посмотрел на часы. — Руководитель организации расстрелян по постановлению ревтрибунала.
— Однако они успели связаться с контрразведкой Деникина?
— Иначе бы мы не уходили из города, — со злостью произнес Бондарь. — Могу сообщить, что буржуазия готовит белым войскам торжественную встречу. Кое-где уже пекут хлеб и достают хрустальные солонки.
— Кто у них начальник контрразведки?
— Полковник Пясецкий. Андрей, сообщите данные.
— Вдовец, — быстро сказал Комлев. — Жена умерла от тифа, пробираясь на Дон из Петрограда. Сын в чине прапорщика убит под Перемышлем. Окончил академию генерального штаба…
— С моими-то четырьмя классами церковно-приходской школы, — слабо улыбнулся Туча.
— Ничего, — грубовато сказал Бондарь. — У тебя своя академия. Восемь лет царской каторги. Ты ему фитиль вставишь, как пить дать.
— …Жесток, — продолжал Андрей с полузакрытыми глазами, словно мысленно читая такое знакомое ему дело. — К подчиненным требователен. В работе педантичен. По складу характера склонен к поступкам решительным. Для достижения результата не брезгует ничем, порой склоняясь к авантюризму. Однако врожденная подозрительность, которой он и обязан, по сути дела, должности начальника контрразведки при деникинских войсках, делает его человеком весьма опасным. В силу своего жизненного опыта и воспитания в работе опирается на методы царской охранки и военной разведки, где служил четыре года на Юго-Западном фронте в качестве начальника следственного отдела…
— Как человек, — перебил Бондарь, — умен, несколько старомоден, чуть сентиментален, при проведении следствия беспощаден до садизма. У тебя есть оружие?
— Да.
— Сдай. Оно теперь тебе ни к чему.
Туча достал из кармана плоский браунинг и кинул его на груду папок. Бондарь вышел из-за стола и неловко стал одергивать гимнастерку, яростно собирая ее за спиной в одну складку.
— Давайте прощаться, товарищ Туча.
— Что? Пришло время, Вадим?
— Времени нам на это всегда не хватало, ты сам об этом знаешь.
— Когда покидаете город?
— Возможно, мы уже не единственные его хозяева. Ты торопись. Прощай.
Они обнялись и так простояли посреди кабинета. Андрей видел маленькие аккуратные кисти рук, вжавшиеся в мягкую спину Бондаря, и желтую макушку, торчащую над могучими зелеными плечами председателя.
— Ты побереги себя. Пожалуйста, — пробормотал чуть слышно Бондарь.
— Возвращайся быстрее, — прошептал Туча и, отшатнувшись от груди Бондаря, быстро пошел к двери, даже не обернувшись, когда Андрей вослед ему негромко сказал:
— До свидания, товарищ.
Оставшись в кабинете вдвоем, они долго молчали. Бондарь неторопливо собирал папки, равняя их, ребрами постукивая о крышку стола, потом опустился в просевшее кресло и словно бы задремал. Но, приглядевшись, можно было рассмотреть беспокойно вздрагивающие веки. Андрей знал эту привычку Бондаря думать с закрытыми глазами. Многих она не то что удивляла, а приводила в растерянность. Очень неловко было сидеть перед громадным человеком, вдруг застывшим перед тобой в спокойной позе спящего. Но когда он неожиданно и быстро одним взмахом вскидывал ресницы, то рожденная мысль ослепляла живым блеском его глаз. Но сейчас, резко поднявшись, он оттолкнул кресло ногой и стал яростно массировать ладонями припухшее от усталости и недосыпания лицо.
— Черт, — негромко сказал он, — с ног валит… А не спал всего лишь две ночи… Двое суток…
— Сорок восемь часов, — пробормотал Андрей и посмотрел на дверь, за которой послышались энергичные мужские шаги, сопровождаемые железным звяканьем шпор. В филенку громко постучали.
— Войдите! — закричал Бондарь.
Дверь распахнулась, и в кабинет шагнул командир комендантского взвода. Козырнув, он доложил:
— Товарищ председатель Чека… При исполнении приговора предателю революции… Бывший полковник и начальник укрепрайона сознался в сокрытии сведений…
— Короче, — поморщился Бондарь. — В чем дело?
Командир взвода заглянул в дверь.
— Войдите!
В кабинет, держа руки за спиной, вошел полковник, невидящим взглядом повел по стенам и опустил голову.
— Как это понимать? — тихо спросил Бондарь.
— Я хочу сообщить новые сведения, — зло, с подрагиванием губ, сказал полковник, — те, которые сокрыл от следствия.
Он стоял посреди комнаты, некрасиво расставив ноги, бледный, с угольно-черной щетиной на щеках.
— Что же побуждает вас к этому? — сощурился Бондарь, Полковник вдруг жестко рассмеялся:
— Только не раскаяние.
— А именно?
— Приятно сознавать, что на том свете будешь не в одиночестве.
— Там уже достаточно по вашей милости, — буркнул Андрей.
Бондарь устало махнул рукой:
— Не врите, господин офицер. Хотите жить… Надеетесь на что-то.
— Разве напрасно? — вскинул голову полковник.
— Не мне решать, — ответил Бондарь. — Зависит от вас… Хотя приговор уже вынесен. Я слушаю.
Полковник мельком посмотрел на стул, и Бондарь жестом предложил сесть. Опустившись у стола, полковник задумался. Рука его с грязными ногтями непроизвольно гладила сукно скатерти.
— Самое главное для вас, — наконец произнес он, — это фотоателье Лещинского. Там для документов фотографировались коммунисты и советские работники. Лещинский — наш агент. Сейчас у него альбом с адресами и снимками. Альбом в зеленом переплете… Несколько сотен фотоотпечатков. А если вы кого-то из них оставите в подполье… Думаю, — полковник усмехнулся, — это будет хороший подарок контрразведке Май-Маевского. Не так ли?
— Откуда вы знаете об этом?
Полковник пожал плечами.
— Я был обязан знать. И не только об этом.
— В дальнейшем расскажете обо всем, а сейчас… Через кого держали связь?
— Связником был один уголовник. Он за деньги выполнял определенные поручения. Естественно, мы ему не доверяли. Он сам не догадывался, кому служит. Обычная спекуляция продуктами или продажа дефицитных вещей, но… Каждая вещь сама по себе что-то обозначала. Кусок мыла — встреча в условленном месте… Полбуханки хлеба — сбор офицерского отряда… Вещи сами по себе или в сочетании друг с другом…
— Адрес и кличка?
— Мы встречались по воскресным дням на углу базара. С утра. Кличек у него много и все, я тоже воробей стреляный, фальшивые. Нас он интересовал только как почтовый ящик. Прошлым мы его не занимались. Один из главарей уголовного мира. Жадный, отвратительный и грязный тип. Я могу описать его словесно, но вы сейчас не тем занимаетесь, господа чекисты. Если альбом исчезнет, я потеряю надежду на помилование. Для меня дорога каждая минута. А для вас…
— Лихо задумано, — пробормотал Бондарь и посмотрел на Андрея, — если черт не шутит…

Андрей распахнул окно и закричал во двор со второго этажа, не дожидаясь приказа:
— Конво-о-ой! В седла-а!!
…Коней оставили с одним красноармейцем в переулке, а сами пошли проходными дворами. Кажется, Бондарю известны были тут все ходы и выходы. Он уверенно нырял в темные ворота, отодвигал в заборах доски, и Андрей с трудом поспевал за ним.
— Вот, — наконец сказал Бондарь и вытащил маузер. Они подождали остальных и стали медленно приближаться к четырехэтажному дому с подслеповатыми окнами и обрушившимися балконами. Дворовой фасад здания, сложенный из позеленевшего кирпича, казался крепостной стеной. Выгоревший от жары плющ вился кое-где по каменным выбоинам.
— По человеку — у нижних окон, — приказал Бондарь. — Остальные за мной…
Они взбежали на крыльцо и первое, что увидели, — это вывороченный из двери замок. Толкнули дверь, и она без скрипа распахнулась. Люди молча вошли в темноту коридора. В руке Бондаря вспыхнул крошечный огонек зажигалки. Он осветил какие-то ящики, мерцающие спицы велосипедного колеса и медный таз, лежащий в углу красным расплывчатым бликом.
Впереди была еще одна дверь. Ее распахнули ударом ноги, и, столкнувшись плечами, одновременно Андрей и Бондарь шагнули в комнату. И на мгновение ослепли от солнца. Прямо перед ними, во всю стену, — зеркальное стекло витрины. Лучи дробились в нем, и оно радужно сияло в стеклянных сучках, чуть желтое от пыли, с бледным смазанным отраженьем стоящих на противоположной стороне улицы домов и деревьев.
На полу были разбросаны черные конверты, фотобумага, в углу валялась тренога фотоаппарата.
— Черт, опоздали, — прошептал Бондарь.
Андрей подошел к бархатной шторе и распахнул ее рывком. Зазвенев кольцами, она тяжело сдвинулась к стене. За ней, в глубоком кожаном кресле лежал человек. Он точно спал, опустив лысую голову, на правом виске которой кровенела запекшаяся ссадина.
— Это он… Лещинский, — сказал Бондарь.
— Мертв… Вернее, убит, — Андрей тронул руку фотографа. Она была холодной, но еще мягкой. — Убийство произошло недавно… Каким-то тупым предметом… Возможно, ломиком.
— И, кажется, неожиданно, — согласился Бондарь. — Может быть, он спал… Или сидел задумавшись. Ударили из-за шторы.
Стараясь ничего не сдвинуть с места, Андрей подошел к парадной двери.
— Смотрите, — сказал он. — В двери торчит ключ. Убийца пробрался через черный ход.
Андрей повернул ключ и вышел на солнечную пустынную улицу. Его шаги гулко отдались в тишине каменного коридора, образованного высокими молчаливыми домами. Золотая вязь букв словно плавилась под лучами, жарко сплетаясь в слова: ФОТОАТЕЛЬЕ ЛЕЩИНСКОГО.
За зеркальным стеклом витрины на бархате лежали выцветшие портреты красавиц, мужчин с нафабренными усами. Покоробленные солнцем фотоснимки еще хранили блеклые отпечатки чьих-то жизней — напряженно таращили в объектив испуганные глаза невесты. Женихи чопорно держали за локотки своих будущих супружниц. На отороченных кружевами подушках болтали ногами толстые младенцы. И картинно сжимая в руках эфесы клинков, замерев в каменно-неподвижных позах, стояли бравые кавалеристы в буденовках. Суровые рабочие парни с выпущенными на лоб чубами держали на коленях гитары, шли в майских колоннах демонстрантов.
А чуть ниже — черными, залитыми тушью буквами:
ФОТОАТЕЛЬЕ ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРОЕ И ПРЕКРАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ. ИМЕЕТ ПАТЕНТ, ВЫДАННЫЙ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ. КОММУНИСТАМ И СОВ. РАБОТНИКАМ СТУДИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СКИДКУ В 50 процентов.
Андрей вернулся в ателье и изнутри сорвал объявление.
Бондарь сидел у стола, подперев голову руками, словно держал на растопыренных пальцах матово-коричневый мраморный шар. Андрей протянул ему объявление, и председатель Чека, не читая, тихо сказал:
— Положите на место… И вообще ничего не трогайте. Тайник нашли?
— Может быть, это он? — неуверенно проговорил кто-то из красноармейцев и кивнул в угол, где топорщились приподнятые доски пола.
— Проверь, Андрей, — приказал Бондарь.
Андрей опустился на колени. Конечно, это был тайник. Аккуратно выпиленные, покрытые краской доски еще хранили следы инструмента, которым их отрывали от бревен. Возможно, то был нож, лежащий на столе. Да, это он… Подходит. В глубине тайник выстлан черной бумагой.
— Ничего нет, — сказал Андрей. — Если альбом и существовал, то его забрали.
— Кто? — спросил Бондарь.
— Возможно, соучастники Лещинского по подпольной организации, — неуверенно произнес Андрей.
— Зачем?
— Не надеялись на место… Или на самого Лещинского… Хотя это чушь.
— Да, — согласился Бондарь. — Этот маскарад им ни к чему. Альбом уже находился в руках контрразведки белых. Но помешал случай. Хотя помешал ли? Альбом пропал. Главное, нет возможности предупредить. Черт его знает, кто фотографировался, кто нет? Популярное фотоателье. На атласной бумаге, с гербом фирмы — память на сею жизнь! Скидка в 50 процентов. Жизнь не очень легка. Каждая копейка на счету. Безусловно, Лещинский выписывал квитанции со стоимостью снимка и адресом клиента. Надо признать, что задумано просто, но гениально.
Андрей опустился на стул, искоса посмотрел на Лещинского — худенький, узкогрудый человек с острым птичьим носом, бледными веками и женскими красивыми руками.
— У него, должно быть, много денег. Деньги не найдены. Фотограф жил при студии. Шкафы взломаны. Вещи разбросаны. Допустим, что это всего лишь убийство с грабежом.
— Альбом, — напомнил Бондарь.
— Уголовнику он не нужен, — согласился Андрей. Бондарь помассировал ладонями бритый череп, медленно поднялся из-за стола. Исподлобья оглядел ателье, покусал губы, о чем-то думая с закрытыми глазами.
— Оставим здесь все без изменения. Поехали.
Он первым вышел из ателье. Они снова стали пробираться к лошадям через проходные дворы. Коновод, молодой красноармеец в обмотках до самых колен, кривоногий, злой, указал на крышу дома. Там, привязанный к трубе, колыхался на ветру трехцветный флаг.
— Видали! Видали!! Товарищ предчека!..
— Царский флаг, — равнодушно буркнул Бондарь. — Чего удивляешься?
— Так это же буржуи повесили!! Разрешите потрясти гадов… Товарищ Бондарь!..
— По коня-ям! — Бондарь перекинул ногу через седло, подобрал поводья и тронул шпорами бока коня.
У особняка уже стояли три подводы, на которые грузили тюки с документами. На том месте, где горел костер, чернело большое пятно растоптанного сапогами пепла.
Бондарь долго сидел за столом, положив руки на разбросанные папки, выпрямившись, со сжатыми губами. В его неподвижной фигуре чувствовалась страшная усталость последних бессонных ночей.
— И все-таки, — произнес задумчиво Андрей, — это уголовное преступление. И совершил его человек, опытный в таких делах.
— Откуда выводы?
— Виден почерк. Я начинал в уголовном розыске. Насмотрелся всякого… Тут чувствуется искушенная рука… Как открыта дверь. Точный удар…
— Полковник говорил о своем связнике, — пробормотал Бондарь.
— Что о нем знаем? Ни фамилии, ни адреса… Множество кличек… Словесный портрет: высокий, одутловатое лицо, ходит ссутулившись, голубые глаза… Найди в трехсоттысячном городе!
— Уголовный мир не так уже и велик.
— Но проникнуть в него не так просто.
— Времени мало, — вздохнул Бондарь. — Попасть можно куда угодно, если потребуется для дела и пользы революции. Вот ты говоришь «уголовщина»… Но пропал и альбом. Какая связь?
— Не знаю, — сознался Андрей, — но искать следует связника полковника. Он уголовник. Не из простых босяков.
— Да, — согласился Бондарь. — Это кончик веревки.
— А если за этот кончик водит нас полковник? — усомнился Андрей. — И никакого альбома вообще не существует!
— Все может быть, — подумав, проговорил Бондарь, — но даже и в таком случае мы должны предполагать, что он есть! Есть, и мы обязаны обезопасить подполье от появления альбома у деникинцев! Слишком много может быть поставлено на карту… Ты начинал в уголовном розыске? По фене ботаешь?
Говорю, — неохотно сознался Андрей, — но я бы этот воровской язык…
— Кто у тебя в городе из близких?
— Один, как перст, даже тоска берет, — засмеялся Андрей на мгновение задумался. — Хотя есть одна знакомая… К сожалению, пока между нами ничего серьезного.
— Кто ты для нее?
— Обычный советский служащий. Отец у нее — язва.
Бондарь тяжело повернулся на стуле и кивнул на груду папок, навалом лежащих на развернутом брезенте.
— Дай-ка мне дело об ограблении ювелирного магазина, — попросил он. — Помнишь?
— Дело банды Корня? А как же, залетные птицы…
Андрей долго копался в папках, потом вытащил одну — тонкую, с матерчатыми завязками.
— Сядь… Коротко информируй.
— Корень, — начал Андрей, — профессиональный вор. В наш город банда приехала, следя за ювелиром Карташевичем. Ни второй день по прибытии залезли в магазин, взломав витрину. Были обнаружены и в перестрелке двое из банды убиты. Tpeтий «Блондин»…
— Стоп, — Бондарь поднял руку и развернул газету небольшого формата. — Читаю: «…Сообщение вечерней газеты „Слово“… Заезжая банда ограбила ювелирный магазин Карташевича… Однако бдительность органов охраны порядка пресекла поползновение вооруженных грабителей. В ночной перестрелка двое воров уничтожены. Третий арестован. На днях он предстанет перед революционным судом. Начальник районного отдела милиции». Все точно?
— Да, — кивнул головой Андрей. — Обычное уголовное дело. Мы посчитали нужным информировать об этом население.
— Где сейчас третий?
— В тюрьме. Мы не успеваем вывезти уголовников.
— В общей камере?
— Нет.
— Какие у банды были связи с городским уголовным миром?
— Да никаких… Проследили за Карташевичем от самой Москвы. Карташевич — спекулянт золотом. Его самого судить надо.
Бондарь прошелся по кабинету, и рассохшийся паркет затрещал под его сапогами.
— Это хорошо, что вы позволили напечатать в газете, — проговорил он и подсел к Андрею, подвинув к нему стул. — А что если третьим станешь ты?
— Не понимаю, — растерялся Андрей.
— У нас есть время вывезти вора из тюрьмы.
Андрей тоскливо вздохнул:
— Чего проще… Белые выпускают из тюрьмы…
— Ишь ты, какой сообразительный, — засмеялся Бондарь. — Нельзя сказать, что мы первыми открыли такой способ внедряться в лагерь врага. Но сейчас иного выхода нет! Ты должен стать своим человеком среди уголовников города. Московский вор по кличке «Блондин» — это же фигура! Надо найти связника полковника во что бы то ни стало! Он ограбил богатого человека, значит у него есть деньги. Приглядывайся. Есть словесный портрет! Не так уж мало, скажу тебе. Найди его и уничтожь альбом. Сожги его!
— В контрразведке у них не мальчики, — пробормотал Андрей. — Нет времени подготовиться.
— Ты тоже не кисейная барышня, — грубовато бросил Бондарь, — и притом… Все, что сможем, сделаем… В дело вора вклеим твою фотокарточку. Мы не успеваем вывезти часть архива. На станции его обольют бензином и подожгут. Контрразведке Май-Маевского достанется груда полуобгоревших папок. Среди них будут и твои документы. Уж они попотеют, дела собирая по листочкам.
— Но зачем ему альбом? — проговорил Андрей с раздражением.
Бондарь внимательно посмотрел на него:
— И еще… В городе не так уж и много тех, которые свободно идут на «мокрое дело». Среди профессионалов убийство не в почете. Надо быть уж совсем отъявленным негодяем… Недавно произошла попытка ограбления почтового вагона. Убит красноармеец. Почти так же… ломиком. Двоих, стоявших на стреме, арестовали. Убийца скрылся. Те, двое, его не выдают. Видно, запуганы насмерть. Тебя посадим рядом с их камерой. Запомни клички: Неудачник и Джентльмен…
Бондарь увидел озабоченное лицо Андрея и добавил:
— У тебя есть другой вариант?
Андрей подошел к окну. В кабинете было прохладно, а за стеклами солнце жгло деревья и накаляло булыжники. Коротко загудев клаксоном, в ворота особняка въехала легковая машина с закрытым верхом. С ней и должны были покинуть здание последние чекисты.
— Другого варианта нет, — ответил Андрей, — В этом городе меня почти никто не знает. Будем надеяться…
— Ну вот, — тихо сказал Бондарь, — тебя и перекрашивать не надо… В чем особенность твоего задания? От его успешного выполнения зависит, возможно, и судьба восстания и сотни человеческих жизней. И каких людей, сам знаешь. Это задание для одного, Андрей. Тебя никто не будет подстраховывать. И на помощь особенно не надейся. Все зависит от твоего ума, хитрости и мужества, конечно.
— Постараюсь, — пробормотал Андрей.
— Нет уж, — хмуро перебил его Бондарь, — без этих стараний… Ты обязан все выполнить! Альбом должен выйти из игры чего бы это ни стоило!
— Вы меня не так поняли, — сказал Андрей. — Я жизни не пожалею.
— Вот этого ты и не делай! — резко оборвал Бондарь, — Ты обязан жить! Во всех случаях! Мертвый ты принесешь нам вред, а врагам пользу! Если ты живешь — значит есть надежда обезвредить альбом! Спасти людей! Развязать им руки и зажечь огонь восстания!.. Ты нужен нам живой, понимаешь? С таким заданием ты тут один. Второго нет. Помни об этом всегда!
Издалека донесся тихий дребезжащий звук. Чекисты прислушались. Бондарь подошел к окну, толкнул его створки. Сухой ветер вошел в кабинет и потянул по полу скомканные листы бумаги. Улица лежала по ту сторону литой ограды особняка, тихая, залитая светом, и, казалось, что в этих высоких, с мраморными колоннами и черепичными крышами домах нет никакой жизни.
Где-то били в колокола. Жидкие, разрозненные звуки плыли над молчаливым городом, и была в их надтреснутых жестяных ударах торопливая исступленность дрожащих от торжества рук… Затем заговорила еще одна колокольня — громче, басовитее, с бронзовыми переливами.
— Наверное, белые уже видны с колоколен, — проговорил Андрей.
— Далдонят, как на пожар, — хмуро ответил Бондарь. — Радуются, сволочи… Ничего, мы еще вернемся… Я этот звон долго не забуду. Пошли.
Он положил руку Андрею на плечо и ободряюще тихонько тряхнул. Андрей взглянул на него и увидел в глазах у председателя Чека пронзительную горькую печаль.
И тогда он сам сказал Бондарю:
— Ничего, Вадим Семенович, все будет хорошо…
— Надеюсь, — сердито буркнул Бондарь и отвернулся.
Глава 2
Андрей встал на табуретку и подтянулся за прутья оконной решетки. Он увидел выкрашенную в желтую краску толстую стену, утыканную битым бутылочным стеклом и сколоченную из потемневших досок сторожевую вышку. Охраны на ней не было. Дальше бугрились крыши города — до самого горизонта. В камере стоял промозглый подвальный холод. Капли cырости собирались в трещинах штукатурки, исцарапанной руками сидевших здесь раньше заключенных. В углу валялась грязная охапка сена и рваное одеяло.
Даже сюда, в этот каменный мешок, доносился колокольный звон. Теперь он был громче и стройней. Праздничный благовест, как на пасху, кружил над городом, поднимая с крыш стаи диких голубей…
Тюрьма гудела голосами, раздавались удары, грохот — то заключенные уголовники вышибали двери. Еще немного, и под таранами из скамеек и разломанных нар окованные жестью полотнища рухнут и людской поток заполнит коридор.
Андрей сел на табуретку. Вспомнил свою новую биографию — примитивную судьбу московского вора, дважды сидевшего, пойманного в третий раз, в меру нахального и трусливого, с исковерканной личной жизнью — где-то были брошенные жена и дети. Ими не интересовался — иногда появлялся дома, чтобы переждать смутное время, и пропадал снова — опять надолго, казалось, навсегда… В уголовном мире с ним считались — многие слыхали о Блондине — опытном «воре в законе». Мог он организовать и свою шайку, но не лез на глаза розыску, предпочитая роли второстепенные… Андрей видел Блондина. В начале следствия в Чека считали, что налет на ювелирный магазин совершили люди из офицерской подпольной организации, маскируя его под обычный вооруженный грабеж. Первые же допросы единственного уцелевшего грабителя успокоили чекистов. И они не ошиблись — Блондин рассказал им о себе все. Ни о какой связи с офицерьем не было и речи. Андрей еще помнит высокого, тощего человека с жидкими выцветшими волосами, спадающими на морщинистый лоб, и равнодушные блеклые глаза, иногда вдруг вспыхивающие припадочным блеском. Видно, на его счету немало темных дел, но уже не было времени связываться с московским уголовным розыском. Да и вооруженное ограбление — достаточное обвинение, чтобы подвести под революционный трибунал. Теперь, когда он, Андрей, стал Блондином, неприятности могли возникнуть самые неожиданные. Предугадать их было невозможно, и оставалось только сидеть в полутемной камере, слушать, как грохочут вышибаемые двери, и ожидать — вот сейчас загремит гулкий коридор, раздадутся радостные крики и плотная, жаркая, задыхающаяся толпа ринется к воротам.
Он чувствовал легкую лихорадку, и сердце стучало неровно, томительно обмирая. Мысли бежали чередой — спутанные, тяжелые — и не успокаивали, а еще больше взвинчивали нервы. Боялся ли он? Да. Что такое страх, Андрей знал. За всю свою жизнь он испытывал его несколько раз, и даже сейчас, при воспоминании, его охватывает озноб… В детстве тонул, рядом был берег, и никак не мог до него дотянуться. Андрей до сих пор видит это во сне… Когда пришел в Чека, в первой же операции, нос к носу столкнулся с офицером, переодетым в штатское. Дрались один на один, голыми руками, в темном дворовом колодце. Бросали друг друга на грязный асфальт и кирпичные стены. Хрипло дышали. И каждый знал, что помощи не будет.
Когда лежали распластанные на асфальте двора, уже не имея сил шевельнуться, Андрей поймал взгляд офицера. На потном, грязном, залитом кровью лице, ненавидяще, по-звериному жадно и страшно светились фосфорно-желтые беспощадные глаза. Тогда он почувствовал, как его охватывает ужас. Захотелось отползти, забиться в угол, накрыть голову дрожащими руками. Но, наверно, он смотрел на того человека глазами, еще более страшными и жуткими, потому что тот вдруг заскреб пальцами по асфальту и стал двигаться в сторону, к мусорному ящику, у которого Андрей его и настиг…
Андрей вырос в бедной семье учителя. Их было много, детишек, у скромного служащего народного просвещения. Революцию Андрей принял восторженно. Ходил с красным бантом в петлице, кричал что-то ликующее на митингах… Затем фронт — окопы, убитые друзья… Революция в его сознании все! больше приобретала четкие и определенные черты классового бескомпромиссного сражения. Направили в органы Чека. В памяти Андрея на всю жизнь остались чекисты со вспоротыми животами. Крестьяне, сожженные вместе с детьми. Пленные красноармейцы, распятые на стенках подвалов контрразведки… Он видел это собственными глазами — снимал их с крючьев, хоронил, отправлял в больницы… Те, кто резал и жег, сидели перед ним в следственной комнате, отделенные только столом. Такие понятия, как белый террор, кулаки, класс эксплуататоров, — воплотились в конкретных людей, которые coвершали кровавые преступления и организовывали заговоры против молодой Республики Советов…
Андрей прислушался. В глубине тюрьмы рухнула первая дверь, и разноголосый шум ворвался в коридор. Бежали люди — стучали сапоги, хлопали деревянные подошвы тюремных котов. Ругань, крики, звон сбиваемых запоров.
Андрей заколотил табуреткой по двери своей камеры.
— Сюда-а-а! На помо-о-ощь!!
Табуретка разлетелась на куски. Он забарабанил кулаками, расшибая их в кровь.
— Сюда-а-а!! На помо-о-ощь!!
Кто-то остановился. Слышно было, как заложили в замок ломик. Дверь распахнулась. Небритые, худые люди толпились у входа. — Кто ты?
Андрей шел к ним, бледный от волнения, без шапки, в рваном пальто, прикрыв отворотами голую грудь.
— Братцы, — сказал он дрожащим голосом. — Я Федька Блондин… Один остался. Неужели свобода?! Братцы…
— Давай, урка… Катай отсюда, пока цел, — захохотал коренастый заключенный, обросший курчавой цыганской бородой.
— Слыхали о тебе, Блондинчик, — прищурился насмешливо второй — морщинистый, узкоплечий, с дряблой шеей. — Повезло. Не успели шлепнуть!
Андрей сразу угадал их и, не раздумывая, бросился в двери.
Тюремный двор обдал жаром — ни одного деревца, только булыжник и вдоль стены вскопанная сухая земля.
Открыли ворота и выбежали на пустынную улицу. Все кинулись врассыпную. Андрей нашел взглядом тех, двоих. Они нырнули в подъезд дома, выскочили с другой стороны, перелезли через кирпичный забор. Оглянулись и увидели тяжело дышащего Андрея.
— А ты чего за нами? — грубо закричал бородатый и, нагнувшись, поднял камень. — Иди отсюда, ну!
— Бросаете, сволочи? — Андрей остановился посреди двора, рванул на груди пальто. — Бей, гад! Бей! Песья кровь… Попадешься ты мне на кривой дорожке… Бей!
— Слушай, Блондинчик;— миролюбиво сказал второй уголовник. — Нам не по пути. Ты чужой, завалишь нас.
— Фараоны для вас свои, да?! Воры называется… Шпана несчастная! Щипачи!
— Заткнись! — огрызнулся бородатый и посмотрел на него с бешенством. — Заезжие крохоборы…
— Я тебя траву заставлю грызть, — с ненавистью бросил Андрей. — Ты еще ноги мои целовать будешь, козел!
— Руки коротки! Не та губерния, сынок!
— Достанем, — Андрей погрозил кулаком. — Не таких обламывали.
— Ладно, будет вам, — хмуро проговорил второй уголовник. — Чего не поделили? Одна воровская кость. Пошли, Блондинчик.
— Стой! — выкрикнул бородатый. — Тебя кто брал — угрозыск или Чека?
— Я вор! Ты это понимаешь?! — зло заорал Андрей.
— Черт с тобой, — неохотно согласился бородатый и выбросил камень. — Идем. Нам не светит иметь дело ни с Чека, ни с контрразведкой.
Андрей медленно подошел к ним.
— Давай знакомиться, — сказал второй уголовник. — Меня зовут Неудачник. А его, — он кивнул на бородатого, — Джентльмен.
— Что, у вас — имен совсем нет? — прищурился Андрей. — Засекретились по завязку.
— Да и ты для нас только Блондин и все, — буркнул Джентльмен. — Так оно спокойнее, парень.
— Провинция чертова, — усмехнулся Андрей. — Скоро собственной тени бояться будете.
— Не пижонь, — перебил Джентльмен. — Пошли.
Они повернули за угол и оказались на центральной улице. Колокола уже трезвонили по всему городу. Они били на разные голоса — размеренно, монотонно и торопливо. Колокольни толстыми пальцами упирались в небо, и тоненькие золотые! крестики блестели под солнцем. Наконец забухал и Благовещенский собор — громада, обросшая сияющими луковицами.
— Во клопов сколько повылазило, — хмуро сказал Неудачник.
Улица оживала. Там и тут стали появляться празднично одетые люди. Они собирались кучками у богатых подъездов, весело переговариваясь и громко окликая тех, кто появлялся на балконах, уже разукрашенных коврами и гирляндами цветов. Пьяные дворники в белых фартуках и с надраенными бляхами посыпали песком в подворотнях, пылили метлами на тротуарах. Некто в распахнутой поддевке, в хромовых, бутылками, сапогах шел посреди улицы, с трудом держась на нoгax и орал, обливаясь слезами:
— Братия во Христе-е!.. Святой праздник… Преклоним колени-и-и!..
Вдруг все замерли, повернулись в одну сторону и, загалдев, побежали навстречу цоканью копыт.
Из-за угла вынеслись всадники. Не обращая внимания на восторженные крики встречающих, не придерживая коней, на бешеном аллюре врезались в толпу. Люди шарахнулись в стороны, кинулись в подъезды, оставляя на мостовой букеты цветов и раскрытые зонтики.
Перед Андреем мелькнули тяжело ходящие бока лошадей, потные лица всадников, золото погон. В звоне шпор, конском храпе и свисте нагаек отряд прогрохотал мимо и скрылся. Очнувшись от неожиданности, люди бросились за ним. Андрей бежал, не отставая от Джентльмена и Неудачника.
Оставив на мостовой лошадей, офицеры уже колотили рукоятками нагаек в двери фотоателье Лещинского. В нетерпении они дергали за ручку, налегали плечами, но, закрытая изнутри, она не поддавалась их усилиям. Тогда один из них снял со спины кавалерийский карабин и, размахнувшись, обрушил приклад на витрину. Осколки усеяли тротуар. Пригибаясь, офицеры нырнули в глубину помещения.
Толпа нарастала. Люди подходили к угловому дому, большим полукругом выстраиваясь у разбитой витрины.
— За что же это они фотографа? — Джентльмен становился на цыпочки, стараясь поверх голов разглядеть все, что происходило впереди.
— Может, коммунист? — предположил Андрей.
— Конечно, — не задумываясь, ответил Неудачник, и морщинистое лицо его покрылось паутиной злых склеротических жилок. — Чекист засекреченный! Стукач!
— Кто чекист? — послышалось рядом. — Что вы говорите? Фотограф?.. Царица небесная… Господин Лещинский?!
Толпа заволновалась и подалась ближе к дому, тесня тревожно всхрапывающих лошадей.
В глубине фотоателье раздался топот ног, и в проломе витрины показались офицеры. Они несли за углы бархатную занавесь, в которой тяжело провисало тело убитого.
На крыльцо вышли полковник и поручик. Они молча смотрели, как офицеры приторачивали к седлам двух лошадей грузный сверток, из которого с одной стороны торчали тщательно начищенные башмаки, а с другой — запрокинутая вниз голова.
Высокий и смуглый, похожий на итальянца поручик громко закричал толпе:
— Разойди-и-ись!
Люди не слушались, они напирали на стоящих впереди, и полукруг у дома сжимался.
Коренастый, с крестом на первой пуговице кителя полковник сердито бросил поручику:
— Оставьте часовых… И эту толпу — конечно, вежливо, господин Фиолетов… Толпу разгоните.
Он сбежал с крыльца и решительным солдатским шагом направился к лошади. Опустившись в седло, хмуро произнес, не глядя на людей:
— Господа, вам тут делать нечего… Пожалуйста, разойдитесь.
Какая-то толстая женщина восторженно выкрикнула:
— Виват! Доблестным освободителя-я-ям!..
Полковник недовольно поморщился и поднял руку в несвежей белой перчатке.
— Спокойно, господа… Основные силы прибудут через считанные минуты.
— Кого убили? — из последних рядов толпы прокричал кто-то басом.
Полковник поискал того глазами, подумал и сказал твердо, по-военному:
— Господа! Вы свидетели очередного варварского злодеяния большевиков. От их рук пал один из лучших сынов великой России. Мир его праху…
Он снял твердую фуражку, медленно перекрестился и тронул шпорами лошадь. За ним двинулись остальные всадники. Бархатный занавес с телом убитого закачался между двух испуганно косящихся лошадей.
— Смываться надо, — трусливо прошептал Неудачник. — Мокрое дело… Ни за что влипнуть можно.
Он стал выбираться из толпы, оглядываясь на спешащих за ним Андрея и Джентльмена.
Опустив поводья, насупившись, полковник молча ехал во главе отряда. Он не смотрел по сторонам, его не волновали радостные лица встречающих жителей. Его конь устало опускал копыта на горячую мостовую. Полковник словно не слышал праздничного благовеста колоколов. Он тяжело покачивался в седле, сгорбив старческую спину. Если бы его воля, он бы приказал прекратить этот безалаберный, ненужный трезвон. Еще несколько лет тому назад он мечтал о часе, когда его конь ступит на знакомые
мостовые этого города. Здесь прошла его часть жизни, и, может быть, часть самая лучшая. Тут он познал любовь, был счастлив. Отсюда он начинал свой путь — полный надежд на будущее, молодой, сильный, верящей в свое исключительное предназначение. И сюда вернулся — дряхлым, разбитым человеком. Он слышал за спиной топот копыт, звон шпор. Он мог обернуться и увидеть, — как олицетворение всей его прожитой жизни, — скорбный кортеж, следующий за ним.
Сегодня, как никогда, полковник понимал, что происходит вокруг него. Радостные лица жителей? — они не были истинными жителями этого города. Ликование нескольких центральных улиц не могло даже в малой толике компенсировать угрюмую ненависть заводских окраин. Исступленный бой колоколов? — они хоронили память о городе детства, о той поре, когда молодой юнкер с веткой сирени в руках стоял вот у этого здания. Волновался и смотрел на часы… И был солнечный слепой дождь. И шла по тротуару та, которую он ожидал… Дело, которому он служит? — оно держится на тупом повиновении подчиненных, на верности обреченных и жестокости тех, у кого души опустошены и выветрены, подобно корням деревьев, растущих на песке.
Полковник тронул поводья и подождал, когда с ним поравняется поручик.
— Я думаю, — тихо сказал Пясецкий, — вечером у нас уже появятся первые арестованные. Вы понимаете, господин Фиолетов?
— Безусловно, — кивнул головой офицер.
— Распорядитесь… И лучше всего на центральной площади. Человек двенадцать будет достаточно.
— Не много ли? — заколебался поручик.
— Нет, — ответил полковник. — Войска должны быть спокойны, что им не станут стрелять в спины из-за углов.
— И, кроме того, надо отомстить, — поручик кивнул через плечо в сторону убитого капитана.
— Месть как чувство оставим обывателям. Для нас — это профилактическое мероприятие и только.
— Но, господин полковник, — запротестовал Фиолетов, — погиб наш товарищ!
— Убит разведчик, проваливший задание, — жестко произнес Пясецкий. — И как разведчик, вы должны об этом подумать в первую очередь. Где альбом?
— Простите, — поручик коснулся кончиком пальцев козырька фуражки и придержал лошадь. Он понимал, что этим делом — убийством Лещинского — придется заниматься ему, и заранее злился, видя раздражение полковника. История с самого начала казалась запутанной, и многое в ней было просто непонятно. Капитана Лещинского поручик лично не знал, но часто слышал об удачливом и умном офицере.
Поручик Фиолетов зло посмотрел в спину полковника. Он видел зеленый френч, золото смятых погон и тщательно начищенные хромовые сапоги с никелированными шпорами, которые изредка звякали в такт усталому движению лошадей.
Глава 3
Весь день белые войска шли через город. У Благовещенского собора их встречали хлебом-солью именитые жители — архиерей, бывший председатель Думы, дворяне и купцы. Ревели оркестры. Качались ряды винтовок с плоскими штыками. Вал за валом шли добровольческие отряды. Офицерские сводные роты потрясали воображение обывателей литым нерушимым строем. Зрители кричали «ура!» и бросали с балконов конфетти.
Казаки качались в седлах, держа у стремян длинные пики, выпустив из-под лакированных козырьков фуражек расчесанные чубы. В белоснежных черкесках гарцевали моложавые генералы. Легко, как призрак, пронеслась «волчья сотня». Чадя плохим бензином, вполз на площадь броневик с размашистой надписью на круглой башне: «Освободитель». На рысях прогрохотала конная артиллерия с лихими ездовыми на передках. А затем поплыла серой рекой подневольная пехота в рваных сапогах, в обмотках, в шинелях без хлястиков. На головах папахи и выгоревшие картузы. Сбиваясь с ноги, торопливо, под злые окрики офицеров полки катились мимо громадного собора бесконечной лентой.
В это время в молчаливых пригородах, в рабочих районах уже начались первые аресты. Хватали по доносам добровольных осведомителей и предателей. На берегу пересохшей реки плотники в распоясанных гимнастерках с погонами сколачивали из свежеоструганных бревен виселицу на двенадцать человек.
Контрразведка облюбовала себе здание гостиницы «Палас». Раньше как-то не обращали внимание на этот дом, а сейчас словно увидели его серые стены, мрачных бетонных атлантов и чугунные цепи, поддерживающие тяжелые козырьки над дубовыми дверями. Здесь неподвижно стал солдат с черным суконным ромбом на рукаве, в центре которого белели череп и скрещенные кости.
Воры пришли к торговке краденым.
— Она баба злая и жадная, — сказал Джентльмен, пропуская спутников в подвал.
— Людка на нас капитал оставила, — хмыкнул Неудачник. Долго стучали в дверь, пока ее не открыла худая простоволосая женщина с испитым желчным лицом.
— Встречай гостей, Людмила, — сказал Джентльмен.
— А я никого не звала, — сердито отрезала женщина. — Не по нынешним временам гостями заниматься.
— Не узнаешь? — сощурился Неудачник.
— Что вам от меня надо?
— Пропусти в дом, — попросил Джентльмен.
Она захлопнула дверь, но Джентльмен успел подставить ногу.
— Ох и стерва ты, Людка, — удивился он и, отстранив ее, вошел в комнату. — Давайте сюда, ребятишки.
В низком подвале светилась крошечная лампадка. Отблески играли на множестве небольших икон. У стены стояла громадная деревянная кровать с горой белоснежных подушек. Пахло какими-то травами и валерьянкой.
Все опустились на венские стулья, только Людмила осталась у двери.
— Проходи, не бойся, — усмехнулся Джентльмен. — Быстро ты забываешь своих друзей. Напомнить, красавица?
— Говори и уматывайся, — хмуро сказала женщина.
— А ну, цыц! — пристукнул кулаком Джентльмен. — Вот что, Людка… Мы только с казенных квартир. Барахло у тебя есть? Надо приодеться. Эту рвань вонючую можешь взять себе.
— Осчастливил, — фыркнула женщина. — Я воров не укрываю.
— Зато ворованое покупаешь, — Неудачник весело хохотнул. — Я один тебе столько шмоток переносил!
— Пользы тебе от этого было мало, — презрительно сощурилась женщина. — То-то и кличут Неудачником.
— Заткнись! — крикнул обиженно Неудачник.
— Третий-то кто? — спросила женщина и кивнула на Андрея.
— Свой человек, — ответил Джентльмен. — Федька Блондин. Сидел за грабиловку. Из камеры выпустили.
— Чего-то личность чужая, — сухо проговорила женщина и царапнула Андрея острым взглядом. — Не признаю.
— Московский парень, — успокоил ее Джентльмен.
— Морда гладкая… Не нашего поля ягода.
Андрей с угрозой поднял голову.
— Ты знай свое дело, старуха, а то…
— Что то? — с вызовом спросила она.
Андрей медленно встал из-за стола. С гулом рухнул стул на каменный пол. Женщина посмотрела в его округлившиеся от гнева, яростные глаза, и желтизна схлынула с ее щек.
— Ладно… Ишь ты какой! — буркнула она. — Садись… Гостем будешь.
— Садись и ты, королева, — усмехнулся Андрей. Женщина опустилась на стул боком, на самый краешек, точно чужая в своем доме, положила руки на скатерть.
— Жить будем у тебя денька два, — проговорил Джентльмен. — Пока не подберем нужную хату… Ты нас оденешь.
— Во что я вас одену?
— Оденешь, — решительно перебил Джентльмен. — Денег у нас нет. Но за нами не пропадет. Потом возьмешь с процентами. Все! А теперь давай бритву. Заросли, как звери.
Женщина вытащила из-под кровати большую плетеную корзину и, пока воры брились и умывались под краном, перетряхнула все ее содержимое. На стол полетели мужские брюки, выглаженные сорочки, туфли.
Джентльмен, задумавшись, ходил из угла в угол, поглаживая впалые, розовые от бритья щеки.
Черные кольца волос спадали ему на лоб, отчего он все время круто вскидывал голову, отбрасывая кудри. Скрестив на груди тяжелые, повитые синей татуировкой руки, вор словно никого вокруг себя не замечал, но, обернувшись, Андрей почти всегда ловил на себе его настороженный взгляд.;
«Крепкий мужик, — подумал о нем Андрей. — Но почему Джентльмен?.. Подозрителен и опасен… А второй — типичный неудачник. Не ножом, а шилом. Законченный негодяй…»
Андрей повязал на шелковой рубашке широкий, в синюю крапинку галстук и застегнул пиджак. Хромовые, со скрипом ботинки немного жали, но терпеть было можно. Он крутнулся на каблуках перед зеркалом и одобрительно подмигнул высокому, широкоплечему, модно одетому человеку, отраженному в стекле. Гладко расчесанные светлые волосы легкой волной спадали на правое ухо. На скуластом лице нагловато поблескивали ясные глаза.
— Парень что надо, — с завистью сказал Неудачник и с отвращением посмотрел в зеркало на свое отражение. Был он кривоног, брюки безобразными складками спадали на туфли. Коричневая толстовка висела мешком и, подпоясанная витым шнуром, топорщилась сборками.
— Слушайте сюда, — вдруг проговорил Джентльмен. — Как жить дальше будем? Без денег и документов — нам хана!
— Надо Забулдыгу искать, — предложил Неудачник. — Уж он что-нибудь придумает.
— А кто это? — спросил Андрей.
Воры переглянулись, и Джентльмен неохотно произнес:
— Лучше тебе с ним не связываться. И вообще — слушай да помалкивай.
Он подождал, когда из кухни выйдет Людмила, и спросил ее:
— Где твой-то?
Она презрительно посмотрела на него и пожала плечами:
— Надо будет — сам тебя найдет.
— Ты с кем так разговариваешь? — вспылил Джентльмен.
— Не пугай, — равнодушным голосом бросила она и прошла к столу. — Коль в гости навязались — садитесь… Что бог послал.
Она высыпала из чугунка в миску вареную картошку, положила несколько сушеных вобл, швырнула на скатерть погнутые вилки.
— Ты бы, Людочка, — заискивающе сказал Неудачник, — тоже поела… А Забулдыгу поставь в известность, мол, ребята из тюряги вырвались. Без дела сидят.
— Поживите, понюхайте свободы, — сухо ответила женщина. — А там видно будет. Я вашего Забулдыгу сама полгода не вижу. Исчез он. Наверно, и в городе его нет.
— Ладно трепаться-то, — хмуро перебил Джентльмен. — Нас проверять нечего… Или боится?
Женщина насмешливо посмотрела на него, и Неудачник торопливо пробормотал:
— Друзьями были по гроб жизни… Думаешь, мы там, в тюряге, кого продали? Точно жить нам не хочется! Да и власть поменялась. Сейчас им не до нас. Главное, в политику не лезть.
— Хватит, — поморщилась женщина. — Балабонишь — голова трещит. Перебьетесь у меня пару ночей, а там катитесь.
— А Забулдыга? — напомнил Андрей и смолк под взглядом Джентльмена.
— Что-то ты, милок, — прищурилась Людмила, — уж больно любопытный. У нас такое не заведено. Не накликать бы тебе беды на самого себя.
— Ладно, — буркнул Андрей. — Отвечаю за все.
— Платить-то будешь чем? — хмыкнул Неудачник. — Там дорого берут.
— Наличными, — усмехнулся Андрей.
— Настанет время и этому, — пообещала женщина.
Глава 4
Андрей пришел в кафе «Фалькони» к десяти часам. Первые посетители уже сидели за мраморными столиками и пили холодный лимонад из запотевших фужеров. Андрей увидел Тучу сразу — пожилой, прилично, но не броско одетый господин читал газеты. Рядом стоял остывший кофе.
— Разрешите? — спросил Андрей и положил руку на спинку плетеного стула.
Туча поднял глаза, и красные пятна проступили на его дрогнувшем лице.
— Прошу, — ответил он.
— Кофе пьете? — продолжал Андрей, давая время ему прийти в себя. Он понимал удивление того — такая скорая встреча явно не входила в инструкцию.
— Кофе хорошо пить из фарфоровой чашки… Лучше аромат…
— Был бы кофе, — буркнул Туча, — а пить можно из стакана.
Он отбросил газету и навалился грудью на край стола.
— Что еще за номера? Каким образом вы здесь?
— У нас мало времени. Слушайте внимательно, — медленно проговорил Андрей. — Усильте конспирацию. Возможны неожиданные аресты. Будьте особенно осторожны.
— Что же случилось?
Андрей рассказал об альбоме. Туча кивал головой, был спокоен, но тонкие пальцы его нервно гнули и снова разгибали серебряную чайную ложечку. Андрей осторожно отнял ее и положил на блюдце.
— Я буду действовать сам, — сказал Андрей. — Никого ко мне подключать не надо.
— Вы затеяли опасную игру.
— У меня есть пара ходов вперед.
— Это не шахматы.
— Ей-богу, — Андрей приложил руку к груди. — Я не считаю себя умнее господ из контрразведки.
— Чем мы можем вам помочь?
— Укажите мне адрес какого-нибудь пустующего дома. Квартиры, сарая, чердака. Подумайте!
Туча стал медленными глотками пить кофе.
— Вам тоже не мешало бы заказать чашечку, — напомнил он.
— Официант! — закричал Андрей.
Ему принесли ароматный напиток. Он отпил и поперхнулся, настолько кофе был горячим.
— Давно вы пили кофе? — вдруг спросил Туча.
— Может, год тому, может, два, — смутился Андрей.
— Я могу вам поставить мешков пять-шесть, — предложил Туча и слегка приподнял соломенную шляпу с черной выгоревшей лентой. — Разрешите представиться. Коммерсант Курилев Лев Спиридонович. Безусловно, какая по нынешнему времени коммерция? Черный рынок… Честный негоциант перебивается с пустого на порожнее. Спекулянты становятся тузами. Бог карает за грехи наши смертные.
— И воровская жизнь не лучше, — ухмыльнулся Андрей. — Так как насчет адреса?
— Есть таковой. Запомните: Екатерининская улица. Дом два. Стоит на пустыре у кладбища. Разрушен, конечно. Жильцов нет. Когда-то там жили босяки, и с тех пор он окружен некой таинственностью.
— Прекрасно, — обрадовался Андрей. — Смогут ли соседи или еще кто там подтвердить, что в доме иногда ночуют подозрительные личности?
— Я думаю — смогут. У страха глаза велики. Кроме того, — Лев Спиридонович понимающе посмотрел на Андрея. — В нужный момент у дома могут быть наши люди.
— Это великолепно, — повеселел Андрей. — Нужный момент будем считать с сегодняшнего дня. Помимо всего, в том доме и на самом деле должен жить один подозрительный человек. Вы обязаны обеспечить его безопасность и пути отхода в случае облавы.
— Это в наших силах, — ответил с уверенностью Лев Спиридонович.
— Прошу особенно обратить внимание на безопасность, — еще раз сказал Андрей.
— До свидания, — Лев Спиридонович коротко поклонился и пошел к дверям.
Андрей еще долго сидел за столом. Кофе остыл. Люди толкались у буфета. Под стеной веранды оборванные мальчишки торговали папиросами. Кричали чистильщики обуви. По дороге тянулся военный обоз. Кованые колеса подвод грохотали по булыжникам.
За соседним столиком лысый господин возмущался, стуча пальцами по развернутому листу газеты:
— …Восемь тысяч рублей за адрес или местонахождение коммунистов и сочувствующих… Деньги! Деньги! Разве можно священное чувство отмщения оценивать в бумажных ассигнациях?! Кретинизм! Так легко все опошлить!! Все вывалять в грязи!
— Да, да, — кивал головой его сосед и, по-гусиному вытягивая шею, схлебывал с края чашечки горячий кофе.
Андрей расплатился и побрел по улице. Такой жары он давно не видел — солнце расплавилось и растеклось по всему небу. Свод источал слепящий свет и удушающий зной. Листва деревьев поникла.
Джентльмена и Неудачника он нашел на берегу пересохшей речки. Вонючие водоросли толстым панцирем сковывали ее поверхность, и только у моста зеркально искрилась большая заводь, полная плещущихся детишек.
Андрей скинул рубашку и лег на землю рядом с разомлевшими полусонными ворами.
— Ну что? — вяло спросил Джентльмен. — Нашел хавиру?
— Черта с два, — вздохнул Андрей. — Без документов никто не пускает.
— Позарез нужен Забулдыга, — жалобно прошептал Неудачник, — у него все есть.
— Опасается он нас, — Джентльмен перевернулся на спину, подставил солнцу волосатую грудь.
— Разве мы не такие же воры, как он? — проговорил Андрей.
— А ты скажи ему об этом, — усмехнулся Джентльмен. — Стреляный воробей. Не доверяет. Может, ты его заложишь, а?
— Я в глаза его не видел, — зло перебил Андрей.
— Ну тогда вот этот, — Джентльмен кивнул на Неудачника. — Наведет фараонов на след, и сразу Забулдыгу к стенке.
— Это я наведу?! — взорвался Неудачник, и старческое лицо его покрылось пятнами. — Да ты, сука, первый…
— Цыц! — бросил Андрей. — Не базарь. Обелиться надо. Сошлепать хорошее дело, и он тогда сам в долю попросится.
— У тебя есть что на примете? — заинтересовался Джентльмен.
— Ювелир Карташевич, — лениво пробормотал Андрей. Неудачник оторопело посмотрел на него и весело задрыгал в воздухе тощими ногами, покатившись со смеху.
— Ой, не могу… Умора… Другой раз погореть захотел… Одного ему мало… Ох, трясця его маме…
— Ходы-выходы известны. Кабинет с закрытыми глазами найду. — Андрей привстал на локте. — Войдем ночью… Под утро. Не через дверь, а в окно. Решетка тонкая. Выпилим.
— Заманчиво, — проговорил Джентльмен. — Как говорил мой отец: что бог не даст, то за деньги не купишь… Сам господь тебя к нам послал.
— Кем же он у тебя был?.. Такой мудрец.
— Его батя в грошах купался, а потом на церковную паперть с протянутой ладонью встал. И копейке был рад, — усмехнулся Неудачник.
— У нас фамилия известная, — неохотно произнес Джентльмен. — Весь род наш рестораны держал. Целый город кормили. Когда я еще пацаном был — отец обанкротился. Родня рубля не заняла. Я подрос — первым делом своего дядю почистил. А он меня на пять лет в тюремный замок.
— Он у нас ученый, — с гордостью сказал Неудачник. — Полгимназии окончил. И Забулдыга… тоже ученый. Ух и ученый! По-медицински шпарит.
— По-латыни, — поправил Джентльмен.
— Что ж он за человек? — равнодушным голосом произнес Андрей.
— Когда-то на попа готовился, — зло ответил Джентльмен. — Семинарию духовную окончил. А потом стал вором. Королюет в городе. Если поперек его пойдешь — зарежет. Чего он с нами не встретился? Выдерживает… Ждет, когда мы на дело пойдем. Если не завалим — он сразу тут как тут.
— Мы ж как в тюрягу попали? — сказал Неудачник. — Почтовый вагон надыбали. Пошли первыми, а там милиция.
— На себя взяли. Его не выдали, — хмуро вставил Джентльмен. — А все боится. Людка знает, где он прячется, да молчит. Знать, указ такой дал.
Он щепочкой разгладил песок и нарисовал четырехугольник.
— Вот дом… Где тут окна-двери?.. Малюй дальше. Наверно, у того Карташевича золото в сейфе.
Андрей вспомнил чертежик дома ювелира, который лежал в деле банды Корня, и по памяти нанес расположение кабинета, спальни и магазина.
— Надо следить. Узнать, когда он ложится спать… Ходит ли в гости? Вдруг уедет в другой город… С завтрашнего дня не спускать с него глаз.
Андрей поднялся на ноги и отряхнул с рук песок.
— Я с живого ювелира шкуру спущу, — с удовольствием сказал Джентльмен, — а до золота доберусь…
Раскинувшись, он лежал на песке и жевал тяжелыми челюстями травинку. Белое тело его было покрыто черными волосами. На груди под соском розовел неровно сросшийся шрам.
Андрей молча разулся, скинул брюки и пошел к воде. Когда, накупавшись, вылез на песок, воры лежали голова к голове и что-то рассматривали, переговариваясь.
— Вот, Блондин, где грошики под ногами валяются, — мечтательно проговорил Неудачник и показал измятую газету. — Видишь? За любого паршивого коммуниста по восемь тысяч карбованцев дают… Мать родная! За что? Только за адрес. Дармовый хлеб! Пять человек — сорок тысяч! Кого бы заложить, а? Слушай, — обратился он к Джентльмену. — Давай твоих родичей за восемь тысяч карбованцев продадим?
— Я с ними сам посчитаюсь, — процедил Джентльмен. — Мое время еще придет… Когда-нибудь я их всех куплю с потрохами. Пущу по миру, разорю в дым!..
Андрей запустил пальцы в жаркий песок, прищурившись, смотрел, как медленно плывет одинокое пухлое облако. У него синее донце. Такое облако могло принести дождь, или, разросшись, покрыть землю тучами, забарабанить громами, вонзая молнии в колокольни. Оно еще было мягким, летучим и теплым от солнца, но в нем уже собирались ветры и клубились тяжелые туманы.
Сегодня ночью, ворочаясь на полу в подвале торговки краденым, Андрей в коротком быстром сне увидел Наташу. Она пришла к нему неясным видением, оставив в памяти звуки своего голоса, веселый смех и почему-то печальные глаза…
Глава 5
В дом номер два на Екатерининской улице Андрей пробрался утром. Дом стоял на отшибе, окруженный пустырем, поросшим высоким бурьяном. Андрей пришел к нему тропинкой со стороны кладбища. Более или менее сохранившуюся комнату он нашел на втором этаже. Туда вела полуобвалившаяся лестница с гипсовыми амфорами на тумбах. В трещинах стены росли карликовые березки и голубели цветы вьюна. Совсем рядом, за поваленным забором, — нешумная улица, с тарахтящими телегами и гусиной стаей у водоразборной колонки. А по другую сторону было кладбище с поникшими ивами. В его часовне редко-редко позвякивал надтреснутый колокол.
Андрей прилег на полу и заложил руки за голову. Терпкий запах ковыля усыплял, в проемы окон залетали ласточки и, запищав, стремительно выносились из помещения.
Внизу послышались шаги — кто-то поднимался по лестнице. Андрей привстал на локте и увидел, что в дверь входит высокий парень в сатиновой косоворотке.
— Здоров, — сказал он.
Ветер трепал его выгоревший чуб, на смуглом лице голубели отчаянно-веселые глаза.
— Здравствуй, — ответил Андрей.
— Принимай смену, — парень подмигнул и сел у стены, разбросав ноги. — Ну что, покурим? Здрасьте, от Тучи… Желает удачи.
Они закурили папироски, молча разглядывая друг друга. Парень дымил, поплевывая в угол. На его лице то появлялась скрытая улыбка, то брови сходились к переносице. Он поигрывал зажигалкой, подбрасывая ее на ладони. Все в нем было крепким, большим — сапоги растоптанные, с длинными голенищами, плечи широкие, грудь выпуклая, а губы по-детски пухлые, с черным пушком в уголках.
— Можешь сматываться, — проговорил он. — С остальным мы справимся сами… Парень похлопал по карману, где у него, кажется, лежал револьвер.
— Смотри, не попадись, — предупредил Андрей.
— Я через кладбище рвану… У меня там ход есть. Все, брат, выверено. Мы вчера здесь с Тучей были… Спланировали.
— Как тебя звать?
— А это уж лишнее, — хохотнул парень.
Андрей отшвырнул папироску и достал жестяную коробку, полную окурков. Он разбросал их по полу и раздавил подошвами.
— Ты смотри какой! — одобрительно сказал парень. Он с завистью посмотрел на Андрея. — Из Чека небось?
— А это уже лишнее, — усмехнулся Андрей. Они встретились взглядами и рассмеялись.
— Может, увидимся при наших, — проговорил с улыбкой парень. — Так не пройди мимо… Не зазнавайся.
— Ни пуха тебе, — Андрей, прищурившись, оглядел его и покачал головой. — Ну и здоров ты… На два метра вымахал. Женат?
— Все невесты впереди, — бесшабашно сверкнул глазами парень и взмахнул рукой. — До скорого, товарищ… Желаю!
— Тебе тоже, — Андрей последний раз осмотрел комнату и пошел к лестнице, слыша, как за спиной парень беззаботно засвистел какой-то мотивчик, пристраиваясь у окна.
Потом Андрей сидел на скамейке под деревом и смотрел на гостиницу «Палас». Ничего не скажешь, мрачное здание, словно специально предназначенное для контрразведки. У нас, подумал он, тоже была возможность занять его под Чека, но Бондарь выбрал старинный светлый особняк с ампирным портиком. А деникинцы сразу ухватились за «Палас». Что это, тяга к театральным эффектам, желание потрясти воображение обывателя или инстинктивное влечение к мрачности, присущей заведению?
Над неподвижным часовым развевалось громадное цветное знамя. Привязанные к обглоданным деревьям лошади топтались на мостовой, притрушенной сеном. Иногда останавливались легковые машины, из них выходили подтянутые офицеры и шли к дубовым дверям. Забранные коваными решетками окна изнутри были прикрыты шторами, и только в одном, распахнутом настежь, сидела на подоконнике женщина и мирно курила папироску.
«Что ж, покурим и мы… Может быть, последнюю в своей жизни», — Андрей раскрыл пачку «Пальмиры» и задымил, но табак был горьким и противным. Он смял папиросу и старательно раздавил ее каблуком. Поймал себя на том, что делает все медленно, всячески оттягивая время, когда надо будет встать и идти туда, в это угрюмое здание.
Он поднялся со скамейки, одернул пиджак и пошел через дорогу.
— Куда? — спросил часовой.
— К начальнику.
— Спросишь у дежурного.
Андрей потянул на себя тяжелую дверь и оказался в сумрачном вестибюле. Свет падал только из верхних цветных витражей, и пол, казалось, был сложен из бледной расплывшейся мозаики. За маленьким столом, между двух холодных мраморных колонн, сидел дежурный офицер.
— Мне бы к начальнику, — растерянно оглядываясь, проговорил Андрей.
— По какому вопросу?
— Да понимаете, господин…
— Личный? Служебный? Вы кто такой?
— Тут такое дело, — шепотом сказал Андрей, — Касается коммунистов… Вы объявления развесили…
— Понятно, — офицер развернул бланк пропуска. — Фамилия?
— Кривцов Федор Павлович.
— Второй этаж. Пятая комната. К господину Фиолетову… Не забудьте сделать отметку.
— Благодарствую, — поклонился Андрей и пошел к широкой, покрытой ковром лестнице. Он бесшумно поднимался по ступеням, и вокруг стояла тяжелая гулкая тишина, в которой иногда где-то хлопали двери, слышались торопливые шаги, и затем снова все здание словно погружалось в напряженное безмолвие. На лестничных площадках бронзовые амуры держали ветвистые канделябры. В их круглых пустых подсвечниках торчали расплюснутые окурки.
— Вы куда? — вдруг громко, так, что Андрей вздрогнул от неожиданности, спросил голос.
Он обернулся и увидел в нише офицера. Тот сидел в бархатном синем кресле, поставив клинок между раздвинутыми коленями. Андрей молча показал пропуск.
— Налево, третья дверь.
Андрей прошел в коридор. Несколько раз глубоко вздохнув, осторожно постучал костяшками пальцев.
— Да! Войдите!
Офицер встретил его стоя. Был он высок ростом, смугл и похож на итальянца. Глаза глядели внимательно, в них была скрытая веселая искра.
— Поручик Фиолетов, — представился он и широким жестом показал на стул. — С кем имею честь?
Андрей замялся, словно хотел что-то сказать, но от волнения не мог выговорить ни слова.
— Смелее, — засмеялся поручик Фиолетов и ловким щелчком направил через стол коробку с папиросами. — Закуривайте…
Поручик умел владеть собой и знал, что роль приветливого простецкого человека лучше располагает к откровенности посетителей, чем казенная официальность сухой встречи. Ему, бывшему гвардейскому офицеру, в достаточной степени пришлось изучить повадки и характер тех, кто добивался с ним свиданий. Такова его работа вот уже на протяжении двух лет. Контрразведка не могла существовать без анонимных писем, провокаторов и доносчиков. Она сознательно взяла на вооружение развращенные, порочные инстинкты. Люди приходили сюда, негодовали, плакали, разоблачали заговоры, а за этим всегда было одно — рабское повиновение власти, зависть к себе подобному, но более удачливому, плохо спрятанная трусливая корысть. Все это рядилось в прекрасно сшитые костюмы или лохмотья оборванцев, носило фетровые котелки, офицерские фуражки, с еще не выцветшими пятнами от снятых кокард, но в сущности своей оставалось схожим, как гипсовые слепки, снятые с одного лица.
Фиолетов смотрел на сидящего перед ним крепко сложенного молодого человека и пытался по его суетливым движениям, излишне фасонистому покрою одежды и аккуратному пробору в мягких волосах определить характер и профессию посетителя. Было в нем что-то от приказчика небольшого магазина — врожденное раболепие и готовность услужить, но за вкрадчивостью манер и заискивающими взглядами улавливалось нагловато-нахальное — это выдавал начес чуба на правую бровь; тупой подбородок и холодноватый блеск выпуклых глаз.
«Кто же такой? — думал Фиолетов. — Физически крепкий… но руки… Белые руки с ровными ногтями. Одет слишком… Это доказывает низменное происхождение. Плебей… Умный рот…»
— Трудное дело, — вздохнул Андрей, — не знаю, как быть…
— Ну так-с, — Фиолетов весело улыбнулся. — Доставайте из своего кармана наше объявление…
Андрей ошеломленно посмотрел на него и медленно вытащил из внутреннего кармана свернутый лист бумаги. Он его сорвал со стены полтора часа тому назад.
— Денежные затруднения? — продолжал чуть иронически Фиолетов. — Или святое желание отмщения?
Андрей подавленно молчал.
— Вы можете не стесняться, — подбодрил поручик. — Мы здесь понимаем, что восемь тысяч рублей не всегда удачная цена… Как ваша фамилия? — Он потянулся за пропуском. — Я вас слушаю, Федор Павлович Кривцов.
Андрей поднял голову, исподлобья посмотрел на офицера.
— Деньги, конечно, нужны… Грех отказываться. Только я вас предупредил, что дело сложное… Вот вы меня назвали Кривцовым. А я свою фамилию уже пять лет только от следователей слышу. Вор я, понимаете?
У Фиолетова чуть удивленно дрогнули брови, но лицо осталось спокойным.
— Кличка у меня — Федька Блондин… Трое нас было. Приехали из Москвы. Проследили за ювелиром Карташевичем… Уже до сейфа добрались, как тут из розыска. Шпалеры у нас были. Стали отстреливаться. Двоих наших пришили, а я остался… Схватили меня…
— Дальше, — потребовал офицер.
— Сначала думали, что мы из этих… Из политических. Вроде как эксцесс сделали — выемку золота для политической организации. В Чека допросили.
— Били?
— Нет, — усмехнулся Андрей. — Хотели припаять «вышку», то есть в расход, да пришлось им самим манатки сворачивать. Уголовники из тюряги, то есть, из тюрьмы, деру дали. И я с ними. Вот и все, господин поручик.
— Зачем же пришли? — нахмурился Фиолетов.
— Хочу повиниться перед вами, — сказал Андрей. — Вы ж совсем иная власть. Что я тут буду делать? Без документов, без жилья… Воровать снова? Так к вам только попадись, шлепнете и судить не станете.
— Это точно, — повеселел поручик. — Ну, а дело твое где?
— В тюрьме, наверно, — пожал плечами Андрей.
— Значит, у нас, здесь. Проверим, — Фиолетов искоса посмотрел на поникшего Андрея и прищурился. — А за что тебя реабилитировать? Ты что, эшелон с красными подорвал?
Андрей кивнул на объявление и осторожно подвинул его к офицеру.
— Вчера я на улице одного из чекистов видел… Из тех, которые меня допрашивали. Конечно, сейчас он по-иному одет. Замаскирован, но я его личность опознал.
— Дальше? — заинтересовался Фиолетов.
— Проследил я его. Живет на пустыре, в разрушенном доме…
— Адрес!
— Господин поручик, только уговор… Я сам добровольно пришел.
— Говорите адрес, — поморщился поручик. — Торговаться будем потом.
— Екатерининская, два.
Офицер задумчиво побарабанил пальцами по столу.
— Чекист, говорите?
— Чекист.
— Сколько же их, чекистов? Тысяча? Две? Все ловят только чекистов… Пойдемте!
Они вышли из кабинета и зашагали по коридору. Фиолетов заглянул в одну дверь.
— Здравия желаю, мадам, — весело прокричал он. — Найдите уголовное дело «Блондина»… Попытка ограбления ювелира. И быстро к господину полковнику. Целую в щечки!
— Веселый вы человек, — осмелев, сказал Андрей.
— А ты, милейший, не промах, — ухмыльнулся поручик и бросил на него быстрый взгляд.
— Ишь ты, — пробормотал Андрей и пошел впереди него, затравленно озираясь по сторонам.
Перед высокой дверью Фиолетов остановил Андрея:
— Подожди меня здесь.
Полковник молча посмотрел на поручика. Тот стоял, по-домашнему просто облокотившись о край стола. Под глазами у Фиолетова синели тени, тонкие морщины тянулись от крыльев носа. Смуглая кожа казалась пепельной.
«…Не так много работает, — недовольно подумал полковник, — больше пьет. Гвардейским офицерам не место в контрразведке. Избалованы и ленивы. И чересчур много претензий. Как и различных желаний… Он неудачник или элементарный прохвост. Его друзья — все блестящие офицеры…»
— Вас видели в некиих кабаках, — с чуть слышимой брезгливостью в голосе проговорил полковник. — Ваш вид не внушал уважения. Жалованье поручика не обильно…
— Простите, — вставил Фиолетов и улыбнулся, показывая сияющие белым кафелем зубы. — Именно отсутствие хороших доходов и является причиной столь частого посещения кабаков.
— Загадочно говорите.
— Альфред Георгиевич, — Фиолетов засмеялся, как напроказивший мальчишка, смущенно потупил голову. — Мне нечего тратить. Весь в долгах. А это развращает. Как и мужская дружба.
— Вот этого уж не понимаю, — передернул плечами полковник.
— Платит самый преданный и отзывчивый, — хохотнул Фиолетов и развел руками. — А Русь такими богата.
— В неслужебное время вы вольны располагать собой как вам на душу ляжет, — перебил полковник, — но я пренебрегаю теми, кто теряет облик человеческий.
— Я знаю об этом, Альфред Георгиевич, — тихо сказал Фиолетов. — Мы русские офицеры.
— Вот и прекрасно, — хмыкнул полковник. — Хотя одна треть крови у вас иноземного происхождения.
— Италия — страна певцов и рыцарей, — с оживлением ответил Фиолетов и, приоткрыв дверь, поманил согнутым пальцем Андрея.
— Почему сразу ко мне? — поморщился полковник. — Имейте жалость, поручик, пощадите. Кто он?
— Альфред Георгиевич, я подумал, что можно использовать по делу Лещинского, — многозначительно сказал Фиолетов. — Это вор… Уголовник. Пришел с повинной. Хочет, чтобы мы забыли его прошлые прегрешения. Сидел у большевиков. Спасся, когда ушла охрана.
— Мы не благотворительная организация, — сухо ответил полковник.
— Совершенно точно изволили сказать, — подхватил Фиолетов. — Он и сам так думает. В залог своей будущей деятельности принес адрес коммуниста. И, конечно, как всегда, чекиста!
Полковник медленно поднял глаза на Андрея. До этого он его словно не замечал. Сейчас, откидываясь на спинку кресла и по-монашески складывая кисти рук на животе, полковник безразличным взглядом скользнул по стоящему перед ним человеку, и в стариковских выцветших глазах не мелькнуло ничего — они оставались холодными, с замутненными блеклыми зрачками. Розовые от бессонницы веки несколько раз сомкнулись, как бы сделав ряд мгновенных фотоснимков, и костлявое лицо снова опустилось к зеленому сукну стола. Полковник зашелестел какими-то бумагами.
Андрей почувствовал, что легкая испарина проступила на лбу, а ноги стали тяжелыми. Он переступил, в тишине кабинета скрипнули ботинки, полковник скривился, точно от зубной боли.
«…Вот он какой! Крупная фигура, но нервы… Не надо было меня сразу к нему… Я для него слишком мелок, ничтожество… Не повезло, попал к этому поручику-недотепе… Наверно бьет арестованных и нюхает кокаин…»
— Ты уверен? — вдруг тихо спросил полковник.
— Видел собственными глазами! — закричал Андрей. — Он!! Ей-богу, он! Провалиться мне на этом месте, он!!
— Голубчик, не ори, — медленно проговорил полковник. — Мы занятые люди… Если твои сведения не подтвердятся…
В дверь постучали, вошла красивая женщина в длинном шелковом платье.
— Альфред Георгиевич, — пропела она приятным голосом, — пожалуйста, из канцелярии дело банды Корня.
Полковник вопросительно посмотрел на поручика. Тот развел руками:
— Это я распорядился… Может быть, Альфред Георгиевич, пожелаете взглянуть?
— Хорошо, оставьте. Благодарю.
Женщина положила папку на стол и направилась к двери, гордо неся на голове громадный стог великолепных волос.
— Оставьте этого типа у нас, — буркнул полковник, разглядывая обложку папки. — Возьмите машину и конвой. Если адрес правилен, то арестуйте того… так называемого чекиста.
— Господин полковник, — с беспокойством начал было Андрей, но тот раздраженно перебил:
— Иди!
В коридоре Фиолетов расправил китель под ремнем и раздосадовано заговорил:
— Зря я тебя сразу к полковнику… Ну, потом пеняй на себя, господин вор! А пока посидишь в камере.
Поручик сдал Андрея дежурному, тот не очень тщательно обыскал его и повел по ступеням вниз.
Сколько прошло времени — час, два? Трудно это определить в полутемном помещении. Сюда не доносилось ни звука, а свет шел из небольшого окна, забранного ржавой решеткой.
Подвал был сырым. Из кирпичных стен торчали хищно изогнутые крючья. Смердящая лужа тянулась из угла, в котором лежало опрокинутое ведро.
Андрей опустился у стены на корточки, поднял воротник пиджака.
«Что-то будет? Справится ли с делом тот, насмешливо-веселый парень с револьвером в кармане? Здоров детинушка, силы недюжинной… Главное, чтобы он спасся, успел убежать… Если попадется контрразведке в руки, то… Неопытный парень… Все может провалиться… Молодой, видно, из заводских. Лишь бы деникинцы увидели следы жилья, и хотя бы раздался из окна один выстрел из револьвера… Потом пусть бежит… Здесь холодно, словно в погребе… Поверит ли полковник? Наверное, нет… На его глупость надеяться не приходится…»
В камере не тишина, а молчаливое эхо. Оно сторожит каждое движение и зло отзывается на любой шорох. Там, в том доме на Екатерининской, тишина была точно расслабляющий наркоз — с запахами мятой полыни и сухой штукатурки… Как прекрасно видеть небо, слушать свое бьющееся сердце, трогать кончиками пальцев наморщенный лоб. Осязать себя с ног до головы всего — чувствовать свою мягкую кожу, по которой пробежал муравей, ощущать движение легких волосков на ветром обдуваемой руке… Чертовски холодно… Каменная яма с крючьями на стенах… Зачем крючья? Время перестало существовать… Сколько прошло — час, два?..
Казалось, миновала вечность, пока за ним пришел дежурный. Он повел его по тем же лестницам, в гулкой тишине пасмурного здания.
— У вас там на стенах крючков понатыкано, — угрюмо сказал Андрей.
— Для мяса, — не оборачиваясь, отвечал офицер. — Бывшие холодильники…
Фиолетов поджидал его в вестибюле. Он был взволнован, покусывал губы и нетерпеливо смотрел на приближающегося Андрея.
— Пошли, — резко бросил он и зашагал к двери. Они вышли во двор гостиницы. Поверх кирпичного забора уже натянули колючую проволоку, и в углах построили дощатые сторожевые башни. На залитом светом асфальте у коновязи топтались оседланные лошади и стояли офицеры. У стены Андрей увидел несколько трупов. Они лежали на солнцепеке, над ними жужжали мухи. Из-под наброшенных шинелей торчали разбитые солдатские ботинки и хромовые офицерские сапоги.
В группе офицеров выделялся полковник Пясецкий.
— Иди сюда! — позвал он. Внимательно, словно впервые, посмотрел на Андрея и сухо усмехнулся. — Что ж… Твой донос оправдался. Тебе повезло… — Он коротко кивнул на убитых. — Правда, им это не поможет… Так ты считаешь до сих пор, что выследил чекиста?
— Да, господин полковник, — твердо ответил Андрей.
— Мог бы его опознать?
— Безусловно, господин полковник.
— Я представлю тебе такую возможность, — полковник повернулся на каблуках и пошел к сторожевой вышке. — Смотри… Он?..
На асфальте, раскинув руки и подвернув ноги, лежал убитый парень. Тот, который остался в доме на Екатерининской, два. Голова его была размозжена, и в спутанных выгоревших волосах запеклась кровь. Он лежал щекой к земле, словно слушал что-то. Его открытые глаза потемнели, но неподвижные остекленевшие зрачки неестественно блестели.
— Узнаешь?
— Да, — тихо прошептал Андрей.
— Я так и думал, — произнес полковник. — Отстреливался до последнего патрона… Оставшийся пустил себе в лоб. Странно, зачем он остался в городе?
— Попал к нам в руки чудом, — объяснил офицерам Фиолетов. — Фельдфебель нарушил приказ и выставил патруль у кладбища. Оказывается, он местный житель и знал тут все дырки. Кроме того, этого чекиста кто-то поддерживал огнем с чердака соседнего дома. К сожалению, обнаружить не удалось…
Андрей был не в силах отвести взгляд от широкой, обтянутой косовороткой спины парня, к которой прилипли сухие былинки. Голоса офицеров доносились до него, с трудом пробиваясь сквозь жаркий гул, наполнивший черепную коробку. Ломило виски.
— Конечно, — сказал полковник, — он член организации… И, может быть, один из руководителей. Пойдемте ко мне. И, как его?
— Блондин, господин полковник.
— Зовите!
Фиолетов кивнул Андрею, и они все трое прошли мимо вытянувшихся офицеров.
— Ну-с, — Пясецкий сложил вместе кончики пальцев и откинулся на спинку кресла. — Рассказывай.
— О чем? — испуганно спросил Андрей.
— Неужели ты так наивен, что думал таким способом обмануть нас? — он удивился, и легкая улыбка тронула тонкие губы. — Мы солидное заведение, господин Кривцов. Ты если и не уважаешь нас, то хоть отдавай должное нашим возможностям.
— Я ничего не понимаю, — пробормотал Андрей.
— Ну, конечно, — вежливо сказал Пясецкий. — Тебе нужны особые напоминания… Давно ты работаешь на Чека?
— Господин полковник! — воскликнул Андрей. — Я вор! Пришел к вам…
— Молчать! — гаркнул полковник и стукнул кулаком по столу. — Сволота уголовная, красным продалась?!
«Значит, он верит, что я уголовник», — мгновенно пронеслось в голове Андрея.
Фиолетов подсел к столу и, словно случайно, поставил ножку тяжелого стула на ботинок Андрея. Вопросы посыпались с обеих сторон, торопливые, быстрые. Острие ножки вонзилось в подъем, невыносимой болью отдаваясь во всем теле.
— Когда завербовали красные?
— За сколько продался?
— Говори сразу!
— С кем связан из организации?
— Не думай! Смотри в глаза!
— Какие задачи? Место явок, пароль… В глаза! В глаза!
Скрючившись на стуле, Андрей шептал дрожащими губами:
— Не знаю… Ничего не знаю… Вы ошиблись, господин… Истинная правда… Клянусь! Я ничего не знаю…
Казалось, что все кости ступни были раздавлены тяжестью Фиолетова, который, рассевшись на стуле, зло бросал:
— Сколько тебе лет?
— Где родился?
— Сколько получил от красных?
Он наотмашь, так, что дернулась голова, хлестнул Андрея по щеке.
— Отвечай!
Полковник вдруг дал знак поручику, и тот с невозмутимым видом поднялся со стула, отошел к окну, закурил папиросу.
Андрей
руками подтянул онемевшую ногу. У него дергались губы.
— Скоро пройдет, — успокоил полковник. Он задумался, поглаживая ладонью седой ежик волос. Затем добавил — Раз сюда попал… Где ты живешь?
— Есть тут торговка краденым, — неопределенно сказал Андрей и рукавом пиджака вытер лоб. — Кость поломали.
— Один там живешь? — продолжал полковник.
— Еще двое воров… Из тюрьмы вместе бежали.
— Проверим, — буркнул полковник и черкнул карандашом в раскрытой папке. Лицо его, снова спокойное, делалось все скучнее, он безразлично поднял глаза на Андрея и бросил конвоиру — Уведите.
Когда дверь за Андреем закрылась, полковник повернулся к Фиолетову:
— Поручик, — Пясецкий придвинул к краю стола папку и положил на нее белую, в синих венах, маленькую руку. — Используйте этого уголовника в деле Лещинского. Дайте ему задание.
— Не помешает ли он другим? — осторожно спросил Фиолетов.
— Вы его ни о чем не информируйте, — сердито оборвал полковник. — Понимаете? Просто пусть опознает или наведет на след и все!
— Слушаюсь! — коротко ответил поручик и щелкнул каблуками. — Разрешите идти?
— Ступайте.
Фиолетов привел Андрея в свой кабинет и усадил на стул. Медленно прошелся от двери к окну, остановился за его спиной, положил руку на плечо.
— Доверия к тебе нет… Полного доверия… Сиди! Доверие ты обязан еще заслужить. Кроме того… Мы не та организация, куда можно просто так захаживать… Как на блины к теще. Улыбаешься? Ну, ну… Рад, что у тебя хорошее настроение. Если ты выполнишь наше поручение — то будешь отменно награжден.
— Отпустили бы меня подобру-поздорову, — жалобно проговорил Андрей.
— Может быть, — улыбнулся Фиолетов и сел за стол, придвинул к себе стопку бумаг. — Ты станешь нашим доверенным лицом. Это откроет перед тобой иную дорогу. Будешь жить красиво. Вкусно есть, сладко пить, спать с бабами… И участвовать в идейной борьбе.
— Стукачом хотите сделать? — угрюмо пробормотал Андрей.
— Ты таким уже стал, — небрежно махнул рукой Фиолетов и зашелестел бумагами. — Слушай и запоминай… Недавно в городе убили весьма уважаемого человека.
— Мы на мокрое дело не ходим, — торопливо вставил Андрей.
— Ты слушай дальше, — нахмурился поручик. — Вот заключение нашей экспертной группы… Читаю: «Обследование показало: дверь, ведущая в коридор, взломана коротким ломиком — „фомкой“. Отсутствие следов торопливых скользящих ударов говорят об опытности преступника… Замок сорван в левую сторону, что сподручно человеку, обладающему более сильной левой рукой… В темноте коридора он шел, прикасаясь пальцами к стене, — на побелке остались короткие мазки… Естественно предположить рост преступника — 170–180 сантиметров… Труп убитого лежал на правом боку, упершись в подлокотник кресла — удар в висок был нанесен тем же ломиком…»
Андрей сидел у стола согнувшись, в усталой и неудобной позе, опустив голову. Он старался не пропустить ни одного слова. Ему было ясно, что читается дело фотографа Лещинского. Мысленно он сейчас представил все снова с удивительной ясностью: полумрак ателье, сияющее стекло витрины, за которым безлюдная улица… черные конверты, разбросанные по полу, убитый фотограф и вскрытый тайник. Кем вскрытый?.. Что узнала об этом контрразведка?.. И где альбом?..
— «…Характер преступления, — с выражением читал поручик, машинально приглаживая гладко причесанные волосы, — почерк преступника напоминает действия уголовников, профессионального вора и убийцы по кличке Забулдыга. Дактилоскопический метод показал идентичность отпечатков пальцев, найденных на предметах и находящихся в полицейской карточке преступника. Старший эксперт…»
Поручик замолк и посмотрел на Андрея:
— Понятно?
— Никак нет, господин поручик, — торопливо вставил Андрей.
— Экий ты, братец, — недовольно проговорил поручик. — Речь идет о поисках убийцы… Мы знаем его, но в этих чертовых трущобах среди многотысячной толпы… попробуй, найди его!
Поручик швырнул через стол квадратик картона с фиолетовой печатью.
— Полюбуйся. Запомни малейшие приметы.
С фотографии исподлобья смотрел мрачный мужчина с одутловатым круглым лицом. Полосатая арестантская куртка обтягивала его покатые плечи.
— Его к смерти приговаривали и белые, и красные, — сказал поручик, — но везет подлецу. То власть поменяется, то убежит из-под стражи. Этому человеку терять нечего. Рано или поздно, его ожидает смерть через повешение. Но нам необходимо, чтобы это случилось не когда-то. Сейчас! Сегодня! В крайнем случае — завтра! И ты нам в этом поможешь, Блондин. Не мне тебя учить, как это делается. Ты с этим прекрасно сегодня справился. Отличная работа. Будем надеяться и на вторичный успех. Почему ты молчишь?
— Убьют они меня, — подавленно проговорил Андрей. — Как вошь раздавят. У них методы почище ваших. При малейших подозрениях перо в горло вставят. А кто я сейчас такой? Беглый вор. Меня любой полицейский имеет право арестовать и посадить в кутузку.
— Ну для полицейских… — задумчиво сказал Фиолетов и вдруг ткнул пальцем в фотографию. — Возьми себе… С печатью — это почти документ. Будешь опознавать… Дадим тебе и справку о благонадежности. Каждые три дня ты будешь приходить ко мне. Агентам вход через двор, со стороны базара. Не вздумай скрываться — найдем и шкуру спустим. Иди, Блондин!
Андрей встал со стула и пошел обратно было к дверям, но вдруг остановился и тихонько кашлянул в кулак. Фиолетов поднял голову:
— Ну что еще тебе?
— Насчет денег, — робко проговорил Андрей. — Вы обещали. Как в газетах писали.
— Какие деньги? — побагровел поручик. — Ах ты, хамье! Морда уголовная! Деньги?! Угробил человека! Ты докажешь, что это был чекист? У тебя есть свидетели? А может быть, то был порядочный, уважаемый гражданин, которого мы шлепнули по твоему подлому доносу!
— Как же обещанное? — упавшим голосом, с обидой сказал Андрей. — Деньги не маленькие… Мне жить надо. Иль опять воровать? Так сами поймаете и за решетку упрячете.
— Убил человека, да еще хочешь поставить в документе официально зарегистрированную подпись, — неожиданно спокойным тоном сказал поручик. — Прошу!
Фиолетов раскрыл толстую, шнурованную тетрадь и тонкой ручкой, нетерпеливо постукивая пером по дну чернильницы, размашисто написал, бормоча вслух:
— Мною получено от господина Фиолетова за активное содействие в ликвидации большевистского агента, проживавшего в доме номер два, по улице Екатерининской… восемь тысяч рублей… И подпись.
— Деникинками? — с трудно скрываемым пренебрежением спросил Андрей.
— Хочешь николаевскими?
— Когда-то это были настоящие деньги. Не чета нынешним. Какая власть, такие и деньги.
— Ты обнаглел, братец, — усмехнулся Фиолетов и придвинул Андрею тетрадь. — Грамотный? Вот здесь. На поля не вылезай. Деньги, между прочим, уже сами по себе власть. А отношении того, какая сейчас власть…
Фиолетов открыл ящик стола и достал небольшой железный сундучок. Отомкнув его крошечным ключиком, вынул стопку денежных ассигнаций. Ловко, словно играючи, поручик отсчитал нужное количество и протянул Андрею.
— Здесь ровно четыре тысячи. До свидания.
— Господин поручик, — растерянно проговорил Андрей, держа на ладонях широкие бумажные листы. — Так ведь в газетах…
— Власть такая, что может сделать с тобой, что захочет, И ты будешь молчать, как мышь. Иди!
Андрей неловко поклонился и вышел из кабинета.
Он миновал несколько дворов и вышел на центральную улицу. Здесь сел на скамейку и обессиленными вялыми пальцами с трудом достал из пачки папиросу. Закурил, и табак показался пресным. Он чувствовал невероятную усталость, раскалывалась от боли голова. В саду бил фонтан, там слышалась музыка военного оркестра и смех. Проносились рысаки, и, вытянув, деревянные руки с вожжами, лихачи покрикивали на прохожих. Истошно вопили мальчишки, размахивая пачками газет:
— …Полный развал красного фронта!
— …Главнокомандующий принимает военный парад!
— …Праздничный бал в дворянском собрании!
Кафе «Фалькони» уже выставило свои столики на тротуар, засветив на каждом по керосиновой лампе под зеленым абажуром, хотя было еще светло.
Андрей медленно курил, стряхивая пепел между колен. Слева от него сидел пропахший потом фельдфебель с пышными усами. Он беспокойно оглядывался, видно пришел на свидание по амурным делам. Слева тяжело шевелилась на скамье полная женщина с летним зонтиком, густо напудренная и в шляпе с пером. Проходящие мужчины посматривали в ее сторону. По аллее сквера то и дело пробегали нарядно одетые дети, погоняя палочками деревянные обручи.
Андрей курил и снова видел дощатую вышку, грязный асфальт двора гостиницы «Палас» и тело с размозженной головой… Что не предусмотрели? Ведь все задуманное получилось. Он связан с контрразведкой. Знает убийцу Лещинского… Ему верят. Иначе бы поручик не ограбил на четыре тысячи. Смертельно хочется спать… Не уберегли того парня… Увидеть бы сейчас Наташу. Хоть краем глаза… Он всегда вызывал ее из дома тихим посвистыванием, и через несколько минут она выбегала из подъезда, на ходу надевая шляпку… Как мало он ее знает! Познакомились случайно. Ее отец очень не любил Андрея. Желчный старик с бородкой и лысиной, окруженной курчавыми седыми волосами, совершенно беспомощный и потому подозрительный. Он оберегал дочь от жизни со старческим фанатизмом. Был счастлив, когда она сутками сидела в квартире. Но она убегала, и они часто встречались. Она — посетительница курсов стенографисток и он — скромный служащий какого-то весьма неответственного советского учреждения…
Андрей пошел среди праздничной толпы, сквозь стекла витрин заглядывая в переполненные рестораны, обходя фланирующих молодых офицериков и не отвечая на оклики проституток.
Глава 6
Он пришел в подвал злой и усталый до изнеможения. Людмила накрыла на стол — нарезала крупными ломтями черный хлеб, поставила миску вареной картошки и перед каждым положила по деревянной ложке.
Все ели молча, изредка посматривая друг на друга. Джентльмен хмуро сопел, сдерживая раздражение. Неудачник, задумавшись, перестал жевать, уставился неподвижными глазами на огонь керосиновой лампы.
Первым не выдержал Андрей. Он швырнул на стол ложку И ударил кулаком так, что подпрыгнули миски:
— Это же черт знает что! — с ненавистью сказал он. — Сявки нищие! Козлы вонючие! Какой день сидят за бабиной юбкой!!
— Ты лучше скажи, где был! — вскочил Джентльмен на ноги. — Где тебя носит нечистая?
— Вот именно! — подхватил Неудачник. — Что за дела у тебя?! Отколоться хочешь, сволочь?!
— Ты мне за сволочь ответишь! — рванулся к нему Андрей. — Чего окрысились?! От безделья беситесь?!
— А ты вот это видел? — вкрадчивым тоном вдруг проговорил Джентльмен и подошел к окну. Он осторожно отодвинул штору и пальцем поманил к себе Андрея.
В подворотне одного из домов маячила темная фигура.
— Второй час здесь бродит, — зловещим шепотом сказал Неудачник. — Сюда стучался. Комнату вроде как бы ищет… Чей хвост, не твой ли, Блондин?
«Конечно, мой, — подумал Андрей, стараясь из узкого окошка подвала разглядеть человека. Был тот среднего роста, узкоплеч, одет в длинное пальто. — Фиолетов проверяет. Значит полностью не верит. Но ничего. Это даже к лучшему: убедится, что мы „честные“ жулики…»
— Совсем сдурели, — спокойно сказал Андрей. — Кто мы для них? Вот дураки… Сейчас на каждом углу по тихарю. Ловят совработников. На центральной площади виселицу видели? На двенадцать человек… Будут они, что ли, специально охранять Карташевича? Чего боитесь?! Воры называется! Сявки уличные! Верное дело! Золото! Камешки! Золото вернее всяких денег! Возьмем Карташевича, а потом гуляй до скончания века!
— Подождем, — Джентльмен опускается на скамью и тянется за ложкой.
— Чего ждать?! — не унимается Андрей.
— Может, завтра, — бормочет Неудачник и не смотрит в глаза.
— Боитесь, да?! Суки трусливые… Все уже сделано! Сегодня лучшая ночь — по воскресеньям у него гости… Будет спать, как убитый…
— Да вы ешьте, — говорит Людмила и выходит из комнаты.
— Сегодня и пойдем, — вдруг шепчет Джентльмен. — В три часа, годится! При ней молчи!
— В три, так в три! — громко, чтобы и за стеной было слышно, с радостью подхватывает Андрей и пододвигает к себе миску, с довольным видом разминает картошку. — Вот это разговор… Это я понимаю!
Людмила вошла, неся котелок горячего узвара. Поставила на стол, отмахнувшись от пара.
— Все ссоритесь… Какой день кричите и все без толку. Вам бы слушать и делать, что Блондин говорит, а вы словно малые дети. Все бы шепотом да тишком.
Воры растерянно переглянулись.
— И чего ты, Людмила, снова в монастырь не хочешь? — бормочет Неудачник, прожевывая хлеб. — Харчи казенные, крыша дармовая. И греха меньше.
— Ты мои грехи не считай, — сердито бросает Людмила. — Утопнешь.
— Да неужели много? — удивляется Неудачник.
— Много ума — много греха, — усмехается Людмила. — А что с дурака возьмешь?
Джентльмен насмешливо вскидывает брови:
— Грешный честен, грешный плут — в мире все грехом живут!
— Есть кому грешить, было бы кому миловать, — сухо отвечает женщина. — Живой не без места, мертвый не без могилы.
— Ты извини, — миролюбиво говорит Неудачник. — Извини, Людмила, радость наша… Может, я что-то не так сказал. Хорошо ты нас нахарчевала… И за что мы так тебе понравились? И еда, и ночевка…
— Молчал бы ты лучше, — холодно отрезает женщина и с невозмутимым, спокойным лицом начинает убирать со стола.
Неудачник откидывается на спинку стула, сытно рыгает и с наслаждением закуривает папироску.
— Трудно тебе без мужика, — ласково мурлычет он. — Баба ты справная… Выходи за меня, а?
Людмила вдруг опускается на стол, скрещивает на груди руки и тихо спрашивает, — на губах ее тонкая ядовитая улыбка, а глаза потемнели до черноты:
— А любить меня будешь?
— Да что мы, не люди? — хохочет Неудачник.
— То-то же, — презрительно кривится Людмила. — Людей много, да человека нет… На что вы годны? Барахло вонючее…
Она поднимается и, гордо выпрямившись, уходит на кухню, оставив за столом красного от гнева Неудачника.
— У-у, сука поповская, — шипит он.
— Расскажет Забулдыге, — спокойно произносит Джентльмен.
— А что я сделал? Что? — испуганно кричит Неудачник. — Пошутить нельзя?
— Кончай базар, — сердится Андрей. — Пошли… Еще раз все проверим…
Они выходят на улицу и молча шагают в тени деревьев. Джентльмен косо смотрит по сторонам, в его голосе кипит ярость.
— Эта зараза все прислушивается… Все вынюхивает. Конечно, Забулдыга за нами следит. На готовенькое хочет попасть.
— Его, наверно, и в городе нет, — равнодушным тоне произносит Андрей.
— Тут он! — с силой обрывает Джентльмен. — Никто и никогда не знает, где он находится… Сволочь такая… Чужими руками угли загребает.
— Чего вы боитесь? — пожимает плечами Андрей.
— Увидел бы ты его, — растерянно вздыхает Неудачник. — У него, может, вся полиция подкуплена…
— А при чем здесь монастырь? — поворачивается к нему Андрей.
— Он Людку из монастыря выкрал, — Джентльмен брезгливо и зло сплевывает. — Любовь… У него баб в каждом квартале по штуке. Они ради этого кобеля на каторгу пойдут.
— Вот как? — задумчиво говорит Андрей.
Воры садятся на скамейку, а Андрей входит в полутемный магазинчик Карташевича. В комнате пусто. За стеклом, низкой витрины поблескивают какие-то дешевые украшения, перстеньки, бусы. Они разбросаны на черном бархате, словно созвездия.
— Что вам угодно? — бесшумно появляется из двери хозяин — низенький лысый человек с густым, ласкающим ба сом, который исходит откуда-то прямо из чрева, затянутого суконной жилеткой. — Так поздно? Я уже закрыл.
— Интересуемся обручальным кольцом. — солидно говорит Андрей, стараясь повнимательней рассмотреть тонкие решетки на окне, дубовый шкаф в углу и дощатые ставни, прислоненные к стене. На ночь ювелир закрывает магазин изнутри. Дверь за его спиной ведет на второй этаж — там гостиная и спальня. Карташевич живет один, со старухой-домработницей.
— Весьма сожалею, — разводит руками ювелир и многозначительно улыбается. — Золотых нет… С золотом, понимаете… Я с удовольствием сам его купил бы у вас… Такое время…
— Ну что ж, — разочарованно произносит Андрей. — Серебро меня не устраивает… До свиданья, — он коротко кланяется и выходит из магазинчика, чувствуя спиной подозрительный взгляд ювелира.
«Надо было бы купить серебряное, — приходит запоздалая мысль. — Он мог нас заметить раньше… Когда мы следили снаружи… Решетку перепилим… Стекло следует выдавить с помощью теста… Ставня деревянная…»
— Что ты будешь делать, — вдруг спрашивает Джентльмен, — когда ювелира накроем?
— Я? — не задумывается Андрей. — Уеду в Москву… Ну вас к черту с этим вшивым городом.
— Тут тоже жить можно, — как бы рассуждая вслух, произносит Джентльмен. Лицо у него жесткое, нос обострен. — Документы надо купить… И живи в свое удовольствие. Люди гребут деньгу, и волос на голове не падает. А тут под петлей ходишь. Проклятая житуха!
— Ишь какой! — удивленно хихикает Неудачник. — Ты еще купцом сделайся. А мы с Блондином до тебя в хату залезем!
— Поймаю — горло порву, — говорит Джентльмен.
— А мы с Забулдыгой! — не унимается Неудачник.
— Хоть с самим Деникиным, — огрызается Джентльмен. — Стану в дверях с топором…
— Мы тоже не с голыми руками, — угрожающе говорит Неудачник.
— Ша! — обрывает их Андрей. — .Грызетесь, как собаки.
— Да все он! Все он! — жалобно кричит Неудачник. — У-у, рвань тюремная!
— Цыц! — гаркает Джентльмен и наотмашь шлепает того ладонью по загривку. Неудачник спотыкается, испуганно бледнеет.
— Что ты? Что ты? — шепчет он, стараясь поймать руку разъяренного Джентльмена. — Мы ж товарищи… Я ж шучу…
— Шутил волк с жеребцом да зубы в горсти унес, — рявкает Джентльмен и, не выдержав его сумасшедшего взгляда, Неудачник отстает на несколько шагов.
«Недаром их Забулдыга опасается, — думает Андрей. — Всего ожидать можно. Пора разделываться… Воровская мелочь. Трусливые, злые шакалы. С ними крупной игры не получится. Одна надежда на сегодняшнюю ночь. Может быть, уже завтра объявится убийца фотографа… Странно, зачем ему потребовался альбом? Если забрал случайно, то мог давно подбросить деникинцам. Однако альбом до сих пор у него. Почему? Понять трудно…»
Перед входом в подвал Андрей оглянулся и сердито посмотрел на Джентльмена:
— Ну, где же тот тихарь, которого я за собой привел? Подурели совсем.
Тот промолчал, но, остановившись, долго вглядывался в темнеющую подворотню.
Людмила разделась и, тихо пройдя сквозь желтый свет керосиновой лампы в белом балахоне ночной рубашки, легла на свою не по-монашески пышную кровать. Воры остались сидеть у стола, равнодушно перебрасываясь картами. За окном уже было совсем темно. Тикали ходики, спокойно отсчитывая время, оставшееся до трех часов ночи.
Неудачник прислушался и осторожно прошептал:
— Спит…
— Мы сюда больше не придем, — хмуро сказал Джентльмен. — Прямо оттуда и на Петровскую… Я там комнатушку нашел. Никто не узнает.
— Посмотрим, — неопределенно пробормотал Андрей, тасуя захватанную пальцами колоду.
— Смотреть буду я, — угрожающе проговорил Джентльмен.
— Почему? — спокойно спросил Андрей.
— Пока я здесь главный.
— Разве ты предложил дело?
— Начхал я на это, — усмехнулся Джентльмен. — Без нас ты ни хрена не стоишь. Получишь в зубы свою долю и мотай к себе в белопрестольную.
— Черт с вами, — согласился Андрей.
Странный мир окружал его теперь. Он неискренен, лжив и весь словно соткан из притворства, лицемерия и подлости. Подспудные силы — корысть и зависть — вращают его, Aндрея, в замкнутой сфере всеобщего отчуждения. Люди едят, разговаривают, смеются, но за каждым из них стоит обнаженное и злое, как волчий оскал, порочное чувство. И жить среди них невыносимо тяжело, точно все время не хватает воз духа.
— Сколько времени? — вдруг сонным голосом спросила из своего угла Людмила.
— Чего ты не спишь? — сердито буркнул Джентльмен.
— А ты?
— Я, — растерялся Джентльмен. — Мы в карты играем… Спи…
Женщина слезла с кровати и, подойдя к столу, взяла керосиновую лампу, подняла ее над головой и шагнула к стенке. Желтый свет качнулся, поплыл по вышитым салфеткам и фотографиям в узорчатых рамках, пока бледным кругом не озарил зеленые ходики с чугунными гирями в виде сосновых шишек.
— Господи… Царица небесная, — громко зевнула Людмила и поставила лампу на место. Она присела к столу, зябко повела плечами.
— Совесть у тебя есть? — нахмурился Неудачник. — Голая баба… В одной сорочке… Тьфу!
— Не помрешь, — оборвала Людмила и, не вставая, потянулась к тумбочке за гребешком. Стала расчесывать жидкие космы, насмешливо поглядывая на воров, переставших играть.
— Чего тебе не лежится? — с беспокойством сказал Джентльмен.
Она не ответила, только тихонько засмеялась ртом, полным железных шпилек.
— Дьявол с ней, — нахмурился Джентльмен. — Давай карту, Блондин…
Вдруг дверь без стука распахнулась, и в подвал, пригнувшись, вошел громадный мужчина в черном пиджаке.
— Мир дому сему, — прогудел он и выпрямился, головой чуть не доставая до потолка.
— Ты?! — растерянно пробормотал вскочивший из-за стола Джентльмен. — Забулдыга!!
— Я, господа, я! — вошедший явно любовался смятением воров. Он стоял, широко расставив ноги, заложив руки в карманы и насмешливо ухмыляясь. На плохо выбритом одутловатом лице его темнела щетина, кудрявые волосы с проседью падали на крутой лоб.
— Что ж не приглашаете гостя? — пробасил он весело.
— Ванечка! — женщина метнулась к нему, припала головой к его груди, счастливо засмеялась и бросилась к столу. Пододвинула стул, обмахнула сидение краем рубашки.
Забулдыга опустился у стола, положил на него тяжелые руки с наманикюренными желтыми ногтями, похожими на роговые панцири крошечных черепашек.
— Ну, здравствуйте, босяки, — пророкотал он, оглядывая всех по очереди. Взгляд его пытливо остановился на Андрее. В выпуклых светлых глазах мелькнул интерес.
— Так это ты новенький… Блондин, значит? Будем знакомы… Что ж вы играть перестали? Сдавай карту. Джентльмен. До утра еще далеко.
Все молчали. Джентльмен не притронулся к колоде. Андрей, отклонив голову в тень, внимательно присматривался к Забулдыге. Его приход был неожидан и мог помешать задуманному. Но он здесь, и это самое главное.
— Значит, ребятишки, — сказал Забулдыга, — решили ювелира потрясти? Стоящее дело. Ты предложил? — в упор спросил он Андрея.
— Я, — сознался тот.
— Хорошо придумал, — одобрил Забулдыга. — Да и то — второй раз… По знакомым следам…
Джентльмен бросил на Людмилу гневный взгляд. Она откровенно засмеялась, презрительно дернув щекой.
— У, стерва, — только и проговорил он.
— Ты мою старушку не ругай, — Забулдыга широким жестом запустил пятерню в ее волосы и ласково потеребил, раскачивая голову от плеча к плечу. Женщина по-щенячьи зажмурила глаза, на ее лице появилось выражение блаженства и отрешенности.
— Что же ты раньше нас не искал? — холодно спросил Джентльмен.
— Проверочка, — прищурился Забулдыга. — Да и новенького надо было прощупать.
— Ну и как? — сухо проговорил Андрей.
— Годишься, — ободряюще сказал Забулдыга. — Дело знаешь. Московский шик. Сразу ювелира. — Он повернулся к съежившемуся Неудачнику. — И ты золотишка захотел?
— А шо? Я ничего, — прошептал тот, облизывая пересохшие губы.
Джентльмен медленно прикрутил фитиль коптящей лампы, с трудом сдерживая злость, проговорил:
— Значит, с нами пойдешь сегодня? На готовенькое?
— Нет, — Забулдыга перестал улыбаться, бросил карту из середины колоды на стол, потом взял ее в руки. — Туз пики… — твердо, не повышая голоса, сказал: — Это ваше дело мы потихоньку похороним с божьей помощью. Никуда вы не пойдете, господа.
— Кто как решит, — небрежно ответил Джентльмен. — А нам пора собираться.
— Пока еще в городе мое слово — закон, — с легкой угрозой произнес Забулдыга и пошлепал себя колодой по ладони. — Или не так?
— Нам гроши нужны, — внутренне кипя, тихо проговорил Джентльмен. — Сидим без документов, без денег… Чего ты лезешь в наши дела?
— Будет у вас все, — небрежно сказал Забулдыга. — Только слушаться меня надо.
— А если не будем? — вызывающе спросил Андрей.
— Ты молодой, — улыбнулся Забулдыга, — и новенький. Ты не понимаешь. Я ведь могу все, что захочу. Убить. Покалечить. Наградить по-рыцарски… Или полиции заложить.
— Господи! — вздохнул вдруг Неудачник. — Воровать уже не дают. Матерь божья!
Забулдыга откинулся на спинку стула и двумя пальцами, за цепочку вытащил из кармана жилетки золотую луковицу часов. Он нажал на головку, и в подвале раздался мелодичный бой колокольчиков, вызванивающих первые такты царского гимна.
Увидев вытянувшиеся лица воров, Забулдыга щелкнул крышкой, которая пружинисто отскочила, и показал эмалевый циферблат с разными стрелками.
— Именные, — небрежно сообщил Забулдыга, — очень солидного человека. Бьюсь об заклад, подобных в городе не сыщешь.
— Вот это вещь, — с восхищением качнул головой Андрей. — Таких и в белокаменной не найти. Позволь?
Он покрутил в руках часы, смерил их тяжесть, покачав на ладони, и на оборотной стороне крышки увидел выгравированную надпись: г-ну ЛЕЩИНСКОМУ М. С.
Забулдыга отнял часы, поднес их к уху и, с наслаждением прикрыв глаза, включил музыку боя.
— Вы мне нужны, господа воры, — сказал он почти весело, — для другого дела. Более важного. Я обеспечу вам приличную жизнь. Нужен ты! — Забулдыга ткнул пальцем в сторону Андрея и, подумав, показал на Джентльмена. — И ты!
— А я? — жалобно спросил Неудачник.
— А ты не нужен! — отрезал Забулдыга. Он поднялся из-за стола и привлек к себе женщину. Похлопал ее по спине, ласково прижал, продолжая пристально смотреть на воров.
— Все понятно? Завтра жду вас к себе. В пять часов дня. Там объясню.
— Куда приходить-то? — угрюмо пробормотал Джентльмен.
— Жду на Чебоксарской. Дом восемь. Со двора. Постучите три раза в чердачную дверь. И о разговоре никому ни слова, Желаю спокойной ночи. Проводи меня, старушка.
Они вышли, и женщина долго не возвращалась. Воры не смотрели друг на друга. Молча сидели у стола, слушали, как стучали неторопливые ходики. От света лампы лица у всех были малярийно-желтые, с чахоточными впадинами темных глазниц.
— Что ему от нас надо? — первым спросил Андрей.
— Черт его знает, — устало ответил Джентльмен. — Задумал какое-то дело… У него всегда так… По-человечески никогда не скажет.
— А меня, гад, отстранил! — с ненавистью проговорил Неудачник. — Я ему не подхожу… Яка цаца! Бандюга уголовная!
— Цыц! — не выдержав, гаркнул Джентльмен и грохнул кулаком по столу. Лицо его налилось кровью, стало неузнаваемым, злым и яростным. — Ты на кого так говоришь, собака?!
— Давайте спать, — хмуро сказал Андрей и, на ходу стаскивая через голову рубашку, пошел в угол, к брошенному на пол матрацу.
В это время в комнате бесшумно появилась Людмила. Она кивнула головой Андрею:
— Иди, он тебя зовет. Проводи его.
Андрей, ни слова не говоря, взял пиджак и шагнул к двери.
Забулдыга ожидал его в подворотне.
— Ну вот и хорошо, — удовлетворенно сказал он. — Я задержу ненадолго.
Они вышли из ворот и зашагали по темной стороне улицы, держась ближе к стенам домов.
— Идиотская жизнь. Травят, как волков. Поневоле с благодарностью вспомнишь царя-батюшку. Я полиции на каждый престольный праздник пенсион составлял. Одна торговля ворованым барахлом чего стоила? Коммерция первого пошиба! Как-то вы там сейчас в белоглавой?
— Плохо, — ответил Андрей. — На каждом углу приказы в аршин: «За разбой — расстрел, за бандитизм — смертная казнь, грабеж — карается лишением жизни…»
— Эти тоже хороши, — Забулдыга ткнул рукой куда-то в темноту. — Эти все виселицей стращают. А Москва… Господи, лучшие мои годы. В Бутырке сидел?
— Приходилось, — Андрей прислушался, ему показалось, кто-то за ними идет, ступая очень осторожно, словно прячась.
— Был и я, — продолжал Забулдыга. — Сидел в камере, в которой царские сатрапы держали Емельяна Ивановича.
— Кто таков?
— Емельян Иванович Пугачев. Говорят, сиживал там же и нынешний председатель чрезвычайки. Это ж надо только подумать, как можно было ему голову свернуть!
Забулдыга остановился прикуривая, и Андрей услыхал, как замерли те далекие шаги идущего за ними человека.
— Поговорим откровенно, — продолжал Забулдыга, — но учти, если хоть кому слово одно — вколочу живого в гроб. Лизать сапоги будешь — не пощажу.
— Могила, — поклялся Андрей.
— Я следил за одним… Знал, что деньжата у него есть. — Забулдыга начал неохотно, часто замолкая. — Все как-то было не с руки… А тут красные стали драпать. Неразбериха… Поутру ломиком дверь взломал на черной лестнице… Прошел в комнату… Ну, в общем, как говорится, незваный гость хуже татарина… Тот, хозяин, спал. Он и не пикнул. Да, зачем я тебе все это рассказываю? Грошей-то у него почти и не было. Взял я железную шкатулку. Перед ним стояла на столе… Нда-а. Дома вскрыл, а там… — Забулдыга даже головой покачал.
— Да не тяни, — заторопил его Андрей. — Что там?!
— Фотокарточки, — почти шепотом проговорил Забулдыга. — Понимаешь? Целый альбом. С адресами снимки-то… И все это коммунисты да важные люди советской власти.
— Господи, — пробормотал Андрей, не в силах унять волнение. — Да выбрось ты их на помойку, ради бога. Утопи в речке. Ты знаешь, что с тобой сделают? И красные, и белые. Ты для них самый ненавистный дьявол. Жилы из тела вытянут.
— Не стращай, — с насмешкой перебил Забулдыга. — Объявления читал? За каждый адрес по восьми тысяч. А тут еще и снимки. Штук триста. Понимаешь? Это же тебе — два миллиона четыреста рублей!
— Как же ты ими торговать будешь? — спросил Андрей. Он чувствовал на спине холод.
— Вот такие, как ты и Джентльмен, помогут. Парни вы хваткие. Будете моими торговыми агентами, — Забулдыга говорил теперь быстро, жарким шепотом, все у него, кажется, было давно продумано. — Какое предприятие! Золотое дно… Без риска и ответственности. Все по закону. Целая фирма! Вы держите связь с деникинцами. Я поставляю нужный материал. Барыши на три части. По восемьсот тысяч на рыло! И мотаем отсюда! Скупаем золотишко, драгоценности и айда! В Сибирь! В Париж и Лондон! За такие снимки можно просить натурой — хром, мануфактура. На базухе реализуем на золото…
— Схватят и на кол посадят, — оборвал его Андрей, пораженный планом Забулдыги. Ему даже пришла в голову мысль: а не броситься ли сейчас на него и задушить… Но альбом? Где он его хранит? И не тот человек Забулдыга, чтобы с ним можно было справиться голыми руками… А вдруг он сумасшедший? Нормальный такое не придумает… — Схватят! — с ненавистью сказал Андрей. — Запытают до смерти. Ты ихнего человека убил. Не пощадят. Одумайся, Забулдыга! Ты понимаешь, на что идешь?!
— А вы не будьте дураками! — психанул Забулдыга. — Чтобы торговать человеческими головами, надо самому ее иметь Найдем нужного человека в контрразведке… Или через почту. Фото по почте, а деньги в условленном тайнике. Две тысячи способов! Завтра обмозгуем все по порядку. А сейчас иди спать. И, как договорились, молчок. Глаза пальцами вырву. Будь здоров, Блондин!
Не протягивая руки, Забулдыга повернулся и зашагал вдоль улицы, прячась в тени деревьев.
Андрей еще шел какое-то время за ним, прислушиваясь к ночной тишине. Где-то журчала вода из плохо закрытой колонки, грызлись у мусорных ям невидимые кошки. Шаги неизвестного больше не доносились.
«За кем он, следящий, пойдет? Это, конечно, тот, от Фиолетова. Узнал ли он Забулдыгу, ведь у каждого филера, есть фотография? Если нет, то он снова пойдет за мной. А если Забулдыгу опознали? Филер бросит Андрея. Для него нет ничего важнее Забулдыги. Неужели я сам навел на его след? Сегодня же Забулдыгу возьмет контрразведка. А я, который с ним встречался, и не донес? Это всему конец. Так за кем пойдет филер? До сих пор он следил за мной…»
Андрей, не прячась, вышел на середину улицы, нашел на углу одного из домов колонку и, нагнувшись, напился из пригоршни воды. Затем круто свернул в сторону, противоположную той, в которую пошел Забулдыга. Встал за раскрытой дверью парадного входа. Скоро он снова услышал осторожные шаги. Чуть выглянув, Андрей увидел в просвете улицы знакомую узкоплечую фигуру в длиннополом пальто. Она скользила от дерева к дереву, направляясь по следам Забулдыги.
«Значит, узнал, — подумал Андрей. — Сейчас он только выслеживает. Арестовать Забулдыгу побоится… Если, конечно, не встретит патруль… Предупредить Забулдыгу? Что это даст? Он скроется и от меня. И кто запретит ему выполнить одному задуманное… Если сбить филера со следа, отвлечь на себя? Не поможет…»
Андрей завернул за угол и торопливо побежал назад, по параллельной улице. В конце квартала он свернул и оказался на тротуаре, по которому должен был идти Забулдыга. Андрей нашел темную подворотню со входом, заросшим плетями дикого винограда. Задыхаясь от волнения, весь потный от бега, он встал среди зеленых листьев, слившись со стеной. Не горело ни одно окно. Не светились фонари. Улица лежала пустынная, чуть озаренная луной. Андрей услышал шаги, то приближался Забулдыга. Он миновал подворотню, решительно наклонив голову и ссутулив плечи. Через несколько минут послышались шаги другие — легкие, чуть касающиеся земли. Их трудно было отличить от шороха листвы на деревьях.
Осторожно раздвинув виноградные плети, Андрей увидел, как быстро к нему приближается нескладная фигура с руками, засунутыми, в карманы. Весь собравшись, Андрей ожидал последние секунды. Вот человек поравнялся с ним, и тогда Андрей, сделав шаг, наотмашь, ногой, ударил под колени. И сразу же прыгнул на падающее тело, всей своей тяжестью увлекая его к земле. В падении филер успел выхватить из кармана револьвер и нажать спусковой крючок. Выстрел бухнул перед глазами Андрея, ослепив его. Но в то же мгновение шпик глухо ударился затылком о булыжник, наган вывалился из его рук.
Андрей встал, подобрал револьвер, прислушался. Было тихо, не скрипнула ни одна ставня, нигде не зажегся свет. Где-то далеко, на улице заверещал полицейский свисток, ему ответил второй, и снова все замерло. Возможно, выстрел разбудил кое-кого, но такое уж время, люди боятся ночной стрельбы… И никто носа не высунул.
В темноте он нашел канализационный люк. Дулом нагана поддел тяжелую чугунную крышку и сдвинул ее в сторону. Ухватившись за воротник пальто мертвого филера, Андрей подтащил тело к отверстию и опустил его в гулкий колодец. Раздался громкий всплеск.
Андрей вошел в комнату и стал молча раздеваться. Свет был погашен. Швыряя в темноте одежду, Андрей видел в углу большое белое пятно — то в одном белье сидел у стены Джентльмен. Он заворочался, наконец, закурил папиросу и спросил:
— Ну как? Стоящее дело?
— Золотое дело, — буркнул Андрей.
— Ишь ты, — с завистью пробормотал Джентльмен, — всегда он такое находит. И по много на каждого перепадет?
— Тысяч восемьсот.
— Да иди ты! — ахнул Джентльмен. — Это нам? А сколько же он сам нацапает? Мильон?! Два?! Господи, деньги какие… И обдурит Забулдыга, обдурит нас всех!! Ах ты ж, мать моя родная…
Андрей засыпал, а в углу все еще ворочалось белое пятно и от стены шел невнятный шепот пересохших горячих губ:
— … А потом еще нас и в тюрягу засадит. Ему что это стоит? Не впервой… На такие деньги жить можно красиво… Да по сегодняшнему времени… Кому как везет. У него, небось, и денег прорва и камушки есть…
Джентльмен что-то буркнул и ушел с самого утра. Неудачник тоскливо маячил у окна, с жадностью рассматривая жизнь улицы. Людмила, сидя у стола, вышивала гладью дорожку из сурового полотна, настораживаясь, когда на лестнице раздавались шаги.
Андрей не выдержал и вышел из подвала раньше назначенного срока. Оружия не взял, оно мало чем могло там помочь. Пряча револьвер под матрац, он с удовольствием ощутил холодную тяжесть вороненой стали.
На соседней улице в соборе шло богослужение. Оттуда доносилось разноголосое пение и трезвон колоколов. По переулку втягивались на площадь казаки. Синие, с красными околышками фуражки их колыхались на фоне домов, в подъездах которых стояли жители. Вычищенные крупы лошадей лоснились, как голенища. Блестела на солнце красная медь ножен, серебро уздечек и стремян. За домами погромыхивал военный оркестр.
Трубы заводов не дымили — второй день бастовали рабочие. С ведрами и кувшинами тянулись к колодцам интеллигентного вида люди в форменных сюртуках, служанки, гимназисты. Водопровод не работал — авария на насосной станции. Поговаривали, что тайные большевики сожгли моторы. Вот уже неделю, как город жил одной железнодорожной электростанцией, — ток подавали только в центр, освещая лишь главную улицу и несколько особняков.
Обложенный кольцом хмурых окраин, лишенный света и воды центр города устраивал богослужения, сгоняя людей на публичные казни, и встречал хлебом-солью делегации иностранных офицеров, приезжавших в роскошных спальных вагонах. В здании Думы, при свечах, гастролировали труппы Петроградского императорского театра. Всю ночь, до утра, открыто было варьете на Николаевской площади. Цыгане пели почти в каждом ресторане. Под их жалобные тоскующие голоса плакали упившиеся шампанским боевые офицеры и, озверев, рубили клинками веера искусственных пальм. Еврейские погромы проходили стороной, минуя богатые улицы. На базаре лабазники ловили воров и устраивали самосуды — затаптывали сапогами насмерть или отсекали руки на колоде в мясном ряду. Газеты печатали стихи начинающих поэтов:
…Благоденствуй, Россия!
Тыща лет впереди…
День тянулся медленно, и не было покоя Андрею. Он забрел в «Иллюзион» и в крохотном зале смотрел, как дергаются на экране человечки, куда-то бегут, словно рыбы, беззвучно открывают рты. Барабанил по клавишам пианино тапер. Плоская выцветшая жизнь с выдуманными страстями Стремительно неслась к развязке под тарахтенье старенького движка.
— Скажите, пожалуйста, — наклоняется Андрей к соседу, — который час?
— Не мешайте, — бросает тот. Он слеп и глух и весь там, среди призрачных видений экрана.
«Двенадцать человек повесили в центре цивилизованного города… Первобытным способом — за шею, с помощью веревки, на сколоченной из оструганных бревен виселице… Там, где раньше для ресторана хранили мясо животных, в каменных мешках с ржавыми крючьями, стерегут людей… Чтобы повесить их завтра…»
На экране счастливый конец надвигался как неизбежность. Тапер нажимал на педали, выколачивая из пианино ликующие звуки. Движок астматически задыхался, брызгал отражением целлулоида на белую простыню.
Наступая в темноте на ноги, Андрей пошел из зала. В конце его, прочесноченные, в потных рубашках, два волшебника яростно вращали ручку мотора, давая силу и свет летучему чуду дрожащих картинок.
Еще не было пяти часов, когда Андрей уже стоял на Чебоксарской. Издали он увидел большую толпу, повозки пожарных, водяные помпы и клубы дыма, вырывавшиеся из чердачных окон пятиэтажного кирпичного здания.
Расталкивая людей, Андрей стал пробираться к тротуару. Взявшись за руки, солдаты сдерживали напор шумной толпы.
— Что случилось? — бросил Андрей, пытаясь взглянуть поверх голов.
— Пожар. Не видишь? — ответили ему.
— Пропустите! Пропустите! — Андрей с силой пробился между людьми. Его морозило от волнения. Солдат отталкивает его в сторону.
— Куда прешь?! Осади-и!
— Я из полиции, — говорит Андрей. — Пропустите немедленно! Живо!
Солдат поднимает руку, и Андрей ныряет под его локтем. Он видит распахнутые двери подъезда, лужи воды и цементный пол, заляпанный следами ног. Не раздумывая, бросается туда, бежит вверх, прыгая через несколько ступенек. Сердце, кажется, где-то возле горла… Один марш, второй… Четвертый этаж… На лестничной площадке стоят пожарники. Лица их в копоти, куртки топорщатся из-под ремней:
— Куда?! — кричит один. — Нельзя-я!
— Полиция! — отвечает Андрей и бежит еще выше. Вот и пятый этаж. Дощатая дверь взломана. Из нее курится дым и пахнет мокрой сажей. Пожарник ходит с ведром и заплескивает водой последние угли. В комнате валяются обгорелые тряпки. Черепичная крыша взломана, и отсвет белесого неба падает на покореженный топорами пол, черные стены, обуглившиеся ребра стропил.
Пожарник опускает ведро и вытирает с лица пот. Он смотрит на Андрея красными, как у кролика, выеденными дымом глазами.
— Вам чего, господин?
— Полиция, — выдыхает Андрей.
— Вон… Лежит, — кивает пожарник. — Обгорел весь… Андрей подходит к чему-то продолговатому, накрытому брезентом. Пожарник поднимает один конец, и Андрей видит синее, вздутое лицо Забулдыги. На шее туго стянута петля веревки.
— Не понимаю, — растерянно говорит Андрей. — Что случилось?
— Повесился он, — хмуро произносит пожарник. — Зажженную лампу оставил. Когда мы дверь взломали, он уже того… Не дышал. Огонь на крышу выбивался. Еще немного, и всему дому конец. Вовремя жильцы нас оповестили.
Андрей оглядывается. Вокруг вода, растоптанные комья сажи и головешки.
— Ничего тут не было?.. Вроде каких-нибудь документов? — спрашивает Андрей.
— Да что вы, господин, — пожарник носком сапога выворачивает скомканное железо из кучи пепла. — Кастрюля железная оплавилась. Тут такое пламя бушевало, не приведи господи.
— Когда же он повесился? — сквозь зубы шепчет Андрей.
— Это уж вам, полиции, лучше знать, — говорит пожарник.
— Не трогайте здесь ничего! — приказывает Андрей.
Он выходит из комнаты и спускается по лестнице. Глаза еще ест дым, в горле першит. Он умывается во дворе холодной водой из колонки, вытирает платком лицо и руки. Перед его взглядом стоят прогоревшие стены, жесткий мокрый
брезент и глаза Забулдыги с немым воплем ужаса в расширенных зрачках.
«Почему повесился? Потерял над собой контроль, и страх толкнул на смерть? Разве Забулдыга из людей трусливых? Нет, Не похоже. Совесть заела? Чепуха. Но он повесился! Где Забулдыга держал альбом? Сгорел он или лежит в тайном, никому не известном месте? А если об этом тайнике знает Людмила, кто-то другой? Контрразведка! Допустим, что вчера ночью был не один филер. Выследили Забулдыгу… Но он сам повесился, я видел тело собственными глазами!..»
Андрей медленно бредет по городу.
На площади лихой унтер муштрует колонну гимназистов — учит их штыковому бою. Прижав к боку длинную австрийскую винтовку, он с ходу вонзает в мешок с опилками плоский ножевой штык, вскидывает ее вверх, яростным движением выворачивая внутренности воображаемого врага. Барышни под полосатыми зонтиками стоят в отдалении, наблюдая за распаренными мальчишками в картузах с жестяными кокардами.
«Еще нет назначенных Забулдыгой пяти часов», — вдруг подумал Андрей и бросился по улице. Он свернул к проспекту, заспешил по тротуару, раздвигая руками толпящихся людей у входа в магазин, извиняясь перед женщинами, боясь услышать гулкие удары башенных часов на здании дворянского собрания.
— Извозчик! — закричал он, останавливая кабриолет. Вскочил на подножку и упал в мягкие кожаные подушки сидения. — Гостиница «Палас»! Быстрее!
Извозчик испуганно оглянулся и зачмокал губами, взмахнул вожжами, подгоняя лошадь.
У гостиницы Андрей, не рассчитавшись, бросился к парадному подъезду. Минуя неподвижного часового, он кинулся к столу дежурного офицера, заикаясь от волнения, стал что-то взахлеб говорить неразборчивое, суя тому под нос фотографию Забулдыги с тюремной печатью в углу.
— Срочно… Господина Фиолетова!.. По его поручению… Немедленно! Дело касается важного преступника… Срочно!
Дежурный офицер закричал стоящим у перил:
— Господин прапорщик? Отведите в кабинет Фиолетова.
Молоденький офицерик махнул рукой Андрею, с важным видом зашагал по мраморным ступеням, придерживая за ножны клинок.
Андрей, не ожидая, когда прапорщик постучит, распахнул дверь кабинета и, увидев удивленное лицо Фиолетова, остановился перед столом, задыхаясь от волнения.
— Господин Фиолетов, — почти прохрипел он, — объявился Забулдыга… В пять часов свидание… Он назначил… Не имел возможности сообщить раньше…
— Где?! — Фиолетов резко поднялся, загремев стулом.
— Чебоксарская улица, дом восемь, — Андрей тяжело дышал, рукавом пиджака смахивая со лба пот. — На чердаке, господин Фиолетов… Постучать три раза…
Фиолетов быстрым движением застегнул крючки ворота кителя, расправил под поясом складки и шагнул к дверям. Обернувшись, он властно проговорил:
— Господин прапорщик, прошу остаться в кабинете вместе с этим человеком!
— Господин Фиолетов! — спохватился Андрей. — Я же на извозчике! Ей-богу, еще не заплатил. Я быстро, моментом!
— Сидеть! — рявкнул поручик и хлопнул дверью.
Стоя у окна, Андрей увидел, как заметались солдаты по двору гостиницы, коноводы побежали к лошадям, из гаража выехала легковая машина. Караульные распахнули ворота, и кавалькада всадников вынеслась на мостовую улицы.
— Прошу, — холодно сказал прапорщик и указал кивком головы на стул. Сам сел на место Фиолетова, положил рядом фуражку и углубился в чтение лежащих на столе документов.
— Извозчик проклянет меня, — пробормотал Андрей. — Что мне — жалко полтинника? Да ни боже ж мой!
Офицерик не ответил, равнодушно застучал кончиками пальцев по столу.
Время тянулось медленно, в кабинете пахло свежей масляной краской, от этого запаха болела голова.
— Вы не чувствуете? — спросил прапорщик и притронулся к вискам. — Однако мне с вами сидеть недосуг… Почему поручик не возвращается?
Он заерзал на стуле, удобно расставив локти, подпирая голову руками. В коридоре звенели шпоры, хлопали двери.
Наконец послышались звуки мотора, машина въехала во двор и остановилась с выключенным двигателем. Прапорщик даже не повернулся, думая о чем-то своем. Прошло еще немало времени, и раздался дробный цокот копыт. Офицер поднялся и подошел к окну. За его спиной встал Андрей.
Они увидели, как в распахнутые ворота лошадь неспешно втащила телегу, в которой лежало что-то длинное, укрытое брезентом. Рядом ехали всадники. Среди них выделялся поручик, он возглавлял этот медленный кортеж.
— Кажется, кого-то убили, — проговорил прапорщик. — Не дай бог нашего…
— Не приведи бог, — эхом повторил Андрей за спиной офицера.
«Вот он, конец короля уголовного мира, — подумал Андрей. — Его последний путь известен… После осмотра труп бросят в яму на черном дворе гостиницы, и солдаты присыплют его слоем земли, сверху полив раствором карболки. Обезображенное смертью, обгорелое тело уносило с собой тайну пропавшего альбома, может быть, своей нелепой гибелью спасая сотни других жизней… Воры найдут нового главаря, поплачут и перестанут горевать торговки краденым, вспоминая потаенные встречи и хмельные ночи с холодным ножом под подушкой. На краях ямы вырастет чертополох. И от всего прожитого останется только номер регистрации трупа в архивах бывшей контрразведки…»
Фиолетов вошел сумрачный, с трудом сдерживая возбуждение. Кивком головы отослал прапорщика и тяжело опустился на стул. Он открыл ящик, достал оттуда пачку денег и протянул Андрею.
— Здесь четыре тысячи. Это остальные. Заслужил.
— Спасибо, — прошептал Андрей, взял деньги, спрятал их в карман.
— Повесился Забулдыга, — с каким-то недоумением проговорил Фиолетов. — Совесть не вынесла? Испугался? Чего? Ты почему не прибежал раньше?
— Никак не мог, — торопливо сказал Андрей. — Он ночью пришел. На какое-то дело хотел подбить… И назначил свидание на пять часов. А от воров разве оторвешься: куда? что?
— Теперь все равно, — вяло сказал Фиолетов. — Повесился… И все концы в воду. Не с кого и взять. Иди, Блондин, не до тебя сейчас.
Андрей с готовностью вскочил со стула:
— Когда появиться, господин поручик?
Фиолетов махнул рукой:
— Нужен будешь — найдем. Иди. Хотя стой! Придешь, как всегда, через три дня. Еще пригодишься.
Фиолетов равнодушно посмотрел вслед Блондину. Его уже не интересовал этот молодой уголовник с цепким и нахальным взглядом выпуклых глаз и манерами приказчика из мелочной лавки. Когда-нибудь он еще пригодится, но не сегодня. Забулдыга повесился. Альбом, возможно, сгорел. Полковник Пясецкий будет не в восторге, но дело придется закрыть. Пожалуй, для него, Фиолетова, это будет лучший выход, уж больно много людей и средств отвлекали поиски Забулдыги и альбома! Чем черт не шутит, может быть, нет мифического альбома! В конце концов, где уверенность в том, что Лещинский выполнил задание? Есть только его донесения, но все это лишь слова… Дело Забулдыги славы не принесло. Самые отвратительные задания полковник поручает мне. Терпеть меня не может. И я его тоже… Напьюсь сегодня. В долг. Как всегда, нет ни копейки. Дожить до тридцати трех лет, возраста Иисуса, заслужить золотые погоны освободителя святой Руси и… пить в долг? Это, по меньшей мере, несправедливо. Одни пьют, другие воруют, третьи умирают в окопах за великую и неделимую… А надо пить, воровать и жить, как это ни цинично, — жить, пить и, по возможности, воровать. Кругом пропивают тысячи, а хапают миллионы. У кого повернется язык сказать, что это тоже воровство? Дудки! Вор — вот тот уголовник Блондин, карманники, шныряющие по вокзалу… А разве министры или генералы воруют? Они занимаются коммерцией или приобретением… За это в тюрьмы не садят… Поэтому, если не хочешь попасть в тюрьму, воруй сразу на колоссальную цифру. Миллион! Два! Армия отступает. Продукты и водка становятся дороже, а жизнь человеческая дешевле. Как на осенней распродаже — за полцены благородные чувства, за копейки — святая любовь к отчизне, совсем не дорого — православная христианская вера, почти даром — родовые поместья, гербы, привилегии. Армия должна отступать организованно, сохраняя железную дисциплину, иначе гибель. Но машины будут поломаны, лошади не подкованы, сапоги в дырах. Свои же солдаты поставят к стенке. Надо медленно пятиться, огрызаясь, как псы, пока не уткнемся в море. Там иностранные пароходы. По пути к спасительному морю станут раздаваться выстрелы в спину — ловить и вешать. Вспыхнут очаги мятежей — сжигать села. Восстанут полки и дивизии — убивать каждого десятого, как делали это еще древние греки…
Все это обещает не порядок и спокойствие, а саботаж, диверсии, разложение армии, затаенную ненависть населения!..
Поручик подошел к окну. На сторожевых вышках скучали караульные. Солдаты в распоясанных гимнастерках прохаживали по двору лошадей. Несколько казаков вкапывали в землю столбы для коновязи. На большом, обитом жестью мусорном ящике прыгали воробьи. Солнце шло к закату. Остывая, оно казалось малиновым, под его неярким светом блестели золотые купола церквей, а город, плоский и длинный, выглядел серым и скучным.
«Занесло меня, — подумал с тоской Фиолетов. — Как буду возвращаться… И куда?..»
Сам он родился и вырос в Одессе, привык к шуму толпы на Ришельевской и вечному сверканию моря… Обнищавший дворянский род, но все-таки, благодаря протекции, после окончания офицерского училища попал в гвардию. Все это произошло за год до начала войны.
«На мне и род окончится, потому что я выродился, — Фиолетов медленным движением достал портсигар и выбрал папиросу. Возможно, я стану родоначальником племени без земли и фамилии… Я выродился как личность, как человек и дворянин и основать смогу лишь династию бесстыдных, озлобленных чужестранцев…»
Фиолетов оглядел свой кабинет, словно увидел его впервые. Аляповатая лепка потолка, люстра из стекла под хрусталь, большое венецианское окно с мелким, безвкусно сделанным металлическим переплетом и высокие стены, покрытые масляной краской. Зеленой, свежей масляной краской, от запаха которой у него на протяжении всего дня разламывается голова… Второразрядный купеческий номер фешенебельной гостиницы губернского города.
«…Как возвращаться… И куда?»
Фиолетов подошел к столу и поднял телефонную трубку.
— Мне, пожалуйста, прозектора Ширшова… Господин доктор? Доброго здоровья… Это поручик Фиолетов… Да, да… Прошу освидетельствовать привезенный труп… Страшно обгорел. Он повесился. Да, чистая формальность… Хорошо. Я закончу дела и буду у полковника. Туда и доложите. Благодарю вас.
Фиолетов докурил папиросу жадными затяжками, воткнул ее в пепельницу и, сев за стол, решительным жестом придвинул к себе одну из папок.
Глава 7
Река медленно текла в своих захламленных берегах. Солнце было почти на горизонте, на жарком полукруге чернели пики часовен и покатые крыши. Слабое течение вяло шевелило зеленые водоросли, сквозь воду просвечивали песчаные отмели. У бревенчатого моста бултыхались мальчишки и купал коней голый, в одних подштаниках казак. На голове у него была фуражка. Раскорячившись на спине лошади, белый, как сдоба, с черными от загара руками, шеей и лицом, он гонял животное по мелководью в тучах сверкающих брызг. Из-за перил моста, перегнувшись, на него смотрели остановившиеся прохожие…
«Судя по хмурому лицу Фиолетова, альбом они не нашли… Самоубийство Забулдыги все перепутало. Где же альбом? Сгорел? Спрятан? Кто еще знает о Забулдыге? Я, Джентльмен, Неудачник. Людмила… Из каждого можно хоть что-нибудь вытянуть. Все трое должны исчезнуть, вот лучший вариант. Как это сделать? Их не должно быть в городе. Если контрразведка возьмется за Людмилу… Она, конечно, знает немало…»
Андрей шел вдоль реки, ломая голову над мучившими его вопросами. За мостом он снял пиджак, постелил его на землю и лег. Мальчишки прыгали с перил, по-лягушачьи раскинув ноги. Там, где они скрывались под водой, вырастали бесшумные взрывы. Из-под лакированного козырька краснооколышной фуражки казака вился чуб. Конь копытами разбрасывал брызги. Черная лоснящаяся морда, сверкают сахарные зубы и мокрый, словно фаянс, блеск выпуклых глаз…
Потом стемнело, и берега обезлюдели. От баржи, на которой работал плавучий ресторан, долго доносилась цыганская музыка и пьяные голоса. Затем стихли и они. Теперь малейший звук далеко разносился по воде — где-то процокала подковами лошадь запоздалого извозчика, грохнул выстрел, пропел петух, и странно прозвучал его голос среди темных каменных домов города.
«Пора», — сам себе сказал Андрей и поднялся с земли. Он знал, что ему надо торопиться, но понимал — все должно произойти ночью.
В подъезде темно, хоть глаз выколи, и Андрей опускается в подвал, держась за стенку. Кажется, тут семь ступенек. Он стучит, и ему открывает дверь Джентльмен.
Андрей входит в комнату, говорит весело, щурясь на неяркий свет керосиновой лампы:
— Здорово, урки!
— Проходи, — недружелюбно отвечает Джентльмен. — Торчишь, как столб… Есть будешь?
Он ставит на стол миску с вареной картошкой в мундирах и початую бутылку водки.
— А вы уже причастились, — усмехается Андрей и быстро оглядывает комнату.
Неудачник сидит у стола, пьяненько ухмыляясь, подперев голову кулаком. Людмила большим, пышущим углями утюгом гладит белье, шумно брызгая на него водой из рта. Она даже не оборачивается на разговор.
— Устал чертовски, — бормочет Андрей и сонно потягивается. Он идет к своей постели, садится. — А чего же ты не был у Забулдыги?
— Я-то? — загадочно отвечает Джентльмен. — А ты?
— Как условились, — небрежно бросает из-за плеча Андрей. — В пять часов.
— А я не смог, — сокрушенно вздыхает Джентльмен. — Ну как там? Жив-здоров Забулдыга?
— Забулдыга? — тянет Андрей. — А он того… Повесился!
— Что-о?! — с ужасом шепчет Неудачник и поднимается на ноги.
Людмила оборачивается, она еще словно не поймет того, что сейчас прозвучало. От лица ее отхлынула кровь. Джентльмен, не отрываясь, смотрит на Андрея из-под лба, пальцы его стискиваются в кулаки.
— Что, слыхали?! — огрызается Андрей. — Повесился! На веревке! Язык вывалил… Оставил лампу. Сгорел к черту ваш Забулдыга!
— А не ты ли его завалил? — рука Джентльмена тянется через весь стол и сжимает нож. — Сознайся, гад! Ты его вчера провожал… Ты и продал!
— Легавый он! — истерически кричит Неудачник. — Легавый! Бей его!!
Андрей откидывает матрац и хватает лежащий там револьвер. Встав на колени, он прижимает оружие к бедру и тихо говорит:
— Ни с места…
— Ах ты ж сволочь. — с ненавистью цедит Джентльмен. — Как я тебя не раскусил… Ах ты ж, сука.
Неудачник прижался к стене, дрожащие руки держит над головой. На Людмилу страшно смотреть, она точно потеряла дар речи, по лицу ее бегут судороги, глаза стали черными — сплошные безумные зрачки.
— Забулдыга своего добился… Он повесился. А какой у него был выход? — насмешливо произносит Андрей. — Либо иголки под ногти, либо самому себя на веревку.
— Так ты из тех?! — с бессильной яростью хрипит Джентльмен. — Из «Паласа»? За что ж вы нас, уголовников?!
— За связь с Забулдыгой! — жестко обрывает Андрей. — Он тоже уголовный! Вор, как и мы!
— Забулдыга убил нашего человека, — Андрей поднимается на ноги и делает шаг к двери. — Мы такие вещи не прощаем… Вы были связаны с ним. Вот в «Паласе» все и расскажете. Мы найдем способ, как заставить все рассказать. Мы умеем… Я сейчас уйду и только попробуйте броситься вслед. Застрелю!
Андрей спиной раскрывает дверь и, повернувшись, кидается в темноту. Он слышит за собой душераздирающий крик женщины, стук падающих скамеек. С размаху Андрей налетает на ступеньку и грохается всем телом на лестницу. Револьвер отлетает в сторону.
— Где он?! Где?! — орет в потемках Джентльмен.
Андрей чувствует, как на него кто-то налетает, он отбрасывает того ногами, с трудом поднимается и лезет по лестнице вверх.
— Он здесь!! Бей!!
Андрей выбрасывает руку и с силой ударяет по чьему-то лицу. Раздается стон. Джентльмен ползает по ступеням, ножом царапая по кафельным плитам.
Впереди чуть светится проем выходной двери. Что-то остро вонзается Андрею в плечо, и он, еще не чувствуя боли, догадывается — нож.
В черном дворе — ни огня. Андрей бежит вдоль кирпичного забора. Где-то должны быть ворота. Они уже на цепи. Маленькая калитка?.. Андрей с силой трясет железные прутья. За спиной слышит голоса и топот ног… Пожарная лестница. Андрей торопливо лезет по ней, с трудом подтягивается на перекладинах. Вся грудь его, он чувствует, залита кровью. Выше, выше… Сверху двор чуть виден. По сотрясению лестницы Андрей понимает, что те двое лезут за ним. Он взбирается на крышу и, балансируя руками, бежит по крутому скату. Сзади раздается грохот жести, тяжелое дыхание преследователей.
— Где он?
— Сюда побежал.
— Я ему перо всадил.
Андрей стоит за печной трубой, он чувствует, что слабеет, сердце колотится в груди. «Куда дальше? Дальше карниз и высота четвертого этажа. Прыгнуть — верная смерть. Те, двое, приближаются, идут к трубе с разных сторон, отрезая путь к лестнице…»
Андрей ложится на крышу и ползет. Вот он у самого карниза. Заглянул вниз и увидел совершенно черный колодец, в глубине которого тускло мерцал подсвеченный луной булыжник.
— Ты видишь его?
— Куда он денется…
— Иди к трубе…
Метрах в трех от стены колышется во мраке темная вершина тополя. Андрей приседает и вдруг, раскинув руки, как ныряльщик, прыгает во тьму ночи. Он слышит треск веток и материи, в лицо и тело впиваются десятки заноз, листва прошуршала, точно раздираемое сукно. Андрей на лету ловит ствол, хватает его пальцами, прижимается всем телом и повисает над землей невидимого двора.
Он еще слышит:
— Его нет…
— Свалился с карниза?
— Тут нет, пошли вниз…
Потом две тени долго ходят под стеной дома, их сдавленный шепот доносится до Андрея:
— Здесь тоже его нет…
— Смылся.
— Теперь легавых приведет.
— Я его ножом пырнул. Сдохнет где-нибудь под забором.
Они ушли. Андрей еще долго висел на дереве, лбом прижавшись к холодной коре. Он видел черный обрез крыши и ночное небо, наполненное звездами. Кружилась голова…
Наконец Андрей слез с дерева, сел на землю и, сунув руку под пиджак, нащупал на плече, со стороны спины, резаную рану, из которой сочилась густая и теплая кровь.
«Хорошо отделался… Кажется, спасся… Чем бы остановить кровь?.. Подложить носовой платок…»
Он нашел в железных воротах калитку и выбрался на пустынную улицу. Побрел вдоль домов, останавливаясь у деревьев. Схватившись за них, подолгу отдыхал, кашляя от приступов боли. Потом опустился на чугунный круг у подножья липы и сидел, не в силах встать на дрожащие ноги. Кровь натекала лужицей. Она катилась по руке, и он пальцами чувствовал тяжесть липкой жидкости.
Деревья осыпали на него опаленные солнцем шершавые листья. Пробежала взъерошенная кошка и посмотрела двумя фосфорными глазами. В водосточной трубе скатился камень. Он простучал по жестяным изогнутым коленям и мягко вывалился на асфальт.
«Надо идти… Истеку кровью… Последняя надежда на Наташу. Представляю, как она удивится…»
Андрей, сцепив зубы, поднялся на ноги и, шатаясь, пошел дальше. Время сместилось в его сознании. Он не помнил, сколько брел по пустынным улицам города. Падал, вставал, снова лежал на земле, мокрый от холодного пота.
Самое трудное было взойти на третий этаж. Каждая ступенька казалась непреодолимым препятствием. Кровь пятнала цемент. Два раза ударил в дверь и прислонился к стене. Долго не открывали. Затем звякнула цепочка, и женский голос спросил:
— Кто там?
— Я… Андрей, — прошептал он.
Она распахнула дверь, подхватила его под руки и ввела в прихожую.
— Наташа, в чем дело? — отозвался отец из своей комнаты.
— Ничего. — Наташа затащила Андрея к себе, и он рухнул на ее кровать.
— Я грязный весь… Извини.
— Что с тобой? Почему ты в городе?
— Потом, — голова Андрея поплыла в тумане. Вещи потеряли очертания и стало душно. — Тряпкой… Вытри на лестнице кровь…
В дверях показался отец. Он был в нижней помятой рубашке, на голове вязаный колпак. Растерянное лицо его покрылось смертельной бледностью.
— У нас раненый человек?! Это безумие! Наташа…
Не слушая, она побежала на кухню и с тряпкой в руках вышла на лестничную клетку.
Старик осторожно приблизился к постели, вытянув шею, взглянул из-за спинки кровати.
— Это вы, Андрей! Боже мой… В какую темную историю вы попали? Посмотрите на себя — вы весь в крови!
— Ничего, папаша, — прохрипел Андрей. — История без крови не бывает…
Наташа вернулась, с отчаянием бросила взгляд на неподвижного Андрея. Он слабо улыбнулся ей в ответ, с напряжением раздвигая онемевшие губы.
— Вот… Увиделись…
— Кошмар какой-то, — старик не мог прийти в себя.
— Идите, папа, идите, — Наташа повела его к двери, накинула крючок и, повернувшись, заплакала. Всхлипывая, достала из комода простыню, начала рвать ее на полосы.
— Я… Я ботинки, — Андрей попытался подняться на кровати. — Ботинки сам…
Нож снова вошел в рану. На этот раз он был еще длиннее Я раскален докрасна. Лезвие точно пронзило плечо и грудь, разрывая легкие и ломая ребра. Андрей отвалился на подушку и потерял сознание.
Глубокой ночью поручик Фиолетов постучался в кабинет полковника. Он прошел по ковровой дорожке к столу Пясецкого и положил на край несколько папок.
— Дело уголовника Забулдыги, Альфред Георгиевич, — сказал Фиолетов. — Как вам известно, он покончил жизнь самоубийством. Судьба альбома неизвестна. Но, как мы предполагаем, он сгорел во время пожара. Вот здесь все, что касается полученных донесений, опросов заключенных, населения. Потрачены большие средства. Все напрасно.
— Вы предлагаете… — начал полковник и замолчал, давая возможность закончить мысль поручику. Он смотрел на того, и первый раз за время их совместной работы у него шевельнулось к Фиолетову доброе чувство.
«Как плохо выглядит, — подумал он. — Совсем молодой человек, но под глазами мешки, цвет лица совершенно желтый. Много работает… Пьет? Это молодость. Война одних сломала, других ожесточила. Что она сделала с этим веселым легкомысленным человеком, которому судьба готовила карьеру блестящего гвардейского офицера и славу завоевателя женских сердец?.. Она его развратила, и в этом меньше всего его собственной вины…»
Поручик не отрывал взгляда от полковника. Его поразил непривычно мягкий блеск всегда холодно-бесцветных глаз Пясецкого. Усталость взяла свое — сейчас перед Фиолетовым сидел дряхлый старик в просторном военном кителе. Склеротические сосудики на верхушках щек и на кончике носа порозовели, налившись бледной кровью, увядшая кожа складкой повисла под костлявым подбородком.
«Что его не пускает на покой? Ведь по его велению здесь бьют и пытают… Все средневековье содрогнулось бы от того, что происходит в наших подвалах… Старый, немощный человек… Он защищает веру, престол и отечество? Неужели и в самом деле эти идеи могут вдохновить и дать новые силы, оживив разбитое временем и болезнями дряхлое тело? Или это просто маразматическое стремление властвовать над другими? Он умный человек и не может не понимать, что в этой войне мы обречены. Откуда же у этого человека такая педантическая преданность проигранным идеалам, если даже накануне краха он не бросает своего безжалостного занятия на безрадостном посту…»
— Вы предлагаете? — повторил в раздумье полковник, и поручик кивнул головой:
— Совершенно верно, Альфред Георгиевич, закрыть дело. Потрачены большие суммы, отвлекались силы. Закрыть и поставить тем самым на альбоме крест. Он сгорел. Превратился в дым. Как это ни обидно.
— Лещинский… — прошептал Пясецкий и поморщился. — Обычная смерть. Что показало вскрытие трупа Забулдыги?
— Обещали сообщить результаты обследования, — ответил Фиолетов. — Я сам говорил с доктором по телефону. Раз молчит, значит все в порядке.
— Возможно, — согласился полковник и потянулся к телефону. — Прозекторскую… Позовите господина Ширшова… Говорит Пясецкий! Здравствуйте, вернее, доброй ночи, господин доктор. Меня интересуют результаты вскрытия. Да, да… Да… Что?! Не может быть!! Вы ручаетесь головой?! Благодарю.
Полковник с силой швырнул телефонную трубку и повернул к Фиолетову побагровевшее лицо:
— Сначала Забулдыга был убит! А потом уже повешен!! Убит!! Вы понимаете, поручик, убит! Повешен! Дом подожжен!! Кем?! Для чего?! Да не стойте, как истукан! Отвечайте!!
Фиолетов молчал, до боли в деснах стиснув челюсти.
Глава 8
Андрей помнит, как ночью пришел в сознание. На стуле горела керосиновая лампа без стекла. Огонек отражался в графине. На нем было чистое белье, а плечо туго стягивала повязка. Он не мог повернуть голову, но слышал дыхание девушки, спящей на полу. Долго не закрывал глаза. В окно уже начал пробиваться мутный рассвет. Дворник скреб метлой двор. Кто-то пробежал по лестнице.
«Если кровь не заметят… Надо быстрее отсюда выбираться. Нельзя подвергать людей опасности… Старик очень боится…»
Потом Андрей заснул, и когда пробудился, был день. Чувствовал себя слабым и беспомощным. Сквозь полуприкрытые вехи он видел Наташу. Она стояла у кровати в помятом фланелевом халатике, руками обхватив никелированный шар спинки. У нее было белое, незагоревшее лицо с бледными веснушками, припухшие губы и большие настороженные глаза. Спутанные волосы падали на одно плечо, в их сплетении желтел шелк муаровой ленты. Солнечные пятна света плавились на черном воске полированной мебели. Шторы на двери опадали тяжелыми складками. Пахло теплой пылью, засохшими цветами и лекарством.
«Могу я ей рассказать обо всем? Я ее мало знаю… Мне надо идти в контрразведку. Альбом… Ведь совсем не обязательно, чтобы он сгорел во время пожара. Это хорошо, что меня ранили… Хоть какое-то алиби. Что-то сработало не так, как надо, и меня раскрыли… Или в чем-то заподозрили и решили убрать с дороги. Полковник невольно свяжет все вместе — удар ножа и конец бандита. Возможно, будет искать причину моего провала по другим каналам. Я, конечно, не один нацелен на поиск альбома… Воры скрылись из города. Надо идти…»
Он открыл глаза и улыбнулся, с трудом раздвигая запекшиеся от жара губы.
— Ты не спишь? — прошептала Наташа.
— Я уже давно смотрю на тебя.
— Зачем?
— Я же люблю тебя.
Девушка растерялась, бросила на него быстрый взгляд и отвернулась. Они долго молчали. Наконец, Андрей сказал:
— Мне надо уходить.
— Живи здесь… Я поговорю с отцом.
— Потом… Сейчас нельзя.
— Может быть, ты скажешь, что с тобой случилось?
— Сейчас опасно ходить по улицам. Особенно ночью. Напали из-за угла…
— Кто ты?
Андрей боялся этого вопроса. Что он мог ответить? Но ответить надо, иного выхода нет. Если он должен снова уйти в контрразведку, то надо об этом известить подполье. Они должны знать об альбоме. Кто может сказать, что с ним будет в гостинице «Палас»? Есть вероятность, что оттуда он не вернется совсем. Тогда они видятся последний раз.
— Кем был, тем и остался, — проговорил он, стараясь тоном голоса смягчить ответ. — Я ни в чем не изменился. И не изменил ничему.
— Я тоже, — сказала она, подумав. Неуверенно закончила — Если ты мне веришь… Я даже не буду расспрашивать. Сделаю для тебя все…
Он закрыл глаза и видел только бледный свет, розовый от пульсирующей в веках крови.
— Хорошо, — коротко произнес он, ничего не обещая. —
У тебя найдется что мне надеть?
— Папин костюм. Твой весь в крови.
— Сожги его, — посоветовал Андрей и начал осторожно вставать с кровати. Закружилась голова. Плечо свело острой болью. Он поморщился, чуть приподнял руку и задвигал онемевшими пальцами. Когда натягивал костюм, Наташа стояла у окна, к нему спиной. Услышав шаги, она тихо спросила:
— Можно?
И, повернувшись, не раздумывая, шагнула к нему, обхватила за шею и негромко заплакала.
Он понял — говорить ни о чем не надо. Слова не помогут и не объяснят. Она не верила, что они когда-нибудь снова встретятся. Это было прощание. Он почувствовал к ней необычную жалость.
«Как я мог раньше жить без нее?» — подумал он и сказал:
— Может быть, мы еще увидимся.
Они вышли из квартиры. На стук открываемой двери выглянул на лестничную клетку отец Наташи. Старик был в потертом халате, на голове его косо сидел вязаный колпак.
— Это мы, папа, — сказала девушка. — Я скоро вернусь.
— Слава тебе господи, — громко проговорил старик. — Уводи ты его от нас, ради бога! Виданое ли дело, на ночь глядя, весь в крови… Не жалеешь себя!
Он скрылся в дверях. Наташа покраснела, искоса бросила взгляд на молчащего Андрея.
— Извини его… Старый человек. Не все уже понимает.
Они миновали подворотню и пошли по улице. Возле пассажа Сименса мальчишки стучали щетками по ящикам:
Чистим-блистим,
Пыль обметаем,
Глянц надраим…
Подходи-и!..
У входа толкались барыги, солдаты в мокрых от жары гимнастерках, с тонкими паучьими ногами, до колен затянутыми зелеными английскими обмотками. Гундосили нищие. Господа в линялых сюртуках робко продавали старинные подсвечники, шубы, фамильные чайные сервизы.
— Ну вот, постоим, — сказал Андрей. — Дальше я сам.
— Куда? — робко спросила Наташа.
— Да тут не очень далеко, — неопределенно ответил Андрей и внимательно посмотрел на нее. — Я тебя попрошу в среду подойти в кафе «Фалькони»… Там за крайним к веранде столиком будет сидеть пожилой человек с палкой… Возьми кофе и присядь к нему. Скажи: «Кофе надо пить из фарфоровой чашечки…» Он тебе ответит: «Был бы кофе… Можно и из стакана…» Запомнишь?
Она молча кивнула головой.
— Сообщи ему… — Андрей подумал. — Так и скажи: «Я продолжаю. Вернулся туда же…» И больше ничего. А теперь — прощай.
Он тихонько тронул ее за плечо, улыбнулся и пошел, не оборачиваясь, зная, что она еще долго будет смотреть ему вслед. Торопливо завернул за угол и здесь замедлил шаг, вытер со лба жаркий пот, зашарил по карманам, отыскивая папиросы. Нашел смятую пачку и долго выуживал из нее папироску дрожащими от слабости пальцами. В конце улицы он уже видел темное мрачное здание гостиницы. Горбатая цинковая крыша ее бледно горела под солнцем, похожая на хмурый рыцарский шлем. Тишина, пустынность улиц и площади окружали этот пятиэтажный дом с узкими бойницами окон и чугунным навесом у входа.
Ему не хотелось идти туда. Нет, не то слово… Если существуют предчувствия, то они сейчас владели им. Он не знал еще, в чем дело, но тревога нарастала с каждым шагом. Еще никогда он не испытывал такого страстного желания свернуть, броситься отсюда в сторону, в спасительную узкость кривых переулков.
Здание надвигалось, каменная стена вырастала — громадная, плоская, многоглазо светясь холодным слюдяным блеском казарменно правильных рядов окон.
Андрей вошел в кабинет Фиолетова и увидел, как дрогнули брови поручика. Офицер захлопнул папку и молча поднялся из-за стола.
— Вот как? — только и сказал он — Следуй за мной!
Фиолетов провел его по коридору, не спрашивая разрешения у адъютанта, толкнул дверь к Пясецкому.
— Господин полковник, — проговорил он от порога. — Полюбуйтесь!
Пясецкий тоже не мог скрыть удивления. Он смотрел на Андрея и гладил кончиком мизинца дергающее веко. Гусиная шея серыми складками лежала на твердом крае стоячего кителя. Мешки под глазами порозовели.
— Садись, Блондин, — наконец произнес он. — Мы слушаем тебя.
— Смею доложить, — Андрей вскочил со стула. — На меня было произведено нападение… Перо сунули!
— Кем? — сухо спросил полковник. — И за что?
— Из-за угла, в подворотне. Лица не заметил. Видно, заподозрили что-то.
— Чем же тебя ранили?
— Ножом, господин полковник. Саданули прямо в плечо.
— Раздевайся, — приказал Пясецкий и кивнул Фиолетову. — Позовите врача.
Андрей, морщась от боли, стал снимать пиджак. Стянул через голову рубашку. Остался по пояс голый, с грудью, перетянутой бинтами с проступившим пятном крови.
Полковник что-то писал, не поднимая головы.
— Разматывай, — бросил он небрежно и полез в тумбочку стола за непочатой пачкой папирос.
Вошел военный доктор — толстый белобрысый человек в пенсне. Он оглядел Андрея с ног до головы и холодными мягкими пальцами ощупал предплечье.
— Болит?
— Да… Очень, господин доктор…
Врач вдруг ухватил конец бинта и с силой рванул его в сторону. Кровь брызнула жарким потоком. Андрей вскрикнул и прижал руки к груди. Все тело покрылось холодным потом. Врач умело приложил к ране бинт, крутнул его несколько раз через плечо. Скомканным краем небрежно вытер испарину со лба Андрея.
— Ножевая рана, — сказал он, повернувшись к полковнику. — Свежая… Довольно глубокая.
— Благодарю вас… Идите, — полковник отпустил врача кивком головы. Поднял глаза на Андрея. — Значит, кто ранил тебя?
— Не могу сказать точно, господин полковник. Темно было. В подворотню вошел и вдруг ножом…
— Где ты жил?
— Набережная улица, дом номер двадцать один. Там еще трое находилось.
— А именно?
— Джентльмен и Неудачник. Это те ворюги, с которыми я из тюряги смылся. А хозяйка подвала — Людмила. Так она торговка краденым. Укрыла нас на время. Шмотки дала. Не даром, конечно, под будущую работу. Она же и полюбовница Забулдыги.
— А это откуда известно? — спросил поручик.
— Как же Забулдыга мог найти нас без нее? — с удивлением сказал Андрей. — Видать, свиданки у них происходили, вот она и сболтнула: «Мол, есть трое ребятишек, готовых на все. Карташевича-ювелира хотят пощипать».
— Когда появился Забулдыга?
— А позавчера. Вдруг дверь открывается и, нате вам, собственной персоной. В картишки для знакомства сыграли. Он нам и говорит: «Карташевича не трогать. Не то, господа воры, время. За разбой — семь граммов свинца. Других подведете под монастырь. А тем более новенький среди вас, что за человек — неизвестно…» Повернулся ко мне и ласково так: «Ты бы зашел ко мне, сынок, живу на Чебоксарской, дом восемь. Жду тебя в пять часов. Три раза стукнешь. Есть для тебя важное дело».
— Какое? — перебил полковник.
— Не сказал, — вздохнул Андрей, — Может, убить захотел. Они же всех подозревают. А меня могли выследить.
— Почему сразу не пришел к нам?
— На пять часов с трудом из подвала выбрался. И сразу ходу к вам. Бегом да на извозчике. Полтинник не заплатил, как самый распроклятый жмот, вот господин поручик тому свидетель. Да я так спешил…
— Стоп, — приподнял руку полковник. — Поручик, покажите.
Фиолетов веером разложил перед Андреем блестящие фотографии. На каждой из них было обезображенное огнем тело Забулдыги с веревкой на шее.
— Господи, боже мой! — испуганно воскликнул Андрей, отшатываясь от стола. — Так это же он!!
— Видишь, что с ним произошло? — спросил полковник. Потрясенный Андрей только кивнул головой и провел пальцем вокруг шеи.
— Да, повесился, — согласился полковник, — но перед этим его убили. Оглушили чем-то тяжелым и подвесили к стропилам чердака. А затем опрокинули керосиновую лампу.
— Не может быть, — прошептал Андрей. Эта новость ошеломила его. Он даже растерялся. На какой-то момент потерял над собой контроль — отшвырнул фотографии и медленно поднялся со стула. Но тут увидел непривычное злое лицо Фиолетова и пристальный взгляд полковника, подавшегося грудью к столу.
— Как же так? — слабым голосом выговорил Андрей. — Накануне был жив-здоров…
— А ты его взял и убил, — спокойно сказал полковник и сильно прижал большой палец к столу. — Р-раз… и нету!
— Зачем же мне это?! — ужаснулся Андрей.
— Сам не понимаю, — пожал плечами полковник. Фиолетов бесшумными шагами подошел к Андрею сзади и положил руки на его плечи.
— Допустим так, — сказал поручик, все сильнее стискивая плечо, — ты убил Забулдыгу, а за это воры хотели убить тебя.
— Зачем мне этот Забулдыга? — в отчаянии закричал Андрей, содрогаясь под руками Фиолетова. — Побойтесь бога, господин полковник.
— Что-то не поделили, — насмешливо улыбнулся Пясецкий.
— Но Забулдыгу видели и другие, — воскликнул Андрей, — почему все на меня?! Я что, хуже всех?!
Стреляя выхлопами бензина, разбавленного керосином, подпрыгивая на выбоинах, легковая машина остановилась у здания. Полковник первым прыгнул с подножки. Его обогнал Фиолетов, на ходу расстегивая кобуру. Конвой оставил лошадей у ворот и побежал за поручиком.
— Шагай, — сказал казак и подтолкнул Андрея винтовкой. Еще издали Андрей увидел закрытые ставни полуподвала и мысленно с облегчением вздохнул.
Значит, никого нет… Все скрылись Как и думал.
Толпясь на полутемной лестнице, солдаты стучали в дверь прикладами, стараясь заглянуть в замочную скважину. Один из казаков отступил несколько шагов и с размаху ударился телом о доски. Раздался звон отлетевшей щеколды, треск. Люди вошли в мрак подвала. Где-то в углу горел красный огонек лампадки, но он ничего не освещал, кроме тускло-золотого образа иконы.
— Включите фонарик, — раздраженно приказал полковник, и в это время в руке Фиолетова вспыхнул желтый луч. Он метнулся по стенам, мягко скользнул по полу и уперся в закрытое окно. Казак сорвал белую гардину и прикладом распахнул створки ставен. Стали видны стулья, стол с закопченной лампой, высокая кровать. Луч фонаря вдруг высветил измятые подушки и среди них неподвижную женщину. Широко раскрытыми глазами она молча смотрела на вошедших. На ней была нижняя рубашка с глубоким вырезом ворота, который обнажал высокую жилистую шею. Непричесанная, худая, с запавшими щеками и землистым цветом лица, женщина не мигая, как птица, глядела в яркое дымное пятно фонаря.
— …У ненасытности две дочери: давай, давай, — шепотом сказала женщина. — Вот три ненасытных и четыре, которые не скажут «довольно»: преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водой, и огонь, которые не говорит «довольно»…
— Потушите фонарь, — сказал полковник.
Огонь погас, и в подвале сделалось темно. Голос шептал страстно, с каким-то отчаянием:
— …Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла в небе, пути змеи на скалах, пути корабля среди моря и пути мужчины к женщине…
— Кто такая? — спросил полковник.
— Людка. Скупщица краденого… Бывшая монахиня, — ответил Андрей.
Один из казаков перекрестился, поставив между ног винтовку.
— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, — неожиданно тоненьким голоском запела женщина. — Ты прекрасна… Шея твоя, как столб Давидов… Два сосца твоих, как дойны молодой серны, пасущейся между лилиями…
— Песня песней, — тихо проговорил Фиолетов.
— Она что, сумасшедшая? — сердито задал вопрос полковник.
— Никак нет, — неуверенно произнес Андрей. — Была здорова.
— Вот как? — удивился полковник и подошел ближе к женщине — Слушайте… Что с вами?
— …Зверь, которого ты видел, был и нет его, — со страхом забормотала женщина. — И выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость: семь голов суть семь гор…
— Подойдите сюда, — сказал полковник. Андрей шагнул к женщине и почувствовал ее взгляд, как бы смотрящий сквозь него.
— Вы узнаете этого человека? — спросил полковник. — Отвечайте… Узнаете? Вы знаете его? Вспомните, ну!..
На секунду они встретились глазами и, кажется, в ее черных стеклянных зрачках мелькнула боль воспоминаний, но тут же растаяла, сменившись прежним выражением тупого отчаяния.
— …Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва…
— Это он убил вашего любимого человека? — настойчиво проговорил полковник. — Смотрите на него, смотрите!.. Он убил Забулдыгу? Ударил по голове и повесил… За что убил? Говорите!
— …И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена…
— Забудьте о драконе… То сон! — полковник сжал ладонями ее голову и пристально поглядел ей в глаза. — Сон прошел… Если вы не ответите, я арестую вас! Отвечайте! Вы были счастливы… Вас любили… Он приходил сюда… Вспомните! Его звали Забулдыгой… Но для вас он был единственным… Добрым… Нежным…
Женщина заплакала без всхлипывания, спокойно, по онемевшему стылому лицу катились слезы.
— Ну, ну?! — заторопил ее полковник.
«Сейчас узнает», — похолодев, подумал Андрей, с жалостью глядя на так изменившуюся за одни сутки Людмилу.
— …Народы стекутся вечером, — прошептала женщина и закрыла глаза. — Вечером… Стекутся народы… Голодные, как псы. И ты, господин, будешь измываться над ними, ты превратишь их в ничто…
Полковник вынул из кармана свежеотглаженный платок и тщательно вытер пальцы.
— Притворяется, — хмуро сказал Фиолетов. Полковник молча покачал головой и пошел из подвала. Андрея снова вывели во двор. Возле «форда» уже толпились любопытные. Они стояли кучкой и приглушенно переговаривались, с тревогой поглядывая на казаков.
Андрея подтолкнули к машине, и он залез на заднее сиденье. Шофер, здоровый детина в кожаной куртке с маузером на боку, вырулил из ворот. Конвой зарысил следом, не отставая ни на шаг, так что лошадиные морды дышали Андрею в спину. Прохожие торопливо убегали с дороги, испуганно оглядываясь.
Железные ворота раскрылись со скрипом, и «форд» остановился во дворе гостиницы «Палас». Полковник вышел из машины и направился к зданию, на ходу говоря поручику:
— Это естественно, что воры убежали. Видимо, от торговки краденым мы ничего не добьемся. Остается Блондин.
— Альфред Георгиевич, весьма подозрительны сами обстоятельства… Блондин последним видит Забулдыгу. Забулдыга убит, а Блондин ранен. Кроме того, это таинственное исчезновение человека, который должен был следить за Блондином. Словно в воду канул, а ведь опытный агент. Исчез накануне.
— Агенты таинственно не исчезают, — сердито оборвал полковник. — Это не служители ада и преисподней. У них нет сверхъестественного дара растворяться в ничто. Агентов убирают с пути. У
нас налицо два убийства и одна попытка убить. Но все это, поручик, очень трудно соединить воедино. Кто он, Блондин? Просто вор, запутавшийся во взаимоотношениях между уголовниками, или?.. Не забывайте, главное — альбом! А он должен интересовать как нас, так и тех… большевиков. Если они им завладеют, то руки у них развязаны.
— Но, может быть, — осторожно сказал Фиолетов, — большевики вообще не знают о существовании альбома. Ведь убил Лещинского уголовник.
— Возможно, — согласился полковник. — Но в том, что Блондин не причастен к альбому, надо убедиться.
— Я сделаю все от меня зависящее, — Фиолетов коснулся кончиками пальцев фуражки и вернулся к автомашине.
— Вылезай, — коротко сказал поручик Андрею и, когда тот сошел на землю, протянул ему раскрытый портсигар. — Давай покурим, Блондин, на свежем воздухе… В подвале душно и сыро. Кури. Когда еще тебе придется стоять под небом и спокойно дымить папиросой.
Андрей взял папиросу и, разминая ее в пальцах, медленным взглядом обвел двор. Солдаты закрывали ворота. У новой коновязи играли лошади, стараясь ухватить друг друга за холку. Под навесом казаки перебрасывались в карты. За высокой стеной ветер переваливал с боку на бок лохматые вершины зеленых тополей.
Андрей словно прощался со всем — он видел над собой отутюженное до блеска голубое небо, красно-ржавую жесть крыш. Чувствовал запах бензина и пыли. Мысленным взглядом он восстанавливал перед собой мир, от которого его сейчас уведут в душный и сырой подвал, — жухлость привядших цветов на решетках балконов, черные туннели подворотен, меднокованые луковицы церквей, похожие на громадные жаркие языки огня на высоких многоярусных белых свечах-колокольнях… Шум толпы, звон ведра у водоразборной колонки, одинокие выкрики, громыхание досок моста, дымный чад ресторанных кухонь и дымы заводских труб…
«Отсюда я, наверно, больше не выйду. Но я должен был сюда вернуться! Теперь я знаю, что Забулдыгу убили. И значит, альбом не сгорел. Он существует! И пока он есть, быть может, сотням людей грозит гибель. Я обязан их спасти, помочь общему нашему делу… Что бы со мной они ни делали…»
Фиолетов бросил на землю окурок. Он положил руку на плечо Андрея и легонько подтолкнул к выходу:
— Пошли. Хватит мечтать. На то время окончилось.
Пытками руководил Фиолетов. Он приказал Андрея раздеть и привязать к железным крючьям, вбитым в стену подвала. Первое, что ощутил Андрей, голый и распятый, это было унизительное чувство полной беспомощности и стыд за свое обнаженное поруганное тело. И страх, охвативший с головы до ног. Уже потом, когда начали бить, все это ушло, уступив место нечеловеческой боли. Он кричал до хрипоты, извивался в своих путах, колотился затылком о камень стены. Порой терял сознание. Его обливали водой.
Фиолетов сидел в кресле, беспрерывно курил, нога его, переброшенная через колено, нервно подрагивала. Он задавал вопросы. Кивал двум солдатам в исподних рубашках. Те брали по его выбору то клещи, то жаровню с углями и подступали с ними к повисшему на крючьях мокрому от смертного пота телу.
— Зачем убил?! Когда?! Зачем?! Какую цель преследовал?! Что взял?! Убил?!
Так длилось несколько часов. Однажды Фиолетов вышел из подвала. Солдаты, не обращая внимания на Андрея, уселись в углу возле стены и стали есть что-то из котелков, скребя ложками по стенкам и тихонько переговариваясь. Андрей висел на стене с вывернутыми суставами рук, тело его, наливаясь ледяным холодом камней, тряслось в ознобе.
Потом Фиолетов вернулся, и солдаты снова отставили свои котелки.
Два дня Андрей валялся на соломе в одиночной камере, К нему никто не заходил, лишь изредка надзиратель открывал дверь и опускал на пол кружку воды и кусок черствого хлеба. Постанывая, Андрей на локтях подползал к еде и жевал, пил через силу, преодолевая в горле комок отвращения. Устав даже от еды, он прислонялся спиной к стене и думал, полузакрыв глаза:
«Они ничего не добились. Я единственный у них, кто видел Забулдыгу. Тот убит. Это был грабеж или кому-то потребовался альбом? Конечно, альбом… Когда я пришел в подвал, то воры сразу меня встретили враждебно. Почему?.. Джентльмен должен был прийти к Забулдыге. Он ушел с утра. А был ли он у Забулдыги? Если был, то… Джентльмен мог убить Забулдыгу, чтобы овладеть деньгами. А если тот рассказал об альбоме, то завладеть и альбомом. Поэтому он захотел избавиться от меня, как от лишнего свидетеля. То, что я сотрудник контрразведки, должно запугать их до смерти. Возможно, воров уже нет в городе. На какое-то время можно быть спокойным, что фотоснимки не появятся. А мне следует думать о том, как отсюда выбраться. О Джентльмене знаю только я. Интересно, участвовал в этом Неудачник?..»
На второй день Андрей уже мог вставать на ноги и тихонько ходить по камере, хотя голова кружилась, а пол кренился, как палуба корабля. Вечером раздался стук замка и вошел Фиолетов. Андрей в это время сидел в углу, положив голову на руки, скрещенные над коленями. Надзиратель поставил в камере табурет, и, поручик сел, осторожно поддернув острые складки брюк.
— Прекрасно выглядишь, — усмехнулся поручик, поигрывая тесемками папки. — Держался молодцом. Приятно вспомнить.
Андрей угрюмо молчал, сквозь спутанные волосы, упавшие на глаза, рассматривал офицера. Гладко причесанный, широколобый, с орлиным носом и сочными веселыми губами, поручик сегодня был серым от усталости. Он горбился на табурете и, не мигая, смотрел из-под тонких бровей куда-то в угол камеры.
— Жаль с тобой расставаться, — продолжал Фиолетов, — но ничего не поделаешь. Мы, в первую очередь, солдаты. Приказ есть приказ.
Поручик раскрыл папку и достал из нее лист, отпечатанный на пишущей машинке.
— Вот послушай. Подписано самим главнокомандующим. «Секретно. Согласно особому указанию… Социально опасные уголовные преступники, мешающие наведению порядка и законности в освобожденных от большевистского ига районах… подлежат немедленному расстрелу без суда и следствия…»
— Господин поручик! — с отчаянием закричал Андрей. — Разве я не сам! Добровольно! Всей душой!.. Помилуйте, господин Фиолетов…
— Здесь не базар, — равнодушным голосом проговорил поручик и поднялся. Надзиратель сразу взял табуретку и пошел в коридор.
— Да за что же, господин офицер?! — продолжал Андрей, на коленях двигаясь к стоящему посреди камеры поручику. — Душу продам… Для вас!..
— Экий ты, — с брезгливостью сказал Фиолетов. — Когда-то с тобой это должно было произойти… Прощай, голубчик.
Он торопливыми шагами направился к двери.
Глава 9
На другой день Андрея перевели в общую камеру в дальнем крыле тюрьмы. В ней находилось около тридцати арестованных. Отвратительно воняла параша. Единственное окно прикрывал снаружи деревянный козырек. Плохо освещенная двумя керосиновыми фонарями камера казалась большим погребом с углами, изъеденными плесенью. С воли сюда не доносилось ни звука. Почти все были избиты — в синяках и ссадинах, обмотанные кровавыми тряпками. Андрея приняли без оживления, кто-то потеснился, уступая место, кто-то вяло, без интереса спросил, за что сюда попал, — Андрей не ответил, отошел в дальний угол и притих на холодном цементе. Он наблюдал. Люди здесь были разные, невидимые барьеры разделяли их на группы. В самой большой слышался разговор, кто-то тихонько пел. Худой смуглый бородач чинил рубашку. Паренек, почти мальчишка, положил голову на колени седого человека, и тот медленно, осторожно гладил его по волосам, закрыв глаза и прислонившись затылком к стене. В другой компании играли в карты. Какой-то оборванец пытался все время танцевать, — вскакивал, шел на середину камеры, переступая через тела, под лихой свист товарищей бросался вприсядку и вдруг затихал, перегорев и остыв как-то сразу, словно парализованный тяжелой мыслью. Ненавистно матерясь, в бессилии он опускался на цемент и начинал плакать, по-мужски всхлипывая и ударяя кулаками по лицу. И тогда все затихали. Оборванец успокаивался и лез к своим, пока снова тугая отчаянная сила не выбрасывала его в круг.
Смерть ходила между людьми, глядела со стен выцарапанными именами и датами, каждого отмечала своим знаком — у одного отнимала силы, другого лишала мужества, а третьему несла воспоминания о несбывшемся, чтобы в оставшееся время он понял всю глубину потери. О ней пытались не говорить, ее старались не заметить, но она была рядом, и об этом знали все. Камера смертников объединяла людей общим страхом перед смертью и бесповоротно, раз и навсегда отделила слабых от сильных, понимающих, за что они погибают, от тех, кто увидел бессмысленность прожитого и бесполезность своего, ничего не утверждающего конца… Так казалось Андрею, так он думал, незаметно наблюдая за камерой. Все ожидали казни. Странные личности валялись в углах, ни с кем не разговаривая, мрачные и подавленные — старики, хорошо одетые мужчины, женщина в рваном бархатном платье, нечесаная и грязная. Не трудно было догадаться об их профессиях — крупные спекулянты, погоревшие на военных поставках, политические деятели неясных партий, чем-то неугодных деникинцам, заплутавшаяся в каких-то аферах проститутка. И кто-то из находящихся в камере должен работать на контрразведку. Одетый в рванье, избитый, он здесь, среди людей, прислушивается к голосам, стараясь запомнить все, о чем говорят перед смертью. И когда всех уведут, кого-то оставят в тюрьме снова пытать и допрашивать.
К Андрею склоняется морщинистое землистое лицо со спутанной бородкой.
— Господи боже мой, — шепчут тонкие губы. — Сегодня ночью всех порешат… Милый человек, я ж невинный… Как есть чистый… Странник божий… Пробираюсь в землю обетованную. Грехи замаливать…
— На небе это сделаешь, — хмуро говорит Андрей. — Прямая дорога к господу богу…
— Ошиблись они во мне, ошиблись, — бормочет старик. — Понапрасну схватили… Далек я от жизни мирской… Все суета сует, одно слово божье вечно…
У него оттопыренные уши, детские шелковые волосинки вокруг лысины и тонкая жилистая шея.
— Иди, дед, иди, — грубо отвечает Андрей. — Не до тебя мне.
Старик замолкает, на коленях отползает в сторону и, продолжая вздыхать, затихает на полу.
Андрей натягивает на голову пиджак и закрывает глаза. Но спать не может. Ноет раненое плечо, на душе тоскливо, болит голова. Все существо его не может смириться с тем, что идут последние часы жизни — уж больно нелепо и страшно кончать с ней счеты, когда здоров, есть силы. Выведут ночью, поставят на краю ямы. И все. Закидают комьями и пойдут к своим казармам сквозь ночное дыхание цветов, под черным небом с роем звезд, по дороге, влажной от росы.
Старик приполз снова, затеребил за руку.
— Сынок… Уже скоро. Ночь прошла… Господи, за что же?!
Андрей не ответил, стиснул зубы, не шелохнулся.
— В бога веришь? — продолжал торопливо старик. — Помолиться надо, сынок… Покаяться. Все ему, всевышнему, рассказать… Явиться к нему во всеочищении…
«Я темный, малограмотный, — подумал Андрей. — И суеверный, как все уголовники. Я в бога должен вцепиться, словно в спасительную соломинку. Надо до последнего дыхания… Пока есть хоть какая-то надежда… Пусть даже призрачная…»
В коридоре слышались приглушенные шаги, звон ключей, стук оружия. За дверью притихшей камеры собирались люди, осторожно переговаривались, ступали настороженно, словно боясь спугнуть безмолвие притаившейся тюрьмы.
Не выдержав, старик бросился вперед, колотил кулаками в доски, обитые железом, визгливо кричал:
— Откройте-е-е!.. Ироды-ы!.. Душегубы-ы!.. Откройте-е!..
Андрей кинулся к нему, барабанил в двери:
— Откройте-е!..
Дверь распахнулась, и на пороге показался офицер с клинком и кобурой у пояса.
— Помолиться, ироды, дайте, — старик протянул к нему руки. — Последний раз… Перед смертью… Покаяться…
Офицер внимательно посмотрел на него и на Андрея, молча кивнул головой.
Андрей, старик и еще несколько человек из приговоренных шли за ним мимо вооруженных солдат, стоящих вдоль стен. Они поднялись по металлической лестнице на второй этаж и вместе с офицером оказались в тюремной церкви. Тут горел керосиновый фонарь, слабо освещал пустынный гулкий зал. Из темноты глядели сумрачные лики святых. Золото царских врат тянулось до самого купола, тускло мерцая глубокой резьбой.
Старик упал на каменный пол, раскинув руки, распластавшись неподвижным крестом. Его быстрый лихорадочный голос забился в холодных стенах:
— Боже… Боже… Прими в свои ладони грешную душу раба твоего Михаила…
Андрей оглянулся — офицер стоял в тени колонны, незаметный, тихий, и только иногда доносился легкий перезвон неосторожно задетых шпор.
«Слушает, гад… — подумал Андрей. — Ну слушай, слушай…»
Он встал на колени и медленно перекрестился, глядя на иконы, поднимающиеся на противоположной стороне сплошной тяжелой стеной.
Он склонил голову, зашептал полузабытые слова молитв, прислушиваясь к жаркому голосу распростертого старика.
— …По божьим следам ступала моя нога, — трепал в темноте полный отчаяния тонкий тенор. — Каликой перехожей я сделался в жизни этой, чтобы зреть места твои святые… Очиститься от скверны… Каюсь… Каюсь перед смертью кровавой… Грешен… Но прими меня очистившимся. Не лжет мой язык… Сердце обмякло… Не держу камень за пазухой на ближнего… Все мои помыслы и дела мои о тебе, господи. Исповедь чиста моя… Как пришел в жизнь наг, раздет и беззлобен, так и приду к тебе, боже…
Андрей закрыл лицо ладонями, пальцами сдерживая стучащую в висках кровь.
— Все! — громко сказал офицер. — Выходите…
Андрей поднялся на ноги и подошел к старику. Он взял его за плечи, и тот, сгорбившись, став еще меньше, всхлипывая, пошел к двери.
Во дворе их всех погрузили на телеги. Конные казаки окружили плотным строем. Во главе и в конце колонны стали пулеметные тачанки.
Медленно, без скрипа, распахнулись тяжелые полотнища окованных ворот.
— А-а-рш! — скомандовал офицер, рывком тела толкая коня вперед.
Долго ехали через ночной город. Телеги тарахтели в темных ущельях улиц. Монотонно цокали копыта лошадей. На площади мимо пронесся черный автомобиль с двумя яростно пылающими фарами, которые полоснули дымными лучами и погасли.
Люди на телегах молчали, слушали глухую тишину ночи, наполненную шорохом и стуком движения каравана. На передней тачанке о чем-то переговаривались солдаты, и ветер нес оттуда искры ветром раздуваемых цигарок.
Проехали около дома, где жила Наташа. Андрей узнал его по входу с обвалившимися коринфскими колоннами. В глубине ворот тускло голубел под луной широкий пустынный двор. В мертвых окнах дрожал блеск стекол.
От центральной улицы за подводами увязалась бездомная собака. Пугая лошадей, она носилась вокруг, лая хрипко, с подвыванием. Свалявшаяся шерсть на загривке стояла дыбом. Казаки гнали собаку нагайками, матерились, но она только шарахалась в сторону и снова вылетала из темноты злым мохнатым комом. Потом исчезла собака. По бокам дороги потянулись одноэтажные домики, окруженные садами. Затем не стало видно и их. Подводы въехали в песок. Уродливые ели зашумели жидкими кронами. Кони тяжело налегали на постромки. Сделалось совсем черно, а небо разгорелось бесчисленными звездами — они стояли в вышине желто-зелеными крапчатыми тучами, казалось, что звездные рои шевелятся со шмелиным гулом, то вольно катил степной ветер, прочесывая гудящие деревья.
— Сто-о-ой! — закричал офицер.
Подводы замерли. Люди слезли с них и затоптались в темноте.
— Господи… Вседержитель… Всемогущий, — зашептал старик рядом с Андреем. — Не соврал перед судом земным… Покаялся им до остатнего слова правды… И перед тобой предстану ангелом чистым…
— Все, отец, — тихо сказал Андрей. — Теперь и бог не поможет…
Солдаты забегали вдоль подвод, выстраивая людей. Торопливо отсчитали половину и повели ее в глубину леса. Казаки окружили оставшихся, через луки седел перебросили карабины. Одна из тачанок развернулась и выставила пулеметное рыло. Вторая тачанка потянулась следом за ушедшими. Приговоренные сбились в кучу. Несколько человек держались за плечи. Среди них стоял бородач и смеялся, поглаживая вскидывающую морду лошади. Он издевался над казаком, который мрачно сидел в седле, не отвечая и отвернув голову в сторону. Женщина в бархатном рваном платье лежала на земле, икая и всхлипывая. Кое-кто был неподвижен — уже лишенные сознания, они ничего не видели и не слышали. Эти не вынесли ожидания смерти. С ними можно было делать что угодно. Они умерли раньше, чем их расстреляли.
Андрей видел бородача, мальчишку, нескольких рабочих. Один из них, в распоясанной рубашке, босой, говорил громко, ни к кому не обращаясь, каким-то торжественно-взвинченным голосом:
— …Каждый из нас будет отомщен… Каждый! Я это знаю… Наступит новое царство… Свободы… Братства… И, черт, мы будем с ними… С ними, братва… А собачьи кости сгниют в земле… А нам памятник. На вечные времена. Народ сложит по камешку. Миллионы придут…
За деревьями грохнул залп. Потом стукнул револьверный выстрел — один, второй…
Женщина закричала, заплакала. Казаки закружились на лошадях, ударяя их нагайками. Из темноты показался офицер и скомандовал.
— Вперед!
Кто взялся за руки, кто поплелся сам. Теснимые конскими крупами, подстегиваемые командами, люди побрели по песку, На поляне вытянулся ряд солдат с винтовками. Было тихо, где-то квакала лягушка, ныли сосны под ветром. Слышно было, как стучали от ужаса чьи-то зубы.
Андрей не помнил, сам ли он стал у края оврага или его сюда толкнули. Он разом, одним долгим взглядом, обнял окружающий мир и, как бы отодвигаясь от всего этого — от купола стылого неба с проколами звезд, от ревматических изломов громадных сосен и короткого блеска вскинутых штыков, — вдруг остался одиноким на ветру, среди темного поля. Отчаяние и боль подступили к горлу.
«…Мама… Наташа, — подумал он. — Все… Конец…»
Усилием воли поднял голову и заставил себя снова вернуться сюда — к так близко стоящему неровному строю солдат, к офицеру с обнаженным револьвером, к тоскливому вою женщины, сидящей на земле.
— Взво-о-од! — запел офицер и поднял руку.
— Значит, конец, — прошептал рядом с Андреем старик-богомолец. Он выпрямился, рванул на груди ворот рубашки.
— Пли-и!
Сверкнуло и ахнуло, стегнув по ушам. От гула содрогнулось тело. Земля косо пошла из-под ног. Вяло взмахнув руками, ударился о нее коленями. Ладонями закрыл лицо и начал медленно клониться, сгибаясь пополам.
Кто-то тронул Андрея за плечо. Он поднял голову, оглянулся. На краю обрыва он был один. В овраге редко стучали выстрелы — добивали раненых. Шатаясь, поднялся на ноги, стал перед офицером, еще не веря случившемуся, не желая этому верить — опустошенный, с тупой болью в затылке.
Его повели сквозь кусты, и они хлестали по лицу ветками, туго, наотмашь, так, что голова откидывалась в стороны. Жесткие удары приводили в чувство.
«Жив… — Но не радость, а равнодушие усталости владело телом. — Куда ведут?.. Зачем?..»
У автомобиля его встретил Фиолетов. Посмотрел почти сочувствующим взглядом и открыл перед ним дверцу.
— Садись.
Машина с трудом выбралась на дорогу, долго буксуя в зыбком песке среди елей.
— Ты, наверно, удивлен? — наконец спросил поручик. — Как видишь, воскрешение из мертвых возможно и в двадцатом веке…
— Почему вы так? — приходя в себя, проговорил Андрей.
— У тебя прекрасная выдержка, — с уважением сказал Фиолетов. — Старичка-богомольца видел? До последней минуты держался. Ведь мы его поймали с шифровкой в штаб красных. Все выдержал, как ни били. Перед богом исповедался, рассчитывая, что мы будем слушать. И мы слушали… Однако он не учел — мы хоть в бога и верим, но только не в служебное время.
— Отпустите меня, — попросил Андрей. — Что я вам такого сделал? Воровать больше не стану. Только отпустите, господин офицер.
— Если честно, — задумчиво произнес Фиолетов, — то я тебе до сих пор не верю. Я думаю, ты продолжаешь с нами какую-то игру. Но вот полковник…
— Я ему буду век благодарен, — прошептал Андрей. — Он же видит — я всегда старался…
— Ты теперь много знаешь, — усмехнулся Фиолетов.
— Зачем же вы тогда спасли меня? — с отчаянием воскликнул Андрей. — Лежал бы я со всеми. Проклятая жизнь…
— Полноте, — засмеялся Фиолетов. — Не такая уж и проклятая. Смотри — звезды. Деревья. Прекрасно…
— Куда? — спросил шофер.
— В контрразведку, — бросил Фиолетов.
Машина круто пошла на поворот, дымные лучи фар легли на длинную дорогу. Высветленная желтым, узкая, как тоннель, высверленный в темноте, она лежала перед автомобилем прямо и ровно, покрытая шишковатой рябью булыжников.
«Все начинается заново, — подумал Андрей. — Надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Надо беречь силы…»
Он прислонился лбом к холодной обшивке сиденья и закрыл глаза, отдаваясь мягкому качанию рессор.
Глава 10
Несмотря на позднюю ночь, Андрея провели в кабинет полковника. Пясецкий сидел за столом. Зеленая лампа горела перед ним, накрытая порыжевшей газетой. На столе валялись окурки, вывалившиеся из переполненной хрустальной пепельницы. Ворот кителя был расстегнут, под ним виднелась несвежая солдатская рубашка с завязками. Седая щетина покрывала острый подбородок полковника.
— Садись, — сказал он и, поставив локти на стол, внимательно посмотрел на Андрея. — Вот так-то, — вздохнул он наконец. — Опять встретились. Теперь, может быть, скажешь, кто ты?
— Чего говорить? — с тоской прошептал Андрей. — Сами знаете.
— Настаиваешь на прежнем? — без удивления спросил полковник. Он раскрыл тонкую папку и придвинул ее к Андрею. — Полюбуйся. Нет ли среди них знакомых?
Андрей осторожно взял в руки фотографии. Их было шесть. С листков картона смотрели незнакомые мужские лица.
— Первый раз вижу, — твердо сказал Андрей.
— У тебя есть возможность нам помочь, — проговорил полковник. — Я советую воспользоваться такой возможностью. Только для этого ты и возвращен.
— Господи, — воскликнул Андрей, — да я ради вас родной матери не пожалею.
— …Забулдыга убил нашего человека и похитил у него альбом с фотографиями коммунистов, — продолжал полковник, не поднимая глаз. — Зачем он ему? Я не представляю. В свою очередь, Забулдыгу кто-то убил.
— Не я! — торопливо вставил Андрей.
— …Альбом у него не нашли. Сгорел? Возможно! Но вот что интересно, как только тебя отправили на расстрел, так сразу мы получаем шесть фотоснимков. И, как сообщается в письме, они все коммунисты. Посмотри на снимки с той стороны.
Андрей перевернул одну из фотографий и увидел аккуратную подпись: «Ателье Лещинского».
— Снимки подлинные, — усмехнулся полковник, — но из того ли альбома? В ателье Лещинского фотографировалось много людей. И не обязательно они были коммунистами. Не правда ли?
— Зачем вы мне все это рассказываете? — с испугом проговорил Андрей. — Я не хочу знать ничего! Я не убивал никого! Господин полковник…
— Прекрати истерику, — сказал полковник. — Первое, что нам пришло в голову, это то, что тебя выручают. Подсовывают снимки, как бы говоря: Блондин не причастен к убийству ни Лещинского, ни Забулдыги! Блондин ничего не знает об альбоме. Альбом в других руках. И вот результат — ты сидишь перед нами живой и здоровый.
— Кому я нужен, господин полковник, — прошептал Андрей. — Кто из-за меня других людей будет на виселицу ставить?
— Совершенно верно, — согласился полковник. — Не будут! Шесть за одного — слишком дорогая цена, кем бы ты ни был.
— Так отпустите вы меня на все четыре стороны, ради Христа, — попросил Андрей.
— Как можно? — покачал головой полковник. — Мы послали по всем шести адресам вооруженных людей. Они скоро вернутся. И, как подсказывает мне сердце, с пустыми руками. Вот уж ты поистине попадешь в щекотливое положение.
— Куда? — насторожился Андрей. — Ничего я не хочу. Отпустите домой… У меня жена, дети…
— Это исключено! — сердито бросил полковник. Он долго барабанил пальцами по столу, вглядываясь в темноту за окном. Успокоившись, пробормотал — Не будем гадать на кофейной гуще. Подождем. Скоро все выяснится.
Пясецкий углубился в чтение документов, то и дело отчеркивая что-то карандашом. Фиолетов на цыпочках вышел из кабинета и сквозь неплотно прикрытую дверь приглушенно донесся его разговор с адъютантом. Андрей не прислушивался. Он сидел посреди пестрого ковра на гнутом венском стуле, устало склонив голову на грудь. Все было непонятно и запутано. Тревога мешала думать. Мысли рождались сбивчивые и неясные и только одно звучало громко, заглушая все остальное: откуда снимки? Неужели подлинные? Или существуют вторые экземпляры? Конечно, у владельцев фотографий. Могли их выкрасть у хозяев и прислать в контрразведку. Кто?
Во дворе раздался клаксон автомобиля, послышался стук копыт по асфальту и крики. Полковник быстро поднялся из-за стола и подошел к окну. Он загородил ладонями глаза от света и прижался лицом к темному стеклу.
Стремительно вошел Фиолетов и от порога закричал:
— Господин полковник, вернулись…
— Знаю, — не оборачиваясь, ответил тот, стараясь разглядеть все, что делалось во дворе… — Машину вижу… Кто командует конвоем? Петренко? Вижу его…
Обернулся от окна возбужденный, с повеселевшим блеском в глазах, стал торопливо застегивать ворот кителя, по-гусиному вытягивая шею:
— Поручик! Петренко ко мне! Немедленно!
Фиолетов кинулся из кабинета, грохоча сапогами по пустынному коридору.
Полковник прошелся несколько раз мимо Андрея, бросая на него насмешливые взгляды. Андрей сидел на стуле, не смея повернуться к дверям.
Наконец послышался топот множества ног, скрипнули распахнувшиеся створки дверей, и громкий, прокуренный бас рявкнул в тишине кабинета:
— Господин полковник! Четыре квартиры были пусты и не носили признаков обитания! По двум адресам произведены аресты коммунистов, в чем имеем доказательства, найденные при обыске. Как именно: личное оружие и марксистская литература.
— Кто они такие?! — голос полковника звенел от возбуждения.
— Рабочие городской электростанции!
— Взорванной электростанции, — уточнил Фиолетов.
— Ничего не понимаю, — растерянно проговорил полковник. — Тогда почему только шесть фотоснимков?! Где остальные?! И кто позволяет себе такие роскошные жесты?! Введите арестованных!
Андрей обернулся и увидел, как солдаты втолкнули в кабинет двух полуодетых мужчин. Те, щурясь от света, остановились у ковра, тревожно оглядываясь. Один из них босой, в кальсонах, вытирал кровь с разбитой губы.
Полковник долго смотрел на арестованных, переводя взгляд с одного на другого. У него начало дергаться веко.
— Уведите, — сказал он. — Всех. И этого, — полковник кивнул на Андрея. — Всех к чертовой матери! С моих глаз долой!
Андрей лежал на вонючей соломе в каменном мешке подвала гостиницы — навзничь, раскинув руки.
«Не проходит бесследно для человека близкое знакомство со смертью, — подумал он, — долго оттаивает похолодевшая душа. Как простоявший на зимнем ветру бревенчатый дом. Сначала мокнет на полу иней. Потом слезами исходит изморозь на оконных стеклах. Начинают потрескивать ожившие доски, В земляном накате на чердаке просыпаются зерна полыни, занесенные еще осенью. Только дом — это все уставшее оцепеневшее тело… Вот он снова стоит на краю обрыва. Под сапогами солдат хрустит трава, вминается в песок. Сосны цедят сквозь иглы ветер. Бьется об землю женщина, икая от ужаса. Кони ржут, чуя скорую кровь. И рои звезд, словно тысячи проколов в тот мир, где еще пылает солнце, грохочет нетронутая тишина, и белые облака поднимаются от подножья черного неба в бесконечность, как высокие горы пара… И вдруг — штыки, залп. Взрыв зеленого пламени. Кренится земля, раздирая ситцевое небо. Пылью осыпаются бутафорские звезды. И все несется навстречу громадным горящим комом — весь мир, в огне и пепле. А потом медленно приходить в себя, врастая в жизнь, как обрубленный корень ивы в мокрый береговой ил. Неторопливо оживать, заново узнавать себя. Перемежая тяжелый, с провалами, сон долгими часами молчаливых разговоров с самим собою.
Может быть, еще останусь жить… Еще на много лет. Главное — продержаться, не выдать себя неосторожным словом, жестом. Не притворяться, а быть тем, другим человеком… Уже светает. Скоро за мной придут. Солома пахнет человеческим потом, гнилой и сухой травой. Они не учли этого — бросили ее в камеру, затоптали грязными сапогами, но запах вольного поля живет среди камней. В нем дым костра, сочный хруст косы, память о гнезде жаворонка в ложбинке между двух мохнатых кочек…»
От звенящей птичьей песни из детства память идет к пыльным городским мостовым. Сплетаются, накладываются друг на друга дороги, раздвинутой пятерней уходят в разные стороны. Ноги истерты портянками. Конский храп. Облитые карболкой теплушки. Наташа… Ее любовь…
Он спит, уткнувшись лицом в вонючую солому. На осклизлых стенах камеры первый рассвет стекает с кирпичей по зеленой пленке гнилой плесени. На параше сидит крыса и принюхивается к тишине, в которой только для спящего в углу человека заливается все тот же жаворонок, ветер несет перекати-поле, призывно ржут застоявшиеся кони, и друзья-товарищи в скрипящих кожанках греют ладонями медные эфесы клинков, отбитых этой ночью по-крестьянски на обломках оселков верными ординарцами, словно косы перед выходом в утренний луг…
Утром Андрей забарабанил кулаками в дверь. Он решительно потребовал, чтобы его провели к полковнику. Через некоторое время в подвал спустился дежурный офицер.
— Мне надо срочно видеть господина Пясецкого, — сказал Андрей. — Я должен ему сообщить… Только одному полковнику! Важнейшее дело!
— Следуйте за мной, — коротко проговорил офицер.
В кабинете полковника были сдвинуты с окон все шторы. В раскрытых створках рам виднелся утренний город. Солнце лежало на ковре, отчего узоры казались особенно яркими и пестрыми. В его дымных лучах плавали медовые пылинки. Во дворе стояла свежая утренняя тишина. На подоконнике прыгали воробьи, с азартом выклевывали из трещин дерева крошки хлеба, насыпанные полковником, который внимательно, с серьезным лицом, наблюдал за суетой пернатого народца. Фиолетов сидел у стола, он даже не повернулся в сторону вошедшего Андрея.
— Ты что-то хотел сообщить? — спросил полковник.
— Совершенно точно, — громко произнес Андрей. — Я знаю, кто убил Забулдыгу!
— Вот как? — удивленно сказал полковник и, поставив локти на стол, положил подбородок на скрещенные пальцы.
— Не искушай судьбу, Блондин, — устало сказал Фиолетов. — Побойся бога.
— Знаешь точно? — сощурился полковник.
— Больше никто не мог… Он, гад!! Точно!!
— Кто именно? — с равнодушным видом задал вопрос полковник. — Фамилия? Адрес?
— Вот этого не знаю, — нахмурился Андрей. — Что мне неизвестно, то неизвестно, врать напрасно не буду. А убил Забулдыгу Джентльмен!
— Зачем? — полковник расцепил пальцы и чуть развел их в стороны, выражая недоумение.
— А чтоб обогатиться! — зло бросил Андрей — Деньгу нажить! Надоело, видать, нищим ходить! Да и время такое — воровством не проживешь!
— А убийством? — ухмыльнулся Фиолетов.
— Я ж вам, господин полковник, тогда не во всем признался, — продолжал Андрей. — Страшно было рассказывать все до конца. Да не поверили бы вы мне ни за что на свете. Я сейчас вот говорю, а у самого сердце от страха замирает: вдруг не поверите!! Господи…
— Хватит причитать, — оборвал полковник.
— Ведь как тогда произошло, когда Забулдыга появился? Он мне и Джентльмену что предложил? Да невероятное преступление! Да разве человеческую жизнь за деньги…
— Уведите его в подвал, — сердито сказал полковник. — Он мне надоел.
— Господин полковник! — почти закричал Андрей. — Дослушайте, ради бога! Забулдыга нам тогда сообщил… Мол, убил человека… Случайно… Открыл дверь, вошел, а тот в кресле сидит. Ну и стукнул ломиком. А у того человека альбомчик оказался. И снимочки там не простые. На извороте адресок и фамилия. Все они коммунисты. Смекаете, что за человек?
Полковник и Фиолетов молча уставились на Андрея, боясь остановить его вопросом.
— Вот и задумал Забулдыга торговлю людьми устроить. Ведь за каждого коммуниста восемь тысяч! Так газеты сулят, видел собственными глазами! Можно сказать, по этой причине и я у вас оказался, только мне не повезло.
— Забулдыге тоже, — не выдержал Фиолетов и замолк под взглядом полковника.
— Значит, — Андрей ближе наклонился к полковнику, — посылает Забулдыга фотокарточки, а вы ему в тайник денежки. Я эти денежки в зубы и к Забулдыге. Там этих снимочков — триста штук! Это же два миллиона четыреста тысяч рублей!!
— Кто убил Забулдыгу? — тихо спросил полковник. — Повтори!
— Джентльмен!
— Почему?
— А захотелось ему два миллиона и четыреста тысяч! Забулдыгу убил и повесил. Дом поджег. Остался я единственным человеком, который обо всем знает и при любом случае может продать его вместе с потрохами. Я ж его изучил как облупленного. Так перед глазами и стоит, гад. Вижу каждую его приметку. Издалека по походке определю!
— Ты тогда был с ним? — безразличным голосом спросил Фиолетов.
— Я к вам побежал, — от волнения Андрей даже приподнялся на стуле, — а он к нему! Забулдыга нам обоим назначил свидание на пять часов, а Джентльмен, видать, пришел в четыре. Смекаете? Он тут его и кончил.
— Альбом? — напомнил полковник.
— У него! — уверенно сказал Андрей. — Джентльмен человек торговый. Он сразу понял свою выгоду. А меня захотел с дороги убрать, как единственного свидетеля. Это он, точно, господин полковник. Его волчья повадка! Второй-то — Неудачник, мелкая шпана, как нитка за иголкой, одно слово, дурак, на такое дело не способный. А Джентльмен парень фартовый!
Пясецкий стукнул ладонью по столу и воскликнул.
— Облегчил душу! Сознался и помог нам! Похвально. Знаком ли тебе почерк негодяя?
— Джентльмен из бывших богатеев, — быстро проговорил Андрей. — Грамотный, но руки его не видал. Чего не пришлось видеть, то не пришлось. Врать не стану.
— Ну, может быть, — продолжал настойчиво полковник, — знакомые словечки и обороты? Прочитай и вспомни. — Он протянул Андрею лист бумаги, исписанный печатными буквами. — Не спеши… Читай!
— «Милостивый государь! — волнуясь начал Андрей. — Я надеюсь, что у вас было достаточно оснований убедиться в подлинности присланных фотографий. Они попали ко мне совершенно случайно вместе со шкатулкой. Меня совершенно не интересует политика, и я с одинаковым отвращением отношусь как к красным, так и к белым. Испытывая стеснительные денежные затруднения, а также сообразуясь с вашими объявлениями о награждении за выдачу адресов коммунистов, предлагаю некую коммерческую сделку на основе нашей личной совести и добропорядочности. Я регулярно буду высылать вам по почте определенное количество снимков, вы же — класть денежную сумму в обусловленное заранее место. Предупреждаю вас, сударь, что выслеживать меня вам не стоит, ибо при обнаружении малейшего подозрения данный альбом будет подвержен сожжению. В таком случае, я надеюсь, вы проиграете больше, чем выиграете. Мое уже старческое и немощное тело в любой момент готово проглотить точно отмеренную дозу смертельного яда.
В знак согласия вы завтра сунете деньги в буксы правого заднего колеса третьего вагона поезда номер шестнадцать. Дальнейшее изъятие подлежит моему усмотрению. Благополучием успеха будет моя следующая присылка очередной партии снимков. С глубоким уважением. Коммерсант».
Андрей, опустив письмо, посмотрел на хмурое лицо полковника:
— Это он, точно.
— Как видишь, — сказал Пясецкий, — коммерсант — человек предусмотрительный.
— Вы его проследите, — посоветовал Андрей. — Лягавых у вас хватит.
— Он на любой станции вынырнет из толпы и возьмет деньги, — зло проговорил Фиолетов. — Там лови его…
Полковник долго молчал, массируя мешки под глазами. Наконец посмотрел на Андрея.
— Мы ничего не знаем о вашем прежнем друге. Кроме его клички. Садитесь у стола и пишите. Приметы, связи. Возможные места жительства. А завтра с утра… Мы даем вам полную свободу действия — ищите на вокзалах, на базаре. Ходите, в конце концов, по квартирам. Но он должен быть найден. Большего не предпринимайте, если не хотите, чтобы повторилась ваша с ним последняя встреча. С сегодняшнего дня мы принимаем вас к себе на службу. Вы получите соответствующее денежное вознаграждение и необходимое удостоверение. Бумага и перо на столе.
Андрей поднялся со стула и бесшумно пересек кабинет по ковру. Он опустился в жесткое кресло полковника, осторожно взял в пальцы инкрустированную перламутром ручку и начал писать, низко склонившись над листом, старательно выводя буквы и от напряжения шевеля губами.
В кабинете было тихо. Полковник все так же задумчиво стоял возле пустых стульев, по-стариковски сгорбившись, вздернув широкие золотые погоны к розовым ушам. Фиолетов неподвижно смотрел в раскрытое окно.
Андрей не мог не обратить внимание на то, что полковник впервые сказал ему «вы». Является ли это предзнаменованием новых больших перемен? Возможно, вместе с соответствующим обещанным денежным вознаграждением и необходимым удостоверением бывший вор по кличке Блондин приобретает права на подлинную фамилию, человеческое достоинство и доверие других?
И как бы подтверждая мелькнувшие в голове Андрея мысли, поручик повернулся к нему.
— Федор Павлович, — проговорил Фиолетов. — Закончите писать и прошу зайти ко мне. Некоторые формальности, не больше.
Спустя час они вышли из «Паласа» вдвоем — оба небритые, сонные, медленно побрели по еще пустынным тротуарам. Солнце начинало накалять воздух. В тени домов стояла прохлада. Под ногами хрустели съежившиеся коробочки сухих листьев.
— Куда вы сейчас? — спросил Фиолетов.
— Есть у меня тут одна знакомая, — неопределенно ответил Андрей. — Случайно встретил. Сдает комнату.
— Она знает, кто вы такой? — поинтересовался поручик.
— Нет. Зачем ей это? — засмеялся Андрей. — Я для нее обычный человек. Пахан у нее очень строгий.
— Адрес придется сообщить, — сказал Фиолетов. — А ту вашу торговку краденым увезли в сумасшедший дом. Безнадежна совсем. Мы ее допрашивали. Свихнулась на почве любви. Что может быть более странным этого в наше время?
— Видели бы вы живого Забулдыгу, — буркнул Андрей.
— Есть гораздо важнее причины туда попасть, — весело перебил Фиолетов. — Например, хроническое отсутствие денег.
Поручик беззаботно засвистел, с любопытством поглядывая по сторонам.
— На свете много разных способов достать их, — равнодушно сказал Андрей.
— Конечно, — согласился поручик. — Но я предпочитаю самый верный — преданная служба: это бесценный капитал в рассрочку! Господи, как утомился. Ночь не сомкнул глаз. Те двое арестованных с электростанции… Устал. Сегодня крепко напьюсь, чтобы хоть на вечер забыться и отдохнуть. — Фиолетов кивнул на широкие витрины ресторана, закрытые опущенными жалюзи. — Вот мой ноев ковчег.
На площади они расстались, Фиолетов небрежно козырнул и зашагал вдоль домов развинченной походкой кавалериста и фланера.
Андрей повернул за угол и долго ходил по улицам, проверяя, не следят ли за ним. Город проснулся как-то сразу — еще час назад царила тишина и по безлюдным улицам прыгали воробьи, а вот уже несутся по булыжной мостовой грохочущие телеги, народ запрудил переулки, ведущие к базару, на площади послышались топот солдатских сапог и звуки духового оркестра. От движения пыль поднялась с дорог и деревьев, пронизанный солнцем воздух сделался мутным, желтым и горячим. В одном из просветов улицы мелькнул базар — разливное море голов. Оттуда дохнуло сплошным ревом возбужденных голосов. Обожженные засухой высокие акации стояли голые, земля под ними была вся устлана коричневыми дольками листьев.
Глава 11
Лев Спиридонович Курилев сидел у дальнего столика кафе «Фалькони» и с благодушием удачливого коммерсанта попивал кофе со сливками.
Андрей подошел к нему и увидел, как радостно дрогнуло лицо подпольщика.
— Ты жив, родной?! — пробормотал он, опуская счастливо вспыхнувший взгляд к блюдечку.
— И, думаю, надолго, — улыбнулся Андрей.
— Прекрасное занятие, — одобрительно буркнул Лев Спиридонович. — Что с тобой? Господи, во что они тебя превратили, мальчик. Краше в гроб кладут.
— Со мной это у них не выйдет. — Андрей сел за столик и потер воспаленные от бессонной ночи глаза. Он провел ладонью по колкой щетине и покачал головой: — Да, вид, наверно, непривлекательный… Пожалуйста, выслушайте меня внимательно.
Андрей коротко доложил о последних событиях. Курилев ложечкой ковырял свое пирожное, слизывая с кончика сладкий крем. Солнце палило сквозь листву дикого винограда, и на каменном полу веранды лежали дымные узоры.
— …Я, естественно, описал контрразведке не точные приметы Джентльмена. По моим данным им будет очень трудно найти вора, — закончил Андрей. — Вам же предлагаю — правильные. Вы сообщите эти данные как можно большему количеству верных людей.
— Ясно, — задумчиво протянул Лев Спиридонович, — значит, по-прежнему над подпольем висит топор. Продажа людей. Одна голова — восемь тысяч. Фирма… Трудно поверить. Какое изощренное негодяйство. Я догадывался, почему совершенно неожиданно двое наших товарищей с электростанции арестованы, но точно все-таки не знал.
— Я видел их, — сказал Андрей. — Они обречены. Помочь я бессилен. Аресты будут продолжаться, пока мы не завладеем альбомом.
— Значит, будут продолжаться расстрелы, — с горечью прошептал Лев Спиридонович. — У нас достаточно разветвленное подполье. Есть склады оружия, но мы скованы по рукам и ногам этой совершенно нелепой историей с альбомом.
— Не так уж она нелепа, — усмехнулся Андрей. — Первоначальные ошибки порождают будущие неудачи. Так мы вчера прозевали Лещинского, а сегодня, может быть, стоим на грани разгрома всей организации. Все взаимосвязано. Альбом пущен по рукам, и каждое перемещение его от сволочи к негодяю будет означать для нас новые провалы и
расстрелы. Эстафета смерти. Не имеет значения, что эти негодяи — воры, спекулянты, контрразведка… Объявлена охота за черепами, и гон начался.
— Да, — согласился Лев Спиридонович, — необходимо понимать масштабы опасности. Положение… Между прочим, о девушке, которую ты тогда прислал ко мне…
— Она появляется здесь? — настороженно вскинул голову Андрей.
— Она мне понравилась, — уклончиво произнес Лев Спиридонович.
— Мне она тоже нравится, — сухо возразил Андрей.
— Насколько я понимаю, ее фотографии в альбоме нет?
— Вы что-то поручили ей? — со злостью спросил Андрей.
— Разве ты в ней не уверен?
— Как вы отважились подвергнуть риску ее жизнь? — вскипел Андрей. — Она еще совсем девчонка!
— Она нам очень нужна, — миролюбиво сказал Курилев. Андрей стиснул пальцы, отчужденно посмотрел на сидящего напротив него человека.
— Простите… Я имею право жить какое-то время, беспокоясь только о работе? Теперь у меня сердце не на месте.
— Ты любишь ее, — догадался Лев Спиридонович и задумался. — Понимаешь, она сама напросилась. Хотя ты прав. Я учту твои слова.
Андрей расцепил пальцы и потянулся к пачке папирос, выбрав одну, с наслаждением понюхал табак и продул мундштук.
— Лев Спиридонович, вы в коммерции собаку съели. Скажите, какие сейчас возможны законные пути доставания денег?
— Крупная сумма?
— Средняя. Но довольно солидная.
— И законно?
— Да.
— Таких путей нет, — решительно сказал Курилев. — Все, что делается у деникинцев, все противозаконно и пахнет уголовщиной.
— Это по нашим законам, — улыбнулся Андрей.
— А по ихним, — Лев Спиридонович загнул палец, — спекуляция… шантаж… ростовщичество… Мало? Воровство и бандитизм…
— А если серьезно?
— Пожалуй, самое распространенное — это спекуляция на поставках армии. В армейский котел гонят все — гнилые сапоги, лапти, английские шинели, прелое зерно…
— Что мне необходимо, если я захочу продать армии… Ну, допустим, пять вагонов лаптей?
— В первую очередь, — сразу ответил Курилев, — официальное должностное лицо, которое сможет вас рекомендовать военному интендантству. Так сказать, уважаемый поручитель.
— Что от меня имеет данное лицо?
— Комиссионные.
— Большие?
— Жить можно.
— Если данным лицом будет офицер контрразведки?
— Бог мой… Об этом можно только мечтать.
— Что вы можете предложить интендантству как преуспевающий коммерсант?
Курилев на несколько минут ушел в молчаливые вычисления.
— Я торгую кофе… У меня есть связь с контрабандой… Турецкий кофе отличного качества…
— Тогда договорились, — сказал Андрей. — Будете сегодня вечером в ресторане на Павловской площади. Познакомлю лично с офицером контрразведки поручиком Фиолетовым. Чем черт не шутит, а?
Лев Спиридонович склонил голову в знак согласия. Андрей поднялся из-за столика.
— Мне пора. Итак — жду в ресторане, Лев Спиридонович.
— Всего, Андрюшка, — попрощался глазами Курилев. — Будь осторожным.
— Свободно? — сразу подскочил к Льву Спиридоновичу хлыщеватый молодой человек в соломенной канотье. Оглянувшись по сторонам, доверительно наклонился и зашептал: — Разрешите представиться? Коммерсант Пшибевский. Имею прекрасную партию хрома. Я знаю, с кем говорю. Моя кожа — ваши подошвы. Обуваем армию Деникина!
— Мерси, — холодно проговорил Лев Спиридонович. Молча отсчитал деньги за кофе и положил на край стола. Вежливо приподнял шляпу. — Бон жур!
— Жмот! — бросил ему вслед коммерсант Пшибевский и смел в ладонь оставленные деньги.
Андрей почти бегом взлетел на третий этаж. Не нажал на кнопку звонка, а застучал кулаками. Дверь распахнулась. Растерянная Наташа остановилась в проеме, испуганно глядя на тяжело дышащего худого человека с глубоко ввалившимися глазами.
— Ты… — сказала она и заплакала.
— Вот тебе на, — грубовато засмеялся Андрей, обнимая ее за плечи. — Разве так радуются?
В коридоре показался старик — отец Наташи. Он сердито закричал:
— Наталья! Ты ведешь себя недопустимо! Стыдись!
— Ах, оставьте, папа, — прошептала она, улыбаясь сквозь слезы. — Видите, он вернулся.
Старик презрительно оглядел Андрея — его измятую грязную рубашку, пиджак с оторванными пуговицами.
— Надеюсь, — сухо проговорил он, — вам удалось выпутаться из той подозрительной истории?
— Даже очень удачно, — вежливо ответил Андрей.
— У вас документы в порядке?
— В идеальном, — весело бросил Андрей.
Старик демонстративно повернулся спиной и ушел в свою комнату. Андрей покрутил головой и вздохнул:
— Не любит… Что я ему сделал?
— Отнял меня.
— Богу богово, кесарю кесарево.
— Ты забываешь, что он только отец.
— Хочешь, я ему скажу, что я твой муж?
— Ты с ума сошел?
— Не возражаю… С того момента, как увидел тебя!
— Ты страшно похудел…
— Сидел на диете…
— Тебя били?
— О чем ты?
— Я поцелую тебя.
— Я за этим и пришел.
— Теперь уйдешь?
— Мне надо еще кое-что сказать.
— Говори.
— Я люблю тебя.
— Тебя здесь давно ждут. Входи…
Он переступил через порог, открыл дверь в комнату Наташи. Ударило в глаза светом из распахнутого окна, белизной кровати с никелированными шарами. Пахнуло натертым воском полами, ромашкой и теплым деревом мебели.
Андрей опустился в кресло и вытянул ноги. Он вздохнул глубоко, с облегчением, прислонил затылок к мягкой спинке. Наташа двигалась бесшумно, чуть позванивая посудой. Андрей смежил веки и не почувствовал, как заснул, привалившись к ручке кресла, дыша ровно и тихо.
Вечером Андрей был в ресторане. Выпив, он в расстегнутом пиджаке и сдвинутом набок галстуке бродил между столиков, пытаясь найти знакомых. Его толкали, перед ним извинялись, он раскланивался, натыкаясь на официантов.
Фиолетов увидел Андрея и весело закричал от своего стола:
— Явился?! Жук древесный! Ну садись! Пей! — поручик пьяно шатался, упавшие на лоб волосы мотались по лбу, покрытому испариной. — Знакомься… Называй, как угодно, — Фифа, Лека, Лика…
— Лека, Лека! — с хохотом представилась пышная блондинка с фальшивыми драгоценностями на глубоко обнаженной.
— Я… Я гуляю, — Андрей резким движением руки чуть не опрокинул бутылку. — Жизнь продолжается, господин поручик… Мы еще покажем себя.
Ему налили водки, он выпил со всеми, закурил душистую папироску, окутываясь дымком.
Вспотевший красный тапер гремел на рояле, колотя по клавишам ломкими пальцами. На крошечной эстраде извивались танцоры, лихо выбивая чечетку на прогибающихся досках. Сновали официанты, балансируя с подносами над головами сидящих. Из кухни валил чад, смешиваясь в зале с запахом пудры и духов.
— Боже ты мой, — воскликнул Андрей, — как живут люди.
— Это не люди, — хохочет Фиолетов. — Это отбросы. Это все — помойка. Дорогая, красивая помойка.
— Поручик, — Лека грозит пальчиком. — Бесстыдник…
— Вы цветок среди дерьма, — Фиолетов на лету поймал ее ручку. — Вы Фифа.
— Лека…
— Нет, Фифа!
— Мы будем употреблять вас на десерт, — пьяно кричит Фиолетов. — Официант! Не вижу десертных ножей. Как яблоко. Сначала кожуру… Белую шкуру… Нежную кожицу… Ты с кем раскланиваешься, Блондин? На кого смотришь?
— Солидный человек, — объясняет Андрей. — Такие дела проворачивает.
— А он может за нас заплатить? — Фиолетов стучит кулаком по столу, глаза у него воспаленные и злые.
— Он, если захочет, весь ресторан купит!
— Зови! — командует поручик.
Андрей подходит к столику у окна и говорит Льву Спиридоновичу, который невозмутимо доедает отбивную:
— Господин поручик приглашает вас к себе в компанию. Не откажите в любезности, господин Курилев. Всенижайше просим.
— Что ему от меня надо? — громко спрашивает коммерсант.
— Только ваше любезное присутствие, — кланяется Андрей. Лев Спиридонович долго соображал, жуя челюстями, потом бросил на стол накрахмаленную салфетку и тяжело поднялся. Он подошел к Фиолетову и, коротко кивнув, сказал солидным баском:
— Прошу любить и жаловать: ваш покорный слуга… Лев Спиридонович. Коммерсант.
— Садитесь, — вежливо пригласил поручик. — Поскучайте с нами, Лев Спиридонович. Откуда вы знаете моего… товарища?
— Его? — Курилев равнодушным взглядом скользнул по Андрею. — По роду должности мне приходится сталкиваться со многими людьми. Самого различного сорта. Возможно, встречались. Не помню.
Он остановил руку поручика, наливающего полный, до краев, бокал.
— Господа, я должен перед вами извиниться. Я не располагаю большим временем. Через полтора часа меня ожидает деловое свидание с генерал-интендантом Кириллом Юрьевичем Смирновым.
— Самый неумолимый генерал из всех интендантов мира, — сказал Фиолетов.
— Неподкупный рыцарь, — кивнул головой коммерсант.
— Когда-нибудь он вас вздернет на телеграфном столбе, — пообещал поручик. — Как того купца, что вздумал подсунуть ему гнилые сапоги.
— Общение с Кириллом Юрьевичем ко многому обязывает, — важно проговорил Курилев. — Мы работаем с солидными поручителями.
— По какому принципу вы их выбираете? — заинтересовался поручик.
— Поручитель, или, по-иному, посредник, — Лев Спиридонович отпил глоток вина и поставил бокал на край стола, — получает, как правило, довольно крупные комиссионные. Мы заинтересованы, чтобы он был безупречен. Бедные, простите, не очень хорошо материально обеспеченные офицеры весьма дорожат своей служебной и личной репутацией. Это их единственный, но верный капитал. Мы ставим на него. И в редком случае проигрываем. Чаще обе стороны имеют полное удовлетворение. Нам нет смысла подсовывать залежалый товар. Мы рассчитываем на продолжительные торговые взаимоотношения.
— Вы хотите сказать, что прикрываете свои махинации честными именами боевых офицеров?
— Мы подкрепляем честные коммерческие сделки государственной совестью неподкупных воинов, — сухо возразил Курилев. — В торговле слишком много развелось всякой дряни. Власти должны знать, с кем иметь им дело.
— Небось, лезут к вам всякие пфендрики? — презрительно фыркнул поручик.
— Я о себе скромно умолчу, — потупил голову коммерсант. — Но на этой неделе поручителем одного моего коллеги был господин генерал-губернатор. Речь идет о поставке армии метел.
— Что?! — Фиолетов протрезвел. — Метел?!
— Представьте себе, — развел руками Курилев. — Можете проверить. Вагоны стоят на седьмом пути…
— Черт знает что, — прошептал потрясенный Фиолетов.
— Метелки! — заливисто хохотнула блондинка. — Прелестно!
— Цыц! — Фиолетов сверкнул на нее глазами и резко повернулся к Льву Спиридоновичу всем корпусом. — А между прочим, я могу это проверить… Вы знаете меня?
— Извините, первый раз вижу, — холодно сообщил коммерсант. Он колыхнул в бокале вино. — Ваше здоровье, мадмуазель.
— У генерал-губернатора могут быть из-за вас большие неприятности, — серьезно проговорил Фиолетов.
— Вы так думаете? — поднял брови Курилев. — В таком случае они могут возникнуть у половины генерального штаба. Вы считаете, что активная помощь в снабжении армии всем самым необходимым является нарушением служебного долга?
— Черт подери! — выругался поручик. — Так почему же отлетают на второй день солдатские подметки и разваливается конская сбруя?
— Потому что, — веско сказал Курилев, — определенные организации сквозь пальцы смотрят на недобросовестных проходимцев… Которые Христа продадут и еще торговаться станут.
— Бить их надо, — зло бросил Андрей. — Он поставил локти на стол и наклонился к коммерсанту. — Лев Спиридонович, займите нужную сумму… Ей-богу, с возвратом. Вот тебе крест…
— Перестань! — оборвал его поручик.
— Принципиально не даю в долг, — засмеялся Курилев. — Нет ничего труднее — богу молиться, родителей почитать да долги отдавать.
— Не очень много, — взмолился Андрей.
— Не уговаривайте, — закрылся ладонью Курилев. — По долги, не по грибы… Или, как у нас говорят: долги собирать, что по миру идти: бери что дают, да еще кланяйся… Я лучше, господа, уплачу за ваш стол. В знак доброго знакомства. Официант!
— Не беспокойтесь, — перебил его Фиолетов. Он задумался, чиркая кончиком ножа по скатерти. — Лев Спиридонович, не могли бы вы завтра уделить мне минуты две?
— С удовольствием, — Курилев поднялся на ноги. — Я обедаю в кафе «Фалькони» в три часа. А сейчас, господа, я удаляюсь. Коммерция требует точности.
Фиолетов звякнул под столом шпорами и опустил голову, сверкнув набриолиненными волосами.
Курилев поклонился и пошел к выходу, на ходу бросив деньги на свой столик. Андрей с восхищением посмотрел ему вслед:
— Вот это мужик!
Поручик трезво улыбнулся и налил всем из графинчика:
— Ай да наш генерал-губернатор! Древний дворянский род. Метелки?!
— Жить-то надо, — вдохнул Андрей.
— Да, — весело согласился Фиолетов. — Жить чертовски хочется. Но не собакой. Человек без денег — хуже собаки. Выпьем за жизнь!
— И за любовь! За любовь! — подхватила блондинка.
— Фифа! — пьянея, закричал Андрей. — За господина поручика! До дна-а!
— Шампанского! — поручик выплеснул за спину водку. Бледный, поднялся за столом, глазами выискивая официанта. — Человек! Шампанского, живо-о!
Андрей показал Курилеву на крайний столик у зеленой стены винограда, а сам пошел в соседнее помещение. Устроился поудобнее: заказал стакан холодного молока и пирожное, бросил перед собой пачку папирос.
Спокойный голос Курилева проговорил из-за виноградных стеблей:
— Идет…
Пригубливая маленькими глотками молоко, Андрей смотрел, как по ступеням поднимаются посетители, рассаживаются в плетеных креслах. На веранде было прохладно от листвы виноградных лоз и политых водой каменных плит пола, а там, на улице, жаркое марево колыхалось над раскаленным булыжником.
Назавтра Андрей встретился со Львом Спиридоновичем на улице. Пошли рядом, стараясь говорить, не поворачивая головы друг к другу.
— Разорил он меня, — пожаловался Курилев. — Знаешь, сколько я ему сунул? Уму непостижимо. Полный баульчик. А еще надо дать всяким интендантским сошкам… Каждый лапу протягивает.
— Вы, спекулянты, три шкуры дерете, — ответил Андрей. — В накладе не останетесь.
— Господи! — ужаснулся Курилев. — В накладе? Да ты знаешь эти цены? Караул кричать хочется! Эти деньги должны пойти в партийную кассу. У нас кругом дырки — семьям арестованных помочь надо? Надо! Передачи в тюрьму? На подкуп надзирателей! А оружие?! А мы их в пасть контрразведчику. На, милый, жри. Проматывай их по ресторанам! Транжирь на девок!
— Все окупится, Лев Спиридонович, — сказал Андрей и передал ему несколько исписанных листков.
— Здесь приметы и возможные адреса тех воров — Джентльмена и Неудачника. Пусть ваши люди включатся в поиск. Учтите, что и контрразведка занимается тем же. Сейчас самое главное — во что бы то ни стало первыми напасть на след альбома.
— Нам бы их фотографии, — сказал Курилев.
— Их нет даже в контрразведке. Когда белые вошли в город, уголовники сожгли тюремный архив. Поэтому я так ценен для полковника. Предлагаю следить за базарами. Они могут появиться на вокзалах. Возможно, прячутся на каких-то воровских квартирах.
— Что предпринимаешь ты?
— Хожу по городу, — усмехнулся Андрей. — Я думаю, они попытаются избавиться от меня. Я им особенно опасен. Они это понимают.
— Мы можем подстраховать тебя, — предложил Курилев. — У нас найдутся лихие парни.
— Не стоит, — отказался Андрей. — Больше людей — больше неожиданностей. Здесь мы расстаемся. Быстрее проворачивайте кофейное дело.
— Завтра. До свидания. Будь осторожен.
Лев Спиридонович свернул в переулок.
Глава 12
Громадное, закопченное дымами паровозов здание вокзала гудело от голосов и топота ног. Тысячи людей бесконечным потоком бежали по лестницам, волочили мешки, тащили какие-то сундуки, обитые полосами белой жести. Многие вповалку лежали на деревянных лавках и на полу. Длинные очереди вились к будке с холодной и горячей водой. Дежурный по вокзалу что-то кричал, сложив ковшом кисти рук у рта, в человеческое поле, устилающее сплошным ковром все переходы, комнаты и зал, вдруг начинало шевелиться, словно растревоженный муравейник. Одни бросались к дверям, ведущим на перрон, другие начинали бессмысленно метаться в разные стороны. Раздавался плач детей, вопли придавленных, крики…
— Ни в коем случае не брать, — давал последние указания Фиолетов.
Они стояли в тесной комнатушке дежурного — поручик и несколько агентов, среди которых был и Андрей.
— Арестуем потом. А сейчас выследить того, кто возьмет деньги из буксы. Запомнить его приметы. И, главное, узнать, где он живет, с кем встречается.
Андрей внимательно приглядывался к окружающим его людям. Это были неприметные личности, одетые в солдатские шинели, зипуны. В разбитых сапогах и веревочных лаптях, небритые, они держали в руках мешки и свертки, толпились возле Фиолетова, пряча в рукавах незажженные цигарки.
— С богом, — сказал поручик. — Идите!
Андрей вышел последним. Он бродил по перрону, переступая через груды чемоданов, проталкиваясь за спинами толпящихся у рельсов. Вот людская река взволновалась, она волной выхлестнулась от стен вокзала. Раздался долгий паровозный гудок, и зеленые пассажирские вагоны, вперемешку с рыжими товарными, застучали колесами, подкатили к перрону. Они еще не успели остановиться, как сотни рук потянулись к поручням, в окнах замельками возбужденные лица, а по жестяным крышам побежали фигуры, волоча за собой тяжелые корзины, ящики и баулы.
Андрея словно подхватило водоворотом, он ничего не видел и не слышал, кроме оскаленных ртов, потных затылков, бабьих платков и криков. Над ним проплывали чемоданы, из распоротых мешков сыпалась едкая соль, вываливались какие-то тряпки.
Третий вагон оказался в стороне. Работая локтями, с трудом вырываясь из жарких тисков взбудораженной толпы, Андрей бросился туда. Это был пассажирский. Обвешанный гирляндами людей, штурмующих его двери и окна, с крышей, напоминающей остров, на который высадился экипаж потонувшего корабля, вагон, казалось, рухнет под тяжестью человеческих тел. Пробиться к буксе заднего колеса было просто невозможно, там, у входа, бушевало настоящее побоище. Взлетали кулаки, кто-то плакал навзрыд.
Паровоз несколько раз прокричал и дернул состав. Звон буферов прокатился по перрону. Крики и шум усилились. Вагоны медленно покатились по рельсам, срываясь с подножек, падали люди и чемоданы. Оставшиеся тяжелой толпой бежали следом, грозя и проклиная все на свете.
Андрей вырвался к стене вокзала, прижался к ней спиной, почти с ужасом смотрел на это обезумевшее от отчаяния стадо.
«Вот оно, — подумал он, — лучшее доказательство безнадежности положения белых. Это же не только мешочники. Бегут из города лавочники и богачи. Не в каретах и собственных „фордах“. На крышах пассажирских поездов и в вагонах для скота…»
Андрей вернулся в комнатушку дежурного по вокзалу. Фиолетов только посмотрел на него и опустил голову. Он сидел за столом, широко расставив локти, и мрачно смотрел на чернильные пятна, расползшиеся по старому сукну. Один за другим возвращались агенты. Они молча рассаживались по стульям, расставленным вдоль стен. Поручик морщился, нетерпеливо постукивая пальцами, и не смотрел ни на кого.
— Да там не приведи бог, — пробормотал кто-то, — чуть по стене не размазали. Мать моя родная!
Наконец раздался дребезжащий звонок телефона. Фиолетов схватил трубку.
— Да! Да! Поручик Фиолетов… Что?! Благодарю. До свидания.
Он повесил трубку и насмешливо оглядел сидящих перед ним людей.
— Итак, господа сыщики, — в голосе его были злость и презрение, — на полустанке проверили буксу. Она пуста. А ведь я сам, собственными руками, в депо положил туда сверток. Как это понимать?
Взгляд его остановился на Андрее, и тот, под молчаливое одобрение других, хмуро проговорил:
— Ничего так, господин поручик, не сделаем. Там же столпотворение вавилонское. Шут его знает, как гроши вытащили? Ума не приложу. Может, их там несколько человек. Схватить еще можно, но уследить? Ни в коем разе.
— Вам бы блох ловить, а не врагов отечества, — сердито сказал Фиолетов и вышел из комнатушки, громко хлопнув дверью.
Фиолетов пересекал площадь, когда возле него приостановился конный экипаж и на булыжник легко спрыгнул с подножки офицер в погонах капитана. Поручик когда-то встречался с ним, но сейчас никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах впервые увидел эти элегантно подстриженные усики, просоленные сединой, аккуратные бачки и острый дамский носик над пунцовыми губами.
— Не узнаете? — засмеялся капитан, по-товарищески чуть трогая Фиолетова за плечо. — Ну вспомните, вспомните… Да полковника Чудного вместе провожали на фронт. Господи боже мой, как мы тогда нахлебались!
— Здравствуйте, — поручик дернул руку к козырьку фуражки. — Весьма сожалею, капитан, но не имею времени. Служба.
— Чертова служба, — словно не замечая недружелюбных ноток в голосе Фиолетова, капитан подхватил его под локоть и зашагал рядом. — Нам бы с вами чаще встречаться. Творили, так сказать, общее дело, а личных взаимоотношений почти нет. А зря, господин поручик. Наши доблестные войска ведут ожесточенные сражения. Лучшие люди России погибают под пулями и штыками… бросая последний затухающий взгляд вперед — там Москва…
— Я знаком со сводками с фронта, — насмешливо проговорил Фиолетов. — В чем дело, капитан? Что за нравоучительный тон? К чему все это?
— Долг и честь любого офицера, — продолжал невозмутима капитан, — снабжать армию доброкачественными продуктами, амуницией и боеприпасами. Мы не можем отдать снабжение войск на откуп казнокрадам и спекулянтам. Нет более страшного преступления, чем грабить солдата и наживать целые состояния на махинациях и аферах.
— Ценю ваше искреннее возмущение, — сухо сказал Фиолетов, — но не вижу причины для таких откровений!
Капитан внимательно посмотрел на поручика и, расправив плечи, щелкнул каблуками.
— Имею честь… Капитан Переверзеев. Отдел снабжения при канцелярии его превосходительства генерал-интенданта Смирнова.
— Поручик Фиолетов, — небрежно произнес поручик и тонко улыбнулся. — Контрразведка.
Они медленно зашагали по улице, приглядываясь друг к другу, за ними, в отдалении, цокали копыта и тарахтел колесами конный экипаж с извозчиком на козлах.
— Вы еще недостаточно опытны в коммерческих делах, — неожиданно сказал капитан, — но, видимо, удачливы от рождения.
— Благодарю, — склонил голову поручик. — Чем обязан такому комплименту?
— Большая партия кофе — очень ценное для армии приобретение, — капитан сунул пальцы под ремень и подбоченился. Клинок неловко заколотился о его толстые икры.
«Ноги лавочника, — с раздражением подумал Фиолетов, смеривая взглядом низкорослого упитанного капитана в лихо, по-фронтовому заломленной фуражке. — Из бывших лабазников… Из грязи в князи…»
— …Кофе нынче дефицит. Отличный турецкий кофе — мечта офицера на передовой, когда с неба дождь, а в окопах слякоть. Кофе оторвут у нас с руками. Мы всячески поддерживаем людей, которые способствуют лучшему снабжению армии…
— Весьма польщен, — хмуро обрезал Фиолетов. — Надеюсь, что поручительство за уважаемого коммерсанта не есть караемое законом преступление?
— Мы не поощряем поручительства, — быстро ответил капитан, — но почему бы боевому офицеру и не заработать на комиссионных? Не так ли?
Фиолетов отчужденно промолчал. Капитан повернул к нему свое круглое, гладкое лицо:
— Небольшими партиями мы разослали кофе по следующим адресам: действующие части, генерал-губернатору… в штаб армии и лично самому главнокомандующему.
— Только не надо благодарностей, — холодно засмеялся Фиолетов и заслонился выставленными вперед ладонями.
— Их не будет, — спокойно сказал капитан. — Все кофе залито керосином. Каждый мешок. Весь вагон.
Фиолетов побледнел.
— Не может быть! Глупо шутите, капитан.
— Дело пахнет военно-полевым судом. Вас разжалуют в солдаты и сошлют на передовую. Или смертная казнь как мздоимцу и казнокраду.
— Надо доказать, господин капитан!
— Составлен акт.
— Залито керосином… Или просто порченая партия?
— Профессиональный интерес? — спросил капитан. — Бог его знает. Думаю, что этим могла бы заняться контрразведка.
Фиолетов остановился и, крепко взяв капитана за пуговицу, притянул к себе. Он тихо сказал:
— Вы думаете, что дело так безнадежно?
— О, помилуйте! — воскликнул капитан. — Безнадежных положений не существует, если положение в руках умных людей.
— Понимаю, — прошептал Фиолетов и не спеша окинул капитана взглядом с ног до головы.
Тот стоял в развязной позе, выпятив грудь с одной-единственной круглой медалью за русско-японскую войну девятьсот пятого года. Поручик знал, что на оборотной стороне ее выбиты слова, ставшие потом посмешищем всей России: «Да вознесет вас господь в свое время…»
«Ах ты ж Аника-воин! — с ненавистью подумал о нем Фиолетов. — Тыловая крыса. Это же надо, пройти шесть лет кровавой мясорубки и не заработать ни одной фитюльки. Гнус, И ты мне смеешь намекать?!»
— Послушайте… вы! — чеканя слова, с брезгливостью проговорил поручик. — Я — офицер разведки. Я вас… в порошок! Не сметь меня шантажировать!
— Для вас возможны неприятности, — растерялся капитан. — Я с искренней целью. Пока генерал-интенданту не сообщили об акте…
— Не все продается и покупается, любезный! — оборвал его поручик. — Вы в армии, а не за прилавком!
Фиолетов круто повернулся на каблуках и пошел назад. Поравнявшись с экипажем, он вскочил на подножку, упал на кожаные подушки и яростно закричал:
— Гони!
Извозчик, встрепенувшись, захлестал кнутом по спине лошади, бросившейся в галоп.
На одной из тихих улочек поручик приказал извозчику остановиться. Он вышел из коляски и пошел по узкому тротуарчику, взглядывая на номера двухэтажных кирпичных домиков с резными наличниками окон. Во дворе висели веревки с выстиранным бельем, бродили козы. Над дверями лепились размалеванные вывески различных мастерских, фотографий и парикмахерских.
Недавно, неделю назад, поручик был здесь, оформлял с коммерсантом Курилевым сделку по продаже армии партии кофе. Сейчас он с трудом нашел тот же приземистый домишко, на котором тогда висела позолоченная вывеска торговой фирмы. Фиолетов остановился от неожиданности, не увидев ее. Там, где она должна быть, темнело пятно и торчали ржавые гвозди.
Поручик забарабанил кулаком в дверь. Прошло минут пять, пока согнутая старостью старуха не открыла тяжелые створки. Распахнув их, не обращая внимания на возмущенные крики женщины, Фиолетов взбежал по деревянной лестнице на второй этаж и увидел две смежные пустые комнаты. На полу валялась скомканная бумага и лежали ивовые корзины, полные толстых конторских книг, прошнурованных по обрезу обложек. Венские гнутые стулья уже были покрыты пылью. На письменном столе стоял гипсовый бюст бога торговли Меркурия с отбитым носом.
Поручик быстрыми шагами прошел из комнаты в комнату. Он резко обернулся к вошедшей старухе.
— Где господин Курилев? Что это значит? Почему здесь такой ералаш?! Отвечайте!
Старуха с недоумением посмотрела на него и покачала головой:
— Господи, крика-то сколько… Да съехал господин Курилев. Расплатился сполна… Освободил помещения. Теперь сдаю внаем. Теплые помещения. Рамы двойные, новые…
— Куда он съехал? — неторопливо спросил Фиолетов.
— Да что я — полиция? — возмутилась старуха. — Я за чужими людьми следом не бегаю. У каждого свое дело. Нос не сую в чужие сундуки.
— Но, — уже тише проговорил поручик, — может быть, он вам говорил — куда, зачем? Слыхали кое-что краем уха?
— Ни ухом, ни глазом, — сердито перебила старуха. — Порядочный, всеми уважаемый человек. Чего я буду шпионить за ним? Он деньги платил исправно. Да и вы тут не первый раз, господин офицер. Я ведь помню, как вы здесь появлялись. Вместе с ним, с господином Курилевым! Чуть не в обнимку! Коньячок пили!
Глаза у старухи были злые, с ожесточенным блеском. В шамкающем рту торчали пеньки зубов. На тощей шее, как поршень, ходил кадык.
«Ну и ведьма, — подумал с отвращением поручик. — Она глупа… и всего боится… Черт с ней! Обвели меня вокруг пальца, сволочи спекулятивные…»
Фиолетов молча обошел старуху и застучал каблуками по ступеням лестницы. Он выбежал из домика и, щурясь от слепящего солнца, направился к извозчику.
«Но капитану меня на этом не взять, — думал поручик, устраиваясь на кожаных подушках. — Шантаж не получится! Ни копейки не дам. Акт составили… Пока я в контрразведке, ни один самый отъявленный негодяй из интендантов не посмеет бросить на меня косой взгляд… Залитый керосином кофе? Таинственное исчезновение коммерсанта Курилева? Это диверсия. И каждый, кто будет связан с таким делом, станет соучастником не уголовного, а политического преступления. А в наше время это чревато… Кто меня свел со спекулятивной шкурой?.. Когда это было?.. Да, в ресторане… Блондин!..»
Глава 13
Андрей возвращался домой. Он шел теми трущобами, которые окружают вокзал, — продымленные, закопченные здания словно вгрузли в землю. Расшатанные камни мостовых поросли травой. Казалось, что все эти кирпичные дома, полуразрушенные заборы и обвалившиеся сараи смешали в одну кучу, а потом вывалили вдоль пропахшей углем и паровозной гарью песчаной насыпи железной дороги. Здесь улицы не имели названий, а под жестяными колпаками редких фонарей торчали цоколи разбитых лампочек. В сточных канавах не высыхала грязь. Приземистые, покосившиеся, однообразно темные, с выкрошившимися углами и разбитыми стеклами в чердачных окнах рабочие бараки и ночлежки выстраивались в унылый лабиринт.
Вот уже какой день Андрей бродил по улицам и окраинам, заходил в пивнушки, толкался у ворот кустарных заводиков, разглядывал людей на пристанционном базаре.
Шел усталый, волоча ноги. Было темно. Луна, трудно пробиваясь сквозь тучи, сочила вялый зеленый свет. Он собирался на горбах булыжников, стоячими лужами натекал на раздавленные временем ступени крылец и плыл по слепым окнам.
Несколько раз Андрею чудилось, что за ним кто-то идет. Он прислушивался, но снова было тихо на пустынной улице, только далеко кричали лягушки, да на станции гремели буфера вагонов.
Когда проходил около ворот, створки их скрипнули, раздался шорох и прямо перед Андреем брызнул, расколовшись о стену, черный кирпич. Он отшатнулся в сторону, схватился руками за усыпанное осколками лицо. Раскрыв глаза, кинулся в деревянные ворота. Пересек двор. Подтянулся на руках и перевалил тело через забор. Впереди слышались торопливые шаги и частое дыхание. Они то удалялись, то Андрей почти хватал руками чью-то ускользавшую фигуру.
— Сто-о-ой! — закричал он.
Где-то злобно залаяла собака. Обливаясь потом и задыхаясь, Андрей прыгал в какие-то ямы, карабкался по склону. Ему в руки попался камень. Он швырнул его наугад в темноту. Там болезненно вскрикнули.
— Сто-о-ой!
Он забыл, что имел оружие. Ему казалось: тот человек рядом. Кругом стены. В крошечном мраке живое шевелящееся тело. Его не видно, но оно здесь.
— Пришью, сволочь, — сказал Андрей и, раскинув руки, пошел напрямую.
— Обожди… Стой, — послышалось из темноты.
— Выходи!
— Я все скажу… Не трогай меня.
— Ты кто?
— А не пришьешь? Твоя взяла… У меня нож. Слышишь? Лучше не трогай.
— Я тебя с ножом возьму… Вылезай!
— Уйди с дороги, не глотничай!
— Убежишь!
— Твоя взяла.
— Бросай перо!
Финка звякнула о камни. Андрей подобрал ее и, схватив человека за плечо, вытолкал его из сарая. Перед ним стоял оборванец.
— Ну, жиган, толкуй.
— Отпустишь?
— Там решим… Говори!
Оборванец опустился на землю, задрал штанину, осматривая расшибленное колено.
— Кто тебя подговорил? — не выдержал Андрей.
— Я его не знаю…
— Какой он из себя?
— Обыкновенный… Он мне тебя показал на улице.
— Хотел меня пришить?
— Сам понимаешь…
— Много за это получил?
— Э-э, — пренебрежительно хмыкнул оборванец, — задаток. Видать, жмот попался.
— Я тебе дам больше, — предложил Андрей. — За что?
— Покажешь того человека.
— Лягавого из меня делаешь?
— От одного раза не умрешь. А деньги дам не малые. И задаток получишь.
Оборванец долго молчал, потом с отчаянием махнул рукой:
— А-а, все равно жизнь в копеечку. Гони гроши. В субботу ожидай меня у вокзала. Там мы с ним встречаемся. Утром, как часы десять пробьют. Не забудь остальные гроши, а то шиш я тебе его покажу!
Андрей кинул ему в ноги пачку денег, насмешливо проговорил:
— Смотри же, не прогадай. Утром у вокзала.
И пошел от него, грея в ладони полированную рукоять финки.
Домой он пришел поздно. В маленькой комнатушке, которую ему выделила Наташа, торопливо переоделся, сменив засыпанную кирпичной пылью и разорванную рубашку. Наташа не входила, он слышал ее беспокойные шаги в коридоре и у дверей кухни.
— Есть теплая вода, — закричала она, тихонько постучав. — Будешь умываться?
— Обязательно! — бодрым голосом ответил Андрей. Он закатал рукава рубашки и с полотенцем через шею вышел в коридор. В темноте обнялись, и она зашептала на ухо:
— Господи, где ты бродишь? Каждый день… С утра до вечера… Ужин на столе…
Когда Андрей входил в столовую, он быстро спросил Наташу, увидев у стола только два стула:
— Что, отец опять бастует?
— У меня из-за него голова кружится, — пожаловалась Наташа. — Мне его жалко… Пойми, у него такой характер…
Андрей вышел в коридор и тихонько постучал в дверь.
— Да! — раздался голос.
— Никодим Сергеевич, Наташа уже подала на стол.
— Так что?
— Идите ужинать. Мы ждем вас.
— Я, надеюсь, пока еще хозяин этого дома? — ядовито спросил старик.
— Безусловно.
— Благодарю, — с ехидством воскликнул старик. — В таком случае, я позволю себе принимать пищу, когда захочу. Не приспосабливаясь к желаниям квартиранта. Всю жизнь я следовал порядку и закону. Я благонамеренный обыватель! Да-с! Закону и порядку! Мой дом — моя крепость. Да-c! Кстати, вы обязаны вносить квартирную плату за комнату.
— Простите, — сказал Андрей. — Я как-то сразу не догадался.
— Куда уж вам! — почти радостно закричал старик. — Это так трудно!
Андрей крутнул головой и пошел в столовую. Сел за стол и посмотрел на Наташу растерянными глазами.
— Ну что?
— Отказывается…
— Я принесу ему в комнату.
— Да, конечно, — пробормотал Андрей. — Иначе он еще умрет с голода. Какой уже день тянется его бойкот?
— Не беспокойся, — весело фыркнула Наташа. — Когда ты уходишь, он не вылезает из кухни. Я не успеваю ему подавать.
— Сколько же я должен платить за комнату? — задумался Андрей.
— А-а, — догадалась Наташа. — Это что-то новенькое. Квартплата?
— Может быть, мне в самом деле надо уйти от вас? — спросил Андрей. — Жили вы мирно и спокойно…
Она села напротив, подперла щеку кулаком и серьезно взглянула ему в глаза.
— Плохо жили… Тебя не было. Когда тебя нет — заканчивается жизнь.
— А когда я есть, ты меня не кормишь, — пожаловался он. Наташа краем ложки постучала о тарелку.
— Когда я ем, я глух и нем.
Подвинула жареную картошку, пристроилась у стола, положив подбородок на кулаки.
— А ты чего не ешь?
— Не хочется… Ты куда всегда уходишь, Андрюшка?
— Я? Да просто так…
— Ты совсем не умеешь притворяться.
— Да что ты? — ужаснулся он. — А мне всегда казалось, что я прекрасный актер.
— Ты весь как на раскрытой ладони, — вздохнула Наташа. — Я боюсь за тебя.
На столе пугливо трепетали огни трех свечей, по углам тускло отсвечивала старинная мебель, под потолком мерцали стекляшки люстры, а высокое венецианское окно столовой было до половины завешено марселевым одеялом.
— Это я тебя прячу, — улыбнулась Наташа, заметив его взгляд.
— Когда все это закончится? — сказал Андрей. — Ведь закончится когда-то… Вот тогда я тебя увезу в дремучий лес. Построим там избу на курьих ножках. Будет у нас ученый кот и граммофон с миллионом пластинок.
— Нет, наоборот, — покачала она головой. — Поедем в самый большой город и выберем самый шумный дом. Чтоб ходили день и ночь под окнами, хлопали дверями, смеялись…
— А чего? Это мысль, — согласился Андрей. — Предлагаю Москву.
Поручик Фиолетов поднимался по лестнице, чуть касаясь носками шпор мраморных ступеней. Он как бы медленно плыл между бронзовыми светильниками и картинами, висевшими на стенах. Свежевыглаженный мундир ловко облегал его высокую фигуру, косой пробор был безукоризнен, словно ото лба к затылку провели через полированную смоль волос белую полосу по линейке. Клинок висел прямо, не путаясь в ногах, надраенный его эфес зеркально блестел.
Поручик шел по вызову к полковнику, теряясь в догадках. Отношения с Пясецким все более обострялись, и Фиолетов никак не мог найти тому причину. Они явно не подходили друг другу ни характерами, ни образом жизни.
В последнее время полковник даже домой не ходил, ночевал здесь же, в маленькой комнате возле своего кабинета. Старый солдат, верный денщик еще с войны четырнадцатого года, поставил там походную кровать и умывальник. Пясецкий теперь не спускался в подвал. Он постарел. Контрразведка терпела неудачи — провалы агентов, разложение в тылу и поражения на фронтах ожесточили дух старика и ослабили его тело, но не сломили преданности присяге и ненависти к врагу. Теперь он был беспощаден ко всем, кто мешал ему выполнять присягу. Полковник страдал бессонницей. На ночь он читал толстые истории России из серии «Русская быль» или сочинения Валишевского с длинными названиями, вроде: «Дочь Петра. Императрица Елизавета. Полный перевод с французского А. Гретман. Снабженный подлинными письмами и дополнениями из архивных документов.» В глухой тишине гостиницы полковник шуршал страницами и желчь заливала его сердце, он чувствовал, как к голове приступала черная кровь, — книги писали о бесконечных бунтах черни, никчемности извращенных царей и вечной неблагодарности холопов.
А Фиолетов жил несложно, ценя удовольствия и комфорт. Он знал, что по своей натуре легкомыслен и жесток. Эти две черты уживались в его характере, не противореча одна другой. Он мог за вечер прокутить месячный оклад с незнакомыми офицерами. Ничего поручику не стоило ввязаться в пьяную драку, а потом с тоской ожидать — дойдет ли до начальства слух о неблаговидном поведении офицера контрразведки? Но всегда, пил ли он в самых подозрительных ресторанах, волочился ли за сомнительными женщинами или участвовал в дебоше, Фиолетов делал это с каким-то только, пожалуй, ему присущим беззлобным весельем, шутя и играючи. Друзья любили его за простоту, начальство все прощало изящному шалопаю, сердцееду и красавцу, вспоминая свои шалости в годы молодые и невозвратные. Поручик покорял всех белозубой улыбкой, блеском черных итальянских глаз, всегда оживленным выражением смуглого лица и неназойливой болтовней о веселом и приятном в этой жестокой и паскудной жизни.
— Но мало кто мог представить, что этот блестящий и несерьезный офицер, забияка, часами сидит в подвале, обросший щетиной, в расстегнутом кителе, беспрерывно куря, и молча кивает солдатам, взглядом показывая то на раскаленный прут, то на клещи или набор игл. Любимым его орудием был кнут, и часто, оставшись в одной исподней рубашке, он брал в руки бог весть где найденный старинный кнут тюремного палача и с силой взмахивал им над головой, со свистом рассекая воздух, От его резких ударов распятое на стене голое тело выгибалось дугой, рвалось на крючьях и вдруг, словно сломанное, опадало, повиснув белым мешком. Когда он бил кнутом, даже помощники-солдаты отворачивались или уходили в свой угол.
Об этой двойственности характера, которая, между прочим, не волновала самого Фиолетова, мало кто знал. Больше всего осведомлен о поручике был полковник. И он презирал его за порой бессмысленную жестокость и легкомыслие, недостойное воспитанного человека.
Поручик поднимался по мраморной лестнице, придерживая на боку клинок и мягко взлетая над ступенями. Чуть слышно, но приятно звякали шпоры и скрипела необмятая кожа сапог, кобуры и ремней портупеи. Фиолетов думал о взаимоотношениях с полковником, о неодинаковости их характеров и невозможности совместной работы до тех пор, пока он, поручик, не найдет пути сближения с этим заматеревшим в работе и ненависти стариком.
В коридоре одна из дверей приоткрылась, и женский голос позвал:
— Господин поручик, пожалуйста, зайдите на секунду.
— С удовольствием, Мария Семеновна! — воскликнул Фиолетов.
Он вошел в канцелярию, и его встретила смущенной улыбкой невысокая женщина в шелковом платье. Копна прекрасных волос башней возвышалась на ее голове. Волнуясь, женщина все время сжимала пальцы.
— Целую ручку! — весело продолжал поручик, с любовью разглядывая миловидное лицо женщины с нахмуренными от растерянности бровями. — Я так рад каждой встрече с вами. Вы для меня…
— Простите, — перебила его она, — вы направляетесь к полковнику?
— Совершенно верно. Я надеюсь…
— Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, — тихо сказала женщина. — Вы поймите… Идет страшная война. И на этом фоне всякие раздоры… Это все неприятно. Я вас уважаю… Мы так давно знаем друг друга и работаем вместе…
— В чем дело, Мария Семеновна? — засмеялся поручик. — Что слышат мои уши? Вы беспокоитесь обо мне? Сжалился бог!
— Перестаньте, — покраснела по уши Мария Семеновна. — Вы просто малый непослушный ребенок. Ну что вы еще натворили?
— Ума не приложу, — пожал плечами Фиолетов. — Яко ангел на небеси… Денег нет. А в чем, собственно, дело?
— Из штаба самого главнокомандующего получен запрос, — Мария Семеновна понизила голос. — Интересуются вами… Просят служебную характеристику и все остальное… Личные
знакомства и образ жизни.
— Зачем им это? — встревожился поручик. — Голубушка, Мария Семеновна, не скрывайте ни слова! Умоляю!
— Подумайте сами, — сердито ответила женщина, — всегда вы во что-нибудь попадаете…
— Как перед крестом…
— Ах полноте! Вечно у вас в голове женщины и кутежи…
Фиолетов посерьезнел:
— Я прошу вас, Мария Семеновна, во имя нашей дружбы…
— Были какие-то странные звонки, — прошептала женщина. — И были подметные письма… Все о каких-то ваших аферах и связи со спекулянтами. Я не верю ни единому слову, но господин полковник… Ваши с ним взаимоотношения…
— И только-то? — заулыбался Фиолетов и осторожно поднес ее руку к губам. — Благодарю. Сам факт вашего обо мне беспокойства… Я тронут до глубины души.
— Ну до чего же легкомысленны! — воскликнула Мария Семеновна. — Ведь запрос уже пришел! Из штаба самого главнокомандующего! Вы понимаете?
— Спасибо за ласку и жалость, — поручик у двери оглянулся и тихонько покачал головой. — Нет, сколько негодяев на свете…
Он вышел в коридор и замедлил шаги. Было тревожно. Мария Семеновна почти всегда одна из первых узнавала штабные новости. Фиолетову нравилась эта спокойная и добрая женщина, жена его бывшего товарища, который отпросился на передовую, не вынеся работы в контрразведке.
Поручик постучал в дверь и, пройдя по длинному ковру, остановился перед столом полковника.
— Садитесь, — сказал Пясецкий и подвинул раскрытую коробку папирос. — Курите, пожалуйста… Я вас вызвал по вопросу, который не имеет непосредственного отношения к служебным делам. Однако… кто определит грань, отделяющую службу от личной жизни, если мы имеем дело с офицером контрразведки?
Полковник медленно прошелся к окну и постоял возле него, словно собираясь с мыслями. Затем повернулся и начал размеренно и спокойно, но резко сдвинувшиеся брови и побежавшие по лбу морщины говорили о его внутренней напряженности.
— Из штаба главнокомандующего мы получили запрос о ваших служебных успехах, образе жизни, товарищах… В общем, как вы сами понимаете, обычные данные для личного дела. Возможно, идет перепроверка, какие-то уточнения.
— В прошлом году уже было нечто подобное, — проговорил Фиолетов.
— Совершенно верно, — кивнул головой Пясецкий, — но в этом году, господин поручик, есть кое-какие осложнения. Мною получены определенные письма… А также я имел честь говорить по телефону с неким человеком, не назвавшим своей фамилии…
— Я весь внимание, — вставил Фиолетов.
— Я рад, — фыркнул полковник. — Разговор шел о ваших махинациях и неблаговидных делишках. Упоминалась какая-то афера с вагоном кофе.
— Это были анонимные письма? — звенящим голосом спросил поручик.
— Да! — сказал полковник. — Анонимные письма… В ином случае мы бы с вами разговаривали не таким тоном. Мне очень неприятно, и я заранее прошу извинения. Звонки и письма. Невольно связываю с запросом штаба о вашем образе жизни. Как мне известно, за последнее время вы не отличались ангельским поведением. У вас скромный оклад офицера…
— Господин полковник, — Фиолетов поднялся со стула и сдвинул каблуки сапог. — Я был безупречен при выполнении ваших приказов. Если этого недостаточно, то проверьте меня фронтом.
— Вы меня не поняли, — хмуро произнес Пясецкий. — Конечно, я дам вам достойную характеристику, но… если я ошибусь? Главнокомандующий мне этого не забудет. Будьте со мной откровенны, поручик. Я могу простить определенные проступки, ведь я тоже человек… Я понимаю желания молодого и красивого офицера.
— Неблаговидных дел не совершал, — твердым голосом ответил поручик.
— Прекрасно, — усмехнулся полковник. — Может быть, вы хотите уйти из контрразведки… по состоянию здоровья?
— Я ни на что не жалуюсь, господин полковник.
— Так-с, — Пясецкий первый раз улыбнулся, — Я прошу запомнить… Никогда не прощу удара в спину. Кроме того, ненавижу казнокрадов! Если им станет один из моих офицеров, то его ожидает разжалование, военно-полевой суд и расстрел. В лучшем случае — каторжные работы!
Поручик стоял перед ним неподвижно, на посеревшем лице играли желваки. Тяжелым голосом он произнес:
— Разрешите идти?
— Подождите, — задержал его полковник движением руки и мягко спросил: — Юрий Лаврентьевич, вы читали сегодняшнюю сводку с фронта?
— Не успел, Альфред Георгиевич.
— Наши откатываются… Сдали Узловую. В этих условиях наш долг… — Пясецкий многозначительно поднял указательный палец.
— Кроме известного вам Блондина, — ответил поручик, — к поиску альбома и Джентльмена привлечены и другие агенты. Так, мы уже перетряхнули весь воровской мир города. На станции и перекрестках дорог — круглосуточные дежурства пикетов. Розданы приметы.
— Как вы думаете, кто берет деньги, которые мы оставляем в тайниках?
— Подставные лица, — сказал поручик. — Проследить их пока не удается. Но мы боимся действовать более решительно. Возможно, эти люди сами не догадываются, в какой игре участвуют. Стоит одного из них арестовать, и подлинный хозяин альбома с перепугу может свершить самое неожиданное — сжечь альбом, убежать из города, наконец, отравиться, как он обещал в своем письме.
— Да, — согласился полковник. — Тут необходим максимум осторожности, но нас не устраивают такие гомеопатические дозы, в каких поступают фотографии. Сообщите этому коммерсанту, что мы согласны на более высокую цену при условии увеличения количества фотографий. Поведите переговоры о покупке альбома целиком.
— Колоссальная сумма, — пробормотал Фиолетов.
— Чепуха! — обрезал полковник. — Деньги обесцениваются по мере приближения фронта. Вполне приемлемая сделка. Вы свободны.
Поручик повернулся кругом и молча вышел из кабинета. В приемной у стола дежурного офицера стояла с папками в руках Мария Семеновна. Она с беспокойством посмотрела на Фиолетова, и тот в ответ чуть заметно улыбнулся, однако на сердце у него было тяжело, и он чувствовал себя растерянным.
Глава 14
На пристанционной площади по камням мостовой цокали копыта ломовых лошадей, впряженных в громадные платформы на резиновом ходу, проносились быстрые дрожки. Широкие ступени вокзала были сплошь покрыты лежащими на них людьми, чемоданами и мешками. Под высокими, серыми от пыли тополями валялась грязная бумага, головешки, картофельные очистки. В сквере, у заброшенного мраморного фонтана, прохаживались дамы под руку с офицерами, спешили куда-то чиновники — отсюда начиналась главная улица города, и там, вдали за домами, виднелся громадный собор, как бы венчающий конец проспекта.
Андрей сидел на скамейке, забросив ногу за ногу и сдвинув кепку на затылок, подставляя лицо лучам солнца. Он с интересом смотрел, как тощий, небритый оборванец уныло бродит по аллее, вглядываясь в людей.
— Эй! — позвал Андрей.
Оборванец обернулся и с растерянным видом подошел к скамейке.
— Ты гляди, — удивленно проговорил он. — Усы… Бородка… Какой пан!
— Вот тебе деньги, — Андрей сунул ему стопку ассигнаций. — К хозяину подведешь и сматывайся на все четыре стороны. Меняй хату… Дело тут не уголовное. Я из контрразведки. Понял?
— Понатыкали вас по всем углам, — пробормотал оборванец. Он запахнул на груди рваный пиджак, с тоской отвернулся.
К подъезду вокзала вереницей катились коляски и запыленные дрожки. На ступенях ссорились мешочники. В голос кричали мальчишки, размахивая газетами, предлагая папиросы и холодную воду.
— Смотри, — тихо сказал оборванец. — Вон тот красавец…
— Где? — тревожно выпрямился Андрей.
— У колонны… Пижон с палочкой.
— Точно он?
— Ей-богу… Матерью клянусь…
— Тогда дуй туда, — бросил Андрей. — Живо…
Андрей поднялся со скамейки и пошел к вокзалу, стараясь быть незаметным среди толпы. Он вышел тому человеку за спину и прислонился к стене.
«Прекрасно сшитый костюм… Котелок… Трость с набалдашником… Кто бы это?»
Человек нетерпеливо поигрывал тростью, крутил головой и, наконец, обернулся.
Да, это был Джентльмен. Гладко выбритый, элегантный, с белым платочком в кармане. Он несколько раз прошелся взад-вперед, прикрывая глаза от солнца ладонью, посмотрел на вокзальные часы. Оборванец приблизился к Джентльмену. Тот стремительно шагнул к нему.
Андрей не слышал, о чем они говорили. Оборванец, видно, оправдывался. Джентльмен угрожающе крутил трость. Потом вынул из кармана портмоне и достал деньги. Оборванец сунул их в пиджак и, шаркая опорками, побрел от вокзала.
«И у этого заработал, — усмехнулся Андрей. — Лихой мужик…»
Джентльмен неторопливо зашагал по улице, останавливаясь у лотков, поторчал возле афиш.
Андрей следил за ним, не спуская из глаз ни на секунду. Так они оказались на узкой улице, стиснутой высокими кирпичными домами. Бесчисленные магазинчики и лавки тянулись в первых этажах. Их разнокалиберные вывески лепились над окнами неровным сплошным рядом из прыгающих букв и цветных пятен.
Джентльмен остановился и вытащил из кармана связку ключей. Тихонько звякнул колокольчик, раскрылась стеклянная дверь, пропуская человека, и захлопнулась за ним, снова простучав медным звоном…
Андрей поднял голову и прочитал серебряные буквы на красном фоне: РЕСТОРАН «ФОРТУНА».
«Черт, обнаглел совсем! Хотя почему? Его ищут во всех воровских притонах, а он здесь, почти в центре города. Конечно, под другой фамилией. Как поразительно изменился! Значит, сбылась его мечта: открыл ресторацию. Как покойный папаша. А где же Неудачник? Джентльмен не из тех, которые удачу делят пополам… Зайти, что ли? Ну его к шуту. Узнает…»
Проходя мимо, Андрей заглянул в окно. Он увидел сумрачный зал, сдвинутые столы и эстраду, обитую синим бархатом. В глубине ютился крошечный буфет, уставленный бутылками.
«Если бы знали люди, какой ценой куплено это благополучие!» — подумал Андрей. Он заметил приколотую с той стороны окна к узорной шторе небольшую записку:
«Ресторану „Фортуна“ требуются судомойка и опытный повар. Оплата по соглашению. Питание бесплатное».
В гостинице «Палас» Андрея встретил Фиолетов. Чем-то расстроенный, необычно нервный, офицер хмуро ответил на приветствие и повел к полковнику.
Пясецкий молча бросил взгляд на вошедших и указал на стулья. Сам, позванивая шпорами и заложив руки за спину, остановился у окна.
— Итак, господин поручик, — проговорил он глуховатым голосом. — Что и сколько вы прибавили к нашей уникальной коллекции?
— Еще два. — Фиолетов щелкнул каблуками и положил на стол тонкую папку.
— Еще два снимка! — полковник драматически вскинул над головой руки. — Только подумать — целых два!! Браво, Фиолетов!
— Господин полковник, — сдерживаясь, ответил поручик. — Я ничего не делаю без вашего одобрения.
— Но я вынужден одобрять! — взорвался полковник. — Ваши гениальные ходы имеют только один-единственный вариант — деньги! Деньги! Деньги!! В мире нет контрразведки, которая бы свои операции осуществляла лишь благодаря банкнотам!
— Но и без них, — вздохнул Фиолетов, — тоже не существует разведок.
— Существует! — яростно крикнул полковник.
Он отошел к столу, сел, оттопыренными пальцами сдерживая прыгающую жилку на впалом виске. Открыл ящик и веером швырнул фотографии.
— Вот… Любуйтесь. И еще две у вас? И за все платим звонкой монетой. У нас что, разведка или торговый дом «Фиолетов и К°»?!
— Я действовал согласно плану, который мы разработали вместе, господин полковник, — упрямо проговорил поручик.
— Над нами весь город смеется, — сердито выкрикнул Пясецкий. Он бросил гневный взгляд на Андрея. — Вы… Как вас там?
— Федор Павлович, — Андрей вскочил со стула.
— Федор Павлович… — насмешливо процедил Пясецкий. — Ишь ты! Докладывайте!
— Мною проверены базары. Вокзал. Пивные.
Полковник, не слушая, повернулся к поручику.
— Это так, — кивнул тот.
— Чушью занимаемся, — швырнул карандаш Пясецкнй. — Ловим муху рыболовной сетью. Черт знает что! Вся контрразведка поставлена в зависимость от негодяя! А он нас кормит по чайной ложке в день. Если еще вчера это нас устраивало, то сегодня… Время и обстоятельства круто меняются, господа!
— Мы пытались вести переговоры с хозяином альбома о приобретении большого количества снимков, — сказал Фиолетов.
— И что? — резко спросил полковник.
— Он понимает, что деньги обесцениваются, — тихо произнес поручик, — и требует золотом. Любыми драгоценностями из расчета восемь тысяч по стоимости на семнадцатый год. До этого он принимал от нас ассигнации, выпущенные его императорским величеством. При победе нашего оружия это будут единственные денежные знаки, обеспеченные достоянием государства.
— Теперь он не надеется на победу нашего оружия? — желчно усмехнулся полковник. — Какой негодяй… Хватит с ним возиться. Берите каждого, кто хоть в малейшей степени имеет отношение к этой истории. Разрешаю облавы и повальные аресты. Черт с ним, пусть травится или сжигает альбом! Разрешаю подключать другие отделы. Да…
Полковник замолчал и долго сидел, из-под нахмуренных бровей рассматривая поручика, выражение неуверенности блуждало по его лицу. Наконец он произнес:
— Как и предупреждал, я послал о вас пристойную характеристику, господин поручик. На это из штаба командующего за подписью начальника отдела снабжения получена мною довольно странная телеграмма. Читайте. Она лежит перед вами.
Фиолетов взял узкую полосу бумаги и пробежал глазами отпечатанную на машинке фразу:
«Ваше мнение не способствует делу и выяснению истины.
Полковник Шварц».
— Истина всегда способствовала делу, — тихо, но твердым голосом сказал Фиолетов и положил телеграмму на стол.
— Идите, — хмуро ответил полковник, поднимаясь из кресла, — и всегда об этом помните, господин поручик.
Отдел снабжения армии занимал двухэтажное здание купеческого особняка. Во дворе, окруженном бревенчатым забором, стояли конные фуры, дымила полевая кухня и бродили солдаты с кнутами, засунутыми за пояс, в сапогах, стоптанных по-мужицки. Пахло сеном, раструшенным по земле. В раскрытых воротах деревянных лабазов виднелись штабеля мешков. Со двора в особняк вела черная лестница — с побитыми ступенями и обшарпанными стенами.
Поручик Фиолетов бросил быстрый взгляд во двор, сразу прошел к парадному подъезду. Он поднялся на второй этаж, где в проемах между окон стояли зеркала в бронзовых рамах, а дубовый, хорошо натертый паркет блестел, точно покрытый ледяной пленкой.
Дежурный офицер указал кабинет капитана Переверзеева.
Фиолетов постучал и, услышав: «войдите!» — толкнул высокую, резного дерева дверь.
— Желаю здравствовать! — весело прогудел поручик и пошел к столу капитана, дружелюбно протягивая обе руки.
— Прошу, — довольно холодно ответил капитан и показал на старинный стул с высокой спинкой.
Они секунду сидели друг против друга, внимательно всматриваясь — один улыбающийся, безупречно выбритый, в мундире от лучшего портного, а другой — с толстой шеей и жирными щеками, молодящийся, с надменно поджатыми губами.
— Чем обязан? — наконец спросил капитан. — Если не ошибаюсь… поручик…
— Фиолетов, — без обиняков напомнил поручик. — Мы виделись не раз.
— Припоминаю, — неопределенно сказал капитан. — Чем обязан визиту?
— Я был тогда несколько груб и самонадеен, — чуть смущаясь, проговорил Фиолетов.
— Когда именно? — безжалостно спросил капитан.
— При нашей встрече, — ответил поручик, — когда вы намекали на мою довольно-таки неудачную операцию…
— Точнее, — с неумолимой твердостью предложил капитан.
— Операция с вагоном кофе, — голос Фиолетова не дрогнул. Он продолжал с невозмутимым видом: — Я был поручителем некоего коммерсанта Курилева.
— Ах да, да, — как бы вспоминая, проговорил капитан. — Коммерсант то был или еще кто, бог знает. Отравленный керосином кофе. Мы поставили партию самому главнокомандующему. Коммерсант бежал, не так ли?
— Вы правы, — первый раз отвел глаза от капитана Фиолетов. — По старому адресу его нет.
— Так в чем же дело, поручик? — нахмурившись, спросил капитан. — Вы хотите покрыть этого спекулянта?
— Нет, — помолчав, сказал поручик. — Меня беспокоит моя репутация. Я офицер, и мне дорога честь. Я офицер разведки.
— Не понимаю, — развел руками капитан. — Если мне память не изменяет, мы уже говорили по этому поводу… И тогда вас не волновала судьба вашей репутации.
— Я оказался слишком самоуверенным человеком, — улыбнулся поручик, — и был наказан.
— Весьма сожалею, — равнодушным голосом проговорил капитан. — Ситуация изменилась. Мы всегда и во всех случаях оберегаем лицо наших офицеров. Стараемся помочь им с честью выйти из любых положений. Это наш принцип!
— Я буду весьма признателен, — вставил Фиолетов.
— Но в данном вопросе, — продолжал невозмутимо капитан, — все стало сложнее. Мы могли акт ревизии не пускать по инстанциям, как на этом ни настаивали определенные люди. Я связался с вами. Но вы даже отказались со мной разговаривать.
— Я сижу перед вами, — усмехнулся поручик.
— Поздно! — резко сказал капитан. — Генерал-интендант Смирнов уже получил анонимное письмо с рассказом о творимых бесчинствах в сфере снабжения. И о моральном облике некоторых господ офицеров! Главным образом, поручик, там фигурирует ваша фамилия!
— Таким образом… — упавшим голосом прошептал Фиолетов.
— Мы обязаны отослать акт ревизии генерал-интенданту! — перебил капитан. — Он об этом знает! Он этого требует!
— Кто-то хочет меня погубить, — прошептал растерянно Фиолетов. — Кто?!
— Увольте меня от знакомства с вашими врагами! — капитан резко отодвинул от себя бумаги и выпрямился в кресле. — Вы жертва собственной неосмотрительности. Выкарабкивайтесь сами.
Поручик сидел, низко опустив голову. Только сейчас он с ужасом понял, в каком оказался безвыходном положении. Он готов был проклясть себя за позорное легкомыслие, которое привело его на дорогу к военно-полевому суду, расстрелу или каторжным работам.
— И нет никаких возможностей? — с трудом выдавил он непослушными губами. — Я готов на все… Пойду на любое…
Капитан подумал и вздохнул:
— Это будет вам не по силам.
— И все-таки? — как за соломинку, ухватился поручик. — Скажите, ради всех святых! В ближайшее время кое-что у меня может измениться. И к лучшему.
— Слишком много людей замешано в этом деле, — пробормотал капитан. — Вы знаете, сколько стоил вагон кофе?
— Да, конечно, — сказал поручик. — Я получил пятнадцать процентов комиссионных.
— Так вот, — задумчиво проговорил капитан, — двойная стоимость вагона… И притом…
— Господи, — вырвалось у поручика.
— И притом, — продолжал капитан, — не бумажками… Наступает такое время, поручик. Только ценности… Понимаете? Камни, золото, картины…
— Это разбой, — с ненавистью сказал Фиолетов.
— Забудем об этом разговоре, — спокойно ответил капитан. — Вы сами сюда пришли. Что-то давно мы не встречались у стола, господин Фиолетов. Помните, как провожали полковника Чудного на фронт? Как нахлебались тогда! Безумно! Бедняжке не повезло. Убит.
Поручик поднялся со стула и машинальным движением рук одернул китель. Он смотрел куда-то в угол кабинета.
— Сколько у меня еще есть времени? — тихо спросил он.
— Я думаю, дней пять, — сухо проговорил капитан и тоже встал из-за стола. — Честь имею!
Глава 15
Темная улица горбом поднимается вверх к черным домам. Луна тусклая, в зеленой окиси. В подъезде магазина дремлет закутанный в тулуп старик-сторож. Редко пройдет запоздалый пешеход.
Андрей стоит за углом дома с наганом в руке. Он знает, что в соседнем дворе прячется пятеро солдат. В следующем здании переодетые в штатское, сотрудники контрразведки и сам Пясецкий. Тишина.
В это время под землей должен настороженно идти человек. Ему бросят в канализационный люк пачку денег. Так он договорился в письме. Он может прийти сейчас или через два дня. Но ждут его сегодня.
«Я обязан сделать все, — думает Андрей, — чтобы его не поймали…»
В конце улицы показывается Фиолетов. Осмотревшись по сторонам, поручик сдвигает чугунную крышку люка и швыряет туда сверток. Он идет назад, выпрямив спину и крепко впечатывая в булыжник каблуки сапог.
Что будет дальше? Десятки глаз не спускают взгляда с дороги.
И вдруг раздаются три удара: тук… тук… тук…
Даже не поймешь откуда. Три тихих удара деревом по камню. И вдруг ясно — сторож! Видно, как он шевелится, освобождая палку из-под меховых пол тулупа.
И сразу выбежали солдаты. Вспыхнули фонари.
— Быстрее! — закричал полковник.
Андрей рвется вперед. Его обгоняет Фиолетов. Не раздумывая, Андрей ныряет за ним в черное отверстие люка. Свет фонаря качается по мокрым стенам желтым лучом. Вонь ударяет в ноздри. Ботинки тонут в грязи.
— Сто-о-ой! — взмывает крик, и, как пушечный удар, лопается револьверный выстрел. Затем еще раз. Плеск воды. Сдавленное дыхание. Матерная ругань.
Впереди Андрея по стенам скачет чья-то тень. Это тот, кого они ловят. Из бокового прохода выбегает поручик. Андрей ослепляет его светом своего фонаря, сбивает с ног и шарахается за каменный столб. Фиолетов без фуражки, залепленный грязью, поднимается с револьвером в руках и бежит дальше, скользя в лужах.
«Догонит…» — Андрей навскидку бьет поручику вслед из нагана. Пули визжат, отскакивая от стен.
«Черт, ушел…»
Держась за стены, Андрей медленно бредет в обратную сторону, останавливаясь, кричит в мертвую тишину земли:
— Эге-ге-е-ей!..
Поручик стреляет в темноту подземелья. Там, перед ним, бежит человек, но его не видно. Слышен только топот ног и журчание сточной воды. Поручик цепляется пальцами за выступы стен, скользит в лужах, он задыхается. Кто-то, за поворотом, зовет:
— Эге-е-ей!..
Фиолетов видит вдали размытое светящееся пятно. Он ускоряет шаги и попадает в большую бетонную трубу. Обдирая пальцы в кровь, подтягивается на руках и вылезает на поверхность земли. Перед ним незнакомая улица и тень человека в конце ее. Поручик прячет наган и, грязный, без фуражки, преследует незнакомца, прячась в подъездах. Они минуют площадь, на которой стоит одинокий пустой трамвай, сворачивают в проходной двор и оказываются у ресторана «Фортуна». Преследуемый оглядывается и ныряет в дверь. Звякают задвигаемые засовы, в глубине, за стеклами, загорается огонек свечи, плывет какое-то время, медленно растворяясь во мгле, и пропадает окончательно, точно его и не было. Фиолетов осторожно приблизился ко входу. На ступенях мокрые отпечатки резиновых калош. Поручик закуривает папироску и жадно затягивается дымом, расцепив крючки на тесном вороте кителя.
…Утром в кабинете полковника собрались все, кто отвечал за операцию. Пясецкий приболел — он покашливал, в глазах была простудная краснота. Выбритые до синевы щеки придавали лицу аскетический, монашеский вид, но по-военному короткий ежик волос топорщился упрямо, отливая стальной сединой.
Полковник стоял у окна.
День был пасмурный. Может, это был первый день осени? С утра небо обложили тучи. И стали видны тополя. Обглоданные засухой, с опавшей листвой, они торчали вдоль забора высокими тощими метлами. Над малыми и большими куполами собора летали не то голуби, не то вороны. Все вокруг было серым — дома, дороги…
Почему-то все время он думает о смерти. Старый город будит эти мысли. Нет, он не упрекает себя за жестокость. Но самому умирать не хотелось. Он боялся смерти. Как он прожил — это не имеет значения. Милосердие и жестокость одинаково бесцельны, как способ отодвинуть предугадываемую черту. И все-таки… Его старое тело не могло согласиться с тем, что он был хуже тех, кого убивал, кому жал руки и перед кем вытягивался по стойке смирно на протяжении бесконечных лет. Он глубоко презирал и вышестоящих, и работающих рядом. За их глупость, ограниченность, за рудименты выдуманных понятий, как добро и зло, ненависть и любовь, которые они не могли вытравить в себе до конца. Все-таки у него была цель, ради которой стоило существовать, — утверждение его рода на землях предков. Он это делает ясно и холодно, с математическим расчетом профессионального контрразведчика… Боже, а сын убит. И всем колоколам освобожденных городов не заглушить своим звоном боль дряхлого старого сердца.
— Господа, — тихо сказал полковник. — Я считаю вчерашнюю операцию сорванной. В этом виноваты в одинаковой степени вы и я сам… План канализации отсутствует, но мы должны бы ранее предугадать все. Однако под контроль взяли лишь несколько колодцев. Непростительная небрежность. Единственная удача, правда, немаловажная, — арест сторожа.
— Господин полковник, — поднялся поручик. — Старик не признает вины! Мы провозились с ним всю ночь.
— Так и должно быть, — хмуро обрезал полковник. — Введите его!
Два солдата втащили полураздетого старика и бросили на ковер. Обливаясь слезами, он на четвереньках пополз к столу:
— Ваше благородие… За что?! Миленькие мои… Как на духу… Чистосердечно… Ваше благородие… Отец наш!
— Ты стучал палкой? — спросил полковник, не поднимая головы от бумаг.
— Я… Я! — обрадованно закричал старик.
— Подавал сигнал? Говори!
— Да кто ж знал, что это сигнал? — старик размазывает по лицу кровь из разбитых губ. — Попросили стукнуть… Мне что, трудно? Ваше благородие, жену родную продам, а вам скажу святую правду…
— Кто тебя надоумил подать сигнал?
— Незнакомец какой-то, ваше благородие… Подошел… Говорит: как офицер уйдет с улицы — стукни тихонько по камням. Деньги дам. Деньги немалые…
— Кто же этот… незнакомец? — усмехается полковник.
— Святой крест — не знаю, — старик заливается слезами, с отчаянием мотает лысой головой. — Да если б знал! Каждую черточку припомнил бы, ваше благородие… Голубчик вы наш… Сторож я бедный… Немощный уже человек… За что же вы меня бьете?
Полковник долгим пристальным взглядом смотрит на сторожа.
— Мы с тобой, старик, прожили долгую жизнь. Оба стоим уже одной ногой в могиле. Мы поймем друг друга лучше, чем эти молодые люди. Скажи, ты правду говоришь?
— Истинный крест…
— Ах ты ж старый притворщик, — шепчет полковник сквозь зубы и с силой стучит кулаком по столу. — Поручик! Продолжайте! И чтоб заговорил!
— Мама-а-а! — вопит старик и падает на ковер, судорожно обхватив голову руками. — Мама родная-я-я!!!
— Вставай, дед, вставай, — говорит поручик. — Все только начинается. Пошли.
Он играющей походкой направляется к двери, и два солдата тянут за ним обмякшее тело старика. Разбитые грязные сапоги старика волочатся по ковру.
«Ничего он не знает, — с отвращением думает Пясецкий. — Глупый, жадный старик. Бить его будут долго. Не выдержит. Какая жизнь — такая и смерть…»
— Извините, господа, — сухо покашливая, произносит полковник. — Вы свободны.
Офицеры и штатские молча покидают кабинет. Адъютант встречает Андрея, стоя у двери.
— Прошу, ваше вознаграждение, — говорит он, протягивая синий конверт.
Андрей молча разрывает его и видит пачку аккуратно сложенных денег.
Расстегнув ворот кителя и с наслаждением попыхивая папироской, поручик Фиолетов сидит в кресле приемной.
— Разбогател, Блондинчик? — смеется он и отмахивает рукой дым от веселых глаз. — Операция хотя и не состоялась, но… Пошли вечером в ресторан… Я такой уголок нашел — пальчики оближешь. Ах, «Фортуна», «Фортуна», может быть, там нам и пофартит?!
— «Фортуна»? — напряженно смотрит на него Андрей. — Не слыхал.
— Я раньше тоже, — поручик стряхивает пепел в спичечный коробок.
— Нет, господин поручик, — не в силах сдержать тревогу, хмуро произносит Андрей. — Я занят.
— Личные дела? — прищуривается поручик.
— Да, — бросает Андрей и шагает из приемной.
Глава 16
Вечером поручик Фиолетов подъехал на извозчике к ресторану «Фортуна».
Сквозь стекла окон Андрею хорошо был виден весь зал. В глубине его, за буфетной стойкой, передвигал бутылки высокий морщинистый человек в черном фраке.
«Это же Неудачник! Фу-ты, как разнаряжен. Значит, вдвоем работаете? Не думаю, что тебя взяли в компаньоны. А вот и поручик…»
Пробыл в ресторане Фиолетов долго. Он сидел в углу за маленьким столиком и спокойно попивал пиво, разглядывая посетителей. В этот день пели цыгане. Притушенный свет люстры играл на шелковых рубашках и шалях с длинными кистями. Гремел бубен, и тонкая, злая цыганка извивалась на крошечной эстраде, дико вскрикивая и топоча высокими каблуками. За длинным столом кутили офицеры, — спорили, толкались у стульев дам и пили коньяк из высоких бокалов. Пьяные спекулянты хлопали в ладони, крича цыганке на весь зал:
— Асса! Асса!..
Поручик взглядом подозвал девушку, которая разносила шампанское.
— Ваше здоровье, — сказал он, приподнимая бокал, — Выпьете со мной?
— Спасибо, — улыбнулась Наташа. — Я не пью.
— Извините, ради бога. — Фиолетов приложил руку к груди. — Но как вас зовут?
— Наталья.
— Натали, — повторил поручик. — Я люблю это имя. И давно вы здесь работаете?
.— Не очень.
— Ужасная работа для девушки, — покачал головой поручик. — Что же вас толкнуло?
— Жить надо, — вздохнула Наташа. — Мне сначала предложили место судомойки. Я не справилась. Теперь разношу вино.
— Да, деньги, — вздохнул Фиолетов. — Человек без денег — хуже собаки… Вы сегодня заняты?
— Господин поручик, — девушка нахмурила брови. — Я не принимаю ухаживаний. Это не входит в мои обязанности.
— Да ну, что вы? — даже покраснел от смущения поручик. — Не думайте обо мне плохо. Скажите, кто это там стоит за стойкой? Довольно несимпатичный тип.
— Наш буфетчик… Вам еще что-нибудь подать?
— Пожалуй, нет. Позовите хозяина, Натали.
Джентльмен подошел быстро и коротко поклонился.
— Я должен вас поблагодарить за хорошо проведенный вечер, — любезно сказал Фиолетов. — Знаете, в наше время трудно найти место, в котором так свободно себя чувствуешь.
— Господин офицер, — довольно улыбнулся хозяин. — Мы рады вас принимать каждый вечер.
— Я непременно воспользуюсь вашим приглашением, — поручик склонил голову с безупречным пробором. — Вы давно владеете этим заведением? Раньше я не знал о его существовании.
— Тут был склад, — подумав, сказал хозяин. — Я приобрел его и переделал под ресторан.
— Прекрасная мысль, — одобрил поручик и поднялся из-за стола. — Разрешите откланяться?
— Всего доброго, господин офицер.
Он довел его до выхода, и поручик подал хозяину руку в лайковой перчатке.
— Я буду лучшим пропагандистом вашего заведения, — заверил Фиолетов. — Ждите меня завтра. Спокойной ночи.
— Извозчика! — крикнул хозяин швейцару, и тот кинулся на улицу.
За окном стояла глубокая ночь. Наташа только пришла, и ее пальто виднеется на кровати.
— Понимаешь, — говорит Наташа усталым голосом. — Он посмотрел, как я мою посуду, и предложил снять передник. Ему белоручки не нужны. А потом тот, буфетчик, сказал, что я могла бы разносить вино. Шампанское. Так сейчас принято в первоклассных ресторанах. И хозяин согласился.
— О чем ты разговаривала с поручиком? — спросил Андрей, наливая ей горячего чая.
— Он хотел было за мной ухаживать, — усмехнулась Наташа.
— Но, но, — пробормотал Андрей.
— Расспрашивал о буфетчике. Ему не понравилась его физиономия.
— Противная физиономия, — согласился Андрей.
— Вот и все, — вздохнула Наташа и покосилась на кровать. — Голова болит. Убери, пожалуйста, пальто, я прилягу.
— Он снова придет в ресторан?
— Да… Он обещал приходить часто. Спокойной ночи, Андрюшка.
«Что Фиолетова привело в ресторан? Случайность… Нет. Что он знает о Джентльмене? Опознал ли хозяина „Фортуны“? Слишком много совпадений — появление контрразведчика в ресторане, его разговор с Наташей, интерес к буфетчику… Но, если он узнает адрес Наташи, то нетрудно будет ему вспомнить и где живет он, Андрей…»
Ночью в дверь квартиры громко забарабанили кулаками. Андрей проснулся и стал торопливо одеваться. Он слышал, как в коридор вышла Наташа. Ее отец испуганно закричал:
— Кто там?! Не открывай! Боже упаси, Наталья…
Андрей достал наган и стал за шкаф.
— Откройте немедленно! — послышалось за дверью, и в нее несколько раз ударили прикладом винтовки.
— Наталья!! Немедленно в комнату! — голос отца дрожал от волнения.
— Откройте!!
Наташа отодвинула засовы, и в коридор ввалились вооруженные люди. Среди них был поручик Фиолетов. Андрей узнал его по сочному баритону.
— Что вам надо, господа? — звонко спросила Наташа.
— Прошу прощения, — вежливо сказал поручик. — Нам нужен ваш отец. Ваш папа дома, мадемуазель?
— Папа! — позвала Наташа. — К тебе!
Из комнаты вышел полуодетый старик, он лихорадочно искал рукава наброшенного на плечи пиджака.
— Не к вам, — извиняющимся тоном проговорил Фиолетов, — а за вами…
— Что я сделал?! — растерянно прошептал старик. — За что, господа?! Это какое-то недоразумение… Я благонамеренный обыватель! Я…
— Я тоже так думаю, — согласился поручик. — И весьма сожалею… Но я солдат. Приказ есть приказ.
— Я протестую! — голос старика окреп. — Я всегда! При всех властях! Всегда и при всех властях был благонамерен и верноподдан! Я русский обыватель и горжусь этим! Мы воспитаны в преданности!
— Господин офицер, — заплакала Наташа. — Он старый человек. Ему не до политики. Оставьте его дома, прошу вас…
— Я обещаю вам во всем разобраться, — заверил Фиолетов. — Тем более, не далее, как сегодня, я имел удовольствие с вами познакомиться. Не признаете?
— Господин офицер… Такое несчастье…
— У меня нет иного выхода. Ведите, — бросил поручик солдатам.
— Наташа, — воскликнул старик. — Дочка моя… Прощай!
Дверь захлопнулась. Тяжелые сапоги застучали по лестнице. Удар парадной двери оборвал все звуки.
Андрей вышел из кухни. Наташа сидела на полу, у вешалки, прижавшись лицом к ножке тумбочки. Он наклонился к ней, поднял на руки и понес по коридору. Девушка плакала хрипло, навзрыд.
— Господи… Его-то за что?.. Он же настоящий ребенок… — Лежала на кровати и шептала задыхающимся голосом: — Он там с ума сойдет…
Андрей закурил. Сцепив зубы, долго ходил от одной стены к другой.
«Абсолютно неожиданно… Зачем им старик? А что он знает обо мне? Какие-то черточки характера… Поведение несколько странное для уголовника… Это сразу насторожит контрразведку. Зачем они арестовали старика?! Надо торопиться. Снаряды падают слишком близко… Словно обложили со всех сторон… Надо спешить. Пока не поздно… Жаль Наташу. Бессилен что-либо сделать…»
— И ты… Ты! — почти в истерике закричала она. — Ходишь спокойно. Помоги ему… Помоги…
Он опустился у кровати и взял ее голову в ладони.
— Завтра… Завтра все узнаю… Не плачь… Не надо плакать.
Она заснула глубокой ночью. Держа над головой керосиновую лампу, Андрей прошел по комнате. Тени шевелились на стенах, в стекле отражался язык огонька, и шаги гулко отдавались в тишине. Дверь в коридоре была высокой, из темного дуба, на ней мерцали металлические запоры и цепь. В кухне на окне чернела решетка. Андрей долго смотрел в ночь. Он мысленно угадывал бескрайнюю россыпь домов, проникал за их стены взором и видел каменные соты комнат, бледные от бессонницы лица, крошечные огоньки свечей. Он слышал шелест голосов, шлепанье босых ног по холодному полу. В скольких домах сейчас стучат винтовочные приклады и слышатся солдатские голоса? Вернутся ли те, уводимые в ночь? Под покровом темноты на засекреченных явках собираются люди, чтобы назначить день, в который лопнет городская тишина от первых залпов восставших. В сырых подвалах ветошью протирают каждый холодный патрон, вынутый из цинковых ящиков, чтобы, не дай бог, не заржавел, не застрял в патроннике в нужный момент, не произошла осечка…
Но обыватель еще надеется на то, что стены оградят его от несчастий и бед. Он по-прежнему ищет убежища в тесных лабиринтах своих прихожих и комнат, которые давно уже превратились для него в глухие безвыходные тупики. Он навешивает на двери все новые замки и цепи, но если беда приходит, то сам открывает их дрожащими руками, пугаясь стука собственного сердца. И двери распахиваются, бряцая оружием, вваливаются чужие люди, хлещет вода из раскрытого крана, качается абажур, задетый штыком… А тысячи других прислушиваются к шагам на лестничных клетках, привычно холодея под стегаными одеялами, словно забыв навсегда, что жить им в этом мире придется один раз, и никакие силы не дадут возможности повторить все заново. Хоть бейся головой о стены, рви на груди рубашку, в запоздалом раскаянии грози кулаком небу — она не вернется опять.
А где-то стороной, как могучая гордая эскадра на горизонте, прошло за это время все настоящее — благородный испепеляющий гнев, единственная любовь, слезы отчаяния и радости сопротивления. Там в реве судовых сирен — гул восставших городских площадей, в крике чаек — голоса погибших, а волны поют о единственной яростной жизни, разбиваясь о скалы в миллион пронзающих воздух литых капель.
Андрей вернулся в комнату. Наташа спала, уткнувшись лицом в подушку. Он накрыл ее упавшим одеялом и постоял над ней, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию. Он любил ее, и она была для него самым дорогим человеком. Он не хотел, чтобы она здесь жила, и ничего не мог поделать.
«Завтра будет известно о ее отце, — подумал он. — Хватит ли у нее сил жить со мной?.. И помочь мне…»
Глава 17
Грозный генерал-интендант Смирнов был человеком набожным и придерживался в своей канцелярии нравов патриархальных. Свой рабочий день он начинал с ранней церковной службы и любил, чтобы его офицеры следовали примеру своего начальства.
Жил генерал-интендант напротив церкви, и ему не доставляло труда в утреннее время посетить храм, тем более что, прожив на белом свете уже шесть десятков лет, его превосходительство страдало бессонницей. Другое дело — офицеры. Им приходилось, если они не хотели потерять личное расположение генерала, тянуться к церкви со всех концов города. Многих из них мучила головная боль от вчерашних увеселений, а другие просто терпеть не могли церковной службы, но наступало утро, и с первыми лучами солнца торопливые фигуры уже спешили к видимой издалека высокой колокольне Успенского собора.
Какие только смешные истории и анекдоты не ходили по этому поводу, но генерал-интендант был неумолим, считая, что утренняя молитва есть верное средство для поддержания духа товарищества и братства.
Андрей не вошел в глубину храма, а остался перед входом, смешавшись с редкой толпой верующих, стоящих на паперти. Он так рассчитал, чтобы войти за несколько минут до окончания службы, и вскоре, окруженный офицерами, показался оживленно беседующий генерал-интендант. Молодцеватым шагом он сбежал по ступеням и направился к коляске. Андрей шагнул к группе оставшихся на паперти офицеров и, когда все стали расходиться, неторопливо пошел за одним из них, негромко окликнув:
— Капитан Переверзеев?
Тот оглянулся на догоняющего его прапорщика и, сдвинув брови, попытался вспомнить:
— Простите… — сказал он неопределенным тоном. — Не имею чести…
— Прапорщик Зиновьев, — отрекомендовался Андрей, чуть коснувшись пальцами козырька своей по-фронтовому примятой фуражки. — Из ставки главнокомандующего… Курьером. Сегодня возвращаюсь в Екатеринодар. Мне рассказали о ваших ежеутренних радениях, и я рад с вами здесь встретить.
Андрей говорил, а капитан Переверзеев только молча слушал его, внимательно изучая лицо незнакомого человека.
Когда продавался вагон кофе, коммерсант Курилев показал со стороны вот этого молодящегося офицера с короткими усиками и сообщил Андрею, что, как и поручик Фиолетов, капитан отдела снабжения канцелярии генерал-интенданта получил за соответствующие услуги определенные суммы денег.
Риск был большим, но игра стоила свеч, выхода другого не было, и Андрей, поигрывая улыбкой, непринужденно продолжал:
— Я побывал в вашем благословенном городе и отдохнул душой и телом. Здесь ближе к фронту, но больше порядка и тишины… У нас же каждый день события… Известно ли вам, что на своем съезде в Новочеркасске горнопромышленники решили домогаться от правительства получения взрывчатых материалов из-за границы с уплатой их стоимости за счет кредита, отпущенного Англией России? Я вчера об этом сообщил в одной нашей компании, и эта новость буквально произвела впечатление взорвавшейся бомбы. Да и кто им позволил всякие съезды? Каждая копейка… Господа промышленники думают только о своей наживе… Когда я ехал сюда, то в отделе главного начальника снабжения меня попросили… безусловно, если я выкрою для этого несколько минут… Да, попросили встретиться с вами… Нет, нет, ничего страшного…
Капитан Переверзеев спокойно спросил:
— Вы имеете в виду?..
— Я имею в виду только то, что просили сообщить… Кофе… Вагон кофейного зерна, которое пошло по рукам, пока не попало в ставку главнокомандующего…
— Мне известно об этом, — сухо проговорил капитан.
— Ну и прекрасно, — улыбнулся Андрей. — Одной заботой меньше… Кроме того, коммерсант Курилев… кажется так, именно Курилев. Знакомая фамилия?
— Допустим, — коротко сказал капитан.
— Он арестован. Проворовался в пух и прах. Оказался крупной сволочью. Путает в свои дела прекрасных офицеров…
— Что вам от меня надо? — хмуро произнес капитан.
— Побойтесь бога, — воскликнул Андрей. — Ровным счетом ничего… Считаю поручение выполненным. Честь имею откланяться.
— Постойте, — капитан удержал прапорщика за плечо. — И это все?
— С арестом этого Курилева, — тихо проговорил Андрей, — многие оказались в трудном положении. Приезжайте сами в Екатеринодар. У вас есть там друзья, но важна каждая минута. Промедление подобно… Нужны, как мне кажется, большие средства, чтобы потушить этот пожар. И не ожидайте, капитан, каких-то предупреждений. Все страшно напуганы…
Капитан помолчал, потом, подняв побледневшее лицо, холодно сказал, вглядываясь в
неморгнувшие глаза прапорщика:
— Я постараюсь воспользоваться вашим советом… Благодарю.
— Всего хорошего, — серьезно ответил Андрей. — Будучи в Екатеринодаре, прошу посетить… Улица Поперечная, собственный дом Зиновьева.
Капитан первым повернулся и медленно зашагал по площади, в задумчивости закинув руки за спину.
Андрей быстрым шагом пересек улицу и сел в поджидавшую его коляску, под матерчатый навес с фестонами. Он закурил и, прикрыв ладонью лицо, приказал извозчику:
— Погоняй… Не по проспекту. По набережной и в переулок.
Днем капитан Переверзеев через дежурного офицера вызвал поручика Фиолетова в вестибюль и здесь предъявил ультиматум: если поручик боится военно-полевого суда, то в течение двух дней он обязан внести обусловленную сумму.
Фиолетов, глядя вслед торопливо уходящему из гостиницы капитану, еще помня его бегающие, растерянные глаза, подумал, стискивая кулаки в карманах: «Если через два дня не достану, то убью его… Подстерегу на улице… Убью… Его или себя…»
А вечером поручик Фиолетов пошел в ресторан «Фортуна» и направился к своему столику в углу. Хозяин ресторана обрадованно заулыбался ему навстречу.
— Здравствуйте, господин офицер… Добро пожаловать.
— Как видите, я выполняю свои обещания, — Фиолетов коротко поклонился и сел на стул. — Чем будете кормить, любезный?
— Есть прекрасный балычок… Икорка. Смирновская водка…
— Прошу, на усмотрение. Я верю вашему вкусу.
— Весьма польщен, — хозяин направился к буфету. Фиолетов закурил и откинулся на спинку стула. Он равнодушным взглядом обвел зал ресторана, Все так же, словно они никуда не уходили, пьянствовали офицеры. Шумели спекулянты. Били в бубны цыгане, и табачный дым застилал потолок.
Наташа принесла поднос, поставила его на край стола.
— Здравствуйте, господин поручик, — прошептала она.
— Добрый вечер, Натали, — обрадовался Фиолетов и закачал головой. — Аи, аи, на вас лица нет… Да полноте так убиваться…
— Я ходила к отцу… Меня не пустили. Я ничего о нем не знаю. За что его арестовали?
— Садитесь, прошу вас, — поручик вскочил на ноги и подвинул девушке стул. — Я узнал кое-что… Ваш отец арестован по доносу. Анонимному доносу. Он обвиняется в шпионаже в пользу красных…
— Боже мой, — Наташа не находила слов от волнения. — Ужасная глупость! Как людям могло прийти в голову?!
— Вы знаете, — задумчиво произнес Фиолетов, — уж такое сейчас время… Главное — это донос. Доносам верят.
— Но мне-то вы можете поверить? — вырвалось у Наташи.
Поручик чуть усмехнулся и кивнул головой.
— Да, Натали… Могу.
— Так помогите освободить отца.
— Хорошо, — вдруг просто сказал он. — Мы его выручим. Я имею определенный вес и влияние… Но, Натали, — поручик положил свою ладонь на руку девушки. — Вы должны нам тоже помочь кое в чем…
— Все, что угодно, — решительно произнесла она.
— Вот и прекрасно, — с одобрением отметил он. — Вы расскажете мне все, что знаете о хозяине и буфетчике… Как ведут себя. С кем встречаются. Нет ли за ними чего-либо подозрительного… И вообще, что у вас в ресторане происходит. Вам ясно, Натали?
— И отец будет свободен?
— Хоть завтра.
— Я… Я… — Девушка счастливо засмеялась. — Вы можете на меня рассчитывать, господин офицер…
Ее взгляд метнулся в сторону, и она наклонилась к нему.
— Подождите, пожалуйста… Я сейчас. Хозяин будет ругаться… Еще не подала офицерам…
— Жду… — поручик вежливо поднялся со стула.
Наташа торопливо вышла во двор. Андрей показался из подворотни.
— Он просит меня следить за хозяином и буфетчиком… В чем-то подозревает их.
— Тогда все в порядке, — даже обрадовался Андрей. — Отец вернется! Они определенно арестовали его для того, чтобы завербовать тебя… На втором этаже тихо?
— Там сейчас никого… Что мне делать дальше?
— Как договорились, — сказал Андрей, — но будь осторожна. Умоляю тебя.
Он подождал, когда девушка скроется в дверях, и вошел на черную лестницу. Направо был вход в зал. Оттуда доносились голоса, звон посуды.
Андрей стал медленно подниматься на второй этаж. Сунул ключ, который дала ему Наташа, в замочную скважину и повернул два раза. Не скрипнув, дверь отворилась, и он оказался в комнате Джентльмена. Надо было торопиться. Высветив фонариком дорожку, Андрей подошел к столу и торопливо стал дергать ящики. Все они были заперты. Тогда он скользнул в спальню. Здесь стояла громадная кровать со множеством подушек. Один из ящиков комода поддался, Андрей увидел стопы чистого белья, посуду. В глубине что-то блеснуло, он протянул руку и достал большие, луковицей, часы. Нажал на кнопку, и крышка, отскочив, обнажила витиеватую надпись: «М. С. ЛЕЩИНСКИЙ».
Это было лучшее доказательство причастности Джентльмена к убийству Забулдыги. Теперь необходимо отвести от Джентльмена подозрения. Во что бы то ни стало выиграть время… День… Два… За эти часы…
Андрей открыл дверь ключом в комнатушку Неудачника. Здесь было душно, окно закрыто, пахло селедкой, табаком и лежалыми вещами. Не раздумывая, Андрей сунул под подушку найденные часы и вышел на лестницу. Больше ему тут была делать нечего.
Держа в руках пустой поднос, Наташа присела за столик Фиолетова.
— Да, у нас иногда происходят странные вещи, — поколебавшись, сказала она. — Меня ничуть не удивляет, что вы заинтересовались рестораном… Но какая гарантия, что папа будет выпущен на свободу?
— О! — приятно изумился поручик. — Вы не так беспомощны… Браво! Я даю вам эту расписку.
Фиолетов быстро набросал на листке из блокнота несколько слов.
— Этого вполне достаточно, слово русского офицера, Натали. А завтра ожидайте папу.
Девушка сунула записку за вырез платья и задумалась.
— Хозяин у нас обычный… Никто к нему не ходит, да и сам сидит все время дома… Если уж говорить о странных вещах, то… Буфетчик… Замкнутый. Злой… Часто куда-то пропадает. День его нет, а то и два… Я как-то задержалась в пришлось ночевать тут в зале. Ночью слышу — дверь открывается, и входит он…
— Буфетчик? — улыбнулся Фиолетов.
— Да. Я страшно перепугалась, вся замерла… В комнату он к себе никого не пускает, словно сокровища царские бережет. Иногда постучишь к нему по работе, так сразу не откроет. Вещи передвигает, крышкой сундука хлопает, точно прячет что-то.
— А где его комната?
— На втором этаже… Третья дверь.
— Спасибо, Натали, — Фиолетов отпил из стакана. — Идите, вас ожидают.
Он проследил за ней взглядом и медленно поднялся из-за стола. Словно прогуливаясь, прошел через зал и скрылся за шторой, отгораживающей ресторан от кухни. Прислушавшись, поручик торопливо взбежал на второй этаж и нашел нужную дверь. Он открыл ее отмычкой и ступил в комнату Неудачника. Щелкнув зажигалкой, осветил ее бледным огоньком. Из темноты проступили очертания кровати, тяжелого комода и вешалки с одеждой.
Фиолетов подергал увесистый замок на комоде, небрежно перебрал вещи на столе и подошел к постели. Заглянув под матрац, сбросил подушку. Часы матово заблестели в складках простыни. Поручик схватил их и поднес к зажигалке. Он завертел находку в пальцах, разглядывая со всех сторон, ногтем нажал на крошечный золотой выступ, и верхняя крышка отскочила на тугой пружине. Фиолетов увидел витиеватые буквы: «М. С. ЛЕЩИНСКИЙ».
Офицер чуть вслух не засмеялся и сунул часы в карман галифе. Он закрыл дверь и сбежал по ступеням в залу. С довольным видом прошагал между столиками, улыбаясь женщинам, — высокий, стройный, смуглый, с черным ромбом на рукаве, в котором белели вышитые серебром череп и скрещенные кости.
— Вы скоро закрываете? — спросил он у хозяина.
— Думаю, через час. Вы еще побудете у нас?
— Безусловно.
«У меня осталось два дня, — прикидывал в уме Фиолетов, — и я должен… Какая громадная сумма! Если золотом и драгоценностями, то… Сволочи! Кругом беспардонный грабеж и негодяйство, я буду отдан военно-полевому суду… И в назидание всем… ведь у нас казнят и вешают только в назидание другим! Меня приговорят к расстрелу или каторжным работам… Кажется, всей истории с альбомом конец. Мы нашли его, он где-то здесь, рядом… Какие колоссальные деньги готов был отдать полковник за эти снимки, и вот он их завтра получит… Даром. Я сам положу их ему на стол. Спасет ли это меня? Нет!.. Что же спасет меня? Какая безумная цена за три сотни фотографических снимков…»
— Господа! Господа! — закричал из дверей хозяин ресторана. — Заведение закрывается! Приглашаем и в следующий раз… Господа!!
Фиолетов и буфетчик вышли из подъезда и молча зашагали по темной улице.
— Зря вы со мной связались, — наконец проныл буфетчик. — Жрать надо? Дело легкое — тому бутылку, этому рюмку…
— Как тебя зовут? — спросил поручик.
— Петров, господин офицер. Петров Василий…
— Я не фамилию, — усмехнулся Фиолетов. — Ты кличку говори.
— Я не понимаю… Гос.. — Буфетчик остановился и попятился в темноту.
— Попробуй только бежать, — спокойно проговорил поручик. — Застрелю на месте. Как кличут по-воровски?
— Неудачник, — тихо прошептал буфетчик.
— Боже, не в бровь, а в глаз, — засмеялся поручик. — Рассказывай дальше. Все рассказывай!
— Я сидел у красных, — дрожащим голосом забормотал Неудачник. — В тюрьме сидел за воровство… Потом бежал… И вот здесь… Все, господин офицер.
— Святая душа, — весело воскликнул поручик. — А о торговле человеческими головами? Восемь тысяч за голову!
— Господи, о чем вы?! — с ужасом спросил Неудачник. — Я ничего не знаю. Я не виноват…
Фиолетов достал из кармана золотую луковицу часов и, нажав на кнопку, качнул часы на цепочке. В тишине мелодично пробили первые такты царского гимна.
— Узнаешь? — задал вопрос поручик.
Неудачник мучительно вслушивался в мелодичные удары, стараясь разглядеть в темноте лицо офицера.
— Ну, вспомнил? Где ты их видел?
— Вспомнил, — чуть слышно ответил Неудачник. — Это часы Забулдыги.
— А где Забулдыга?
— Он повесился.
— Нет, его убили и ограбили.
— Не может быть! — закричал Неудачник. — Это такой… Да не поверю ни за что!!!
— Тихо! — оборвал его Фиолетов. — Его убили и затем повесили на стропилах. А дом подожгли… Кто это сделал?
— Не могу знать, — выдохнул Неудачник.
— Забулдыгу ограбили, — жестко продолжал Фиолетов. — Взяли вот эти часы… Деньги, которые были при нем… И еще одну вещь. Это альбом с фотографиями большевиков. За каждый снимок и адрес контрразведка давала восемь тысяч. Между прочим, ты мог бы одеться поприличнее. Ходишь черт знает в каком тряпье.
— Не мучьте меня, — с тоской проговорил Неудачник. — Я ничего не понимаю!
— Напомнить? — спросил Фиолетов. — Ты убил и ограбил Забулдыгу! Ты завладел альбомом! Ты поддерживал связь с контрразведкой!
— Пощадите, — взмолился в отчаянии Неудачник. — Клянусь как перед богом… Невинный я…
— Вот эти часы, — медленно произнес Фиолетов. — Эти часы, Неудачник, я нашел в твоей комнате. У тебя нет выхода. Ты попался…
Неудачник стоял у стены и беззвучно плакал, закрывшись ладонями, только вздрагивали плечи и тряслась голова.
— Эк тебя… — неодобрительно сказал поручик. — Есть одна возможность выкрутиться…
— Никого я не убивал и часов не брал, — пробормотал прыгающими губами Неудачник. — Господин офицер… Истинный крест…
— Так вот, — продолжал поручик, — если хочешь остаться живым, то принеси мне завтра альбом. В контрразведку. Я оставлю у дежурного офицера пропуск. И смывайся из города! Хоть на край света! Ты мне не нужен! Я прощу тебе все: но только за альбом. Иначе с живого сдеру шкуру… Найду на дне морском! О нашем разговоре никому ни слова! Голову оторву! Иди! И не оборачивайся… Ну!
Поручик долго смотрел, как ковыляет в темноте шатающаяся фигура, словно пьяный пробирался домой, с трудом находя дорогу.
«Но почему Неудачник? — подумал Фиолетов. — По словам Блондина, Забулдыгу убил другой…»
Глава 18
Закупоренный дверями на засовах и дубовыми ставнями с железными полосами, оглушенный тишиной, дом стоял темный, мрачный. И внутри он был такой же — черные коридоры, как туннели, пролегали в его толще.
С фонарем в руке Неудачник прокрался к двери квартиры Джентльмена и, проскрипев отмычкой, вошел в первую комнату. Он двигался осторожно, скользящим медленным шагом. Луч бегал по стенам, выискивая шкафы и стол. Руки торопливо обшаривали одежду, висевшую в углу, раскидали в шкафу вещи. Опустившись на пол, буфетчик скатал тяжелый ковер и просветил каждую половицу. Фонарь стоял рядом, сквозняк из-под двери колебал пламя свечи — вот-вот потухнет.
Неудачник перешел к письменному столу. Он без скрипа выдвинул все ящики и стал рыться в них, выкладывая на пол толстые бухгалтерские книги, пачки папирос, наган в кобуре. Руки его тряслись, он испуганно вздрагивал от любого шороха и замирал, не сводя глаз с закрытой двери в спальню. Затем приступил к работе снова — заглядывая в тумбы стола, залезал в них почти с головой…
Рывком вытащил тяжелую металлическую шкатулку. Замок был сломан, Неудачник отбросил крышку. В шкатулке лежал большой альбом в бархатном переплете.
Первый лист был пустой. Только следы от уголков когда-то приклеенных фотографий сохранились на мягком картоне. Не было снимков и на второй странице. И только на третьей увидел аккуратные ряды глянцевых квадратиков с человеческими лицами.
Буфетчик захлопнул переплет и взялся за дужку фонаря, но в это время тихий голос сказал:
— Подожди, Неудачник…
Он поднял голову. В дверях спальни в одном белье стоял Джентльмен.
— Своих уже чистишь? — Джентльмен, волоча по полу штрипки кальсон, тяжело прошел к столу и опустился на стул. — Ну, давай, давай, ищи дальше…
— Своих?! — задыхаясь, прошептал Неудачник. — А это откуда у тебя? Альбомчик откуда? Забулдыгу помнишь? Так шлепнул его, да?! Он тоже был своим… Не пожалел его, сука!
— Вот как, ты уже все знаешь? — криво усмехнулся Джентльмен. — Тем лучше… Легче поймешь.
— Часы подложил мне, — продолжал с ненавистью Неудачник. — Хотел от себя подозрение отвести… А меня в тюрягу?
— Какие часы? — нахмурился хозяин.
— Золотые! Те, что у Забулдыги были… Не притворяйся. Мне их сегодня показывали.
— Кто?
— Из контрразведки… Офицер.
— Ты что?! — прошипел Джентльмен. — В своем уме?
— А-а, — со злорадством обрадовался Неудачник. — Испугался? Уж они тебя потрясут!
— Цыц! — грохнул кулаком по столу Джентльмен. — Тебя же самого заметут, дура…
— Нет, — засмеялся ему в лицо буфетчик. — Меня отпустят и дадут двадцать четыре часа свободы. А там ищи ветра в поле!
— За какие же заслуги? — прищурился Джентльмен.
— Вот… За это! — буфетчик пальцем постучал по альбому. — Тебя он погубил, а меня спасет.
Джентльмен молча поднялся со стула. Коренастый, взъерошенный, с кривыми медвежьими ногами остановился перед Неудачником и положил руку на его плечо.
— Ладно, извини, кореш… Черт, надо было тебе сразу все рассказать. Каждый день собирался, да то одно, то другое. Я Забулдыгу пришил…
Джентльмен непроизвольно распрямил пальцы и медленно сжал их в жесткий кулак.
— …подвесил на стропилах… а чердак поджег. Но перед этим был у нас разговор… Я пришел раньше пяти часов. Разговор один на один. Сообщил Забулдыга мне об альбоме, как хочет продавать фотоснимки… Все во мне перевернулось. «Ах, думаю, гад такой! Тебе фарт, а мне смерть верная…» Ударил его со спины, он носом в пол… Деньги забрал, альбом….
— И много заработал?
— Деньги есть, — Джентльмен посмотрел ему в глаза. — На двоих хватит. У меня и раньше кое-что было запрятано. Проживем, Неудачник. До утра времени у нас хватит. Собирай шмотки и на вокзал.
— Бросишь ты меня, — с тоской проговорил Неудачник.
Джентльмен метнулся в спальню. Он вернулся с портфелем и вывалил перед ошеломленным Неудачником стопки денег.
— Это все на двоих! Разделим пополам! Хоть сейчас бери свою долю.
Неудачник дико смотрел, как Джентльмен швыряет ему банкноты, не считая, пачку за пачкой — навалом. Затем сдвинул их на край стола, ладонью вытер с лица пот.
— Вот какой я… Все твое.
Неудачника трясло от волнения. Слева лежал альбом в зеленом переплете, справа куча денег. Джентльмен схватил альбом и кинулся к камину. Бросил его туда на чугунную решетку, стал рвать на мелкие клочья.
— А с ним покончим. Был и не был… Гори он синим пламенем!..
Джентльмен чиркнул спичкой и поднес огонек к бумаге. Она медленно загорелась, и язычки заплясали в темной пещере камина. Неудачник жадно и со страхом глядел, как почернели газетные комья, распались на серый пепел, и пламя начало лизать углы бархатного альбома.
— Сейчас, сейчас будет ему конец, — шептал Джентльмен и железными щипцами ворочал в огне. — Сейчас… Беги, собирай шмотки… Торопись…
— Нет! — вдруг закричал Неудачник и, отшвырнув хозяина, выбросил из камина дымящийся альбом. Прижав его к груди, отбежал к двери и повторил истерически: — Ни за что! Не дам, не дам!!
Приподнявшись на локтях, Джентльмен зло спросил:
— Почему?
— Верну им альбом… А ты пропадай к черту! Никуда тебя не пущу. Пусть знают, кто настоящий!..
— Идиот! — процедил Джентльмен. — Уйди с дороги. Ну?!
Андрей сидел, вжавшись между кирпичной стеной дома и грудой разбитых ящиков, от которых пахло прокисшими помидорами и луком. Он курил, зажав папиросу в ладони, прислушивался к тишине и никак не мог решиться покинуть свое убежище. Кажется, уже было три часа… Пора… В кармане отмычка. В пиджаке наган…
Во дворе хлопнула дверь и мелькнула чья-то тень… Нет, почудилось… Пора, а то скоро будет светать…
Андрей выбрался из-за ящиков и пересек дворовую площадку.
Дверь на черную лестницу ресторана была открыта, и это не удивило его. Так он договорился с Наташей. Она должна задержаться, убирая зал, и уйти последней. И «забыть» замкнуть дверь на свой ключ. Пока все идет нормально. Сегодня ночью можно еще не беспокоиться.
Андрей настороженно прокрался по ступеням, рукой нащупал ручку двери в квартиру хозяина. Наклонившись, заглянул в замочную скважину и увидел неясный свет, идущий откуда-то снизу. В этой бледной желтизне темнели очертания мебели.
Он тихонько нажал на ручку, и дверь подалась вперед. И сразу, почувствовав тревогу, Андрей вынул из кармана наган. Он шагнул в комнату… и замер у двери.
На полу валялся скомканный ковер и стоял фонарь, в котором трепетало под сквозняком пламя свечи. У стола, раскинув руки и подтянув к животу колени, лежал в одном нижнем белье мертвый человек. Андрей перевернул его на спину и узнал Джентльмена. Череп его был расколот чем-то тяжелым. Андрей поискал глазами и нашел бронзовый канделябр, залитый кровью. Сунув за пояс наган, он кинулся к столу, увидел вывороченные ящики, несколько пачек денег и пустую железную шкатулку с разбитым замком.
Андрей опустился в кресло, с отчаянием сжал голову руками.
Выплавившийся из огрызка свечи фитиль упал на дно фонаря и, помигав, погас. Темная тишина, пропахшая нагретым воском и копотью, вошла в комнату.
Остаток ночи Андрей проблуждал по городу. Дважды его останавливали патрули, но, проверив документы, отпускали. Уже перед рассветом вышел к пустынной площади. Она лежала перед ним, плоская и большая, как каменное поле. Вдали, у домов, еще клубился сумрак, а здесь, на неровной от лбов булыжника поверхности, уже был первый неясный свет. На сером и голом небе тускло мерцали золотые купола церквей. А на середине площади одиноко возвышалась длинная виселица — тонкие ее подкосы и стойки казались вычерченными тушью. И такие же черные, неподвижные тела мешками свисали с перекладины…
— Стой! Кто идет? — закричал часовой, который сидел на ступенях.
«Лобное место города…»
Он ушел. Но долго еще в ушах стоял сонный окрик часового и память хранила тоску безлюдного каменного поля, плывущий свет и мертвую окоченелость вытянутых тел…
Глава 19
Снова встало солнце и опять жаркое — мягкий асфальт задышал смолой и пылью. Забегали мальчишки с чайниками, продавали стаканами воду, У колонок выстроились очереди.
Люди изнывали от палящего зноя и двигались медленно, погромыхивая жестяными ведрами и кувшинами, томительно долго приближаясь к закрученной жгутом слабой струе, текущей из чугунного крана… Поднявшийся ветер потащил по улице груды желтой опавшей листвы, она зашуршала, заструилась вдоль тротуаров, застревая между камней булыжной мостовой, кружась, взлетала на высоту второго этажа, приклеивалась к стеклам окон.
Неудачник долго брел переулками, обходя стороной шумный проспект, он побоялся идти на вокзал и теперь спешил покинуть город, но, кажется, были бесконечны эти крутые повороты, подъемы и спуски, стертые ступени и мостики через узкую речку. Город разворачивал свои бесчисленные дороги, сплетал паутину улиц, и прошел час, начался второй, а конца и края не виделось деревянным домам, башням колоколен, покосившимся флигелям и высоким зданиям…
Неудачник то почти бежал, придерживая у груди альбом, завернутый в старую газету, то шел медленно, прижимаясь к стене и пугливо оглядываясь по сторонам. За спиной ему все время чудились чужие шаги, в подворотнях мерещились таинственные фигуры. Измученный ужасом, чуть волоча ноги, он, наконец, опустился на поломанную лавку под чьим-то забором. Сунув альбом под полу пиджака, Неудачник долго смотрел в пустынный просвет глухого переулка, с трудом соображая: почему он здесь? что его сюда привело? куда идти дальше?..
Поручик Фиолетов напрасно прождал Неудачника целое утро. Пропуск у дежурного офицера никто не востребовал. Расстроенный, поручик взял извозчика и поехал к ресторану. Его удивила толпа у входа. Двери были распахнуты, несмотря на то, что «Фортуна» обычно открывалась только вечером. Соскочив с подножки, Фиолетов решительно направился к ресторану, плечом раздвигая людей. Полицейский у подъезда отдал честь и посторонился, пропуская офицера с черным ромбом на рукаве.
Не обращая внимания на стоящих у лестницы людей, поручик стремительно взлетел по ступенькам и распахнул дверь в комнату буфетчика. Шагнув в темноту, он на ощупь нашел ставню и распахнул ее. В свете дня Фиолетов увидел чисто подметенный пол, стол, застеленный линялой скатертью, и высокую кровать с пышно взбитой подушкой.
Поручик подошел ближе и ладонью провел по гладко расстеленному одеялу. Все было так, словно Неудачник сегодня ночью не прилег ни на минуту… Но где он? И почему толпа и полиция?

Фиолетов медленно вышел из комнатушки и тут увидел, что люди, стоящие в коридоре, зовут его:
— Господин офицер, сюда, сюда, пожалуйста… Это здесь…
Поручик, миновав переодетых полицейских, вошел в большую и светлую комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был труп человека в нижнем белье. Он лежал на ковре, раскинув руки. Фиолетов осторожно перешагнул через труп и подошел к развороченному письменному столу. Он перебрал несколько конторских книг, отодвинул в сторону револьвер в желтой кобуре и, подняв со дна одного из выдвинутых ящиков тяжелую пачку денег, взвесил ее на ладони.
— Что тут произошло? — тихо спросил он. — И кто это?
— Пока сообщить ничего достоверного не можем, — ответил полицейский. — Возможно ограбление… Убийство с ограблением.
— Кого подозреваете?
— Исчез буфетчик. А убит хозяин заведения.
— Обычная история, — добавил кто-то. — Там, где деньги, всегда такое.
— Продолжайте, — кивнул головой Фиолетов и пошел к выходу, провожаемый полицейским, который торопливо говорил на ходу:
— Разбаловался народ… Жизнь человеческая им ни в копейку. Слабо караем. Вот, рассказывают, в Париже казнят гильотиной… такой нож на веревке. А мы вешаем… Гуманизм это!.. Никаких особенных мучений…
Поручик подъехал к тюрьме и приказал остановиться под развесистым дубом напротив высокой стены, побеленной известкой, неподалеку от главных ворот.
— Иди, голубчик, — сказал Фиолетов, — иди подкрепись… Выпей чаю или еще чего там, — он протянул деньги извозчику, и тот, спрыгнув с козел, торопливо зашагал к трактиру.
Сняв фуражку и расстегнув ворот кителя, поручик полулежал на теплых кожаных подушках, и со стороны казалось, что он отдыхает, лениво смежив веки, но на самом деле неудача с альбомом расстроила Фиолетова окончательно. Ему надо было побыть одному, сосредоточиться.
«Почему убит хозяин ресторана? Куда исчез Неудачник? Проклятые вопросы… Порвались все нити, ведущие к ресторану, а именно туда вошел тот человек, которого тогда ночью выследил поручик. Осталась та девушка… Натали. Но что она может еще сказать? Сможет ли она объяснить трагедию, произошедшую в ресторане „Фортуна“?.. Поздно вечером она там была и, наверное, ушла одной из последних… Но для этого…»
Поручик открыл глаза, услышав громкий бой городских часов. Он проверил время по часам — ровно полдень. Извозчик еще не возвращался. На сторожевых башнях тюрьмы неподвижно стояли часовые. За каменной стеной слышался какой-то гул, раздавались приглушенные команды. Наконец железные ворота раскрылись, и на мостовую выехала тачанка с пулеметом, окруженная гарцующими на конях казаками. За ними медленно потянулась колонна полураздетых, истощенных людей. Зацокали о булыжник деревянные подковы. Застучали колеса подвод с неподвижными телами больных и раненых. Послышалось хриплое дыхание, стоны, защелкали нагайки, всхрапнули испуганные лошади…
Начальник конвоя подскакал к коляске, и поручик поднялся на ноги. Он протянул есаулу конверт, и тот, вскрыв его, быстро пробежал глазами:
— Господин поручик, сами найдете или помочь?
— Постараюсь сам, — ответил Фиолетов. — Далеко вы их?
— Эвакуируем… Сначала до Беляевки, а потом как знать…
— Желаю благополучного пути.
— Благодарю. Всего доброго, господин поручик.
Есаул лихо развернул коня и поскакал к голове колонны.
Поручик молча стоял в коляске, вглядываясь в проходившие мимо него ряды измученных людей, которые тащились, поддерживая друг друга и нагнув головы. Шеренга за шеренгой миновали они офицера, даже не поднимая на него взглядов. С высоты экипажа Фиолетов видел склоненные затылки и тощие плечи.
— Господин Левашов! — негромко позвал поручик и взмахнул рукой. — Никодим Сергееви-и-ич!
Один из арестантов остановился, но его тут же толкнули в спину идущие сзади.
— Левашо-о-ов! — сердито закричал поручик. — Я кого зову?!
Старик-арестант выбрался из рядов и подошел к коляске.
— Садитесь, Никодим Сергеевич, — устало сказал Фиолетов и распахнул дверцу. Он обернулся к стоящему у дороги извозчику, и тот торопливо полез на козлы, разобрал вожжи и хлестнул лошадь.
— Вы меня не узнаете? — спросил поручик, — А ведь я это вас тогда арестовал.
— Это недоразумение, — прошептал старик, в изнеможении прикрывая глаза. — Я всем говорю — недоразумение…
— И оно выяснилось, — согласился Фиолетов, — как я и обещал вам… О вас очень беспокоится дочь. Места себе не находит, но я ей тоже обещал, что вы вернетесь живы и здоровы.
— Вы знакомы с моей Наташей? — оживился старик. — Господи, как там она без меня…
— Я знаю ее, — чуть поклонился поручик. — Милая девушка… Куда вас, прямо домой или к ресторану «Фортуна»? Не знаю, работает ли она сегодня…
— Будь проклята эта «Фортуна»! — с чувством воскликнул старик. — Моя дочь подает пьяным офицерам шампанское? Неслыханно! Какой позор! И все он! Уговорил девочку! Уломал, негодяй!
— О ком вы? — задал вопрос Фиолетов.
— Уж не знаю, как его и называть! — с горечью проговорил старик. — Квартирант? Денег не платит… Жених? Почему живет в доме невесты? А вообще терпеть не могу посторонних людей в собственной квартире!
Фиолетов остановил извозчика за квартал от дома, предложил отцу Наташи:
— Пройдемтесь… Я думаю, вам будет полезно после всего…
Старик суетливо вылез из коляски, зашагал рядом с офицером, стыдливо прикрывая отворотами пиджака отсутствующий галстук.
— Опять этот человек? — переспросил офицер. — Да кто же он такой?
— Ах, там все так сложно! — по-детски возмущенно всплеснул ладонями старик. — Раньше говорили, что он советский служащий… Теперь словно от кого-то скрывается… Секреты, поздние возвращения бог знает откуда… Это ранение! Просто криминальная история. Я боюсь даже представить, что Наташенька в чем-то запутана!
Поручик жестом руки притворно прервал старика:
— Господин Левашов, опомнитесь. Мои представления о чести русского офицера не позволяют мне слушать вас дальше.
— Вы представитель власти и порядочный человек. Доказательства очень убедительны. Я на свободе. Выслушайте меня. Я стар и понимаю: надо жить по законам того правительства, которое в данное время осуществляет порядок. Иначе произойдет сплошная анархия! А если тот человек в самом деле прячется…
— На вашу дочь не похоже, чтобы она связала свою судьбу с уголовником, — усомнился Фиолетов.
— Почему уголовником?! — растерялся старик. — Культурный человек… Манеры и обхождение. Смешно — уголовник! Даже представить невозможно… Дочь летит к нему со своими чувствами, как мотылек на огонь! — Старик вспыхнул гневом. — Летит бездумно! Увлекаемая безотчетной любовью к этому Федору Павловичу, простите, фамилию даже не знаю!
— Что я должен сделать? — вежливо спросил поручик.
— Поговорите с ней, — умоляюще произнес старик. — Тактично намекните на то, что она ходит по натянутой над пропастью проволоке… Запугайте, в конце концов. Я даю на это свое отцовское благословение!
— Хорошо, — усмехнулся Фиолетов. — Только больше никому об этом не рассказывайте.
— Только вам! Вам и вес. Могила! — торжественно проговорил старик. — Помните, господин офицер, мое и Наташенькино будущее в ваших руках!
— Об этом разговоре не рассказывайте даже Натали, — сказал поручик и остановился. — Вы дома, господин Левашов. Рад был ближе познакомиться.
Они распрощались, и поручик медленно зашагал к гостинице «Палас», не замечая того, что идет по проезжей части улицы.
Не успел Фиолетов сесть за стол, как раздался телефонный звонок. Не желая никого принимать, он, морщась, выслушал дежурного офицера и неохотно проговорил:
— Не знаете, кто он?.. Гоните в шею… Понятно, давайте его сюда.
Через несколько минут в коридоре раздался топот, дверь распахнулась, и два караульных солдата втолкнули в кабинет Неудачника. Небритый, в порванном пиджаке, он остановился перед офицером, испуганно оглядываясь, морщинистое лицо его в запекшихся царапинах казалось меловым. Неудачник прижимал к груди сверток.
— Вот… Господин офицер… — пробормотал он, опуская сверток на край стола и медленно пятясь к стене. — Я принес… Я пришел сам. Он меня не пускал…
— Господин поручик, — доложил один из солдат, — они в подъезде изволили скандалить… Хотели пробиться без пропуска…
Фиолетов не отвечал, он дрожащими пальцами разворачивал сверток, и, когда показался твердый, оклеенный зеленым бархатом переплет, сердце его сжалось от ликующего восторга. Он нежно, словно что-то живое, погладил альбом, бережно переложил его с места на место, потом вдруг, словно чего-то перепугавшись, торопливо сунул в стол.
— Идите… Станьте за дверью, — охрипшим от волнения голосом сказал он солдатам, и те, стукнув прикладами, вышли из кабинета.
Фиолетов снова достал альбом и взвесил его на ладони.
— Тяжела ты, шапка Мономаха, — почти шепотом произнес поручик. — Итак, все кончено… И все только начинается… «Горят костры горячие, точат ножи булатные…»
— Господин офицер, — проговорил Неудачник, со страхом наблюдая за поручиком. — Вы отпустите меня?.. Я могу идти?
— Куда?
— Вы же обещали, — затрепетал от ужаса Неудачник. — На все четыре стороны… Дали честное слово…
— Кое-что изменилось, — поручик спрятал альбом в стол и положил перед собой тонкую папку. — Почему ты убил хозяина ресторана?
— Это он пришил Забулдыгу, — с ненавистью проговорил Неудачник. — И альбом был у него. Он его не отдавал. Предлагал мне бежать, но я… Ведь это Джентльмен!
— А часы, — перебил Фиолетов. — Почему часы Лещинского оказались у тебя под подушкой?!
— Не знаю, — слабеющим голосом ответил Неудачник.
Фиолетов раскрыл папку.
— Немного истории, господин Неудачник… Я навел о вас справки. 1914 год… ограбление купца Семенова… Было сие?
— Да, — выдавил Неудачник.
— …1916 год, — сухо продолжал читать поручик, — взлом магазина на Пушкинской… Сознаешься?
— Да… Но это…
— …1918 год. Нападение на кассира…
— Но это же при большевиках! — закричал Неудачник. — Это же не в счет!
— Злостные, систематические преступления перед обществом, — констатировал Фиолетов и взял в руки листок бумаги. — Ты рецидивист, Неудачник… Вот приказ главнокомандующего… «Секретно. Согласно приказу номер… опасные преступники, мешающие наведению порядка и деятельности законных властей… подлежат немедленному расстрелу без суда и следствия…»
— Господин офицер!! — Неудачник рухнул на колени. — Помилуйте-е!
— Коршунов! — закричал Фиолетов, и в кабинет вошли два солдата. — Взять… В подвал!
Дюжие солдаты подхватили Неудачника под руки и поволокли к дверям.
Андрей поднялся по лестнице, свернул в коридор. Он держал руки в карманах, грея в правой ладони рубчатую рукоять нагана.
И вдруг он замер, остановился у лестницы, спиной прижался к стене, пропуская троих — два солдата волокли Неудачника. Он поймал на себе его невидящий, слепой взгляд, услышал клокочущие рыдания и тогда рывком, не спрашивая разрешения, распахнул дверь в кабинет поручика.
Фиолетов удивленно обернулся от окна, выплюнул в корзину для бумаг изжеванную папиросу.
— Ты чего? Стучаться надо, Блондин.
— Господин поручик, — беззаботно спросил Андрей, весело улыбаясь, — кого это от вас вынесли под руки? Как пана великого?
— А ты разве не рассмотрел? — настороженно прищурился поручик.
— Никак нет, — пожал плечами Андрей. — А что?
— Ничего, — пробормотал Фиолетов. — Бандит… Грабежами занимался. Оч-чень опасный тип. Таких мы без суда и следствия.
— А я думал — что-нибудь новенькое, — с разочарованием проговорил Андрей.
— Все старо, как в лавке антиквара, — усмехнулся Фиолетов и кивнул на стул. — Садись.
«Я совершил ошибку, — подумал Андрей. — Я должен был узнать Неудачника. Ведь это мой бывший товарищ… Не иначе — альбом у Фиолетова. Убить его. Забаррикадировать дверь и отстреливаться до последнего патрона. И в это время сжечь альбом… А если в кабинете альбома нет?..»
— Так что у тебя за дела? — небрежно спросил Фиолетов и, откинувшись на спинку стула, открыл ящик, в котором лежал револьвер со взведенным курком.
«Блондин не узнал Неудачника, а должен был это сделать, — мысленно сказал себе поручик. — Что за человек? Без документов пришел к нам и вот он уже сотрудник… Первым нашел Забулдыгу, но тот был мертв и бесполезен для нас. Это он, Блондин, познакомил меня с тем коммерсантом Курилевым.
Явно водил нас за нос. Дал нам для розыска уголовников их неправильные приметы…»
— Пришел, как всегда, — ответил Андрей. — Какие будут задания, господин поручик?
«Альбом, может быть, уже у полковника Пясецкого, — соображал Андрей, — надо подождать, как разовьются события дальше… Фиолетов должен меня арестовать… Но почему он не зовет караул? Если протянет руку к открытому ящику стола, я стреляю первым…»
Они сидели один напротив другого, перебрасывались ничего не значащими фразами, но с каждым словом атмосфера все более накалялась, казалось, малейшее неосторожное движение — и произойдет взрыв. Их взгляды уже не скрывали враждебности, они сидели, чуть подавшись вперед на стульях, готовые в любое мгновение вскочить на ноги для решительной схватки, а губы продолжали произносить привычные слова.
— Ты занимайся своим делом, — равнодушным голосом говорил Фиолетов. — Не оставляй без наблюдения базар и станцию…
— С утра до вечера толкаюсь, — жалобно тянул Андрей. — Ботинки не казенные, все каблуки пооттоптал…
«Ну почему он медлит?! Убить его… Что он задумал? Почему медлит?! Почему?! Об альбоме знает наверняка, но делает вид…»
«Он связан с Натали… Они хотели меня увести от альбома. Кто за ними? Подполье большевиков или кто-то другой? А какая разница?! Альбом у меня. Я еще посмотрю, на что способен этот Блондин… Я их всех взял за горло, и они это понимают…»
— Ну вот что, — холодно произнес Фиолетов, — мотай отсюда. Без тебя минуты свободной нет. Позовем, когда потребуешься.
Андрей медленно поднялся со стула и неловко поклонился.
— До свидания, господин поручик.
— Будь здоров, — буркнул Фиолетов.
Андрей вышел в коридор и прислонился к поручням лестницы. Рукавом вытер с лица испарину.
«Первым делом я обязан предупредить Тучу… Альбом только у Фиолетова… Надо убрать поручика… Пусть Наташа сходит в кафе „Фалькони“ и встретится с Тучей. За мной могут следить…»
Глава 20
Раскрыв над головой летний зонтик, Наташа медленно шла по солнцепеку пустынной улицей.
— Мадемуазель Натали! — закричал поручик и, перебежав дорогу, зашагал рядом. — Какая неожиданная встреча, не правда ли? Разрешите мне вас немного проводить?
— Пожалуйста, поручик, если вам будет не скучно.
— Я достаточно веселый человек, да и новости, кажется, у меня не из плохих. Папа уже дома?
— Представьте, открывается утром дверь, и он входит, — счастливо проговорила Наташа, — живой, здоровый…
— Целый и невредимый, — засмеялся Фиолетов. — Я выполняю свои обещания. Кстати, освободить его было очень нелегко. Мне грозили неприятности…
— Но вы пренебрегли ими, — мило улыбнулась Наташа, — и показали себя с рыцарской стороны… Я очень вам благодарна.
— Пустяки, — беззаботно махнул рукой поручик. — У вас прекрасный папа. Я с ним беседовал. Он так беспокоился о дочке…
— Необоснованные волнения, — бросила Наташа. — Что делать? Старый человек…
— Не говорите так, — поручик мягко взял ее за локоть. — Разрешите? Ваши странные знакомства с подозрительными людьми. Человек, который у вас живет… Это все его беспокоит!
— Какой человек? — округлила глаза Наташа. — Боже, о чем вы, поручик?
— Ну, ну, полноте, — успокоил ее Фиолетов. — Просто человек… Как говорит ваш папа, имеющий на вас влияние… Возможно, большевик!
— Не пугайте, поручик, — она весело посмотрела на него.
— Даже если он большевик, то я умываю руки, — поклонился Фиолетов. — У нас их много. Их фотографии могли бы составить целый альбом. Но это пустяки. На одного большевика больше или меньше — какая разница? Просто этому повезло. Есть кому о нем беспокоиться. В принципе — они такие же люди, как мы… Что их ожидает? Пуля в лоб — и в канаву.
— А разве нет возможности спасти? — спросила Наташа.
— Я думаю, у каждого из них есть родственники, близкие люди, — проговорил поручик. — Могли бы им помочь.
— Вот как? — помедлив, сказала Наташа. — Это ужасно, что люди в таком положении. В конце концов, долг каждого христианина — в милосердии. Может быть, надо найти этих родственников?
— Боюсь, — грустно сказал Фиолетов, — что им будет не под силу выкуп арестованных. Сейчас все покупается, к сожалению…
— Очень дорого? — обернулась к нему Наташа.
— Да, — кивнул он головой. — Весьма… По восемь тысяч за снимок… И то не деньгами, а валютой в металле.
— Золотом?
— Да, — поручик развел руками. — Что поделаешь? Фронт приближается. Через неделю красные будут здесь. Возможно, кому-нибудь из наших придется уехать. Ну, к примеру, в Париж. Бумажками они не возьмут. Мне почему-то кажется, что от вас зависит жизнь многих людей. Можете обратиться к своему квартиранту. Мне безразлично, кто он. Я беру на себя посредничество только из чувства сострадания. Слово офицера.
Поручик положил свою руку на ее ладонь, затянутую в перчатку.
— Советую сделать это сегодня… ночью. Часов в двенадцать. Пусть ваш квартирант зайдет ко мне и скажет, допустим, одно только слово: «Париж»…
— Париж, — грустно повторила Наташа.
— Предупредите, пожалуйста, родственников. Мне безразлично, кого вы пошлете ко мне, — Фиолетов шутливо наморщил лоб, — но моя квартира будет охраняться. Я сам буду увешан оружием с ног до головы, как черкес. До свидания, мадемуазель Натали. Целую ручки.
Он козырнул и пошел дальше, а Наташа, постояв, вернулась домой.
— Вот как? — сказал Андрей, выслушав ее. — Что ж, значит, припекло. Это не похоже на смелость. Отчаяние…
— Но где достать столько денег?
— Что напрасно волноваться? У нас их нет.
— Он ждет сегодня!
— Ну что ж. Я приду, — усмехнулся Андрей. Наташа без слов обняла его.
Он вышел на улицу и остановил извозчика.
— Гостиница «Палас»! Живо.
Миновав дежурного офицера, Андрей поднялся на второй этаж. Он решительным шагом направился в приемную полковника.
— Мне срочно нужен господин Пясецкий, — сказал Андрей адъютанту.
Тот пожал плечами.
— Полковник занят.
— Дело касается его жизни, — твердо сказал Андрей.
Через минуту адъютант вернулся из кабинета и небрежно бросил:
— Войдите!
Полковник на чистом носовом платке разбирал наган, протирая его части фланелевой тряпочкой. Делал он это тщательно. Прищурившись, глядел в сверкающее нарезное дуло, направив его на солнце в окно.
— В чем дело? — неприветливо спросил он.
— Господин полковник, — отчеканил Андрей, стоя перед столом навытяжку. — Есть доказательства: вас хотят обдурить.
Пясецкий метнул на Андрея быстрый взгляд и показал на стул:
— Садитесь. Что вы имеете в виду?
Глава 21
Поручик сидел за столом у себя дома, положив руки на переплет альбома. Справа под бумагами он спрятал наган. Все было готово к встрече — опущены тяжелые шторы на окнах, в вестибюле расставлены часовые. Двое из них сидели на ступенях крыльца — их можно было заметить, если, заслонившись ладонями от света, прижаться к стеклу. И все-таки он волновался — еще и еще раз мысленно проверял
поступок, который хотел совершить. У него было время передумать. Мог арестовать гостя, как только тот переступит порог. Стоит поднять трубку и сообщить полковнику об альбоме, и обеспечена благодарность по службе и следующий офицерский чин… Но он знал, что так не поступит. Теперь уже деньги ему нужны не для того, чтобы откупиться от воров-интендантов.
Он слишком долго был соучастником этого безнадежного предприятия — попытки реставрации прошлого в безумном настоящем. Теперь будущее приобретало интерес, поскольку появилась возможность играть в нем роль хотя бы простого свидетеля. Живого, с плотью и теплой кровью… Теперь он глубоко презирал все фетиши, придуманные людьми для оправдания своего рабского повиновения авторитетам. Чины, благодарности, ордена, истинная цена которым равна стоимости железки, не могли возместить напрасно прожитые годы, брошенные под ноги нелепым, безнадежным идеям.
Пройдет еще десять, пятнадцать дней, и тугая линия фронта лопнет, как перетянутая тетива лука. Полки покатятся вспять, растаптывая свои обозы, теряя генералов и забывая хоронить умерших от ран. Сорванные золотые погоны будут валяться на пыльных обочинах дорог… И лишь самые сильные выживут — в ржавых корытах океанских кораблей они поплывут к обетованным берегам. В Париж, как сказал он Натали. Назад пути нет! До развязки осталось несколько минут…
Поручик услышал шаги на лестнице. Он посмотрел на дверь немигающими глазами. Рука его легла на пистолет.
Дверь открылась, и в проеме выросла фигура полковника.
— Господин поручик, — тихо произнес он. — Вы арестованы!
Фиолетов медленно поднялся из-за стола.
— Я не понимаю, полковник! Здесь какое-то недоразумение.
— Вы арестованы, как изменник родины… Как жалкий предатель интересов России.
— Я требую объяснения! — воскликнул гневно поручик.
— Я обвиняю вас в том, что вы вошли в гнусный сговор с врагами отечества…
— Доказательства, полковник!
— …Скрыли от разведки агентуру противника! За спиной высшего начальства вступили в переговоры, которые подрывают силу и мощь армии, и тем самым нарушили военную присягу офицера!
— Прекратите, полковник, этот театр! Мне нужны доказательства!
— Они будут, поручик, — Пясецкий поворачивается к двери. — Войдите!
В комнату, испуганно сжавшись, вошел Неудачник.
— Черт! — вырвалось у Фиолетова. — Каким манером?
— Я задержал исполнение приговора. — Пясецкий вытянул руку в сторону поручика. — Альбом у него?
— Да, — прошептал Неудачник.
— Вы сами ему отдали?
— Да.
— Нет! — взорвался Фиолетов. — Ложь!! Он арестован как опасный уголовник!
— Вы хотели избавиться от свидетеля, поручик. Альбом у вас. Он лежит на столе.
— Альбом? Да… Он здесь, — Фиолетов попытался взять себя в руки. — Полковник, согласитесь, его находка стоила этой сложной интриги… Теперь мы можем объясниться, и вы поймете. Я торжественно передаю вам сей неоценимый клад!
— Цена известна, поручик, — презрительно бросил Пясецкий. — Вы назвали ее, пытаясь продать альбом большевикам! Россия еще не оскудела верноподданными героями…
— Врете! — с ненавистью закричал Фиолетов. — Врете, как бессовестный, грязный пес!!
Полковник распахнул двери.
— Войдите!
Андрей переступил порог комнаты.
— Сегодня утром поручик Фиолетов предлагал альбом моей невесте. — спокойно сказал Андрей и замолчал.
— Даром? Просто так?
— За золото, господин полковник.
— Так это заговор? — ужаснулся поручик и отступил на шаг от стола. — Сплошной обман…
— Господин поручик… — тяжело проговорил полковник. — У вас в столе лежат золотые часы Лещинского. Как они к вам попали?
— Клянусь… Первый раз слышу, — зашептал поручик и провел ладонью по лицу.
— Часы на стол! — приказал Пясецкий. — Ну?!
Фиолетов послушно сунул руку в карман и достал часы. Они со стуком выпали из его вялых пальцев.
Полковник смерил поручика с ног до головы холодным взглядом и повернулся к дверям.
— Охрана! — позвал он.
— Будьте же вы прокляты все! — хрипло сказал Фиолетов и, поднеся наган к виску, нажал курок. Раздался негромкий, лопающийся звук. Фиолетов упал на подогнувшихся коленях, лицом в ковер.
— Презренная смерть… — сухо произнес полковник и, подойдя к столу, взял альбом. — Едем! Нам тут больше делать нечего!
Они спустились с лестницы, и на крыльце полковник бросил охране:
— Благодарю за службу!
Он сошел по ступеням и сел в открытую легковую машину рядом с шофером. На заднем сиденье устроились Неудачник и Андрей.
— Трогай, в «Палас», — устало сказал Пясецкий и обернулся: — Вы ловко все это обставили, Блондин. Я в душе не верил. Особенно хорошо с часами… Относительно невесты… Почему поручик обратился именно к ней?
— Не могу знать, господин полковник, — ответил Андрей. — Наверно, ресторанное знакомство…
— Ничего… Мы разберемся, — пообещал Пясецкий.
Машина мягко покачивалась на булыжниках. Одинокие фонари проплывали стороной, почти не давая света, и улицы лежали темные и пустынные.
Кажется, здесь… Да, здесь… Еще поворот и… Андрей сунул руку в карман пиджака, медленно достал наган. Он приставил его к спине полковника и тихо произнес, вдавив тонкое дуло между худыми лопатками:
— Не двигаться, полковник.

— Что?! — взревел тот и рванулся вбок. Шофер крутнул руль, и машина, ударившись об угол дома, накренилась, застыла. Завопив, Неудачник прыгнул через дверцу. Андрей упал на сиденье. Полковник выстрелил в него через плечо. Раз. Другой. Отшвырнув потерявшего сознание шофера, у которого кровь заливала лицо, он выбрался из покореженного железа и побежал по улице, оборачиваясь, то и дело вскидывая наган, чтобы выстрелить. Другой рукой Пясецкий прижимал альбом. Вдруг он метнулся к парадному входу, забарабнил в дверь кулаками.
— Откройте-е!!
Собрав все силы, не пригибаясь, Андрей бросился к нему. В домах кое-где вспыхнули огни. На балконах послышались испуганные голоса.
Пясецкий увидел Андрея и поднял наган. Гулко выхлестнуло пламя. Ударило в плечо. Андрей споткнулся и, падая, нажал на курок. Полковник рухнул с крыльца. Андрей поднялся на ноги и, чувствуя, как они дрожат и подгибаются, побежал к дому. В остановившихся глазах полковника было мучение. Он умирал.
Андрей поднял альбом. На соседней улице вспыхнули выстрелы.
— Назад! — закричал кто-то.
Дружеские руки подхватили Андрея и потащили в глубину проходного двора. Теряя сознание, Андрей узнал лицо Тучи.
В переулке осталась искореженная машина. Языки огня уже лизали помятое железо. Вот вспыхнула мягкая обивка. Грохнул, вскинув в темноту снопы искр, взорвавшийся бензобак. Светящиеся обломки разлетались по мостовой. Остов «форда» горел жарко, с треском и шипением. Пламя металось, и в каждом окне черных домов горел отсвет пожара.
Через несколько дней, 25 сентября 1919 года, в городе вспыхнуло вооруженное восстание. Рабочие отряды заняли вокзал, почту, осадили «Палас». Колонны шли с заводских окраин к центру, завалами баррикад отсекая белым войскам дороги к отступлению. Ветер с севера уже доносил артиллерийскую канонаду и дым горящих лесов…
Шел второй год гражданской войны.
ВОЛЧЬЯ ЯМА

I часть
Глоба въехал в ворота губмилиции, медленно слез с линейки, замотал вожжи за обгрызанное зубами лошадей бревно коновязи. Затем, ставя поочередно ноги на ступень каменного крыльца, щепкой начал тщательно срезать налипшую грязь с добротной, пропитанной дегтем кожи яловых сапог. Подтянул высокие, по колени, голенища, выпрямился, откинув привычным движением болтающуюся у бедра деревянную кобуру маузера, и повел глазами по двору — из конюшни конного резерва слышались сердитые окрики и перестук копыт, под навесом гонтовой крыши сидело несколько милиционеров и дымило самокрутками, поплевывая в лужу, пузырящуюся от дождя. Землю вокруг словно перекопали — ее размесили колеса подвод и автомашин. Здание двухэтажного особняка, когда-то покрашенное в желтый цвет, сейчас было изъязвлено ранами от отпавшей штукатурки, красный старинный кирпич, хорошего обжига, кровянел в этих неровных пятнах. Часовой брел вдоль стены, закинув винтовку за спину и подняв воротник серой шинели, его раскисшие ботинки скользили по тропке. На балконах, обнесенных коваными решетками, мокли поломанные шкафы и кресла без спинок.
Тихон Глоба не отметил ничего нового — месяц его тут не было, а все осталось без изменения. Дождь смыл дворовые запахи лошадиной мочи и натрушенного у коновязи сена, свежести травы, растущей под забором, и сейчас воздух пах гнилым деревом и дымом — где-то тлел костер.
Глоба чуть насупился и потянул на себя тяжеленную дверь в медных головках гвоздей. Он простучал подошвами сапог по широкой лестнице и повернул в коридор, наполненный людьми, кто-то с ним здоровался, кого-то он узнавал сам и кивал головой или встряхивал руку, коротко стискивая железными пальцами. В отделе уголовного розыска стоял чадный дым табака. Свободные от дежурства сотрудники травили анекдоты, вспоминали что-то смешное, громко хохотали. Комната была уставлена неодинаковыми столами, старыми стульями, табуретками. Глоба снял фуражку, вытер подкладкой мокрое от дождя лицо и начал пробираться к двери кабинета заместителя начальника губмилиции. Но его уже заметили, шум попритих, послышались веселые возгласы, Тихон немного смутился, и лицо его, крупное, со слегка притуплёнными чертами, потемнело от скрытой напряженности.
— А-а! — весело закричал один из сотрудников, картинным жестом вынимая из зубов прямую английскую трубку. Он сидел на краю стола, заложив ногу за ногу, — в клетчатом костюме, с белоснежным кончиком платка, торчащего из нагрудного кармана широкого в плечах пиджака. — Привет грозе бандитов! Давненько не виделись!
— Да вот, — скупо усмехнулся Глоба, кивнув в сторону кабинета зама. — Вызвал…
— Нет, браток, тут уж я первым, — отозвался стоящий под дверью. — Мне пора на дежурство, а все не вызывает. Ты садись. Дойдет и до тебя очередь.
Он говорил беспечно, в его нагловатых глазах светилась удаль никогда не унывающего человека. Откинул бритую голову затылком к стене, бровь черную изогнул, неясная усмешка затаилась в уголках сухих губ.
— Здравствуй, Кныш, — сказал Глоба и присел на табуретку. — Как жизнь?
— Будь здоров, — хохотнул сотрудник. — Ловлю уркаганов. Вот сейчас мне Лазебник задаст взбучку.
— За что же, если не секрет? — осторожно спросил Глоба.
— А то ты его не знаешь! Ты много в этом месяце бандитов поймал?
— Ни одного, — буркнул Глоба.
— А сколько их у тебя в уезде?
— Не считал.
— Городской бандит — это особь статья, — подхватил Замесов, пыхая дымом из трубки. — Не чета селянскому. Крестьяне — народ темной стихии. Заорали, колья похватали, активистов побили — и по хатам. Там и бери их тепленькими. Ну, самые перепуганные — на коней и в лес. Лето в банде пожируют, а зима придет и зачешется мужик: холодно, жрать нечего. Опять-таки вернется домой.
— Это точно, — согласился Глоба. — Зимой их только и брать.
— А бандит городской, — продолжал Замесов, вкусно посасывая мундштук трубки, — личность примечательная. У него свой язык. Традиции. Отработанные законы. Они нашего брата с одного взгляда видят. Нюх! Глаз! и жестокость показательная — все, как говорится, для дела. Таких на пушку не возьмешь.
— То вы, ребята, правы, — качнул головой Глоба. — Наш бандит разных там тюремных слов не понимает. Или же — как сейф ковырнуть. Глупый в таком ремесле. Совсем необученный. Ему бы, сельскому, всех коммунистов перерезать да свою власть поставить.
— Ты хитрец, Глоба, — погрозил Замесов трубкой. — Вот скажи — на дворе сентябрь месяц, а вполне осенние дожди. Увидим ли мы теплые денечки? Что говорят твои мудрые старики?
— А балакают — все еще будет. И бабье лето, и дождь, и снег.
— Добро этим, из уездов, — с насмешкой сказал молоденький паренек в сатиновой косоворотке и начесанным на правую бровь пшеничным чубом. — У них, понимаешь, природа! Свежий воздух круглый год. Бандитов ловят — палят из наганов, на конях скачут. А тут из-за угла подглядываешь, под забором лежишь ночь — и ради чего? Какая-то шпана во дворе с бельевой веревки портки стянула.
— Это Сеня Понедельник, — понимающе усмехнулся Замесов. — Новенький. Пинкертоном хочет стать. Все мы были такими, а потом розыск из нас людей сделал. Как ты там живешь, в своей Тмутаракани?
— Как и все, — пожал плечами Глоба. Он равнодушно отвернулся от Замесова и потянулся к пачке папирос «Пальмира», которую открыл Кныш, ловко подрезав крышку прокуренным ногтем большого пальца. Закурил, замкнувшись в себе — молчал, глядел под ноги, глубоко затягиваясь табаком. Ему было двадцать два года, но он выглядел старше: лицо, дубленное солнцем и ветрами, и привычка смотреть пристально, без выражения, даже с какой-то холодной льдинкой в зрачках, сдвигая на лбу поперечную морщину.
Каждый раз, попадая в отдел уголовного розыска губмилиции, Глоба испытывал чувство неловкости — он приезжал сюда без особого удовольствия. Его раздражала пестрота, непохожесть этих людей друг на друга и подчеркнутая независимость, какая-то гонористость, желание выделиться жестом, словом, показать свою принадлежность к избранным, тем немногим, которых объединяло общее дело — опасное и жестокое. И разговоры их, деланно беспечные, с легкой иронией к смертельному риску, казались Глобе неестественными, словно они говорили не о своей повседневной жизни, а каждый раз что-то придумывали на ходу. Да, за этими столами с пятнами чернил и ободранным сукном сидели люди особой судьбы. Стреляные и колотые, не раз битые до полусмерти, они чуть ли не каждые сутки ходили по острию ножа, но в жизни, той, что шла за стенами особняка губмилиции, были для многих лицами мало известными. И вот только собираясь вместе, в такие редкие для них минуты отдыха, они как бы сбрасывали свои будничные одежды и представали друг перед другом в полной своей необычности.
— Как там наша Маняша? — спросил с интересом Кныш о жене Тихона, работавшей еще до недавнего времени в губмилиции секретарем.
— Нормально, — коротко ответил Глоба. Ему не хотелось сейчас говорить о ней. Они поженились недавно, и он был счастлив. — Все в порядке.
— Сегодня поутру Кольку Черта привезли, — небрежно сказал Кныш.
— А кто его взял? — спросил Глоба.
О городском бандите Черте слух шел по всей губернии. Это он, переодев свою банду в кожаные куртки, под видом чекистов, устроил в парке облаву. Те, у кого деньги, драгоценности и оружие, — влево, остальные — стоять смирно, не двигаясь. Забрали все подчистую и скрылись. На его счету грабежи и убийства.
— Ты знаешь, — продолжал Кныш, — я по его следу какой месяц шел…
Дверь кабинета открылась, и в проеме встал замначальника губмилиции Лазебник — дородный мужчина в отглаженной гимнастерке и хромовых сапогах. Увидев поднявшегося с табуретки Глобу, коротко сказал:
— Приехал? Заходи. С остальными потом, товарищи. Гостю первый почет.
Они сели за стол друг против друга, и Лазебник, достав из кармашка крошечную расческу, несколькими движениями тщательно расчесал волосы, умело забросив их на желтую лысину. Голубые глаза его изучающе посмотрели на Глобу.
«Беда с этими уездами. Бандитизм, грабежи… Мальчишки на постах начальников. Чего от них требовать? Мужицкая жизнь ступает медленно — полдня туда, полдня сюда. Вот и Глоба… Пожил с ними, взматерел. С неба звезд не хватает, но обязанности свои знает. В общем-то, кажется, немного туповатый, мало думающий, но честный малый. Культуры ему не хватает, да, но для села… В тех краях друг друга с пеленок знают. Кто ограбил, убил, ушел в банду — известно не в одной хате под соломенной стрехой. Культура ли нужна, чтобы нащупать преступника? Жесткая рука! Не одного бандита привез он сюда на своей линейке. Говорят, в уезде его побаиваются. Смелый хлопец. Душа у него холодная. О чем он думает, когда вот так пристально смотрит на тебя, первым не отводит взгляд в сторону? Мог бы перед начальством и опустить взор до долу, не велик чин…».
— Как живешь, Глоба? — раздраженный своими мыслями, спросил Лазебник и потянул к себе за угол папку, раскрыл ее на нужной странице, повел по строкам кончиком карандаша. — Руководство анализировало положение в твоем уезде. В целом, по всей губернии проходит резкий спад бандитизма. Еще три года тому назад мы видели его вспышки почти повсеместно. Кулацкие мятежи в Поволжье и Сибири, Кронштадте… У нас на Украине… Банды Махно доходили до самого Харькова. А сейчас нам дышится легче, не так ли, Глоба?
— Да, — кивнул Тихон. — После замены разверстки натуральным налогом в селах стало тише.
— Еще бы! — воскликнул Лазебник. — Теперь им жизнь! Свободный обмен хлеба, торговля излишками. Один только выпуск червонцев чего стоит — каждая десятка обеспечена чистым золотом! Того и гляди, всех крестьян до уровня кулака дотянем, — хохотнул он. — Там вышел с лукошком, побросал в землю зерна, господь бог дождичек ниспослал… И нате вам — выходи с косилкой, обмолачивай, сыпь в мешки спелое зерно, тащи его в город… Что, не так? А рабочему что делать? Завод — это тебе не поле. Заводы не работают — нет сырья! Машины старые! Заказов нет! Безработица! Кадровые рабочие по мобилизации в армии, а то и погибли в боях, расстреляны немцами, деникинцами да бандитами. В нашей губернии власть менялась четырнадцать раз! А теперь для крестьянства все — отменена трудовая повинность, даются банковские субсидии…
— Да, село нынче выправляется, — кивнул головой Тихон, — а то было совсем плохо.
— Ну, Глоба, — возмутился Лазебник, — ты меня удивил. Не единым хлебом жив человек. До мировой революции один шаг оставался. Да увеличить бы налоги на крестьян, мобилизовать их в армию от мала до стара… И светлое будущее человечества — вот, в наших руках!
— А бунты? — хмуро напомнил Глоба. — Не забыли? Что ни село, то ночами пальба… Активистов режут.
— Мягкотелы были, — оборвал Лазебник.
— Ну нет, — посуровел Глоба, — того не скажу.
— Тебе тогда было сколько? — вспыхнул Лазебник. — Восемнадцать лет. Пацан. Я помню, можно было еще поприжать. Последнее усилие — и все, сломили бы мировую контру начисто. А вместо этого мы — продналог! Да еще обещаем в ближайшее время заменить его денежным. Ты соображаешь? Деньгами! А где он, крестьянин, их возьмет? Он их наменяет за хлеб и картошку целыми кулями. Значит, опять у него денег будет больше, чем у рабочего! Вот тебе так называемый нэп!
— Рабочие везут в село ситец, гвозди, крестьянин в город — хлеб. Жить стало легче, а кто еще из бандитов остался, — тех помаленьку вылавливаем. Дайте время… Мужик недоверчив, все приглядывается к новому. Ему бандиты тоже помеха. Когда пальба да пожары — много хлеба не посеешь. Бандитов кормить надо, а жрать они любят сладко.
— Считаешь, что время само на нас сработает? — желчно спросил Лазебник. — А мы будем сидеть сложа руки? Нет, шалишь, Глоба. Мы такие дела на самотек не пустим. Расслабились на данном этапе. Расслюнявились. Видно, срослись вы с тамошними, уже смотрите на все их глазами.
— Ну, это вы бросьте, — хмуро проговорил Глоба.
— Тогда, значит, работаете спустя рукава. Не хочу быть бездоказательным. — Лазебник торопливо вынул из папки листок бумаги. — Вот твоя сводка. «Ограбление кооперативного продовольственного ларька… Преступники не найдены». Не найдены, Глоба! Читаем дальше. «Убийство селянина Курилко Ивана Федотовича, год рождения 1906… Село Пятихатки. Убийца не найден». Читать еще? Молчишь. А ведь факт вопиющий. Но этого мало. «Ударом в спину ножом убита молодая учительница Марина Сидоровна Кулик, приехавшая в село Смирновка из города по направлению наробраза». И, конечно, бандит не обнаружен. Не много ли, Глоба?
Тихон молчал, закаменев на стуле, лицо его потемнело еще больше, а губы сомкнулись в жесткую линию.
— Ты не забывай, какие у тебя корни, — уже спокойно проговорил Лазебник. — Ты из рабочих. Не беда, что был на заводе всего три года. Дед твой литейщик. Отец из клепочного цеха. И ты был там. У тебя в крови классовое сознание. Сегодня всех собирают на совещание. Иди, отдохни немного с дороги. И приготовься к выступлению, расскажешь о своих делах.
Откинувшись на спинку стула, Лазебник вдруг заулыбался, царапнув ногтями выбритую щеку. Лоб его покрылся морщинками.
— Я приеду к тебе и покажу, как надо работать. Ты это запомни. Когда-то работал в Чека, кое-что умею.
— Зимой будет легче, — сказал Глоба, поднимаясь из-за стола. — Летом в лесу никаких следов.
— Работа наша круглосуточная, — хохотнул замначгубмилиции, сразу вдруг сделавшись добродушным и веселым, словно это не он еще минуту назад гневно сверлил Глобу взглядом.
— Иди, иди, сезонник, — Лазебник благодушно засмеялся и замахал руками, прогоняя Глобу из кабинета.
Переночевав в общежитии конного резерва, выпив утром кружку чая, распрощавшись, Глоба сел на линейку и отправился домой. Отдохнувшая за ночь, сыто покормленная лошадь бежала споро, поцокивая подковами по чистому булыжнику городских улиц. Дождь все сеялся с пасмурного неба, мелкие лужи оловянно поблескивали. С тумб для объявлений свисала мокрая бумага. Прохожие спешили по тротуарам, прячась под старенькими зонтиками, подняв воротники. Бесчисленные дороги, разветвляясь, уходили за повороты, скрывались за каменными зданиями. Там и тут гремели железные жалюзи магазинов. Приказчики, встав на табуретки, протирали запотевшие стекла витрин. Возле собора толкались нищие.
Чуть подергивая вожжи, Глоба читал набегающие на него вывески и броские самодельные рекламы.
«Булочная Нефедова…», «Сенсационная новость! Радикальное средство от пота ног! Цена 90 коп. пара…», «Порошок для моментального уничтожения волос „Депилаторий“…»
Буквы кричали, прыгали, взлетали восклицательные знаки. Дождь уже подмыл краски, обнажив фанеру и тронутое ржавчиной железо. Из раскрытых окон чайной вкусно пахло горячим хлебом. За стеклами аптеки таинственно мерцали синие флаконы.
…«Миллионы людей покупают ароматические лепешки „Ричард Вердо“ для моментального производства разных наливок, настоек и коньяка прекрасного качества, вкуса и аромата. Требуйте везде! Цена 30 коп. коробка!», «Оптовая торговля сеном. Кутько», «Парижский шик! Длинн. Ожерелье, имитация цвет, камней —6 руб. Серьги —3 руб. 20 коп.!»
С того дня, как впервые увидел что-то подобное в окне первого этажа частного дома, когда долго, с чувством недоумения и какой-то обжигающей обиды глядел на расписанный от руки квадрат рекламной картонки, прошло два года — казалось, можно было бы уже привыкнуть. И все же не мог. Куда ни глянь — отовсюду на тебя смотрят позолоченные вывески, лакированные надписи, названия наливок, сыров, обуви, одежды… Новая экономическая политика. Вечерами горят фонари над входами во вновь открытые рестораны, возле подъездов синематографов начинают фланировать дамочки на высоких каблуках с горжетками из лисьего меха. Кажется, еще недавно под стенами этих же зданий валялись в пыли опухшие от голода, отечные люди… По заводам и учреждениям в фонд голодающих Поволжья, Сибири и Украины отчисляли крохотные доли хлебной пайки.
Завшивленные эшелоны ползли по разбитым железнодорожным колеям, миллионы тифозных в обморочном бреду валялись на вокзалах и в переполненных госпиталях. Где тогда были обладатели идеальных средств и радикальных снадобий, разве их секретные запасы не должны были прожечь землю? Но вот… За чисто вымытыми стеклами витрин в слюдяном отражении пасмурного утра плывут розовые лица и белоснежный крахмал передников, забрызганное дождем фальшивое золото торговых вензелей толстомясо отсвечивает свежим лаком…
Простуженно загудел главный колокол собора. Отвечая на его густой бас, затявкали, неистово заколотились малые колокола и разом все смолкли, лишь один из них запоздало вякнул надтреснутым голосом. У хмурого здания трудовой биржи уже вытянулась очередь безработных. Держа под мышками сухие веники и свертки с одеждой, строем прошла военная команда в субботнюю баню.
Глоба легонько ударил лошадь вожжами по крупу, и она перешла на легкую рысь, железные ободья колес линейки запрыгали по булыжникам.
Вот и окраина города — покосившиеся домишки, крытые соломой и толем, листы ржавой жести, прижатые плоскими камнями, подслеповатые окошки и крошечные палисадники с кустами крыжовника и сирени. В одной из хат, третьей с края, по переулку Речному, прошло детство Тихона. Отец его работал клепальщиком на Паровозостроительном заводе, мать уборщицей в конторе, а старший брат учеником в кузнечном цехе. На гражданской под Царицыном погиб отец, мать умерла от тифа, брата отправили в далекий южный городок на партийную работу — остался Тихон один. Устроился в отцовский цех — на ножных горнах грел заклепки. Громадные паровозные котлы гремели под ударами молотов, их круглые бока были прострочены аккуратными рядами головок. Люди объяснялись друг с другом словно глухонемые — беззвучно раззевая рты. От чада и железной пыли, сбиваемой кувалдами с дребезжащих стальных листов, першило в горле.
Приземистый забор Паровозостроительного уже давно тянется вдоль дороги. За ним виднеются прокопченные цеха с разбитыми окнами. Несколько кирпичных труб воткнулось в низкое небо, — лишь одна дымит, выпуская размытый деготь пережженного угля. На проходной ворота распахнуты, видна заводская площадь, заваленная трубами, покрытыми битумом. Тощая лошадь с трудом тащит телегу, прогнувшуюся под тяжестью металлической стружки — нагребли вилами выше холки, увязали промасленной веревкой, словно крестьянский воз с сеном, прокаленная канитель свисает путаными клочьями. Значит, работает механический цех, там, под монотонный шлепающий гул ременных трансмиссий стальные резцы сдирают с заготовок горячие ленты, свиваются они в тугие яблоки, которые рабочие сдергивают проволочными кочережками на пол. Разламываясь, они хрустят под подошвами сапог, как сухари, мерцающей крошкой забивая щели между рифлеными плитами.
Ветер дохнул со стороны завода и вместе с каплями дождя принес сладковатый дух горящего кокса и остывающего в изложницах чугуна. Глоба долго провожал взглядом распахнутые ворота проходной, все поворачиваясь назад, пока шею не заломило. Завод отдалялся, был он похож на древний город, отгороженный крепостной стеной, — между кирпичными цехами с узорными башенками по углам, с высокими фронтонами и окнами, расчерченными мелкими переплетами, лежали узкие улочки, вымощенные камнем, с узкими, двоим не разойтись, тротуарами, вдоль которых бежали темные ручьи, запятнанные нефтью и керосином.
Если честно говорить, то Глобе следовало бы повернуть оглобли и въехать в заводской двор. И войти под гулкие своды клепального, где его друзья-корешата стоят у раскаленных горнов, ногами нажимая на педали мехов, одновременно шуруя клещами в слепящем коксовом пламени, как черти в преисподней, черные от сажи. И там, стоя на сквозном ветру пролета, заорать бы ликующим голосом, заглушая перестук молотов и корытный гул пустых котлов:
— Братва-а! Не узнали Тишку?! Ну дае-е-ете! Аль забыли начисто?!
А может, и правда забыли молоденького парнишку в отцовском, не по росту длинном бушлате с медными пуговицами, в развалюхах-ботинках солдатского образца. Вдруг не признать им члена комсомольской цеховой ячейки Тишку Глобу в милицейском командире с малиновыми петлицами на углах серой шинели? На его голове франтовато примятая зеленая фуражечка с крошечным лаковым козырьком, витые шнуры обрамляют шитый золотом щиток с алыми серпом и молотом.
Оторвался Тишка от своей заводской братвы, пропал неизвестно куда. В самый трудный момент, когда, казалось, вот-вот Паровозостроительный должен был стать на мертвый якорь из-за нехватки топлива…
Нет, не сегодня, видно, шагнет он в цеховой пролет навстречу красным огням пылающих горнов. Времени у него только на дорогу, а в конце пути ожидают его дела и дела… Ограблен кооперативный ларек. Ломом выворотили замок, что вынести не смогли — подожгли керосином из разбитой бутылки. Убита молодая учительница Марина Сидоровна Кулик. Труп ее лежит в холодном подвале уездной больницы. По-девчоночьи худое тело до подбородка укрыто казенной простыней. Нож, глубоко засаженный под лопатку, — кованый, с рукоятью, обтянутой кожей. Такой, если взять его за острие и швырнуть с силой, пробьет доску толщиной в два пальца. Судя по всему, так и брошен был этот нож в спину учительницы — метнули из-за плетня и побежали через огород. Следы сапог преступника привели к берегу речки и пропали у самой воды. Убийца, возможно, из того же села, вышел на проселочную дорогу и опять вернулся к своей хате. Вдруг стоял в толпе крестьян, молча глядя, как милиционеры укладывают тело на телегу? Так еще в селе не убивали. В городе подобное встретить — да, но в селе? Здесь эти приемы неизвестны, здесь бандиты действуют проще, у них свои надежные помощники — гирька на плетеном ремешке, отточенный, как бритва, плоский немецкий штык или верный «куцак»-обрез — опиленная винтовка, из которой удобно стрелять навскидку и легко спрятать под рубашкой.
Дождь вроде перестал, на небе появились голубые проталины, словно оно до сих пор было наглухо засыпано грязными сугробами, но вот потянуло ветром, и снежные завалы начали таять, сквозь их фиолетовую водянистость там и тут проступила свежая лазурь.
Города уже давно не видно, он скрылся за прихлынувшим к дороге лесом. Где-то там, в самой глубине, затаилась Волчья Яма. Даже в самую сухую погоду ветер несет оттуда запахи прелой гнили — самое что ни на есть бандитское место.
Дорога уходила в гору, поворачивая в сторону, в этом месте лес как бы смыкал свои руки — ветви сосен, растущих по обе стороны тракта, сплетались, образуя тоннель, полный пасмурной темноты. Еще недавно Глоба, проезжая тут, всегда соскакивал с линейки, ударял лошадь вожжами, а сам нырял в кусты. Шел вдоль дороги, мягко ступая по опавшей хвое, и слушал лесную тишину — не раздадутся ли крики и выстрелы? В левой руке держал деревянную колодку маузера с откинутой крышкой. А сейчас он только уселся поудобнее, на всякий случай подтянул за ремешок пистолет поближе к колену и так, напряженно вглядываясь в приближающийся лес, въехал в его густую тень под громкий перестук колес, запрыгавших на комьях земли. Лошадь вынесла линейку из-под густого свода деревьев прямо в травяной простор полей, к солнцу.
…Старший брат Глобы Иван зашел в клепальный цех и поманил Тихона рукой. Они вышли в заводской двор.
— Завтра я уезжаю, — озабоченным голосом проговорил Иван, — утром попрощаемся. А пока я хочу тебя познакомить с одним человеком. Все, о чем он будет с тобой говорить, твоим друзьям знать не обязательно. И не удивляйся ничему.
В пустом кабинете партийного комитета Тихон увидел грузного человека в потертой кожаной куртке.
— Садись, — предложил тот и кивнул на стул. — Глоба-младший?
— Да. Он.
— Комсомолец, член бюро цеха… Да ты не молчи, чего язык-то прикусил?
— Если вы обо мне сами знаете, — хмыкнул Тихон, — то чего лишнее болтать?
— Резон, — усмехнулся человек и назвался: — Я Рагоза. Из губчека. О тебе мы знаем, ты прав. И брат тебя характеризовал. Слушай, Тихон, если мы тебе предложим работать у нас?
— Да вы что?! — отшатнулся Глоба. — Я вам там… такого нашурую.
— Ничего, — подбодрил Рагоза, — мы за тобой присмотрим. Оступиться не дадим.
— Я ж ничего не знаю! Сами потом в три шеи погоните! Я ж бревно неотесанное!
— Если заслужишь, — согласился Рагоза, пряча улыбку, — вытурим как пить дать. Так согласен, парень?
— Но почему я?! — продолжал растерянно Глоба. — Лучше людей нет?
— Людей не хватает, — помолчав, сказал Рагоза. — Тут ты попал в точку. А работы много. Кругом кулацкие бунты. По ночам в селах вырезают бойцов продотрядов. В лесах прячутся конные шайки. Отряды Махно подходят почти к самому городу. У них кругом своя агентура. О продвижении наших войск знают наперед. Они убивают рабочих, которые ходят в села на менку. Палят зерно, грабят эшелоны с продуктами — рабочий класс голодает. Бедное крестьянство запугано — активистов уничтожают нещадно.
Рагоза выдернул из-за голенища сапога сложенную бумагу и, развернув ее на столе, подтолкнул Глобе.
— Читай… Завтра будет напечатано во всех газетах, а пока имеем перепечатку на машинке. И пойми правильно, парень. Читай вслух!
Тихон начал глухим от волнения голосом:
— «Резолюция Первого всеукраинского съезда незаможных крестьян о борьбе с бандитизмом…
…Каждый уезд должен дать одну кавалерийскую сотню на кулацких конях и кулацких седлах в войска внутренней службы против бандитов.
…Просить ВЦИК издать приказ о том, чтобы оружие, которое незаможными будет выловлено у бандитов, использовалось для самообороны незаможного крестьянства…»
— Так именно и будет, — прервал Рагоза.
— «…Организовать самооборону села. Каждый наиболее бандитский район должен организовать территориальный полк, связать в нем наиболее сознательных, самых преданных делу трудящихся незаможных селян, которые под угрозой бандитов должны подниматься, связываться друг с другом, отрываясь от мирного труда для ликвидации бандитов.
Съезд обязывает каждый комнезамож зорко следить за бандитами и их укрывателями, о каждом случае… доводить…»
Рагоза потянул листок из пальцев Глобы, свернул его гармошкой и сунул за голенище. Испытующе глянул на Тихона из-под насупленных бровей.
— Вот видишь, какие пироги… И ты, пролетариат города, не поможешь бедному крестьянству? Иль у нас не общее дело, парень? Бандитизм несет всем нам голод, разруху и новые человеческие жертвы. Но мы тебя не уговариваем. Думай сам. Дело предлагается опасное.
Поначалу Глоба думал, что ему сразу выдадут кожаную куртку, сапоги на крепкой подошве, галифе и обязательно — маузер. А еще верного коня с легкой гривой, скрипящее седло и клинок с жарко надраенным медным оголовком рукоятки. Звенящие шпоры, красную звезду на фуражку и ежедневный красноармейский паек.
Но из всего, о чем мечталось, получил только последнее — полфунта хлеба и твердую, как деревяшка, сушеную воблину.
Каждый день Тихон шел через весь город и на окраине стучал в дверь небольшого двухэтажного дома с кирпичными стеками и старой, давно не крашенной, жестяной крышей. Ему открывали, и он поднимался по деревянной лестнице в комнату с домашними шторами на окнах. На дощатом полу лежали вытертые ковровые дорожки. Мебель отсвечивала темным лаком. Шелковый абажур свешивался с потолка на витых шнурах. Это была конспиративная квартира губчека, в которой молодые ее сотрудники постигали азы будущей работы. К ним приходили опытные работники, люди, познавшие царскую каторгу и деникинское подполье. Они учили молодежь умению отрываться от слежки, вырабатывали в них наблюдательность, прививали способность ориентироваться в любых сложных положениях. Новички должны были уметь незаметно следить за другими, четко рисовать словесные портреты, работать в паре с товарищем, метко стрелять из различного оружия, знать приемы обезвреживания преступника голыми руками. И еще много такого, о существовании чего ребята раньше даже не могли предполагать. И все это надо было постичь за два месяца.
Из них готовили сотрудников особых поручений — разведчиков в стане врагов. Глоба занимался прилежно, парнем он был скромным, малоразговорчивым, вопросов почти не задавал, но сам не пропускал ни единого слова.
Вместе с ним приходило на конспиративную квартиру еще человек семь. Друг друга они почти не знали, да на то и времени не хватало: два месяца — это всего лишь шестьдесят дней. Все они люди были разные, но объединяло их одно общее чувство: желание как можно скорее освободиться из-под опеки старших — и туда, в самую гущу схватки, чтобы лицом к лицу, не щадя своей жизни во имя революции… Им всем казалось, что они опоздают, и банды будут разгромлены без них. Втайне каждый думал, что именно он совершит то, что послужит главным переломом в борьбе с бандитизмом в губернии. Наставники снова и снова говорили о бдительности, парни соглашались с ними, но ночами видели сны, в которых гремели выстрелы, рвались гранаты и лихие кони выносили разведчиков из предательских засад, чудом спасая жизни отчаянным парням.
Рагоза каждый раз начинал беседу одним и тем же:
— Ребята, никакой бравады… Если не хотите заботиться о своей безопасности, то подумайте о деле. Представьте, разведчик гибнет — и командир слеп, он беспомощен на местности, лишен информации о противнике. А это значит, как говорит опыт, гибель всего отряда. И запишут такое на совесть разведчика. Пусть он умер в страшнейших мучениях, не сказав ни слова, но он рассекретил себя, нужных сведений не принес. Таким образом стал причиной гибели других.
Рагоза пристально глядел в глаза ребятам, стараясь проникнуть в глубину их мыслей. Он повторял еще и еще раз:
— У нас есть отчаянные рубаки — кавалерийский истребительный отряд. Половина бойцов из Первой конной Буденного. Им сам черт не страшен. Ими командуют храбрейшие командиры, от которых бежали гайдамаки и деникинцы. Я думаю, в мире нет командиров более беззаветно преданных революционному долгу. Они могут разрабатывать сложнейшие операции, ходить в конные атаки, сражаться один против пятерых, лежать под ураганным артиллерийским огнем, брать противника в обхват, уничтожая его кинжальными пулеметными очередями… Но все мужество бойцов и умение командиров не помогут нашему делу, если вы, хлопцы, вы, такие незаметные, люди вне подозрения и пристального внимания врага, пока вы, ребятишки, не принесете нужные оперативные данные. А уж тогда… Команда: «По коням! Сабли вон!» И злая сеча. Погоня за бегущими. Руки бандитов уже повязаны веревками. Готовят подводы с пленными для отправки их в город. А походная труба уже зовет дальше: «По коня-я-ям! Марш — марш!» Знать, опять никому неведомый, презирающий славу и почести, глубоко законспирированный разведчик подал свой новый сигнал. Вот так должно быть, ребята. И тогда революция победит окончательно, раз и навсегда! И вы, живые, будете торжествовать на этом великом празднике. Я понятно объясняю, хлопцы?
…Солнце уже стояло высоко. Земля парила перед дождем. Глоба выпряг лошадь и, стреножив ее, пустил пастись по лугу. Сам прилег на линейку, подбив под себя мягкое сено. Вдали поблескивал пруд. Дорога тянулась к плотине, поросшей густыми ивами, а дальше виднелись соломенные крыши Малой Казачки. Село как село — в центре приземистая церквушка с зелеными куполами и облезлым крестом, кирпичная лавка, бревенчатый сруб колодца с выдолбленной колодой для водопоя скота. Куры гребут мусор у завалинок домов.
Малая Казачка… Это было первое задание — надо было узнать, что за банда свирепствует в этих краях. Усталый, с ног до головы пропыленный, Глоба добрался до Малой Казачки к вечеру. Он остановился перед плотиной, прошелся по ней туда и обратно, осторожно ступая по качающимся бревнышкам, размочаленным колесами бричек. Боясь скатиться, опустился к воде и заглянул на мосток снизу — тот весь светился дырами. Цепляясь руками за траву, Тихон поднялся на земляной откос и достал из кармана блокнот. Слюнявя химический карандаш, неторопливо набросал схему моста, на глаз определил его размеры. Рисовал, а сам уже видел, как по пустынной улице села медленно двигается к нему старик в полотняной рубашке навыпуск, босоногий, в солдатских штанах с заплатами. Он остановился неподалеку от Глобы и, склонив голову набок, начал молча наблюдать за действием неизвестного человека. И тогда Тихон, сунув блокнот в карман, вежливо спросил старика:
— А где ваша сельрада? Пожалуйста, проведите меня к председателю.
— К Корневу, что ли? — удивился старик и поплелся по дороге, как бы наверняка зная, что Глоба шагает за ним.
— Как тут живете? — догнал его Тихон. Старик толкнул на затылок вытертую до материи солдатскую папаху и стрельнул в Глобу хитрым взглядом.
— А хто будешь, мил человек? Ай из каких начальников?
— Дорожный отдел, из уезда, — сказал Глоба. — Вы же писали селом, чтобы мосток через плотину починили? Было такое?
— А шут его знает, — усмехнулся старик. — Бумага-то у тебя есть? А то тут строго. Корнев наш сурьезный мужик. Чуть не так — сразу руки повяжет и в холодную.
— Чего это он? — удивился Глоба. — Это же беззаконие.
— Такая у нас, брат, жизнь, — вздохнул старик. — Бандитский район…
В сельраде было прохладно — земляной пол смочили водой. За столом сидело два человека. Один из них, Корнев, долго и очень внимательно разглядывал документы Глобы. Он вертел бумажку так и сяк, натужно сопел, щурясь и отодвигая удостоверение на вытянутую руку. Был он высок, худ, выцветшая кепка затеняла глаза.
— Ну что ж, — наконец проговорил он подобревшим голосом, — бумага в порядке. Милости просим до нашего села. Насчет мостка мы писали. Это уж точно, какой год его не чинят. Форменное безобразие. Только чего вы к нам пеши топали? Иль такому начальству и кобылы нэмае?
— А я подводу отпустил, — ответил Глоба, — думаю, что назад вы уж меня сами отправите.
— Когда ж вы хотите?
— Да завтра поутру.
— Опасно у нас чужим людям, — вздохнул Корнев и покосился на молча сидящего рядом с ним человека.
И тот кивнул головой, хмуро процедив:
— Как ночь — бандиты… Налетают из леса. До утра жрут, пьют, песни спивают.
— А чего ж вы отряд не вызовете? — спросил Глоба, и оба мужчины усмехнулись, словно Тихон сказал какую-то глупость.
— Сообщали. Отряд приедет, живет неделю, другую — тоже не святым духом питаются… А бандиты — точно сквозь землю.
— Утром пойдем к мостку и составим акт по всем правилам, — устало проговорил Тихон. — Куда вы меня устроите? Помыться надо.
— Эх, молодежь, — задумчиво протянул Корнев, не двигаясь с места и незаметно разглядывая Глобу из-под козырька фуражки. — Сколько тебе, хлопец?
— Восемнадцать, — холодно сказал Тихон. — Какое это имеет отношение к делу?
— Совсем пацан, — слегка удивленно произнес Корнев, — а уже большой человек у Советской власти. Акты-макты
делает. Бумагу с гербовой печатью в кармане носит. Охрип! Дэ ты, старая перечница?!
В дверях показался старик.
— Пусть у тебя переночует. Нагодуй его, постели мягче да положи, где блох поменьше.
Они снова пошли через село, уже было темно, по обе стороны от дороги в садах за плетнями пылали огни летних кухонь, слышались голоса, детский смех, пахло коровьим навозом, вечерней травой. В окнах хат затеплился свет керосиновых ламп.
— А как же сельсоветские сами тут живут? — спросил Глоба, идя за стариком.
Тот лишь пожал плечами и пробормотал с неохотой:
— Як люди, так и они… Ховаются…
Покормив Тихона горячим кулешом, старик зажег огрызок свечи и ввел его в крошечную комнатушку с деревянной кроватью.
— Вот тут и разоблачайся, — проговорил старик, иронически оглядывая помещение. — Хоромы… «Чтоб блох не было», — передразнил он председателя сельсовета. — А где их нет?
Старик явно не решался оставить Глобу одного, он переминался с ноги на ногу, чесал пятерней в затылке, наконец сказал, вроде ни к кому не обращаясь:
— Окошко не на крючке… Лес рядом… через огород. Господи, ночи темные, кто кого разберет. Ну, спи. Свечку-то я заберу.
Глоба лег на кровать не раздеваясь. В темноте гудели комары. Окошко чуть отсвечивало синим. Тишина стояла такая, словно хату погрузили на дно колодца, лишь изредка где-то взлаивали собаки да за тонкой стеной шуршал топчан под ворочающимся стариком.
Несмотря на усталость, неясная тревога не давала уснуть. Чем его встретит завтрашний день? Село казалось таким мирным, не верилось, что еще неделю назад здесь убили двух представителей губфинорганов — глаза им выкололи, животы распороли, насыпали туда битого стекла и выволокли тела за село.
Глоба прислушивался к малейшим звукам, его лихорадило от волнения. Уткнувшись лицом в подушку, лежал без движения, напрягшись всем телом, готовый вскочить с постели в любую секунду.
«Чего им стоит открыть окошко… А я лежу здесь на самом виду. Надо набросить крючок. Но что это даст? Рванут с силой, ударят камнем по стеклу… Кто? Да те… что… налетают из леса. Им-то уже, конечно, сообщили о чужом человеке… Придут сюда… Откроют окошко…»
Не выдержав, Глоба, затаив дыхание, поднялся с постели, без скрипа распахнул окошко и вылез в огород. Его обступила кромешная тьма. Чуть привыкнув к ней, Тихон различил вдали черную полосу — это был лес. Глоба немного прошел по пахоте, грузно утопая в мягкой земле, ступил на межу и вернулся по ней во двор, залитый зеленым светом, — вышла луна. Остановился, не зная, что делать дальше. Куда идти? Где спать? Увидел деревянную лестницу, которая была приставлена к чердаку. Туда? Нет…
Тихон осторожно потянул лестницу на себя и, когда она стала вертикально, опустил ее на высокий стог сена. Поднялся по перекладинам на самый верх, ногами раздвинул сено, утонул в нем по грудь и оттолкнул лестницу — она, качнувшись, с легким стуком снова прислонилась к чердаку хаты. От этого удара все внутри у Тихона сжалось — он замер, свернувшись в мягкой сенной яме. Лежал так долго не шевелясь. Над ним горело звездное небо. Не заметил, как заснул.

Его разбудили какие-то крики и бешеный лай собак. Еще ничего не соображая, он выглянул из стога и увидел несущуюся по пустынной улице конную тройку, запряженную в легкую бричку, полную людей. В руках они держали смоляные факелы — языки огня метались в темноте, искры летели над дорогой. Тройка ворвалась во двор, люди посыпались из брички, сразу заполнив усадьбу громкими голосами, пьяным хохотом, шипящим пламенем и топотом лошадиных копыт. Несколько человек сразу кинулись в дверь хаты — она, как бубен, загудела под тяжелыми ударами, окна ее вспыхнули изнутри адским мерцанием, раздался звон стекла, стариковские вопли.
— Пропал, батько, городской хлопец! Нэмае… От, сволота, убег!!
Старик, задыхаясь в вороте рубахи, сжатой в кулаке бандита, пытался кричать, но только хрипел сдавленным голосом:
— Не знаю… Батько, ей богу… Вот те хрест! Сам ложил в хате!
Кто-то из бандитов, выйдя из хаты последним, ушел в темноту с факелом в руках, когда вернулся, начал оббивать землю с сапог.
— Батько, он в лес удрал… Из окошка выпрыгнул и ходу. Следы по огороду в сторону леса.
— А, черт, — выругался батько, — такого щенка упустили… А может, он где заховался? Поищите-ка его, хлопцы. Саблюками поштрыкайте вон тот стожок, а вдруг в сене ховается? И по лестнице на чердак… Не ленитесь, хлопцы, давай, давай…
Глоба видел с высоты весь двор — батько стоял у крыльца, один из бандитов держал возле него пылающий факел, и в свете огня Тихон узнал председателя сельсовета Корнева, только на этот раз он был в расшитой узорами украинской рубашке, на голове лихо сдвинутая набок кубанка, через плечо тонкий ремешок сабли в никелированных ножнах.
— Ничого, батько… Обшукали все скрозь — ничого нэмае…
— По коня-ям! — заорал Корнев и пошел к тройке пляшущих лошадей, на поводьях которых висел один из бандитов, с трудом удерживая их на месте.
— А ты, Охрип, смотри у меня! — Батько встал на коленях в бричке, подняв сжатый кулак. — Из-под земли достану… Замри и ни слова! Все! Гони-и!
Тройка рывком проскочила ворота и понеслась вдоль улицы, грохоча колесами, бросая во все стороны искры, под пьяный мужичий хохот.
Глоба просидел на стогу, затаившись, до начала рассвета. Словно из тумана, медленно проясняясь, начало выходить из темноты утреннее село. А теперь что делать? Бежать… А если все дороги перекрыты? Засады за каждым кустом…
На крыльцо вышел старик, долго кашлял в утренней тишине, потом начал сворачивать цигарку, выбил из кресала искру и прикурил от затлевшего трута. Потом поднял голову и тихо сказал:
— Да слезай же, сынку… Беда минула. Ты слышь, слезай… Меня не бойся.
Глоба настороженно сказал, не раздвигая перед собой скрывавшее его сено:
— Тут высоко…
— Это ты гарно придумал насчет лестницы, — одобрительно проговорил старик. — Голова кумекает. Ну слезай, я тебе подсоблю.
Старик поставил к стогу лестницу, и Глоба, спустившись во двор, с хмурым видом начал оббивать с себя соломинки.
— Я тебя тихонько выведу из села, а ты там уж сам чапай, — сказал старик. — И не приведи господи еще раз тут показаться…
— Так это, значит, сам Корнев? — усмехнулся Глоба. — Ну, чудеса…
— Забудь! — замахал руками в панике старик. — Не видел ты ничего! Мотай отседова, хлопец, пока голова цела! То такие тварюки, что родных отца-матери не пожалеют!
Больше этого старика Глоба никогда не видел — в то утро дед вывел его в лес и показал дорогу к городу. Привычно запуская пятерню под облезлую папаху, он сказал, тяжело вздохнув:
— Ну прощавай, парень. Добра тебе желаю. От распроклятая жизнь — в своей хате не хозяин. До каких же пор так будет?
Через три дня в Малую Казачку прибыл конный отряд. Корнев был арестован прямо в сельсовете. Правда, в скором времени ему удалось бежать…
Воспоминания… Отдохнув, Глоба запряг лошадь в линейку. Он ехал через село, вглядываясь в так знакомые ему хаты, — сколько раз он за эти годы проезжал тут, — встречные крестьяне здоровались с ним, узнавая уездное начальство. Тихон отвечал им, кончиками пальцев трогая козырек фуражки. Хата старика стояла с заколоченными окнами, она была совсем дряхлая, почерневшая от непогоды соломенная крыша провалилась внутрь. Глоба знал, что старик помер. На усадьбе трое мужиков тюкали топорами, гоня стружку вдоль длинных бревен — готовили венцы для нового дома.
И все-таки, каждый раз попадая в это село, Глоба чувствовал волнение, он знал, что пройдет и пять, и десять лет, а не забудет той ночи, когда метались по двору черные тени, плясали огни факелов и так страшно, до ужаса, было лежать в сене — каждая сухая травинка от неосторожного движения, казалось, лопалась с гулким треском.
То было первое задание, и оно особенно запомнилось, но и остальные оставили в душе глубокий след. Он входил в мятежные села как беспризорник — в лохмотьях, нечесаный, в завшивленном бушлате с позеленевшими пуговицами. Разбросанные в отдалении хутора видели его — мелкого торговца нитками и солью, развешенной по полфунта, в кульках из серой оберточной бумаги. Сколько раз его били, добиваясь, кто же он на самом деле, чего ему здесь надо. И он плакал, божился, клялся на чем свет стоит в своей глупой неосторожности. Не знал, мол, что тут палят из обрезов… Ему что белые, что зеленые или красные… Господи, товар-то не хапайте! Отдайте, дяденьки, по миру пустите… Соль, знаете, каких денег стоит?! Да за что вы меня, дяденьки…
Возвращаясь домой, в город, он узнавал, что еще один из семи не вернулся с задания. А потом Рагоза подолгу сидел с оставшимися в живых и объяснял им ошибку того… тело которого нашли в лесу… Подвешен на ременных вожжах… Весь исполосован ножами. Или пропал без вести, сгинул навсегда — под тем селом болота, топь засасывает без следа.
Воспоминания… Глоба снова катил среди полей. Далекий лес обрамлял кромку земли. Облака плыли по небу, громоздясь в пенные башни и пухлые острова с протаявшими голубыми окнами, похожими на полыньи, сквозь которые проглядывался солнце.
Часто ребята погибали по неосторожности. У одного в caпоге нашли маленький, дамский, браунинг. Зачем он его носил? Мальчишество? Почти безобидная, в перламутре, игрушка. Где он его достал? Может быть, выменял у кого-то за недельную пайку хлеба? Другого паренька бандиты заподозрили сразу — уж больно вызывающе он держался перед сельскими хлопцами, давая понять, что не чета им, деревенским телепням. Девчонки глазели на него с восторгом, а он, рисуясь, туманно намекал на значимость своей фигуры. Бандиты его пытали долго, и он, не выдержав, во всем признался. Чекиста застрелили, шайка ушла в леса — в ту далекую Волчью Яму. Но бывали иногда и случаи, когда за провал было винить некого. Как это случилось с Венькой Пуховым — самым тихим и незаметным пареньком из тех семерых. Натворив в селе такого, что даже у людей, видавших виды, волосы становились дыбом, банда собиралась уходить в глухую чащобу на зимовку. И Венька Пухов разрядил в главаря все пули из барабана револьвера. Тоже ведь был запрятан наган, вопреки всяким инструкциям и правилам. Но тут, это каждый понимал, другое дело. Венька на то сознательно пошел. Его убили, но и банда, лишившись зверя-атамана, разбрелась по селам.
Рассказывая об этом, Рагоза хмуро сказал, отворотясь в сторону:
— Это его ошибка. Да! И не возражайте мне!
Все сидели безмолвно.
— Это не входило в его задание.
— Для пользы дела, — пробормотал Тихон.
Рагоза ожег его гневным взглядом, впервые, сколько они его знали, закричал, потеряв обычную выдержку:
— За всех все не переделать! Каждому свое! Вы разведчики, у вас своя специфика! И надо уметь работать, не подставляя голову под пулю! Вам еще жить и жить! Черт бы вас побрал, я уже устал повторять!
…Вспоминая об этом, Глоба сейчас как-то по-иному глядит на все, что его окружает. Далекий лес… Уж побродил по его тропам, голодал, питался ягодой и кореньями. Находил провалившиеся от осенних дождей бандитские землянки, а рядом с ними полузаросшие травой холмы без креста. Кто там лежит? Сваленный пулей или же убийственной простудой? Бедный крестьянин, силой оторванный от родной хаты? Тоска по брошенным детям, жене и скотине съели его душу, и он испустил последний вздох на соломенной подстилке, окруженный пьяными товарищами, с безысходной тоской прислушиваясь к монотонно стучащим каплям дождя. Или тут нашел свой последний час горемыка-бобыль, соблазненный сытой разбойничьей жизнью, когда не сеешь, не жнешь, а кусок мяса и хлеб всегда на столе, да еще вдобавок стакан самогона? А может быть, здесь закопан сам главарь, отдавший богу душу? Подстреленный в последней перепалке, он долго лежал, вглядываясь в небо, синеющее между кривыми ветками крыши.
Но точно так же тут мог лежать наш разведчик — истерзанный, с перебитыми ребрами, топором раскроенной головой. Или лихой боец истребительного отряда, попавший в засаду… Долгие годы смерть бродит по лесам, свивает свои гнезда под вековыми дубами, ставит зарубки на теле земли у топких берегов безвестных речушек.
Не один раз Глоба замерзал среди сугробов, по которым волчьими стаями мела поземка. Скорчившись под шубейкой, глубоко сунув ладони в рукава, он часами брел к ближайшему селу, наверняка зная, что там бандиты.
Воспоминания… Глоба брел к селу, таща в мешке за плечами три чугунные сковородки, угольный утюг с деревянной ручкой, холщовый мешочек с гвоздями, шесть металлических скоб и кусок брезентового ремня, вырезанного из машинной трансмиссии. Под мышкой он держал рулон из трех листов мягкой жести. Ветер дул в спину, колотил снегом в железо, туго выворачивая его из рук. Ноги, обутые в дырявые опорки, закоченели совсем.
Когда за пургой увидел неясные силуэты хат, сил почти уже не стало. Из снежной кутерьмы вышли два мужика в собачьих тулупах, молча ухватили под локти и потащили куда-то, втолкнули в сени, отряхнули, оббили, сами сбросили тулупы на поленницу дров и открыли дверь, обитую мешковиной.
В ярко освещенной керосиновыми лампами комнате вокруг стола сидело несколько человек, молча играли в карты. Один из них, в белой ситцевой рубашке с распахнутым воротом, чисто выбритый, с распаренным, видно, после бани, лицом, положил карты и повернулся к вошедшим:
— Кто такой? — спросил он.
Глоба прислонился к стене, колотясь в ознобе, ноги его подкашивались, он не мог произнести ни слова. Железная труба нелепо торчала из-под руки.
— Поймали на околице, — доложил один из мужиков. — Пер, батько, по дороге напролом.
— Посадите его на лавку, — сказал батько. — Да влейте него самогона. Может, очухается.
Мужик взял стакан и стеклянным краем с трудом разжав челюсти Глобы. Тихон судорожно глотнул обжигающей жидкости, чуть не задохнувшись. Плывущий перед глазами туман начал рассеиваться, все вокруг стало приобретать четкость. Он ясно увидел полутемную хату с двумя пылающими лампами по концам стола, крошечное окно, забитое изморозью, мерцающую фольгу икон в правом углу. И самого батька-атамана — гладко выбритого, с ухоженными усиками и еще влажными после бани волосами, аккуратно расчесанными на косой пробор.
«Боже ты мой, — в ужасе подумал Глоба, сразу узнавая в сидящем напротив него человеке бывшего председателя сельсовета Корнева. Того самого, который тогда ночью, на бричке с факелами… — Чудом удалось вырваться из бандитских рук… А сейчас попался. Неужто узнает? Прошло больше года… Кто я для него? Мелькнул и пропал. Вот он мне запомнился на всю жизнь. Я его узнаю из тысячи… Не узнал. Кажется, пронесло…».
— Эк его повело, — насмешливо проговорил один из мужиков, глядя на посеревшее лицо Глобы.
— Идите, — махнул рукой батько, и мужики скрылись за дверью. Глоба рухнул в угол, загремев жестью и всеми своими сковородками.
— Тю, — проговорил кто-то из сидящих за столом, — да вин, як чугунный.
— Сдавай, — перебил его батько, уже не обращая на Глобу внимания. Они начали играть, молча, с азартом шлепая картами по столу. Наконец батько сказал, покосившись на Глобу:
— А ну, хлопцы, распотрошите его… Что за гусь к нам пожаловал?
Глоба уже чуть отошел, он начал с трудом подниматься на ноги, держась за стену и шатаясь. Мужик снял с него мешок и вывалил посреди комнаты сковородки, утюг, гвозди.
— Мама ридная, — засмеялся батько. — Ну, давай, рассказывай, парень. Кто такой, откудова притопал? Да не вздумай мухлять. Мы народ строгий. Сначала дай ему, Федор.
Мужик отложил в сторону пустой мешок, наотмашь ударил кулаком Глобу. Тихон отлетел в угол.
— Для задатка, — с удовлетворением сказал батько.
— На менку пришел, — отплевываясь кровью, пробормотал Глоба. — Хлеб нужен, пшено… Голодаем страшно. В городе жрать нечего. Помогите чем можете, Христа ради прошу…
— Оскудел рабочий класс, — довольным голосом провозгласил батько. — Крестьянство ограбил, опустошил села, теперь сам по миру пошел с протянутой рукой. Да мы нищим не подаем! Заслужить трэба!
— И не надо! — с отчаянием воскликнул Глоба, лихорадочно расстегивая пуговицы на шубейке. Он встал на колени и начал торопливо засовывать в мешок гремящие сковородки, утюг, скобы. Тихон почти плакал, собирая с пола свои вещи. — Катитесь вы подальше! Тоже, паразиты малахольные…
— Да он пьян, батько, — засмеялся кто-то. — Врезать ему еще?
— Нэ трэба, — батько с интересом глядел на Глобу, весело щурил глаза, кончиками пальцев трогая мягкие усы. — А что ты умеешь робыть?
— Я за жратву любое дело осилю, — ответил Глоба.
— Нам пидручный коваля нужен, — проговорил батько, задумчиво разглядывая стоящего перед ним парня. — Пойдешь? А по весне отпустим, куль зерна дадим.
— Что сам награбишь — то твое, — вставил стоящий рядом мужик.
Глоба сел на скамейку, стащил с головы шапчонку, долю вертел в руках, и вдруг с силой хлопнул ею об пол:
— А, где наше не пропадало! Погляжу хоть — что это за бандитская свобода. Иль она медом помазана, что за нее башку под пули подставляют?
— Ну вот и лады, — усмехнулся батько, — одной заботой меньше. Ты, как я погляжу, хлопец сообразительный. Быстро скумекал где что! Давай знакомиться — я батько Корень! Слышал о таком?
Глоба с испуганным недоверием поглядел на сидящего перед ним громадного мужчину с красивым розовым лицом и только пробормотал чуть слышно:
— А чего ж… Царь и бог…
— Вот то-то же, — жестко проговорил Корень. — Иди, там тебя покормят, а утром в лес, до ридной усадьбы.
Весь вьюжный январь пробыл Глоба в банде Корня. Отряд бездействовал, отсиживался в самой чащобе Волчьей Ямы, боясь вылазками навести на свой след. Жратва уже кончилась — доедали убитого из обреза дикого кабана, хлеб пекли пополам с сушеной кислицей и молотыми желудями. От вынужденного безделья нудились — ссорились по пустякам, жестоко, до крови, дрались. Корень виноватых бил сам — его удар сваливал с ног. Иногда из сел приходили знакомые мужики — измочаленные тяжелой дорогой, с мешками харчей за плечами. Но желаннее съестного были новости о житье-бытье под оставленными домашними крышами. Слушая их, бандиты исходили тоской. Корень зверел, гнал мужиков назад, потом ходил по лагерю, как туча, хлопая хворостинкой по голенищу сапога.
А у Глобы работы хватало — с утра он уже был в кузне. Под навесом из веток стоял самодельный горн с кожаными мехами и лежал на колоде кусок рельса вместо наковальни. Кузнецом работал молчаливый, заросший седым волосом дед. Сына его убили в перестрелке бойцы истребительного отряда, и старик люто ненавидел Советскую власть. Это была ненависть, которая поглощала деда целиком, и она, казалось, вытеснила все остальные чувства, он все время думал одну и ту же тяжкую думу о жестоком отмщении. Но кузнецом он был отменным. С помощью Глобы они клепали колесные ободья, отковывали тележные оси, стремена. Вдобавок еще занимались жестью — сворачивали печные трубы, выколачивали миски и котелки. За это им всегда перепадал лишний кусок хлеба.
Как только день начинался, люди поодиночке тянулись к кузне на неторопливый перестук молотков. По очереди качали веревку меха, раздувая угли до белого каления. Садились под стеной на корточки и часами молча глядели, как раскаленное железо мягко гнется, медленно темнея, становясь сначала светло-фиолетовым, потом вишневым. Брошенное в кадку с водой, оно фыркало паром. О чем думали мужики, слушая это домовитое потюкивание металла? Какие мысли приходили им в голову, когда они видели, как угли наливаются жаром, складываясь в фантастические замки, и рушатся на глазах, превращаясь в горячие каменья?
А еще ковали в кузне лезвия ножей. Для них заготовки вырубывали из вагонных рессор. Старательно равняли обушок, острили стальное жало, пробивали вдоль легкую канавку. Не давая остынуть, кидали в горшок с машинным маслом для закалки.
В одной холщовой рубашке, поигрывая мускулами, Глоба наотмашь рубил железо зубилом, высекая из рессоры пластину, затем брал молоток и пускал по лагерю звонкую рассыпную дробь. Весь мокрый от пота, жарко дыша, он вытирался подолом и ждал, когда лезвие остынет. Старик доставал его из горшка и с наслаждением взвешивал на ладони — нож был тяжелым, увесисто оттягивал руку, с его острия медленно стекали темные капли.
— Делов-то, — смеялся Глоба. — Нож… Я так помню… Мы на своем Паровозостроительном плуги ковали…
— На своем, — хмыкал кто-нибудь из мужиков.
— А что? — не понимал Глоба. — Мы буржуев турнули, это уж точно. Директора на грязной тачке за проходную вывезли, сам видел.
— Ты брось тут свою пропаганду, — угрюмо перебивал другой мужик. — Мы наслуханы.
— А я чего? — пожимал плечами Глоба. — Что видел, то видел. Нового директора сами выбирали.
— Как это? Из простых?
— Собирались во дворе, фамилию кликнули. Кто — за? Поднимай руки! И назначили.
— Небось, интеллигента какого?
— Из кузнечного. Двадцать четыре года горб гнул. А зарплату ему положили, как всем. И чтоб брал ее последним.
— А это уж зачем?
— Вдруг кому не хватит? Пусть ждет. Сначала — рабочий класс.
— Ну и брехун же ты, — задумчиво говорил мужик и насмешливо качал головой. А сидящий рядом молчал, тосклива глядя куда-то вдаль.
Эти лезвия Корень отдавал лагерному шорнику, и тот, набив на черенок деревянную ручку, обтягивал ее темной кожей. Такие ножи батько вручал самым надежным как личный подарок. Если его взять за острие и швырнуть с силой, отводя руку за голову, он вонзится в ствол дерева на два пальца и долго будет дрожать, сталисто вибрируя, словно от не израсходованной до конца ярости.
Через месяц у Глобы в банде были помощники — мужика из отдаленного села готовили побег домой. Тихон разгадал их, припер к стенке, и они сознались. В одну из ночей, когда все пьянствовали, самогоном заливая тоску и смертные грехи, Глоба, на выкраденной лошади, унесся в пуржащую темень. Под утро лошадь пала, не в силах больше скакать по снежной целине. Тихон с большим трудом добрался до сельсовета. По телефону связался с Чека. Выслушав его, Рагоза коротко бросил:
— Молодец. Век не забудем. Теперь наше дело. Жди.
В ближайших селах по тревоге поднялись сельские отряды самообороны, они легли в засадах на всех дорогах, ведущих в лес. Из уезда выступила сотня истребителей. С первым солнечным лучом грохнули винтовочные выстрелы — бандитский дозор обнаружил облаву. Завязался скоротечный бой. Только несколько человек во главе с батьком Корнем вырвалось из окружения. Они ускакали в чащобу, грудью могучих лошадей проламывая слежавшийся на сугробах снежный наст. Это была последняя большая банда в уезде. С тех пор Корень исчез, лишь изредка в город какими-то окольными путями приходили путаные слухи о том, что он укатил в Среднюю Азию, говорят, женился там на местной красавице, разбой бросил, но от властей скрывается до сих пор — под амнистию не попал, уж больно много крови на руках.
Долго думал Глоба: на завод ему возвращаться, или же так и остаться в органах? В городе безработица — не дымят трубы, молчат цеха, кому нужен еще один голодный рот без специальности? Что он может делать? Бандитов ловить? Ну и давай, продолжай свое дело, на твой век хватит ворья, жуликов и налетчиков. Кто-то должен заниматься и этим. Надо бы учиться, грамоты поднабрать, засесть за книги… Что у него за образование? Четыре класса. С ними в большие начальники не выйдешь, да и не тянет, по правде, Глобу в кабинетные двери. Как ни говори, а время даром не прошло — всем сердцем прирос к тамошним лесам да пажитям, к селам и хуторам, и людям, которые не раз и не два выручали его в самые трудные часы его жизни. Так получилось, что теперь, куда он ни поедет, везде знакомые, всегда накормят, спать уложат.
Вот уже год, как создано Главное управление рабоче-крестьянской милиции, или короче — Главмилиция. Пошел Глоба к своему начальнику, попросил перевода в то Управление, с тем чтобы служить в своем уезде. Просьбу его удовлетворили — дали уголовный розыск. Работы выше горла, а сотрудник один, он сам, да еще линейка и две лошади. Нужна помощь — обращайся к уездному начальнику милиции, у того полный штат — два надзирателя, три конных милиционера, делопроизводитель и еще милиционер с постоянным дежурством при камере. А если что — всегда можно надеяться на поддержку уездного комитета партии, у него состав: секретарь, его заместитель, технический секретарь и машинистка. За три года службы на новом месте старое начало подзабываться — казалось бы, нет ему места в сегодняшней жизни, но вот неожиданно выплыл из глубины времени тот самый нож, кованный вручную, закаленный в масле, с ручкой, обтянутой кожей. Где-то его хранили, прятали от человеческих глаз. Чья-то рука метнула лезвие из-за плетня в узкую девичью спину учительницы. Оно пробило плеть косы, пальто и глубоко вошло под лопатку. Умелый бросок. Глоба помнит — иногда бандиты от безделья собирались возле векового дуба, целились в круг на коре, выцарапанный острием. Редко кому удавалось всадить холодное оружие жалом — штыки и финки отскакивали в сторону. И только вот эти — самодельные дедовские клинки летели в круг с неукротимой силой. У кого они были? Глоба может перечислить всех владельцев именных ножей. Как сложились их судьбы? Почти все убиты или отсиживают свои сроки. И все-таки, в селе Смирновка, в спину учительницы…
Лошадь с разгона взяла подъем и вывезла линейку из лощины. В редколесье паслось стадо коров. Пастух брел по траве к дороге, и Глоба, приглядевшись к нему, потянул вожжи на себя. Пожилой крестьянин в мокром мешке, углом натянутом на голову, с посохом в руке хриплым от долгого молчания голосом громко проговорил:
— День добрый, товарищ Глоба. Видел вчера, як вы у город ехали.
— Здоров будь, дядько Иван, — отозвался Тихон, слезая с пролетки. Он достал из кармана шинели кисет и сложенную газету. — Покурим?
— А чего ж не подымить на дармовщину? — охотно согласился тот и кончиками темных пальцев набрал из кисета добрую щепоть табака. Глоба высек искру из кремня, они прикурили от дымящегося трута. Долго молчали, смакуя вкус цигарок, поплевывая под ноги. Наконец Глоба сказал;
— Как живем, дядько Иван?
— А-а, — протянул равнодушно крестьянин, но глаза его из-под мешка глядели с веселой хитрецой. — Живем — хлиб жуем…
— Значит, нынче с хлебом? А помнишь время, когда мы с тобой повстречались?
— Не приведи господи больше, — с огорчением проговорил он. — И дети чтоб наши такого не видели. Сеяли — зерна тарелка. Убирали — серпом за полдня. Продотряд придет — где твои излишки? А ну открывай камору, раскрывай в огороде яму.
— Яма-то, значит, была? — усмехнулся Глоба. — Чего уж сейчас темнить?
— Да была, — нехотя согласился селянин. — А як ей не быть? Деток годувать трэба. Мешка три заховаешь…
— А в городах республики повальный голод, — вздохнул Глоба.
— Чего теперь искать виноватых? — отводя взгляд, пробормотал дядько Иван. — Каждый хватил своего лиха. Главное, что живы остались, хлиб есть, соль на столе. Спасибочки Советской владе, поверила глупому мужику.
— Слыхал, что случилось в Смирновке?
— Боже ж мий! — горестно воскликнул селянин. — Кому ж дквчинка мешала? Што за злодий на нее руку поднял? Кат проклятый.
— Не думаешь на кого, дядько Иван?
— Нет, товарищ Глоба, ума не приложу. Только было начали жить по-людски. Теперь начнут трусить старые грехи.
— Тебе не надо бояться, дядько Иван, — успокоил его Глоба. — Если что услышишь… Сам понимаешь, сделал это враг лютый.
— Да уж, товарищ Глоба, если что… Мигом до вас.
— Передавай привет знакомым. Будь здоров, дядько Иван.
Глоба сел на линейку, разобрал вожжи. Крестьянин махнул посохом, прокричал вослед:
— Хай щастит тебе, Тихонэ… Не забувай!
Глоба обернулся. Он все стоял у дороги — дядько Иван, один из бывшей банды кровавого беспощадного отряда батька Корня, который боговал в трех уездах, наводя на людей ужас. После разгрома банды, дядька Ивана, как и некоторых других, тут уж Глоба постарался, отпустили по хатам — грехи за ними были не так уж велики, сами они из неимущих, затурканных богатеями крестьян. Во многих селах жили вот такие дядьки, честно трудились — пахали, сеяли хлеб, растили детей.
Во второй половине дня линейка въехала в уездный городишко — был он неказист, лежал на пологом склоне холма беспорядочной россыпью кирпичных домов, перемешанных с простыми хатами, крытыми соломой. На главной улице стояли купеческие лабазы и лавки с железными ставнями. У приземистого старинного собора лежала неровная булыжная площадь, вся в лужах и клочьях сена. Большие тополя качались над мозаикой крыш, едва не задевая темными вершинами кучевые облака в небе. На башне пожарной части мерцал ярко надраенный колокол. В садах ветки пригибались к земле от тяжелых яблок. Сквозь трещины каменных плит на тротуарах рос подорожник.
Милиция находилась в доме бежавшего владельца мельницы — первый, полуподвальный, этаж его вгруз в землю по окна, а на втором торчал балкон, окруженный кованой решеткой с железными вазами для цветов.
Глоба жил во флигеле. Он торопливо спрыгнул с линейки и бросился во двор, пробежал по хлипким доскам, проложенным через раскисшие от дождей лужи, толкнул дверь.
— Маняша? Где ты? — обеспокоенно спросил он, неторопливо отбрасывая ситцевую занавеску, отгораживающую кухню. Оставляя следы на чистом полу, шагнул в комнату.
— Да тут я, тут! — успокаивающе прокричал женский голос из подвала. В открытом люке показалось по-девичьи молодое лицо.
— Вернулся, чертушко. Помоги.
Тихон увидел протянутые к нему узкие ладошки и, осторожно утопив их в своих, широких, как лопаты, легко выхватил жену из погреба. Зажмурив глаза, она прижалась щекой к его груди, пальцы ее затеребили шинельные крючки.
— Вернулся, Тиша… Я тут истосковалась по тебе…
— Вот тебе на! — весело удивился Глоба. — Уехал на одну ночь…
— Это для тебя одна, — пробормотала Маня, — а я их все, какие только были, складываю вместе. Ужас что получается…
Он закинул руки за спину и, найдя ее пальцы, медленно развел объятия, полами расстегнутой шинели укутал легкое женское тело, мягко прильнувшее к нему, и закачал, убаюкивая.
— Ты, как птичонок, — тихонько прошептал, смущенно улыбаясь. — Уж я тебя знаю… Что-то случилось?
— Да, — почти безмолвно прошептала она, кивнула головой.
— Я слушаю, Маняша.
— У нас будет ребенок… Может быть, сын. Ты так хотел — и вот…
— Господи, — потрясенно выговорил Глоба. — Лучшего ты ничего не могла придумать…
Он вдруг закричал на нее сердитым голосом, но глаза его сверкали восторгом:
— И ты лезешь в погреб? Там лестница… Ты представляешь, что может получиться, если хоть одна перекладина?! Запрещаю! Я теперь все сам… Сам!
Тихон поспешно сбросил на лавку шинель, в распоясанной гимнастерке махнул в погреб, не становясь на лестницу, взметнул оттуда эмалированную кастрюлю со вчерашним борщом, таз с нечищеной картошкой, крынку молока.
— Хватит, довольно! — замахала руками жена. — Иди мой руки. Садись за стол.
Тихон гибко выпрыгнул из подвала, шагнул к умывальнику, нетерпеливо забрякал медным соском, плеская в лицо воду пригоршнями. Затем сильно растерся суровым полотенцем, так, что кожа заиграла пожаром.
— Я готов!
Он сел за стол, широко расставив колени и упершись кулаками в бока, голодным взглядом повел по расставленным тарелкам.
— Ну, Маняша, ты у меня мировая хозяйка.
— Скоро будем ставить третью тарелку, — смущаясь, сказала она.
— Эх, Маняша, да я готов хоть весь стол ими заставить! — воскликнул Тихон. — Коммуна имени Глобы! Звучит!
Он заработал деревянной ложкой, весело поглядывая на жену, которая ела медленно, кончиками пальцев отламывая крошечные кусочки от хлебного ломтя. Не выдержал, сокрушенно качнул головой:
— Ну, чертова интеллигенция… Едят, как молятся. Тебе надо за двоих!
— Почему ты все время считаешь, что я интеллигенция? — спросила она. — Я же тебе говорила… Отец у меня рабочий. А я курсы стенографии закончила. А в управление случайно попала. На заводе порекомендовали. Хотя быть интеллигенцией… Ничего зазорного не вижу.
— Когда я мог о тебе досконально все узнать? — беззаботно спросил Тихон. — Я же тебя знаю без года неделю. Три месяца тому назад… В понедельник — тяжелый день. Ты помнишь? В приемной сидит симпатичная машинисточка. Пальчики белые — тук, тук… Ей слово скажут — она краснеет, словно девочка.
— Потому что вы все до одного говорили мне только глупости, — отрезала Маня.
— То, что ты самая красивая?! — ужаснулся Глоба. — Ты считаешь это глупостью?
— Да, — кивнула она головой. — Самый красивый — это ты. Тихон, секунду подумав, согласился:
— Может быть… но только среди мужчин.
— Ну, хлопец, ты же и зазнался, — растерянно протянула жена. — Больше я тебя одного в город не пущу.
— Да я и сам бы туда не ездил, — с охотой откликнулся Тихон, — чего я там не видел? Сердитые лица начальства. Ведь самое главное я совершил: ограбил Управление. Они там сейчас точно осиротели. Никто мне этого не простит.
— Не очень-то и сопротивлялись, — отмахнулась Маня. — Я не знала, что ты такой трепач. А все говорят: молчаливый, слова лишнего не вытянешь… типичный служака.
— Вот это они точно, — понимающе вздохнул Тихон. — Я, между прочим, за эту службу деньги получаю. А кроме того, — он неловко усмехнулся, — олицетворяю здесь, так сказать, все законы Советской власти.
— Не много ли берешь на себя? — недоверчиво воскликнула жена.
Маня кивнула на окно — там, во дворе, сидел на крыльце пожилой человек в милицейской форме и дымил трубкой.
— Ждет начальник… Весь извелся.
Тихон подхватил ремень, на ходу перепоясываясь, выскочил из флигеля. Прыгая через лужи, подошел к Соколову и опустился рядом.
— Прибыл, Николай Прокопьевич.
— Какие новости, Тихон?
— Лазебник стружку снимал. Крыл почем зря. Обвиняет в том, что сами мужиками заделались. Потакаем, мол, им. Затупился наш карающий меч.
— Да уж вин того мужика не любит — не приведи господи, — криво усмехнулся начальник милиции.
Соколов был местным жителем. До революции он здесь вел большевистскую агитацию среди рабочих кожевенного завода. Его арестовали, выслали в Сибирь, жил он на поселении, но как царя сбросили — сразу вернулся назад. В девятнадцатом году ушел с пролетарским полком на фронт, там его ранили — казак вонзил под ребро тонкое жало штыка французской винтовки. Не повезло в той атаке — беляк бежал на него низко пригнувшись к земле, с перекошенным от безумия меловым лицом и слепыми вытаращенными глазами. Соколов сделал выпад — деревянно стукнули винтовки, схлестнувшись в ударе. У французских винтовок штыки — как длинные четырехгранные шпаги… После выздоровления отправили Николая Прокопьевича из госпиталя домой — на внутренний фронт. Командовал отрядом Чека по борьбе с бандитизмом. Получил в награду маузер с серебряной накладкой — «За героизм и мужество». А сам-то Соколов казался на первый взгляд мирным человеком — роста небольшого, с морщинистым лицом пожилого рабочего, ходил опустив голову и закинув руки за спину. Дымил вонючим табачищем день и ночь, выбивая пепел из трубки в ладонь.
— Сегодня ранком, по пути с базара, заглянул к нам один дядько из Смирновки, — проговорил Соколов. — Ты, можэ, знаешь… Пылып Скаба. Ну так он историю рассказал: пацаны сельские за пожаркой играли — ножики в цель кидали.
— Ножи? — сразу насторожился Глоба.
— Какие у них ножики? — пожал плечами Соколов. — Саморобки… Из косы или обломка штыка. Углем круг нарисовали и с пяти шагов — кто в середку… Люди ходили — никто не обращал внимания. И вот тилько Павлюк… Сидор Кириллович Павлюк. Як увидел он там своего сына, а тому хлопчику восьмой год, несмышленыш. Понимаешь, кинулся Павлюк на шкета… чуть не убил. С трудом оторвали. Что бы то могло значить, Тихонэ?
— Ладно, — подумав, хмуро проговорил Глоба. — Я поехал… Там на месте уточним обстоятельства дела.
Маня чуть не расплакалась, когда увидела, что он ведет лошадь к линейке, осаживает ее в оглобли.
— Тихон, ты куда? Только приехал…
— Тащи, жинка, зброю, — усмехнулся Глоба. — Служба зовет… Ночевать домой приеду.
Она вынесла ему кобуру с маузером, шинель и фуражку. Он оделся и повалился в линейку, взметнув над головой вожжи:
— Эге-егей!
Колеса прогрохотали по двору, разбрызгивая лужи.
Линейку Глоба увел в кусты, под крону деревьев, а сам пошел к селу берегом речки. Нашел хату Пылыпа Скабы и, постучав, шагнул в комнату.
— Здравствуйте, люди.
— Добрыдень, — отозвался Скаба, он сидел на чурбане под окошком и подшивал дратвой подошву валенка. Вокруг него разбросаны обрезки войлока. Скабиха поднялась с кровати, охая, держась за бока, потащилась к печи, приговаривая:
— Да, гость дорогый, ридкый гость… Чем угощать… А я росхворалась… Мабуть, завтра дощ будэ — косточки ноют…
— Не беспокойтесь, — попросил Глоба и присел на табуретку. — Что скажете, дядько Пылып?
— Да був я у вас, — как бы нехотя проговорил Скаба. — Ото что знаю, то и росповив…
— Сын-то Павлюка здоров?
— Павлючиха увезла его на хутор. Повернулась одна.
— А кто такой этот Сидор Павлюк?
— Мужик пакостливый… У петлюровском курени служил. Як красные их побили, то он снова в село, до ридной хаты.
— В бандах гулял?
— Ни, — сказал Скаба, но, подумав, уже тише добавил засомневавшимся голосом: — А кто его знает… Чоловик он злый. Гроши е.
— Как ты думаешь, дядько Скаба, за что могли убить учительницу?
— Да все балакают, шо ни за що ее вбываты. Гарна дивчынка.
— А вот не пощадили.
Скаба, насупившись, ткнул шилом в подошву, свиную щетину с просмоленной варом дратвой продернул сквозь войлок и туго затянул.
— А москалей вбывалы ще и раниш, — хмуро сказал он. — Ее таки люды, им каждый москаль поперек горла, як рыбья кость.
— В селе знают, как учительницу убили?
— А вжеж… Подошли сзади и кинули ножом в спину. — Скаба не поднимал глаз от колен. — А дурни хлопьята с ножами балуют — то просто так.
Глоба вышел к усадьбе Павлюка огородами, перешагнул плетень и ступил в чисто выметенный двор. В закутке хрюкал поросенок, хлев был пуст — из него дышало теплым навозом и разбросанным сеном. Прямо у ворот стояла лошадь, запряженная в бричку, на которой лежали какие-то узлы. Смекнув, в чем дело, Тихон торопливо шагнул в хату и увидел женщину, склонившуюся над раскрытым сундуком. Она медленно выпрямилась, держа в руках меховую шубу, глаза ее растерянно смотрели на вошедшего.
— День добрый, — сказал Тихон, быстрым взглядом окидывая комнату. — Где ваш сынок, гражданка Павлюк?
— Да боже ж ты мой… Какими судьбами, товарищ Глоба? — залепетала женщина и вдруг завопила на всю хату: — Сыдорэ-э! Рятуйся-я!
— Перестаньте, — укоризненно сказал Глоба, а сам быстро шагнул в другую комнатушку, резким движением откидывая крышку деревянной кобуры. Он отдернул в сторону вышитую крестиком занавеску и ступил через порог, но еще раньше услышал звон стекла и выстрел — Глоба мгновенно спрятался за перегородку. Коротко выглянул — на полу валялись разбросанные вещи, оконная рама была высажена табуреткой. Он не стал преследовать отсюда — он будет представлять собой отличную мишень, если уж в него выпалили, то, значит, тому человеку ничего не стоит нажать на спусковой крючок и второй раз.
Выбежал во двор и поверх плетня увидел две удаляющиеся от хаты фигуры — они торопились через луг к лесу.
— Сто-о-ой! — закричал Глоба и предупреждающе выстрелил в воздух. Люди даже не обернулись, казалось, даже припустили еще быстрее. Тихон торопливо сбросил шинель, уже на ходу откинул в сторону поясной ремень и кобуру. В распоясанной гимнастерке, с маузером в руке, он кинулся по узкой тропе. Глоба знал, что на лугу сейчас трава большая, бежать по ней трудно, она путает и захлестывает ноги. Тропинкой к лесу дальше, но она выведет к первым деревьям быстрее.
Новый выстрел кинул его на землю — пуля чирконула где-то рядом. Да, те, что удирали, в таких делах были опытными. Они отступали по всем законам — один, лежа, отстреливался, другой делал в это время перебежку, потом падал за луговую кочку и палил из обреза, давая возможность отойти своему другу.
«Я их обоих не возьму, — запоздало подумал Глоба, — надо было захватить с собой милиционера… Одного из них следует обезвредить… Иного выхода нет… Попасть бы в ногу… Второй, кажется, мужик потяжелее, я его догоню…»
Глоба ожидал, пока один из них отстреливается, — лежал, уткнувшись подбородком в мокрую землю, чувствуя, как одежда напитывается холодной водой, воняющей болотом. Маузер держал двумя руками — черный столбик мушки делил надвое бугорок луговой кочки. Лопнул последний выстрел, пуля пошла верхом, из обреза прицельный бой затруднен — большое рассеивание.
И как только прогремел выстрел — бандит вскочил на ноги. Глоба ударил из маузера. Руку подбросило вверх, пустая гильза дзынькнула из откинувшегося затвора, пахнув горелым порохом. Бандит словно налетел на стеклянную стенку — его швырнуло с силой, и он рухнул, точно подкошенный. Второй, увидев, что произошло с его напарником, обернулся и, встав на колено, в отчаянии выпалил из обреза пять раз, затем отшвырнул ненужное оружие и, петляя, кинулся к лесу. Ноги его путались в траве, он спотыкался, на ходу разорвал ворот рубахи — горлу уже не хватало воздуха. Наконец упал, задыхаясь, хрипя, пополз по земле, цепляясь пальцами за кочки, и затих. Глоба пошел к нему, не сел, а свалился рядом, бросив руки на колени, вытирая мокрое от пота лицо о плечо гимнастерки. Боковым взглядом он зло глядел на мелко дрожащую спину лежащего человека, в намертво стиснутых пальцах которого торчали травинки и сочилась влагой сжатая черная земля.
— Ну повернись, гнида, — с ненавистью проговорил Глоба. — Покажи себя, какой ты есть.
От хат по лугу с вилами и кольями бежали сельские мужики. Глоба обеспокоенно поднялся им навстречу, сказал с неприкрытой угрозой лежащему бандиту:
— Народ… Разорвут в клочья. Если хочешь жить — вставай.
Человек шевельнулся, подтянул ноги, медленно сел. Лицо у него было серое, с запавшими глазами, губы тряслись, по небритым щекам текли слезы.
— Ты Павлюк? — спросил Глоба.
— Та я, —
пролепетал бандит, цокая зубами. Он сидел на земле, скорчившись, непослушными пальцами размазывая по морщинистой шее слезы и слюни. Глоба с отвращением отвернулся — у него не было сил смотреть на эту мразь.
— А второй?
— То мий брат.
— Вставай! И сопли вытри, глядеть противно. Учительницу ты убил?
Павлюк рухнул на колени, подвывая тонким голосом.
Второй был убит пулей в голову. Тело его принесли во двор и положили на бричку. Люди сказали, что до этого дня брата Павлюка видели здесь не часто — жил он в отдаленном селе, владел ветряной мельницей. Чем больше Глоба всматривался в неподвижные черты мертвого, тем больше ему казалось, что он видел его где-то раньше. Жидкие усы, срезанный подбородок, извилистые морщины через низкий лоб — этого человека он помнил по банде батька Корня. Теперь понятно, откуда появился нож. Брат передал брату… Свою заслуженную у атамана награду.
Глоба тщательно обыскал двор и хату. Со стороны огорода на бревенчатой стене хлева увидел множество следов от ножевых тычков.
«Вот здесь он кидал нож… А сын, наверно, приметил… На пацана это произвело неизгладимое впечатление. Он показал в школе, как это делать…»
Под обшарпанной клеенкой на столе Глоба нашел самодельный конверт с листом бумаги. Уже темнело, и Тихон подошел к окошку. Письмо было коротким, коряво выписанные буквы складывались в строки: «Друже! Мабуть, скоро побачымося знову. Поклычэмо старых товарышив. Грюкнэмо щэ двэрыма! Жинка моя вжэ у матэри. Собыраю и я свои манаткы. Надоели мне тутошные Магометы хуже горькой редьки. Скучыв по ридний Украини, аж дыхаты тяжко. До зустричи. Твий Мышко».
Обратный адрес отсутствовал.
Как ни отговаривали Глобу переночевать в селе, он все-таки решил ехать. Даже если бандиты уже знают об аресте Павлюка, им не придет в голову, что его повезут среди ночи.
Тихон навалил в линейку свежего сена, связал Павлюка веревкой и усадил его с помощью мужиков. Павлючиха попрощалась с мужем — выла во весь голос, как по покойнику. Бабы с трудом оторвали ее от тронувшейся линейки, за которую она вцепилась обеими руками. До сих пор молчавший Павлюк вдруг дернулся и, повернувшись всем телом назад, закричал срывающимся от тоски голосом:
— А ублюдку скажи… Повернусь — убью, як скажену собаку!
Ночь обступила со всех сторон. Видна была лишь дорога — словно серое русло высохшей реки с крошечной, точно прокол в темном картоне, одинокой звездой. Колеса глухо постукивали по неровностям, ухал в чаще филин, невидимое комарье звенело в воздухе, пронизывая все вокруг своим занудливым жужжаньем.
Павлюк шевельнулся на соломе и прохрипел:
— Комахи крови насосались… Вдарь по морде — терпеть мочи больше нет.
Глоба поднял руку, не останавливая линейки, на ходу сорвал ветку и легонько хлестнул листьями по лицу Павлюка. Тот со стоном вздохнул:
— Дякую…
— Ишь… вежливый, — усмехнулся Глоба. — И чего я тебя везу… Поставить бы у дерева — и пулю в лоб. Одним гадом на земле меньше.
— Ты скажешь! — обеспокоенно пробормотал Павлюк. — А допыт? Я, может, знаю такэ…
— Чье письмо?
— Тут не скажу… Вези до милиции.
— Нож где взял?
— Якый?
— Которым учительницу убил.
— То брехня.
— И не жалко было тебе ее?
— За москальку не ответчик. Чего ей треба на украинской земле? Я ее сюда нэ клыкав.
— Она детишек твоих учила уму-разуму.
— Вот повернусь из-за решетки — прибью своего ублюдка. Научили батька продавать.
— Вернешься ли еще, — сказал Глоба.
— Про учительку доказать надо, — сердито бросил Павлюк. — А то що? Я по тебе из «куцака» шмалял — то ж не поцилыв? За что меня убивать? Гей, будь ласка, поганяй комах… Живым жрут, кровососы.
— Вот как ты заговорил! — зло удивился Глоба. — Ну, тогда на себя и пеняй…
Он потянул вожжи, слез с остановившейся линейки. — Що ты робыш? — с тревогой спросил Павлюк.
— Пожалуй, ты прав, — продолжал Глоба, — тебя в город привезешь, а ты там выкрутишься, как червяк из коровьей лепехи. Подыхай здесь.
— То ты о чем? — всполошился Павлюк. — Убивать меня нельзя… Подожди! Ты куда?!
— А оставайся тут, зараза, — выругался Глоба. — Я лошадь выпрягу и пойду до села — там скажу, что бандиты напали.
— А что ж я?! — воскликнул Павлюк.
— Тебя за ночь сожрет комарье. Знаешь как это бывает?
— Шуткуешь, начальник? — дрогнувшим голосом проговорил Павлюк.
Глоба не отвечая подошел к лошади, мягко похлопал ее по крупу, ступил к морде, начал выпутывать из кожаных ремней оглоблю — она глухо упала на землю, потом загремела вторая. Взяв лошадь под уздцы, Глоба повел от линейки.
Сначала было тихо, потом Павлюк осторожно позвал:
— Ге-е-ей! Ты куда?! Повернись, начальник!
Павлюк вдруг заорал, словно резаный:
— Поверни-и-ись! Прошу, ради господа бога! Не губи!.. Пожалей диток малых… Господи!! Сдыхаю-ю!
Глоба вернулся назад и в темноте подошел к Павлюку:
— Так от кого то письмо?
— Запамятовал… Сгони комах с горла! Дыхаты ничым!
— Так околевай.
— Жизни он меня решит!
— Когда это еще будет, — холодно возразил Глоба. — Не сегодня.
— От Корня… То письмо батька Корня, — простонал Павлюк.
— Когда он здесь будет?
— Не знаю… Убей бог, не ведаю о том… Скоро. Одно письмо, бильш нэ було, Комари очи выедают… Пощади…
Глоба достал из кармана трут и кремень, выбил искры, от тлеющего огонька запалил клок сена. С пылающим факелом склонился над линейкой — он увидел белое лицо с перекошенным ртом, блестящее от мокрого пота.
— Ничего нет… Чудится все тебе от страха, жидок ты до расправы. Поехали дальше.
Павлюк примолк, парализованный пламенем. Глоба затоптал факел, сел на линейку и поднял вожжи. Колеса мягко застучали по выбоинам, в темном коромысле дуги так же, как и раньше, одиноко качалась крошечная звезда, похожая на тонкий прокол.
Здание милиции встретило черными окнами, на скрип открываемых ворот в одном из них затеплилась керосиновая лампа. На крыльцо вышел дежурный в накинутой на плечи шинели.
— Спишь? — насмешливо проговорил Глоба, спрыгивая линейки. — Готовь камеру… Гостя привез.
— А кто он?
— Утром сам расскажет. — Глоба распутал веревки и потянул Павлюка за рукав. — Слезай, приехали.
Арестованный сполз с линейки на землю, начал разминаться, по-птичьи взмахивая онемевшими руками.
— Проведи его в камеру, — повернулся Глоба к милиционеру. — И стереги… Потом лошадь распрягай. Я пошел домой.
Он устало побрел через двор, в темноте не разбирая где грязь, где сухо, доски с хлюпанием прогибались под ногами.
— Вернулся, Тиша, — раздался женский голос из-под навеса крыльца. — Да иди сюда… Куда ты?
Он шагнул на ступени и, слепо протянув руки вперед, столкнулся с мягко дрогнувшими пальцами. Из открытой двери флигеля тянуло теплом жилого духа и там, в глубине комнатушки, тлел на столе крошечный, с желтую горошинку, огонек коптилки.
Соколов долго вертел в руках письмо, найденное в хате Павлюка, рассматривая его со всех сторон. Ухватив за уголок, глядел на свет, пыхая в листок клубами табачного дыма из трубки. Потом сказал, задумчиво пожевав сухими губами:
— Значит, снова объявился Корень… Ожидай скорой беды. Такие, как он, не успокаиваются до последнего часа. Я знаю, где живет его мать. Когда-то у отца Корня была оптовая торговля зерном. Жива мать… Уже старуха. Собственный дом на Конюшенной.
— С чего живет?
— Самогон варит, тайно продает знакомым.
— Ну вот я ее на этом деле и застукаю, — сказал Глоба. — И посмотрим там, что из себя представляет жена Корня. Давай, Николай Прокопьевич, ордер на обыск, а если нужно, и на арест.
— Возьми с собой милиционеров, — посоветовал Соколов, — вдруг объявится сам батько Корень. Того и втроем не скрутить. А пуляет из пистоля как с правой, так и с левой.
Дом на Конюшенной номер два был кирпичным, с крашеной зеленой крышей. В дверь стучали долго, пока не послышался стук отбрасываемых запоров. В проеме показалась сгорбленная старуха в рваном платке, нечесаная, мутные кругляки железных очков висели на крючковатом носу.
— Милиция, — коротко сказал Глоба. — Разрешите? Старуха в удивлении отступила в коридор, зло впившись в Тихона слезящимися глазками поверх стекляшек. Милиционеры быстро заглянули в комнаты — никого нет.
— Гражданка Корнева?
— Чего вам трэба? — сердито прокричала старуха. — Беса тешите? Людям жить спокойно не даете!
— Незаконные действия проявляете? — невозмутимо спросил Глоба.
— Какой закон при беззаконии?! Безбожники, хреста на вас нет…
— Самогоном торгуете, гражданка Корнева?
— Паразиты! — воскликнула старуха, в ярости потрясая костлявыми кулаками. — Уже наябедничали, псы шелудивые! Честным людям дыхнуть нельзя без соседского глаза!
— Приступайте, — коротко проговорил Глоба милиционерам, а сам пошел по комнатам дома.
Везде царило запустение — грязью покрылись подоконники, пол давно не видел веника, на мебели слой летучего праха. И сильно пахло забродившей бурдой для самогона, этим запахом, казалось, было пропитано все — стеганые шелковые одеяла на постелях, половики, ажурные занавески на окнах, посеревшие от пыли. По скрипучим ступеням Глоба поднялся в мезонин и, легонько толкнув низкую дверь, вошел в побеленную комнатушку. Он смущенно замер, увидев на диване женщину с книжкой в руке. Она глядела на стоящего у порога с немым интересом, насмешливо вздернув брови. Ситцевый халат открывал белые ноги выше колен, но это женщину ничуть не смущало — она лежала на спине, утонув в мягких подушках, лениво перебирая пальцами с накрашенными ногтями мягкие волосы, завитками падающие на полную шею.
— Простите, — сказал Глоба. — Милиция ведет в доме обыск. Кто вы такая? Прошу документы.
— Что же вы ищете? — женщина прищурила темные глаза, удлиненные тушью, даже не шелохнувшись под строгим взглядом Тихона. Он отметил это спокойствие и то, что она была очень красива.
— Есть сведения, что здесь тайно гонят самогон.
— Безусловно, — пожала плечами женщина, не удивившись, словно это подразумевалось само собой. — А где сейчас его не гонят? Вам не скучно заниматься такой ерундой?
— Но согласно закону, который запрещает изготовление и продажу спиртного…
— Полноте, мужчина, — небрежно отмахнулась крашеным пальчиком женщина. — О чем вы? Старуха заплатит любой штраф.
— Боюсь, — холодно проговорил Глоба, — этого будет мало.
— Вы нас арестуете? — весело улыбнулась женщина. — Не пугайте, пожалуйста, в вас нет ничего страшного. Красивый мужчина. Вы так приятно смущаетесь.
— Что вы читаете? — спросил Глоба и, присев на краешек дивана, вынул из рук женщины затрепанную книжку. — «Приключения Ната Пинкертона…»
Он почувствовал, как к его спине прильнуло жаркое тело, и, не отодвигаясь, сказал:
— Берите документы и вниз… Вам придется отвечать по всей строгости закона.
— Пшел отсюда, — сразу потемнев лицом, прошептала женщина. — Ишь, прилип… Целоваться еще полезешь? Так я с легавым никогда…
— Мадам, — засмеялся Глоба, — к чему эти разговоры? Берите документы и вниз…
Он поднялся с дивана и вышел из комнаты, зная, что она пойдет за ним. На первом этаже милиционеры выносили из кладовки тяжелые четверти, полные мутной жидкости. На огороде их швыряли о дорожку, устланную битым кирпичом. Бутылки раскалывались со звенящим всхлипом, выплескивая шипящие волны. Старуха оцепенело смотрела на лужи, казалось, случившееся лишило ее дара речи.
— Составим акт, — сказал Глоба и вернулся в комнату.
Женщина уже сидела у стола, закинув ногу за ногу, небрежно бросив перед собой книжечку паспорта. Губы ее были капризно надуты, а темные глаза пылали благородным негодованием.
— Корнева… Ирина Петровна, — прочитал Глоба, развернув документ. — Значит, вы супруга сына хозяйки этого дома?
— Там написано черным по белому.
— Так, — проглянул Глоба, с пристальным вниманием рассматривая женщину, — Кто ж ваш муж?
— Корнев Михаил Сергеевич, — отчеканила женщина.
— Где он сейчас?
— Не имею понятия, — пожала она плечами.
— Как бы поточнее? Когда видели его последний раз?
— Недели две тому назад.
— Прошу подробнее.
— Мы жили в Ташкенте… Между прочим, там и познакомились. Михаил решил вернуться на Украину.
— Вы знаете, почему он не сделал этого раньше?
— Здесь было голодно, — заколебалась женщина. — Ужасные условия… Он мне так объяснял. Вопросы еще будут?
— Поэтому он и уехал отсюда?
— Возможно. Прежняя его жизнь меня мало интересует.
— Так что было две недели тому назад, Ирина Петровна?
— Он отстал от поезда.
— Вы ехали сюда?
— Именно так, но в Орле поезд тронулся, а его все нет… Он вышел на перрон поискать пива. И пропал. Я оказалась в дурацком положении. Что мне делать? Я знала адрес его матери и приехала к ней.
— Вы не беспокоитесь о пропавшем муже?
— Что с ним случится? Такой характер. Встретил дружков, загуляли. Гроши кончатся, проспится — заявится.
— Завидная уверенность, — пробормотал Глоба, он то знал; все, что она говорит, — неправда.
— Если мужчина захочет убежать от женщины, — Ирина Петровна с пренебрежением посмотрела на Тихона, — то его на цепях возле себя не удержишь. Но если он ее любит… Вы знаете, что такое любовь?
Глоба медленно листал странички паспорта, поглядывая на сидящую перед ним женщину. Она была невозмутима, лишь сбоку, на шее подрагивала тонкая жилка.
Вошли милиционеры, один из них держал в руках гнутый змеевик самогонного аппарата.
— Закончили… Целая фабрика.
— Так, — протянул Глоба и положил на стол чистый лист бумаги, ручку, вынул из полевой сумки пузырек с чернилами. — Будем составлять акт… Значит, ваша фамилия Корнева?
— Простите, — вдруг заволновалась женщина. — А при чем тут я?! Старуха пусть за все и отвечает! Нужен мне тот самогон!
— Хозяйка дома так этим делом пришиблена, — сказал милиционер, — что словно умом тронулась.
— Притворяется! — резко перебила женщина. — Я знаю ее — это такое чудовище…
— Отвечайте на вопросы, — холодно проговорил Глоба.
— Вы меня арестуете?! — вспыхнула женщина.
— Вынужден, — пожал плечами Глоба. — Величина преступления…
— Тогда я ничего не скажу! — воскликнула с гневом женщина. — Ни единого слова! Это безобразие… Невинного человека… Вот она какая Советская власть! Пусть только вернется мой муж… Он дойдет до самого правительства… Какой-то невежественный милиционер… Что ты там пишешь?
Она выхватила из-под руки Глобы начатый лист бумаги.
— Что вы пишете? «Данная гражданка проживав по улице…» Господи! Я «проживав…» Сплошная безграмотность! И такому вручают власть!!
Мучительно покраснев, Глоба аккуратно свернул листок акта, вложил в полевую сумку пузырек с чернилами и ученическую ручку. Хмуро посмотрел на Корневу:
— Собирайтесь… Там разберемся.
Ее словно ударили — она даже отшатнулась, кровь отхлынула от припудренных щек, а в темных глазах вскипели слезы. Поднялась ни на кого не глядя, прошла к комоду, начала вынимать из него стопки чистого белья… Отобрала то, что ей нужно. В расстеленный платок положила хлеб, кусок вареного мяса. Натянула сапоги.
Все молча направились к выходу. В полутемной передней сидела на лавке неподвижная старуха, держа на коленях собранные во дворе отбитые головки четвертей. При виде вошедших она выпрямилась, стекляшки звякнули в провисшем мокром подоле юбки.
— Ну, мамаша, — зловеще прошептала женщина, с ненавистью бросив взгляд на старуху, — вам это зачтется от сынка родного!
— Идите, — один из милиционеров подтолкнул ее к двери. Глоба повел Корневу через весь городишко пешком, по главной улице, чтобы ее видело как можно больше людей. Она шла, кутая лицо в платок, низко опустив голову.
Во дворе милиции сгрудились подводы, там и тут валялись клочья сена, мужики сидела на завалинке, дымя цигарками, неторопливо перебирая новости. Солнышко слабо проглядывало сквозь тучи, затянувшие небо, но было жарко, пропаренный воздух влажно лип к лицу. То и дело кто-нибудь говорил, тыльной стороной ладони вытирая лоб:
— Мабуть, знову будэ дощ… Паруе, начэ пэрэд грозою.
— Домой бы поспеть, — добавлял другой, с беспокойством вскидывая глаза к облачному небу. — За паршивой справкой часами сидишь тут, словно делать тебе больше нечего…
Глоба ввел Корневу во двор, и разговоры сразу притихли, лишь кто-то пробормотал:
— Дывысь яка… Выдать, нэ мисцэва жинка.
— Здорово, дядьки, — сказал Глоба и остановился, сняв фуражку, платком из кармана повел по клеенчатому ободку. — Никак, дождь будет?
— То так… Паруе, — закивали мужики. — Где ты такую жинку взял? Мы тутошних всех знаем…
— Приезжая. На Конюшенной жила, — небрежно проговорил Глоба. — Самогоном торговала. Схлопочет года три.
Мужики переглянулись и промолчали — один снова полез за кисетом, другой начал пристально разглядывать растоптанный лапоть, третий задумчиво запустил пальцы в спутанную бороду.
— Ото глядите, — прищурился Глоба. — С законом в цацки не играют. Пошли, гражданка Корнева.
Они поднялись на второй этаж и в глубине коридора увидели дверь, оббитую железом, с крошечным глазком. На табурете сидел скучающий милиционер с тяжелой кобурой револьвера на поясе. При звуке шагов он вскочил, торопливо одергивая гимнастерку.
Глоба заглянул в глазок, отодвинув в сторону кожаную крышку, — Павлюк спал на деревянных нарах, укрывшись с головой солдатским одеялом. В камере было пасмурно, легкая тень от оконной решетки лежала на чисто выметенном полу.
— Все время дрыхнет, — пожал плечами милиционер. Глоба достал из кармана связку ключей и одним из них открыл узкую дверь в комнату, где стояли стол и железная кровать. Окно было здесь без решетки, но находилось почти под потолком.
— Побудете пока тут, — сказал Глоба, пропуская в комнатушку женщину. — Больше камер нет. Сосед освободит — переведем на его место. Еду принесут.
Он тщательно, провернув ключ два раза, замкнул комнату и направился к начальнику милиции. Соколов встретил его понимающей улыбкой:
— Взял таки?
— Сидит.
— Может, лучше устроить засаду на Конюшенной?
— Два дня попугаю, а потом отпущу домой. Первый раз, мол, прощаю самогонные дела, но второй раз лучше пусть не попадается.
— Штраф хоть сдери, — посоветовал Соколов.
— Обдеру, как липку, но выпущу.
— И чего этим добьешься?
— Бояться ей будет нечего. Самое страшное для нее позади — так она станет думать. А мы понаблюдаем за ней.
— Может быть, — неопределенно протянул Соколов и вскинул на Глобу изучающий взгляд. — А что будешь делать с Павлюком? Звонил из города Лазебник.
— Вы ему, конечно, рассказали о нем?
— Безусловно, — кивнул головой Соколов, — я обязан был это сделать. Лазебник требует Павлюка в губмилицию.
— Подождем еще немного, — Глоба подумал и кивнул. — Я должен встретиться с хлопцем Павлюка.
— Лазебник спрашивает, как идут дела с ограблением кооперативного ларька.
— Да не могу же я разорваться! — вспылил Глоба.
— Кооперация — новое явление в жизни нашего общества…
— Понимаю я все, — озлился Глоба, — но не четырехрукий! Делаю, что успеваю.
Он поднялся из-за стола, нервным движением руки сбрасывая складки гимнастерки за спину.
Домой Глоба вернулся, как всегда, поздно, снял грязные сапоги в сенях, на цыпочках пробрался в комнату и, не зажигая лампы, начал шарить на столе руками, отыскивая что бы такое поесть — сильно изголодался. Но Маня не спала, заслышав его шаги еще во дворе, она поднялась навстречу — он увидел у окна белое пятно ночной рубашки.
— Сейчас, — сказала она, и в темноте вспыхнула спичка, наполнив бледным светом тонкий ковшик женских сомкнутых ладоней. Она перенесла огонек к фитилю лампы. Из мрака выплыл старинный комод с потускневшими медными ручками, зеркало, перечеркнутое трещиной, жестяное ведро под фаянсовым умывальником. На разостланной кровати громоздились подушки.
Сколько раз вот так Тихон приходил в старый флигель и видел на столе тускло мигающий огонек. Она первая его окликнула:
— Тиша, ты?
И он ступил к ней, как незрячий, торопливо и легко касался кончиками пальцев ее лба, щек. Прижав к себе, шептал извиняющимся голосом:
— Соскучился… Даже не верится, что это ты…
— Я заждалась… Ты так долго…
— Как мы раньше не знали друг друга? — Тихон растерянно удивлен, он даже отодвигает ее от себя, стараясь посмотреть в глаза. — Ты можешь такое представить? Мы… и не вместе?
— А я иногда гляжу в окно, — признается она, — идет по двору здоровенный дяденька… На боку оружие. Фуражка по брови. И вдруг как бы в сердце иголкой, аж дух замрет — это же Тиша родной…
И голос ее угасает, как бы истончаясь в тишине.
А утро проходило в торопливых сборах — брился возле умывальника, косясь в позеленевшее зеркало. Сам себе отглаживал гимнастерку, мелом надраивал пуговицы и ременную пряжку. Отмывал от вчерашней грязи свои крепкие, на спиртовой подошве сапоги с высокими голенищами, смазывал их тряпицей, макая ее в банку с дегтем.
Маня уже застелила постель, умылась, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу, хлопочет над фыркающим примусом — оттуда идет вкуснейший запах жареного лука, сала, молодой картошки. Женщина гремит тарелками, режет на доске хлеб, вдруг хватает веник и начинает мести пол, отбросив его, сдергивает с веревки высохшее белье. Она, как и Тихон, не успевает, ей надо идти в исполком, где работает машинисткой.
— Тиша, — жалобно молит она склоненного над сапогом мужа, — ради бога, выручи… Погладь юбку. А я тебя за это чем-то накормлю особенным…
— Бессовестный эксплуататор.
Тихон бросает на расстеленное одеяло суконную юбку, брызгает на нее водой сквозь губы, поднимает с кирпича чугунный утюг с пылающими углями.
— Как ты себя сегодня чувствуешь? — спрашивает он, ревностно поглядывая на жену. — Что-то не видно нашего Степана. Обманываешь, девушка?
— Не имею такой привычки, — говорит она, перебрасывая ремень маузера со спинки кровати на гвоздь у двери. — Железо надо класть на свое место… И почему Степан? С каких это пор? Заказ был на Людмилу.
— Ха! — вскрикивает Тихон. — Мне нужны мужики — помощники! Столько дел. Через восемнадцать лет мы пойдем на службу вдвоем.
— Господи! Тебе уже будет сорок лет. Кому ты такой нужен? У тебя уже сейчас седые волосы…
— Ну, это ты уж брось, — сердится Тихон, ероша жестки волосы перед зеркалом. — Чепуха какая! Ну, ты выдумаешь.
— На висках… Ты уже старый, жизнью потрепанный мужчина. Слава богу, что не лысый.
Через двор по прогибающимся доскам пробежал милиционер, застучал в окошко флигеля, прижавшись к стеклу, закричал:
— Товарищ Глоба! К вам какой-то гражданин! Настаивает…
— Кто такой? — Глоба распахнул створки и выглянул комнатушки, прищурившись от бьющего в глаза солнца.
— Не сказывается, — ответил милиционер, — но требует лично вас.
— Я буду через несколько минут, — проговорил Глоба. — Потерпит. Ты посмотри какое небо… А вчера говорили, что польет дождь.
— Будет, вот увидите, — подтвердил милиционер, — старые люди не ошибаются. 3 самого ранку паруе.
Глоба сдернул с гвоздя маузер, шинель брать не стал, глубоко натянул на лоб фуражку, крикнул уже от порога:
— Пока, к вечеру жди…
Размашисто перепрыгнул через несколько ступеней крыльца, пошел через двор широкими шагами. В свой кабинет шагнул с еще непотухшей улыбкой на лице. Человек, который ожидал его, сидел в конце коридора, подперев голову руками.
— Зови, — сказал Глоба милиционеру, удобно усаживаясь за стол.
Гражданин вошел в комнату и, не ожидая приглашения, спокойно опустился напротив Глобы. Был он лет сорока, грузен, мощные плечи выпирали из хорошо сшитого пиджака. Лицо темное, с поседевшими усами. Взгляд глаз дерзкий, с насмешкой.
— Здоров, начальник, — проговорил вошедший, откидываясь спиной к стене. — Ишь какой из тебя бравый мильтон получился. Картинка. Не узнаешь?
— А ну придержи язык, — угрожающе проговорил Глоба. Он не отрываясь смотрел в лицо сидящего перед ним человека, угадывая, где же он видел его раньше. — Кто такой?
— Забыл? Ах, не попал ты мне тогда в руки…
— Корень! — резко сказал Глоба, невольно кинув руку на маузер.
— Он, — согласно кивнул Корнев. — Очнись.
Глоба, потрясенный, смотрел на батька Корня, на то, как залихватски закрутил он на пальце кончик прокуренного уса.
— Я обязан арестовать, — наконец сказал Глоба.
— Поговорыть трэба, — Корень вдруг сунул руки в карманы и вытащил два пистолета, направив их стволами на Тихона. — Тилькы тыхэсэнько…
— Это ты все напрасно, — покачал головой Глоба. — Стоит только выстрелить — весь город поднимется.
— А я и не хочу шума, — Корень положил пистолеты на стол перед собой, внимательно поглядев в глаза неподвижно сидящему Глобе.
— Нэ злякався, — с удовлетворением проговорил он и широким жестом отодвинул от себя оружие. — Бери… Сдаюсь сам.
— Как понимать? — удивился Глоба, не притрагиваясь к оружию, искоса поглядывая на него. — Не узнаю, Михаил Сергеевич.
— Надоело от лягавых бегать, — вздохнул Корень, — старого не вернешь, а по мелочи жить не хочу. Может, ще простят, а?
— Чего бы раньше не прийти?
— Жинку вы мою замели, — помолчав, сердито проговорил Корень.
— Значит, эта Корнева… — затеял игру Глоба, — та самогонщица…
— А то вроде не знал? — пристально посмотрел на него Корень и тут же вяло махнул рукой. — Хотя кому она тут нужна… Мало ли схожих фамилий?
— Это точно, — согласился Глоба и недоверчиво поднял бровь. — Неужто из-за нее?
— Хватит темнить, — жестко сказал Корень. — Уговор такой: жинку отпускаете — я остаюсь.
— Ты это серьезно, Михаил Сергеевич? — спросил Глоба. — Ты уже у нас, оглянись!
— То все мура, я отсюда выйду, если бы даже мне пришлось перестрелять всех твоих милиционеров. Моя баба в чем-то крупно замешана?
— Самогон. А закон по такому случаю…
— То старуха ее попутала. Велик грех — самогон. Отпустишь? И бери меня голыми руками. Что думаешь? Не прогадаешь. Когда еще за Корня будут так дешево давать?
— У тебя еще есть оружие?
— Может быть, — неопределенно ответил Корень. Глоба подумал, привычно постучав пальцами по столу.
— Выкладывай.
— Даешь слово?
— Выпущу.
— Я тебе верю, — Корень наклонился и вытащил из-за голенища сапога короткий обрез. Он положил его рядом с пистолетами. Глоба открыл ящик стола и одним движением с грохотом сгреб туда оружие. Ключом повернул замок и поднялся:
— Я должен тебя обыскать. Что в карманах?
Корень вывалил на стол смятую пачку папирос, медную мелочь, огрызок карандаша, перочинный нож.
— Подними руки, — Глоба быстро прошелся пальцами по его телу. — Опусти… Курево можешь взять. Пошли.
Они молча зашагали по коридору, в конце его, увидев оббитую железом дверь камеры, Корень невольно рванулся к глазку, оттолкнув поднявшегося навстречу милиционера.
— Не здесь, — остановил его Глоба. Вынул из кармана галифе ключ и открыл им боковую узкую дверь. Корень в нетерпении ступил в комнатушку, громко прокричав:
— Ирина! Дэ ты?!
Глоба увидел, как они встретились посреди комнаты, обнялись. Женщина плакала, всхлипывая на его плече. Она все пыталась ему о чем-то сказать, но рыдания мешали выговаривать слова. Он гладил ее волосы, целовал в лоб, повторяя чуть слышно:
— Ну будэ, будэ… Нэ малэнька дивчынка. Ты послухай мэнэ…
Глоба отвернулся и, чтобы им не мешать, шагнул к дверям камеры, взглянул в глазок: Павлюк сидел на нарах, встревоженно прислушиваясь к шуму, доносящемуся из коридора.
Корень вывел из комнатушки жену, обнимая ее за шею. Лицо его было мрачно, свободной рукой он жестко крутил седеющий ус. Женщина шла, опустив голову.
— Иди, — хмуро проговорил ей Корень. — И не оглядывайся!
Корнева медленно побрела по коридору, у лестницы остановилась, в нерешительности взявшись за поручень.
— Иди! — гаркнул гневно Корень. Женские каблуки простучали по ступеням.
— Мы щэ побачымось, — сам себе прошептал Корень и поднял на Глобу дерзко вспыхнувшие глаза:
— Чего смотришь — радуешься?! Не рано ли, Тихон? Мы с тобой еще столкнемся на узкой дорожке. Ой, не поздоровится тебе тогда.
— Откройте камеру, — приказал Глоба милиционеру, тот загремел засовами, широко распахнул дверь. Павлюк, вытянув шею, завороженно уставился на стоящего в проеме Корня.
— Батько, — выдавил он с паническим ужасом в голосе.
— Замри, гнида! — резко сказал Корень.
Глоба вернулся к себе, открыл ящик, по очереди начал разряжать пистолеты, вынимая из них обоймы, полные медно отсвечивающих патронов, и вдруг опустил руки, задумался, снова мысленно увидел свидание Корня с женой… Мог ли когда представить, что этот закоренелый бандит… тот самый, который глотал самогон стаканами, ругался самыми черными словами, бил людей в кровь, пока они не падали ему под ноги… будет вот так провожать уходящую от него женщину. Как совместить страшное зло с его растерянно дрогнувшим, почти беспомощным возгласом в пустом коридоре перед распахнутой узкой дверью? Или человеческое проснулось в его тесной душе, до сих пор не ведавшей, что такое жалость и добро? Глобе ли не знать, как мог этот человек глядеть на другого, — одним только взглядом сметал чужую волю яростной силой вспыхнувшей ненависти.
Глоба пошел к Соколову и рассказал ему все. Когда закончил, Соколов уже вращал ручку висящего на стене черного телефона фирмы «Эриксон» с эмблемой: две скрещенные красные молнии. Однако в уездных условиях, видно, заграничная фирма молниеносных соединений не гарантировала. Соколов, надрывая голос, долго кричал в изогнутую, как крошечная грамофонная труба, эбонитовую трубку:
— Але! Барышня! Але! Черт бы вас всех побрал… Заснули?! Але… Наконец-то! Мне губмилицию! Лазебника! Здравствуйте, товарищ Лазебник! Как дела? По высшему счету! Семен Богданович… Отлично понимаем… А як жэ! Тут такая висть… Передаю трубку Глобе!
Тихон взял трубку и возле уха зарокотал насмешливый басок:
— Привет, привет… Ну, что у вас за потрясающая новость? Вам меня уже трудно удивить. Распутались с кооперативным ларьком?
— Нет, — сказал Глоба.
— А Павлюк?! — воскликнул Лазебник. — Я же просил… В конце концов, приказывал его привезти к нам!
— Я подумал, что следует еще раз съездить к нему в село, — начал было Глоба, — его сын…
— К черту! — перебил Лазебник. — Кончайте вашу самодеятельность! Везите в губмилицию. Тут специалисты почище вас…
— Товарищ Лазебник, — стараясь говорить спокойно, сказал Глоба, — в уголовный розыск уезда добровольно явился бывший известный бандит по кличке Корень.
Трубка замолкла, словно провод разрубили ножом. Потом в ней что-то закашляло, поскреблось и уже тихий голос спросил:
— Сам?! Корень?! Не может быть.
— Сидит в камере под охраной милиционера.
— Проверьте личность еще раз.
— Я с ним лично знаком.
— Глоба, — задышал Лазебник Тихону в ухо, — ты понимаешь, что это значит?! Я всегда верил в тебя… Молодец! Такого хлопца держать на уезде?! Теперь мы о тебе позаботимся. За этим Корнем грехов целый воз! Ах, молодец, парень! Как же такое произошло?
— Просто, — пожал плечами Глоба и усмехнулся, видя расплывшееся в улыбке счастливое лицо Соколова, который все пытался подслушать Лазебника, толкаясь лбом в раствор трубки.
— Мы арестовали его жену за соучастие в незаконном изготовлении самогона, — продолжал Глоба, — Корень явился утром и предложил обмен… Мы выпускаем жену, а его садим в камеру.
— И вы согласились?
— Я выпустил ее.
— Жаль, — помрачнел голос Лазебника. — Ну, да все поправимо. Что делает Корень?
— Отсюда не видно, — позволил себе пошутить Глоба. В трубке грозно зарокотало:
— Глаз с него не спускать! Беречь как зеницу ока! И под усиленной охраной доставить в губмилицию. Сегодня же!
— У нас всего три конных милиционера на все уездное отделение, — встревоженно проговорил Соколов и потянул из рук Тихона трубку. — Товарищ Лазебник! Вы бы лучше прислали за ним своих людей. Тут же их двое — Корень и Павлюк. Такие бандиты…
— Я приеду завтра за ними сам! — отрезал Лазебник. — Примите от руководства благодарность. Пока устно, потом получите приказ. Ждите меня завтра. До свидания!
Соколов повесил трубку и с удивлением покачал головой:
— Знать, и в нашем деле бывает везуха. Лазебник на седьмом небе… Переведет он тебя к себе в город. Ему потрибни лихие хлопцы.
— Я-то тут при чем? — пожал плечами Глоба. — А насчет города… Мне здесь хорошо. А вот жинка… Она городская с ног до головы. Вечера длинные — вся истоскуется. Куда пойти? А ребенок будет — значит, ей работу бросать? В городе мать, все присмотрит за дитем.
— Значит, уже сочинили маленького Глобу? — весело хохотнул Соколов. — Скорые вы хлопьята.
День как начался удачно, так и закончился без больших неприятностей — ни грабежей, ни воровства, всего несколько драк и, кажется, найдена какая-то зацепка к делу по разгрому кооперативного киоска.
Уже к вечеру начался дождь, сначала чуть накрапывал, а потом припустил вовсю. Глоба примчался домой мокрый. Маня раздела его, напоила горячим чаем. А за окном падал гром, его бешеные молнии раскалывали небо. Начало быстро темнеть. Жена выбежала во двор с ведром, подставила его под струи. Кажется, только что оно жестяно гудело под стеклянной шрапнелью капель, а вот уже вода только шипит, пенится у самого края. Переполненные лужи пляшут под хлещущими плетями, на месте жгучих ударов всплывают светящиеся пузыри.
— Сумасшедшая ночь! — закричала Маня, с трудом закрывая на крючок окошко, — налетевший ветер сначала швырнул в комнатушку косой ливень, а затем бахнул, как кулаком, по зазвеневшему стеклу.
Глоба потушил лампу и лег рядом с женой, сразу прижавшейся к нему всем телом. Голубое пламя молний терзало темноту, пронзая ее со всех сторон.
— Ты знаешь, сегодня такое случилось, — Тихон зашептал ей на ухо, рассказывая о том, что произошло утром.
— А мы уже знаем, — перебила она. — В исполкоме какие тайны? Твой Соколов председателю позвонил…
— Да, но это не все, — продолжал Глоба. — Раздался звонок от Лазебника… Таким баском… Фу-ты, ну-ты! Начальник…
— Так его и представляю, — хохотнула Маня. — Он меня однажды в кинематограф приглашал, да я не пошла. Больно нужен мне.
— Соколов послушал наш разговор и говорит: заберет он тебя в город, Тихон…
— И ты откажешься?
— Да это как предположение, вот чудачка. Так Соколов говорит. А Лазебник лишь благодарность вынес, правда, пока устно, но обещает и в приказе. Утром он будет у нас.
— Слушай, ты не вздумай отказаться от города, — Маня ладонью повернула его лицо к себе. — Ребенок будет… Тут и врача настоящего по детским болезням не найдешь. А кто будет за малышом следить? В городе у меня мама…
— Я так и сказал Соколову, — согласно кивнул головой Глоба.
— Ты это скажи Лазебнику.
— Скажу, — хмыкнул Тихон и, помолчав, добавил, — если спросит.
— А сам не можешь? — съехидничала Маня. — Язык не повернется, — вздохнул Тихон.
— Напрасно, — разочарованно протянула Маня и, положив голову ему на грудь, прикрыла ладонью глаза, чтобы не видел слепящие вспышки молний. — Конечно, нам и тут неплохо правда, Тиша? Но надо смотреть вперед. Не на всю же жизни мы здесь? Господи, грохочет, как из пушек…
Гром раскололся прямо над крышей, флигель содрогнулся от гулкого удара. За окном полыхнуло так, что, казалось пламя расплавило стекло. И в наступившей черной тьме дожди забарабанил по крыше с удвоенной силой.
Разбудили Глобу громкие удары в дверь. Он поднялся на постели, с трудом разлепливая веки — было часов шесть утра, в окошке стояло выметенное до голубизны сияющее небо.
— Товарищ Глоба! Глоба! — метался за дверью чей-то тревожный голос. — Да проснитесь!
Тихон торопливо натянул галифе, сунул ноги в сапоги и открыл форточку.
— Что случилось?
Молодой милиционер закричал:
— Беда, товарищ Глоба! Идите до камеры!
— А, черт, — выругался Глоба, сунул голову в гимнастерку, уже на ходу подхватил ремень и маузер. Через двор пробежала по щиколотки утопая в лужах. В пустом коридоре на втором этаже Тихон увидел распахнутую дверь камеры. От неожиданности у него перехватило дыхание. Он ускорил шаги. В камере на нарах, понурясь, сидел Соколов, без фуражки, угол белой портянки торчал из голенища сапога.
Глоба быстро огляделся — темные отштукатуренные стены, дверь, оббитая белым железом, параша — ведро с крышкой, стол… Окно! Мерцают пеньки перепиленных металлических прутьев. Решетка выгнута наружу, и солнце льет свет в непривычно свободный проем.
— Вот так… Бежали, — пробормотал удрученно Соколов. Глоба шагнул к нарам и приподнял одеяло — под ним лежала солома, вытащенная из матраца.
— Я каждый час поглядывал, — потерянно говорил дежурный милиционер, с убитым видом стоя посреди камеры. — Прозорку открываю… Лежат. Ну як ридни браты — плечом к плечу… Гроза, гром… да, господи, колы б я знав…
Глоба выглянул из окошка — двор расплывался лужами, поверх бурого, давно не крашенного забора, тянулись гирлянды ржавой колючей проволоки, покосившиеся ворота приоткрыты. По улице лошадь тащила телегу, глубоко проседавшую колесами в топкую грязь дороги. Ослепительно, словно надраенный мелом, сиял золотой купол собора.
— Пойдем вниз, — сказал Глоба, выходя из камеры.
Во дворе, прямо под стеной, они нашли ножовку для пилки железа, привязанную к длинной веревке. Тихон намотал на ладонь мокрый шпагат, снял с пальцев и, размахнувшись, швырнул ножовку в окно камеры. Она не попала, отлетела от кирпичей, булькнув в лужу. Глоба нашарил ее в воде, снова аккуратно смотал веревку. Прицелился и метнул ножовку опять — на этот раз она беззвучно исчезла в проеме окна.
— Вот так, — пробормотал Глоба, — остальное понятно…
— Но кто? — с отчаянием проговорил Соколов.
— Давайте проверим Корневу, — сказал Глоба. Соколов крикнул милиционеру:
— Лошадей!
Они проскакали через весь город, редкие встречные оглядывались вслед двум военным, низко пригнувшимся к лошадиным гривам. Из-под конских копыт летели ошметья грязи. На Конюшенной всадники спешились, один из них ловко кинул свое тело через забор, отбросил засов, открывая калитку, и уже оба взбежали на крыльцо.
Старуха открыла дверь не торопясь, что-то ворча сердито. Глоба молча обминул ее и торопливо пошел в комнаты. В одной из них увидел раскрытый сундук, вокруг валялись разбросанные одежды.
— Поздно, — проговорил Соколов, поднимая с пола меховую рукавицу. — Ох, и лопухи мы с тобой…
Глоба поворошил руками вещи в сундуке, заглянул в прихожую и, вернувшись, встал у окна. Отсюда четко были видны следы колес, тянувшиеся к воротам.
— Забрали теплые вещи. Ушли в лес…
— А где-то уже скачет Лазебник. С надежной охраной из конного резерва, — горестно усмехнувшись, сказал Соколов.
— Еще рано, — бормотнул Глоба, — спит, наверное… И во сне такого не видит.
— Может, позвонить? — предложил с надеждой Соколов. — По телефону оно легче… Поругает — и трошкы станет спокойней.
— Один черт, — сказал Глоба, тревожно барабаня кончиками пальцев по стеклу. — Куда они могли бежать? С Корнем Павлюк… Павлюк отправил сына к родственникам в отдаленный хутор… Могли туда скрыться?
— Кто знает, — вздохнул Соколов. — Бери двух милиционеров и гони в тот хутор.
Вернулись из погони уже к закату солнца. Лошади переступали копытами, качая в седлах усталых, залепленных грязью с ног до головы всадников. Карабины болтались за их спинами, на гимнастерках расплывались темные пятна пота.
Еще издали Глоба увидел легковой «форд» у ворот милиции и стайку мальчишек, облепивших его со всех сторон. Конники въехали во двор, спешились и, неуклюже ступая онемевшими ногами, повели лошадей к конюшне.
В открытом окне флигеля стояла Маня, не решаясь окликнуть мужа. Глоба сделал вид, что ее не заметил, молча передал повод одному из своих людей и направился к дверям.
На завалинке покуривали сотрудники уголовного розыска губмилиции — Замесов, Кныш и Сеня Понедельник. Возле них стояли конюхи и свободные от дежурства милиционеры, почтительно внимая городскому трепу.
— Ба-а! — оживленно воскликнул Замесов, вынимая со рта свою английскую трубку. — Вот и гроза бандитов! Целый день ждем…
— Что ж ты это, Тихон? — вместо приветствия закричал Кныш, иронично изгибая бровь. — А мы газуем на первой скорости. Дорогой бензин палим!
— Ну, братцы, — подхватил Сеня Понедельник, картинно тряхнув пшеничным чубом и сияя голубыми глазами. — Лихачи! Простого дела не сляпали!
— Катись! — коротко сказал Глоба обомлевшему Сене.
— Не обижайся, все понимаем, — сочувствующе бросил Тихону в спину Кныш.
Глоба поднялся на второй этаж. В длинном коридоре, как укор его совести, увидел распахнутую дверь камеры, в которой двое мужиков вмазывали в оконный проем новую железную решетку.
Тихон, постучав, шагнул в кабинет. Лазебник сидел за столом Соколова, а тот примостился боком на подоконнике.
— Явился?! — зарокотал грозным басом Лазебник. — Садись! Что скажешь в свое оправдание?
— Чего оправдываться, — хмуро проговорил Глоба, не отводя взгляда от полного лица замначальника губмилиции. — Прозевали.
— Какое разгильдяйство! — всплеснул руками Лазебник. — Бандиты, можно сказать, с неба упали, как подарок… И прошляпить позорнейшим образом! Уму непостижимо, о чем вы здесь думаете?!
Соколов с невозмутимым видом смотрел в окно, край его уха зарделся. Лазебник сердитым движением расстегнул крючки ворота суконной гимнастерки. Под его глазами, на отечных мешочках, проступали капельки пота. Он смахнул их кончиками пальцев, словно массировал лицо, и с ожесточением откинулся на спинку стула.
— Что я могу доложить Рагозе?! В какое вы меня ставите положение?! Еще позавчера я докладывал о поимке Павлюка… Вчера о явке Корня. Великолепно! А сегодня?! Все, мол, товарищ начальник, полетело коту под хвост! Неужели так трудно было выставить во дворе охрану?
— Не
сообразили, — тихо ответил Глоба. — Думали, достаточно дежурного у камеры.
— Это же вам не два пьяных мужика, арестованных за драку в кабаке новоиспеченного нэпмана! Отъявленные бандиты! Они с чугунной цепи сорвутся!
— Виноват, — опустил голову Глоба.
— Это преступление! — зло бросил Лазебник. — И мы в этом еще разберемся! Что показало преследование?
— Следы бандитов на хуторе не обнаружены.
— Как и следовало ожидать! — перебил Лазебник, кинув на Тихона взгляд, полный пренебрежения. — И все ваша затея… Арест жены Корня за изготовление самогона, ее освобождение из камеры. Знаете, все это пахнет голым авантюризмом!
— Однако, он появился, — поколебавшись, сказал Соколов.
— А вы уж молчите, Николай Прокопьевич. С вас особый спрос! Будете объясняться с руководством губмилиции. Я вам скажу, дорогие товарищи, — Лазебник начал каждое слово припечатывать к столу ударом ладони. — Благодушествуете! Это раз! Второе — потеряли классовый нерв. Свернули с острия удара! Только надо представить — принимаете бандитские условия. И третье: видя, что государство пошло навстречу крестьянству… Отменило продразверстку… Разрешило вольную торговлю излишками… Снизило цены на промышленные товары… Глядя на вес эти мероприятия государства, вы тоже, может быть, невольно пошли на компромисс.
— Ну, это уж позвольте, — сердито возразил Соколов. — Государство не заигрывает с селом, а проводит твердую политику укрепления сельского хозяйства!
— За счет интересов рабочих! — бросил Лазебник.
— Какая глупость! — вспыхнул Соколов. — Вам же известны срочные меры восстановления железнодорожных путей сообщения. Чего стоит план электрификации России…
— Вот именно! — воскликнул Лазебник. — Грандиозные планы электрификации! С одной стороны. Со стороны промышленного пролетариата — создание гидростанций! Мощных паровозов! Новых станков. Все это за счет трудового героизма рабочих! Голодные, разутые, лишенные дров, — они поднимают революционную страну из нищеты. Но другая — большая! — сторона России: крестьянство… Оно в это время жадно обогащается. А есть и такие, что устраивают бунты, срывают посевные кампании, создают банды и уходят в леса; А вы, — голос Лазебника заиграл металлом, — в таком для нас суровом положении ведете с одним из самых жестоких главарей личные переговоры, идете на его условия и оказываетесь в дураках, на смех и издевательство всего губернского крестьянства. Вот так представители закона!
Соколов слез с подоконника и медленно прошелся по кабинету, сунув пальцы за поясной ремень. Искоса посмотрел на Лазебника, который сидел на стуле, откинувшись к стене, устало прикрыв глаза.
— Не понимаю вас, — начал он и поморщился, увидев каменно неподвижное лицо Глобы. — Скажите, Семен Богданович, не пытаетесь ли вы таким образом пустить черную кошку между городом и селом? Извините, пожалуйста, за такое сравнение.
— Нет, меньше всего я желаю ссорить рабочих с крестьянством. Но разная классовая зрелость налицо…
— Крестьянство — не одна идиллическая семья под общей крышей, — пожал плечами Соколов.
— Потом разберемся. Цель партии — всемирное братство. Сначала все старое разломаем. Пройдем через голод, жертвы и кровавые ошибки…
— Таким путем мы бандитизм не изживем, — усмехнулся Глоба.
Лазебник замер на полуслове, неприятно пораженный тем, что его перебили, с недоумением посмотрел на Тихона:
— Как понимать?
— А вот снова раздуть пожар можно, — продолжал Глоба — Бедный крестьянин только на ноги становится. Ему бы помочь мануфактурой, солью. Он за это город накормит вдосталь.
— Это не позиция революционера, — холодно проговорил Лазебник.
— Надо смотреть выше живота.
— Да живот-то чей? — с горечью сказал Соколов. — Наших стариков и детишек, мужиков да баб…
— Ваш нэп развратит их! — вырвалось у Лазебника, и он даже побледнел.
— В чем же спасение?
— Только в жестком военном коммунизме! Единый вооруженный лагерь!
— А если иначе? — бросил Соколов на Лазебника пронзительный взгляд. — Мирное строительство социализма.
— Тысячи километров сплошной границы с империализмом… Растерзают! — резко сказал Лазебник.
— Живем… Какой уж год.
— Или поглотит нас мелкобуржуазная стихия! Сколько поблажек сделано крестьянству. Попробуй теперь их вырвать у него.
— А зачем! — удивился Соколов. — В наших планах сделать его жизнь лучше.
— Хотел бы и я так думать, — хмуро вздохнул Лазебник и поднял глаза на Глобу. — В свете обрисованного положения ваш поступок выглядит служебным преступлением. У меня нет прав уволить вас с работы из органов. А то, что вам нельзя доверить уездный уголовный розыск, — это я прекрасно понимаю. Я поехал. Николай Прокопьевич.
— Не поужинаете? — спросил Соколов.
— Кусок в горло не полезет, — усмехнулся Лазебник. Глоба, уже не слушая их разговора, вышел из кабинета. Он спустился во двор, присел на завалинку, невидяще вытащил папиросу из пачки, протянутой Кнышом.
— Э, дружок, — сказал Замесов, поддергивая на коленях стрелки тщательно выглаженных твидовых брюк. — На тебе лица нет.
— Дыши носом, — подмигнул Кныш. — Подумаешь, горе — бандит смылся, да их на нашу долю хватит, вот до сих пор, — он чиркнул пальцем по горлу.
— На то мы и сыщики, чтобы их ловить, — ободряюще проговорил Сеня Понедельник.
— Вам ловить, — усмехнулся Глоба серыми губами, — а я это дело завязываю.
— Весьма опрометчивое решение, — неодобрительно буркнул Замесов, попыхивая английской трубкой.
Лазебник показался в дверях, посмотрел на темнеющее небо и бодрым голосом прокричал:
— По коням, молодцы! Заводи американца!
Шофер, весь в кожаном, пошел за ворота и оттуда донесся рокот фордовского мотора. Сотрудники попрощались за руку с Глобой, кивнули всем остающимся, гуськом зашагали к машине.
— Вот так и действуйте, — подводя итог разговору в кабинете, сказал Лазебник Соколову уверенным тоном. — И все будет отлично. Надейтесь на мою помощь. Звоните, не стесняясь. Общие радости, одни для всех огорчения. Желаю успехов.
Он направился к воротам, огибая лужи.
— Проводим? — спросил Глобу Соколов. Тот лишь отрицательно мотнул головой и направился к флигелю, у крыльца которого уже давно, еще из окна кабинета видел, горестно стояла Маняша, непривычно для Тихона, совсем по-бабьи, подперев щеку ладонью.
Она платком вытерла его потное лицо, покрытое разводами мокрой пыли, сняла фуражку и, встав на цыпочки, пальцами расчесала слежавшиеся волосы. За воротами резко просигналила сирена, и звук мотора начал удаляться. Соколов вернулся во двор и сказал Глобе:
— Я ожидал чего угодно — только не этого.
— Надоело, устал, — пробормотал Тихон.
— Не разводи антимоний! — сердито оборвал Соколов и, взяв его за ремень маузера, притянул к себе. Глядя снизу вверх по стариковски запавшими глазами, торопливо заговорил — А ты тоже не будь гонористым. Ведь упустили Корня? А Павлюка?! Начальство у нас отходчивое. Полае, полае и успокоится. Ему влетит не меньше, чем нам с тобой.
— О чем вы говорите, Николай Прокопьевич? — сказала Маня, которая до этого словно бы и не прислушивалась, а только со страданием глядела на посеревшее лицо мужа.
— Я сам поеду в город, — перебил ее Соколов. — Поговорю с самим товарищем Рагозой!
— Налей воды… Грязный с ног до головы, — вяло проговорил Глоба и начал расстегивать крючки гимнастерки. Нехорошая — с обидой — усмешка тронула его потрескавшиеся губы. — Не надо никуда ходить. Только вот что — я и рядовым милиционером того Корня возьму. Никуда он от меня не уйдет. В лесу он. Вот зима начнется… Там посмотрим кто кого…
Глоба опустился на крыльцо, грузно просевшее под тяжестью его тела, начал снимать сапоги, покрытые заскорузлой землей проселочных дорог, — зацепит шпорой за край ступени и выдернет из голенища ногу, обернутую пропотевшей портянкой. Осторожно, словно бинт на ране, развернул портянку — ступни были красными, разопревшими, с белыми надавлинами, похожими на шрамы.
— Отмахали километров семьдесят. И верхами и пехом, — пробормотал Глоба. — У Черного леса обстреляли нас из обрезов. Чистое поле… Куда денешься?
— Да, теперь его голыми руками не возьмешь, — вздохнул Соколов. — Погуляет по селам… Но ведь нам с тобой их ловить?
Глоба не ответил, он смотрел, как, молодо прогибаясь, женщина поднимает ведро из колодца — вот поставила деревянную циберку на деревянный сруб, вода плеснула ей под ноги, она чуть вскрикнула, отступила на шаг, затем, подхватив дужку, наклонила бадейку, и литой поток ухнул в жестяное ведро, взорвавшись бесшумными каплями. А поверх забора, между темными купами деревьев, небо пылало алым закатом, предвещая завтрашний ветер.
— Мне чем с начальством ссориться, — продолжал Соколов, с беспомощным видом стоя перед крыльцом, — лучше еще раз в штыковую атаку сходить. Налетит, поднимет трамтарарам… Голова кругом! А чего проще: прикажи, коль ты такой руководящий, поймать бандюгу — и кровь из носу!
— Ловы витра в поли, — нехотя ответил Глоба.
— А все ж таки какая-то надежда есть, — задумчиво проговорил Соколов, он присел на ступеньку и начал медленно набивать коротенькую трубку крупно нарезанным табаком, просыпая его сквозь пальцы. — Интересно, зачем Корень явился к нам собственной персоной?
— Жену выручать, — Глоба снял через голову гимнастерку, стал заворачивать рукава бязевой рубашки.
— Во! — обрадовался Соколов. — Значит, любит свою жинку. Видать, что-то в нем человеческое сохранилось.
— Знал, что выкрутится, собака, — выругался Глоба, подставляя ладони под край наклоненного ведра.
— Э-э, — протянул Соколов, — не говори, парень. Ты еще молод, не знаешь, як жизнь человека меняет. Ради жинки Корень пошел на смерть. Ведь ему, по правде, пощады не ждать — грехов больше чем предостаточно. А он говорит: «Ее освободите, а меня берите с потрохами!» И тебе на слово поверил… По-человечески. На прежнего Корня непохоже.
— Любовь чего не сделает, — пробормотала Маня, забыв плеснуть воды в подставленные ладони мужа.
Глоба вскинул на нее глаза:
— И ты о том же?! Какая у него может быть любовь? Он столько людей лишил жизни! Детей! Женщин!
— И все-таки, — перебил Соколов, — ты с ним вел переговоры. Значит, с ним можно разговаривать по-человечески!
— Но зачем?! — Глоба гневно фыркнул, схватил чистое полотенце и начал яростно растирать лицо.
— Может, он добровольно сдастся властям? — неуверенно, сказал Соколов. — Хватит, погулял — и край. Пора сдаваться на милость победителя.
— А мы его… — недобро усмехнулся Глоба.
— Кто знает, — качнул головой Соколов. — Суд покажет Смягчающие обстоятельства… А то вдруг амнистия… Все есть какая надежда. А не выйдет без оружия — верная смерть. От должен соображать, не такой дурень. Вот и предложить бы ему эти два решения.
— Ну ты даешь, Николай Прокопьевич! — Глоба так и замер с гимнастеркой, полунатянутой на плечи. — Такое придумать…
— А что, краще пусть он по лесам гуляет?! Людей безвинных губит?! Корень если начнет… Ему в зверстве удержу не будет! — Соколов взволнованно зачертил по воздуху мундштуком трубки. — Но кто это сделает? Как это сделать? Корень хитер, не всякому поверит.
— У меня с ним может быть только один разговор, — Глоба, кивнул на маузер, висящий на гвозде. Он одернул гимнастерку, взял сапоги за холстяные ушки и вытер ноги о простеленную на крыльце мокрую тряпку. — Мне такой разговор, Никола Прокопьевич, не по душе. Давайте о чем-нибудь другом.
— Заходите борща моего попробовать, — предложила Маня, но Соколов отмахнулся трубкой.
— Не буду мешать… Вечеряйте сами. Сегодня очень устал. Спокойной ночи.
И пошел через двор, на ту сторону дороги, где жил вместе с женой в хатенке, покрытой соломой.
Ночью Маня долго не засыпала, прижавшись к Тихону, она все шептала ему на ухо чуть слышным голосом:
— Ты не расстраивайся, пожалуйста. У кого не бывает неприятностей? Пусть поищут таких, как ты… Вернемся в город, будешь работать на заводе. Мы своего пацаненка вырастим и отдадим в заводскую школу. Каменное здание, большие окна. Никто на тебя не имеет права повышать тон. Подумаешь, начальник! Лазебника все знают — любит покричать. Уедем — и у меня на сердце станет легче.
Глоба уже засыпал, плыл куда-то в этом убаюкивающем голосе, когда вдруг услышал легкий стук в окно. Он открыл глаза — руки Мани сжались на его шее. Стук повторился, и Тихон, медленно разведя ее сцепленные пальцы, поднялся с кровати и подошел к двери. Осторожно приоткрыл.
— Кто там?
— Цэ я, — раздался голос Соколова.
Глоба в одном белье вышел в ночь на крыльцо. В темноте с трудом различил оседланную лошадь и одетого в длиннополую шинель начальника милиции.
— Слухай меня внимательно, — проговорил Соколов, — времени нет! Ты знаешь Сидоренко, що у яра живет?
— Да, — коротко ответил Глоба. — Есть за ним кое-какие грехи. Но поймать не можем.
— Еще поймаешь, — усмехнулся Соколов. — Я его добрэ знаю щэ по старым дилам. Он с Корнем дружил. Теперь он согласен свести меня с атаманом.
— Да что вы, ей богу, придумали! — не выдержал Глоба. — Кому верите?!
— Молчи и слушай, — перебил Соколов. — Корень приходил к Сидоренко. Звал его к себе. Указал место, где они могут повстречаться снова. Пароль дал к своим людям в селе.
— Я протестую против вашей поездки, — решительно сказал Глоба.
— То ты по молодости, — тихо засмеялся Соколов. — Если мы Корня склоним к добровольной сдаче… Скольким людям життя сохраним!
— Тогда я еду с вами!
— Не надо, он побоится ловушки. А нам надо спешить, пока он грехов не натворил, тогда будет поздно.
— О чем можно с ним говорить?! — с отчаянием вырвалось у Глобы.
— Предложу ему два варианта. В первом у него все-таки какой-то шанс на жизнь.
— Он вас живым назад не отпустит.
— Сидоренко оставляет в городе жену с двумя детьми.
— За что ж он так вас любит, этот Сидоренко? — ядовито спросил Глоба.
— Тоже ищет прощения, — проговорил Соколов. — Старый уже, осознал.
— И куда вы сейчас?
— К Волчьей Яме… Через село Водяное.
— Когда ожидать обратно?
— Завтра к вечеру. Дорога не близкая. До свидания, Тихон. Не нервничай. Все будет хорошо.
Соколов вывел оседланную лошадь со двора, прикрыл за собой ворота. Долго в гулкой тишине не затухали шлепающие звуки сильных лошадиных ног о лужи. Глоба неподвижно стоял на крыльце, лицом прислонившись к холодному столбу. Усадьба дышала сырой глиной и гнилой соломой. Босые ноги совсем закоченели на ледяных досках крыльца. Тихон не уходил, век слушал, как затихают звуки конских копыт.
Наконец отшатнулся от столба и осторожно вошел в комнату. Стараясь не шуметь, опустился на кровать. Сонный голос жены спросил:
— Кто? Так поздно…
Глоба только и мог ответить, ладонью прикрыв глаза;
— Дела, Маняша, дела. Ты спи…
Она положила руку ему на грудь, и он постарался успокоить дыхание, чтобы ей даже во сне не передалось его волнение, возникшее при расставании с Соколовым. Многое она не знала о своем муже и знать ей не надо было, особенно теперь, когда в ней таинственно зреет новая жизнь.
Он осторожно поднялся и снова вышел на крыльцо. Долго курил, глядя на небо, которое никак не хотело менять свои антрацитовую черноту, лишь где-то, на страшной высоте, туманно роилась мельчайшая звездная пыль.
…Тогда, несколько лет назад, под Глобой пала загнанная лошадь. Он шел, утопая в сугробах, мокрый от пота, с заледенелымы волосами — ветер унес в темноту ушанку из собачьего меха. Силы оставляли его, — падая, долго лежал, ничего не видя, дышал как та загнанная кобыла, которую покинул в лесу с вытянутой мордой на снегу, — ее засыпало быстро, когда уходил, над белой дымящейся дюной только полоса хребта чернела.
Позади остался бандитский лагерь — затерявшиеся в лесу вгрузшие в землю шалаши и землянки. В эту ночь ветер рвал из труб снопы искр, а когда распахивались дощатые двери — в мелькании мутного света можно было увидеть движение теней, услышать песни, хохот, крики…
Тихона встретили конники отряда по борьбе с бандитизмом, они привели его к своему командиру — Соколову Николаю Прокопьевичу. Сидя на лавке перед керосиновой лампой, Глоба пытался найти нужные слова, чтобы объясниться с этим человеком в кавалерийской шинели, но мысли путались.
— Да он зовсим хворый, — сказал командир, глядя на горящее лицо паренька. — А ну ложись спать… Утром все расскажешь…
И все же Тихон нашел в себе силы снять с правой ноги заледенелый сапог, из-под стельки достал удостоверение Чека — клочок шелковой тряпки с фиолетовым оттиском печати и полустертыми буквами — пропотевшая, грязная тряпица легла на ладонь командира. Соколов все понял, встал из-за стола, шагнул к телефону, долго крутил с ожесточением гнутую ручку, потом сунул трубку Глобе, приказал:
— Говори!
Возле уха, в холодном кругляше телефона забился далекий, но такой знакомый голос Рагозы:
— Молодец! Век не забудем… Теперь все расскажи командиру. И отдыхай. Ты болен? Завтра мы тебя положим в больницу. Спасибо, Тихон.
Утром Глобу на санях в сопровождении двух кавалеристов отправили в город. Только потом, после выздоровления, он узнал о полном разгроме банды Корня. Несколько верст гнал красном Соколов атамана по снежной целине среди деревьев. Они стреляли друг в друга, несколько раз казалось, что кони отряда настигнут бандитов, но те слишком хорошо знали свои тайные тропы — ушли в бурелом Волчьей Ямы, затаились в непроходимой чаще, а как только потеплело, разбрелись по селам. Шайка перестала существовать. Однако где-то в чужедальней стороне жил эти годы спасшийся батько, а в селе Смирновка затаился тот, кто кормил и укрывал бандитов, — Павлюк… А сколько их еще прячется по хуторам, ожидая появления нового Корня? У скольких еще закопаны под яблонями хорошо смазанные и обернутые в мешковины «куцаки», а под соломенной стрехой хаты на всякий случай висит котомка с добрым шматом сала в ладонь толщиной, парой луковиц и сухой лепешкой?
Думал ли тогда Тихон, что судьба опять сведет его с тем командиром, который станет его начальником, и он, Глоба, будет глубокой ночью сидеть на холодном крыльце в одном белье, дымить самокруткой и тревожно вслушиваться в мертвую тишину спящего городишка?
Как медленно встает рассвет… Вот на востоке кто-то, словно нехотя, принялся смывать с купола неба закопченный слой — помутнели края, тускло забрезжили, потом все небо стало наливаться силой, окрепло и пролилось за горизонт алой полосой.
Уже одетый, подпоясанный, в туго надвинутой на лоб милицейской фуражке, Глоба вскочил в седло и, разбирая поводья, скомандовал двум подчиненным:
— По коням, ребята…
Они некрупным шагом миновали ворота и легкой рысья поскакали по пустынной дороге. У водоразборных колонок и колодцев уже гремели ведрами рано поднимающиеся хозяйки, по обочинам там и тут гнали на прибрежный луг скотину заспанные мальчишки. Устоявшиеся за ночь лужи были прозрачны, на них лежали намокшие листья.
На окраине города всадники свернули к оврагу и остановились около небольшой хаты. Перегнувшись через забор, Глоба негромко позвал хозяйку. На крыльцо вышла старая женщина. В подслеповатом окошке показались лица детей.
— Где Сидоренко? — спросил Глоба, поздоровавшись.
— Поехал в ночь, — с беспокойством проговорила женщина, пристально вглядываясь в милиционера. — Может, с ним случилось что? Вы скажите, ради бога… Поехал с вашим начальником…
— Нет, все в порядке, — ответил Глоба, разворачивая лошадь. — Я просто хотел узнать… До свидания.
Итак, бывший бандит, помилованный по амнистии, сегодня ночью отбыл вместе с начальником уездной милиции в сторону Волчьей Ямы. Со стороны Сидоренко ловушки быть не может — семья осталась в городе. Дорога к лесу одна — Глобе ли не знать ее? По ней он шел в банду, возвращался назад…
Долго качались они в седлах, устало опустив головы на грудь, пряча глаза от слепящего солнца. Узкая дорога петляла между косогорами, выводила на голые бугры. Под копытами лошадей мягко чавкала раскисшая глина, комьями отваливался подсохший чернозем, шуршал слежавшийся песок…
К полудню всадники увидели село Пятихатки, было оно убогое, с криво поставленными дворами. На лай собак начали выходить люди, вездесущие мальчишки заскакали перед лошадиными мордами, цеплялись за отполированные подошвами стремена.
— Здоров, дядько Иван, — весело проговорил Глоба, узнавая среди кучкой стоящих мужиков своего знакомого.
— Здоров, — ответил пожилой крестьянин, помогая милиционеру слезть с лошади.
— А что такой грустный, дядько Иван? — засмеялся Глоба. — Дети здоровы? Жена не хворает?
— Да все в порядке, — вздохнул крестьянин.
— Чего ж ты такой хмурый?
— А вести такие, — отмахнулся он горестно.
— Что-то я тебя не возьму в толк…
— А сегодня поутру на соседние Дворики банда напала, — ответил крестьянин. — Председателя сельрады и еще двух постреляли прямо в хатах. Все дочиста забрали и с лошадьми — гайда в лес.
— И что же то были за люди? — тихо спросил Глоба.
— Та, мабуть, банда Корня, — с неохотой проговорил кто-то из крестьян. — Видели его. Их пятеро, все с куцаками.
— И когда это было? — с затаенной надеждой спросил Глоба.
— Та еще солнце только начало подниматься…
Глоба торопливо распрощался, и всадники свернули на тропу, ведущую сквозь березовую рощу. Большие, в обхват, стволы, забронированные потрескавшейся корой, светились под осенним солнцем.
Они спешили, Глоба то и дело оглядывался на отстающих — у них были кони похуже, подгонял их призывными взмахами руки с болтавшейся на запястье ременной плетью.
Он уже понимал, что они опоздали, но чувство отчаяния толкало его вперед, он не хотел думать, что для встречи с бандой их не так много и, если не устроят засаду, то трех карабинов и одного маузера будет недостаточно, чтобы отбиться… А если с ходу налетят на пули… И все-таки гнал и гнал лошадь, подстегивая на подъемах — не видел пены на железных удилах, не слышал её усталого храпа. Он надеялся на чудо, на неимоверный счастливый случай, в конце концов, на удачу.
Кони вымахали из березняка на проселочную дорогу, земля ее была непримята, без следов от подвод. Поскакали вперед, почти касаясь коленями друг друга, приподнимаясь в седлах, пристально глядели в даль уходящей дороги. Темный лес — Волчья Яма — уже виднелся на горизонте острыми зазубринами.
— Слева… Под корявой сосной, — проговорил один из всадников.
И Глоба тоже увидел под тенью раскидистой сосны телегу и лошадь.
Они ударили шпорами по жарким бокам, в нетерпении поддернули поводья.
— Ги-и! Ги-и! — по-казачьи гикнул милиционер, вырываясь наперед и на скаку ловко сбрасывая из-за плечей короткий карабин.
Худая кобыла равнодушно щипала редкую траву, с хрустом выдергивая ее из песчаной почвы, усеянной сухими иголками и расклеванными шишками. В телеге, связанные спинами, полуобвиснув на веревках, сидели двое. Оба были залиты кровью, с выколотыми глазами. В обезображенном болью лице Соколова трудно было признать знакомые черты — оно стало, меньше, словно муки иссушили его, зубы намертво прикусили нижнюю губу.
Глоба в молчании разрезал ножом веревку, выпутал из нее; тело своего начальника и осторожно положил на дно телеги! Из судорожно сжатых пальцев вынул втиснутый в кулак клочок бумаги. На нем корявым почерком были выведены слова: «З комуністами розмовляю тільки так!! Батько Корінь».
Вторым убитым оказался Сидоренко — пожилой человек, обросший седыми волосами. Из его рта, раскрытого в безмолвном крике, торчала смятая бумага. Глоба взял ее в руки и разгладил на ладони. Теми же неуклюжими буквами было написано: «Зрадникам i відступникам — перший ніж».
Глоба привязал повод своей лошади к задку телеги, поднял вожжи и вывел кобылу на дорогу. Сам зашагал по обочине, цепляясь шпорами за жесткую траву. Колеса попадали в рытвины, с бряканьем переезжали толстенные корни, торчащие из почвы. При каждом таком ударе головы убитых стучали о доски.
Глоба только сильнее стискивал челюсти, словно завороженный глядя на мерно двигающийся, обросший линялыми волосами, костлявый круп лошади, на котором темнел запекшийся в крови след чьей-то пятерни — печать убийцы.
Похоронили Соколова посреди булыжной площади, напротив каменного здания собора — могильный холм, весь заставленный венками, огородили дощатым палисадником. Играл оркестр кожевенного завода, на котором когда-то работал Николай Прокопьевич.
У жены убитого, всегда тихой, мало чем раньше приметной женщины, от горя отказали ноги. В бессилии она провисла между Глобой и Рагозой, державшими ее под локти, и страшным, немым взором следила за движением красного гроба над головами сотен людей.
После похорон все собрались в кабинете Соколова — за столом грузно опустился на табурет начальник губмилиции Рагоза. Все так же был он одет в потертую кожаную куртку, в распахнутых полах которой виднелась простая, много раз стиранная гимнастерка с выцветшими красными клапанами на груди. За последнее время Рагоза как-то быстро поседел.
Лазебник сидел у окна, на его полном лице светился нервный румянец.
— Какого человека не уберегли! — не выдержав, сказал он и в отчаянии даже ударил кулаком по колену. — Ну-у, Глоба…
— Я вот клянусь… Припомните мое слово, — медленно проговорил Тихон. — Клянусь… Этого Корня своими руками…
— А все наша мягкотелость! — продолжал Лазебник. — Взять бы в каждом селе заложников из куркульских семей. И если в двадцать четыре часа не выдадут бандитов… Беспощадно! Согласно законам военного коммунизма!
— Подобного не произойдет, — жестко сказал Рагоза и так посмотрел на Лазебника, что Глоба понял — это не первый их спор.
Не шелохнувшись, только опустив веки, медленно чеканя каждое слово, Рагоза проговорил:
— «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собой масс, и вся машина развалится». Так сказал Ленин.
— Но если нас капля! Малая горсть! — усмехнулся Лазебник. — То и удержать эту стихию мы сможем лишь с помощью стальной хватки!
— Ты слаб в политэкономии, — впервые чуть усмехнулся Рагоза. — Огромное большинство крестьянства нашей страны ведет индивидуальное хозяйство… И теперь мы признаем первоочередной задачей практическую помощь деревне: расширение засевов, увеличение запашки, всяческое уменьшение нужды крестьянства.
— А он тебе на это нож из-за спины, — желчно сказал Лазебник и отвернулся к окну. — Ты думаешь, что я против того, чтобы наши люди хорошо пили-ели? Я вот чего боюсь — вырвется из-под власти страшная стихия крестьянства, утопит нас в анархии мелкочастнического предпринимательства. И конец надеждам на мировую революцию!
— Громко сказано, — молвил Рагоза, бросив на Лазебника взгляд из-под бровей. — До этого нас убьет голод, разруха в промышленности, холод… И чтобы такого не произошло, партия пошла на нэп. А это в первую очередь…
— Частичная реставрация прошлого! — гневно ответил Лазебник.
— Врешь! — отрезал Рагоза. — Время доказало крестьянству, что мы умеем ему помочь. И это видят, понимают враги.
Лазебник нахмурился, с обидой сказал, пряча тоскливый вздох:
— Нашли место… Часа не прошло, как похоронили товарища. Что будем делать с Глобой?
Они оба посмотрели в сторону одиноко сидящего на табуретке парня, и Рагоза в нерешительности потер ладонью колючий подбородок.
— Я его снял бы с начальника уголовного розыска, — деловито проговорил Лазебник, — но теперь свободны сразу две вакансии.
— Давай поставим его на место Соколова, — предложил Рагоза и, встретив удивленный взгляд своего зама, пояснил: — Живет здесь давно. Знает местные условия. Люди его уважают.
— Как хотите, — нехотя протянул Лазебник и впервые улыбнулся, холодно щуря глаза. — Вот ты, Глоба, и пошел на повышение. Поздравляю. Знай службу.
Он поглядел во двор. Там, на крыльце, одиноко стояла Маня, не замечая, что за ней наблюдают. С беспокойством всматривалась она в закрытое окно милиции, кутаясь в накинутый на узкие плечи вязаный платок. Лазебник качнул головой:
— Красивую девушку ты увел от нас… Ведь смог же? А какие хлопцы вокруг нее увивались, — он по-стариковски вяло оперся грудью о подоконник, лбом почти прижимаясь к стеклу и пробормотал: — Молодость… Дай бог ей счастья в этой захолустной дыре.
Нетерпеливо, то и дело прокашливаясь, попыхивая синим дымом нечистого бензина, стучал мотор «форда», а Рагоза и Глоба все сидели на лавке под забором, не замечая оскорбленно вытянутой спины Лазебника — он замер на кожаном сидении, величественно положив локоть на край полированной дверцы.
Из каменного собора, под звон жестяного перестука колоколов, потянулись люди, больше старики и старухи. Они сходили с паперти и шли через булыжную площадь. У дощатой, еще не окрашенной ограды свежей могилы останавливались и, крестясь, склоняли головы. По главной улице, мимо лавчонок и побеленных фасадов двухэтажных домов, ломовые лошади тянули платформы с дровами. Узкие тротуары с провалами от дождевых промоин окаймляли неровно просевшие старые дороги. Из-за прутьев ржавых заборов торчали голые ветки опавших садов. На обочинах, привязанные веревками к кольям, паслись козы. Мальчишки жгли костры из сухих листьев — они тлели, обволакивая городок печальным запахом уходящего лета.
— Положение сейчас сложное, — Рагоза крутил в пальцах жесткую травинку, прижмуривая глаза, вел ее щекочущим кончиком по лбу, словно играл сам с собой, ловил былинку зубами и пропускал сквозь губы, чувствуя во рту горьковатый вкус раздавленной зелени. — Мы тебе поможем… Но ты знай, что банда Корня не из чужаков. Все они живут в селах твоего уезда. А потому главное — знать людей. У тебя должен быть здесь высокий авторитет. Жаль, что остался без Николая Прокопьевича.
— Поверьте, я не мог его остановить, — вспыхнул Глоба. — Не надо, — успокоил его Рагоза, положив ему руку на колено. — При чем тут ты? Он попал в западню.
— Может быть, на самом деле расслюнявились, как считает Лазебник? — спросил Глоба. — Зажать мертвой хваткой… Они нас — мы их.
— Нет, так нельзя, — перебил Рагоза. — Контрреволюция хочет взять нас за горло. И все-таки… Даже в таких условиях мы, Тихон, должны быть человечны. Поэтому люди идут за нами. Факты, логика — все говорило Соколову: «Не ходи, умрешь напрасно…» А надежда шептала: «Ты человек… Спаси их, они не понимают того, что знаешь ты, уверь, убеди…»
— Они его убили.
— Кто знает, что произошло бы при их встрече, если бы в селе Дворики, куда они забрели случайно, Павлюк не разрядил обрез в первого же человека, попавшегося навстречу. Им оказался председатель сельсовета. На выстрелы выбежали его жена и брат. Он их тоже убил. Это не входило в планы Корня. Корень избил Павлюка. Но начало было положено…
Рагоза поднялся со скамьи и протянул руку Глобе.
— Желаю успеха.
Он быстрым шагом пошел к автомобилю, распахнул дверцу и опустился рядом с шофером. «Форд» дернулся, заскрежетал рычаг скорости, машина покатилась по улице, подслащивая дым придорожных костров из сухих листьев запахом плохо сгоревшего бензина.
IІ часть
Тихон открыл глаза — в светлом квадрате окошка медленно падал ватный снег. Казалось, кто-то сидит на крыше, пригоршнями берет птичий пух из распоротой перины и осторожно пускает по воздуху. Крупные снежинки летели к земле колыхаясь, отвесно скользя вниз.
А еще вчера днем небо было грязного цвета, в глубине его клубились тучи, похожие на дым, налетал резкий ветер, беспощадно тряс деревья, обрывая последние листья, взъерошивал старую солому на крышах, поднимал плохо прибитую жесть, отчаянно хлопал воротами, яростно врывался во дворы и крутил под стенами домов смерчи из летучего мусора.
Глоба вышел на крыльцо. Каждый камень, торчащий из примерзшей лужи, палка на дороге, донышко крынки, одетой на кол плетня, — все было накрыто оплывшими нашлепками: морозные грибы испятнали землю, поднявшись за одну ночь, их шляпки, как бы поддутые изнутри, казалось, были устланы яичной скорлупой. Булыжная мостовая, по которой еще не проехало ни одно колесо, лежала холмик к холмику. Вдоль заборов, на ребрах досок, протянуты шнуры, сотканные из бесчисленных мерцающих снежинок. С обрезов крыш свешивались сосульки, как бы заросшие молочным мхом, но на их игольчатых остриях уже серебрились крошечные капельки, оттаявшие под утренним солнцем.
«Через час-два это исчезнет, — подумал Глоба, — и снова будет грязно, сыро… А спустя несколько дней пойдет снег — и начнется зима…»
Глоба на перилах крыльца скатал снежный колобок и, перебрасывая его с ладони на ладонь, вошел в комнату. Маня встретила, задумчиво улыбаясь:
— Первый снег… Дай попробовать.
Она открыла рот, и Тихон, отщипнув от колобка, положив холодный кусочек ей на язык.
— Удивительно, — прошептала Маня, она поднесла снежок к лицу. — Пахнет свежим бельем… Радоваться ему или горевать?
— Он сегодня же растает, — засмеялся Тихон. — Зима не скоро… Еще только глубокая осень.
Но он ждал скорой зимы, ночами прислушивался к гудящему в печи ветру, ожидая, что ветер принесет наутро перемену погоды и снежный покров запеленает землю — поля, дороги, все затаенные тропы, гиблые болота. Ровным одеялом выстелит реки, запушит ветки деревьев, разложит в оврагах сугробы. Снег отрежет от мира Волчью Яму, он будет подолгу хранить след человеческой ноги и санного полоза, лишь бураны смогут замести глубокие провалы, где брели лошади, только вьюга затушует черные отметины бандитских костров.
Но в ожидании зимы Глоба не сидел без дела. Пожалуй, не было в уезде села, куда бы он не наведался. Тайно и явно встречался с теми, которые раньше бродили по лесам с «куцаками» за пазухой, а потом явились с повинной и, попав под амнистию, теперь с проклятиями вспоминали свою нечеловеческую прежнюю жизнь. Выпытывал их о Корневе. С председателями сельских Советов создавал отряды самообороны. Приглядывался к подозрительным. Намечал пути связи. Он плел свою сеть основательно, проверяя каждого человека, узелки вязал старательно, везде у него были свои помощники — от старых дедов, часами греющихся на завалинках, до быстроногих мальцов.
На карте уезда Глоба отмечал движение банды. Карта говорила о многом: среди ночи на взмыленной лошади скакал в город крестьянин, вырвавшийся из села, захваченного Корнем. Глоба по тревоге поднимал свой конный взвод, не разбирая дороги, они мчались в лесную темень, неслись сломя голову среди невидимых полей. И видели — пустынные улицы, куда даже собаки боялись выйти, у церкви, на столбе с оборванными телефонными проводами, мертвое тело повешенного председателя… Распрямлялись затоптанные копытами коней травы, пряча следы, в непролазные чащи ныряли дикие тропы, уводя банду к лесному лагерю.
А через неделю незнакомый человеческий голос панически кричал в телефонную трубку, голос его коротко, гулким эхом, прерывали пистолетные выстрелы. И снова милицейский взвод падал в седла, летела из-под копыт земля, тяжелые карабины били по согнутым спинам. Издали видели косматую гриву пожара — красный огонь, замешанный на черной саже. Вот они — выметенные страхом улицы, выбитые окна и пробитые пулями двери сельсовета, растерзанный труп, затоптанные в грязи куски мыла и клочья фабричной материи у раскатанного по бревнам кооперативного магазина…
Глоба соединял на карте чертой то и другое село, вел линию к третьему и четвертому, где тоже не первый день мокнут под осенними дождями выгоревшие срубы.
Тихон подолгу смотрел на разложенный перед ним на столе ветхий лист карты, потертый на сгибах до дыр — линии накладывались на уезд путаной сетью. Он пытался понять движение банды, цели ее атамана и путь следующего удара, но видел только беспорядочные скачки и затравленное метание. Он мысленно представлял эти бешеные налеты, безумные скачки подвод по ночным дорогам, короткий передых у костров — и снова грохот колес, выстрелы, кровь и смятение бегства… Катящийся по земле клуб пыли, крики, ржание лошадей, пальба, ругань, стон, проклятия и слезы.
Очевидцы рассказывали о жестокости Павлюка. Коммунистов и сочувствующих Советской власти он убивал сам с изуверской беспощадностью. Банда громила в первую очередь кооперативы — у нее была неукротимая ненависть ко всему что шло в село из города, — из обрезов расстреливали моторы тракторов, жгли мануфактуру, высыпали из мешков в дорожную грязь сахар и соль. Жена Корня взламывала бабьи сундуки, шарила за иконами в поисках золота, нагрузившись добром, она неумело скакала за атаманом, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, как горят подожженные ею хаты, позади них грохотали груженые подводы, полные узлов, ящиков, возницы с отчаянием стегали коней:
— Быстрее! Быстрее! А ну, залетные! Дьяволы гривастые шевели ногами! Эге-е-ей! Гони-и, родимые!
А круг все уже — вчера налетели на село, палили в воздух, гикая, крутя над головами ременными вожжами. А из-за плетня ахнули винтовки. Первые же пули повалили передних лошадей — падая, они опрокинули телегу, изломанные ее борта раздавили насмерть одного бандита.
— Наза-а-ад, хлопцы! — заорал Корень, вставая в стременах. — Засада!
Испуганный конь чуть не выбросил из седла атаманшу. Она завизжала, выпустив повод, пала ни жива ни мертва лицом в гриву, обхватив руками конскую шею. Подскакав, Корень мощным рывком сорвал женщину с седла, под выстрелами унесся с нею в сторону леса. Оставленного коня поймали, в седельных сумках чего только не было — пригоршни дешевых ожерелий, смятое дорогое белье, серебряные ложки…
Глоба был в том селе. Согнутым крючком пальцем брезгливо ковырялся в этих вещах — ему попадались золоченые крестики, дамские часики с разбитым стеклом, сережки, бархатное платье, расшитое стеклярусом.
Тихон сдвинул барахло на середину стола и посмотрел на сидящих рядом парней из отряда самообороны:
— Неужто визжала?
— Как поротая кошка, — засмеялся один из них, держа тяжеленную берданку между колен. — Я как пальну… Ее коняка дыбки!
— А в Кринице она из револьвера в людей стреляла, — задумчиво проговорил Глоба.
Хозяин хаты, старый дедок, ехидно хохотнул:
— Люди кажут: «Жинка мужа любила, в тюрьме место купила». А ще так: «Силен хмель, сильнее хмеля сон, сильнее сна только злая жинка».
Глоба промолчал. Не он ли выпустил ее на свободу собственной волей? Любовь, черт возьми… Вот на чем попался! Смотрел, как большие ладони Корня обхватили ее лицо — пальцы слепо пробежали по лбу, щекам, размазывая слезы…
Какое ему, Глобе, дело до их переживаний! И все-таки… Если это любовь… Но она ведь не должна быть такой, в этом есть что-то противоестественное, так не бывает среди людей.
Попрощавшись с хозяевами, Глоба вышел из хаты. У дороги стояло несколько подвод — кооператоры везли товары в разгромленную лавку в селе Криница. Тихон сел с возницей на переднюю, плотнее запахнул полы шинели.
— Тронули, отец, — проговорил он, откидываясь на мешок с солью. С боку от него торчал угол ящика с гвоздями, на дне тарахтели лопаты.
Возница был в теплом кожухе и потертой солдатской папахе, рядом с ним лежала трехлинейка с потрескавшимся прикладом. На следующих трех подводах тоже горбились крестьяне от мелко моросящего дождя, накрывшиеся кусками брезента.
Глоба оперся локтем о ящик, положил голову на скрещенные руки. Устало прикрыл глаза — поднялся чуть свет, вот уже день кончается, а впереди дорога длинная — Криница, Дворики, Пятихатки… Гвозди пахнут знакомым запахом кованого железа и машинного масла, сквозь этот дух пробивается пряный аромат тонкой сосновой доски. Поскрипывают тележные оси, фыркают лошади. Иногда Глоба открывает глаза — по серому небу медленно плывут голые ветви деревьев. Однажды его разбудили далекие звуки, то курлыкали улетающие журавли — редкий клин их стаи растворялся в мутном дыме облаков.
«Колесом дорога», — мысленно сказал им вслед Глоба, как в детстве, когда хотели их завернуть. И угадав, о чем думает Тихон, возница проговорил, глядя в туманное небо:
— Если журавель полетел к третьему спасу, то на покров будет мороз. Так стари люды кажуть. Зима ожидается суровая.
«Дорога колесом… Колесом дорога!» — кричали когда-то мальчишки, выбегая на высокий речной берег, глядя в бездонное небо, в котором медленно тонула цепочка темных птиц. «Журавль тепла ищет… Одна у журавля дорога: на теплые воды. Колесом дорога! Дорога колесом!..» Улетали журавли и падали осенние листья, пустели огороды, во дворах кололи дрова — с хрустом, легко распадались они под топором, начинали по-зимнему топить печи, и в комнате пахло дымом лучин, у колодезного сруба лужи покрывались льдом… И каждый пацан понимал, что пройдет зима — и опять они будут стоять на том же речном бугре, глядеть в небо и слышать снова курлыкающие звуки. А это значит, что возвращается к ним зеленый лес, теплая вода, горькие огурцы на грядках, пыль дорог, дождь, конопатящий землю… «Стало тепло, так и журка прилетел».
Возница тронул его за плечо, чуть испуганно пробормотав:
— Товарищ Глоба… Прыдывысь.
Глоба поднялся в телеге, начал вглядываться вперед — там, где дорога из кустарника выходила в разлив поля, маячили смутные фигуры конных.
— Они… Бандиты, — сказал возница, доставая из-за мешка свою трехлинейку. Щелкнув затвором, он дослал в казенник патрон и вскинул винтовку на руку.
— Эге-гей! — донесся отдаленный крик со стороны конных.
Подводы остановились, зажатые со стороны густым кустарником. Темная дорога, словно река, вливалась в половодье земли и неба, и там, на грани воздуха и тверди, туманно расплывались в лучах заходящего солнца неясные фигуры.
— Я сей момент кокну одного, — проговорил возница, прилаживая винтовку прикладом к плечу.
— Подожди, — остановил его Тихон, — все равно не достанешь… Мы в западне.
— Эге-гей! Глоба-а! — услышали они. — От батька-а при-ве-е-ет! Не признал?!
Тихон боком сидел на краю телеги, положив ладонь на мокрую от дождя коробку
маузера. Кругом стояла сырая тишина, только сеялся неторопливый дождь, каждой капелькой своей постукивая по опавшим листьям, сплошь устилавшим землю.
— В другую встречу тебе коне-е-ец! Глоба-а, ты слыши-и-ишь?! Мы с тобою квиты-ы… Запомни!
Возничий, не выдержав, нажал на спусковой крючок винтовки, выстрел гулко колыхнул тишину. Издали донесся хохот, смутные фигуры, почти тени, метнулись по серому фону неба и скрылись за пологой дугой вершины бугра. И словно ничего не было — все так же слезятся дождем стволы деревьев, пустынна дорога, над широко раскинувшимся полем стоят неподвижно размытые облака.
— Трогай, — сказал Глоба, опускаясь на холодный мешок и старательно запахивая полы волглой шинели.
Заночевал обоз в селе Пятихатки. Глоба нашел двор дядька Ивана и тот устроил его на чердаке — здесь лежало свежее сено, и Тихон с наслаждением вытянулся на простеленной шинели, вдыхая сухой запах луговых трав. Перед этим хозяин накормил его вареной картошкой, заправленной жареным салом. Он и сам притащился со своим тулупом, теперь лежали рядом, покуривая осторожно, чтобы не наделать случайного пожара. Дождь шептался с соломенной крышей, было темно, лишь чуть светлел проем двери. Во дворе урчала собака, пытаясь разрыть нору полевых мышей. Под навесом спокойно вздыхали лошади, сонно переступая копытами по дощатому полу.
— Значит, чуть не попались? — продолжая начатый в хате разговор, спросил дядько Иван. В голосе его послышалось недоверие. — И видпустыв?
— Не стрелял, — ответил Глоба.
— То вин просто побоялся, — усмехнулся дядько Иван — Я знаю его, то такой артист. Хотел товары пограбувать, да вы все с винтами.
— А к вам он не пытался податься?
— Он знает, как его дядьки встретят… Мало не будет. Людям робыть в поле надо, а не шастать по лесу с куцаком. Порядочный человек теперь хлиб растит, скотину выхаживает. Твердая власть, она порядок любит. Город ему гвозди, мануфактуру да всякий фабричный товар везет. Мы ему свой продукт… Государству польза.
— А что ж ты в двадцатом году под знаменем батька Корня ходил?
— То не простое дело, — с горечью проговорил дядько Иван. — Пока шла война с беляками, еще можно было терпеть. А як она подошла к концу, а нужда не покидает, что нам делать? Есть в хате нечего, топить нечем, детки плачут, жинка сохнет. Из-под стрехи вытащил куцак, направился в лес. Что награбил — все мое.
— А теперь народ не пойдет за Корнем?
— Нет! То он, Корень, и лютует с той причины. Мужик за Советскую власть. Она правильно людям говорит: живите мирно, сейте хлеб, любите землю. Она же землю нам и дала! А бандит нам белый свет застит.
— Это ты правильно сказал, дядько Иван. Дай время, Корня я возьму.
Они замолчали. Ветер задувал на чердак, неся с собой капли дождя. Дышать было легко, запах сухой полыни и мяты кружил голову. В соломенной крыше суетились тихие мыши, осыпая со стропил тонкую пыль…
Лазебник нагрянул совершенно неожиданно, без всякого предупреждения, даже не позвонив по телефону. Глоба услыхал знакомый гудок губмилицейского «форда» и, перескакивая через несколько ступеней, выбежал во двор — по улице споро катил черный автомобиль с натянутым верхом, по бокам его рысили конные милиционеры, Глоба распахнул ворота, и вся эта тяжело дышащая, пыхающая дымом, заляпанная грязью кавалькада заполнила усадьбу. Всадники спешивались, отпускали конские подпруги, сразу же тянулись за табачком — погреться от пронизывающей сырости. Из машины вылез Лазебник, а за ним всегда неунывающий Кныш, солидный Замесов со своей неизменной трубкой, Сеня Понедельник — по-мальчишески быстрый, с нестерпимой голубизной наивных глаз.
— Встречай, Глоба — весело загудел баском Лазебник, дружелюбно протягивая Тихону обе ладони. — Не ожидал? Ты не обижайся… Так оно будет лучше — меньше любопытных глаз… Я тебя прошу: покорми людей, дай им чуток отогреться.
— Будет сделано, Семен Богданович, — ответил Глоба, с легким недоумением оглядывая двор, заполненный вооруженными людьми. — Мне свой взвод готовить?
— К чему? — хитро сощурился Лазебник.
— Так неспроста вы к нам такой компанией.
— Нет, ты своих людей не беспокой. Я слыхал, вам тут живется тревожно. Мы управимся своими силами.
— Если не секрет, — осторожно спросил Глоба, — что намечается?
— Помнишь, Глоба, я тебе обещал когда-нибудь показать настоящую работу? — напомнил Лазебник. — Так вот, время наступило.
— Значит, решили без меня? — оскорбленно проговорил Глоба.
— Ты в амбицию не ударяйся, — почти попросил Лазебник и даже тронул Тихона за плечо. — Не надо… Мы твоих планов не нарушаем. Работай в своем направлении.
— Как же это так? — вспыхнул Глоба. — В моем уезде… Я тут все готовлю к обезвреживанию банды… А вы с налету?
— Бог его знает, сколько ты еще с ней будешь возиться, — добродушно сказал Лазебник. — А у нас возникла надежда покончить с Корнем одним ударом. Мы по своим каналам узнали о встрече бандитов с богатеями села Двуречье в хате кулака Зарывайко сегодня ночью. Сил у меня вполне достаточно, чтобы окружить то село.
Стоящий рядом сотрудник Замесов чуть заметно качнул головой.
— Думаю, что они уже знают о нашем приезде.
— Мы выступим ночью, — уже с раздражением буркнул Лазебник.
— Вам, конечно, виднее, — с легким сомнением в голосе пробормотал Замесов и пошел к милиционерам, старательно обходя лужи, чтобы не испачкать до желтого горения начищенные заграничные ботинки с крагами.
Кныш посмотрел на серое небо и вздохнул:
— Погода не располагает… Небось, сидят те бандиты в лесу и носа не кажут.
Пожалуй, из приехавших в машине только Сеня Понедельник радовался — подумать только: риск, звон ножен клинков, звяканье шпор, усталое фырканье лошадей, слова команд. Все пьянило его сердце. Он страшился того, что должно было произойти ночью, и в то же время ждал его с нетерпением, чтобы проверить себя в испытании, каким-то отчаянно храбрым поступком убедить всех окружающих людей в своих исключительных качествах, в которых он сам, Сеня Понедельник, ничуть не сомневался.
— Я никогда в селе подолгу не был, вот честное слово, — оживленно говорил он Глобе. — Всю жизнь провел в городе. К вам в тот раз приезжали, но все время мимо сел. Все время мимо и мимо. А какие леса кругом. Поля огромные, как море. Море я еще увижу. Вы думаете будет жестокая стычка?
— Не приведи бог, — холодно, с неприязнью бросил Глоба и пошел к флигелю. Лазебник стоял у крыльца, картинно облокотившись о перила, распахнув длиннополую шинель и молодцевато сбив на затылок суконный шлем. Маня, сидя на верхней ступеньке, слушала его с улыбкой.
— …Не собираетесь возвращаться? Мы до сих пор не можем простить Глобе, что он умыкнул самую красивую девушку. Как вам тут живется? Я думаю, придет время и вашего мужа переведут в город. Он на хорошем счету. Я это вам говорю от чистого сердца. Могу повторить ему самому. Ты слышишь, Глоба?
— Вас можно на минуту? — потребовал Тихон, и Лазебник, бросив на него раздраженный взгляд, отошел в сторону.
— Ты хочешь меня отговорить от ночной операции? — первым спросил он Глобу. — Даже если она не принесет пользы, вреда от нее не будет. Ведь каждому ясно, — Лазебник строго выпрямился, полоснув Тихона презирающим взглядом, — что следует бороться с бандитами активными действиями, а не путем поддержания личных приятельских взаимоотношений.
— Что вы имеете в виду? — оторопел Глоба.
— Твою встречу с Корнем на проселочной дороге. С каких пор эти мерзавцы выпускают из западни своих заклятых врагов? Тем более, в чине начальников уездной милиции? Молчишь? Может быть, ты и квит с тем бандюгой, но перед Советской властью ты в большом долгу!
У Глобы перехватило дыхание, он сцепил зубы, на секунду прикрыв веки. Потом сказал ледяным тоном, чувствуя на своем лице взгляд Лазебника:
— Да, они нас подловили… И могли всех перестрелять, точно куропаток.
— Однако, этого не произошло?
— Как видите…
— За какие же такие пироги?
— Думаю, их было не так уж много.
— Может быть, ответная услуга за освобождение жены?
— Не исключено.
— Одолжение за одолжение?
— Если видите в том служебное преступление — арестуйте меня.
— И не подумаю! Я не сниму ответственность с тех, которые имели несчастье поручиться за тебя. В первую очередь я подразумеваю Рагозу.
Лазебник отвернулся и направился к машине, явно не желая больше говорить. Тихон беспомощно поглядел ему вслед, тот шел к «форду», непримиримо выпрямив спину, сердитыми толчками колена отбрасывая звенящие ножны старинной шашки.
Маня испуганным голосом, словно догадавшись о их стычке, прокричала с крыльца:
— Тиша… Что у тебя?
Он не ответил, махнул ей рукой и зашагал со двора, глядя под ноги, но не замечая ни луж, ни развороченного булыжника. Он думал только об одном, эта мысль его убивала. «За что Лазебник так ненавидит его? Казалось бы — общее дело, одна работа… В такое жестокое время они не имеют права на вражду… Они разные люди, но общее дело… Где я ему перешел дорогу? Он мне не может простить побег Корня. И то, что я освободил его жену. Видит в этом мою мягкотелость. Он требует большей жесткости… Может быть, считает, что я трус? Боюсь схлестнуться с Корнем вплотную? Но это не так! Не кровавый бой сейчас нужен… Села должны увидеть подлинное лицо банды. Лишенные поддержки крестьян, бандиты выйдут из лесов сами. Нужно только время. Время! Это не двадцатый год, когда бунты вспыхивали по всему уезду… Города голодали. Надо было кормить уставшую от гражданской войны армию… Теперь все поменялось — бандиты мешают торговать хлебом и пахать землю. Жить свободной человеческой жизнью. А Лазебник хочет окружить село вооруженными людьми, ворваться на улицы. Он подозревает каждого жителя. Бой! Пылают хаты, беспорядочная перестрелка. Дети, женщины… И я бессилен этому помешать… Неужели он мне не доверяет? За что?! Но будь моя воля… Я бы ему все высказал прямо в лицо! Все, что думаю… Господи, о чем это я?! Я его ненавижу тоже… Он вызывает во мне лютую ненависть. Как же работать вместе? Нет, так не годится. Надо взять себя в руки. Он старше и опытнее. В конце концов, начальник. Командир. А я простой солдат. И обязан подчиняться. Приказ есть приказ. Вот так… Через левое плечо, кру-у-угом! Ты еще там нужен… Обязан быть там… Сцепив зубы. Не глядя ему в лицо. Принесла нелегкая… Будь он трижды… Стоп! Поехали назад — ты там нужен…».
Глоба вернулся во двор, стараясь не попадаться на глаза Лазебнику, помог сбросить с чердака сено, вместе с Кнышом натаскали из колодца полную колоду воды. Покуривая, глядели, как пьют лошади — отхлебывая с поверхности бархатными губами, кося на людей белками глаз.
А к ночи Глоба и ребята его конного взвода милиции провожали отряд Лазебника. Автомобиль остался перед домом. Сотрудники уголовного розыска и сам замначгубмилиции сели на лошадей. Отряд построился по двое и легкой рысцой затрусил в темноту. Проезжая мимо Тихона, Замесов взмахнул рукой, просыпав из трубки искры:
— Счастливо оставаться…
Кныш, неловко растопыривая ноги в коротко подтянутых стременах, хватаясь ладонью за седельную луку, весело хохотнул:
— Живы будем — не помрем.
Под Сеней Понедельником лошадь проседала крупом, пытаясь развернуться поперек дороги, норовисто вскидывала головой, выдергивая ременной повод из неопытных рук.
— Ждите с оркестром! — озорно прокричал он.
Тускло горели окна, слабо пропуская свет керосиновых ламп сквозь кисею штор. Как всегда, когда на дороге возникало движение, азартно лаяли собаки, провожая отряд от дома к дому вдоль всей пустынной улицы. Луна бежала среди рваных облаков, то исчезая совсем, то вдруг появляясь в промоинах кованым диском в окружении холодного сияния, и тогда сквозь ночной мрак проступали крыши и вершины деревьев, блестящий булыжник мостовой и удаляющиеся всадники, со стороны которых плыл в тишине железный цокот подков…
Эту ночь в милиции никто не спал. Тихон и Маня так и просидели на крыльце до самого утра. И все это время не гас огонь в окне здания, где в большой комнате теперь жили парни конного взвода. Они то и дело по одному выходили на воздух, курили, поглядывая на медленно светлеющее небо, и снова возвращались обратно. Казалось, беспокойство и тревога разлиты во всем, что окружало людей, — верховой ветер гулял в голых ветках, забор ограждал двор черной стеной, на крыше погромыхивал надорванный железный лист, а когда начало подниматься солнце, то оно прорезалось на горизонте ножевой линией, словно серую даль распороли тонким лезвием и оттуда поплыло над землею красное зарево.
— Господи, — проговорила женщина, — какое оно сегодня страшное…
— У меня такое чувство, словно что-то должно произойти, — сказал Тихон.
Утром, когда солнце уже лежало на земле кровяной горбушкой, вернулся отряд. Замученные кони, все по животы заляпанные грязью, медленно ступали по булыжнику улицы. При каждом шаге они деревянно качали шеями, мокрые челки грив прилипли к запавшим глазницам. На лицах людей лежала печать усталости, плечи опущены под грузом набрякших водой суконных шинелей, на согнутых спинах колыхались тусклые карабины. Некоторые из всадников несли на перевязях забинтованные руки. Один из них, с головой, обмотанной грязной тряпкой, сидел в седле с закрытыми глазами, колеблясь всем телом в разные стороны, готовый вот-вот свалиться на землю. Впереди всех ехал Лазебник — его было трудно узнать, так изменился он за одну ночь. Некогда полные, всегда до румянца выбритые щеки, сейчас ввалились, подбородок заострился, глаза потухли. И даже голос не тот — он поднял руку, оглянулся через плечо и сипло проговорил:
— Слезай…
Сам сполз с лошади, волоча набухшие от влаги сапоги, побрел к воротам, равнодушно исподлобья посмотрел на молчащего Глобу. Опустился на завалинку и начал замерзшими пальцами расстегивать крючки шинели. Из френча достал папиросы, продул одну из них, закурил — затянулся дымом так, что, казалось, его зашершавленные от ветра и щетины темные щеки сомкнулись изнутри. Всадники вводили коней во двор, здесь сбрасывали с них седла, начинали растирать спины животных клоками сена. Кое-кто уже скидывал шинели в кучу на ступени крыльца и шел к колодцу умываться, на ходу стягивая с плечей гимнастерки. Раненым помогали сделать новые перевязки. Последним в воротах показалась лошадь, которую вели под уздцы двое — то были Кныш и Замесов, оба с трудом передвигали ноги, их некогда форсистые костюмы были изодраны и в пятнах мокрой грязи, словно их на животах волочили по вспаханной земле. Ни на кого не глядя, они повели коня к воротам конюшни и начали молча снимать притороченный к седлу длинный тюк, обернутый брезентом, затем положили его на сухое место под навесом крыши.
Глоба подошел к ним и приподнял угол брезента — он увидел обескровленное лицо, залепленное глиной, и руку, бледные пальцы которой судорожно обхватили шею.
— Кто это? — спросил он.
— Сеня Понедельник, — хмуро ответил Замесов. — Пуля в грудь… Какое-то время жил. Измучился парень, пока скончался.
— Как же это вы? — Глоба перевел взгляд на Кныша, и тот вздохнул, рукавом шинели стирая со лба проступившую испарину.
— Подловили они, суки, нас на дороге у села. Видать, знали, когда мы нагрянем.
Глоба только с отчаянием махнул рукой и пошел к Лазебнику. Он не захотел сесть рядом с ним, остановился перед его невидящими глазами и спросил жестким голосом:
— Так что произошло?
И тут увидел, что глаза Лазебника полны невыразимой тоски, а губы подрагивают от волнения.
— Устроили нам засаду… Всю ночь лежали под пулями — голову от земли не оторвать. Хорошо хоть лошадей спасли.
— А Сеню Понедельника?
— Не уберегли… Кинулся на них с наганом. Отчаянной храбрости оказался парень.
— Он же почти мальчик. Вы подумали об этом?
— Война… Внутренний фронт, — пробормотал Лазебник. — Ты мне напрасные жертвы не лепи.
— Жестокий вы человек, — с неприкрытой ненавистью проговорил Глоба.
— Не всегда, — пробормотал растерянно Лазебник. — Сейчас у меня такое состояние… Лучше бы это меня привезли на веревках в седле.
— Через день-забудете. Еще похваляться станете.
— Нет, Глоба, — качнул головой Лазебник. — Сегодня мне урок… Ты был прав. Извини.
И тут, увидев лицо Глобы и легкую презрительную улыбку в углах его губ, почти закричал зазвеневшим от бешенства голосом:
— Я! Я прошу извинить! Это я! И к черту! Немедленно накормить людей и отправить в город… Тело убитого погрузить в машину! И раненых туда же… Я уезжаю! Кныш! Замесов!
Лазебник, торопясь, застегнул на все крючки шинель, твердым шагом направился к воротам, уже не глядя ни на кого. Глоба подошел к людям, пеленающим труп в развернутый брезент. Кныш отвел Тихона в сторону и как бы между прочим сказал равнодушным голосом:
— Опять, наверное, будет дождь. А может, снег… Через село проезжал, так мне мужики про забавное дело сообщили. Говорят, на каком-то далеком хуторе могила появилась…
— Удивишь ли этим теперь, — мрачно бросил Глоба.
— Ту могилу вроде называют могилой атаманши… Много ли у тебя в уезде таких могил?
— Да треп то все, — услышав их разговор, сердито кинул Замесов. — Легенды да сны.
— Ну, как знаешь, — продолжал Кныш, — а я думаю — то дело интересное… Хотя, может, и болтовня. Осенью дни короткие, вечера длинные, чего только не выдумают. Лишь бы пострашнее было. Ну, пока, начальник. Ты на нас не обижайся за то, что мы в твое дело влезли, — приказу не поперечишь.
— Будь здоров, Тихон, — уже мягче проговорил Замесов. — Не завидую твоей работе. И поберегись Лазебника, он из тех, которые своих проигрышей не прощают.
— Пусть он перед ним отмоется, — Глоба кивнул на брезентовый сверток, который двое поднимали на плечи, неловко оступаясь под тяжестью тела.
— Ну, ты тоже, — недовольно покосился Замесов. — Это бой… Всякое случается. Мог быть и другой на его месте.
— Не с огнем к пожару соваться, — жестко отрезал Глоба.
— То ты, может, прав, — вздохнул задумчиво Кныш, — работу не сделали, а человека нет. Прощай, Тихон. Желаем удачи.
Они пошли к воротам за людьми, несущими тело Сени Понедельника. Глоба не мог без горечи смотреть на эту процессию. «В этом не было необходимости! Он должен был жить… Война, конечно. И не до жалости! Этот подвиг мальчишки сегодня государству не нужен, а может быть, даже вреден. В крайнем случае, бесполезен. Еще неизвестно, что наделала ночная пальба на краю мирно спящего села. Бандитам ничего не стоит приписать чекистам любое событие — сгоревшие хаты, убитых людей… С огнем на пожар не ходят. Не идут с огнем». За воротами коротко вякнул автомобильный клаксон.
Глоба решительно повернулся и взбежал по ступеням крыльца в комнату.
— Жена! — закричал он еще с порога, — ставь в печь горшки. Будем кормить людей! Ты что?! Плачешь?!
— Господи, — прошептала она. — Если бы ты знал… Я на него посмотрела… А у него полный рот земли. Никогда в жизни не видела убитых.
— Несчастный случай, — коротко проговорил Глоба. — Такая уж работа, силком не тянут.
— И ты можешь так же?! — продолжала она, не слыша его. — Я бы еще ничего не знала, а тебя уже бы везли ко мне… Как его сейчас к маме… Его смерть летит на машине… С такой бешеной скоростью, через поля, по лесам…
— Перестань! — Глоба с силой ударил по столу, он понял, что еще немного — и с ней произойдет истерический припадок, она вжалась в угол перед окном, кулаками стискивала щеки, а брови дрожали, все выше вскидываясь на лоб.
— Перестань! — закричал Глоба и схватил ведро, с грохотом швырнул его к ногам. — Марш за водой! Быстро!
Он шагнул к ней, поднял закатившееся под лавку ведро, насильно сунул дужку ей в руку и подтолкнул в спину к двери.
— Воды! Быстро!
И она, повинуясь его голосу, пошла из комнаты. В окно он видел, как Маня медленно, еще неуверенными шагами, ступила на крыльцо, оглядела двор, полный людей и расседланных лошадей, подождала секунду и, видно, придя в себя, побежала к колодцу. Там ее сразу обступили со всех сторон, послышался молодой смех, кто-то уже закрутил ворот со звенящей цепью, другой, шутя, попытался, отобрать пустое ведро.
Глоба устало опустился у стола, подперев голову руками, еще немного — и, кажется, у него тоже откажут нервы.
«О чем там говорил сотрудник уголовного розыска Кныш? Могила! Что его в этом деле насторожило? Кныша надо удивить… Он даром не скажет. Могила атаманши. В отдаленном хуторе. Да, что-то Кныша насторожило. Я слыхом не слыхал, а он только приехал… Значит, та легенда, как назвал Замесов, возникла недавно. Ладно, поищем. Не уйдет. А теперь поднимайся, несут воду, надо ставить в печь горшки, кормить людей».
Могилу атаманши найти оказалось, в общем-то, не так трудно. Сначала Глоба собрал самые различные слухи, разъезжая по селам. Конкретно никто ничего не знал — просто шли смутные разговоры. Мол, видели на дальнем хуторе новый крест над могилой, без имени и фамилии. А среди деревьев показался человек — громадный, заросший бородой, руки у него до колен. Безумный взгляд. Весь в тряпье, босиком. Нет, в алом кафтане и папахе белой… Господа, все то брехня! Могила на самой вершине холма, камнями обложена, кто к ним притронется — будет во веки веков проклят, злые люди тайно закопали старую ведьмачку. Хутор-то заброшенный, ни единого человека в нем. Да что вы там говорите несуразное? Ведьмачка?! То атаманшу похоронили — жену батька Корня. Дите она должна была родить…
Первые слова сказаны: атаманша, жена Корня. Где же тот хутор? И что за крест на высоком холме? Хутора, кажется, в уезде все можно пересчитать, даже самые отдаленные. Есть карты, списки… С какого начинать? На какую дорогу выводить телегу, чтобы колеса прикатили к высокому бугру, на котором безымянный крест, обложенный камнями?
В это время из финотдела поступило сообщение — пропал владелец хутора Зазимье. Хозяин хутора по фамилии Запара, одинокий старик шестидесяти лет, жил в небольшой хате с пристройками, держал пасеку, — вот и весь хутор. Старик был нелюдим, в ближайшем селе появлялся редко, жену давно похоронил, сын погиб в гражданскую, дочь в городе работает по найму у состоятельных граждан, об отце давным-давно не вспоминает. Власти о хозяине хутора не волновались бы — знали, что нужды он не испытывает, есть у него что и на стол, и на будущее, да случилась незадача — пришла пора платить налог с пасеки. В этих мало приятных для него делах старик всегда отличался аккуратностью, а тут затаился, на письменное напоминание не отвечает. Послали две повестки. Дорога туда страшенная, болотом и лесом, какой почтарь согласится ноги бить в такую даль? А вдруг с хозяином что-то приключилось?
Имея в кармане удостоверение работника губернской фининспекции, Глоба на телеге, не останавливаясь, миновал нужное ему село и углубился в лес. Он видел людей — те провожали его удивленными взглядами, какой-то мужик долго наблюдал со своего огорода за медленно удаляющейся худой лошаденкой.
— Эй! Эй! Хлопец! — закричал Глоба мальчишке у плетня. — Скажи, пожалуйста… На хутор Зазимье! Я правильно еду?
— Лесом, дяденька! Не свертайте!
Лес начинался сразу за околицей, дорогу прикрывали ухабы, она вся была разбита колесами. Но вскоре путь начал выравниваться, уже виделось, что тут ездили не часто — полотно дороги поросло травой, желтой от заморозков, усыпано еловыми шишками, иногда пропадало совсем, а потом снова появлялось впереди, выскользнув из темноты бора на поляну, освещенную солнцем.
«Далеко же ты забрался, хозяин Запара, — думал Глоба. мерно покачиваясь в телеге. — А название твоему хутору придумали хорошее: Зазимье. Первый снег, ранняя пороша с заморозками. Отличное название. А что же ты сам представляешь? Почему исчез? Зачем за тобой надо ехать, трястись на паршивой подводе вот уже который чае? Неподалече тут сама Волчья Яма. Попадусь в нее, как в западню. Волчья Яма — это и есть ловушка, западня…»
А дорога все вела в глубину леса, медленно углубляясь, — вот уже на ней снова появились рытвины, лужи, черная размытая земля и застарелые, полусмытые следы колес. Наконец деревья расступились, и Глоба увидел одинокую хату, окруженную плетнем. У стволов древних яблонь, там и тут, разбросаны колоды для пчел. Надо всем этим царила необычная тишина. Непривычно было видеть крестьянское жилье без собаки, облаивающей прохожего, с распахнутыми настежь воротами из жердей и побитыми стеклами окон.
Глоба слез с подводы и направился к хутору. Озираясь, он вошел во двор — здесь, у перевернутой будки, валялась дохлая собака, голова ее была прострелена, дверь хаты сорвана с петель. Внутри помещения пахло сыростью и гнилью. Везде раскидано тряпье. Валяются раздавленные картофелины, кучи муки, уже покрытые плесенью. На дощатом столе какие-то объедки.
Глоба прикрыл за собой дверь, осторожно приставив ее к проему, и медленно побрел к яблоням. Несколько ульев были расколоты, побитые морозом пчелы густо усеивали липкие от меда колоды. В густой полегшей траве валялись крошечные плоды, подрумяненные с бочков, обмытые растаявшим инеем, словно выточенные из желтой кости.
«Хозяин так свое жилье не покидает, — подумал Глоба. — Тут что-то произошло. Собака убита… Кто станет разбивать ульи? Сорвана дверь… Не хватает только найти высокий холм с безымянным крестом, обложенный камнями, но, кажется, здесь равнина, поросшая лесом. Холма не будет. А могила?»
Нашел Глоба и могилу. Неподалеку от пасеки между тремя могучими стволами сосен был насыпан холм земли, просевший от дождей. В него был воткнут самодельный крест из рубленых топором деревянных плах. Безымянный крест, со свежими потеками еловой смолы. Могила атаманши?!
Глоба пошел кругами вокруг креста, сапогами раздирая слежавшуюся сухую траву. Ему под ноги попались синие осколки бутыли, сломанные кукурузные початки, источенные муравьями, яичная шелуха…
«Тут мне делать нечего, — Глоба опустился под стволом сосны и задумался. — Выкапывать труп? Сколько лишних разговоров… И что мне это даст? Нет, ничего не тронем…»
Он вернулся к подводе, уселся поудобнее и тронул вожжи, заворачивая лошадь назад. Вернулся в село той же дорогой. Остановился у сельсовета и спросил председателя — молодого парня в красноармейской гимнастерке и лаптях. Узнав, в чем дело, он с каким-то недоумением посмотрел на городского человека с портфелем:
— Да какое нам дело до этого? Запара там не живет. Он где-то в городе. А хутор продает.
— Кому? — поинтересовался Глоба.
— Да есть тут один дядько. Старый Мацько. Он покупает хутор. Грошей у дядьки много, чего ж не купить?
— А кто он такой, если не секрет?
— Обыкновенный дядько, — пожал плечами председатель. — Когда-то у Петлюры служил. Потом от него сбежал. Землю пашет. Налоги сполна платит.
— Ясно, — проговорил задумчиво Глоба. — Для нас весьма важно… Налоги платит аккуратно. Я могу с ним поговорить, раз уж приехал в такую даль?
— Да, будь ласка, — сразу согласился председатель и, толкнув створки окошка, закричал кому-то, стоящему во дворе: — Позови старого Мацько! Одна нога здесь, вторая… Швыдко!
Через некоторое время в комнатушку осторожно вошел пожилой крестьянин в теплом кожушке, повязанном веревкой, с палкой в руках, фуражку со сломанным козырьком он держал у груди.
— Садитесь, — предложил ему табуретку Глоба. — Это я вас вызвал… Извините за беспокойство. Я по финансовым делам из губернии. Приехал на хутор Зазимье. Его хозяину Запаре мы дважды посылали повестки насчет сдачи налогов. И как в мертвую воду… Пришлось вот тащиться самому. И, к моему удивлению, я там никого не застал. Пустой хутор. Как мне все объяснить начальству — ума не приложу.
Старик слушал не моргая, на его морщинистом лице не дрогнула ни одна жилка.
— И вот приехал в сельсовет. Председатель говорит, что Запара, мол, хутор продает. Вы покупаете… Но как быть с налоговой задолженностью? Кто будет платить? Он или вы?
В глазах старика проснулся настороженный интерес. Он грудью уперся в стол и быстро сказал:
— Вин.
— Простите, — развел руками Глоба. — Если он, как вы говорите, то где же он, сам, Запара? Так, простите, казенные дела не делаются.
— Вин у городе.
— В городе сто тысяч человек, простите.
Старик подозрительно засверлил Глобу испытующим взглядом. — Не знаете? Тогда, простите, платить вам.
— Я вам скажу, где он живет, — проговорил старик. — У меня есть его адрес.
— Тогда прекрасно! — с облегчением воскликнул Глоба. — Теперь для формы…
— Чего? — испугался старик.
— Так сказать, для порядка, — уточнил Глоба. — Какие причины толкают вас на покупку хутора? Езды туда много, хозяйство небольшое. Честно говоря, не понимаю.
— Отделиться хочу, — хмуро произнес старик. — Жинки у меня нет. Хозяйство отдам сынам. А сам займусь пасекой. Интересное то дело. Руки к тому хутору приложить… А руки у меня есть.
Он поднял над столом корявые, цвета дубовой коры, расплюснутые работой ладони и вздохнул:
— А то, что я буду там как одинокий волк, меня не волнует. Я привык. У сынов своя жизнь. Всегда один, как перст.
— Видать, в жизни вы лиха хлебнули, — сочувственно проговорил Глоба.
— О так, — старик чиркнул пальцем по горлу. — И от белых, и от зеленых. Спасибо богу, живу еще. Ото за землю ховаюсь. Она — как железный щит. Всем хлеб нужен, все есть хотят.
Слушающий их председатель сельсовета нахмурился и сказал, постукивая по столу торцом ученической ручки:
— Ты, дед, только там на хуторе контрреволюцию не заводи!
— А нашо она мне сдалась? — повеселев, спросил старик. — Она же ж не пашет и не сеет.
— Это вы точно, — одобрительно произнес Глоба, деловито копаясь в необъятных недрах своего портфеля. — Какой адрес того Запары?
— Он живет у своей дочери, а она служит в домовых работниках у хозяина лавки на Московской улице. Угловой дом. Там всякий знает Наталку Запару.
— Отлично, — Глоба громко защелкнул замок портфеля.
— И чего он тот хутор продает?
— Здоровья у него нет, а без волчьего здоровья там делать нечего.
— Такая уж наша селянская жизнь, — усмехнулся председатель, — Оттого и хлеб сладкий.
— В городе не легче, — вздохнул Глоба, поднимаясь из-за стола. — Вы извините, но придется мне найти того Запару. Налоги следует платить. Это долг гражданина. И мы востребуем… И он обязан выполнять свои функции.
— Чего?! — вскинулся старик.
— Свои обязанности гражданина, — четко произнес Глоба. — Благодарю за разговоры… Желаю благ!
Откланявшись, он кинул портфель под мышку и вышел из хаты, плюхнулся в телегу, бодрым голосом закричал:
— Но-о! Родимая-я!
Неумело задергал вожжами, словно не замечая в окошке хаты насмешливых лиц крестьян.
Под бодрый перестук колес выскочил на бугор за околицу села и здесь уже пустил лошадь шагом.
«Господи, откуда это во мне? — подумал он с неожиданным и запоздалым смущением. — Чистый театр. Они с открытой душой… Что скажет хозяин Запара, так неожиданно бросивший свой хутор? Уж не замешан ли он в бандитских делах? Места отдаленные, дороги и тропы мало хоженные. И продает хутор в спешном порядке старому крестьянину Мацько. Который, как он сам говорит, хлебнул лиха…» Сколько всяческих историй выслушал Глоба за свою недолгую жизнь, но каждый раз поражался тому, как по-разному складываются у всех события в горькие страницы. Казалось бы, одни и те же бури несутся над землей-матушкой, сбивая с ног, катят волны глубокие реки, затягивают в пучину, а, глядишь — один устоял на самой стремнине, если и упал, то, обдирая колени и руки, из последних сил добрался до берега, а другой, вроде и покрепче был, и сообразительнее, но замешкался, опоздал, еще на что-то надеясь, и вот уже все дороги назад отрезаны, а впереди — что-то неясное и жуткое…
И еще Глоба подумал: как мало надо для крутого поворота судьбы — всего лишь неосторожное слово, невыполненное обещание, один только бесчестный поступок. Нам только кажется, что наши поступки разбросаны в беспорядке, как упавшее с яблони яблоки, а в действительности они лежат в продуманной последовательности — один к одному… События в человеческой жизни так сцеплены, что нельзя вышелушить ни единого зернышка, не затронув все остальные семена, впрессованные в литую головку созревшего подсолнечника. Да, да, именно так… Сколько раз об этом думал Глоба, разбираясь в исковерканных судьбах людей. Не свершается ничего внезапно, любое действие можно проследить издалека, от самого истока…
Глоба без труда нашел табачную лавку на Московской улице. Хозяин, выслушав Тихона, долго с сомнением оглядывал стоящего перед ним незнакомого человека в коротком пальтишке и кепке с квадратным козырьком. Возможно, он и не верил тому, что говорил этот гражданин, но тяжелый, с никелированными замками портфель явно наводил владельца лавки на какие-то тревожные воспоминания. Он осторожным движением придвинул к Глобе коробку дорогих папирос, раскрыл ее, захрустев серебряной бумагой.
— Угощайтесь, прошу вас… Фининспекция? Запара? Но, простите, какое он имеет ко всему этому отношение? Ах, вы не в отношении моего патента? У Запары хутор? И налоги… Господи, кто бы мог знать! Наталья!
Голос хозяина пророкотал на всю лавку. Из низкой задней двери вышла босая женщина в мокром переднике, волосы спадали на худое лицо.
— Проведи к своему отцу! — приказал хозяин, высокомерно усмехаясь. — Экие дела! Хутора имеют, а налоги Советской власти не платят… Рас-с-спустились! Тоже мне хозяева-а, прости господи.
Запара сидел в комнатушке под деревянной лестницей. Был он хлипкого сложения, невзрачен, с бегающими глазами и дрожащими пальцами, в которых держал блестящую трубочку для набивания папирос. Стол перед ним был весь усыпан табаком. Распечатанные пачки валялись под левой рукой. Справа ровными штабелями высились готовые папиросы. Воздух был пропитан запахом табачной пыли.
Неожиданный приход фининспектора потряс Запару, он никак не мог взять в толк, что от него требуется. Он ничего не понимал, сбивался на ответах, забывал только что сказанное, а руки его в это время словно бы жили отдельно от их владельца — они лихорадочно хватали из пачки волокнистый табак, уминали в раскрытую жестяную трубку, защелкивали обе створки, надевали на нее бумажную гильзу и одним движением деревянного поршня-палочки выталкивали на стол набитую папиросу. Глаза не видели, что делали руки, неуклюжие пальцы старого крестьянина рвали папиросную бумагу, крошили табак — на стол падали уродливые, полупустые, с надорванными краями папиросины.
— Что вам от меня надо?! Ну что?! — то и дело горестно восклицал Запара. — Хутор?! Да нехай вин сгорыть! Остобисило жыты так… Отдаю его за бесценок! Какие еще налоги?!
— Да вы успокойтесь, — пытался наладить разговор Глеба. — Почему вы так волнуетесь? Разве что с вами случилось? Налоги надо платить, тут ничего не поделаешь. А у вас за полгода… Бросили хутор на произвол судьбы. Какой же вы хозяин?
— А вы там были? — вдруг прорезался неожиданный интерес, и Запара даже забыл о папиросах, положил локти на стол, развалив весь аккуратно сложенный штабель белоснежных палочек.
— Конечно! Дверь сорвана с петель, стекол в окнах нет. Собака убита.
— Вбыта, — прошептал Запра. — Какие звери, господи…
— Собаку, значит, вы не убивали? — недоверчиво спросил Глоба.
— Может, и я, — пробормотал Запара.
— Уж это могли бы знать наверняка, — ворчливо проговорил Глоба.
— Запамятовал, — опустил голову Запара. — Голова кругом… Все ж таки, я в том хуторе всю жизнь пробедовал… И покинул на произвол.
Он бормотал жалобным голосом, подшмыгивая насморочным носом, со слезами на глазах, но Глоба видел, как он изредка кидает на него злые взгляды — он чувствовал, что старик говорит неправду. Казалось бы, Тихон о Запаре знал все. Перед тем, как ехать к нему, он собрал все сведения, которые можно было достать в уезде.
Да, Запара на самом деле бедствовал в этом хуторе. Распаханной земли было мало — хватало только на огород: картошка, огурцы… Жил пасекой — качал мед, продавал его. Жена бросила его еще в молодости, осточертела, видно, ей отшельническая жизнь, ушла с каким-то бродяжкой, оставив за руках мужа малолетнюю дочь. Дочь выросла — подалась в город на веселые и легкие хлеба. В гражданскую войну тот хутор горел. Какой-то дезертир, может, прятался в стогу сена, неосторожно бросил цигарку — огонь полыхнул над хатой. Старик поднимал хутор из головешек горбом да руками. Построил хату так-сяк, последние гроши отдал наемным плотникам.
В той хате каждая половица была сделана его руками. И крышу он сам стлал, острым обломком косы равняя соломенный свес над земляной завалинкой… Такой хозяин просто от нечего делать свою хату не бросит, не оставит среди леса гнить под осенними дождями. У такого попробуй ее отнять силой — он вцепится в двери намертво, не оторвешь. А тут кинул — как от потопа бежал… А не связано ли это с появлением в лесу деревянного креста?
— Новый хозяин платить за вас налоги отказывается, — сказал Глоба, для весомости заглядывая в какие-то бумаги. — А без квитанции об уплате вы продавать хутор не имеете права.
— Так что же делать? — в отчаянии спросил Запара. — Мне деньги нужны.
— Придется вам туда поехать, — холодно произнес Глоба. — На месте все уточним.
— Да ни за что! — закричал старик. — Гори оно все пламенем!
— Что за крест там стоит? — вдруг спросил Глоба, не сводя глаз со старика. На его лице отразилось глубокое недоумение, он смотрел на Тихона, приоткрыв рот:
— Хрест?! Ото щось новое… Хрест.
И вдруг, как громом пораженный, опустил голову на ладони. Зашептал точно в беспамятстве:
— Хрест… Значит, убита. Хрест! Прости господи, душу грешную… Робыв, не ведая, що роблю…
Глоба подождал, пока он немного успокоится, и пододвинул ближе к столу свою табуретку. Он достал из кармана удостоверение и положил его перед стариком. Сказал, нахмурив брови:
— Видать, вы не очень привыкли обманывать. Я из милиции… Читайте, гражданин Запара. Вот мой документ. Вы грамотный?
И тут старик заплакал — упал лицом на стол и начал перекатывать голову со щеки на щеку, забивая мокрую кожу рассыпанным табаком. Лысая макушка блестела, как запотевшее стекло. Костлявые плечи вздрагивали от рыданий. Глоба сидел напротив, терпеливо ожидая, когда он затихнет, Тихон уже понимал, сейчас старик расскажет все — в его кашляющих стенаниях было и надрывающее душу отчаяние, и жгучие слезы облегчения, он как бы смирялся с тем, что должно произойти, в последнем судорожном плаче освобождаясь от того, что мучило его не один день.
Наконец Запара замолк, подолом рубахи вытер лицо и посмотрел на Глобу тихими, точно просветленными глазами.
— Значит, нашли таки… Ну спрашивайте, все скажу. Собаку не я убил, то верно…
— Начинайте по порядку, — Глоба забрал удостоверение. — Как там все получилось?
— Только сейчас понимаю, что жил я до той ночи, великих забот не ведая, — вздохнул старик. — Та ночь, как ножом отрезала прежнюю жизнь. Дило так було…
…Запара проснулся среди ночи — лаяла собака. Он торопливо оделся и нащупал у двери старинный дробовик, заряженный патроном с рублеными гвоздями. Еще от деда он получил это древнее ружье с треснувшим ложем, перетянутым медной проволокой, и длинным стволом. Не раз за эти годы кто-то пытался ограбить пасеку, но Запара отгонял их гулкими выстрелами из дробовика — он ухал в ночи, словно пушка. А может, ему просто казалось, что хотят обворовать пасеку, чащоба кругом густая, зверья много, собака чует тяжелый дух — вот и рвется с цепи.
На этот раз было то же — собака бесится, облаивает черную стену леса. Решил пугнуть на всякий случай. Нащупал дробовик и вышел с ним в темноту. Не видно ни зги, темно, хоть глаз выколи. Взял дробовик наизготовку и побрел к пасеке, прислушиваясь к ночным шумам — гудит ветер в кронах деревьев, лает собака, бренча цепью, где-то далеко ухает филин. И показалось, что донесся со стороны легкий говор, вот стукнули топором по колоде, что-то тяжело повалилось в траву.

Запара вошел в самую тьму, остановился где-то возле ульев и неуверенным голосом бросил в темноту:
— Кто тут? Е тут кто?!
И вдруг яркий свет электрического фонаря ударил по нему сбоку. И в этом луче, словно вырезавшем в черноте желтую сияющую воронку, старик увидел прямо перед собой женщину. Она была в кожаной куртке, черные волосы ветер легко нес по воздуху. Чуть повернувшись к Запаре, она глядела на него из свечения какую-то долгую секунду, и старик почувствовал, как по его спине побежали мурашки страха.
Женщина шевельнулась, поднеся к губам ярко вспыхнувший огонек папироски, и сказала с ленивым равнодушием кому-то невидимому за лучом света:
— Шмаляй его. Чего ждать?
Сказала тому, кто сразу же шевельнулся в темноте за спиной Запары. И тогда старик, уже не понимая, что он делает, нажал на спусковой крючок дробовика. Выстрел ахнул, луч света судорожно метнулся к небу, раздался крик, ружье вывалилось из ослабевших рук Запары. Он ринулся в темноту. Бежал, не разбирая и не видя дороги, через кусты, падая и поднимаясь, наскакивая на стволы деревьев, оставляя на жестких ветках клочья одежды. В бессилии упал лицом в землю…
— Ну, а потом? — спросил Глоба. — Вы не вернулись?
— Утром я прибрел к хате, — вспоминая, Запара прикрыл ладонью глаза.
…Утром он побрел к хутору, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь к лесу. Иней оттаивал, роса блестела на пожухлой траве. Хата показалась среди деревьев — двор ее был безлюден, у будки валялась застреленная собака. Ступая по земле, словно по тонкому стволу, прикрывающем болото, испуганно озираясь, старик вошел в распахнутые жердяные ворота. Хата была ограблена, дверь сорвана с петель. На пасеке Запара увидел несколько расколотых ульев-колод, облепленных застывшим медом и побитыми заморозками мертвыми пчелами. Соты были вырезаны ножом — раздавленные в темноте сапогами, валялись возле ульев.
У ствола старой яблони Запара увидел следы крови. Он долго глядел на эти бурые мазки, которыми была испачкана трава, еще не понимая того, что здесь случилось ночью. Словно оглушило тем выстрелом — отшибло память и соображение, оставалось лишь воспоминание об ужасе. Это чувство, взорвавшееся внутри, до сих пор
гнездилось в каждой его клетке, вытеснив все остальное.
Движимый паникой, Запара быстро вошел в хату, торопливо собрал в узел то, что осталось из вещей, закинул за спину и, согнувшись под тяжестью, не прикрыв за собой сорванную с петель дверь, побежал по дороге от хутора…
— Чего вы боялись? — спросил Глоба.
— Я догадывался, что убил человека…
— А кто они были, как вы думаете?
— То бандиты батька Корня, кто же еще…
— А женщина?
— Жинка батька Корня… Слухи по селам шли, что они вместе лютуют. Они мне никогда б не простили. Я и сейчас все в окно гляжу. Не идут ли по мою душу? Такие, как батько Корень, из-под земли достанут. Корень был зверь лютый, но жинку свою любил.
— Крест видели?
— Тогда его еще не было. Значит, он стоит? На моей земле батько Корень поховав свою жинку…
— Хутор у вас покупает старый Мацько. Он что, разве не боится Корня?
— Он же не убивал. Мацько такой человек — он им хлеба дает, воды попить, но сам винтовку не возьмет ни за что, награбленного ему не нужно. Он все заробыть своими руками.
— Старый одинокий человек. Я его видел.
— То не гляди, — впервые слабо улыбнулся Запара, — в нем силы, как у бугая. Я тоже был когда-то — ого-го! та жыття трошкы пидтоптало.
— Он может иметь связь с бандитами? — перебил Глоба.
— Нет-нет! — воскликнул Запара. — То такой человек… Никому зла не желает. Вы только его не трогайте. И он будет с утра до вечера на земле горбатить.
— Мы с вами еще разберемся и с тем убийством, — сказал Глоба. — А пока о нашей встрече никому не говорите. Я для всех по-прежнему финагент. Дело идет о неуплате налогов. И вообще, молчите обо всем — о хуторе и том выстреле… Как бежали оттуда. Это в ваших же интересах. До свидания.
Он прошел через лавку, легким кивком ответив на прощальный поклон хозяина, и дверь за ним захлопнулась, звякнув подвешенным колокольчиком. Тихон пересек дорогу и оглянулся — в крошечном окошке, словно бы распятое перекрестьем рамы, виднелось прилипшее к стеклу бледное лицо Запары.
«Врет или говорит правду? — подумал с тревогой Глоба. — Уж больно все как-то просто… Случайный выстрел… Среди ночи едят мед, разломав колоду… И смерть атаманши… Крест над ее могилой. Врет старик или говорит правду?»
Глоба пришел в губмилицию и обо всем доложил Лазебнику. Он обязан был это сделать. Тот слушал внимательно, изредка окидывая Тихона оценивающим взглядом. Поглаживал кончиками пальцев гладко выскобленный подбородок, неулыбчиво щурил веки. От всей его полной фигуры, туго затянутой суконной гимнастеркой, веяло холодной настороженностью, но по мере того, как ему становилось все более ясно, с чем пришел Глоба, лицо замначгубмилиции постепенно начинало оттаивать — ушла из глаз серая размытость стыни, разлепились стиснутые губы, обычно мягко слюнявившие жеваный мундштук папиросы. Вот он наконец-то удовлетворенно хмыкнул, щелкнул портсигаром, привычно закатал между пальцами бумажную трубочку, посыпая стол табачинками. Чиркнул спичкой, закурил, с довольным видом перекинув папиросу в угол рта.
Не выдержав, перебил Глобу приветливо:
— Отлично. Выкопай ее оттуда. Кому опознать, как не тебе. Ты ж ее сам арестовывал, сам и выпускал. Что тебя смущает в этой истории?
— Уж больно все просто. Случайность на случайности. Мы их ищем, расставляем ловушки, в селах делаем засады, устраиваем в лесах облавы. Все у нас рассчитано — на картах выверяем бандитские маршруты. Десятки людей занимаются работой. А тут так: захотели среди ночи меду пожрать… Прямо невтерпеж! Взяли топор, пошли на пасеку. От перепуга дед пальнул из дробовика… И атаманше конец.
— А, понимаю, — кивнул головой Лазебник. — Ты ищешь в ее гибели логику. Но вот ее-то и не может быть. Почему? Да сама бандитская жизнь нелогична. Она вне нормального человеческого существования. Понял? У них ничего нет закономерного. Они живут в мире, где нарушены все законы. Законы человеческих отношений, законы государственной власти. Они не знают, что будет с ними через день или час. Все вокруг них исковеркано — время, связь с людьми, материальные и духовные ценности… В этом их обреченность. Они все осуждены на гибель, но как и когда это произойдет? — никто не знает. Нет, Глоба, я верю в твою историю. Атаманша там, под тем крестом. И ты можешь удостовериться. Возьми и выкопай ее оттуда.
— Начнем копать… Дело такое не скрыть. Корень туда больше не придет.
— А какого черта ему там делать? — изумился Лазебник.
— Если там атаманша, то Корень обязательно ходит на могилу.
— Это еще зачем?
— Любовь, — коротко бросил Глоба, хмуро глядя в окно, за которым тянулись покатые крыши домов. Из печных труб вились серые дымы.
— Ты это брось! — Лазебник погрозил пальцем. — Бандитская любовь тоже вне человеческой логики, — а значит, не любовь! И вообще, о чем ты говоришь? Не серьезно, ей богу. Главное в чем? Убита атаманша!
— Старик из дробовика. И он за это свое получит согласно закону.
— Вид оружия не имеет значения, и со стариком пока погоди, не к спеху, — перебил Лазебник. — Не так смотришь на вещи. Банда обложена со всех сторон. В селах отряды самообороны. Крестьяне вооружены самым различным оружием. Зачем банда пришла на хутор? Грабить его. Им жрать нечего.
Не сладенького захотелось, как ты изволил тут говорить, а просто-напросто животы у них подвело от голодухи. И встретили отпор! Старику вдогонку стреляли, когда он бросился в лес? Конечно! А как же ты думаешь, была перестрелка! Старик сам мог погибнуть. Это ночной бой. Сейчас главное в чем? Атаманша, второй человек в банде, сражена пулей.
— Заряд-то — рубленые гвозди, — пробормотал Глоба.
— Значит, картечью, — уточнил Лазебник. — Немалый успех. Я рад, что отличился ты. Конечно, именной браунинг от начальства за это не получишь… Но уже никто не посмеет упрекнуть тебя в бездеятельности. Да и нам, руководству, будет чем ответить на укоры вышестоящих… Над нами тоже, понимаешь, довлеет! Спрашивают не так, как мы с тебя. Я покричу — знаешь, порой нервы не выдерживают, устаю чертовски, но зла долго не держу. Я понимаю: все мы на такой работе, что нормальный человек сгорит дотла в течение года — ворье, бандитизм, изуверства… Каждый день идешь на риск. Да мне ли рассказывать тебе? Все сам тянешь на своем горбу, а пожаловаться некому. Да, Глоба, мы не из тех, что ищут сочувствия у других, не так ли? Работа есть работа. Кому-то и этим надо заниматься.
— Не надо могилу трогать, — попросил Глоба.
— А что же делать с ней? — удивился Лазебник.
— А помочь надо тому Мацько хутор купить.
— Какой смысл? — погасая, вяло спросил Лазебник.
— Корень придет к нему. А я того Корня живым возьму.
— Корню и так хана. Кавалерийский эскадрон войск внутренней службы идет по его стопам — теснит от сел, сковывает по рукам и ногам.
— Бандиты все из местных, — пожал плечами Глоба, — они боя не примут, разбегутся по хатам, когда эскадрон уйдет вперед — они за его спиной снова начнут грабить, вы разве не знаете их старую тактику?
— Мне ли не знать? — недобро усмехнулся Лазебник. — На старую их тактику надо ответить нашей старой стратегией. Уж она работала беспроигрышно, да забыли.
— Другое время, — сказал Глоба, пристально рассматривая маковое зернышко родинки на чистом лбу замначгубмилиции.
— Господи! — воскликнул Лазебник, вздымая на головой руки. — Что ты в этом понимаешь?
Глоба чуть слышно постучал кончиками пальцев по замку портфеля и, подумав о чем-то, мрачновато проговорил: — Разрешите могилу не раскапывать?
— Я не могу дать такого распоряжения! — взорвался Лазебник. — Раз есть сведения, что найдена могила атаманши, то мы обязаны это дело уточнить!
Лазебник поднялся из-за стола, показывая тем самым, что у него нет больше времени, нетерпеливо посмотрел на часы, вытащив их за цепочку из кармана галифе, по-бабьи, как подол, откинув край гимнастерки.
— Иди за разрешением к Рагозе, — недовольно буркнул он.
Глоба встал, сунул портфель под мышку, он чувствовал себя неловко в пиджачишке с короткими рукавами, узкие брючата пузырились на коленях. Лазебник оглядел Тихона с ног до головы, и легкая гримаса тронула его мягкие губы.
— Театр не для тебя, Глоба. За версту прет милиционером. Иди, у меня много работы. Передавай привет Мане. Преотличная досталась тебе жена.
— Я ее не по лотерее выиграл, — сердито отрезал Глоба.
Глоба увидел Рагозу, когда тот садился в автомобиль. Начальник не стал слушать Тихона, решительно указал на сиденье рядом с собой. Когда «форд» тронулся, Рагоза осторожно потянул портфель из рук Глобы, заговорщицки подмигнув из-под надвинутой на лоб фуражки.
— Что, Лазебник все-таки попер тебя из милиции?
— Еще нет, — покраснел Глоба.
— От него идешь?
— Беседовали…
— Я б на твоем месте старался ему на глаза не попадаться, — усмехнулся Рагоза.
— Иного выхода не было.
— Ну, тогда рассказывай.
Глоба старался ничего не пропустить, а сам невольно трогал рукой гладкую кожу сиденья, искоса вел взглядом по чуть провисшему брезенту крыши и дальше — к подрагивающим стрелкам темных циферблатов на приборной доске и черным рычагам у колен шофера. Зажатый руками в крагах с широкими раструбами, эбонитовый руль поражал воображение — легкое движение, поворот в сторону, и могучая машина яростно резала углы, выносилась на покрытую камнем площадь с древним собором. На булыжниках «форд» весь трясся, в его чреве что-то билось с железным лязгом, из-под крышки на капоте пульсировали белые дымки пара. Идущие навстречу лошади, запряженные в подводы, шарахались к стенам домов, возницы испуганно орали на них, туго натягивая вожжи. Из-под колес взлетали воробьиные стаи, панически хлопали крыльями неуклюжие голуби.
— Черт! — вырвалось у Глобы с восхищением. — Как самолет…
— А ты летал? — удивившись, спросил Рагоза.
— Да я на автомобиле первый раз, — сознался Глоба.
— А ну давай тогда вокруг площади, — сказал Рагоза шоферу, и машина, чуть накренившись, пошла на вираж, оставляя за собой стреляющие выхлопы газов.
Глоба так весь и подался к стеклу — на него понеслась горбатая площадь, с боку каменно навис громадный собор с колокольней, врезанной в небо, ветер засвистел в стойках, захлопал, как парус, брезент крыши. Тихон впился пальцами в край железной дверцы, по лицу ударила холодная струя, ему показалось, что он захлебнулся встречным воздухом.
— Бешеная скорость! — закричал он в мальчишеском азарте.
— Сорок километров в час, — с гордостью откликнулся шофер.
Потянулся длинный кирпичный забор, за которым стояли заводские трубы и виднелись покатые крыши цехов с выбитыми стеклами фонарей. Паровозостроительный лежал на окраине города — хаотическая паутина железнодорожных путей, туго оплетших своими кольцами приземистые здания, бетонные платформы и дощатые складские помещения. На рельсах ржавели остовы локомотивов и опрокинутые тендеры с рваными, словно они из картона, железными боками. Запустением дышали просевшие улицы с обвалившимися чугунными решетками ливнестоков, в настоянных на ржавчине и угольной пыли темных лужах гнили листья, нападавшие с дуплистых деревьев.
— Узнаешь свой родной дом? — спросил Рагоза, поворачиваясь к Глобе. — Мне надо поговорить с народом, там у них заварушка случилась — бросили работу.
— Забастовали? — удивился Тихон.
— Да нет, — нехотя проговорил Рагоза. — На некоторых заводах стали заработную плату выдавать продукцией завода. Есть такое решение…
— А что с ней делать?
— Не говори, — возразил Рагоза. — Вот чугунолитейный работает чугуны. Такие чугуны, что на базаре их с руками отрывают. А что делать? Нет денег в казне заводской. Механический кует топоры и косы. Товар нарасхват! Какой-то умник решил и паровозников перевести на такую систему. Месяц кончился — пришел час расплаты. Чем ты с ними рассчитаешься? Выпустили из цехов три паровоза! Три! Гордость душу забивает… А чем платить? Локомотивы распилить на две тысячи кусков и выдать каждому по железке? Это, брат, такая дурость! Либо продуманное вредительство. Рабочие разошлись по домам, проклиная все на свете. А на утро половина их не явилась на работу.
— А сейчас?
— Вчера выплатили деньгами. Утихло. Но хочу поговорить в клепальном цехе. Ты там работал? Они шумели больше всех. Да оно и понятно — работа адова.
Тем временем они уже шагали к цеху, из ворот которых тянуло горелым углем; когда вошли туда, под темные решетчатые своды, увидели в едкой пелене сизого дыма громадные паровозные котлы. Там и тут в металлических «шарманках» пламенел раскаленный кокс, раздуваемый ножными мехами. Рабочие выхватывали щипцами из жара огненно-яркие заклепки, похожие на красные грибы, и вставляли их в отверстия, простроченные в гнутых стальных листах. В глубине котла начинал гулко стучать молот, а снаружи, широко расставив ноги, подручный держал ту заклепку, принимая на себя ухающие удары клепальщика. Он содрогался от каждого шлепка клепального молотка, в его лицо летела окалина, гром железа разрывал барабанные перепонки. Недаром на заводе прозвище здешним было «глухари». В грохоте листовой стали, окруженные пылающими циклопьими глазами раскаленных «шарманок» с горящим коксом, они разговаривали жестами, понимая друг друга по малейшему движению.
— Я прикреплен сюда, партийное поручение, — сказал Рагоза, привычно огибая навалы холодных заклепок и горы угля. — Ты выступишь?
— Да вы что? — ужаснулся Глоба.
Шум и грохот начали медленно затихать. Серым пеплом подернулся кокс в переносных горнах. Люди стекались к воротам, где было светлее, где легче дышалось под сквозным ветром, рассаживались на ящиках и грудах железных обрезков. В наступившей тишине стало слышно чириканье воробьев под закопченными сводами цеха.
Рагоза спросил, чуть напрягая голос:
— Ну что — с вами сполна рассчитались, товарищи?
Послышались ответы, то веселые с шутками, то раздраженно-злые. Кто-то поднялся с паровозной тележки и закричал, размахивая руками.
— Поиздевались! Над рабочим классом! В грош не ставите! Сами зажирели-и!
— Да уж куда там, — усмехнулся Рагоза, тронув пальцами запавшие от худобы щеки, и среди рабочих прошел смешок.
— Будем считать инцидент исчерпанным, — сказал Рагоза. — Тем, кто попытался нас настроить против Советской власти, даром это не пройдет… Тут уж поверьте мне. Больше такого не повторится!
— А Советскую власть саму надо спасать, — сердито проговорил старый клепальщик с черным от сажи лицом. — Вот-вот нэпманы ее сожрут без остатка!
— Ну уж не-е-ет! — гневно бросил Рагоза. — Новая экономическая политика ничего существенного не изменила в государственном строе Советской России! И не изменит никогда! До тех пор, пока власть находится в руках рабочих. А то, что это так, уже ни у кого не вызывает сомнения! Даже у самых отъявленных контрреволюционеров! Или, может, кто тут в том не уверен?
Встретив сочувственное молчание, Рагоза продолжал, уже немного успокоившись:
— Главное для нас теперь что? — немедленно улучшить положение рабочих и крестьян. От этого зависит все — продналог, развитие оборота земледелия с промышленностью… Капитализм нам не страшен. Мы держим в своих руках власть, транспорт и крупную промышленность.
— А у Шиманского на табачной фабрике больше платят, — перебил чей-то язвительный голос. — А уж какой буржуй!
— Врешь! — повернулся к нему Рагоза. — Не больше!
— Ну столько же… Так ведь буржуй!
— Вот именно! Согласен! Но он же, тот Шиманский, прибыль гребет себе в карман. Дает ли он рабочим бесплатные отпуска? Молчишь! Думает он о безопасности своих рабочих, когда они час за часом дуреют от табачной пыли у станков, которые давным-давно надо бы списать в утиль, потому что они пальцы отхватывают с таким же остервенением, как и папиросный картон?! А калек он обеспечивает пожизненной государственной пенсией? Дудки!
— Зато вещи у них красивее наших, — возразил тот же голос. — Бывает, нашу вещь возьмешь в руки — плюнуть хочется! А у них качество! И потом… В убыток себе не работают. Говоришь: прибыль гребет в карман… Так то ж прибыль! А мы горбим, а все в заводской кассе мыши гнезда вьют. Вот и ответь, начальник!
— Вот тут ты, товарищ, ударил в самую точку, — хмуро согласился Рагоза. — Поцелил точно. Что тебе сказать? Ты вспомни, браток. Как мы начинали революцию? Поначалу, чего там греха таить, никудышние мы были солдаты. Сколько пороху даром пожгли, снарядов и пуль пораскидали понапрасну! А потом что получилось? С той стороны у беляков самолеты, пушки страшенных калибров, а потом уже и вообще, не дай бог, бронированные чудовища еще невиданные — танки! И мы все это — к чертовой матери с нашей земли. Поднаучились. Окрепли в кости. Весь мир поразился!
— Ты, начальник, назад-то не вспоминай, — насмешливо перебили Рагозу. — Мы там и сами были… Буржуй лезет из всех нор — доколь так будет? Где грань дозволенного ему? И какой нэпманам укорот?
— Я понимаю, о чем вы сейчас, — кивнул головой Рагоза. — Это для меня не новость… Многие сейчас говорят о нас, коммунистах: люди вы хорошие… Планы у вас замечательные, да только дело, за которое вы взялись, хозяйствование, вы ни черта не знаете! Так говорят?! Мол… Буржуй хоть нас и грабил, наживался на прибылях, но хозяином был неплохим. А у вас все из рук валится. Все забюрократили. Экономике вы не обучены. Торговать не умеете. Поднимать из разрухи промышленность, создавать прибыльные производства — это вам не на коне скакать с клинком в руке под пушечные выстрелы. На ура тут не возьмешь…
— Да это уж так, — с горечью вздохнул старик-клепальщик. — И правда в тех словах есть, товарищ начальник.
— Да какой я тебе начальник?! — вспылил Рагоза. — Думаешь, у меня у самого глаз нету? И я ничего вокруг себя не замечаю? И партия наша, партия большевиков, не знает о том, что делается на заводах и в деревне? Мы везде на все ответственные посты назначили самых лучших коммунистов. И часто от них никакого толку — потому что они не умеют хозяйничать. Он, большевик, все каторги исходил, на фронтах гражданской войны бросался в штыковые атаки, четырежды ранен, самый честный-распречестный, а торговли вести не может и, бывает, учиться этому не хочет… Ему стыдно! Он же революционер, а его заставляют брать в руки аршин и бухгалтерские счеты…
— Точно как наш директор, — выкрикнул кто-то беззлобно. — Перекоп брал, а заводскую контору обходит стороной, как чумную.
— Вот тут бы наш революционный энтузиазм, который мы показали в боях, соединить бы с умением толково хозяйничать и торговать… Цены бы не было такому человеку! И мы, товарищи, сознаем, что таких людей у нас мало, может, даже бедственно мало, но они есть! На одиннадцатом съезде партии Ленин сказал… Вы, товарищи, послушайте, я на память говорить буду: «За этот год мы доказали с полной ясностью, что хозяйничать мы не умеем. Это основной урок. Либо в ближайший год мы докажем обратное, либо Советская власть существовать не может». Вот оно! Не может! Выхода у нас нет. В соревновании государственных и капиталистических предприятий победа должна остаться за нашим государством, в этом сомнений нет! Но дорога тяжелая, горя на ней мы хлебнем, не одна пуля ударит нам в спину из засады. Два дня тому назад вам не выплатили заработную плату — заводская казна пуста… Вчера остановилась ткацкая фабрика — нету сырья. Удивительное дело — через дорогу отлично работает ткацкая фабрика братьев Минаевых. Им что, сырье с неба падает?! Сегодня утром… гвоздильный завод Скрыни выбросил на рынок большую партию своего изделия по цене ниже стоимости гвоздей нашего госзавода. Что нам делать? Останавливать свой завод, распускать рабочих… Нет! Черт возьми, мы войдем с этим делом в правительство, купим за границей на народное золото самые лучшие станки и в конкурентной борьбе уничтожим нэпмана Скрыню! С помощью техники и трудового героизма рабочих, я правильно говорю?
Рагоза устало вытер лицо ладонью, бросил взгляд в сторону Глобы и, словно для него одного, он, обращаясь ко всем, твердо проговорил:
— И никогда мы, рабочий класс, не должны забывать: мы строим свою экономику с крестьянством! Необходимо сомкнуться с крестьянской массой и начать двигаться вперед… Возможно, неизмеримо медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что будет двигаться вместе с нами все трудовое крестьянство. В данный момент мы помогаем ему окончательно избавиться от остатков бандитизма. Здесь присутствует товарищ, который имеет поручение разгромить банду Корня. Будут к нему вопросы?
Все шумно повернулись к Тихону, и он, чувствуя сковывающую неловкость, подошел к Рагозе. Десятки взглядов скрестились на нем — недоверие, настороженность и даже разочарование виделись в них. Первым не выдержал старик-клепальщик, он насмешливо фыркнул, громко, как все глухие, прокричав:
— Ишь ты… с портфелем! Не… такой не поймает!
— Почему? — спокойно спросил Рагоза.
— Не та кость, — усмехнулся старик. — Корень, небось, мужик боевой, его на портфеле не обскачешь. А этот, голову даю на отсечение, на коня с хвоста сядет!
Глоба повел глазами по обступившим их клепальщикам — все были незнакомы, а вот этот седой дед-крикун явно смахивал на Спиридоныча — въедливый и шумный старик запомнился на всю жизнь, уж он погонял Тихона с раскаленными заклепками от «шарманки» к котлам — то недогрел, то перегрел… За прошедшие годы клепальщик явно сдал, но и сейчас сквозь налет копоти Глоба узнает незабытые черты — крючковатый подбородок, хитрые морщины от крыльев длинного носа. В воспаленных от вечного заводского жара слезящихся глазах ядовитый блеск.
— Вам ли говорить, Спиридоныч? — с обидой произнес Тихон. — Кость не та… А какая она должна быть?! Глобовская уже не годится?
Старик так и обомлел. Он подсеменил ближе, закрутил головой, рассматривая парня с портфелем так и сяк, чуть ли не за спину заглянул ему и вдруг закричал с торжеством в голосе!
— Тишка-а?! Ну, конечно, глобовское отродье! От дубина вымахала! Дай я тебя обниму! Ах ты ж, мать моя богородица… Кинь ты к бисовой бабке той сопливый портфель! Де твоя саблюка? Де конь вороной? Иль сумели тебя обработать — по бумагам пустили… Батько твой был огневым мужиком! И ты…
— Все, все у него есть, — успокоил деда Рагоза. — Лучший в уезде конь, острейший клинок кавказской работы…
— Ну тогда, братцы! — завопил старик, по-казачьи, согнутым пальцем, подбивая вяло опущенные хвосты усов. — Каюк тому Корню! Голову даю наотрез… Тишка Глоба ему сделает укорот! Это же наш хлопец, из клепального. Портфель ему для форсу!
— Дался вам, Спиридоныч, мой портфель, — перебил Глоба. — Я его в долг взял у нашего делопроизводителя.
— Я же говорил! — победоносно воскликнул старик. — Он ему нужен девкам головы дурить… А ты, Глоба, заклепки греть не разучился? Помню, здорово у тебя получалось.
— Может быть, — неуверенно ответил Тихон.
— А ну покажь, не дрейфь перед народом, — задурачился дед. — Расступись! Пошли-и! Что, слабо?
Глоба в растерянности посмотрел на Рагозу, тот лишь пожал плечами, а старик уже тянул Тихона к одной из «шарманок», на ходу стягивая через голову жесткий, как кусок жести, кожаный фартук, задубевший от угольной сажи. И Глоба сдался, сунул шею под ременную лямку фартука, поставил ногу на педаль горна и нажал на нее, раздувая коксовый жар воздуходуйкой. Из горна сразу повеяло зноем, сухой горечью перехватило горло. Заслезились глаза от угольного чада. Тихон железными щипцами подхватил холодные заклепки, затолкал их в раскаленное уголье. Теперь заспешил — педаль застучала с торопливым клацаньем, через ременной привод вздымая шумно задышавшие меха. Сейчас надо было ловить секунды — заклепки накалились, изнутри налились вишневым соком, затем начали бледнеть, исходить красками, обесцвечиваясь, по ним бегло проскакивали крошечные искры. Глоба выхватил одну из них щипцами и протянул старику-клепальщику, тот лишь мельком бросил на нее взгляд и весело закричал:
— Нет, голубок! Лишку дал!
Глоба опустил педаль, железной кочережкой тронул посыпавшиеся угли, откатил чуть в сторону заклепку, давая ей простынуть до появления сиреневого отсвета, и, когда она слегка, почти незаметно, тронулась темнотой, цапнул челюстями щипцов и показал старику. Дед разочарованно махнул рукой:
— Недогрев… Экий ты, голуба. Позабыл, что ли?
Глоба упрямо сжал губы, ниже склонился над мехами, щуря глаза, почти ничего не видя в солнечном жаре углей. Раскаленные заклепки раскатились в пламенеющем коксе, почти слились с ним в одном пылающем огне. От неловкого движения кочережкой на чугунный пол попадали накаленные куски кокса, раскололись от удара, распались на почерневший горох.
— Будет, — огорченно вздохнул дед и посмотрел на столпившихся у «шарманки» рабочих. — В нашем деле глаз должен быть точным… Оттенки надо уметь брать такие, что иной художник не схватит. А Тихон хоть и нашего поля ягода, да без практики обезручел. Ему бы все с острой саблюкой… То, брат, дело хорошее, но кто ты такой будешь, как всех бандитов переловишь? Человеком без специальности. А глобовскому сыну такое не гоже. Отец дал тебе в наследство работу с железом. А ты не забывай ее премудрости. Хоть во сне, да иной раз и возвращайся мечтой до нее. Думай, что к чему. А мы тебя примем к себе, ты уж не беспокойся. Можешь какую «шарманку» хоть сейчас пометить… Придешь — будет твоя. Понял?
— Да вот эту и возьми, — пробормотал Глоба, постучав кочережкой по выгнутому борту горна.
Обратно с завода возвращались молча. Бесконечно уплывали в сторону кирпичный забор с пробитыми дырами, прокопченные цеховые крыши, ржавый бак водокачки на железных паучьих ногах, вознесенный к снеговым облакам, пушечные жерла труб литеек, старые дуплистые деревья с черными папахами вороньих гнезд.
Глоба думал: чем тянула его к себе эта утрамбованная тысячами ног, десятки раз перекопанная, выстланная булыжником, посыпанная сажей земля? Там и тут она просела под тяжестью штабелей чушек, горы гнутого железа ржавели на ее пустырях, дожди вымывали из-под них ядовито-желтые ручьи. За пыльными окнами цехов вспыхивали красные отсветы молний. Где-то тяжко и наотмашь бухали паровые молоты, и земля, во всех направлениях туго стянутая стальными полосами железнодорожных рельсов, тихо вздрагивала, качая в коричневых лужах опавшие с деревьев сухие листья.
Но не было на свете земли дороже этой — пропахшей паровозным дымом, с кучами старого шлака и дощатыми будками стрелочников. Сколько помнит себя Тихон, не проходило дня, чтобы он не побывал здесь, — бежал по шпалам с горячим обедом для отца, оттягивал руку горячий глиняный горшок с наваристым борщом. На цеховом дворе гоняли с пацанами тряпичный мяч, толкаясь между ящиков и опрокинутых станин. Тут же и дрались, катаясь в пыли, мирились и шли всей гурьбой к трубе для наполнения водой локомотивных тендеров.
Неустоявшийся мир детства не пропадает, не исчезает из жизни, мы живем с ним всегда, наверно, до седых волос, он только уходит на какую-то глубину, становится незримым, но стоит лишь позвать его — и он возникает перед нами со всеми своими подробностями, красками и запахами.
И сейчас в Тихоне продолжали жить его отец, — богатырь с опаленным лицом, раскатистым голосом и глазами, выцветшими от угольного жара, — и мать — худая женщина с соломенными волосами, она улыбается, прикрывая губы ладошкой, смотрит на маленького Тишку, который идет ей навстречу с репьями в торчащих волосах, со следами высохших слез на грязных щеках и в рваных на коленях штанах…
От страшного тифа умерла мать. Чужие люди в серых и мятых халатах, завязанных на спинах тесемками, вынесли ее из хаты и положили на простую деревенскую подводу, на которой уже лежало несколько мертвых тел из соседних домов… Могила была на краю заводского кладбища — большая, просевшая посредине, политая известью. Отец не вернулся с гражданской войны, говорят, где-то под Одессой ударила по нему пулеметная очередь прямо в упор. И пока он падал на землю, свинец, отбрасывая его назад, крошил и сек распластанное в воздухе тело…
Молчащий рядом Рагоза задумчиво проговорил:
— А ты знаешь, я ведь не здешний. Из соседней губернии. Городишко крохотный. Главное предприятие — бондарская мастерская. Я сам бондарь. Такие бочки делали… Воды нальешь доверху, а из клепок ни капельки, только словно роса проступит. Помнят ли там меня? Все собираюсь наведаться, да времени нет… А зря. Вот сегодня на тебя посмотрел и расстроился. Как меня там примут?
Рагоза, не отрывая взгляда от мелькающих домов, закончил с холодным спокойствием:
— Если ты уверен, что сможешь склонить к работе с нами Мацько, то я согласен… Могилу трогать не следует.
У губмилиции их с нетерпением ожидал Лазебник. Он широкими шагами подошел к машине и сам распахнул дверцу, выпуская из кабины первым Рагозу.
— Что произошло? — спросил тот, взглянув на взволнованного своего заместителя. Лазебник, стараясь не глядеть на Глобу, повернулся к нему спиной и тихо сказал Рагозе:
— Большие неприятности… Звонили из его уезда, — Лазебник мотнул головой в сторону Тихона. — Атаман Корень со всей бандой напал на село Пятихатки. Толком сообщить по телефону не смогли. В общем так, кровавое дело. По моему приказу конный взвод уже выехал на место. Всех подняли по тревоге. Только начальника уездной милиции нигде найти не могут.
— Брось язвить, — поморщился Рагоза, — не то время. Глоба, садись в мою машину и немедленно в Пятихатки. Обо всем, что там случилось, доложить подробно. Торопись. Будь здоров.
Глоба козырнул и молча полез к шоферу, уже положившему ладонь на рычаг ручного тормоза.
В дороге повалил снег — такой долгожданный, наверное, тот, который не растает. Словно распороли в небе серые громадные мешки — белые хлопья посыпались сплошной стеной. Они скользили по лакированной поверхности железного капота машины. Потом «форд» вырвался из снегопада — перед ним лежал нетронутый следом путь и дремучий лес. Стояла глубокая тишина, звук мотора терялся в ней — такой одинокий и ненужный тут, нездешний в этом безмолвии громадных черно-белых полей и хмурой сини соснового бора. Казалось, ничто не может нарушить извечный покой этих пологих бугров, простирающихся до самого горизонта. Здесь, среди пустынной земли, под тяжелым небом, вечным, и незыблемым, были только они — земля да небо в караване туч, остальное казалось сном, не верилось, что где-то жгут хаты, бьют людей, гремят выстрелы, плачут дети, храпят кони, шарахаясь от окровавленных тел.
И Глобе, может быть, впервые за долгие годы работы, захотелось, чтобы дорога не кончалась и чтобы как можно дольше маячили впереди заснеженные сосны, а слева тянулось гулкое поле, где-то там, очень далеко, смыкаясь с небом.
«Устал, что ли?» — подумал он, и наперекор самому себе, сказал шоферу, тронув его за плечо:
— Давай быстрее. Сейчас будет село, там возьмем на всякий случай фельдшера.
Фельдшером оказался старик с белыми усами. У него был высокий дом под железной крышей. Ехать в Пятихатки он согласился сразу. С важным видом опустился на заднее сиденье, поставив на колени потрепанный саквояж.
В Пятихатки въехали, когда уже начинало смеркаться. Село казалось вымершим. Во дворе кооперативной лавки стояли лошади конного взвода, милиционеры грелись у костра. Глоба выскочил из машины и быстрыми шагами направился к воротам. Ему навстречу от огня поднялся командир взвода. Тихон цепким взглядом окинул двор — обычная картина налета банды: за сорванной дверью лавки разгромленные ящики, вспоротые ножами мешки, осколки бутылочного стекла. Следа не осталось от выпавшего снега — все перетоптано сапогами, грязи намесили по щиколотки.
— Банда ушла сама, — начал докладывать командир взвода, — мы было начали погоню, но они от нас оторвались. Ушли в лес, там где-то их основной лагерь. Телефона тут нет. Один крестьянин на лошади прискакал в соседнюю сельраду и уже оттуда позвонил к нам в уезд. Мы быстро поднялись по тревоге. Но не успели.
— Жертвы есть? — коротко спросил Глоба.
— Да. Убит хлопец и его батько.
— Как это случилось?
— Пойдемте.
Командир взвода повел Глобу в лавку, обходя высыпавшиеся из мешков груды соли, навалы спичек, гвоздей. Они вошли в комнату с узким окном.
— Вот здесь происходило кооперативное собрание, — сказал командир. — Человек двадцать было. Обсуждали деятельность кооператива на следующий год. Банда ворвалась в село и сразу окружила лавку.
— Можно сказать, что это была их главная цель? — спросил Глоба.
— Конечно. Они не дали никому выйти из лавки. Стали избивать кооператоров. Особенно отличался жестокостью Павлюк. Помощник Корня. Тот бил всех подряд.
— А Корень?
— Батько Корень за всем наблюдал, говорил, кому еще добавить. Был тут среди кооператоров крестьянин Михно Иван. Когда-то он участвовал в банде Корня.
— Я знаю дядька Ивана, — с беспокойством перебил Глоба, — так что с ним?
— Михно Иван давно бросил банду. Корень ему этого не простил. И вот сегодня решил свести счеты. К. несчастью, Михно был на собрании со своим сыном — хлопцем восьми лет.
— Это их убили? — вырвалось у Глобы.
— Да. Сначала паренька, а потом отца.
Глоба посмотрел на затоптанное сапогами кровавое пятно в углу лавки и молча вышел во двор. Он знал, где живет дядько Иван. Шел через село в распахнутой шинели. Старик фельдшер шагал за ним следом, чуть приотстав. Возле старой хаты Михно толпились крестьяне. Тихон поздоровался с ними и ступил через порог. На сдвинутых лавках лежали убитые — дядько Иван и его сын. Оба были в грязных полотняных сорочках, по которым расплывалась потемневшая кровь. Билась лбом о пол, рыдала в голос хозяйка.
Глоба стянул с головы фуражку, постоял у двери, с болью глядя на бледно-опавшее лицо дядька Ивана. Еще недавно они вместе лежали на чердаке этой хаты, слушали лопочущий по соломе мягкий дождик… Плач женщины выворачивал душу. Чем мог помочь ей Тихон? Слова утешения тут бессильны. Вот если бы он отвел беду раньше, не пустил бы ее в эту хату, стал перед ее порогом, загородил горю дорогу, еще на окраине села. А сейчас поздно. Вина его бесспорна…
Глоба вышел во двор, остановился рядом с крестьянином, кто-то протянул ему кисет с табаком.
— Кто видел? — спросил Тихон. — Расскажите.
— Над дядьком Иваном они издевались больше всего, — проговорил один из крестьян. — Он все молил, чтоб сына отпустили. Говорит: меня стреляйте, тилькы хлопца оставьте жить. Корень смеялся. Он говорит ему: я тебе, Иванэ, все попомню. Меня предал, к Советам ушел. Теперь держи ответ.
— Зверь Павлюк, — с ненавистью бросил кто-то.
— Да… Павлюк. Уродится такой. Он наган достал и первым же выстрелом хлопца убил. Пуля и в дядька Ивана попала. Парнишка так и вывалился из его рук. Сволочи, — говорит, — изверги нелюдские… А Павлюк ему в ответ: мы тебя за это убивать будем медленно… чтоб ты успел попрощаться с жыттям. И начал стрелять из нагана. Сначала в одно плечо, потом во второе. Третью пулю в грудь. Дядько Иван упал на землю мертвый. Так Павлюк ще смеется. Э-э, — говорит Корню, — я тому не верю, що вин мертвый. Бывают в жизни чудеса — и мертвяк из могилы поднимается. Стал он на колено подле дядька Ивана, берет в свои руки его руку и щупает пульс. Так и знал, — говорит, — еще живой, кровь стучит, но меня не обманешь, я ему мертвую точку поставлю. И берет он снова свой наган, целится прямо в висок и курок нажимает. Голова дядька Ивана тилькы дернулась… Все. Добил человека.
— Где же ваша самооборона? — с горечью проговорил Глоба.
— Мы на ночь глядя винтовки берем, — пробормотал крестьянин. — Днем он никогда не нападал.
Из хаты торопливо вышел фельдшер, он был взволнован. Поискал глазами Глобу, еще от крыльца закричал:
— Немедленно машину! Мальчик мертв, но мужчина подает признаки жизни! Просто чудо! При таких ранениях… Выстрел в голову! Пуля скользнула по кости и прошла под кожей. Машину!
Глоба посмотрел на него и вдруг, не сказав ни слова, бросился со двора, не разбирая дороги, яростными движениями ног откидывая полы шинели, хватая раскрытым ртом холодный воздух.
Всю, казалось бы, бесконечную дорогу к уездной больнице Михно не приходил в сознание. Сколько раз Глобе чудилось, что жизнь покинула это тело — далее в темноте было видно, как мертвенно белеет неподвижное лицо. Фельдшер не выпускал из рук раненого, при каждом толчке на ухабе стараясь смягчить удар. Глоба сидел рядом, стараясь хоть чем-то помочь — подставлял под голову дядька Ивана ладони, прикрывал фуражкой лицо от встречного ветра.
В уездной больнице все закрутилось в поспешном темпе — Михно унесли в палату, привели заспанного врача, санитары забегали по коридору, подготавливая операционную.
Глоба домой не пошел, остался в больнице, то и дело он выходил на улицу, смоля бесчисленные самокрутки, медленно бродил под темными окнами — светилось лишь одно из них, за полотняными занавесками смутно маячили серые тени. И снова повалил снег. Он падал бесшумно и, улегшись на землю,
; не скрипел под сапогами.
Наконец, в дверях показался врач, сразу же закурил, сунул руки в карманы, отвернул полы белого халата и долго смотрел на заснеженные крыши домов.
— Ну, что? — не выдержав, спросил Глоба.
— Вытащили пять пуль… Револьверные. Повезло человеку, если так можно сказать. Ранения не такие уж тяжелые. Потерял много крови.
— Значит, выживет? — с надеждой проговорил Глоба. Врач, подумав, пожал плечами:
— Должен… Бывают же чудеса. Стреляли прямо в висок, но пуля прошла над кожей головы.
— Я его могу видеть?
— Нет. Приходите завтра. Я вас пущу к нему. А сейчас идите спать. На вас лица нет. Вы ели сегодня?
— Сейчас пойду, поем, — вздохнул Глоба и, попрощавшись, побрел к своему флигелю. Еще издалека увидел за дощатым забором тусклый свет окошка. «Не спит, — подумал он, наклонился, повел пальцами по земле, сгребая снег, умял в холодный комок и куснул зубами, почувствовав во рту запах мерзлой березы, словно пожевал губами каленую стужей щепку. — Вот и зима… Ждал ее, вот и зима».
И снова Глоба приехал на хутор Зазимье, уже санным путем. За это время хутор заметно изменился — в хате новые остекленные окошки, крыльцо из еще не потемневших досок, двор тщательно подметен, на цепи у будки молодой пес, сразу же облаявший незваного гостя. В наброшенном тулупчике, старый Мацько вышел из дверей и приложил руку ко лбу, разглядывая лошадь, сани и чужого человека в драповом пальтишке.
— Не узнаете? — закричал Глоба, направляясь к хозяину. — Я рад, что вы уже здесь… Отличная зима, не правда ли? Собака не кусается? Ишь, пес какой красивый. Добрый день, гражданин Мацько.
— День добрый, проходьтэ до хаты, — хозяин признал в Глобе финагента, с которым недавно встречался.
Они вошли в комнатушку, старый Мацько, хмуро поглядывая на Тихона, поставил на стол миску с медом, положил рядом кусок хлеба.
— Покуштуйтэ… По налоги приехали? Так прежний хозяин Запара все сплатил по закону. Да говорят, он на днях помер от болезни. Хворал, хворал…
— Да, это так, — с сожалением проговорил Глоба, — нет уже Запары. Помер в городской больнице. Как вам тут живется?
— Роблю, — пожал плечами Мацько, — горбом все беру… Грошэй на все не хватает.
— Не страшно одному?
— Собаку заимел.
— А как бандиты придут? Говорят, они неподалеку бродят?
— Что им от меня трэба? Пойисты визьмуть, у печи погреются и снова в лес. Ну, может, по морде дадут, так от того не умирают.
— Прежний хозяин сбежал… Не от страха ли?
— У него свое дило, у меня свое, — усмехнулся Мацько. — Чего вы такий любопытный?
— Не понимаю, — сознался Глоба, — в пяти километрах отсюда Советская власть — сельрада, кооператив… А вы тут в каком государстве живете?
— Не понимаю вас, — пробормотал Мацько.
— А чего тут непонятного? Каждый сюда может прийти — и найдет еду, у огня погреется. Меду попробует… Бандит, финагент. Какому же вы богу молитесь?
— Знаете, гражданин хороший, — зло сощурился Мацько, — у нас так говорят: «Какова вера, таков у нее и бог». Ежели меня ваш бог не хранит, защиты мне от злого разора и беды не делает, то я с тем богом трошкы подожду. Для меня тот бог, кто мне винтовку к грудям приставляет. Кого я боюсь.
Глоба сидел, задумчиво ковыряясь коркой хлеба в миске с медом. Мацько опустился на лавку, повернувшись к окошку.
— Пора кончать с такой анархией, — наконец проговорил Глоба. — Советская власть — власть крепкая, не на один-два года. Она крестьянину дает возможность работать на земле спокойно.
— А то ты видел? — ткнул Мацько рукой в окно — там за голыми кустами виднелся крест над могилой.
— Понимаю, о чем вы, — вздохнул Глоба, — но этому пришел конец. Вы вспомните, что тут делалось несколько лет тому назад. Банда на банде. А сейчас остался Корень. И его уже ломают. Обложили со всех сторон, как медведя.
— Он еще свое скажет, — пробормотал Мацько.
— Зима началась. Теперь его мужики по селам разбредутся, будут отсиживаться у теплых печей. А он с самыми заядлыми уйдет в свой потайной лагерь в Волчьей Яме. Постарается отсидеться. Если мы его не возьмем, то по весне Корень снова пойдет гулять с ножом и наганом. Вы слыхали, что он сделал в Пятихатках? Ребенка не пожалел.
— Зачем вы мне все это говорите? — вскинул голову Мацько.
— Я думаю, вы догадались уже, какой я финагент?
— Да уж точно, — хмыкнул сердито Мацько. — За пазухой пистоля торчит. До всего вам дело — як да шо?
— Сообразил, — удовлетворенно сказал Глоба. — Почему же я пришел к вам? Нужна помощь. Уверен, что Корень здесь появится обязательно.
— Что ему тут нужно? — с тоской проговорил Мацько.
— А то видишь? — Глоба теперь сам протянул руку к окну, показывая на чуть виднеющийся крест. Мацько, повинуясь его жесту, тревожно посмотрел в ту сторону и опустил голову.
— Знаешь, кто лежит в могиле? — спросил Глоба.
— Мне то не нужно, — выдавил из себя Мацько.
— Атаманша… А убита она какого числа — не припомнишь?
— Знать не хочу.
— Убита она двадцать восьмого октября. Седьмого декабря будет сорок дней, как ее похоронили. Значит, седьмого по всем правилам Корню следует устраивать большие поминки по усопшей. В церковь надо принести свечи, ладан и вино. И поп обязан сотворить сорокадневную молитву — сорокоуст. Не так ли? Но
в какую церковь пойдет Корень? Нет ему дороги ни в одно село. Он на могилу придет, это точно. Может, скажешь, еще какой есть народный обычай у православных?
Мацько исподлобья посмотрел на Глобу, не пряча удивления в растерянном взгляде.
— В сороковый день покойник ест в последний раз за хозяйским столом, — нехотя проговорил он. — А для того на стол для него ставят миску и кладут ложку.
— Вот тут он с ней так и попрощается, — сказал Глоба, ударив ладонью по столу. — Так согласен помочь, товарищ Мацько?
— Ежели нужно…
— А то сам не понимаешь! — жестко оборвал его Глоба.
Маня собрала в узелок харчей, и Глоба, в который уже раз, направился в больницу к дядьку Ивану, Но сегодня он сначала зашел к себе в кабинет и раскрыл дверцы дубового шкафа. Все полки его были забиты конфискованным оружием. Здесь были обрезы, отнятые у бандитов, длинные сабли — «селедки» городовых, найденные на чердаках городских домов, офицерские револьверы, крошечные браунинги в твердых лаковых кобурах, ножевые штыки.
Глоба внимательно повел взглядом снизу вверх и, подумав, вытащил из груды тяжелый обрез. Повертел его в руке и сунул под шинель.
В больницу его уже пропускали без всяких расспросов. Он вошел в крошечную комнатушку, где в одиночестве лежал Михно. Дядько Иван встретил Тихона смущенной улыбкой;
— Мне перед тобой совестно, ну что ты, ей-богу, так обо мне хлопочешь?
— Как здоровье, дядько Иван? Сегодня вы совсем молодцом. Ничего не болит?
— Сердце ноет. Как вспомню то, что было, так во мне все прямо замрет. Ну за что они сына? И земля их носит! Не провалится под ногами.
— Прошлого не вернешь, уже не переделаешь, как тебе хочется, — вздохнул Глоба. — Быстрее выздоравливайте. Дома вас ждут, тоскуют без хозяина.
— А он, Корень, опять наскочит, — пробормотал дядько Иван, глядя в потолок. — Тихонэ, треба с ним кончать.
— Да уж, наверное, скоро, — проговорил Глоба и достал из-под гимнастерки обрез. — Я на некоторое время отлучусь. Вас выпишут из больницы. Если Корень узнает, что вы вернулись, то он постарается…
— Это понятно, — усмехнулся дядько Иван, покосившись на оружие.
— Вот берите обрез для самообороны. Отличная штука. Из английского карабина. Заряжается сразу двумя обоймами по пять патронов.
Михно взял оружие и рывком сунул его под матрац.
— Вот за это тебе спасибо, Тихонэ, — с облегчением проговорил он. — Теперь я с длинной рукой. Пусть только сунется… Что Корень, что тот изверг рода людского, Павлюк! Кара их настигнет, видит бог!
— А теперь я прощаюсь, — сказал Глоба, поднимаясь с табуретки. — Желаю здоровья. Еще увидимся не раз.
Глоба выбрал двух наиболее надежных милиционеров, и они втроем, ночью, в снегопад, пешком пришли на хутор Зазимье. Было пятое декабря. Мацько вышел на стук в окошко и провел людей в клуню. Здесь, разговаривая шепотом, они начали размещаться среди ворохов соломы. Загнанная в будку собака зло повизгивала, пытаясь выбраться на волю.
— Собаку я утром отпущу, — сказал Мацько, — вы ее трошкы приучите к себе, чтоб не гавкала.
— Ну как тут, тихо? — спросил Глоба.
— Да приходил…
— Кто?!
— Корень приходил три дня тому назад, ночью. Один. С бомбой на ремне. Пьяный.
— А вы что?
— Налил ему стакан самогона. Дал шмат сала закусить.
— Ну, старая стерва, — выругался, не выдержав, один из милиционеров. — Банду прикармливаешь?!
— Брось! — одернул его Глоба и повернулся к Мацько. — Что он говорил?
— Молчал… Выпил и подался в лес.
— Еда у нас своя, — проговорил Глоба. — Воды принесешь. Поживем, пока Корень снова сюда не заглянет. От тебя ничего не требуется — только дверь оставь открытой, незаметно сбрось засов. Если пальба начнется — ложись на пол и не шевелись. Все, что он потребует, — делай.
— Нам он стакан не поднесет, сала не предложит — такой недогадливый, — ворчливо проговорил молодой милиционер Дмитро. — Тут хоть закоченей.
— Хватит, хлопцы. Не до самогона, — одернул Глоба. — Ложитесь спать. Я подежурю. Через три часа разбужу тебя, Дмитро. Оружие все время должно быть под рукой. Идите, товарищ Мацько. Считайте, что нас нет.
— Мы приснились, — хохотнул милиционер. Мацько не ответил, молча скрылся в ночи.
Двое суток они не выходили из клуни. Все попростуживались, говорили хриплыми голосами. Обросли щетиной. Часами лежали на холодной соломе, глядя в щели, как за стеной ветер наметает сугробы, гонит по двору опавшие листья и сосновые шишки. Собака все время лежит в конуре, свернувшись в клубок, взъерошенная шерсть ее забита снегом. Старый Мацько изредка выходит из хаты, колет дрова, набирает воды из колодца. В сторону клуни даже не смотрит.
— Бандитский пособник, — цедит Дмитро. — То он какой-то знак подает. Чтоб Корень не попался. Кулак чертов!
— Да перестань, — вяло тянул второй милиционер Егор Сидоров, человек уже в годах, полный, налитой какой-то воловьей силой. Он все больше спал, поражая всех своим безмятежным спокойствием. — Чего ты к нему придираешься? — продолжал он, подбивая под бока солому. — Он выполняет задание. Ему что сказали? Нас нет, мы, брат, как вроде невидимки.
— Нет у меня к нему доверия, — огрызался Дмитро. — Чего он тут на хуторе один живет? Он собаку один раз в день кормит. Мы тут хоть сдохни, он горячего пожрать не принесет.
Время тянулось бесконечно. Днем высыпались, зная, что Корень при свете не придет, а ночи были длинными, казалось, тьме не будет конца. В глубине леса выли волки. С треском падали на землю деревья под тяжестью снежных шапок. Окошко хаты желтело размытым пятном. Из трубы тянуло дымом, пестро вылетали искры. Холод входил в клуню, от него не было спасения — не помогала ни солома, ни какие-то твердые попоны, найденные в углу.
На третий день старый Мацько все же принес в клуню котелок с кипятком и плошку с медом. Этот сладкий чай пили с великим наслаждением, смакуя каждый глоток.
— Больше не надо, — сказал Глоба старику. — Перетерпим. Сегодня седьмое — надо быть начеку. Не топчи дорожку к клуне, пусть заметет.
Днем Дмитро сказал задумчивым голосом:
— А все-таки это дело не того… Он на могилу придет к родной жинке. А мы его в это время со спины — шарах! И повяжем.
Дремавший Глоба вскинул голову и резко повернулся к парню.
— Если б знал, что ты такое скажешь, — не взял бы тебя с собой ни за что на свете! — жестко проговорил он. — Пожалел? К кому ты имеешь сострадание?
— Да нет, я просто так, — смутился Дмитро и, закрыв глаза, с надрывом протянул — Господи, с тоски можно сдохнуть… Хоть приходил бы уже…
Ночью из леса к усадьбе кто-то подошел. Постоял у плетня, держась за кол, прислушиваясь к мертвой тишине, — ветер не гудел в деревьях, снег не мел по земле, ничто не нарушало безмолвия залитого лунным светом хутора. Загремела цепью собака, вылезая из конуры, — человек кинул ей какой-то сверток, и та зачавкала, шурша лапами по обертке. Человек медленно пошел к хате, ступая по нетоптанному снегу.
— Корень… Внимание, — чуть слышно сказал Глоба. Раздвигая солому, милиционеры легли рядом с ним, прильнув к щели.
Корень заглянул в хату, прижавшись лицом к заиндевелому стеклу окна, и несколько раз ударил в задребезжавший переплет. В хате вспыхнул огонь керосиновой лампы, спустя время звякнул отброшенный засов. Корень шагнул в дверь, склонив голову в проеме.
Немного подождав, Глоба осторожно скользнул из клуни, он не оборачивался, слышал за собой скользящие шаги милиционеров — каждый уже знал, что ему делать.
Они остановились у окна, там, за чуть желтым от света тонким ледком, видна была полутемная комната. За столом сидел Корень, он был в расстегнутом кителе, черная борода закрывала пол-лица. Нестриженые волосы и эта густая борода придавали его облику устрашающие черты, Дмитро, не выдержав, прошептал на ухо Глобе:
— Точный медведь… Пудов на шесть.
Старый Мацько бесшумно двигался вокруг Корня — затеплил свечу в углу под иконами, начал ставить на стол миски, бутыль, принес каравай хлеба. Корень сразу налил себе граненый стакан, чокнулся им о край пустой тарелки и выпил, запрокинув голову, — черная тень качнулась во всю стену.
Портупея с клинком, наганом и ручной гранатой висела на спинке кровати за его спиной.
— А ведь шел он от креста, — удовлетворенно проговорил Глоба и потянул из колодки заледеневший маузер. Поняв это движение, Дмитро вскинул винтовку, направив ее на окно. Тихон и Егор Сидоров направились к невысокому крыльцу. Они осторожно толкнули дверь, и она, без скрипа, ушла в темноту сеней. Не видя, куда ступают, шаг за шагом, стали продвигаться к следующей двери, которая вела в хату. Егор носком сапога зацепил какой-то бидон, он громко звякнул с жестяным визгом. От внезапности Глоба вздрогнул, даже чуть подался назад, но мысль сработала вмиг, он понял, что уже хорониться и медлить нельзя, — кинулся в темноту, больно ударился плечом о бревенчатую стену, торопливо нашарил дверь и, распахнув ее кулаком и коленом, ввалился в хату. Он увидел, как падает опрокинутый стол, летит на пол керосиновая лампа, а Корень, вытянувшись во весь рост, в наклонном движении рвется куда-то в сторону, вскинув над собой змеей взвившиеся ремни портупеи. И тут все поглотила тьма.
Глоба мгновенно прижался спиной к стене. Он услышал в сенях чей-то вскрик, ударил выстрел, забухали по деревянным ступеням тяжелые сапоги.
— Егор? — закричал Глоба.
Из сеней донесся хриплый голос:
— Порядок… Он на чердаке.
— Не лезь за ним, — сказал Глоба. — Мацько, зажги лампу… Она валяется возле стола… Да побыстрее же, черт возьми!
Слабый огонек вспыхнул в разгромленной комнатушке. Глоба окинул ее быстрым взглядом и вышел в сени, захватив с собой свечу от иконы. Егор Сидоров зажимал ладонью кровоточащий нос, в дальнем углу стояла лестница, и лаз на чердак под ней был раскрыт.
— Налетел на меня, как скаженный, — зло пробормотал Егор. — Точно камнями набитый!
— Немедленно во двор, — приказал Глоба, — он попытается разобрать крышу. Поможешь Дмитру. А тут я сам постерегу. — И громко добавил, чтобы слышно было в каждом углу хаты: — Будет пытаться бежать — стрелять на месте, точно бешеного пса.
Сам опустился под стену, положив на колени маузер. Теплящуюся свечку поставил в стороне. Черное отверстие лаза темнело на побеленном потолке. Глоба вытащил из кармашка штанов часы, отстегнул их от цепочки и положил перед собой. Повисла такая тишина, что стал слышен звон бегущих шестеренок.
— Корень, — наконец позвал Глоба, — долго будем молчать?
— На хрена ты мне потрибен? Не прибил я тебя тогда… — загремел на чердаке полный ненависти могучий голос. — Пальцы за то кусаю!
— Я вот что тебе скажу, — проговорил Глоба. — Тебе лучше нам сдаться по добру. Я, как ты понимаешь, тут не один. Со двора тебя ждут с подарками. Нам-то, в общем, безразлично, как тебя взять, — живым или мертвым. Пожалуй, с мертвым хлопот меньше. Но мы закон понимаем — просто так тебя не шлепнем, хотя ты того и заслуживаешь!
— Заткнись, ты! — на чердаке прогремело несколько выстрелов, пули вонзились где-то неподалеку от Тихона, взбив пыльные фонтанчики.
— Как я понимаю, — усмехнулся Глоба, — ты на горище сиганул в одном кительке. А сегодня морозец наподдал. Долго ли выдержишь?
После молчания голос на чердаке угрожающе проговорил: — Я вот гранатой. Где ты там, Глоба?!
— Сам себя и подорвешь, — ответил Тихон. — Выхода у тебя нет, Корень. Если долго будешь сопротивляться, то мы хату подожжем. Даю тебе на размышление… ну, сколько тебе надо времени?
В ответ снова ухнул револьверный выстрел.
— Понимаю, — согласился Глоба, — хочешь, чтобы выстрелы услыхали твои хлопцы? Они к тебе на помощь не придут.
— Это почему же? — прокричал Корень.
— А на всех дорогах у нас засады. Ты что нас, за дураков считаешь? Эй, Корень! Ты слышишь?!
Во дворе, один за другим, прогремели винтовочные выстрелы. Голос Дмитра весело прокричал:
— То он хотел сквозь солому продраться! Не на тех напоролся!
На чердаке послышались мерные шаги — Корень заходил из угла в угол, с потолка начала сыпаться меловая побелка.
— Ходи, ходи, — сказал Глоба. — Думай башкой… С оружием тебе отсюдова не уйти. Если так намечаешь, то ты уже стопроцентный мертвец! Ты видел, как мои ребята пули садят?
— А без оружия?! — ненавистно хохотнул Корень. — Пуля тут — пуля там. Какая разница?
— Гарантии не даю, — проговорил Глоба, — но разница есть. Тут тебе верняк! Это точно. А там… Кто знает, что может произойти за время следствия… Ох, долго оно будет тянуться. Пока до всех твоих грехов докопаются… А это время ты еще живой. Потом могут произойти события, а по ним — государственная амнистия. Случалось такое — заменяли расстрел сроком. Это тоже жизнь. Учтут, что ты добровольно сложил оружие, — для суда факт важный…
— Красиво поешь, сука, — раздался на чердаке тоскующий голос. — А как попадешь к вам… припомните все.
— А что ж ты думал? — удивился Глоба. — Ну, скажи, зачем убил начальника милиции Соколова? Ведь какой души человек! И того… Сидоренко, своего бывшего дружка.
— Сидоренко — иудово семя! — закричал Корень. — Его еще мало… Снюхался!
— Ну, а Соколова? Ведь он сам, без оружия, направился к тебе, чтобы все сделать… Спасти тебя от рокового шага. Надеялся тебя остановить! Чтоб ты в дерьмо не шагнул по горло! Остеречь хотел! Дать тебе возможность остановиться!
После тишины на чердаке послышалась возня, и Корень сказал, почти наклонившись у лаза:
— То не я… То Павлюк. Мы было уже с ним договорились… С тем Соколовым. Да тут Павлюк зашел к нему со спины и врезал ножом. Я кинулся, схватил Павлюка за горлянку… Ну, не убивать же своего? Дальше мне, значит, ходу уже не было. Если камень с кручи покатился…
— Кому ты только волчьи ямы не ставил, — усмехнулся Глоба. — А время пришло — и сам попался в ловушку.
— Нет такой еще, чтоб Корня намертво схватить! — выкрикнул голос на чердаке.
— Ладно, Корень, — устало сказал Глоба, — отдыхай… У нас времени еще много. Мы никуда не торопимся.
Все опять погрузилось в тишину, только звонко цокотали шестеренки в серебряной луковице часов да изредка потрескивало пламя свечи, ее воск оплывал, растекаясь лужицей по доскам пола. Дверь из сеней была распахнута, леденящий холод шел со двора. Глоба поднял воротник шинели, поджал ноги, руки сунул в рукава, маузер положил на колени.
Хотя и тревожно стало на улице после выстрелов Корня, но Глоба чувствовал, что на подмогу бандиты не придут, он уже знал — зима наступила суровая, большая часть шайки разошлась по своим селам, там, в Волчьей Яме, осталась горстка людей, они на помощь атаману идти не решатся. Страшно им сейчас, в такую застуженную ночь, среди мрачного леса. Не до батька, шкуру бы свою спасти. Остались в Волчьей Яме самые отпетые, которым идти некуда, — ни кола, ни двора. Одно у них тоскливое желание — отсидеться в глубине леса до первого тепла. Авось, батько уведет за собой погоню подальше от их лагеря. Может, ценой своей жизни поможет оттянуть неминуемый конец…
«Как он там терпит, уму непостижимо — мороз жжет каленым железом», — подумал Глоба.
— Эй, Корень, — позвал он, — ты что… Заснул?!.
— Стреляйте, что ли! — вспыхнул голос на чердаке. — Ну иди! Лезьте ко мне!!
— Зачем? — спокойно спросил Глоба.
— Ну, так, если по-честному, — закричал Корень, — кинь на горище мою шубу! Или я не человек?! Хотите выморозить, как крысу?
— А за что ты воевал, Корень? — спросил Глоба.
— За Украину без комиссаров, без ваших бисовых кооперативов! Без москальских гвоздей, мыла и вонючих тракторов! Сами все себе сделаем! А вы гэть! — заорал Корень.
— Ну, ты даешь! — засмеялся Глоба. — Что же то за идеи, если сидишь ты на чердаке, в самом деле, точно загнанная крыса. Последний бандитский атаман на всю губернию! Погибаешь от холода, дрожишь, как последний шелудивый пес… А вокруг — Украина! Куда ни посмотришь… Украина! И никто тебе на помощь не идет, не от кого тебе ждать спасения. А хочешь — мы тебя пальцем не тронем? Утром мои ребята сходят в соседние села и созовут людей. К этой хате. К нам-то ты не очень спешишь, а к ним сойти придется… Станут они тут стеной — кого ты грабил, последнее брал… у кого дом спалил, кормилицу корову в Волчью Яму увел… У кого детей побил… Они тебя, гада, на клочья разнесут! — Голос Глобы зазвенел гневом: — И я такое сделаю! Слово чести! Если не выйдешь с чердака… Только начнет светать — сразу созову людей. Я свое слово держу — быть тебе сегодня с глазу на глаз с трудовым народом. Ты уж ему объясни насчет Украины без комиссаров и москальских гвоздей. А я постою в сторонке, послушаю. Так и знай, на ветер слов не бросаю! Все. Ложись спать, Корень. Утречком поговорим.
В наступившей тишине был слышен только осторожный шорох соломы, Глоба догадывался, что Корень прорывает в крыше дыру, но он знал — двое милиционеров во дворе не дадут атаману бежать. И словно отвечая его мыслям, один за другим грохнули винтовочные выстрелы.
— Погляди, — закричал со двора Дмитро, — хотел на дурыку взять… Пробурил крышу аж под самым карнизом!
— Ну и собаки! — выругался Корень. — Вцепились, как шавки! Спасу от вас нету. Ног уже не чую… И умереть по-справжнему не дадут. Эй, вы! Шакалы! До вас просьба… Погибну — так поховайте меня рядом с жинкой. Любил я ее, может, из-за нее и погибаю? Пришел на поминки… А видать, поминать нас обоих надо.
— Не причитай, — оборвал его Глоба. — Давай спускайся вниз. Одна у тебя надежда — на Советскую власть. Может, когда начнет она твои грехи на учет брать, то просчитает что-то по ошибке или простит по своему благородству.
Долго длилось молчание. Свеча на полу почти совсем сгорела — легкий огонек плавал в желтой лужице воска. За распахнутой дверью сеней начинало заниматься утро — медленно проступали из серой тьмы ближайшие деревья, снег уже казался свежей ватой, где-то робко обозвалась какая-то птица.
— Эй, Глоба, — раздалось с чердака. — Убери пистоль. Твоя взяла.
Корень подошел к краю лаза и швырнул вниз свою портупею, она покатилась по ступеням лестницы, гремя ножнами клинка, ручной гранатой и тяжелой кобурой с револьвером. Затем, спиной к Тихону, начал опускаться сам атаман — медленно, с трудом переставляя ноги. Когда он обернулся, Глоба не узнал его — таким изнуренным, с погасшими глазами было лицо бандита. Все его тело колотила дрожь, которую Корень не мог унять. Стуча зубами, он выдохнул чуть слышно:
— Дай самогона… Не пожалей. Помру.
— Все сюда! — позвал Глоба милиционеров, и те ввалились в сени, закоченевшие, с посиневшими носами, но возбужденно радостные, закидывая винтовки за спины.
— Эк его лихоманка трясет, — засмеялся Дмитро. — А я, честно говоря, думал, он все-таки в атаку пойдет… Но, видать, слаб оказался.
Глоба достал из кармана веревку, туго стянул за спиной Корню руки. Пошел в хату и вернулся с шубой и стаканом самогона. Шубу набросил на бандита и застегнул впереди на пуговицы. Поднес стакан к губам Корня, и тот начал пить, клацкая по краю стекла зубами.
— Мацько, — приказал Глоба, — запрягай коня в сани.
Из хаты показался старик-хозяин, он старался не глядеть на связанного Корня.
— Мы вашу лошадь забираем… Ее вернут, вы не беспокойтесь. И вообще, живите спокойно. Никто вам плохого теперь не сделает.
В сани навалили сена, положили на него закутанного в шубу Корня, сами сели по бокам, и Глоба взмахнул кнутом:
— Но-о, милая!
Лошадь вывернула сани из ворот, потащила их по дороге, засыпанной снегом. Все дальше уходил хутор с одиноко стоящим у плетня старым Мацько.
Морозный пар бьется у губ людей, курчавый иней оседает на воротниках. Солнце поднимается между темных стволов деревьев, красное, напитанное свекольным соком. Полозья визжат на поворотах.
Через час вдали показалась дощатая будка полустанка. Покосившаяся, она торчала у железнодорожного переезда. Рабочий поезд здесь останавливался на две минуты. Где-то за лесом уже слышалось его тяжелое пыхтенье, белый столб дыма тянулся высоко в небо.
— Мы посадим Корня в вагон, — сказал Глоба, — главное — успеть бы. А ты, Дмитро, гони сразу до следующей станции. Там есть телеграф. Пусть сообщат в губмилицию — надо нас встретить на вокзале. А теперь поднимем его, братцы.
Показавшись из-за мыса синего леса, поезд приближался. Корня подняли с саней, крепко взяли под локти, — он стоял не шелохнувшись, спеленутый шубой. Вагоны начали замедлять движение, в окнах появились любопытные лица пассажиров. Собравшись с силами, Корень вдруг рванулся, стараясь плечами отшвырнуть от себя вцепившихся в него людей, с бешеной яростью ринулся телом к проносящимся мимо колесам, но все трое мертвой хваткой впились в шубу, и он, поняв безнадежность своего порыва, сразу ослабел, вяло поник в милицейских руках, Поезд остановился. Глоба распахнул дверь, быстро залез на верхнюю ступеньку и потянул вверх тяжеленного Корня, стоящие на земле Дмитро и Егор подпихнули его снизу, как мешок с картошкой, и бандит ввалился в тамбур. Поезд тронулся. Егор ухватился за поручень. Дмитро замахал шапкой, торопливо шагая рядом с вагоном.
— Сообщи-и! Не теряй времени! — закричал Глоба, высовываясь из вагона.
На вокзале их уже ожидал «форд» и отделение конной милиции. Возбужденный Лазебник, в зеленой бекеше, отороченной мехом, в кубанке, с румянцем на щеках, первым бросился навстречу Глобе и Сидорову, которые вели по перрону равнодушно упирающегося бандита.
— Ну, брат, ты отличился! — заговорил замначгубмилиции. — На ветер слов не бросаешь!
Лазебник остановился перед Корнем и, вскинув ему голову мягким нажимом кулака под подбородок, весело проговорил, пыхкая морозным паром:
— Здоров, атаман! Отгулял? Пришло время каяться! В машину его, хлопцы!
Корня посадили на заднее сиденье, по бокам опустились Глоба и Егор, Лазебник, повернувшись к шоферу, махнул рукой:
— Гони!
Под цокот копыт, резкое завыванье гудка кавалькада двинулась по улице города, привлекая к себе внимание прохожих. Глоба покосился на Корня и увидел, что тот словно бы проснулся, — теперь из глубины шубы ожившими глазами он смотрел на проносящиеся мимо улицы, на его лице даже появилось загадочное выражение какого-то скрытого удовлетворения. Он тянулся из шубы, щекой отодвигая тяжелый ворот, словно хотел, чтобы его увидели из машины, слабая усмешка поплыла по обметанным лихорадкой губам.
В губмилиции Корня ввели в кабинет к Рагозе, с него стянули шубу, его развязали, и он стал посреди комнаты — лохматый, с цыганской бородой, в полузастегнутом кителе, под которым была видна грязная рубаха, отекшие кисти рук казались красными клешнями. В дверях толпились служащие — весть о том, что привезли грозного и неуловимого Корня, уже облетела здание. К Глобе протиснулся Замесов, ударил ладонью по плечу, удовлетворенно улыбаясь:
— Поздравляю! Отличная работа! Просто завидую…
Рагоза одобрительно улыбнулся Тихону и незаметно для людей легонько подмигнул глазом. Кныш обнял Глобу, шепнул на ухо с хитрецой:
— С тебя бутылка… Знаю, где достать.
Корень поначалу затравленно глядел в пол, потом вскинул глаза и увидел веселые лица, ухмылка поползла по его лицу. Ему словно бы только сейчас ударил в голову самогон, выпитый еще на хуторе, — глаза масляно заиграли, мускулы тела незаметно обмякли, он пошатнулся, хриплый голос его загудел в кабинете:
— Шо?! Не видели такого?! Я — Корень! Гроза губернии! Может, думаете, шо я расколюсь? Я батько Корень! Вам это говорит?! Да меня хоть каленым железом печите… Я Корень!
— Всем посторонним выйти из кабинета, — приказал Рагоза и, скрестив на груди руки, стал молча ожидать, когда люди покинут комнату. Корень провожал взглядом каждого уходящего, и уже сбивчиво, с каким-то отчаянием, несвязно начал кидать возбужденные слова:
— Я вам еще не то скажу… Я був идейный! До вас… И мне… Вы послухайте меня! Кров людска… Я багато знаю…
Дверь хлопнула. Наступила тишина. Рагоза показал Корню на старый, в трещинах, в потеках застывшей краски грубый табурет. Проговорил ледяным голосом:
— Садитесь.
Корень окинул взглядом дубовые стулья, старинный тяжелый стол, накрытый зеленым сукном, и взор его обреченно уперся в эту одиноко стоящую посреди комнаты неуклюжую скамейку с истертым сиденьем.
Корень заговорил. Он сознавался с трудом, тянул время, но, начав говорить, уже шел до конца. Начал он с тех, которые разбрелись по селам, отсиживались дома до первого тепла. Таких набралось пятнадцать человек. Всех их свезли в губернию. Глоба потерял счет суткам. Маня вся извелась, ожидала его. Бесконечные обыски, засады, собирание самых различных сведений… Женские следы, плач детей, проклятья мужиков, которых забирали… У бандитов были жены, матери, ребятишки, они рыдали, бились в горьком отчаянии. Каждая хата становилась адом, а он, Глоба, посланцем самого дьявола. Получалось так, что с его появлением рушились семьи, дети становились сиротами, женщин он обрекал на одиночество. С каким бы упрямым отчаянием ни выбрасывал он перед ними запрятанные в их погребах награбленные вещи, ножи и обрезы, еще пахнущие порохом, — все равно в их глазах он был лишь ненавистным и страшным вестником бед и несчастий. Он мог бы согнуться под тяжестью возложенных на него обязанностей, если бы не глубокая вера в беспристрастность вершащегося суда. Он знал, что не имеет никакого права отступить от закона ни на шаг, какие бы слезы, уговоры и посулы не склоняли его к тому. Не могло быть никакой слабости — каждое его движение становилось известно людям, все, что он говорил, разносилось на много верст окрест, неизвестно какими путями достигая самых заброшенных сел.
И все же никогда еще ему не было так тяжко — он даже почернел от бессонных ночей и невеселых дум. Предчувствуя недоброе, бандиты пытались скрыться — таких настигали в дороге, они отстреливались до последнего патрона, в драке их вязали веревками и, плюющихся кровью из разбитых губ, изрыгающих ругательства, с налитыми ненавистью глазами, везли через села на санях в губернский город. Сколько раз, просыпаясь поутру, Глоба видел на ступеньках флигеля молчаливые фигуры женщин. Они приходили сюда из отдаленных хуторов, неприкаянно тихие, с одной-единственной надеждой спасти хозяина или сына. И он, Тихон, каждый раз выслушивал их, не имея права ни на месть, ни на проявление милосердия.
— Ничем не могу помочь… Суд решит, — говорил он, упрямо глядя себе под ноги.
— Господи, — сказала как-то Маня, — да ты и вправду железный?!
— В эти дела, — холодно оборвал он, — прошу не встревать.
Выписали наконец из больницы дядька Ивана. Бледный, точно осенний лист, сжигаемый каким-то внутренним огнем беспокойства, Михно, прощаясь с Глобой, только спросил:
— Павлюка поймали?
— Нет еще.
— Мне бы ему в зенки поглядеть, — прошептал дядько Иван. — За что же он моего хлопца?
— Он за все ответит, — успокоил его Тихон.
— Он перво-наперво мне должен ответить. Поглядеть бы ему, гаду, в зенки!
После рождества, когда стояли удивительно тихие, но страшно морозные дни, что, по приметам стариков, обещало урожай на хлеб, из леса вышли последние бандиты. Их было двенадцать человек, все обмороженные, изъеденные голодухой и простудой, покрытые чирьями, в заледеневшем тряпье. Они выбрались на дорогу из глухомани Волчьей Ямы, пугая собак, миновали крайние хаты ближайшего села и свалили на крыльцо сельрады всю разбойную сбрую — куцаки, наганы, самодельные ножи…
Среди сдавшихся Павлюка не было. Его розыск объявили по всем уездам.
Женщина остановила Глобу неподалеку от церкви. Она испуганно оглянулась и тихо сказала:
— День добрый, гражданин начальник. Не узнали, наверное?
— Нет, я вас узнаю, — ответил Тихон, внимательно посмотрев на пожилую женщину в темном шерстяном платке и желтом кожухе.
— Я жинка Павлюка, — проговорила женщина, — того самого…
— В чем дело? — бесстрастным голосом спросил Глоба.
— Я до вас, гражданин начальник. Поймайте его, наведите праведный суд.
— Когда я арестовывал Павлюка, это вы крикнули ему, чтобы он спасался. А теперь вы хотите, чтобы я его арестовал?
— Житья нет никакого, — всхлипнула женщина.
— Где же он? — поинтересовался Глоба.
— Вот я и кажу! — плача, воскликнула женщина. — Перед людьми меня позорит, детей срамит. Одна к вам просьба, гражданин начальник, уймите вы проклятого кобеля. Седина в бороду, а он по молодкам шастает. Придет из леса, Маруська ему баню истопит, чисту одежду даст, на мягку перину уложит. А через улицу родная хата, жинка законная, дети родимые. Да пропади же он пропадом! Бандитское отродье! Тьфу на него! А родичей у него полное село, все надо мной смеются…
— Вы кому-нибудь рассказывали о том, что собираетесь говорить со мной? — перебил Глоба.
— Да нет! — воскликнула женщина. — Що я, така дурна?
— Идите домой и никому ни слова, — проговорил Глоба. — Какая это Маруська?
— Да солдатка разведенная! Дочка мельника.
— Идите домой, — успокоил ее Глоба и, когда она, чуть согнувшись, боясь поскользнуться на заледеневшей дороге, торопливо засеменила к церкви, долго смотрел ей вслед. Затем пожал плечами, сердито сплюнул и зашагал к милиции.
В Смирновку Глоба отправил милиционера Егора Сидорова — тот переоделся в крестьянскую одежду, сел в сани и поехал в село, где должен был жить несколько дней под видом дальнего родственника Пылыпа Скабы, того самого, который первым сообщил когда-то о своих подозрениях насчет Павлюка. Через неделю Егор передал Глобе записку: «Жду вечером у въезда».
Глоба оделся потеплее — ватяные штаны, под шинелью меховая душегрейка, валенки. Так же экипировался и милиционер Дмитро. Они сели на коней и неспешно выехали из города, когда солнце уже начало клониться к земле. Приблизились к селу уже в темноте, редкие огоньки теплились в ночи. У въезда их встретил Егор Сидоров, только ему ведомыми путями они задами огородов пробрались к хате Скабы, поставили коней в клуню, выпили горячего молока по целому кухлю.
— Все так, как говорила Павлючиха, — сказал Егор. — По субботам бандит выходит из леса. Мельникова дочь Маруська ему баню топит. Потом они гуляют. Бывает, что по несколько дней он из хаты не выходит.
— И до сих пор его никто не выдал? — удивился Глоба.
— Павлюк тут родился. Полсела его ридни. Мы еще не знаем, что то за люди. Богатое село. Учительку здесь убили.
— Он уже пришел? — спросил Глоба.
— Нет, — ответил Егор. — Он появляется где-то за полночь. Но надо стеречь, ждать во дворе.
Они вышли в огород, и Егор повел их прямо по снежной целине, обходя мерцающие огни. Выбрались они из сугробов возле большой хаты с высоким крыльцом. Черно было в окнах, дверь плотно затворена, лишь на отшибе в бревенчатой бане из трубы летели быстрые искры, там кто-то плескал водой, гремел ушатами.
Милиционеры легли у окон — пробили снежный наст, разгребли ямы и влезли в ледяной холод по уши. Для себя Глоба выбрал дверь и окошко, — отсюда он увидел, как из бани несколько раз проскочила в хату молодичка в одной юбке с накинутым на плечи легком платке, шлепая калошами, надетыми на босу ногу.
Прошел час, два, потянулся третий — давно уж потухли все огни, село погрузилось в глухую темень, мороз так допекал, что не помогали ни ватные брюки, ни душегрейки — холод скручивал судорогой все мышцы. И напала вялая сонливость — лишала сил, веки стали точно отлитыми из чугуна. «Ну что за жизнь, что за такая работа, — почти засыпая, думал Глоба, — есть теплые хаты, мирная жизнь. А тут как неприкаянные… Только бы не заснуть. Обманули они нас всех — никакого Павлюка нет. Женщина топит баню для себя… Вот уже на востоке светает, прорезалась полоска света. Ночь посерела. А Павлюка все нет. Ребята заснули? Черт, и не крикнешь, не позовешь…»
Ни Дмитрия, ни Егора он видеть не мог и беспокоился, что те не выдержали и заснули, хотя уже видел, что сегодня Павлюк не придет, — ночь кончалась, наступало утро, из темноты проступил угол плетня, голая ива, ноздреватое поле огорода.
«Надо уходить, пока не поздно. Может быть, в следующий раз больше повезет. А сейчас уходить… Пока не заметили. Переднюем в хате Скабы и выйдем на следующую ночь. Баня истоплена. Все на свете отдал бы, чтобы залезть на горячие полки, в раскаленный каменный пар…»
И в это время на окраине села грохнул выстрел, затем второй, третий… пятый. И снова наступила тишина. В этом зле вещем безмолвии возникла какая-то звенящая тревога, которая заставила Глобу сразу приподняться из снега, — он еще ничего не осознавал, но что-то уже толкало его вперед. Пять выстрелов один за другим. И тишина… Кто?!
Глоба вскочил на ноги и тяжело побежал по дороге, на ходу вытаскивая из колодки маузер. Он не обращал внимания на там и тут затеплившиеся огни в окнах хат, бежал изо всех сил, задыхаясь от морозного воздуха, топая по твердой дороге подшитыми подошвами валенок. Вот, кажется, и край села, там дальше — одиноко стоящие хаты, поле и лес… Кто-то на дороге!
Глоба остановился перед лежащим поперек дороги телом, сунул маузер под локоть, перевернул человека на спину — и сразу узнал Павлюка. Тот был уже, по всей видимости, мертв, на груди расплывались темные пятна. Возле руки, утонувшей в снегу, чернел револьвер — выронил падая.
Глоба растерянно оглянулся — кругом было пустынно, ни единого человека в просвете заснеженной улицы. Но Павлюк был убит. Ночью! Выстрелами в упор! И это кто-то сделал! Не сам же он себя, черт побери!
Ни единой живой души…
Глоба начал медленно ходить вокруг тела, внимательно приглядываясь к поверхности снега. Чуть в стороне от дороги, в мягких ямках, он нашел отстрелянные гильзы. Поднял, покатал их на ладони. Единственное доказательство. Пять выстрелов в упор. Гильзы сильно пахнут горелым порохом. Гильзы несколько иной формы, чем от русских трехлинеек. Ясно — не от нашей винтовки. Такие где-то видел. И не так уж давно. Где?!
И покрылся мгновенно потом. Стиснул в ладони найденные гильзы, закрыл глаза. И снова разжал пальцы — вот они, латунные пустышки с зауженными горлами и пробитыми капсюлями в плоских донышках. Он видел их раньше — гильзы от обреза английского карабина, того самого, который Глоба собственными руками вручил в больнице дядьку Ивану — Ивану Михно.
Глоба прошел чуть вперед и увидел уходящие к лесу узкие полозья саней, а вот тут, за плетнем, сани стояли перед тем, как лошадь вынесла их на дорогу. Теперь не догонишь, далекий лес уже принял беглеца.
«Значит, Иван Михно отомстил — поглядел „в зенки“ убийцы своего сына. И собственной рукой привел приговор в исполнение. Даже не думая, что ему будет за такое… Страшно подумать, бандиты не добили — Советская власть посадит за тюремную решетку. За самовольную расправу. Тебе ли, дядько Иван, с простреленными легкими и контуженой головой? Не мог подождать — мы бы его взяли сами! Зачем так пересеклись сегодня наши пути? Ты думал скрыться, но судьбе было угодно стать мне на твоей дороге…»
Глоба разжал пальцы и посмотрел на пять пустых гильз. Что делать с ними? Вот доказательство вины Михно… Тихон шагнул к плетню и высыпал гильзы на землю, припорошенную снегом. Подошвой сапога утоптал их поглубже, чтобы никто не нашел.
Из ближайшей хаты вышел мужик, в другом дворе появилась женщина, а там, по улице уже кто-то медленно движется, испуганно присматриваясь к незнакомому человеку, стоящему у тела убитого. Тяжело дыша, из-за угла выбежал милиционер Дмитро, за ним спешил Егор Сидоров. Запыхавшись, они перешли на шаг, еще издали разглядев Павлюка.
— Он?! А мы ждем… Смотрим — вас нет! И ходу сюда…
— Здорово вы его, товарищ Глоба!
Тихон молча начал засовывать маузер в колодку, не попадая в нее тонким стволом. Ответил, стараясь не смотреть в их лица:
— Это не я.
— Кто же?! — воскликнул Дмитро, поглядев в сторону леса и назад, на стоящих у плетня людей.
— Не имею понятия, — пожал плечами Глоба. — Я прибежал… Он уже убит.
Егор Сидоров поднял из снега револьвер убитого и заглянул в барабан, прощелкав его по кругу.
— Патроны целы. Видать, не успел. Значит, можно ставить точку. Банде натуральный конец. Этот — последний. Чего вы такой нерадостный, товарищ Глоба?
— Позовите председателя сельрады, — хмуро приказал Глоба, — надо составить протокол.
Наступили времена затишья. Глобе дали короткий отпуск. За успешную операцию по ликвидации банды Корня он был отмечен в приказе по управлению, его наградили шинельным отрезом и памятными часами с надписью. Эти дни, наполненные отдыхом и ничегонеделанием, какой-то непривычной для него праздностью, стали самыми счастливыми в ряду дней, принесших ему когда-либо ощущение счастья. Он все время был с Маней, вся ее жизнь проходила перед ним с утра до утра.
Он видел ее просыпающейся, когда сон медленно покидал ее и в этом пробуждении ее было полно беззащитной слабости. Смотрел, как она собиралась ко сну — сидит в ночной рубашке на краю постели, задумавшись, с распущенными по плеч} волосами и шпильками в зубах. Взгляд устремлен куда-то, шея напряжена, по-девчоночьи подвернуты под себя ноги, белые их колени остры. О чем она сейчас? Маня ждала ребенка, и Тихон однажды уже слышал, как в ней мягко толкнулся он, в этот момент его поразило лицо жены — глаза, губы, все оно высветлилось изнутри радостным удивлением. И в этот же миг Тихон ощутил щемящее чувство жалости к тихой женщине, покорно прильнувшей к нему, она показалась ему совсем беззащитной.
— Я вас никому не отдам, — прошептал он, потрясенный прожегшим его чувством любви.
— А нас никто не отбирает, — выдохнула она возле его уха.
— И все равно не отдам, — упрямо повторил он, не находя слов, которые смогли бы сказать о том, что он испытывал сейчас. — Чего ты хочешь? Я все сделаю.
— Уезжать нам отсюда надо, — чуть помолчав, сказала она. — Родится ребенок. Кто за ним будет ухаживать? А в городе моя мама. Она нам поможет. Ты же не хочешь, чтобы я стала домохозяйкой? Я привыкла жить среди людей. И потом в городе детские врачи. И условия… А здесь старый флигель. Я воду ношу ведрами. Дрова…
— Я их тебе наколол на всю зиму, — улыбнулся Тихон.
— Я не об этом, — возразила она. — У мамы в заводском доме паровое отопление. Конечно, я понимаю, у тебя тут важные дела, но если можно будет перевестись в город, то ты не будешь возражать?
— Нет, нет, — сразу же ответил он. — Пусть только предложат…
Так говорили они теперь почти каждую ночь, в темноте комнатушки шепотом возводя свое будущее, и оттого, что оно получалось не таким уж и плохим, а даже наоборот, — здание вырастало, становилось большим, с крепкими стенами и крышей, и сияющими окнами, все, казалось, было почти рядом — руку только протяни.
— Лазебник у себя? — спросил Глоба, на что Замесов, вытянув из зубов свою прямую английскую трубку, молча показал на дверь кабинета.
Глоба постучал костяшками пальцев по филенке, шагнул вперед:
— Разрешите? Прибыл…
— Садись, — Лазебник махнул рукой на стул и, сунув руки в карманы синих галифе, зашагал из угла в угол, искоса посматривая на неподвижно застывшего Тихона. Неожиданно опустился в свое кресло и грудью подался к Глобе, процедив с неприкрытым презрением: — Ну что мне с тобой делать? А я в тебе никогда не ошибался… Чувствовал шкурой, что ты за тип!
— Не понимаю, — растерялся Тихон. — О чем вы, Семен Богданович?
— Молчать! — шлепнул по столу ладонью Лазебник. — Невинные глазки строишь?
— Я не позволю… — начал подниматься на ноги Глоба, но Лазебник яростно выкрикнул:
— Сидеть! Позоришь Советскую власть, негодник? Бело-бандитские методы вводишь в нашу красную милицию?!
— Да в чем я виноват?! — взмолился Глоба.
— Убийца ты, вот кто! — рявкнул Лазебник. — И судить тебя будет наш советский… Наш народный справедливый суд! И не один год будешь помнить боками арестантские нары! Могу гарантировать!
— Если вы сейчас же не скажете… я не отвечаю за себя! — Глоба положил руку на стол, нашарил ладонью пресс-папье и стиснул его в побелевших пальцах.
— Играешь театр? — усмехнулся Лазебник, но откинулся на спинку кресла, замедленным движением раскрыл папку, лежавшую перед ним, гнусаво-издевательским тоном начал читать: «Рапорт… Мною, Глобой Тихоном Федоровичем, начальником уездной милиции, февраля двадцать третьего… в пять часов утра… на улице села Смирновка обнаружено тело убитого бандита Павлюка…» — обнаружено?! Поразительное открытие. Читаем дальше: «На теле пять огнестрельных ран…» Пять?! Жестоко, скажу вам прямо! Для убийства и одной хватает. «Убийца не обнаружен…» Лихо написано! Пять выстрелов! Невидимка хлобыстнул в упор пятью выстрелами. И пропал! Растворился! Как понимать это, Глоба?
— Как написано, — угрюмо проговорил Тихон, еще не соображая, чего от него хочет Лазебник. — Павлюк убит пятью выстрелами в упор. Убийца неизвестен. Следы саней вели в лес… Там терялись.
— Ну, а следы убийства? — иронично спросил Лазебник. — Следы ног… Стреляные гильзы в конце концов?
— Нет, — мотнул головой Тихон, — гильзы не нашли.
— А почему? — воскликнул Лазебник.
— Их там не было.
— Правильно! — с нажимом сказал Лазебник. — Их подо брал тот, кто убил Павлюка.
— Возможно, — коротко проговорил Глоба, не глядя на Лазебника, который вдруг глумливо усмехнулся.
— А кому об этом знать, как не тебе, Глоба? Ведь это убил Павлюка. Ты! Устроил свой бандитский самосуд!
— Какая ерунда! — отшатнулся Тихон. — Как я мог, вы сами подумайте?!
— Очень просто, — отчеканил Лазебник. — Вышел из засады возле хаты и пошел навстречу Павлюку. Тот, ничего не подозревая, шагал по дороге. Ты встретил его. И — из своего маузера. Он не успел в тебя пальнуть. Ты его пятью выстрелами сразу, в упор! И без суда и следствия.
— Товарищ замначгубмилиции! — звенящим от волнения голосом проговорил Глоба. — Это поклеп! Ведь были свидетели!
— Да, — быстро согласился Лазебник, — твои милиционеры! Когда они подбежали, ты стоял над трупом убитого с маузером в руках. Гильз на снегу уже не было. Так они говорят! А со двора соседней хаты, ты этого знать не мог, твою расправу над Павлюком видела одна женщина. А из окна угловой хаты на тебя смотрела другая, страдающая бессонницей. Вот как тебе не повезло, Глоба. И старик есть. Тоже свидетель, подтверждающий. Могу тебе сказать: мы тут своими силами провели кое-какое
следствие. Свидетельские показания в деле.
Лазебник небрежно похлопал по папке, голос его наполнился желчью:
— Ты не можешь отрицать… Все тут зафиксировано. Я думал, что ты осознаешь. Небось, думаешь сейчас: чего это он пристал с тем бандитом? Туда ему и дорога! Знаю твои мысли, Глоба. Вот так скажу тебе: это не бандита ты свалил на землю пятью выстрелами в упор. Это веру в Советскую власть расстрелял! Год тому назад наше государство предприняло целый ряд мероприятий по укреплению законности. Создана судебная система: нарсуд, губернский, Верховный суд… Изданы основные кодексы законов. Только законная власть имеет право наказывать и прощать, карать своей суровой рукой преступников или миловать их. А ты взял эти функции на себя. Мелок еще для такого дела! И подумай, какое ты для своих преступных действий выбрал время? Вроде бы специально. После продразверсток, насильных трудовых мобилизаций и повинностей мужик мечтает! во сне видит! молится за то в церквах! чтобы наши идеи были подтверждены твердыми, справедливыми законами! И мы им такие дали… Один из них гласит: никто, какой бы властью он ни был облечен, не имеет права вершить самосуд. А ты, с хладнокровием профессионального убийцы, поднял свой маузер и всадил пять пуль… И неизвестно, как и чем аукнется твое преступление… Сдай свое оружие!
Глоба слушал с ледяным вниманием, не сводя глаз с раскрасневшего в гневе лица Лазебника, но, странное дело, он мало понимал из того, что тот говорил, его как будто оглушили, и это мешало по-настоящему понять, какая на него опасность обрушилась. И все же чувствовал, как подлый страх обсыпает морозом спину, тонкими иголками закололо в кончиках пальцев, нерасстегнутая шинель чугунной скорлупой стиснула грудь, не давала глубоко вздохнуть. Глоба сказал с пугающим его самого холодным спокойствием:
— Я пойду к товарищу Рагозе.
— Товарищ Рагоза отсутствует, он вызван в центр. Сдайте оружие. Вот ордер на арест.
Возможно, видимая бесстрастность, с которой Глоба сейчас слушал и говорил, встревожила Лазебника. Он испытующе поглядел на Тихона, тревожно произнес:
— Ты, наверное, не понимаешь, о чем идет речь? — и закричал, повернувшись к двери: — Замесов!
Когда сотрудник вошел в кабинет, пальцем показал на Глобу:
— Забери у него оружие.
Замесов прикусил зубами трубку и, прищурив от дыма глаз, молча начал снимать с Тихона маузер.
— Вместе с Кнышом отвезете его в допр, — приказал Лазебник. — Там уже знают. Можете взять машину.
— Пошли, — вздохнул Замесов, и тот зашагал к дверям, громко стуча подковами сапог по гулким паркетинам.
«Форд» неспешно катил по улицам — мимо плыли сугробы снега, заиндевевшие окна, гирлянды сосулек на карнизах, белые крыши с печными трубами, измазанными сажей. Глоба безучастно качался между Кнышом и Замесовым, слепо вперившись в затылок шофера, не обращая внимания на перебегающих через дорогу людей, мальчишек, пытающихся уцепиться проволочными крючками за машину. Он не видел солнца, неба — лицо его ничего не выражало.
Кныш осторожно снял с его головы милицейскую фуражку, покрутил в руках и, бережно отогнув с внутренней стороны медные усики, взял с околышка кокарду — щиток с перекрещенными серпом и молотом. Он сунул ее себе в нагрудный карман гимнастерки, смущенно пробормотав:
— Там тебе ни к чему… Вернешься — сам приколю.
Глоба и этого, кажется, не заметил, даже бровью не повел. Замесов покосился на него и болезненно поморщился. Он достал свой резиновый кисет и отсыпал добрую половину табака в оттопырившийся карман глобовской шинели. Туда же сунул коробок спичек. Потом сказал, положив ладонь на плечо Тихону:
— Когда придешь в себя, вспомни, что я говорю. Мы были в той Смирновке, вели кое-какое расследование. Тебе не повезло — свидетели дудят в одно: они тебя видели. На теле бандита пять дырок насквозь. Ни пуль, ни гильз. Если хочешь себя спасти, то перетряхни. память. По секундам! Может, за что-то и зацепишься. А теперь — приехали. Выходи!
Машина остановилась у плохо выбеленной известкой высокой кирпичной стены. Поверху тянулись ряды колючей проволоки. На углах высились сколоченные из досок сторожевые вышки, на которых застыли часовые в тяжеленных тулупах с бараньими воротниками. Железные ворота начали медленно раскрываться — за ними показалась пустынная площадь, выложенная булыжником, чисто выметенная, голая, без единого деревца, продуваемая насквозь каким-то жестко летящим ветром. Трехэтажные массивные здания глядели черными дырами зарешеченных окон.
— Допр, — хмуро проговорил Кныш, кривясь от противного скрипа петельных ворот. — Нарочно, что ли, они их не смазывают? Нам туда на полчаса, а и то всю душу выматывают.
— Да… Допр, — невесело усмехнулся Замесов. — Дом принудительных работ номер один… А по-простому — тюрьма.
К следователю Глобу вызвали только через пять дней. До этого о нем словно забыли. Он сидел в одиночной камере с узким окошком и оббитой железом дверью, в которой, кроме глазка, была еще откидная форточка — «прозорка», через нее подавали еду. Деревянный пол, в углу ведро-параша, закрываемое жестяной крышкой, стены замазаны зеленой масляной краской, они все исчерканы надписями. Батареи парового отопления чуть теплятся, в камере холод. На железной кровати, ножками привинченной к полу, доски и тощий матрац, наполненный сенной трухой, поверх тонкое негреющее одеяло с треугольным клеймом допра.
Однажды ночью Глоба проснулся и поднялся на кровати, озираясь по сторонам, — под самым потолком в мелкой сетке тускло горела электрическая лампочка, за квадратами решетки в окне стояла тьма, где-то в глубине тюрьмы, как в каменной пещере, неспешно отдавались чьи-то шаги, лязгающие, гулкие, с железным отзвуком. И Глоба словно прозрел, его оглушенность пропала, он понял глубину своего падения и всю несправедливость, обрушившуюся на него. Они его обвиняют в том, что он убил Павлюка?! Но в это время пять стреляных гильз от английского карабина, еще теплые от пороховых газов, лежали в кармане его шинели. У него в кармане. Ему так казалось… И если их необходимо предоставить, то, пожалуйста, он хоть завтра…
Глоба откинулся на подушку и закрыл глаза, он так ясно представил забор и то, как он одну руку положил на щербатый срез кола, — даже сейчас ладонь почувствовала расщеплённость дерева — а другую сунул в глубину шинельного кармана и там пальцами загреб легкие пустышки гильз. Он вытащил их на свет, раскатал на ладони — чуть позвякивая при столкновении, сияющие латунным блеском, они падали в снег одна за другой, оставляя за собой в белом насте темные пробоины.
«Они и сейчас там лежат — неопровержимые вещественные доказательства невиновности Глобы! Каким образом? Да очень просто, товарищи следователи, дорогие мои друзья и корешата. У кого есть обрез английского карабина? Я его давал собственными руками одному человеку. Да, да, он не отопрется, а если начнет отпираться, то произведем обыск. Да он сознается, я знаю его отлично, честный мужик, он того бандита шлепнул из чувства святой ненависти. Этот Павлюк его сынишку убил. И в него самого пять раз стрелял в упор. Последний раз приставил револьвер к виску. И только чудом спасся дядько Иван… Конечно; если подходить по закону, то он не имел никакого права. Самосуд запрещен! И закон сурово карает! Карает сурово… А именно? Что ж, имея в виду все смягчающие обстоятельства… От трех до пяти лет. Не так уж и мало, если ты пять раз прострелен насквозь, у тебя здоровья ни на грош и вся голова седая. В первый же год богу душу отдаст. Лишенный воли, среди людей с волчьими повадками… Умрет от тоски по дому. Восторжествуют ли от этого справедливость и закон?»
— Боже ты мой, — прошептал Глоба, увидев перед собой дядька Ивана — как тот идет ему навстречу по траве от стада с посохом в руке, на голове у него углом наброшен мешок, моросит дождь. Кричит издали хриплым от сырой погоды, прокуренным голосом: «День добрый, товарищ Глоба… Бачыв, як вы в город ехали…» И, стоя у пролетки, они медленно, с великой тщательностью крутят цигарки, прикуривают от дымящегося трута.
Лежали они на чердаке хаты дядька Ивана, слушая шорох мышей в соломе, мелкий дождик вколачивал в крышу гвоздики гулких капель. И пахло тогда сухой полынью, старым тулупом и пылью. А потом увидел тесную комнатушку и две сдвинутые вместе лавки, на которых лежали убитые — дядько Иван и его сынок, — на обоих одинаковые полотняные рубахи, покрытые грязью и кровавыми пятнами. Пять пуль вонзились в его тело. Пять раз прогремели выстрелы в зимней утренней тишине. Но кто позволил ему вершить самому суд и расправу? Не крови, а справедливости жаждут люди… Да, все это так, но в далеком селе, в хате, крытой соломой, живет старый, простреленный человек — болит у него грудь, кашляет он кровью, каждый вечер тянется по заснеженной дороге на сельское кладбище к могиле с деревянным крестом… Все, что осталось ему от надежды на спокойную старость. Раскалывается от боли контуженая голова, двоится и троится крест в горьких слезах, жестко скрипит снег под слабо ступающими ногами…
Бандиты не убили — теперь добьем сами? Во имя суровой и справедливой буквы закона! Будет ли справедлива она? Неминуемы: следствие, суд, заключение… Без наказания не обойдется. А для него, старика, много не надо. Нет Павлюка, но нашими руками ударит он снова в грудь дядька Ивана, кто знает, на этот раз, может быть, свалив наповал.
И сейчас, лежа на тюремном матраце, Глоба понял, почему он тогда, возле тела Павлюка, искал отстрелянные гильзы. Он это делал еще неосознанно, движимый лишь первым порывом мысли. Уже тогда он пытался отвести беду от дядька Ивана. Просто подобрал пустые гильзы. Какого только оружия по селам нет! Не один такой английский карабин. Кто-то выстрелил пять раз. Следы уводят в лес, погоню организовать не смогли, пока туда, сюда… С неба снег повалил, замело… А ведь знал тогда все…
Сейчас же вильнуть некуда! Третьего выхода нет. Либо — либо. Принимаешь вину на себя — разжалуют, осудят на несколько лет, молодость покроют позором. Скоро будет ребенок. Сделаешь несчастной жену. От тебя откажутся товарищи и друзья. Страшно даже представить. Но избавление рядом, стоит всего лишь сказать несколько слов. И, главное, — закон! закон на твоей стороне. Он требует, чтобы ты так поступил! Ты просто обязан так сделать!
Но с другой стороны… Несчастный Михно. Неграмотный старик, всю жизнь отдавший земле и хлебу. Сколько несправедливостей помнит его безответная судьба — ломали, гнули, испытывали терпение, заставляли воевать с обрезом… И когда он все-таки выстоял, как больной после тяжелого недуга, поднялся на ноги, начал делать первые шаги, почувствовал тепло жизни, — бросить его в тюрьму. Нет, нет, закону не безразлично, кто перед ним, он многое учтет… Но наказание за преступление неотвратимо! И оно падает на бедную голову дядька Михно.
Вот она, западня… Волчья Яма. Не обойти ее, не перепрыгнуть.
Следователем оказался коренастый человек с ледяными глазами и тонким разрезом губ. Он слушал Глобу не перебивая, и по его старому лицу трудно было определить отношение к рассказу. Вопросы задавал коротко, с военной четкостью.
— Если не вы, то кто?
— Не знаю.
— Подумайте.
— Не могу представить. Я услыхал выстрелы, и бросился туда. Павлюк уже не дышал. Следов вокруг никаких… За исключением санного пути к лесу. Но сразу же повалил снег, все замело.
— Стрелянные гильзы?
— Я их не видел.
— Говорите вы неуверенно, — впервые поморщился следователь. — Вот показания свидетеля Евдокимовой Марфы Степановны: «Я прокинулась от выстрелов. Подошла к окошку и вижу: начальник Глоба стоит над убитым Павлюком, и наган у него еще дымится… И бахнул еще раз, прямо тому в грудь…»
— Кто такая? — подавленно спросил Глоба.
— Сельская женщина, — неопределенно ответил следователь, доставая из папки следующий листок. — Показания свидетеля Приступы. От роду шестьдесят пять лет. «Вышел на двир, а по дороге кто-то идет. А ему навстречу другой. Первый выхватывает свой маузер и говорит: „Молись своему богу, бандитская морда!“ И начал стрелять раз за разом. Тот за грудь схватился и упал головой в снег…»
Следователь вскинул на Глобу глаза.
— А дальше он пишет: «Товарищи большие начальники! Что же оно творится на белом свете? Простому украинцу шагу ступить без страху нельзя. Везде москали владу взяли. Ну пусть Павлюк бандит, так есть же на то советский народный суд, а он, москаль, присланный к нам из города, закона не знает, ставит его ни во что, попирает ногой и оружием. К чему такое ведет, вы сами знаете. Вот увидите, Глобу оправдают, потому что повсюду москали рука руку моют, а тот Павлюк, может бы, суду покаялся и стал нормальным трудовым селянином».
Следователь опустил бумагу. Глоба сидел перед ним бледный, он даже в самых страшных мыслях не мог предположить, что дело так серьезно. На него как бы дохнуло из глубины невидимой пропасти.
Следователь продолжал бесстрастным голосом:
— И третье свидетельское показание старой женщины: «Видела. Стреляли в грудь. До каких пор москали будут вершить беззаконие?» Вы понимаете, чем это вам грозит? У меня сложилось впечатление, что вы еще не осознали всю тяжесть обвинения. Не просто превышение власти — самосуд и убийство. Свидетели видят в том еще и политическую подоплеку. Еще неизвестно, как на это посмотрит народный суд. Год действует уголовный кодекс страны… Мы никому, — повторяю, никому! — не позволим подрывать доверие к советскому законодательству.
— Я не виноват, здесь какая-то ошибка, — начал Глоба, но следователь молча ткнул пальцем в папку.
— Опровергните это, и мы поверим вам. Идите в камеру и подумайте хорошенько. Если вы с чем-то прячетесь, то не советую. Я бы не хотел, чтобы закон обрушился на вашу голову, если, конечно, вы непричастны к убийству Павлюка.
— Я назову другого, и он рухнет на голову того, — горько проговорил Глоба.
— Я вас не понимаю, — холодно возразил следователь.
— А если в результате правосудия справедливость не восторжествует? — спросил Глоба.
— В нашем народном суде, — подчеркнуто произнес следователь, — такого произойти не может. Идите, и советую взяться за ум. Вы же знаете, что добровольное признание облегчает участь.
Глоба медленно поднялся с табуретки и, пошаркивая сапогами по цементному полу, направился к двери. У порога обернулся:
— Скажите… Мы сами захоронили Павлюка. Пять ранений. А пули?
Следователь только развел руками:
— Пять сквозных ранений в грудь. Спустя месяц, где, позвольте спросить вас, надо искать те пули?
Два пожилых надзирателя с тяжелыми кольтами в твердых кобурах на ремнях через плечо повели Глобу по длинному коридору допра. В «прозорке» одной из камер мелькнуло лицо, и хриплый голос угрожающе заорал:
— А-а! Милицейская паскуда! Сам попался?! Гад такой…
И словно подстегнутые этой руганью, в других камерах забарабанили ногами в закрытые двери, застучали мисками по каменным стенам. В откинутых «прозорках» появились кривляющиеся небритые морды и сжатые кулаки. Глоба невольно вжал голову в плечи и убыстрил шаги.
Волна ненависти затопила коридор. Глоба торопливо шел сквозь громыхание жести, удары по доскам нар и бряцание железа. Казалось, что еще мгновение — и он не выдержит, кинется в глубь коридора, но он только до боли стискивал за спиной пальцы рук, бросал на «прозорки» исподлобья полный презрения взгляд.
Глоба узнавал некоторые лица: вон того он брал в сырой землянке бандитского лагеря, а этого ночью поднял с теплой лежанки под плач детей и жены. При обыске в погребе хаты нашли окровавленную одежду. Тот, с вислыми усами и бритой головой, попал в засаду, отстреливался до последнего патрона. Знакомые лица, искривленные злобой. Выпусти их сейчас в коридор — разорвут на куски.
— Глоба! Эй, начальник! — позвал кто-то, и Тихон невольно повернул голову, уловив в словах спокойную усмешку. В открытой «прозорке» он увидел Корня. Он мало изменился за это время, лишь кожа пожелтела и под глазами вспухли отечные мешки.
— Здоров, начальник, — сказал Корень. — Одна у нас с тобой планида. Может, на то будет воля господня, еще встретимся на свободе? Ой, держись тогда, начальник!
Глоба прошел, не ответил ему, да и что он мог сказать, стоя в допровском коридоре с двумя надзирателями за спиной, в распоясанной гимнастерке со споротыми петлицами.
Один из надзирателей проговорил, не глядя на Глобу:
— Ваш начальник приказал вас в общую камеру перевести. Так мы немного подождем.
Глоба благодарно улыбнулся, с трудом двинув онемевшими губами. Ему было нетрудно предугадать, чем грозил перевод туда, в одну из этих камер. Тихон лег на кровать и устала прикрыл веки. В коридоре, заглушая вопли, удары и лязг, трубно загремели грозные голоса надзирателей:
— А ну прекратить!! Немедленно замолчать!! Двенадцатая камера?! Замолчать!!! Шестая?! Прекратить!..
По утрам допр оживал, длинный коридор наполнялся плеском воды, шарканьем веников — распахивались двери камер, и заключенные драили полы, выносили параши. Дежурные уже бежали за едой, гремя бачками. И всегда кто-то стучал в дверь одиночки Глобы, пытался раскрыть «прозорку», кричал угрозы или грязно ругался, обещая в ближайшее время страшное возмездие. Потом камеры закрывались, и наступала мертвая тишина. Тогда Глобу выводили на прогулку. Он медленно бродил под стеной, греясь в лучах зимнего солнца. Двор был весь вытоптан, лишь на крышах сторожевых будок да вдоль каменной ограды лежал нетронутый снег, такой на вид рассыпчатый, нежно-мягкий. Это был привет с воли — с той стороны кирпичного забора, откуда летели звуки трамваев, гудки машин и отдаленные крики детей и взрослых.
Надышавшись морозным воздухом, он снова шел в камеру и долго ходил там из угла в угол, в какой уже раз опять возвращаясь мыслями к проклятому вопросу, истерзавшему всю душу: «Говорить ли о том английском карабине? Пустых гильзах? И выдать того человека… Или смолчать? А значит, взять вину на себя. И понести наказание сполна. Даже больше. Тебе не выжить вместе с бандитами в одном лагере. И Михно с ними не выжить под одной крышей арестантского барака».
А разум все чаще вступал в спор, то с яростной силой, то подступал коварным шепотком среди бессонной ночи: «Скажи, скажи… Ты обязан сказать… И тебе станет легче. Тебя сразу же освободят. Не ломай свою жизнь. У тебя будет ребенок. Будь разумным человеком. В конце концов, кто тебе этот Михно? Выполни свой служебный долг. Сегодня же скажи! Иначе погибнешь. А за что?! Жизнь так прекрасна. Скажи, а потом уходи к себе на завод. Отведи от себя беду. Или она погубит тебя…».
На очередном допросе Глоба увидел Рагозу. Тот сидел в углу на табуретке, натянув на колено ноги кожаную фуражку, все время молчал, внимательно слушая вопросы следователя и ответы Тихона. Глоба поглядывал в его сторону, сбивался в словах. Несколько раз следователь сухо перебивал:
— Точнее. Сначала подумайте. Повторите.
Закончив допрос, следователь удалился. Рагоза пересел на его место.
— Вы верите всему этому делу? — быстро спросил Глоба.
— Факты против тебя, — ответил Рагоза. — Свидетельские показания просто ужасные, если ты на самом деле так себя вел.
— Ни единого слова правды! — гневно воскликнул Глоба.
— Сиди, — жестко приказал Рагоза, видя, как Тихон начинает подниматься с табуретки. — Мне твои эмоции ни к чему. Итак, начнем: ты убил Павлюка?
— Нет! Нет! Я говорю об этом каждый раз и никто мне не верит!
— Отвечай на вопросы. Значит, убил не ты? Павлюк убит при сопротивлении? Он напал, и ты вынужден был применить оружие? Или его хотели задержать, и бандит оказал отпор?
— Нет, — почти с отчаянием проговорил Глоба, он понимал, что сейчас своим ответом лишал себя еще одной возможности оправдаться.
— Нет, — повторил он. — Павлюк же не успел выстрелить из своего револьвера.
— Похудел ты, — вздохнул Рагоза, с необычной для него жалостью поглядев на осунувшееся, плохо выбритое лицо Тихона. — Могу сообщить: дома у тебя все в порядке. Завтра дадим тебе свидание с женой.
— Я могу вам лишь честно доложить, — голос Глобы дрогнул, — я не убивал. А кто? Возле тела убитого никого не видел.
— Мы продолжаем расследование, — сказал Рагоза. — Есть в этом деле странности: например, свидетельство старика.
— У меня к вам просьба, — побледнев от волнения, сказал Глоба.
— Я слушаю.
— Не садите меня в общую камеру.
— Ясно. За это ручаюсь, — произнес Рагоза. — Твоему делу шьют политическую подоплеку: мол, бывший рабочий по национальности русский, устраивает самосуд… Над темным украинским крестьянином, который по неграмотности запутался.
— Между прочим, я тоже украинец, — пробормотал Глоба. — Прадед мой — запорожский козак.
Рагоза поднялся, и вдруг с яростью шлепнул фуражкой по столу:
— Но если это ты?! И не сможешь оправдаться… Смотри, Глоба. Мы тебе не простим, что ты пошел против дела, ради которого гибли такие… такие люди!
Не прощаясь. Рагоза вышел из комнаты.
Этого утра Глоба ожидал с нетерпением — как же он все время скучал по Мане, она чудилась ему во сне, и наяву, и тогда, когда просто закрывал глаза, чтобы больше не видеть опостылевшие стены камеры. Он вел с ней длинные и бесконечные разговоры о том, на что надеялись, мечтая о завтрашнем дне… Ожидание не томило Глобу, оно как-то взвинтило его. Ел чечевичную кашу, равнодушно ковыряясь ложкой в жестяной миске, не чувствуя вкуса, залпом выпил жидкий чай, пахнущий плохо вымытым суповым баком.
Надзиратель просунул лицо в «прозорку» и сказал заговорщицки тихим голосом:
— Вам тут письмишко.
Глоба взял протянутый клочок бумаги и развернул его.
«Привет, Тихон! Тебя не забывают. Не падай духом. Зря тебя не отдадим. Жмем лапу. Кныш, Замесов».
Из «прозорки» слышались голоса, звон ведер, плеск выливаемой на пол воды и стук швабр. Надзиратель хитро улыбался.
— Сейчас отведем на допрос Корня, — сказал, подмигивая, — и я вернусь. Может, чиркнешь пару слов?
Он повернулся и отошел от двери. Глоба увидел длинный коридор и распахнутые двери камер. Несколько арестованный мыли каменный пол, другие толпились под окном, курили, передавая из рук в руки цигарки.
Два пожилых надзирателя открыли одиночку Корня, тот вышел из камеры, испуганно озираясь, молча зашагал по коридору, убыстряя шаги. В наступившей вдруг тишине кто-то отчаянно закричал:
— Иудова твоя душа-а!! Бе-е-ей его!!
Полетели на пол ведра, из камер выскочили люди — орущий клубок человеческих тел обрушился на кинувшегося бежать Корня. Надзиратели торопливо выхватили из кобур тяжеленные кольты и начали палить в потолок.
— Разойди-и-ись! По места-а-ам!
Выстрелы гулко загремели по всему допру, на лестнице послышались бегущие шаги охраны.
Глоба рванул дверь и выскочил в коридор. Он ворвался в клубок тел, откинул кого-то в сторону, другого бросил к стене.
— Стой! — заорал он яростным голосом. — Не сме-е-еть!
Он увидел перед собой серое от ужаса лицо Корня и заслонил того спиной, раскинув руки:
— Не сметь! Только суд! Судить будем!
Клацая затворами винтовок, подбежали бойцы охраны. Арестованные рассыпались по камерам. Корень охватил голову руками и в бессилии опустился на кирпичный пол. Глоба, не глядя на людей, медленно пошел в камеру, сел на кровать и, прислонившись затылком к холодной стене, устало закрыл глаза. Его словно бы выпотрошили самого — никакого волнения, только одна вялая мысль: «Бросить все. Надоело. Скажу…»
И когда к вечеру его повели в комнату для свиданий и он увидел там скорбную фигуру жены у зарешеченного окна, ему захотелось заплакать от прихлынувшего чувства нежности.
Он почувствовал такую вину перед ней, что даже замер на секунду и запоздало подумал с тоской: «Зачем я иду к ней? Что скажут? Как объясню? Не лучше ли потом, когда все выяснится окончательно…»
Но она уже обернулась на его шаги и кинулась навстречу, уткнулась головой в плечо, зарыдала, сотрясаясь всем телом, — такая отяжелевшая за это время, в широком платье без пояса. Тихон поднял ее голову — блестели слезы у нее на глазах, а глаза полузакрыты, на лбу легкие пятнышки.
А потом они сидели на лавке, тесно прижавшись друг к другу, он все расспрашивал ее о жизни там, на воле, а она, почти не слушая его, умоляла отчаянным шепотом:
— Я не верю тому, что о тебе говорят. Это невозможно! Ты что-то знаешь и молчишь, да? Я прошу тебя… Во имя будущего нашего ребенка, ты им скажи, все! Пожалей меня, Тиша, я вся извелась, мне белый свет не мил без тебя. Ты дай мне слово, что ничего не утаишь. Тиша… Дорогой мой… Не сломай наши жизни…
От этих слов он терял голову, бормотал ей на ухо всякие ласковые слова, сбившись, упрямо повторял одно и то же:
— Все будет хорошо… Хорошо будет… Все будет хорошо…
Их никто не торопил, лишь несколько раз тихо приоткрывалась дверь и в комнату коротко заглядывал надзиратель. Маня развернула на столе узелок — там лежали вареная курица, хлеб, пачка махорки. Глоба в первую очередь закурил — сладко зажмурившись, медленно выдыхая дым.
— Господи, — сказала Маня, пристально разглядывая серое подсушенное допровскими харчами лицо Тихона, — тяжело тебе тут, откуда силы берешь, Тиша?
— Как ты там одна?
— Что я? — улыбнулась женщина. — Меня твои товарищи не оставят. Вот недавно заезжали из губернии. Кныш и, как его, Замесов. Они следствие ведут в той Смирновке. Потом приезжал на санях Михно… Ты же его хорошо знаешь? В него еще стреляли… Чудом спасся.
— Да, — потемнев, проговорил Глоба. — Ему то что надо?
— Два мешка картошки привез. Зачем мне столько? Один отдала нашим милиционерам.
— Как он там? — не поднимая глаз от дымящейся в рука цигарки, спросил Глоба.
— Плохо ему, Тиша, — вздохнула Маня. — Раны открываются, гноятся… Плакал у нас во флигеле. Сынишку все никак не может забыть. Мало убить было того Павлюка, его бы по селам водить на цепи и всем людям показывать, как страшного зверя. Так многие думают, не одна я.
— Тогда и суд не нужен, — усмехнулся Глоба, — каждый станет на свое усмотрение миловать или казнить. Во что тогда государство превратится?
— Потому ты и не мог его убить просто так, — согласилась Маня и, отвернувшись, закрыла ладонями лицо. — Значит кто то другой это сделал. И ты знаешь, но молчишь. Нас не жале ешь…
Он прижал ее к себе, губами стер со щек слезинки, прошептал:
— Все будет хорошо… Хорошо будет… Скоро начнется суд, а там люди понимающие…
— Суд?! — в ужасе раскрыла она глаза. — Господи, кем?! Тебя судить?!
— Ну, это простая формальность, нельзя же меня выпустить — распахнуть ворота, иди на все четыре стороны. Нужно обоснование.
Но она уже ничего не слышала, страшное слово потрясло ее. Она намертво вцепилась пальцами в раскрытый ворот гимнастерки Тихона, словно именно сейчас должны были войти люди с винтовками, чтобы увести его. Надолго… Может быть, навсегда… И где та справедливость, о которой так много везде говорят? Где? Если ужасающее слово уже произнесено, оно нависло над ее судьбой, над ними.
— Тиша, Тиша, — выдохнула она одними губами, — о ком ты думаешь? спасаться надо… Тиша…
И в эту ночь Глоба не мог заснуть — тишина стояла такая, что даже в эту каменную клеть долетали со станции далекие паровозные гудки, словно клич улетающих журавлей. Там, в темноте, уже начинали таять снега — теплый ветер незримым крылом касался сугробов на полях, разъезженные дороги покрывались стеклянным льдом, на карнизах городских домов витые рога сосулек обрастали инеем, чтобы с первыми лучами солнца налиться теплым светом — в марте начнется капель.
И тогда вдоль стен домов повиснет серебряная мишура, заполняя выбитые у тротуаров черные лунки голубой водой.
«Ничего не скажу, — под утро решил Глоба. — Какие у меня доказательства? Нам вырыли эту Волчью Яму, расставили ловушку, думали, попадем в их капкан и уже не выберемся ни за что на свете. Хитро задумано. Либо меня, либо Михно, но они завалят наверняка. Рассчитано точно! Если их обвинениям поверят — я опозорен, но главное власть наша, новый закон, все польют грязью, распустят самые невероятные слухи о комиссарском произволе и москальском засилье. А если Михно? Значит, Советская власть в моем лице сама вложила оружие в руки темного крестьянина. И направила его на преступный путь самосуда. А потом выдала на расправу. Не пожалела, провела его по всему кругу испытаний. Есть ли третий выход из Волчьей Ямы?»
Глоба его не видел. Никто и ничто уже не поможет ему, закон верит лишь фактам, его не умолить самыми жалобными словами, он не слышит ни добрых просьб, ни страшных проклятий. Вот почему лежит он, Тихон, здесь, на привинченной к полу железной кровати, а перед ним зарешеченное окно каменного мешка. И никто не поможет, раз он сам себе отказался помочь…
Следователь взял стопку протокольных листов, подравнял их края, постукивая по столу, аккуратно сложил в папку и начал тщательно завязывать шнурки.
— Из вашего уезда, — холодно проговорил он, — пришли письма на имя товарища Петровского. Защищают вас, просят освободить. — Он впервые усмехнулся краем тонких губ. — Товарищ Петровский сделал на них резолюцию: «Разобраться по справедливости». Мы только так и поступали. На днях суд. Готовьтесь. И желаю вам удачи.
Так неожиданно было услышать что-то доброе от этого человека, словно бы заледеневшего насквозь, что Глоба чуть не заплакал. Кажется, только сейчас Тихон увидел темные, забитые угольной пылью морщины под его глазами, лоб с косым шрамом и расплюснутые работой тяжелые руки.
— Спасибо, — пробормотал он, взволнованный до глубины души этой малой толикой сочувствия.
Накануне суда Глоба не спал всю ночь. Сунув руки между коленей, он неподвижно сидел на кровати, набросив на плечи шинель. В камере было холодно, запыленный пузырек электрической лампочки тускло горел под самым потолком, почти ничего не освещая. Зеленая масляная краска стен там и тут отслаивалась от штукатурки, образуя серые трещины, которые складывались в какие-то запутанные письмена, так и неразгаданные им за все бессонные дни и ночи, проведенные в этом доме, пропахшем сверху донизу запахами карболки, ржавого железа и неистребимым духом беды.
Стиснув зубы, Глоба постанывал от прихлынувшей тоски, готовый бить кулаками в стену, лишь бы не сидеть истуканом в бессильном ожидании завтрашнего дня, бесшумно и медленно уже проступавшего тусклым светом в узком окне. Он смотрел на этот четырехугольник окна, вырезанный в толстых откосах стены, мучительно ожидая чего-то, чего — и сам не знал, какого-то знака, приметы, которые предсказали бы сегодняшний день.
Но ничего не происходило, только небо за решеткой начало чуть заметно наливаться сначала размыто-розовым, слабым, чуть подкрашенным светом, потом цвет клюквенно загустел, за каменными стенами начало разгораться дикое пожарище! но длилось это недолго — небо как бы впитало в себя всю черноту огня, и сияние красного солнца разлилось по горизонту.
И вдруг вспомнился Тихону его отец, то, как собирался он поутру на работу. В стоптанных кожаных бахилах, в масляно-черных от сажи и копоти портках и рваном, пропахшем серой коксового дыма пиджаке, он выходил на крыльцо, вдыхал все грудью, ладонью затенял глаза и смотрел в небо, где оранжевый круг уже превращал голубое в слепящий свет дня.
И, не выдержав, отец говорил тихо, не мальчишке, который стоял рядом, а словно бы самому себе, с каким-то по-детски наивным, полным изумления, сиплым от едкой махры голосом:
— Господи ты боже мой… Красное солнышко… На белом свете… Черную землю греет.
И Тишка тоже видел черную, замешанную на жужелице топкую грязь улицы, покосившиеся заборы с разинутыми воротами, гнилые хаты и над ними бесконечный белый свет — сияющую бездну неба с раскаленным шаром солнца.
Тихон оглядел камеру — свет вошел в нее и растворился. Зеленая старая окраска и цементный пол, тюремное серое одеяло, железная дверь — их словно бы тронуло красной дымкой. Глоба вытянул перед собой руку с растопыренными пальцами, и она, бледная, восково-ало засветилась в лучах солнца.
«Красный день… День чего? Перемены судьбы? Несчастья?»
И когда за ним пришли надзиратели, и когда они втроем с конвоирами топали сапогами по гулким плитам длинного коридора — все стояла перед глазами Глобы та розовая легкая мгла, не исчезала она и когда вывели его в залитый солнцем тюремный двор, где уже торчала у ворот неуклюжая автомашина с кузовом, обитым крашеным железом. Розовая мгла чуть подергивала ее резкий силуэт.
«Это кровь в голове, — подумал он. — Я вижу свою кровь.»
Суд начался утром в здании клуба кожевенного завода. Зал был переполнен. Глоба сидел на скамье подсудимых за шатким деревянным барьерчиком, на виду у всех, сам же он мало что мог различить сквозь туманную пелену, застилавшую глаза. Он отвечал на вопросы судьи спокойно, размеренным голосом, без всякого выражения, словно говорила за него какая-то машина.
Зал оживал или замирал в тишине. Среди сотен лиц, сливающихся в плывущее пятно, взгляд Глобы изредка выхватывал то одно, то другое — лицо Мани, или Замесова, Кныша… Они вспыхивали в сознании, как горящие свечи в темноте, и гасли тут же, выпадали из памяти, вытесненные чувством стыда, обиды и ощущением отверженности.
А суд шел. Зал насторожился, когда начался допрос свидетеля Приступы. Это был высокий старик с жестким костлявым лицом. Он повторил то, что написал раньше.
— Вышел на двир, а по дороге кто-то идет. А ему навстречу другой. Первый выхватывает маузер и говорит: «Молись своему богу, бандитская морда!» И начал стрелять раз за разом. Тот за грудки схватился и упал головой в снег…
— А скажите, Приступа, — вдруг перебила судья, пожилая женщина в красной косынке. — Где вы были в ночь убийства Павлюка?
— То есть? — удивился старик. — Я ж кажу: вышел на двир…
— Подождите, — строго перебила судья. — У нас есть свидетельства. Вот они: в ночь убийства Павлюка вас видели на всенощной церковной службе в уездном Успенском соборе.
— То так, — растерянно проговорил Приступа, — но утром я вернулся в село.
— Возвращаясь назад, вы подвезли на своих санях старую женщину, гражданку Лукьянову. Она больна, прийти не может, вот протокол ее показаний. Она пишет: «Повернулысь, а нам говорят: Павлюка-злодия убили…»
— Брешет та баба! — взорвался старик, и зал возмущенно загудел.
— Какое вы имеете родственнее отношение к убитому Павлюку? — переждав шум, спросила судья.
— Ну так что, так что?! — выкрикнул Приступа. — Я брат его матери.
— Значит, дядя? — уточнила судья. — Таким образом: вы родственник убитого. А кроме того, сознательно ввели суд в заблуждение своими ложными показаниями. Видеть убийство вы не могли физически. Скажите, Приступа, вы отсутствовали в селе целый год… Я имею в виду двадцать первый год!
— Какое отношение имеет это до Павлюка? — закричал Приступа. — Вы еще спросите, где я был до царя Панька!
— Я вас спрашиваю, гражданин Приступа! — голос суды зазвенел.
— До Астрахани ходил! В рыбацкой артели работал, гроши заколачивал!
— Вы говорите неправду, — отчеканила судья, пододвигая к себе какие-то бумаги. — Вот материалы следствия. В двадцать первом году вы находились в Моршанском уезде Тамбовской губернии. Это подтверждается этими документами. Что вы там делали?
— Брешут твои бумаги, — уже растерявшись, проговорил Приступа.
— Свидетельства неопровержимы. Чем занимались вы, Приступа, в Тамбовской губернии?
— Да что? Жил, по свету ходил, на людей глядел, — невнятно пробормотал старик.
— Мы вам подскажем, — усмехнулась судья. — Вы участвовали в антисоветском кулацко-эсеровском мятеже, поднятым Антоновым.
— Врешь! Врешь! Врешь! — теряя над собой власть, закричал Приступа.
— И были не рядовым участником мятежа. Вы входили в так называемый главный оперативный штаб. Правда, вы были там под другой фамилией, но вас многие опознали по фотоснимку.
— А-а, — буквально взвыл старик яростным голосом, — вяжешь?! Своего мильтона защищаешь?! Гады вы все! Душить мало!
— Вас давно разыскивают, Приступа, — судья поднялась из-за стола, — на вашей совести не одно преступление. Выносим постановление немедленно взять вас под стражу. Увести гражданина Приступу!
Два милиционера стали по бокам старика, третий слегка подтолкнул его в спину, и тот, затравленно озираясь, с трясущимися от бешенства губами, зашаркал валенками к выходу, провожаемый криками негодования всего зала.
Глоба перевел взгляд со спины старика на Рагозу — тот сидел с невозмутимым лицом и даже не повернулся в сторону Приступы.
«Когда же они успели? Провернуть такое… Досталось ребятам хлопот…»
Вторая свидетельницу молодая женщина в плюшевой кацавейке, встав перед судьей, сразу взмолилась чуть ли не со Слезами:
— Старый черт попутал, громадянка судья! Да я бы ни за что, вот истинный хрест! Он, Приступа, говорит мне: все равно того мильтона заарестуют за то, что он живым Павлюка не поймал. Так ты напиши, что сама видела, как он из нагана стрелял. А я тебе за то дам на сарафан, да еще пятьдесят рублей новыми деньгами…
— И не совестно вам было невинного человека обвинить в убийстве? — перебила судья. — Почему же вы об этом не сказали следователю?
— Так Приступа мне пригрозил: не напишешь заяву — твою хату ночью подпалю. А он такой… Ему ничего не стоит. А я женщина одинокая… Муж на фронте пропал…
— Вы знаете, что за ложные показания… — начала судья суровым голосом, и перепуганная женщина рухнула на колени, протянув к ней руки:
— Не губи, золотце ты мое… Он ко мне приходил, грозился жизни решить, а тут, вижу, вы его заарестовали… Так я теперь все вам, как на духу: ничего я не видела, только выстрелы слыхала. В окно глянула, а Павлюк уже в снегу лежит. Потом уже той милиционер подбежал с наганом в руке.
— Значит, вы отказываетесь от своих показаний? — спросила судья. — Да поднимитесь же на ноги!
— Начисто! — воскликнула женщина. — Грех взяла на душу. Пид угрозой писала, будь он проклят тот Приступа и вся его бандитская родня!
— Идите, — с трудом сдерживая презрение, тихо проговорила судья, переглянувшись с народными заседателями.
— Есть еще свидетельство гражданки Евдокимовой Марфы Степановны, в них она утверждает, что видела, как гражданин Глоба собственноручно расстрелял Павлюка. Два дня тому назад Евдокимова исчезла из Смирновки в неизвестном направлении. При обыске с понятыми в хате найдено тайное подполье с упрятанным оружием. Есть предположение, что Евдокимова была связана с разгромленной бандой Корня. Соответствующими органами объявлен ее розыск… Суд вызывает эксперта по оружию.
В зал вошел военный командир в наглухо застегнутой шинели и в буденовке. Судья протянула ему картонку с привязанными к ней пятью деформированными пулями.
— Будьте добры, скажите суду, из какого вида оружия эти пули?
Военный долго и внимательно разглядывал картонку.
— Пули сильно деформированы… С большой точностью сообщить не решаюсь. Они не от трехлинейки… Иностранного происхождения.
Глоба вцепился руками в шаткий барьерчик, отгораживавший его от зала. Он не отрывал взгляда от картонки, на которой ровными стежками ниток были прикреплены уже покрытые ржавчиной, смятые при ударе, остроконечные пули. Как их нашли?! Где?!
Военный неопределенно пожал плечами и в раздумье произнес:
— Я так думаю, товарищи, эти пули могут быть от винтовки английского производства.
— Их можно спутать с пулями от маузера? — быстро спросила судья.
— Ни в коем случае, — снисходительно улыбнулся командир. — Их не перепутает самый безграмотный в военном деле человек.
— Благодарю вас, вы свободны, — судья взглянула в зал — Гражданин Замесов. Подойдите. Ведя следствие, где нашли вы эти пули?
Подтянутый, в отглаженном костюме, Замесов коротко склонил голову перед судом и снова выпрямился, мельком бросив взгляд в сторону напрягшегося Глобы.
— Нами были проведены исследования полета пуль, которыми был убит Павлюк. Ранения все сквозные. Естественно, можно предполагать, что есть возможность их найти. В некотором отдалении от Павлюка тянулся высокий плетень. Плетень мы разобрали по веткам. Снег вокруг него просеяли… пропустили через пальцы каждую снежинку. Безусловно, работы велись в присутствии понятых. И не день, не два. В результате были найдены вот эти пять пуль. Пять выстрелов. Пять ран. Пять пуль. Все логично…
— Комментировать будет суд, — холодно прервала его судья. — Вы свободны…
— Суд удаляется на совещание!
— Встать! Суд идет!
…Глоба напряженно слушал звенящий голос — он падал на него словно с неба, слова оглушали, вызывая в душе ликующее чувство невероятного счастья.
— …Именем Советской Социалистической Республики Украины… Года… числа… Народный суд уезда… губернии… Признает…
В зале такая тишина, что Глобе кажется — в паузах между словами разверзаются бездонные пропасти. «Чего она медлит? Да говори уж… Господи, не тяни…»
— …Глобу освободить из-под стражи за неимением улик. Дело об убийстве Павлюка передать на дальнейшее доследование.
Тишина зала как бы разорвалась. Расталкивая людей, опрокидывая скамьи и табуретки, со всех сторон к Глобе начали пробиваться друзья и знакомые, они что-то кричали, возбужденно размахивали шапками, зажатыми в руках. Не обращая внимания на шум, судья и двое народных заседателей деловито собирали бумаги со стола, накрытого красной скатертью. Одни из милиционеров, охранявший ранее Тихона, весело сказал Глобе, молодо сверкая глазами:
— Ну и нервы у вас, товарищ Глоба… Они тут такую контру развели, а вы слушаете — и ни один мускул на лице не дрогнул.
Не ответив, Тихон одним махом переметнулся на ту сторону деревянного барьерчика и в несколько шагов достиг Мани, которая одиноко стояла у квадратной колонны и, улыбаясь, плакала.
Вместе со всеми, уже в шинели, подпоясанный ремнем, Глоба вышел из клуба кожевенного завода и, окруженный друзьями, направился к воротам. Рагоза посмотрел на него как-то многозначительно и, ничего не сказав, полез в нагрудный карман гимнастерки, вытащил что-то и протянул Тихону.
— Держи.
На ладони Глобы лежал маленький щиток с перекрещенными на нем серпом и молотом, когда-то снятый Кнышом с
околышка его фуражки.
Рагоза чуть посуровел и проговорил, сдвинув брови:
— А Лазебник… Будем разбираться. Ему придется ответить — за он или против Советской власти.
— Минутку, — бросил Глоба и, оторвавшись от остальных, зашагал к сидящему на завалинке Михно. — Тот глядел, как идет к нему коренастый, затянутый в серое сукно человек, и палка, очищенная от коры, полированная ладонями до блеска. Дрожала в его пальцах все сильнее. Слезы текли по морщинистому лицу, застревая в седых волосах неровно подстриженной бороды.
— Вы зачем сюда пришли, дядько Иван? — строго спроси Глоба.
— Да вот… Думал, что если они тебя того… Так я тут.
— Не понимаю, о чем вы? — сердито перебил его Глоба. — Идите домой, вы совсем больной.
— Нет, — покачал головой дядько Иван. — Для меня только начинается.
— О чем вы?
— Это я того Павлюка, — тихо сознался дядько Иван. — Из того самого английского обреза… И ничуть не жалею.
— Кто об этом знает, дядько Иван? — устало спросил Глоба. — Не нашли того, кто Павлюка убил. И доказательств нет.
— Я убил, — упрямо нахмурился дядько Иван.
— Суд закончился.
— Нет, ты меня не понимаешь, — прошептал старик. — Закон должен знать, как то было на самом деле.
— Зачем ему, закону, лишние страдания — сердито перебил Глоба.
— Этот закон для меня не чужой… Народный закон, — убежденно проговорил дядько Иван. — Не может он мне вредного сделать. Накажет, но и поймет… А может, и простит.
— Считай, что уже простил, — возразил Глоба. — Идите миром. И забудьте все, что там было.
— Не можно так, Тихон, — задумчиво проговорил дядька Иван. — У нас люди как говорят? «Свет плоти — солнце; свет духа — истина». Закон должен знать правду. Только истинной правдой он будет жить. А тебе спасибо, Тихон, за все, добра ты людына.
Он неловко обнял Глобу, ткнувшись щекой ему в плечо, торопливо отпрянул, засуетился, отыскивая свою палку, и медленно зашагал к дверям народного суда. Глоба не отрываясь глядел на сутулую спину, обтянутую коричневой кожей дряхлой шубейки, на то, как дядько Иван тяжело поднимается по каменным ступеням.
Смирнов Юрий
Переступить себя-Твой выстрел второй-Что ответил ему

Переступить себя
1
Год восемнадцатый прожили.
Последний его день тек на диво тихо и светло. А в окраинной городской слободе и совсем весенняя благодать: бьет с крыш обильная капель, плавится на припеке снег. Домовладельцы, словно коты, вылезли на солнышко, размеренно греются на лавочках и, в ожидании заветного часа, когда можно сесть за новогодний стол, толкуют про мировую революцию. Слобода заселена перекупщиками калмыцких лошадей, живет крепко, по единственной ее улице плывут запахи мясных пирогов, свежевыпеченного хлеба, а то шибанет в нос самогонкой. Смелеют языки, примеривают мировую революцию к слободской жизни и так и этак, как примеривают насильно всученную обнову. Но как ты ее ни крути, как ты ее ни примеривай, жмет она слободскую жизнь до невозможности, а у горла намертво перехватывает. И висят над лавочками вздохи:
— Хороша Советска власть…
— Ох и хороша!
— Хороша-то хороша…
— Да чтой-то долго, граждани-и, протянулась!
— Нонешний год — чирк! — и на тринадцать дней подсократила. Лег спать первого февраля, проснулся четырнадцатого. Вот анчихристи! Не знаешь теперя, по-каковски и времю считать.
— То ли будет! Нашел об чем тужить…
Слободская улица выбегает на солончак, а солончак пылает под солнцем бело, нестерпимо — нельзя смотреть, И в ту сторону не смотрят, глаза берегут: глаз перекупщику нужен острый, цыганский. А глянули — обомлели: мировая революция — вот она, стоит перед ними босая, в растерзанных малиновых галифе, в ватнике, перехваченном крест-накрест патронными лентами с пустыми гнездами, в островерхом, невиданном доселе шлеме. Из-под шлема бездонно и жутко чернеют провалы глазниц, только их и можно заметить на объеденном голодом лице.
— Что это? — спросил странный человек, всасывая глазами сытых. — Плохо я вижу.
Из белого пламени солончака выползал, вытягивая за собой повозку, мосластый верблюд. За ним шли люди. Люди шли? Тени шли… Брело, спотыкаясь и падая, человеческое страдание.
— Что это? — нетерпеливо поднял голос вышедший первым. — Что?
— Форпост, — сказали ему. — Астрахань, мил человек.
— Астрахань, — повторил он, мгновенно слабея голосом. — Дошли.
И упал.
Самый зоркий разглядел, предупредил шепотом:
— Беда, граждани… Вши на ем… Массыя!
И попятились от него, как от прокаженного. Слобода затворилась и в ужасе смотрела, как из солончака, словно из преисподней, выползала Одиннадцатая армия. И не знали сытые, что им придется месяцами смотреть на это шествие, потому что оно растянулось на все необозримое пространство ногайских степей. А там, у далеких предгорий Кавказа, эта армия, отступая, еще дралась. Дралась, преданная командармом Сорокиным. Дралась, иссушенная голодом, раздетая, безоружная, сжираемая тифозными вшами. За мировую революцию дралась. Страдала за нее, как никто, нигде, никогда не страдал.
Рабочая Астрахань открыла перед ней двери. Затянув туже пояс на тощем животе, Астрахань вместе с армией заметалась в тифозном бреду на двадцати тысячах лазаретных койках. И на этих же койках, чуть пересилив тиф, Астрахань вместе с армией стала умирать от соленого селедочного супа. Лазареты уже не требовали медикаментов, ибо что медикаменты без хлеба? Хлеб… Хлеб… Без него не отстоять город от деникинцев, без него не поднять на ноги армию, начавшую выбредать из солончаков.
Год восемнадцатый прожили.
Последний тихий денек его был смят на исходе свирепым бураном. С лютой улыбкой входил в город гибельный девятнадцатый год.

2
Из степи Иван Елдышев вышел на своих ногах вместе с побратимом, лихим рубакой Васькой Талгаевым. На калмыцкой арбе, впрягшись в нее вместо лошади, вывезли они пятерых беспамятных товарищей — все, что осталось от их эскадрона. Тянули арбу не силой — ее не было! — тянули надеждой, что там, в Астрахани, все готово для встречи: госпитали и медикаменты, еда и обмундирование. Но затворился Форпост, степной сторож города, никто здесь не встретил, не сказал, куда поместить тифозных и раненых, где притулиться ходячим. И тогда слово «измена!» разодрало мерзлые губы Ваське Талгаеву, выхаркнулось с кровью, с матом, клацнуло затвором винтовки… И несдобровать бы сытым, сидевшим на скамеечках, потому что из солончака уже бежали к Ваське тени, которые еще могли бежать. Иван встал перед Васькиным штыком, уперся в него грудью, и так они стояли, покачиваясь, сминая в себе гнев. Подбежали трое или четверо, и один из них, молча, в боевом выпаде взял бы Ивана на штык, но Васька отбил удар. Грохнула Васькина винтовка, и ушла в небо пуля, за которую из тощей полковой казны было заплачено пять рублей золотом своему же армейскому интенданту, сорокинскому выкормышу. Измена, измена… Эх и горька же ты, неутоленная месть! От неожиданности выстрела и слабости в теле упал тот, кто хотел заколоть Ивана, но снова тянулся к выроненной винтовке, исступленно шепча: «Порешу, гада!» Чья-то босая нога наступила на ствол, чей-то голос прорыдал:
— Что же делать, товарищ?
— Больных и раненых, — сказал Иван, — по двое в дома. Ходячим быть при них. Ждать меня.
— Не пустят, товарищ… Добром не пустят.
Иван глянул туда, откуда пришел, и заледенел сердцем. Сказал:
— К женскому полу оружия не применять.
С тем же холодом под сердцем он ждал выстрела, пока вместе с Васькой сгружал с арбы своих эскадронцев и вносил их в дом к испуганным хозяевам. Но обошлось… Васька Талгаев притянул его к себе за отворот шинели, покачнулся, сказал: «Ваня…» — и больше ничего не смог сказать внятно, сполз на пол и понес околесицу, полыхая жаром. Может быть, поэтому и сорвался Иван в кабинете военного инструктора губкома партии товарища Непочатых, а еще потому, что на столе у товарища Непочатых дымился стакан чая, лежал ломоть хлеба с кусочком сахара на нем. Тепло, чай, сахарок… Грохнул Иван кулаком по столу, по каким-то бумагам, и на верхний лист от удара сыпанули мелкие синие вши. Товарищ Непочатых, совершенно не слушая Ивановых гневных слов, скоренько скомкал лист, положил его в пепельницу и поджег. И тут только Иван увидел, что плох, очень плох товарищ Непочатых, увидел крупный пот в ямках-височках, впалую грудь, сиреневые чахоточные подглазья, — увидел все это Иван и затих. Товарищ Непочатых крутил телефонную ручку, поднимал по тревоге какой-то санитарный отряд, изредка прикрывая ладонью трубку и спрашивая Ивана: кто, где, сколько? Иван отвечал, но отвечал как в тумане, погружаясь в него все глубже и глубже. Усталый мозг лишь временами отмечал: они с товарищем Непочатых едут в пролетке на Форпост, санитары выносят Ваську Талгаева на носилках из дома, и его, Ивана, тоже кладут почему-то рядом на подводу, его моют в ванне, а вот он просыпается и ест, и снова просыпается и ест… И наконец он проснулся и спросил у медсестры, а где же товарищ Непочатых, и с этого мгновения, поймав ее удивленный, непонимающий взгляд, Иван снова вошел в обыденное время, которое потекло так, как и положено ему течь от века.
Где подводой, а где пешком добрался Иван до родного Каралата. Во внутреннем кармане шинели лежали у него два документа. Первый — отпуск на три дня, второй — приказ начальника губмилиции Багаева о назначении его, Ивана Елдышева, начальником Каралатской волостной милиции. А еще был устный приказ того же Багаева: сразу же после отпуска Ивану надлежало явиться в Астрахань для участия в секретной операции. А в какой именно — этого Багаев не сказал.
Что ж, явимся… Явимся!
В родном Каралате Иван Елдышев не был почти пять лет.
3
До землянки своего родного дяди по матери Иван дотопал поздним вечером. Дядю тоже звали Иваном, а фамилия у него была Вержбицкий, польская фамилия. Когда-то в Каралат был сослан на вечное поселение польский шляхтич, и растворил он свою голубую кровь в красной мужичьей… Дядька сидел за столом, раздирая руками вяленого леща. Хлеба на столе Иван не приметил… Сотни раз мечтал он, как вернется домой, как встретит дядю, — и вот встретил его, встретил не так, как мечталось, не было праздника в этой встрече, а сердце все равно сжалось, повлажнели глаза. Дома он, дома, и дядька жив, только усох маленько…
— Чего стоишь, служивый? — спросил Вержбицкий. — Раздевайся и садись к столу. Да поздоровкайся, коли добрый человек. Аль немой?
Иван прислонил винтовку к стене, снял шинель, стал стягивать сапоги. На столе тоненько светил каганец. Иван разувался в полутьме, присев на высокий порог.
— Ваня, — растерянно сказал дядя. — Это ты, што ли? Ты ж помер, Ваня… Еще при царе…
— То при царе, — сказал Иван, — а теперь иная стать. Всех, кто при царе отдал богу душу, революционная власть назад отзывает… Старый ты хрен, родню не признаешь…
— Ванек, милый ты мой, — кинулся к нему дядя. Не умея ласкать, ворошил волосы, лапал лицо. — Живой, мать твою! Вот радость так радость… Ну, держись теперя…
— А кому надо — держаться-то?
— Это я тебе растолкую. У нас тут, брат, такие дела! Я, знамо дело, в большаки записался и в коммуну взошел. Осенью отпер туда всю снасть, бударку сдал. Я без тебя малость разжился было…
— Жалко небось? — спросил Иван, поглаживая его костлявые плечи.
— А чего жалеть, Ваня, — всхлипнул дядя. — Али ты меня не знаешь? Об тебе вот я жалел, когда ты помер. Бумага в волостное правление приходила. Ну, думаю, один как перст остался. Борову нашему молебен заказал, прости ты меня, недотепу… После молебна выпили с ним крепко, сказать проще, напились в стельку и разодрались под конец через тебя же, через твою светлую память.
Вержбицкий отстранился и, светло глядя племяннику в лицо, улыбнулся виновато:
— Об чем балабоню, дурак старый? Весь ум от радости незнамо куда делся. Проходи, садись. А я попытаюсь жратвишки какой-никакой достать.
— Ничего не надо. Хлеба мне дали, консервов, бутылку водки. Давай истопим баню.
— И то, — легко согласился дядя, и за этой затаенной радостью, что не надо бегать по селу, выпрашивать у кого-то хлеба и продуктов, чтобы накормить служивого, почудилось Ивану грозное дыхание голода.
Вержбицкий оделся и, собираясь выходить, вдруг строговато спросил:
— Вань, а ты чей будешь? Кому баню стану топить?
— Не пойму тебя…
— Ты в какую партию взошел?
— А без этого тут нельзя? — Ивана забавляла серьезность дяди.
— Ни в коем разе, — убежденно сказал Вержбицкий. Маленький он был, встопорщенный, как воробей, и лицо еще от слез не отвердело. Но слова были тверды. — У нас тут так, Ваня. Али мы, большаки, тебя захомутаем, али исеры тебя заарканят. Меньшаки, исдеки, анархисты тоже, знаешь, дремать не станут. И пять штук толстовцев есть, твоих разлюбезных братцев.
— Хватит, хватит, старый хрен, — миролюбиво сказал Иван. — Ты мне еще то в вину поставь, что я материну титьку сосал. Ишь политики… Был Каралат — стал маленький Питер.
— А все ж таки? — стоял на своем дядя. — Давай определяйся зараз. А то я такой: с чужаком, хоть он мне и кровная родня, не то что водку пить, а и… рядом не сяду. Баню, конечно, истоплю, так и быть. Мы, большаки, тифозную вшу не любим, мы противу нее боремся телесной чистотой и душевной сознательностью. Вша для нас ярая контрреволюционерка, чью бы кровь она ни сосала. Так что баню я тебе истоплю.
— Топи жарче, Иван Прокофьич, — улыбаясь, сказал Иван. — Не ошибешься.
— То-то! — повеселел Вержбицкий. — Сердце чуяло: наш ты человек. Не мог, думаю, Ванька забыть, как с дядькой бедовал, и откачнуться от мировой революции. А вспомнил про твой Егорий — и он меня смутил. Ты, видать, царю служил на совесть.
— Отечеству служил. Отечеству, дядя.
— Какому такому отечеству, дурья башка? — грозно вопросил Вержбицкий и двинулся от двери на племянника. — Мне царское отечество — тьфу! — а не отечество. Товарищ Непочатых, который приезжал к нам от губернской партии большаков и в ячейку нас записывал, всех предупреждал: мол, на вопросе о войне и мире, мужики, не скурвитеся, а держитеся стойко.
— Стоп! — сказал Иван. — Этому царствию не будет конца… Ты мне баню истопишь, дядька?
— Эх, племяш, — вздохнул Вержбицкий, — жестокий ты стал человек. Когда ты помер, я, бывало, по всем ночам с тобой беседую задушевно, что и как объясню, глядишь — и самому вроде понятно. Во мне слова открылись, так и прут… А теперь ты мне вживе рот затыкаешь. Обидно.
Иван подошел, приобнял его костлявые плечи, сказал ласково:
— У нас с тобой теперь на все время будет. Очень я рад, что жив ты и здрав.
— Это уж так… Кровь — она свое скажет. Пойду топить баньку.
Иван сел за стол, огляделся. Взял разодранного леща, понюхал — пахну́ло рапой, мертвыми запахами высохшего ильменя. «Дома, — подумал Иван, — я наконец дома. А дядька-то… Заговорил-то как… Старая жизнь и тут покачнулась, язви ее…» Он уронил голову на руки и уснул.
4
Восьми лет Ванька Елдышев остался круглым сиротой. Вержбицкий, бобыль и самый последний в Каралате бедняк, взял его к себе. Прокуковали дядя с племянником до зимы, а зимой Ивану Вержбицкому приспела пора идти в море на подледный промысел рыбы. С кем оставить парнишку? Хоть женись… Тут-то и подвернулся каралатский поп Анатолий Васильковский: пожелал он взять Ваньку к себе на прокормление и воспитание. Хочешь не хочешь, а отдавать надо. Отдал Вержбицкий попу племянника.
Отец Анатолий был личностью в селе примечательной. Хотя бы потому, что при невеликом росточке имел девять пудов весу. Мосластому каралатскому люду это было в диковинку и гордость: вот, мол, как попа своего содержим. Из других качеств батюшки следует отметить, что жил он широко, весело и небезгрешно. И великий политик был: умел потрафлять как богатому Каралату, так и нищим его окраинам — Бесштановке и Заголяевке. С бесштановцев и заголяевцев денег поп за требы не брал, что среди духовенства являлось делом непоощряемым. Так что поп был своего рода либерал… Деньги для храма, причта и веселой своей жизни отец Анатолий сдирал с богатых прихожан — с дерзкой ухмылкой, с подобающей к случаю пословицей, а то и с текстом из Священного писания. Но в накладе каралатские кулаки, перекупщики рыбы, прасолы, торговые воротилы не оставались. Им, корявым и сивым, льстило, что собственный их поп умен, учен по-божественному, начитан по-мирски: у него в доме была хорошая светская библиотека. А главное, отец Анатолий был тонким советчиком в делах земных, особенно в рыбных и торговых, имел в городе среди чиновной братии друзей, так что советы его превращались, как правило, в деньги. И не последнее дело — октава: великолепная была у батюшки октава! После затяжных оргий, безумных скачек, во время одной из которых, выпав из тарантаса, насмерть убился рыбный торговец и промышленник Земсков, — после всех искушений дьявола октава эта приобретала убойную силу. Служил тогда отец Анатолий истово, ревностно, не комкая церковного чина, как это обычно бывало, и октава его, насыщенная скорбью о несовершенстве человеческого рода, гремела, просила, грозила, обещала… Для причта тяжелы были службы в такие дни, потому что поп за малейшую неточность взыскивал жестоко. А прихожане в такие дни валом валили в церковь.
Таков был человек каралатский поп Анатолий Васильковский, если говорить о нем кратко. Говорить же о нем надо потому, что Ванька Елдышев жил у бездетного попа до пятнадцати лет. И жил на неопределенном положении: то ли воспитанник, то ли работник без платы — исполнял работы на хозяйском дворе, но вхож был и на чистую половину дома. К тринадцати Ванькиным годам стал поп кое-что примечать… Но как это выразить — то, что примечалось, — отец Анатолий не знал и не раз говорил в сомнении:
— Ванька, нехорошо смотришь… Дерзко, непослушливо.
Иван молчал, глядя на него сонно… «Придумал я, — успокаивал себя поп и вздыхал: — Пью много, оттого и мню». Однако мнил… Мнилось ему, будто этот тихий, сонный, послушливый паренек однажды ночью подожжет дом с четырех углов и никому из дома не выбраться. Или же возьмет нож и всунет попу в горло. Еще мнилось, что за сонной пеленой таится у Ваньки в глазах какая-то грозная дума, которую он еще не осознал, но которая зреет тихо, далекая и нескорая, как плод в нерасцветшем бутоне. От таких догадок отдавало чертовщиной, отец Анатолий встряхивал гривастой головой и предлагал непоследовательно:
— А хочешь, я тебя в духовное училище помещу?
Ванька молчал, но молчал строптиво.
— А еще Толстого читаешь, — укорял поп. — Тому ли граф учит?
И еще два года молчал Иван Елдышев таким манером, не желая разговаривать с попом. Зато в свободное от работы время он не вылезал из поповской библиотеки, благо хозяин не препятствовал. Надо заметить, что тут отец Анатолий дал большую промашку — с библиотекой. Пришел день, жаркий, летний, когда поп проспался после очередного кутежа и в бороде обнаружил записку, схваченную прядью волос. Развернул — прочел:
«Поп, ты мне словами башку не задуришь. Не можешь ты правды знать. Ты правду и свою и чужую зарыл в паскудстве. А еще священник. Прощай! Ванька».
Поп отстоял вечерню, а вернувшись домой, снова запил горькую. Пил в одиночестве, чего с ним никогда не случалось. Попадья, робкая, истощенная ревностью женщина, приникнув ухом к тонкой двери, слушала, как поп бормотал:
— Бог действует и через недостойных священников. Понял, Ванька? Бог действует и через недостойных священников…
— Хоть бы ты подох, — ненавистно шептала попадья. — Ванька ушел, а мне куда скрыться. Куда?
Все пять лет до самой солдатчины Иван работал в селе на промыслах. Два рыбных промысла было в Каралате — Сухова и Саркисяна. По весне хозяева пригоняли сюда плашкоуты, набитые девками, бабами, детьми, мужиками с верховьев. Люди сходили на каралатский берег, как на обетованную землю, выгружали пожитки, ошпаривали кипятком трехъярусные нары, вымаривая клопов, и начинали свою удивительную жизнь. И было в той жизни вот что: была отчаянная, бешеная, безумная работа, когда у грузчиков трескались разъеденные солью пятки; была радость отдыха в пасхальный день, когда хозяин выдавал бабам сверх заработанного по двугривенному, а мужикам по полтине; были страстные молитвы в церкви и хула богу в кабаке; были песни, похожие на визг и рыдание; любовь была с обманом и без обмана; была смерть, и было рождение — и все было, чем жив человек. Но все это исчезало, как только рыба уставала давать жизнь другой рыбе и, растерзанная, скатывалась в море. Тогда затихал каралатский берег и все бывшее казалось наваждением.
Оглушенный, усталый, со скудным заработком в кармане, возвращался Иван в землянку своего дяди и жил здесь в одиночестве, пока единственный бедолага-родственник не приезжал с морского промысла. Первые несколько дней Иван спал почти беспросыпно. За высокий рост и раннюю силу его нанимали грузчиком, он таскал соль, катал тачки наравне с матерыми мужиками. Он вспоминал все, чему, покинув попа, был свидетелем и участником, и во всем этом не было правды, которую он хотел найти. Не видел он правды-справедливости под каралатский небом. Видел тьму, ненависть, зависть, ложь. Видел подводы, уставленные гробиками, — это летом десятками умирали от дизентерии дети, их везли в церковь, как дань богу. И доброта попа, который отпевал детей безвозмездно, была уже не доброта, а ложь. Видел свирепые драки сезонников с заголяевцами и бесштановцами и не понимал, чего же не поделили между собой эти люди, одинаково нищие, одинаково темные. Однажды он пытался предотвратить такую драку и стал кричать им о братстве, о любви, о прощении обид, обо всем, что понял и узнал в учении великого Толстого, но слова его были смешны, нелепы и непонятны толпе. Обе стороны объединились и избили его в кровь… Каралатский исправник посадил Ивана в кутузку и, так как до него уже давно доходили слухи, что парень ведет в казармах довольно странные речи, то он решил отправить его в город. Заступничество попа спасло Ивана.
— Все правду ищешь? — допытывался поп. — А может, хватит? Может, ко мне вернешься? Вдругорядь из кутузки не вытяну. С властью, дурень, не шутят.
— Я тебя не просил, — непримиримо отвечал Иван. — А правду искал и буду искать.
— Позволь спросить какую? Чтобы все жили по Толстому? Начитался, на мою шею… Но ведь и ты, правдолюбец, по Толстому не живешь. Он учит прощать обиды, а ты не то что обиды, — ты все мое добро к тебе простить не можешь, зверем на меня смотришь с детства. Где же справедливость? Нас только двое, и то меж нами нет правды. Откуда же ее взять для всех людей?
Иван тяжело молчал, ответить ему было нечего. Правда, которую он хотел найти, была беззащитна, как обнаженная рана.
— Теперь далее будем рассуждать, — бил в одну точку поп. — Ты зовешь к любви и братству меж людьми, и то же самое проповедую с амвона я. Меж нами нет разницы, Ванька, хоть я иду от Христа, а ты от Толстого.
— Есть разница, — сказал Иван. — Меня за мои слова в кутузку сажают, а ты беспрепятственно жрешь, пьешь, тешишь плоть…
— Слова-то какие, — усмехнулся поп, — слова-то мои, амвонные… Эх, Ванька, жалко мне тебя, пропадешь ни за грош. Одна есть правда в жизни: кто умен и смел, тот два бублика съел. Граф Россию опроститься звал, а сам имения небось не кинул. Так у нас всегда: и лучшие лукавы… Возвращайся ко мне, дурень, в люди выведу.
Разговоры с попом Иван передавал дяде, когда тот являлся с морского промысла. Сухонький, жилистый, Вержбицкий всплескивал руками, как птица крыльями, восхищался:
— Ах поп, ах голова! Распластал тебя крепко, как осетренка. Ты эту хреновину брось, Ваня, — насчет братьев. Я с твоим папашей на Петра Земскова робил; твой папаша помер, и Земсков помер, теперь я роблю на Сеньку Земскова. Тебя послухать, так должон я Сеньку любить, а за что, едрена-бабушка! Он из меня все силушки тянет и будет тянуть до самой моей распоследней кончины. Мозги у тебя набекрень, Ванька. Начитался графьев всяких…
Иван и сам чувствовал неувязку в своей вере, однако лучше с такой верой жить, чем совсем без веры. Потому и держался за нее крепко. Говорил:
— Народ темен. Народ молится, водку пьет, зверствует. Каждый за кусок хлеба готов горло перегрызть другому, обмануть, продать. Надо показать народу, в какой мерзости он живет. Слово ему надо такое дать, чтобы он опомнился, огляделся и сказал бы: да что же это, мол, такое? Да как же это я подло живу и мог жить раньше? Слово надо народу дать, вот что.
Споры их кончались, когда иссякал заработок. Тогда они перебивались поденщиной, а ближе к зиме шли к Сеньке Земскову. Тот давал им снасти, коня, сани и посылал с ватагой таких же сухопайщиков, как они, в море на подледный лов. Однажды перед очередным уходом на промысел дядя явился в землянку возбужденный, сказал:
— Ванек! Ты про большаков слыхал? Сегодня разговаривал с одним…
— А где он? Кто такой? — загорелся Иван. — Наш, сельский? Сведи!
— Дура, — укоризненно сказал Вержбицкий. — Наши, сельские, еще рылом не вышли… Шустрый какой… Большаки, племяш, по тюрьмам сидят, а те, кто на воле, живут опасливо, первому встречному не откроются. Шутка ли, на власть замахнулись. Я так соображаю: ежели они не сбрешут — народ за ними пойдет.
— Брехливых в тюрьму не сажают.
— Смотря каких… Тебя вот чуть не упекли, — колол его насмешкой дядя.
Племянник от таких слов темнел лицом, но молчал. Вержбицкий продолжал:
— Ты нового конторщика Семина знаешь? Есть у него бумага, в которой все прописано — и про землю, и про воду, и про белый свет, как он трудящему народу должон принадлежать. И думаю я, Ваня, — он наклонился к сидевшему племяннику, грея его ухо шепотом, — думаю я, племяш, что этот Семин из них, из большаков. Пытать его начал на сей предмет, и он мне ни отчернил, ни отбелил, в сомнении оставил. О тебе сказал: пусть-де графа Толстого читает крытически, не у него учиться теперя надо… Крытически — это как, Ваня?!
— Не все на веру брать, а с рассуждением.
— Во-во! — радовался Вержбицкий. — Дельный мужик, в точку сказал. Зиму свалим — прибьемся к нему плотнее. Лады?
В ту зиму они чуть не попали в относ. Был февраль, на Каспии опаснейший месяц. С юга приходили гнилые ветры, сшибались с северными и, бессильные, уходили назад. После буйства ветров великая тишина нисходила на Каспий, и ночами, когда креп мороз, с тоскливым шорохом осыпались на лед соленые туманы. Подо льдом в эти ночи совершалась потаенная работа. Вода уходила вслед за южными ветрами, образуя пустоты, и лед тяжко обламывался над ними. Огромные поля на десять и более верст в полукружиях отплывали со скоростью быстро идущего человека. Горе тем, кто оставался на них: их давно отпоют в селах, а они будут жить, страдать и ждать смерти на обсосанных водой ледяных островках. В опасный месяц февраль Ивану Елдышеву исполнялось двадцать лет.
Не миновать бы дяде с племянником беды, да спас хозяйский жеребчик, которого Вержбицкий холил и берег пуще глаза — не в угоду хозяину, а для таких вот случаев. Был уже полдень, и ничего вроде не изменилось в мире: под ногами все тот же лед, над головой — голубенькое небо и солнце, бессильное и бледное, как бумажный обрывок, а вокруг, насколько хватал глаз, редкими точками чернели люди, лошади, бурты осетровых тушек. Ничего не изменилось в мире, а жеребчик уже почуял беду и забил копытом и заржал тревожно. Но работники были далеко и не слышали: рыба на крючьях сидела густо. Иван очнулся, когда кто-то цепко ухватил его за плечо. Обернулся, увидел оскаленную морду коня, прыгнул в сани. «Молись, Ванька! — крикнул дядя, когда сани подлетели к нему. — Ты молодой, безгрешный… Авось!» Иван молчал, потрясенный. Не крик дяди, ненавистный и злобный, не серое его лицо потрясли Ивана и не то, что они попали в относ, — в гибель ему по молодости лет не верилось, — а то, что конь мог уйти один, и не ушел без людей. И эта запоздалая мысль пронзила его счастьем, видел он в этом какой-то знак для себя, для жизни своей, но какой и что таилось в нем, он не знал и думать об этом было некогда. Была безумная скачка по краю смолисто-черного развода, то расширяющегося, то сужающегося, — и наконец конь прыгнул. Задние ноги его сорвались с ледяной кромки, он подломил под себя передние, завалился на бок и стал кричать. Иван не помнил, как очутился на льду, — наверное, его вышвырнуло из саней силой прерванного бега. Лежа, он схватил узду, потянул. Какое-то мгновение голова коня и Ивана были почти рядом, и парень видел, как из распоротого ужасом малинового зрака лошади текла слеза… А дядя, странно прихохатывая, бил ножом по гужам, по чересседельнику, высвобождая коня. Оглобли, как руки, разошлись в стороны, Иван вложил в рывок всю силу, конь тоже рванулся, встал на лед, всхрапывая.
— Все, — сказал Вержбицкий, когда они вытянули на лед сани. — Ванька, а? Это тебе не графа читать… Видал? Сучья жизнь, паскуда… Ни снастей, ни улова.
Таким он и запомнился Ивану — маленький, в ледяной одежде, с дымящейся, патлатой головой. И тогда Иван впервые укорил великого учителя, чья мудрость была бессильна под этим небом, в этой ледяной пустыне, в деревнях и городах, где одни жрали, пили и развратничали, а другие ломали хребты работой, голодали и мерли от болезней. И пусто стало на душе Ивана, будто вынули из нее смысл, которым она жила, а новый не дали.
Летом того же года уходил он на царскую войну. К большевику Семину им так и не удалось притулиться: зоркое полицейское око углядело кое-что за ним и удалило из Каралата. Жизнь теперь не светила Ивану ничем, он в своем сознании отъединил ее от себя, как вещь, и не знал, что с нею делать. На войну — так на войну… Пьяненький дядя припадал к его плечу, орал грозные слова про германца, чья кость жидка наспроть русской… Плач висел над каралатским берегом и над приткнувшейся к нему кургузой баржой для рекрутов. Тут же, на берегу, отец Анатолий служил молебен, покрывая могучей октавой многоголосую людскую скорбь. В сопровождении причта он плыл в толпе, и люди на его пути преклоняли колени, ловили губами полы парчовой рясы, целовали, крестились вслед. Иные, обессилев, подолгу лежали в пыли. Солнце жгло немилосердно, жир грязными струйками стекал с насаленных волос баб, и лица их, обмякшие от горя и самогона, были страшны. Ладан густыми пластами лежал над толпой, и запах его был древен — древнее бога, которому его воскуряли. С иконы отчужденно и нежно взирала на расхристанных каралатцев матерь божия приснодева Мария, а хор, то ликуя, то скорбя, выпевал исступленные слова, которым тысячи лет. И случилось вдруг что-то с душой Ивана, будто выросли у нее крылья, и полетела она далеко-далеко… Сместилось время, смялось оно в комок, прошлое стало настоящим, лишь вдаль страшилось взглянуть прозревшее око. Видел себя Иван не на каралатском берегу, а в княжеском ополчении. И так же шли мимо монахи, и так же хор возносил в небо чистую молитву-слезу, синеглазая дева глядела на людей и не видела их, объятая тревогой за младенца. И забыл Иван все: нищую жизнь забыл, простил господину батоги и голод, и нет у него обид, нет злобы и страха раба — есть чисто поле, а в поле ворог… Одно лишь помнит Иван: он и господин его — русские. Пусть господин на коне и в броне, пусть холоп пеш и открыт удару меча, пусть неравным счастьем одарила их при рождении родная земля, но это была их родная земля! И оба падут за нее в чистом поле, и трава пронзит по весне их тела, и смешаются они в прах, прибавив родной земле одну горсть. Твоя от твоих, плоть от плоти, кровь от крови — восстань же, душа, и умри честно за веру, царя и отечество… На каралатском берегу, в вое баб, в пьяных криках мужиков, в горе народа, душа Ивана Елдышева вновь обретала смысл жизни, короткий и точный, как удар штыка.
Простим ему его заблуждения… В тот час и на том берегу все люди были слепы, лишь поп Анатолий Васильковский знал, что творил.
5
Выпарившись в бане, хватив с дядей по чарке за встречу, Иван проснулся на следующее утро по деревенским понятиям очень поздно, но зато совершенно здоровым. Дядьки не было, ушел, надо понимать, в свою коммуну. Ладно… Хватит разлеживаться, подумал Иван, и так в последние полторы недели только и делаю, что дрыхну. Три дня отпуска — это мне начгубмилиции Багаев дал, а не мировая революция. Она, милушка, нашему брату отпусков не дает. Как там Васька Талгаев, друг разъединственный? Выкарабкается ли? Чуть на штык меня не взял, шутоломный. От штыка, правда, и оборонил. И это — ладно… Я теперь, друг ты мой Вася, при большой революционной должности — начальник волостной милиции. А что это такое и с чем это едят, ума не приложу, ежели сказать правду. Но задачу свою в текущий момент помню, Вася, твердо. Вчера вечером шел к дядьке главной улицей села — и что видел? Хоромы Левантовских стоят, как стояли, Земсковы — рядом, дед Точилин отделил, видать, внуков: три пятистенки пристроил к родовому рядку. А за Точилиными — поп, за попом — Болотов… Это как понимать? Живут не тужат, сволочи, вот как. Вроде на них пролетарской власти и нету. А дядька мой? Оратор! Кровососы живут не тужат, а он раздирает на ужин соленого леща, хлещет пустой кипяток и революционными лозунгами заедает. Да еще и рад, что поет правильно, соловей голопузый. Вот тебе и покачнулась старая жизнь… Ни хрена она здесь, гляжу, не покачнулась. Наша каралатская сермяга, до слов дорвавшись, не утопила бы революцию в них — вот какое опасение имею, Вася. А с другой стороны… Коммуну, чертяки, организовали, комячейка у них. Это что-нибудь значит? Или нет? Ни черта мы с тобой, Вася, мирную жизнь не понимаем. Как вперлись в четырнадцатом в солдатскую шинель, так и… А надо, надо понять. Для чего сейчас и потопаем мы, Вася, к председателю волисполкома Андрею Василичу Петрову.
Петров знал Ивана мальчишкой, а позже, когда Иван ушел от попа, на промысле Сухова они вместе ломали хребты работой. Встретил как родного… Когда схлынула первая радость, угасли бессвязные вопросы и ответы, оба сели и закурили перед серьезным разговором. За селом потрескивали винтовочные выстрелы — там коммунары под командой военкома Николая Медведева обучались войне. Петров прислушался, сказал недовольно:
— Зря патроны жгут. Мог бы Медведев и штыковым боем ограничиться. А завернется дело — стрелять нечем.
— Как поглядеть, — не согласился Иван. — Если человек ни разу из винтовки не стрелял, он не врага — винтовку свою бояться будет.
Петров хмыкнул.
— Что я заметил, Ваня, — врастяг сказал он. — Как стал властью, сую нос куда и не следует. Вроде у меня одного голова, а у других капустные кочерыжки. Вроде я один соображу, а другой не сможет. Отчего такое дело происходит?
— Ты всегда этим отличался, дядь Андрей, — улыбнулся Иван.
— Верна-а! — хлопнул рукой по столу Петров. — Да и не привык еще… Нынче третья неделя покатилась, как я на волостном престоле.
— А до тебя кто был?
— Эсер, господин Карнев. Ты, видать, забыл родимый Каралат? Напомню: наскрозь кулацкий. Мы, большевики, в нем в меньшинстве. Прямо хоть меньшевиками называй…
Иван темнел лицом, приподымаясь.
— Шутю, — быстро сказал Петров. — Шутю, Ваня!
— Ты ш-шути, да н-не зашучивайся… С-смотри у меня… Я еще после командарма Сорокина не очухался, а у вас тут, говорят, тоже контра своя жирует. — Иван выругался. — Это ж надо, — сказал он, помолчав, — аж в голову ударило. Ты меня, слушай, заикой сделаешь.
— Да-а… — ошарашенно протянул Петров. — Пришлося тебе, Ванек… А ведь я тебя другим помню.
— Вы с дядькой сговорились, что ли? Тот меня тоже графом Толстым попрекнул… Вот что скажи: как же тебя избрали, если Каралат не в наших руках?
— Голод, Ваня, меня избрал. Наши кровососы угнали скот в камышовую крепь, припрятали хлеб, рыбу, картоху, соль — и продают тайком втридорога. Когда дети пухнут, поневоле начнешь мозгами шевелить. Ну и мы тоже не дремали… Был Каралат не наш, стал теперь наш.
Задумался, помрачнел.
— Наш-то наш, — сказал, — да не совсем… Ничего, будет наш. Вчерась, Ваня, решение приняли — начнем трясти толстосумов… Вот, гляди, — Петров придвинул Ивану список, — гляди, душа моя, вовремя ты подоспел… Левантовский, стотысячник, — этому полная экспроприация. Коммунарам, Ваня, весной на лов выйти не с чем и не на чем — на Левантовском выйдут. Далее: Точилины… У этих хлеб возьмем.
— А есть?
— Опять забыл? Хотя что я… где ж тебе помнить. Тогда скажу: весной в семнадцатом годе полая вода пришла страшенная, размыла вал, топить стала промысла. А ночью было дело… Кинулись владельцы промыслов Сухов и Саркисян к старику Точилину — и что ты думаешь? Он стометровый проран мешками с мукой забил. А ты говоришь… Есть у них хлеб, Ваня, у всех есть, только найти надоть.
Прошлись по всему списку. Иван поднялся в радостном возбуждении.
— Ну, дядь Андрей! Прости, пожалуйста. Нехорошо было подумал про тебя, когда ты нас меньшевиками обозвал.
— Пошутить уж нельзя, едрена-вошь… Ты вот что, Ваня… Начнем прямо с ихней идеологии — с попа. Чтоб народ видел — сурьезно за дело беремся.
Петров пытливо глянул на Ивана.
— Проверяешь? — спросил Иван без обиды. — Я, товарищ председатель, тысячу раз проверенный. А через твою проверку перешагну — и не замечу.
— Ну-ну, — с хитринкой улыбался председатель. — Пишу мандат, Ваня. Попу дай срок неделю, и пусть вытуряется. Учитель Храмушин давно просит помещение под нардом, пьесы будет ставить, агитацию вести. И муки поищи. Есть мучка у батюшки, есть…
Написал, хлопнул печатью. Черно лег на бумагу царский двуглавый…
— Извиняй, товарищ Елдышев, — сказал предволисполкома, — свою еще не успели завести. А где их делают, печати-то?
— Поеду в город, закажу… Значит, так: беру пяток милиционеров — и к попу.
— Эка, быстрый какой! Откуда они у нас, милиционеры-то?
— Позволь…
— Ваня, — проникновенно сказал Петров, — средствиев содержать милицию у нас нету. Ты будешь у нас и за милиционеров и за начальника. Не обессудь, чем богаты — тем и рады.
— Я-то что… А вот мы-то как? Гражданскую войну здесь начинаем — не шутка!
— Да так, потихоньку… — Предволисполкома, как помнил его Иван, и при проклятом царизме не шибко унывал. — Потихоньку-полегоньку, — продолжал Петров. — Комячейка, а в ней девять человек, — раз, комсомолисты, а их шестнадцать, — два, остатние беспартейные коммунары — три. Меня учтем — четыре, тебя — пять, Николку Медведева — шесть.
— Хорошо, — повеселел Иван, — дислокация ясна. Вот и давай мне пятерых.
— Пятерых мало. Дам десять для первого раза. И лучше пойти не сейчас, а вечером.
— Чуждую идеологию решил сокрушать под покровом темноты? Рабья душонка в тебе заговорила, товарищ Петров! Нет уж, пойдем сейчас. Возьму с собой дядьку, и ты троих дашь. Но таких, чтоб не дрогнули: к попу идем!
Петров послушал, как трещат за селом винтовочные выстрелы, сказал задумчиво:
— Может, ты и прав, Ваня…
6
С Иваном пошли Джунус Мылбаев, отец и сын Ерандиевы, дядька.
В доме попа их встретили причитания и вой приживалок, обыкновенно тихих старушек. Набегал народ, глядел в окна.
— Цыц! Завыли… — пророкотал поп. — Здравствуй, Ваня.
— Здравствуй, гражданин Васильковский, — ответил Иван. — Постановлением волисполкома твой дом отбирается в пользу трудового народа. Прочти и распишись. На сборы и съезд дается тебе неделя. Излишки хлеба и мануфактуры предлагаю сдать добровольно.
При упоминании о доме и хлебе старушки заново начали подвывать.
— Цыц, кикиморы, — сказал поп, и они затихли. — Щель у меня в сердце открылась, Ваня, — пожаловался он. — Помру скоро. Бери все, ничего не жалко. Жизнь прошла — жизнь жалко.
— Ирод, — мстительно сказала попадья, — ты обо мне подумал? А где жить будем, подумал?
— О тебе новая власть подумает, мать, — сказал смиренно Васильковский. Попадья попыталась было еще что-то сказать, она, по всем признакам, в последние годы осмелела, но Иван прервал:
— Где хлеб, гражданин Васильковский? Тоже зарыл?
— Искусил дьявол, — сокрушенно признался поп. — Пудиков триста зарыл. Полагал, вы наложите контрибуцию, а вы вон как — хлыстанули экспроприацией.
— Вот гад ползучий! — сказал старший Ерандиев. — Товарищ Елдышев, Ваня! Ты что не чуешь — он изгаляется? Люди с голоду пухнут, ему веселье. Где хлеб зарыл? Если его подмочка прихватила — пеняй на себя, на рясу твою не посмотрю.
— Тимоша, — сказал отец Анатолий, — экий ты, право, неуважительный. Я твоих детей крестил, родителей, царствие им небесное, отпевал, супруге твоей вчера на исповеди все грехи отпустил.
— Ерандиев, уймись, — сказал Иван. — Помни, кто теперь ты есть.
— Помню и жалкую, — проворчал Тимофей. — Я б ему отпустил грехи, жеребцу…
Сохранять революционную законность было трудно. Голод не тетка, он ожесточил Бесштановку и Заголяевку. Когда были вынуты мешки с мукой из обшитой досками ямы в саду и оказалось, что половина мешков подпорчена водой, Ивану с товарищами пришлось спасать попа от самосуда обезумевшей толпы. Васильковский сразу как-то сник, сидел на табуретке, свесив голову и не обращая внимания на ругань Тимофея Ерандиева, который крыл его на чем свет стоит.
— А говоришь, ничего не жалко, — укорил Васильковского Иван. — Ни себе, ни людям. Этого я от тебя не ожидал.
Поп как-то странно поглядел на Ивана, с нежностью, что ли… От такого взгляда нехорошо стало Ивану.
— Ванька, — сказал поп. — Ты когда-нибудь думал, почему я взял тебя к себе, кормил, поил?
Иван, застигнутый врасплох, молчал. И вправду, почему поп это сделал?
— Ничего тебе не скажу, раздумал. У дядьки своего спроси.
Ночью Иван спросил у дядьки. Тот, лежа на топчанишке, сказал легко:
— Тут такое дело, Ваня. Поп — он, как бы тебе выразиться, мать твою любил… И, видать, сурьезное у них дело было. Рясу хотел скинуть и все такое. Плевал он на бога-то… Но сестрица ему не далась. Может, конешно, что и было… Я бы сам рад понять свою сестрицу, да где мне. Отец твой был тюха, помянуть его не к ночи, а ко дню. Я бы на его месте гачи попу переломал…
— Тогда лады, — облегченно сказал Иван. — А то я уж было подумал… Этот чертов поп чуть опять мне голову не задурил.
— Тю! — сказал дядя сонно. — Ты, брат, уже под стол бегал. И, чую, пробежал меж ими…
Утром они пососали леща, запили горячей водой и вышли из землянки. Около волисполкома ждали их отец и сын Ерандиевы,
через минуту подошел и пятый член экспроприационной комиссии Мылбай Джунусов. Темноликий, он за ночь стал исчерна-серым, шел тяжело.
— Что с тобой? Заболел? — спросил Иван.
— Плоха-а… Еда нету. Подыхаим, Ванька. Дети мой, Рахматка звали, ночью сдох…
— Умер, — сказал Иван, и горло ему перехватило. — Надо говорить — умер.
— Умер, — покорно повторил Джунусов.
Вчера ночью в волисполкоме составили список людей, кому будет выдана прогорклая поповская мука. Ту, которую не достала подмочка, а ее набралось с двести пудов, сегодня отправят в город, госпиталям, армии. В составленном списке на выдачу прогорклой муки Мылбай Джунусов стоял первым, сам-десят в семье. Сегодня его дети будут есть мучную болтанку. Чтобы как-то приободрить Мылбая, Иван сказал ему об этом. Джунусов в ответ слабо качнул головой.
Муку, которую решено было отправить в город, с болью и кровью оторвали от себя… Двое членов исполкома, певшие явно с эсеровского голоса, яростно выступили против. «Это что же? — кричали они. — Отправим, а самим подыхать? Где такое видано?»
Напрасно Петров тряс перед ними разнарядкой губпродкомиссара, напрасно говорил, что еще ни одним пудом волость не отчиталась перед городом по разнарядке. «А почему мы им, а не они нам? — кричали несогласные. — Они-то нам что дают?»
Тогда военком Николай Медведев, дергаясь лицом, вынул маузер, сунул под нос самому крикливому.
— Что ты, что ты? — опешил тот.
— К стенке поставлю, — пообещал военком. — Пристрелю.
— Вот так мы и решаем политические разногласия, — сказал тот, кто был потише и от кого маузер был подальше. — Далеко пойдете, граждане большевики. Нас маузером пристращать легше всего, а народ? Народ не пристращаешь. Отправим муку — народ свою власть не поймет.
— Втолкуем, — сказал Петров. — Николай, спрячь ты свою пушку… Втолкуем народу, что мы не отдельная Каралатская волостная республика и что декрет о продовольственной диктатуре нас строго касается.
— Декрет тоже надо с умом исполнять, а не так — чтоб последнюю нитку с себя. Наши коммунары и до весны не дотянут — слягут.
— Ах, мать твою! — взъярился Вержбицкий (он тоже был членом волисполкома). — Это с каких же пор коммунары стали твоими? А кто против коммуны глотку драл? Не ты ли? Товарищ Петров! Андрюха! Ты запрети ему в коммуну шастать. Он туды зачастил, подколодную агитацию ведет, гад ползучий!
— Не ты меня избирал и не Петров. Меня народ избирал!
Иван сидел в сторонке, слушал, постигая мирную жизнь… Еще вчера он думал: много тратят слов его товарищи, не изошли бы паром. Но н-нет… Здесь слово — тоже оружие, да еще какое! Кинут свое поганое слово эти двое в голодную массу людей — и масса вспыхнет, отзовется и сметет свой же волисполком с лица земли. Как же! Не кто-нибудь, а своя власть, и не у кого-нибудь, а от голодных, нищих людей последний кусок хлеба отбирает. Город далеко, выползавших из степей тифозных красноармейцев каралатцы не видели, а здесь дети мрут на глазах… Иван скользнул взглядом по лицам остальных членов волисполкома и прочел сомнение и неуверенность в их лицах. Лишь дядька был бодр и безогляден. Но дядьке что — он бобыль…
— Позвольте спросить, товарищи? — подал Иван голос из своего угла.
— Я уж думал, ты язык проглотил, — сказал Петров.
— Мой вопрос такой, что задать его я не могу в присутствии этих двух…
— Выйдите на минутку, — сказал им Петров. — Мы тут своей фракцией побеседуем.
— В случае заварухи, — сказал Иван, когда они вышли, — все ж таки сколько мы своих людей можем поставить под ружье?
— С полсотни, — ответил военком.
— А кулацкий Каралат?
— Человек двести-триста, — сказал Петров. — А ты еще меня отбрил, Ваня, когда я насчет меньшинства говорил. Теперь сам видишь… Нас, конечно, полсела поддержит, но как поддержит? Сидя по запечьям, охами и ахами.
— Вот! И вы, мои дорогие товарищи, все ж не убоялись, начали кровососов трясти. Почему не убоялись? Потому что позади нас город, а в нем — наша, пролетарская власть. Покуда она наша — здесь ни одна тварь голову не поднимет явно. Щипать из-за угла будут, это ясно. А падет наша власть в городе — нам здесь и минуты не продержаться, в клочья разнесут. И нам ли сомневаться, помогать или не помогать городу? Помогать, последнюю нитку отдать!
— Верно! — сказал Петров. — Дюже правильное у тебя слово, Ваня.
— Дядька! — повернулся Иван к Вержбицкому. — Ты что же это, а? В коммуне, оказывается, вражеская агитация на полном ходу, а ты молчал? И ты, товарищ Медведев… Маузером трясешь… Оружие не игрушечка, обнажил — стреляй!
— Эка! — сказал Петров. — Охолони, Ваня, маненько…
— Я к тому, что вы должны постановить: за вражескую агитацию — под суд и к стенке. Вы власть или не власть?
Позвали крикунов, постановили… Все это было вчера вечером. А нынче, чтобы не дать опомниться кулацкому Каралату, Иван хотел сразу же повести свою экспроприационную комиссию к Левантовскому. Но Петров нарушил его планы.
— Ваня, — сказал он, едва Елдышев переступил порог его кабинета, — муку надо сегодня же отвезти. От греха подальше… Тебе все равно ехать в город — вот и отвезешь. Сдашь прямо в губпродком.
— А Левантовский? Слушай, им после попа роздыху давать никак нельзя. Смять их надо, ошеломить. На город надейся, сам не плошай. Не ровен час — и снюхаются.
— Ты меня глазами-то не жги! — рассерчал Петров. — Манеру взял! Я тебе в отцы гожуся… К Левантовскому сам пойду. Мы и без твоих глаз понимаем: отступать теперя некуда, попа нам все равно не простят. Для того я, — Петров улыбнулся с хитрецой, — и отправил тебя к нему первому. Чтобы, значит, в нашем брате, у кого остатняя рабья душонка, — тут опять усмешечка скривила его губы, — мыслюха какая опасливая уж боле не ворошилась. Понял?
— Вот это я люблю, дядь Андрей, — от души сказал Елдышев. — Тут я до конца с тобой.
— То-то же! — довольно заулыбался предволисполкома. — И мы не лыком шиты. Соображаем, что к чему!
7
В сырой, загаженной плевками и окурками комнате сидел за столом управляющий складским хозяйством губпродкома и ужинал всухомятку куском хлеба и брюшком испеченной в золе соленой воблы. Но не то было удивительно, что он ужинал, а то было удивительно, как ужинал. Невозмутимо он ужинал… Комната была забита матросней, солдатами, неопределенного вида штатскими — каждый тянул к нему мандат, с мандатом — требование на отпуск продовольствия для своей части, госпиталя, учреждения… Иные вместо мандатов вытянули браунинги, наганы и маузеры, стучали рукоятками по столу, тыкали дулами в ужинавшего. Он устало отмахивал их от себя, как надоевших мух, и продолжал жевать. В комнате висел сизый махорочный дым, хриплый гомон и мат.
Иван Елдышев продрался поближе к столу, посмотрел и отошел в сторону, не понимая, что тут происходит. Тут же его придавил к стене могучим плечом солдат.
— Видал? — захрипел он возбужденно. — Видал, браток? Склады закрыл, с утра нас тут гноит, а сам жрет, контра!
— С самого утра и жрет? — спросил Иван спокойно.
— Н-ну как… Н-ну не знаю, — малость опешил солдат, но тут же и выправился в своем праведном гневе. — Сам видишь — жрет! А у меня в госпитале двести тифозных. С чем к ним вернусь? С пустыми руками, браток, возвращаться мне к ним никак нельзя. Я так сделаю, браток: пулю приму. Но до своей пули этой интеллигентной вше, — он ткнул «смит-и-вессоном» в сторону ужинавшего, — две не пожалею, в каждое его стеклышко всажу.
— Ну и дурак, — сказал Иван устало.
— Што-о?
— Дурак, говорю, будешь. Тебе какой паек положен?
— Фунт хлеба и соленая вобла.
— Съел?
— Для меня это еда ли? — спросил солдат грустно. — Понюхал!
— Вот и он тоже — понюхал, — Иван кивнул на управляющего, который бережно собирал с расстеленной газеты хлебные крошки. Солдат несколько мгновений хлопал на него гноящимися глазами, отвалился от Ивана к стене и стал клясть мировую буржуазию в бога, в крест и в маузер.
Управляющий, отправив собранные крошки в рот, прилежно пожевал, поправил пенсне и в последний раз отмахнул от себя плавающие пистолетные дула. Затем вытащил из пальто браунинг и выстрелил в потолок.
Стало тихо.
Он прижал ладонь к горлу и зашелестел сорванным голосом, обращаясь к Ивану:
— Товарищ, вы почему мне не грозите оружием?
— Нездешний, — коротко ответил Иван. — Не привык. Продовольствие привез.
Стало совсем тихо. С потолка на стол оглушающе шлепнулся кусок штукатурки.
— Откуда? Сколько? — шелестел управляющий, напрягая горло.
Иван ответил. Он привез двести пудов муки, три бычьих туши, четырнадцать бараньих тушек и пуд топленого масла, которое вчера изъял у попа.
Управляющий тут же распределил муку по трем пекарням, приказав начать выпечку в ночь. Мясо и масло отдал госпиталям. Но всем не хватило. Опять перед ним заплавали пистолетные дула. А он глядел сквозь пенсне на Ивана и улыбался печально, подрагивая старорежимной бородкой клинышком. «А ведь убьют его», — подумал Иван. Кое-как он утихомирил недовольных, вытурил их из комнаты под предлогом, что ему надо обговорить кое-какие дела с товарищем наедине. Закрыв за ними дверь, сказал:
— Вам, товарищ, не надо бы свой паек есть при всех. На такой случай закрывались бы, што ли.
— Нельзя, — прошелестел тот в ответ. — Закроюсь, подумают черт-те что. Бомбу бросят. Надо только на виду. Не та беда, что ем, а та беда, что три раза должен есть: язва желудка у меня, паек делю на три части.
— Можно ли при язве соленую воблу-то? — искренне пожалел его Иван. — Позвольте, товарищ, отрезать вам кусочек мяса и баночку масла принести. Это не взятка, — заторопился он, — это подарок вам будет. От каралатских коммунаров.
— Подарок должностному лицу и есть взятка, — проклекотал управляющий. — Но я учитываю, молодой человек, ваше искреннее желание помочь мне, поэтому благодарю на добром слове. Отрезать кусочек мяса, конечно, можно. И сварить — не проблема. Но вот как его проглотить? Ведь мы его из тифозных ртов вынем…
Иван сник. Вспомнил Мылбая. Но не сдался. Продолжал:
— Вы на таком месте, товарищ… Вас надо беречь. Свалитесь — кто придет?
— Сюда не приходят, — прошелестело ему в ответ, — сюда назначают. Проверенных. А помимо партийной проверки, не я, так другой, будет здесь под пистолетными дулами жить, чему вы и были свидетелем.
— Был, — сокрушенно сказал Иван, поднимаясь с колченогого табурета. — Прощайте, товарищ. Счастливо вам. Ухожу с виною: ничем не смог помочь, а хотел.
Минут через пятнадцать каралатские сани были пусты. Богатырь, который хотел принять пулю, пер теперь на плече к своим саням бычью ногу. Увидел Ивана, ощерился:
— Поживем еще, браток!
Иван отвернулся.
— Чего морду-то воротишь? Думаешь, сбрехнул Петра Мосолов про пулю? А поехали со мной, поглядишь, как революционная тифозная братва в бараке на соломе дохнет. Вши в нее впились, крысы обгрызают, а ты, а? Морду воротишь?
Он стоял, покачиваясь, глаза его стекленели, левой рукой он придерживал груз на плече, правой уже рвал ворот гимнастерки. Но вот правая скользнула в карман за своим «смит-и-вессоном»… Плохо бы, наверно, все это кончилось, да, к счастью, подбежали к богатырю двое, тоже не слабые; один не дал ему вынуть руку из кармана, другой переложил бычью ногу к себе на плечо. Повели, оглядываясь и прожигая Ивана глазами.
— Лихой народ, — сказал Вержбицкий, приехавший вместе с Иваном. — За наш хлебушек, который от себя со слезьми оторвали, нас же лают и чуть свинцом не отдарили.
— Обиделся, дядя? — спросил Иван хмуро.
Дядька в ответ слова не дал, лишь слабо хмыкнул.
— А напрасно, — сказал Иван. — Тиф у него. Он об этом еще не знает. А вечером сляжет. И сильно ему повезет, если койка найдется. Мы с Васькой Талгаевым первыми вышли, нас в ванне мыли… А когда я из госпиталя выписывался, то до наружной двери по живым и по трупам пробирался, столько нашего брата было набито.
— Что деется, — вздохнул Вержбицкий. — Уж мы вроде у себя бедуем, а тута… Ох, Ваня! Давить нашу каралатскую контру надо беспощадно и без рассуждениев, а то пропадем. Город на ниточке держится. Склады-то какие, видал? Бывшие купцов Сапожниковых, их, мяса не поев, не обойдешь. Я заглянул — пусты. А ежели бы мы своих двести пудиков не привезли, что тогда?
Иван оглянулся на окошко, за которым сидел сейчас тот странный человек, управляющий складским хозяйством губпродкома, фамилию которого он даже не узнал, и потеплел сердцем. Сказал:
— Ежели да кабы… Ты, дядька, песню свою про город на ниточке забудь: контрреволюционная твоя песня, в чека запросто загремишь.
Подошли еще шесть возчиков, все мужики в возрасте, из них Иван помнил только одного — Степана Лазарева, который когда-то дружил с его отцом.
— Ваня, — сказал Лазарев, — солнышко заходит, а кони не поены и не кормлены, об себе уж молчим… Какие твои будут указания? Тут постоялый двор рядом…
— Указание одно — назад, в Каралат, — ответил Иван. — Команду сдаю Вержбицкому, ему подчиняйтесь, он ваша волостная власть. Коней напоить и, покормить здесь — и в путь. Без промедления.
— Что уж так-то, Ваня? Больно ты суров. Дозволь хоть чайком кишки прогреть в трактире, — загомонили мужики.
— Чаевник! — укорил Иван Лазарева. — У тебя дома семеро по лавкам. А на разомлевших и потных тифозная вша так и лезет. Еще нам этого дела в Каралате не хватало! Обойдитесь уж, мужики, без трактира. Целее будете. Слыхал, дядька? Взыщу!
— Не сумлевайся, Ваня. Мы ныне люди военные: на семерых — одна винтовка. А ты свою заберешь?
— Оставлю. Ежели понадобится, мне и тут дадут.
Иван простился со всеми. Обнял дядьку.
— Вань, а ты куда намылился-то? — спросил Вержбицкий.
— Велено явиться к начальнику губмилиции товарищу Багаеву. А зачем — кто знает?
— Не ко времени, Вань, — попенял Вержбицкий. — Тамочки у нас дела теперя крутые пойдут, а ты в нетях. Они што — без тебя не обойдутся?
— Сам понимаю, не ко времени, — согласился Иван, — но ведь я при службе, дядя.
— Это уж да, — вздохнул Вержбицкий. — Службу служить — другу не дружить.
— В ночь идете, дядя. — Иван вынул наган. — Возьми. Мало ли что… Обращаться с ним можешь?
— Военком Медведев научил. — Вержбицкий сунул наган за пазуху. — Теперя с двумя винтовками и этой штукой нас задешево не возьмешь. Не боись, дойдем в целости. Сам вертайся скореича. У товарища Багаева на тебе, думаю, свет клином не сошелся.
Со стесненным сердцем Иван проводил дядьку и возчиков, а сам пошел в центр города, в губмилицию. Было у него твердое намерение отпроситься у товарища Багаева, поймет, поди, не к теще на блины отпрашиваюсь, в Каралате бочка с порохом осталась. Но в кабинете у Багаева он даже заикнуться об этом не успел.
— Товарищ Елдышев, — сказал начгубмилиции, — я тебя жду. А ты запаздываешь.
Иван не помнил, чтобы ему было приказано явиться нынче; наоборот, он считал, что прибыл на день раньше. Но оправдываться не стал. Перед отъездом в Каралат он видел Багаева накоротке и не знал, что это за человек.
— А жду я тебя потому, — продолжал Багаев, — что из твоего формуляра следует: ты воевал. Это очень важно. Из сотрудников милиции и уголовного розыска сформирован спецотряд, который нынче в полночь отправится под Саратов за хлебом. Люди отобраны проверенные, но воевавших среди них мало. Командир спецотряда — я. Тебя назначаю первым своим помощником. В случае моей гибели командование принимаешь ты. Бери мандат.
Иван взял бумагу, прочел. Грозный был мандат! С таким мандатом в Каралат не отпросишься. И печать стояла своя, революционная. Вспомнил каралатского двуглавого орла, посожалел, что не успеет уж теперь заказать.
— Внизу, в дежурке, тебя дожидаются четыре вооруженных сотрудника, — продолжал Багаев. — Бери их и езжай на вокзал, из-под земли достань начальника дороги господина Циммера: он на мои телефонные звонки не отвечает. Ему еще вчера было приказано подготовить нынче в десять вечера тяжелый товарный состав. Ежели в десять часов состава не будет — ставь господина Циммера к стенке.
Иван вынул из кармана мандат, перечитал.
— Основательный ты мужик, товарищ Елдышев, — с одобрением сказал начгубмилиции. — Но ты не туда глядишь, ты сюда гляди, — он подал Ивану газету. — Читай, что отчеркнуто красным карандашом.
Красным карандашом был отчеркнут приказ председателя Астраханского ревкома Кирова о введении в городе чрезвычайного положения. Иван выхватил глазами строчки: «…всех бандитов, спекулянтов, мародеров, застигнутых на месте преступления, всех саботажников и лиц, не подчиняющихся велениям пролетарской власти, — расстреливать. Право расстрела принадлежит органам ЧК, милиции…» Иван не стал дочитывать, кому еще принадлежит право расстрела, положил газету на стол, спросил:
— Этот Циммер — он по-русски хорошо понимает?
— Ежели меня попросят к стенке, скажем, на французском, я, думаю, враз смикитю, хоть и неуч. А все ж таки… Уважая твою основательность, товарищ Елдышев, дам тебе еще одного сотрудника. Он прекрасно разобъяснит суть дела хоть на немецком, хоть на английском — на каком Циммер пожелает. Тропкин!
В кабинет влетел дежурный, щелкнул каблуками.
— Агента губрозыска Гадалова ко мне!
— Поставить Циммера к стенке — дело плевое, товарищ начальник, — сказал Иван, когда дежурный вышел. — А состав? Он сам по себе не сформируется.
Багаев тяжело и с явным сомнением, от которого Ивана бросило в жар, глянул на него.
— Не нравится мне твой вопрос, товарищ Елдышев. Я тебя туда не карателем посылаю. В десять часов вечера состав должен стоять на путях под парами. Головой отвечаешь! Я тебя не спрашиваю, разбираешься ли ты в железнодорожном хозяйстве, — я в нем сам ни черта не понимаю. Но тебе на этот случай и дана громадная власть. Ты ею привлеки людей, которые в деле разбираются. Задачу понял?
— Так точно, товарищ начальник.
Вошел агент губрозыска Гадалов. Им оказался парнишка лет шестнадцати в поршнях, ватнике и высокой калмыцкой шапке. Шапку он снял и тихим голосом доложил о прибытии. А когда он снял шапку, Ивану бросилось в глаза его тонкое, нервное, лобастое лицо, и почему-то подумалось Ивану, что к такому лицу никак не подходят ни поршни, ни ватник, ни высокая, похожая на башню шапка. А почему не подходит? Губмилиция и губрозыск располагались в одном здании, и пока Иван добирался до кабинета Багаева, повидал в коридорах всякого народа, и народ был одет пестро. Поршни — это еще милость, в лыковых лаптях щеголяли сотрудники. Иван слышал, что губисполком выделил их для губмилиции четыреста пар… Так ему подумалось, а сказалось другое:
— Товарищ, шапка у тебя сильно приметная. Считай, каждая шальная пуля твоя.
Сказал — и прикусил язык: поперед начальства вылез, а его не спрашивали. Но, к удивлению, Багаев его поддержал.
— Сергей, что такое? — сказал он. — Я в губисполком отношение писал, чтобы тебе — одному тебе во всей губмилиции и розыске! — полный комплект воинского обмундирования выдали. И тебе, помню, выдали.
— Выдали, товарищ начальник, — тихо подтвердил Сергей.
— А где ж оно? Почему не носишь?
— Берегу… Мне его выдали как переводчику, а не как агенту губрозыска.
— Ну парень! — только и сказал Багаев. — Разница-то какая? Тебе ж выдано!
— Разница есть, товарищ начальник, — тихо, но твердо стоял на своем Гадалов. — Вашим приказом я зачислен в спецотряд.
— И что?
— Угваздаю. Новенькое обмундирование. А вы сами же и сказали, что после возвращения из Саратова быть мне при вас переводчиком на встречах с английским консулом мистером Хоу и персидским консулом господином Керим-ханом уль-Мульк Мобассером.
— А ведь забыл! — хлопнул рукой по столу Багаев. — Совсем забыл! Нам надо, Серега, с ними говорить по делам военнопленных и беженцев. Слушай, а ты и персидский знаешь?
— Керим-хан, — сказал Гадалов, — в совершенстве владеет английским. У него оксфордское произношение.
— Это еще какое? — с неудовольствием спросил Багаев. — Поди-ка, вконец контрреволюционное, язви его!
Гадалов на мгновение запнулся, а Елдышеву, который в свое время окончил церковноприходскую школу и, главное, много читал в поповской библиотеке, была понятна эта запинка.
— Очень правильное произношение, Иван Яковлевич, — пояснил Гадалов. — Культурное. Мне до такого далеко.
— Тогда обмундирование береги, Сергей, — строго сказал начгубмилиции. — Благодарю за службу и революционную сознательность, а я перед тобой вкруговую не прав. О том бы мне, дураку, подумать: не оборванцами же перед господами капиталистами пролетарскую власть представлять. Пока будем добираться до Саратова и обратно, ты в это оксфордское произношение хорошенько вникни, чтоб нас перс не надул! А товарищ Елдышев, который на время поездки будет твоим прямым начальником, от вахт для такого важного дела тебя освободит. Теперь идите и выполняйте задание!
К десяти часам вечера Иван Елдышев поставить состав под пары все-таки не успел. Но к одиннадцати — поставил. Багаев привел отряд, принял рапорт как должное и даже не спросил, чего это стоило Ивану. Погрузились и поехали. После короткого совещания с помощниками, на котором обговорили внутренний распорядок, Багаев протянул Ивану лисий малахай, сказал:
— Передай Гадалову, тезка. И упаси его бог потерять как-либо. Из камеры вещдоков эта лиса взята. Возвращать придется.
8
Ровна степь для пешего, ровна для конного, а для паровоза и в степи нет ровного пути: на каждом перегоне таятся подъемы и спуски, почти незаметные глазу человека, но ощутимые для сердца старенькой «овечки». Ночами, когда паровоз, поистратив на подъемах скорость, не успевал набрать новую, откуда-то из тьмы налетали конники, постреливали, скакали рядом с вагонами, полосуя шашками их деревянные стенки, и исчезали прочь. Сводный милицейский отряд, сопровождавший состав, не отвечал ни единым выстрелом. Запретил Багаев. «Пуля есть достояние революции, — строго сказал он. — Пулю надо расходовать с умом. Пока поезд бежит, нам сам черт не страшен».
Так, молча, они уходили от степных банд. Далеко по горизонту слабо мерцали зарева, где-то гибли люди, рушились надежды, а здесь безостановочно стучали колеса вагонов, до отказа набитых мешками с мукой. Когда отошли верст на сто от Красного Кута, где брали хлеб, Багаев, несмотря на яростный протест машиниста, остановил поезд и часа два до пота гонял весь отряд, пока не уверился, что каждый твердо знает свои обязанности в случае нападения.
К каждой станции поезд подходил, ощетинившись винтовочными дулами, как еж иглами. Черным оком настороженно следил за станционной платформой пулемет. Со стороны это было, наверное, внушительно; мешочники, которых никто и ничто не могло остановить, испуганно откатывались назад. И бежала молва: к поезду не подступиться. И бежала другая: на все боевые наскоки поезд не отвечает. Ошарашивающая, сбивающая с толку весть летела по степи. А Багаев на нее и надеялся: он-то знал изнанку боевой мощи своего отряда. Пулемет заедал, винтовки были в исправности, но патронов к ним мало…
Потому-то и не терпел Иван Яковлевич подъемов, они раздражали неизвестностью, таившейся за ними. Вот в этот, версты в три, — что за ним? Всякое могло быть за ним, всякое… И он, подобравшись, сказал машинисту:
— Гони, батя!
— Не лошадь, — язвительно ответил машинист, — кнутом не стегнешь. А ты, господин-товарищ, отойди, не мешай.
— Ладно, отойду, — бормотнул Багаев. — Я не гордый, отойду. — И продолжал про себя, заговаривая свое смущение и нетерпение свое: «Ишь ты, какой сурьезный мужик. Дать бы тебе по шее за господина, да нельзя: прав ты… Всяк будет соваться не в свое дело, что получится? Анархия получится, вот что… Анархия-то анархией, а проследить за тобой не мешает. Нет, не мешает проследить за тобой, батя, совсем не мешает…»
Разговаривая сам с собой таким образом, Иван Яковлевич зорко ощупывал глазами степь. «Может, все это ерунда? — думал он. — Может, ничего такого и не будет?» Но предчувствие ныло в нем: будет, будет, будет… Паровоз одолел подъем и теперь, кашляя паром, тяжело вытягивал вагоны. Далеко впереди, в сером рассветном сумраке, разглядывалось что-то темное, бесформенное — там, на полустанке, мимо которого состав пройдет, не задерживаясь, стояло несколько домишек. Но не туда смотрел Багаев — смотрел он правее, где лежала балка. Дальним концом она уходила в степь, ближним — широким полукругом охватывала рельсовый путь, и в это полукружие уже втягивался состав. Если бы Багаев решил напасть на поезд — он нападал бы здесь. Несмотря на то что ни в балке, ни около не было заметно никакого движения, он дал три коротких гудка — сигнал тревоги. В эту минуту его шатнуло вперед: он уперся руками в стекло и в просвете между ладонями увидел на рельсах красный огонь. Человек угадывался смутно, но огонь рдел, описывал круги — яркий, бесстрашный… Тело Багаева стала легким и упругим, гневная сила втекла в каждый мускул, мозг работал четко и схватывал сразу многое. Слева, боковым зрением, Иван Яковлевич видел, как машинист ручкой реверса дает контрпар, как помощник налег на тормозное устройство, — он видел это и с запоздалой виной думал, что зря подозревал машиниста, обидел этим старика и поделом схлопотал от него «господина». И еще он отметил, что поезд быстро замедляет ход, — значит, там, в вагонах, двадцать тормозильщиков тоже не сидят сложа руки. Он отметил это, как зарубку положил, и тут же забыл: справа, примерно версты в полторы от состава, из балки выхлестнула темная волна. «Вот где вы пригрелись, змеи», — подумал он без удивления. Надо было бежать к своим, но Иван Яковлевич не мог сдвинуться с места, ему казалось кощунством уйти сейчас, когда там, на рельсах истекали последние мгновения жизни неизвестного ему человека, предотвратившего крушение поезда. «Узнаю имя, — заклинал себя Багаев, — дорогой ты мой товарищ, по земле мне не ходить, узнаю твое имя». Теперь он следил уже не за ним, а за конником, вывернувшим из-за жилых построек. За ним следили и милиционеры с крыши состава. Прогремело несколько выстрелов, но поезд был далеко, он уже замедлил ход и пули не достали. А конник все ближе, ближе, вот он взмахнул рукой, граната полетела от него к человеку на рельсах, упала — и на том месте расцвела малиновая вспышка. Конь поднялся на дыбы, защищая всадника от осколков, и стал заваливаться назад: всадник соскользнул с него и побежал в степь.
Багаев широким шагом шел по крыше состава, перепрыгивая провалы в местах сцепления вагонов. За мешками с землей по двое длинной цепью лежали милиционеры. Багаев молча проходил мимо них: все, что надо было сказать, было сказано и повторено раньше.
— А ты почему один? Где напарник? — спросил Багаев у Сергея Гадалова. Плечо шестнадцатилетнего парнишки мелко дрожало под рукой Ивана Яковлевича. — Боязно?
— Не-ет, — ответил Сергей. — Замерз я, вот и дрожу. Со мной Иван Елдышев, он ждет вас у пулемета.
— Тогда тебе лучше, парень. Я вот не замерз, а дрожу…
Сергей улыбнулся мучительно.
Елдышев сидел у пулемета и доставал из чехольчиков немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Аккуратно ставил их рядком. Сосед его, агент губрозыска Петр Космынин, сожалеючи спросил у Багаева:
— Как будем делить, товарищ начальник?
— Поровну, Космынин, поровну, — ответил Багаев, устраиваясь за пулеметом. — Сказано же было! Хоть как хитри, Космынин, а их всего шесть…
Космынин отбухал в окопах всю царскую войну, боевой опыт у него был. Ему Багаев поручил хвостовую часть состава, Елдышеву — головную, себе взял центр…
— Что-то вы расселись, мужики… Не к теще на блины пришли.
Космынин взял две гранаты, поднялся и сказал обиженным голосом:
— Пойду.
— Поспеши… А ты, тезка, — попросил Багаев Елдышева, — пригляди за Сергеем Гадаловым. Побереги его… Два языка, пострел, знает, в угрозыске ему цены не будет.
— Я уж и так, товарищ начальник, — ответил Иван, взял гранаты и побежал к своим.
Балка еще выхлестывала последних конников, а основная их масса уже развернулась и лавой пошла на состав. В тишине зимнего утра возник слабый вой, он разрастался, густел. «Сотни полторы», — определил Багаев. Нападение подготавливалось в спешке: много времени было потеряно на выход из балки по неудобному, видимо, подъему.
— Любуйся, Тюрин, — сказал Багаев напарнику, — такое не часто увидишь. Это не какая-нибудь бандочка, казаки идут.
— Дурость — и ничего больше, — ответил Тюрин. — Разве так поезда берут?
— А где ты видел, как их берут? Мне как-то не приходилось полюбоваться.
— В Америке видел.
— В Америке… — сказал Багаев отсутствующим голосом и приник к прицелу. — Вася! — сказал он снова, нетерпеливо и тревожно. — Не приказываю — прошу: старайся держать ленту повыше, Вася. Заест — пропадем, тут тебе не Америка.
Вон тот бородач, думал Багаев, его только допусти сюда… Еще немного, еще… Уже виден провал разъятого в крике рта. Еще подождать… Пора!
И он ударил.
Лишь самое начало боя, когда ударил пулемет и стал сминать первый рядок лавы, и она, словно наткнувшись на невидимую стену, потекла в стороны, — лишь это уложилось целостной картиной в сознании Сергея Гадалова, а все остальное слилось в какой-то вихрь обрывочных картин и действий, причем все свои действия он совершал бессознательно — будто и не он, а кто-то посторонний, существовавший в нем потаенно до поры до времени. Этот деловитый человек в нем стрелял, бежал туда, куда приказывал Елдышев, совершенно не думая, с какой целью бежит и что будет делать дальше, — и не удивлялся тому, что цель перебежек вдруг раскрывалась сама, без подсказки: надо было снять с тендера четверых казаков. Рядом стреляли товарищи, и он тоже щелкал затвором, досылал патрон, стрелял — и, может быть, убивал, и — хотел убивать.
Визг лошадей, жалобный плач рикошетируемых пуль, площадной мат, стопы, грохот гранатных разрывов, прерывистый говор пулемета — все это видел, слышал другой человек в Сергее Гадалове, и он, этот другой человек, кричал от страха, ужасался, ничего не понимал и хотел одного — забиться куда-нибудь, спрятаться, исчезнуть. И то желание осуществилось: позади ударила граната, и Сергея сбросило взрывной волной с крыши вагона. Он успел ощутить толчок о землю, но земля его не задержала, он продолжал падать в ее темные вязкие недра и пробыл там целую вечность. А когда пришел в себя и встал, покачиваясь, то увидел, что за целую вечность ничего на земле не изменилось. И еще увидел — смерть его близка. Тогда тот, деловитый, не рассуждая и ничему не удивляясь, поднял винтовку и выстрелил. И потому, как мстительно оскалил зубы казак, как занес он для удара шашку, понял Серега Гадалов, что промахнулся, и закричал коротким смертным криком. И опять деловитый, будто так и надо, успел поднять плашмя винтовку. Сталь тяжко, со вскриком, ударила о сталь и высекла струю бледных искр. На второй удар всаднику не хватило жизни: Елдышев услышал крик Сергея и послал свою пулю.
И сразу же все стало тихо. А может быть, и не сразу, но только Сергей Гадалов вновь ощутил себя, когда кругом стало тихо. Конечно, звуки были: пофыркивал паровоз, поругивались на крыше дальнего вагона какие-то люди, пытаясь сбить пламя землей; вблизи слышалась негромкая хриплая речь, посвистывал ветер в разбитых окнах тормозного вагона; голос санитарки Тони ласково уговаривал кого-то: «Потерпи, миленький, потерпи. Батюшки, да зачем ты меня кусаешь? Не надо, миленький, кусаться, мне еще других перевязывать». Эти голоса и звуки доходили до Сергея смутно, он ничего не понимал в них и, сидя на земле, бездумно смотрел на левую кисть руки, где шашкой был почти отвален мизинец. Временами на Сергея накатывала дурнота, глаза застилали багровые всполохи, бил озноб. Но не от этого страдал он — страдал от мысли, сначала слабой и отдаленной, а по мере того, как он приходил в себя, все более грозной и неумолимой — ее, казалось, рождал каждый удар сердца: трус, трус, трус… «Трус!» — кричало все его существо, и жизнь, которая была так желанна, за которую он так дрожал, теперь казалась ему невозможной, отвратительной, купленной ценой предательства. Как посмотрит он в глаза своим товарищам, что скажет Елдышеву, что скажет Багаеву? Они все видели, все знают, а он не знает даже, живы ли они, — так боялся за себя. И Сергей, ярко и зримо вспомнив свой ужас и бесцельные неумелые действия, застонал от стыда.
А Багаев — вот он, подошел, сел, спросил:
— Сергей, почему руку не перевязал?
Спросил буднично, устало — и это было необъяснимо, это никак нельзя было совместить с тем, над чем казнилась душа юноши. Сергей снова глянул на окровавленную руку, боль стала нарастать, заполнять тело, подошла к горлу, но тут же отхлынула, и Сергей забыл о ней. То, что он отделался пустячной раной, когда другие, возможно, отдали свои жизни, лишний раз убедило его в своей трусости, виновности, подлости. И догадка обожгла его: Багаев притворяется, Багаев щадит…
Багаев между тем внимательно вгляделся в Сергея. Вздохнул, поднялся, одернул на себе гимнастерку:
— Встать, Гадалов! Встать!
— Зачем? — вяло отозвался Сергей. — Зачем вы притворяетесь, Иван Яковлевич? Меня расстрелять надо…
— Что такое? Ты как, сукин сын, с командиром разговариваешь? Вста-а-ть!
И с острой жалостью глядел, как поднимается с земли Сергей Гадалов. Чистая душа этого юноши скорбела… Вспомнил Багаев себя, первую сабельную рубку свою, затуманился…
— Сергей, — мягко сказал он. — Слушай меня внимательно. Слушай и запоминай, повторять не стану. Ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстановке, понял?
Однако пришлось повторить. Сергей вроде бы и слышал, а не понимал ничего. Дело худо, подумал Багаев, в таком разнесчастном виде его оставлять нельзя. Он зорко огляделся по сторонам, крепко встряхнул парня, спросил:
— Способен слушать?
И увидел — способен.
— Повторяю. Елдышев доложил: ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстоятельствам. Оглушенный и сброшенный с крыши вагона, винтовку не выронил, не напоролся на штык. Понял теперь? Винтовку из рук не выпустил и от казака оборонился. Значит, Серега, из тебя выйдет надежный боец.
Сергей так и подался к нему:
— Дядь Ваня, правда ли? Выйдет?
— Еще чего — командир тебе брехать будет? И кто он такой, этот дядь Ваня? — стал заворачивать потуже гайки Иван Яковлевич. — Я такого не знаю. Я знаю командира спецотряда товарища Багаева, то есть себя лично, и бойца спецотряда, агента губрозыска товарища Гадалова. В данную минуту командир выражает бойцу благодарность за стойкое поведение в бою, а боец стоит перед командиром рассупонившись, винтовка на земле, рука не перевязана. Марш на перевязку! Казацкая шашка не больно сечет, зато потом больно бывает, поверь мне.
А там, на разъезде, выскочил в это время из землянки человек, кинулся в одну сторону, в другую и увидел то, что, наверное, боялся увидеть, — и застыл на месте. А потом побежал — на пределе сил, заполошно размахивая руками, раздирая легкие дыханием. Подбежал, рухнул на колени, затих.
И Багаев, глянув туда, гневно себя укорил. Восемь человек погибло в бою, но вот о самом первом он забыл, даже в счет не взял его. После боя много забот о живых сваливается на командира, а все ж таки забывать-то не следовало, раз обещал…
На шпалах лежал четырнадцатилетний парнишка. Осколки гранаты распахали его тело, лишь лицо осталось нетронутым: широко раскрытыми глазами глядел он в зимнее небо, и не видел ни неба, ни Багаева, ни отца, уткнувшегося головой ему в колени, ни Елдышева, подошедшего и вставшего рядом с Багаевым. Короткой, как гранатная вспышка, была его жизнь: пришел и ушел, и нет его, малой песчинки этого мира. «А вот что я сделаю, милый мой, — решил Багаев,-сокрушаясь сердцем. — Выстрою я отряд и перед строем по русскому обычаю поклонюсь в пояс твоему отцу. И благодарность ему скажу от всего мирового пролетариата. А имя твое в рапорт впишу. Больше, милый мой, я ничем не богат».
Человек тяжко поднял голову от колен сына — борода в крови, зубы оскалены — не человек, оборотень.
— Имя спрашиваешь? — ненавистно прорыдал он в лицо Багаеву. — А ты, сука красная, сына мне вернешь за имя?
Под шершавой ладонью Елдышева рука Багаева намертво припаялась к кобуре маузера — не шевельнуть. Нет света, нет дыхания…
— Стреляй! — хрипел мужик, поднимаясь. — Пореши заодно!
Елдышев, вздыхая, шел за Багаевым.
— Сманул мальчонку… Осиротили! — ненавистно неслось им вслед. — Убивать вас буду, жечь… Чтоб она сдохла, ваша проклятая революция!
— Ничего не пойму, — сокрушенно говорил Елдышев. — Лежал он в землянке связанный, как куль. Не мы его связали, не мы мальчонку его гранатой растерзали… Хоть убей, ничего не пойму, Иван Яковлевич.
— Раз он лежал связанный, это меняет дело, — задумчиво проговорил Багаев. — Ты, тезка, потолкуй с ним. Наскоком, как я, такого сурьезного человека за душу не возьмешь… Кто он такой, где живет, какая семья? И узнай имя парнишки.
— А чего узнавать? Узнано… Степан Степанович Туркин, тринадцать лет. И отец его, вурдалак этот, тоже Степан Степанович. Вдвоем тут и живут: Степан Степанович да Степан Степанович.
— Жили вдвоем, — поправил Багаев. — Ему теперь не прожить после нас и дня. Надо его забрать с собой. Уговори.
— Я девок-то не умел уговаривать, — махнул рукой Елдышев, — а этого как уговоришь? Постараюсь, конечно… Вы бы поехали?
Багаев запустил пятерню в волосы на затылке:
— М-да… Поговори все ж таки.
Поезд тронулся только под вечер. Машинист осторожно провел состав по кое-как скрепленным рельсам. В насквозь продуваемой теплушке уснули милиционеры, свободные от несения дежурств. Спали вповалку, укрывшись брезентом, исторгая стоны, храп и жаркие речи, смятые сном в мычание. А в другой теплушке под куском брезента, у стены, спали еще восемь, навсегда свободные от дежурств. А девятый остался далеко позади, у разъезда, и спал под большим крестом, который отец сделал ему из просмоленных плах. Он закончил эту работу — глядь, а конники — вот они, и лошади, сбрасывая пену, кивают ему головами.. Что ждать от этих людей? Он удобнее перехватил топор и пошел на первого, уже знакомого ему.
— Хорошо ли твой сын послужил красным? — спросил знакомец, обнажив сахарные зубы. Жеребец под ним плясал.
— Хорошо, — подтвердил отец, приближаясь. — Жеребца уйми.
— А куда ж ты идешь? — спросил знакомец. — С топором-то, куда?
— К тебе иду, сахарный, — сказал отец, приближаясь. — Убить тебя.
— Ну, попробуй, — смеялся тот: каждое движение топора сторожил позади казак с шашкой. — Ну, давай размахнись пошире!
— Еще чего, — сказал обходчик и метнул топор снизу вверх. — Дурака нашел?
Лезвие топора врубилось в грудь всадника, задев концом открытую шею. Всадник пустил изо рта длинную черную струю и сполз с лошади.
— Топор дюже хорош, — сказал обходчик. — Струмент дедовский.
И никто его не услышал: ни тот, кто стоял рядом и стирал с шашки кровь, ни те, уже далекие, кого мотало сейчас в насквозь продуваемой теплушке, ни Иван Елдышев, который звал его с собой, ни Сергей Гадалов, который лежал рядом с Елдышевым, баюкая перевязанную руку, ни Иван Багаев, стоявший в кабине паровоза, — никто его не мог услышать. Если бы эти люди оглянулись, они бы, возможно, увидели в степи огненный крест — жарко горит просмоленная плоть дерева! Но эти люди не оглядывались: что позади — то позади. А впереди снова горбился подъем, и Багаев, злой, напружинившийся, крикнул машинисту:
— Батя, сколько еще их на нашу долю?
Машинист подумал и хмуро нагадал, глядя во тьму:
— На мою долю два, а на вашу, сынок, как придется…
9
Состав с хлебом они привели в Астрахань ранним утром. Когда осталось совсем немного до Астрахани, Елдышев, выбрав минуту, обратился к Багаеву:
— Товарищ начальник, прошу совета.
— Давай, на советы я горазд…
Елдышев рассказал, что происходит в родном Каралате.
Багаев насупился.
— Ты же сам видишь, — сказал он, — ребят я собрал боевых, но ведь молодежь, пороху и не нюхала! А нам еще раз идти.
— Теперь понюхали, — тихо заметил Елдышев. — Потому и говорю: прошу совета, а не прошу отпустить. Где мне быть нужнее? Душа у меня неспокойна. О порохе мы заговорили… Я в Каралате целую бочку его оставил, и фитилек рядом.
— А почему сразу мне не сказал?
— Хотел, да не решился… Я военный человек, Иван Яковлевич.
— Тоже резонно… Вряд ли бы я поверил тебе сразу-то. А теперь видел в деле — верю.
— Благодарю, товарищ начальник…
— Есть, значит, хлеб у кулачишек…
— У нас, Иван Яковлевич, не кулачишки, у нас исстари богатейшее село. — Елдышев рассказал о том, как весной семнадцатого года старик Точилин, спасая рыбные промысла от половодья, заваливал мешками с мукой прораны в валах. — Многолетние запасы у них. Ни сеют, ни жнут, божьи птички, а хлебом да снастью держат в узде нашего брата, ловца-сухопайщика. Без хлеба, Иван Яковлевич, на лов рыбы не выйдешь.
— Ладно, — сказал Багаев, — отпускаю. Я, признаться, глаз на тебя положил, думал забрать к себе в аппарат. Грамотных у меня мало, Ваня! — пожаловался он. — Протоколы пишут через пень колоду… Чтоб свой, преданный революции человек да еще и грамотный — это, брат, на вес золота. Как там Сережа Гадалов? Раненых навещал, а его среди них не видел. Оклемался?
— Да как сказать? Кисть вспухла, жар… Думаю, два звена от мизинца отнимут.
— Ничего, злее будет, — сказал Багаев. — Но пусть дурака не валяет! Чтоб был в теплушке для раненых! А то знаю его… Вознамерился, поди, скрыть и второй раз пойти с нами.
— Есть у него такая мыслишка, — улыбался Елдышев. — Эх, молодо-зелено… У всех, говорит, раны как раны, а у меня — мизинец…
— Вот-вот! Передай ему мой приказ и будь свободен, — сказал Багаев. Пожал руку Ивану, добавил: — Держи там крепче революционную линию, товарищ. Если что — сообщай, поможем.
По дороге к лазарету, в котором лежал дружок его Васька Талгаев, Иван забежал на базар Большие Исады, продал трофейные мозеровские часы. Купил пирог с требухой, кусок вареного мяса, фунт хлеба и фунт комкового сахару. Подсчитал остаток — хватило на фунт перловой крупы и пачку махорки. Крупой и махоркой дядьку обрадует… К Ваське его, как и в прошлый раз, не пустили, но сказали, что вчера он поднялся и сидел на койке. Иван передал через нянечку продукты, записку и, радостный, что друга не сожрал тиф, выскреб из карманов все, что оставалось в них, нанял извозчика и покатил на Форпост. Здесь
ему повезло — нашлась оказия. Ночью он уже стучал в дверь землянки, с замиранием сердца ожидая дядькиного голоса. И скрипнула внутренняя дверь, и явлен был родной голос, и отлегло от тревожного сердца…
— Живой? — тормошил дядьку Иван.
— А что с нами сдеется? — сонно отвечал дядька. — Ваня-а… Табачку не промыслил ли?
И от этого сонного теплого голоса, от влажного, живого дыхания единственного во всем белом свете родного ему человека стал Иван счастлив… Торопясь, нашел дядькину руку, вложил в нее пачку махорки.
— Мать родная! — возликовал Вержбицкий, заядлый курильщик. — Целая пачка!
Ах, дядька, дядька! Пень бесчувственный…
10
У старика Григория Точилина, к которому экспроприационная комиссия пошла на следующий день после возвращения Ивана, не семья была — род. Шесть сыновей, старшему из которых, Никите, было за пятьдесят, семь женатых внуков, правнуки и правнучки — иных женить и выдавать замуж уже пора. Старик никого не отделял, лишь построил для сыновей и старших внуков дома рядом. Столовались вместе, общий расход шел из рук старика и доход в его руки. Когда Елдышев с товарищами вошли в горницу, Точилины сидели за огромным, как поле, столом, завтракали. Из трех кастрюль на столе и увесистых кружек парил круто забеленный калмыцкий чай, запах свежевыпеченного хлеба сминал мысли… Иван быстро и обеспокоенно глянул на Мылбая Джунусова. Тот держался молодцом, лишь на глаза пал туман…
— Гляди-ка на них, — сказал Григорий Точилин, восьмидесятилетний, крепкий телом и хищный разумом старик, — выставились, гостенечки дорогие, комиссары голож… Бабы! Все с печи на стол мечи, а то сами по загнеткам будут шуровать, обожгутся ишо… У них, у комиссаров, манера такая — первым делом пожрать на дармовщину.
Старик набивался на скандал, это было ясно. Шум нужен был старику, свалка. Сыновья и внуки угрожающе поднимались из-за стола — все сытые, краснорожие… Андрей, сын Ерандиева, щелкнул затвором винтовки.
— Отставить! — приказал ему Иван и сказал Джунусову, жалея его сердцем: — Сходи, Мылбай, приведи трех понятых.
Джунусов глядел на него туманными глазами.
— Трех понятых, — показал Иван на пальцах. — Приведи.
Мылбай наконец осмыслил сказанное, вышел. На лицо старшего Ерандиева было страшно смотреть. Да и сам Иван чувствовал, что такой ненависти у него не было даже к немцам. С немцами он вместе со своей ротой однажды братался в окопах… С однокровниками Точилиными его не побратает и смерть.
Излишков хлеба, скота и мануфактуры у Точилиных не оказалось. Продуктовая лавка и лабаз старика тоже были пусты, а полки вымыты и выскоблены, словно в насмешку. Обыск закончили к вечеру. Иван на что был крепкий парень, но и его пошатывало.
— Мы, — сказал Точилин, под одобрительный смешок своих потомков, — комиссарам завсегда рады. Захаживайте при случае ишо раз.
— А мне с тобой, гражданин Точилин, и вовсе жаль расставаться, — ответил Иван. — Собирайся.
— Это куда же?
— В кутузку. Посидишь — авось вспомнишь, где хлеб спрятал и куда скот угнал.
От кулака Земскова, как и от лавочника Точилина, экспроприационная комиссия тоже ушла ни с чем, если не считать самого Земскова.
— Привел тебе напарника, старик, — открыв дверь каталажки, сказал Иван. — Вдвоем вам будет веселее. Как надумаете — позовите, я рядышком.
— Вота тебе, — прошипел старик Точилин, вывернув кукиш, — не видать вам моего хлеба!
— Завтра, граждане, — невозмутимо продолжал Иван, — перевожу вас на пролетарский рацион питания. Один раз в день кружка горячей воды, фунт хлеба и одна вобла. Родственники ваши предупреждены, чтобы больше ничего не носили.
Дня через три пришел старший сын Точилина, Никита, угрюмо попросил: «Дозволь отцу слово молвить». Иван молча отпер замок. Впустил, сам встал в дверях.
— Батюшка, — поклонился отцу сын, — их сила. Не выдюжишь.
Старик его прогнал. А через неделю потребовал священника. Иван к тому времени уже освободил Земскова, сын которого привез хлеб на двух санях. Ездил он за ним к морю, в камыши, — там, на одном из бесчисленных островков, был, видимо, у Земсковых тайник. Хотелось бы знать Ивану, что осталось в том тайнике… Комиссия перестала ходить по кулацким домам. После двух-трех неудач Елдышев понял, что это бесполезная трата времени: хлеб, мануфактура, соль, спички, снасти, сахар спрятаны у каралатских захребетников давно и надежно. Еще понял Иван, что действия гласные, дабы иметь успех, должны быть подкреплены действиями негласными. Стал начальник волостной милиции (а теперь он был полноценный начальник, волисполком поднатужился и наскреб паек для двух милиционеров) хаживать в народный дом, где директор Храмушин учил парней и девчат грамоте. Здесь же каралатские комсомольцы готовили к постановке свой первый спектакль и, не мудрствуя лукаво, вкладывали в уста шиллеровских героев призыв к революции… Стал, повторяю, Елдышев хаживать в нардом, и вскоре у него появилось в друзьях много молодых людей. Иные удивляли его своей зоркостью. Семнадцатилетняя Катька Алферьева сказала ему, что в избе коммунара Степана Лазарева повадились глубокой ночью топить печь. «Катерина, — строго сказал Елдышев, — ты бы допоздна-то не гуляла, замерзнешь еще ненароком… И что же, часто печь топится?» — «Раза два видела, — запылав, прошептала Катька Алферьева. — Вася видел… тоже».
Вася между тем недобро поглядывал на них из другого конца зала, где собрались парни. К счастью, Вася оказался пареньком смышленым и понял все с полуслова. Катерину провожали вдвоем… Со двора Алферьевых хорошо был виден двор Лазаревых, но в ту ночь наблюдатели не заметили ничего подозрительного, даже печь не топилась. Повезло во вторую ночь. Перед рассветом возник у крыльца человек, постучал в дверь условным стуком. Открыли ему тотчас — видать, ждали. «Выйдет — доведешь его до дому, — прошептал Елдышев Васе. — Не приметил чтоб!» Вася кивнул, снял тулуп, оставшись в ватнике: в первую ночь они чуть не пообморозились, вторая — научила их уму-разуму. «Вернешься и заходи туда, — Иван кивнул на землянку. — Я там буду».
Ночной гость недолго задержался у Лазаревых. После его ухода Иван подождал минуты две, перемахнул через забор и постучал так, как стучал ушедший. И верно постучал, потому что Лазарев, полуоткрыв дверь и белея в темноте исподним, спросил заискивающе:
— Али забыл что, Никита Григорич?
Сказал он эти слова и осекся. А Иван подумал, что зря погнал Васю следить за пришельцем: хлеб здесь был точилинский.
Они постояли немного, и тяжело дались эти мгновения Степану Лазареву, которого Иван знал с детства мужиком многодетным и невезучим. Баба его, тетка Лукерья, постоянно рожала одних девок, да и те мерли: из четырех выживала одна. Скотина на этом дворе тоже не держалась: то в ильмене увязнет, то мор на нее падет. А однажды летом произошло такое, после чего Степан уже не мог подняться хозяйством и съехал в батраки. За одну августовскую ночь неведомая болезнь, называемая в народе сетной чумой, превратила всю его снасть в коричневую гниющую массу. Другой бы запил от стольких напастей, озверел, но Иван помнил Степана Лазарева всегда веселим, неунывающим, с удивительно светлой улыбкой на курносом бородатом лице. Был Степан Лазарев схож с Ивановым отцом несгибаемой беззащитностью перед жизнью: оттого-то, видно, и дружили… Но, вспомнив это, Иван одернул себя: отроческая память светла, но она не даст ключа к пониманию того, что было и что есть… Коммунар Степан Лазарев глухо сказал:
— Проходи, товарищ Елдышев, коли пришел.
В горнице Степан долго высекал огонь, чтобы затеплить каганец. Иван нащупал ногой табуретку, сел. Сопели на печи дети, в темноте теленок ткнулся сухим теплым носом в руку Ивана, вздохнул, как человек. И сразу же проснулась тетка Лукерья и спросила звонко, предчувствуя беду:
— Отец, ктой-то у нас? Кто?
— Я это пришел, теть Луша. Иван Елдышев.
— Да чтой-то ты поздно, Вань? Али дело какое?
Иван молчал. Тогда Лукерья слезла с печи, во тьме нашла Ивана, опустилась на колени и обняла его ноги. Иван поднялся, но больше двинуться не мог. «Ты что? — растерянно сказал он. — Ты что, тетка? Пусти…»
— Вань, — тихо просила Лукерья, — не погуби нас, век молиться буду. Вань, ты же нас знаешь… Ну что тебе? Ну хочешь, большутку нашу возьми… Ты солдат, тебе надо… Девке шестнадцать, в самой поре… Анка, проси его, проси! Проси! — вдруг закричала она и, разжав руки, сползла на пол.
Степан зажег каганец. Жалкая улыбка кривила его губы… Вдвоем они подняли Лукерью, положили на застланный чаканкой пол, где, прикрываясь тулупом, сидела старшая дочь Анка. Рядышком беспробудно спали еще две девочки. На печи за ситцевой занавеской, откуда слезла Лукерья, слышались шорохи, сладкий сап, сонное бормотанье — и там спали дети. У печки покачивалась подвешенная к потолку зыбка. В ней сидел большеглазый младенец и ликующе гулькал, потому что видел свет каганца, слышал голоса людей — и в том была его огромная радость.
Вошел Вася, доложил уже известное. Спросил:
— За сколько продал коммунарскую совесть, дядь Степан?
— За мешок муки, Вася, — ответил Лазарев. — Двадцать точилинских храню, чтоб им пусто было. И еще лежат у меня в подполе десять мешков кускового сахару да пять штук ситцу.
— Июда ты, дядь Степан, — сказал Вася. — А ты, ты! — крикнул он, найдя глазами Анку. — Предательша! Гадюка! С нами ходишь, наши песни поешь, а нож у тебя за пазухой.
— Я июда, — ответил Степан, — а девку не трожь. Ты ее слез не видал. И будя об том. Я готовый, товарищ Елдышев. Все приму.
— Дай! — потянулся Вася к кобуре Ивана. — Дай мне!
— Больно ты резвый, парень, — сказал Елдышев, отводя его руку. — Тетка Лукерья, ты жива?
— Жива, Ваня, — ответила Лукерья. — А силушек моих нету подняться. Сердце зашлося. Ты прости меня за слова за поганые. И ты, дочь, прости. Ум смеркся.
— Светает уже, — сказал Иван. — Туши каганец, хозяин. Мы сейчас с Василием уйдем, и запомните, граждане Лазаревы: нас тут не было.
— Шкура ты, товарищ Елдышев, — сказал горячий Вася. — Ух, гад! Вот кого стрелять надо… — И Вася пошел к двери.
— Погоди, — Иван цепко ухватил его за плечо. — Не петушись… Никита Точилин часто приходит за мукой, дядь Степан?
— В неделю раз… Понемногу берет.
— Придет — дай! Прими, как принимал. И гляди, Степан Матвеич… Судьба твоя на волоске.
Елдышев почувствовал, как доверчиво ослабло под рукой плечо Васи.
И было это неделю назад. А теперь старик Точилин требовал попа — собороваться.
— Помрешь и так, — жестко сказал Иван. — Или здесь помрешь, или хлеб отдашь, лютый старик. Контрреволюционную агитацию я тебе разводить не дам.
— Зови Никишку, — глухо сказал тогда Точилин.
Иван привел Никиту, прикрыл за ним дверь каталажки — пусть теперь отец с сыном посовещаются наедине. На хлеб, что спрятан у Лазарева, они не покажут, думал Иван. Для них он надежно спрятан, никому и в голову не придет искать у Лазаревых. Есть и еще причины, чтобы не указывать им на Лазаревых. Лучше вырыть еще одну яму с хлебом, чем вырыть яму себе, лишившись поддержки в Заголяевке. Точилины — они каралатские политики, усмехнулся Иван, на том и срежутся.
— Хватит, граждане, — он открыл дверь. — Не на сходку собрались. Что решили?
— Пойдем, — сказал Никита Точилин, — получишь хлеб, чтоб ты им подавился.
— Разжую как-нибудь, у меня зубы крепкие.
Во дворе у младшего сына старика двенадцать Точилиных подошли к широченному крыльцу, ухватились за края дубовых плах, крякнули, приподняли и понесли крыльцо в сторону. Открылся низкий деревянный сруб, запечатанный круглой плашкой, — лаз в тайник. «Теперь, дед, — сказал Иван старику, — можешь помирать на здоровье». — «Я ране твою смертушку увижу, Ванька, — ответил Точилин. — Увижу и помру спокойно». — «Не будет, дед, нам спокойной смерти, — сказал Иван. — Хлеб твой, что спрятан у Лазарева, мы нашли. Где ж тут помереть тебе спокойно? А мне, думаешь, легко будет помереть, зная, что весь твой выводок цел? Ради спокойной смерти нам с тобой надо было еще при царе поторопиться… Ты что, сдурел?»
Старик дико, по-заячьи вереща, тянулся дрожащей лапкой к горлу Ивана.
11
Каталажка не пустовала. Зато и хлеб потек тонким поначалу ручейком, а Иван расширял его русло всячески… И вдруг из губернского комиссариата юстиции пришла в Каралатский волисполком бумага. Некий Диомидов, следователь, грозил начальнику Каралатской милиции страшными революционными карами за аресты мирного населения. Предволисполкома Петров, твердый и безоглядный во всем, перед каждой бумагой сверху испытывал трепет… Чесал затылок, спрашивал:
— Ваня, права-то нам на такие аресты дадены? Ты человек грамотный, растолкуй. А то, знаешь, своя же власть к стенке и поставит.
— А мы не пробовали уговорами? Не собирали кулаков на митинг?
— Шут его ломи! Что ж он тогда пишет! Сдурел, что ли? Его бы в нашу шкуру!
— Мы, Андрей Василич, ни одного каралатца, сдавшего добровольно излишки, не арестовали. Давай и будем отсюда плясать. Но все ж таки… Напишу я Багаеву. Он мой начальник, ему и карты в руки: пусть разъяснит, кто из нас прав, а кто виноват.
Багаеву он написал все, как есть, начиная с Точилина. Не утаил, что в кутузке холодно, топит ее два раза в неделю, и что из бедняцкого фонда, созданного волисполкомом, он ни грамма не берет на питание арестованных: их содержат родственники. Написал и про рацион, который установил сам.
Вот и бумажная война началась, думал он, грустно улыбаясь.
12
В Каралат приехал агент губрозыска Сергей Гадалов. Учил Ивана, как правильно вести следствие, оформлять протоколы. Привез и записку от Багаева. «Товарищ Елдышев! — писал начгубмилиции. — Этот перекрашенный меньшевик Диомидов давно требует твоего ареста. Я знаю, за какое мирное население он хлопочет, и тебя в обиду не дам. В городе голод. Кто тайно гонит скот под нож, кто гноит хлеб, рыбу, сахар и мануфактуру в земле, тот враг революции, и весь тут сказ. Действуй, товарищ, смелее! Пролетарский привет товарищу Петрову, он держит правильную линию. На ней и стойте».
Петров расцвел.
— Ты и обо мне написал, Ваня? — польщенно спросил юн. — Вот спасибочко. Уважил!
— Андрей Васильевич! — сказал Сергей. — Багаев на словах просил передать, чтобы на каждый арест волисполком выдавал Елдышеву разрешение.
— Эка, Сережа! Пусть-ко попробует без разрешения. Мы ему попробуем!
— Имеется в виду письменное, Андрей Васильевич. Приедет проверять тот же Диомидов, камера у вас забита, а тут, — Сергей поднял папку, — пусто. По какому праву Елдышев арестовал людей? Взял — и арестовал, можно и так понять.
— Действительно… — снова полез пятерней в затылок Петров. — А ты-то куда глядел? — напустился он на Ивана. — Мы-то хоть народ темный, а ты все поповские книги перечитал, голова! Мог бы и присоветовать.
— Про наш случай в тех книгах ничего не написано, — улыбался Иван. — Как теперь будем решать эту задачу, Сережа?
— Волисполком, я думаю, должен собраться и утвердить все прошлые аресты, если согласен с ними. Нужно перечислить всех арестованных поименно и против каждого имени — указать, за что.
— Причина у нас одна: за злостное противодействие декрету о продразверстке, — сказал Иван. — Других причин у нас пока нету.
— Так и запишите.
— Так и запишем, — повеселел Петров. — Век живи, век учись. И дюже мне боязно, что дураком помру…
Сергей приехал не только затем, чтобы дать им начала юридической грамоты. Была у него и другая цель, про которую он сказал только Ивану и его дядьке. На пригородных дорогах, сказал Сергей, пошаливает банда. С городским уголовным миром она связана через барыг, кое-какие следы ее сейчас нащупываются в известных губрозыску малинах, но банда не уголовная, а ярко выраженная кулацкая, грабит продовольственные обозы, направляемые из сел в город.
— Вы сколько обозов уже отправили, Иван Гаврилович? — спросил Сергей.
— Сережа, да зови ты меня, ради бога, по имени! — сказал Елдышев. — А то я прямо дедом себя чувствую.
— Стесняюсь я, Иван Гаврилович… Ваня… — Сергей запылал.
Тогда, на крыше хлебного состава, потерявшись от страха (что уж теперь скрывать-то, горько думал он о себе), Сергей слушал только приказы Елдышева, бежал, куда надо было бежать, стрелял, в кого надо было стрелять, и только благодаря этим приказам, благодаря тому, что их надо было выполнять и на другое не давалось времени, Сергей и остался, как сам считал теперь, человеком. Позже он успел побывать в двух засадах, и бандитские пули были в него целены, и благодарность Багаева уже была у него, и всем этим он был обязан двадцатишестилетнему Елдышеву, прошедшему всю царскую войну, отступавшему с Одиннадцатой армией по ногайским степям и испытавшему столько, сколько Сергею не испытать, наверно, и за всю жизнь.
— Ваня, — сказал он и прислушался, словно не веря себе, и повторил радостно, жарко: — Ваня! Я тебе не только жизнью обязан, ты это знай. Я за тобой, Ваня, пойду в огонь и в воду…
— Вот и хорошо, вот и ладненько, — сказал Вержбицкий, чем и помог обоим в их смущении. — Дружите, сынки. Живете вы опасно, душу на замке держать вам не след. А то мой Ванька — ну ни с кем. Хоть бы девку завел, что ли?
— А когда? — теперь уже по-иному смутился Иван.
— Когда… Умеючи, найдешь когда.
— Кончай, дядька, свою погудку, — строго сказал Иван. — Четыре обоза отправили мы, Сережа. И все дошли благополучно.
— В том-то и дело. Но на той же дороге были разграблены два обоза… Вам фамилия Болотова ничего не говорит?
Им эта фамилия кое о чем говорила. Старик Болотов сидел сейчас в камере, дозревал до необходимости сдать излишки… Семейка была в такой же силе, как и Точилины. Но вся семейка была налицо, никто из Каралата не отлучался, о чем Иван и сказал Сергею.
— Ан и не так, — поправил его дядька. — Один из Болотовых, Николка, как отлучился из села года четыре назад, так и с концами.
Разговор произошел в первый день приезда Сергея. А вечером того же дня Иван познакомил его с Антошкой Вдовиным. Вдовины по богатству своему шли чуть позади Болотовых и дружили меж собой, но Антошка, тянувший к каралатскому комсомолу, кое в чем согласился помочь… Дня через два, уже втемне, он приполз к землянке Вержбицкого. Иван с Сергеем втащили его и ахнули. Лицо парня превратилось в кровавое месиво, сельский фельдшер, за которым сбегал Вержбицкий, нашел перелом ключицы и ребра. Антошка силился что-то сказать и не мог.
— Кто тебя? Кто?
— Ф-фи-и-иль-ка-а… — вышептал наконец парень. — Со-о-ба-ачий… у-у-уло-ок…
Иван выпрямился растерянно. Ни у Болотовых, ни у Вдовиных никаких Филек-Филимонов не было. И не было в Каралате Собачьего переулка. Что-то тут не так. Он снова склонился над парнем: «Кто тебя, кто? Родные братья? Или же братья Болотовы?» — и, заглянув в эти кричащие глаза, Иван, может быть впервые в жизни, понял, что наигорчайшая из мук — мука непонимания…
— Ваня! — стеганул его по нервам изменившийся, тревожный голос Сергея. — Надо немедленно в город, Ваня!
— Не позволю, молодые люди, — сказал фельдшер. — Вы не довезете его. Уж как-нибудь я сам. И не таких выхаживал.
— Это ясно, отец, — сказал Сергей. — Ваня! Надо в город. Немедленно! Где хочешь, как хочешь, а достань хорошего коня.
Он тоже склонился над Вдовиным, взял его руку:
— Спасибо, товарищ…
Легкие санки и лучшего коня дал им тогда предисполкома Петров.
13
В ту ночь, в третьем часу, по Собачьему переулку шел человек, пьяненький, хорошо одетый. Над миром неистовствовала луна, и Ленька Шохин, стоя в подворотне на стреме, отлично разглядел, какое богатство плывет ему в руки: дорогая шуба, шапка-боярка, добротные валенки. «Ах, фраерок, — возликовал Ленька, — фраерочек ты мой, фраерок!.. Сниму все».
Ленька ликовал, а пьяный гражданин, наоборот, страдал беспросветно. «Зачем, зачем? — плакался он, выписывая кренделя на снегу. — За что? Подлая, грязная Элеканида! Убью! У-у-у… — взвыл он и, запрокинув лицо, стал плевать на луну. — Вот тебе, вот… Мальчик, где ты?»
Мальчик совсем не входил в Ленькины планы. Какой еще мальчик? Ленька высунулся из укрытия, мальчика не увидел, зато сам был замечен. Обманутый Элеканидой дурачок, радостно лепеча: «Тетушка, позвольте вас спросить?» — кинулся к нему, как к родному. Лучшего и желать было нечего. Зная по опыту, что сильно пьяных пугать бесполезно — не испугаются, а шуму наделают, Ленька шагнул навстречу, занес финку для удара… Но ударить ему не удалось. Рука была схвачена, черное дуло пистолета присосалось к той ямочке у основания шеи, где у каждого человека, даже у жулика, беззащитным комочком бьется душа, и пьяный трезво сказал:
— Не шали, Леня… Брось финку.
— Я не шалю, — глупо ответил Леня. Финка упала в снег. Тогда рука, цепко державшая Ленькино запястье, ослабила хватку, скользнула к предплечью и улеглась на Ленькином затылке. На руке, между прочим, не хватало мизинца — почему-то именно это обстоятельство и помогло Леньке постичь смысл происшедшего. «Спалился», — горестно прошептал он.
Непостижимым образом — откуда бы? — около Леньки возникли еще трое. Через минуту он связанный лежал навзничь под забором. Беспалый снял шубу, осторожно свернул ее, положил рядом. «Гляди, — шепнул он, — чтоб не сперли… Казенная!» Под шубой на нем оказался поношенный ватник, шею прикрывал шарф. Рядом с Ленькой лег кто-то — это был инспектор губрозыска Тюрин — и тихо сказал:
— Брехать не советую, парень… Кто в доме?
Ленька торопливо перечислил имена. Затем между ним и Тюриным состоялся короткий разговор вполшепота, после чего Ленька пискнул:
— Не буду, гражданин начальник. Не могу. Свояк, Расчехняев, убьет!
— Что значит — не могу, Шохин? И что значит — убьет? Убивать нас будут. Ты из игры целеньким вышел. Ну? Твой последний шанс!
Был беспросветно нищ Собачий переулок. Горластые псы, которыми он когда-то славился, покинули людей, потому что люди начали их есть. Домишки, кухни, сараюшки, баньки лепились друг к другу, образуя кривые переходы, закоулки и тупики, в которых легко спрятать и спрятаться. Не закрытые на ставни и болты окна бесстрашно глядели на мир: нужда оберегала их надежнее запоров. Неистовый лунный свет, блеск снега и тени на снегу — резкие и черные, словно ямы. Ни звука, ни шелеста, ни движения, все мертво… Елдышев подивился тому, как неслышно работают люди Тюрина — они занимали сейчас подходы к дому. Иван помнил Тюрина по хлебному составу, но смутно: Тюрин был там всего лишь вторым номером у Багаева за пулеметом, молчаливый, невидный человек с мужицким топорным лицом. А здесь, в губрозыске, он оказался начальником целой бригады, и Сергей шепнул Ивану, что в скором времени Тюрина назначат, видимо, заместителем начальника губрозыска. Назначат или не назначат, но нынешний начальник бригады дело свое знал хорошо. Пока Иван вываживал коня, поил и ставил его в конюшню, Тюрин успел поднять бригаду, обдумать операцию, каждому объяснить его место. Иван попал лишь к концу инструктажа, сел в уголок и, осмысливая отдельные слова, замечания, вопросы, понял, что о Болотове бригада уже многое знала и что они с Сергеем привезли недостающее звено. Сейчас люди Тюрина занимали подходы к дому, Иван не видел их, ухо не воспринимало даже скрипа на снегу, но в какое-то очень четкое мгновение он сказал себе: вот наконец все. Тюрин, стоявший рядом, расслабился, — значит, и он уловил это мгновение.
Расчехняев появился на крыльце внезапно — дверные петли в доме были надежно смазаны. Он постоял, прислушиваясь, и тихо засвистал. Тюрин повел пистолетом в сторону лежащего Леньки, и тот ответил условным свистом. Но на какую-то долю секунды он промедлил, и этого оказалось достаточно, чтобы насторожить Расчехняева.
— Своячок! — поплыл с крыльца низкий угрожающий голос. — Топай ко мне!
— Тихо ты, не базарь, — обмирая, выругался Ленька. — Не могу я подняться, маячит кто-то.
И то, что он выругался, и то, что приглушенный его голос действительно поднимался с земли, и то, что калитка была полураскрыта именно так, как была полураскрыта, и то, что в тесном дворике, застроенном клетушками и амбарушками, снег по-прежнему оставался девственно чист, не запятнан человеческими следами (содержательница квартиры тетка Филька получила строгий наказ не шастать по двору как попало, а ходить по одной тропе: от крыльца к калитке и вдоль забора — к уборной), — все это в какой-то мере успокоило Расчехняева, притушило вспыхнувшее было подозрение. Но даже в этом случае он никогда бы не сделал того, что сделал сейчас. Он подскочил к калитке, нырнул в нее и, выйдя на удар Елдышева, мягко сунулся лицом в снег. Он был пьян, Расчехняев, и это погубило его.
— Ну? — тихо сказал Тюрин, когда бандит был связан и рот забит кляпом. — Пошли!
Они гуськом поднялись на крыльцо — Тюрин, Елдышев, Гадалов, Космынин. Хорошо смазанная дверь опять открылась бесшумно. Где-то недалеко от другой двери, что вела в горницу, должно лежать на боку пустое ведро, о котором предупреждал Ленька. Тюрин нащупал его руками, поставил в сторону, мельком подумав, что Расчехняев хоть и был пьян, а сумел не стронуть его.
Вторую дверь он открывал так, как должен был открыть ее, вернувшись, Расчехняев: не осторожничая, но и без лишней торопливости, по-хозяйски. И этим Тюрин сберег несколько секунд, в течение которых сидящие за столом бандиты видели вошедших, но не могли от неожиданности осознать происходящее. Это был тот, не раз проверенный Тюриным на практике случай, когда видит око, а ум неймет…
А Ленька, лежа под забором, слышал, как четверо вошли в холодные сени, как во двор хлынул хмельной гул голосов, — это Тюрин открыл внутреннюю дверь. Несколько мгновений, которые он сберег неожиданностью, стояла во дворе томительная, почти смертная тишина. Затем в доме бухнуло два или три раза. «Господи, — взмолился Ленька, — сделай так, чтобы Болотова убило, а из ихних чтобы никого…» И объяснил богу свою странную просьбу: «Срок я тогда возьму тяжелый, а у меня баба молодая, скурвится». Но, вспомнив о Болотове, Ленька вспомнил о свояке, глянул на него… Свояк подползал к нему. Сейчас ляжет грудью на Ленькину грудь, вонзит зубы в горло. «А-а-а!.. — заорал Ленька и бревном покатился прочь, оставив ни с чем менее сообразительного свояка. — Спаси-и-те!»
Расчехняев мычал, в исступлении разбивая подбородок в кровь.
Сергей Гадалов нашел Леньку метрах в пятидесяти от дома. Он не выразил по этому поводу никакого удивления, только попенял: «Тебе что было сказано? Шубу караулить… А ты?» — «Шубу… — всхлипывал Ленька. — Пошел ты со своей шубой! Свояк чуть мне горло не перегрыз!»
— У него же кляп во рту, — сказал Сергей, вспарывая ножом веревку, которой были связаны Ленькины руки и ноги. — А ты, гляжу, сильно чувствительный, Леня. Жить хочешь, зачем в банду тогда полез?
— А Болотов? — с надеждой спросил Ленька.
— Жив твой Болотов.
— Ну бог, ну фраер! — горестно воскликнул Ленька. — Пришьют они теперь меня!
— Отпришивались, — успокоил его Сергей. — Им до трибунала только и осталось дышать. Ты нам помог, тебе суд зачтет. А после суда, мой тебе совет: просись на фронт. Кровью смоешь свою подлость перед Республикой — человеком станешь.
— На фронте тоже убивают, кореш!
— Я тебе не кореш, — строго сказал Сергей. — Ишь ты, прыткий! Я тебе, дураку, совет дал, а там — гляди сам.
14
Сергей проводил Ивана до окраины Форпоста, до знакомого солончака, теперь скрытого под снегом. Вышли из саней и, стеснительно помедлив, обнялись.
— Поклон дядьке, — сказал Сергей. — Хороший он у тебя старик, Ваня. Жил у вас, как у родных. Вот… — засмущался он и сунул в карман Иванова полушубка пачку махорки, — подарок ему передай.
Иван дернулся было, но, увидев лицо парня, сказал ворчливо:
— Зря балуешь.
Сергей рассмеялся.
…Всего ничего прожил Гадалов у Елдышева с Вержбицким, а без него изба словно опустела. Дядька слонялся из угла в угол, нещадно дымил дареной махрой, вздыхал.
— Знамо дело, нехорошо каркать, — вдруг сказал он, — а чую, Ваня: жить нам недолго осталося. Страха нет, а сердцем томлюся.
— С непривычки, — успокоил его Иван. — Я как попал в окопы, так первое время и жил тем: убьют, убьют… Ничего, задубел. И живой, как видишь.
Той же ночью в Ивана стреляли. Пуля на излете задела грудную мышцу и тупо ударила в забор. Иван взял ее из доски теплую. То ли пугают, то ли сами еще боятся, подумал он. Сплющенный кусок свинца, рубленный дома, мог бы свалить и кабана, окажись стрелок поближе и пометче.
— А ты говоришь — с непривычки, — ворчал дядька, разрывая чистую тряпку на бинты. — Хороша привычка… Нет, мое сердце не обманешь. Помню, как попасть на лову в относ, так сердце колет, колет… Ну, мужики, говорю, сегодня не пойдем, сегодня быть беде. Тем и спасались.
Иван вспомнил, как они однажды спасались, улыбнулся, но перечить не стал. Давно это было, словно в другой жизни и не с ним. Жив ли тот земсковский жеребец, что плакал, лежа брюхом на льду? Посмотреть бы на него, вдохнуть запах пота, унестись в свою юность. Ивану двадцать шесть лет, а восемнадцатилетние зовут его по имени и отчеству, словно отрубая себя от него. Что ж. Иван старше их на целую войну. Она тяжким грузом лежит на его плечах, а еще — признаться стыдно! — ни одна девка не целована, о прочем же и подумать страшно — дыхание перехватывает злая мужская тоска. Батя наградил несмелым характером, хоть умри.
А хлеб тек…
И дни текли…
И каждый пуд хлеба учитывал Иван, а дням своим учета не вел. Мало их осталось, но не крикнешь, не предупредишь — десятилетия упали меж нами… И счастлив тем человек, что не знает своего смертного часа, что до последнего удара сердца с ним живут его надежды, и тверды думы его и труды…
ПРИКАЗ № 19 ОТ 27 МАРТА 1919 ГОДА ПО АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ МИЛИЦИИ
В дни кулацкого контрреволюционного восстания в Каралате милиционер Елдышев, отбившись от кулаков и подкулачников, вбежал в землянку и оттуда отстреливался. Озверевшая толпа, подстрекаемая наймитами англичан и разной черной сволочью, видя, что тов. Елдышев героически защищается, облила керосином землянку, подожгла ее, и Елдышев был сожжен живым, но не сдался. Так погиб верный сын трудового народа. Сожалея о столь мученической смерти тов. Елдышева, я глубоко убежден, что среди товарищей милиционеров найдутся еще и еще сотни таких же преданных великому делу революции, за которую гибнут каждый день лучшие сыны пролетариата.
Нач. губмилиции И. Багаев
Иван отстреливался не один. С ним был и Вержбицкий.
Перед землянкой в весенней грязи мертвыми комками лежали три человека. Двое были из точилинского выводка. Дед Точилин глухо выл за углом соседней землянки, потом вышел и, пошатываясь, побежал к окну, за которым стоял Вержбицкий. Иван Прокофьевич снял его выстрелом, бережно поставил винтовку к стене, вздохнул:
— У меня все, Ваня.
Иван у своего окна следил за улицей, не отвечая. Ему не хотелось говорить. Вержбицкий помялся и, угадывая тайные его думы, сказал:
— Не трави душу, Ваня. Прими все, как есть. Легше станет.
— Легше! — взорвался Иван. — Разиню словили, расквасились. Нас, как щенков, раскидали, а ты — легше… Не прощу себе!
За глухой стеной землянки пылала баня, выбрасывая космы пламени. Жирная грязь на дороге была теперь словно полита кровью, а может, и была полита ею.
— Сынок, — печально и ласково сказал Вержбицкий, — жизню в обрат не переиграешь. Мы свое дело сделали, другие умнее будут. Простимся, милый, а то навалятся и не дадут.
Они обнялись.
Больше к приказу добавить мне нечего.
Твой выстрел — второй
Глава первая
1
Двое лежали в засаде за пулеметом. Разрывом гранаты убило одного, второго отшвырнуло в сторону — он, очнувшись, снова потянулся к пулемету, радуясь, что тот стоит, как стоял. Этим вторым был Роман. Боковым зрением видел, что напарник его убит, но пожалеть об этом не успел: новый взрыв и новая боль настигли его и, теряя сознание, он успел лишь подумать: «Меня тоже убило».
Санитары вынесли его, и он, подлечившись в санбате, вскоре вернулся в строй. Еще одно ранение Роман получил уже в сорок втором, и оно было намного тяжелее первого. Начались скитания по стране в санитарных поездах, остановки в разных городах, операции, и, наконец, он вышел из астраханского госпиталя. Сторож, позванивая металлом о металл, закрывал ворота госпиталя, и Роман со стесненным сердцем оглянулся на этот звук. В эту минуту пришло к нему ощущение, будто жизнь его разрублена надвое. Позади осталось детство, четыре класса школы, юность, комсомол, работа в колхозе и на заводе, служба в армии, война, две раны. А впереди, что ждет впереди? Он глубоко вдохнул сырой воздух, голова у него закружилась, ослабли ноги, — и так, на подгибающихся от слабости ногах, в шинели четвертого срока носки, в заштопанной гимнастерке, в нагрудном кармане которой лежало заключение врачей «годен к нестроевой», пошел Роман Мациборко навстречу своей судьбе.
Судьбами людей война распоряжалась круто. Через несколько дней во дворе военкомата выстроили сотню таких, как он. Пятьдесят, которые стояли слева, отправили служить в милицию, пятьдесят справа — в пожарную охрану. Роман стоял слева… К милиции Роман относился уважительно, службу эту считал делом мужским, опасным, требующим от человека такой же строгости и отдачи, какой требует солдатская служба. Лежа в госпитале, он уже наслышался о грабежах и убийствах, слышал и о том, что несколько милиционеров погибло от рук жулья. Что и говорить, служба нелегкая, хлеб ее несладок, но зато, думал он, никто не укорит, что отсиделся в тылу на теплой печке. Одно смущало его: жуликов никогда не ловил и не знает, как это делается, а оплошать на новой службе не хотелось, потому что честь солдатскую берег.
Так, размышляя, дотопал Роман с полусотней будущих своих сослуживцев до милицейской санчасти. Здесь вместе с врачами ждал их начальник окружной милиции капитан Заварзин, которому не из любопытства, а из суровой необходимости надо было знать, как выглядит прибывшее пополнение в первозданном своем виде. Простая арифметика: сто шесть обученных, знающих свое дело оперативников, следователей, милиционеров ушли за последние две недели под Сталинград, и заменить их надо этой полусотней, что пришла из госпиталей. Заварзин глядел на худые тела молодых солдат и не мог скрыть жалости. У одного из них, по внешнему виду совсем мальчишки, сукровица ползла из раны на бедре.
— Бегать-то сможешь? — спросил Заварзин участливо.
— Смогу, товарищ капитан! — поспешил заверить парнишка.
— А от преступника убежишь?
— Убегу, товарищ капитан, не сомневайтесь.
Задребезжали оконные стекла от дружного хохота солдат. Парень оглядывался по сторонам, силясь понять, что же такое он сморозил. Наконец понял — и тоже рассмеялся. Заварзин, вытирая слезу, сказал:
— Ну, братцы, теперь и без врачей вижу — здоровы… Остальное приложится.
Так началась милицейская служба сержанта Романа Мациборко.

2
Так начиналась и милицейская служба младшего лейтенанта Алексея Тренкова. Куцая разница была лишь во времени: Тренков служил уже пятый день. И если бы в этот пятый день ему разрешили без суда и следствия расстрелять человека, который сидел сейчас перед ним, он сделал бы это, не раздумывая и не колеблясь. И ни разу в жизни совесть не кольнула бы его за то, что расстрелял он женщину.
Первый день войны младший лейтенант Алексей Тренков встретил в тридцати километрах севернее Бреста. На семнадцатый день он принял командование батальоном, а в батальоне оставалось двадцать девять человек. Через полтора месяца к своим прорвались сто сорок. Младшего лейтенанта, который командовал ими, солдаты вынесли на руках.
Не суждено было Алексею Тренкову познать высшую солдатскую радость — бить врага, наступая. Он бил его, отступая… А мать говорила, что раны, полученные при отступлении, заживают медленнее ран, полученных при наступлении. Он часто вспоминал эти слова в астраханском госпитале после четвертой операции, когда его легкие отказывались насыщать кислородом кровь. Но в конечном счете ему повезло. В Астрахань была эвакуирована его мать, терапевт по профессии. Здесь, в госпитале, они и встретились случайно. Благодаря матери он поднялся на ноги, а теперь даже мог пробежать полсотню метров. Правда, при каждом вдохе он синел, как астматик, а когда волновался, дыхание ему перехлестывало, и на лицо падала синюшная, мертвенная бледность. Но все это пустяки по сравнению с тем, что было. Мать говорила, что постепенно все войдет в норму, а он верил матери. Но она сказала ему неправду: знала, что жить ему осталось лет шесть-семь, не больше. Может быть, Алексей и прозревал ее ложь, но он не хотел об этом думать. Он был рад, что на ногах, никому не в тягость, что ему дали ответственную работу, а вчера в трамвае он перехватил заинтересованный взгляд молодой женщины… После всего, что он испытал, это ли не счастье? В двадцать лет мы бываем счастливы и меньшим.
И этот счастливый двадцатилетний младший лейтенант, ко всем щедрый и сострадательный, ненавидел сидящую перед ним женщину до того, что расстрелял бы ее, если бы позволили. Но кто позволит? Конечно, теперь и законы надели солдатскую шинель, но не перестали быть законами. Ненависть свою приходилось всячески скрывать… Порой Тренкову казалось, что весь кислород в кабинете забрала эта женщина, и он умрет, дыша ее отравленным дыханием. Ощущение было настолько сильным, что он подходил торопливо к форточке, в которую, дымясь, падала чистейшая морозная струя, — и жадно ловил ее. На четвертый день допроса пришла к нему ясная и простая мысль, что он, боевой офицер-фронтовик, бессилен перед допрашиваемой, и этим бессилием рождена его ненависть.
В одну из минут полнейшей растерянности и незнания того, как заставить заговорить эту бабу, судьба смилостивилась над младшим лейтенантом и постучала в дверь. «Войдите», — сказал Тренков — и в кабинет вошел неутомимый и лихой оперативник Витя Саморуков, для которого Тренков был со дня войны четвертым по счету начальником уголовного розыска ВОМ
[1]. Он положил на стол какую-то бумагу, сел напротив допрашиваемой и сказал:
— Что же ты, Клавдия, меня подводишь? Четвертые сутки молчишь. Не ожидал от тебя такой глупости.
Сержант Виктор Саморуков разговаривал с Клавдией Панкратовой на правах старого знакомого. На то были веские основания. Именно он четыре дня назад разыскал и задержал ночью Клавдию Панкратову на квартире спекулянтки Анны Любивой. Зато сутками раньше Клавдия и ее друзья-налетчики ушли от него, сержанта, подземным ходом из дома, который был окружен группой задержания. Так что в их знакомстве были у каждого свои победы и поражения.
Друзья Панкратовой теперь ходили на свободе и успели взять еще один крупный продовольственный склад. А не успели бы, будь Клавдия поразговорчивей. Но она молчала.
— Клавдия, одумайся, — наседал Саморуков. — На днях арестуем ихнюю ямщицу
[2], уж тогда просить тебя не станем. Тяжелый срок возьмешь, Клавдия. Нечем тебе будет смягчить суд.
Насчет того, чтобы арестовать ямщицу, этим пока и не пахло, — сержант Саморуков явно заливал, Клавдия Панкратова после тюрьмы стала большим психологом. По многим признакам она догадывалась, что розыск топчется на месте. Поэтому она, глядя на сержанта правдивыми глазами, заявила:
— Гражданин начальник! Что знала, то сказала.
— Сказала… Плетушку плетешь, Клавдия! Спокаешься, да будет поздно. На что надеешься? Из твоего дома одного риса вывезли с полтонны… Разрешите уйти, товарищ младший лейтенант. У меня нервов не хватает с ней беседовать.
Тренков разрешил. Пока Саморуков воспитывал Клавдию, он изучил принесенную им бумагу. Тая радость, отложил ее в сторону.
— Клавдия Федоровна, повторите еще разок свои вчерашние показания.
Она повторила. После выхода из тюрьмы встретила на толкучке Геннадия Логового и Владимира Крылова, с которыми была знакома раньше. Молодые люди попросились к ней на квартиру, сказали, что будут платить. Пустила. Жили у нее с месяца три, чем занимались — не знает. Но однажды ночью квартиранты привезли в ее дом на телеге продукты, целый воз. Тут Клавдия сообразила, что опять попала в нехорошую компанию.
— А до этого вы не могли сообразить? — спросил Тренков.
Клавдия притушила ресницами сиянье глаз, сказала:
— Продуктов больно было много…
— Количество, значит, перешло в качество. Так надо понимать?
— Вам виднее…
В ту же ночь, продолжала она, Логовой и Крылов попросили ее закрыть дом и перебиться где-нибудь суток двое. Так она и сделала. Ушла к подружке Анне Любивой, ночь переночевали, а утром пошли в церковь.
— О чем бога просили, если не секрет?
— Мало ли, — сказала Панкратова. — Мы бабы еще молодые, наша песня не допета. Я об муже молилась, чтоб здоровый вернулся. А то свалится на руки калекой — что тогда?
Тренкова стала бить дрожь… Не за то расстрелял бы он Клавдию, что из ее дома вывезли полтонны риса, пуды сахару, конфет и много рулонов шелка, ситцу, байки… А за мысли ее, за такие вот поганые слова. Эта стерва плюнула сейчас в душу орденоносцу-пулеметчику Николаю Панкратову, своему мужу, который, судя по его письмам, горько любил ее. Она плюнула ему в душу, а вместо него принял плевок младший лейтенант Алексей Тренков. Принял и… смолчал. Потому что шел пятый день службы младшего лейтенанта в милиции, и он начал кое-что в ней понимать. Это в первый и во второй дни он взрывался, негодовал, уличал, взывал к совести, и после десятичасового допроса его, двадцатилетнего, увозили домой почти бездыханного, и тридцатипятилетняя Клавдия входила в камеру свеженькая, словно тренированная лошадка после разминочного пробега. Во вторую ночь, еле отдышавшись, младший лейтенант твердо сказал себе, что первый и второй бои он проиграл. Проиграл и третий. Сегодня проигрывает четвертый, но по крупицам кое-что подготовлено для будущих атак. Поэтому он, постояв снова у форточки, сказал:
— Кстати, о муже. Ваше письмо к нему я не отправлю. И очень жалею, что дал вам карандаш и бумагу.
— Это почему же? — спросила она, и Тренков отметил, что спросила без всякого интереса.
— Вы пишете, что вас,
невиновную, арестовали и содержат в ужасных условиях. Какие это ужасные условия, хотел бы я знать? Камера, конечно, не курорт, но туда попадают те, у кого в доме кроме риса, сахара, мануфактуры находят в печной золе пистолет и восемь тысяч рублей. Да еще тридцать тысяч — в сумочке при аресте. Неужели вы не понимаете, что такое письмо вашему мужу — как выстрел в сердце?
— Ну и ладно, — безмятежно сказала Клавдия, — пусть повоюет без письма.
Разговор этот вчера ночью Тренков проигрывал с начальником следственного отделения Ефимом Алексеевичем Корсуновым. Поэтому он, как и было условлено, сказал:
— Возвратите мне письменные принадлежности.
Панкратова вытянула руку над столом — и из рукава жакета выскользнул карандаш.
— А где второй листок? — спросил, как тоже было условлено, Тренков. — Вы свое письмо уместили на одном.
— Да господи… Использовала… Что уж вы, гражданин начальник! Прямо до всего вам дело, — очень смущенно заулыбалась Клавдия.
— Мы отвлеклись, — тоже смущенно сказал Тренков («Ну, артист!» — подумал он о себе). — Продолжайте показания.
Клавдия охотно продолжила. Сходили они с Анной Любивой в церковь, помолились, вернулись домой, сели пить чай… Рассказ Клавдии Панкратовой, как таратайка по дороге, катился тряско, но бодро. Клавдия, выдав младшему лейтенанту первый вариант в ночь своего ареста, при повторениях не ошибалась ни в крупном, ни в малом. Выдержке ее и памяти можно было позавидовать. Она сидела перед ним, симпатичная, милая женщина, сияла огромными прекрасными очами, теребила русую косу и убедительно, с подробностями врала. Причем эта ложь никоим образом не смягчала ее собственного положения, но укрывала и работала на ее сообщников.
— Достаточно, — прервал Тренков Клавдию на полуслове. — Взгляните сюда, — и подал ей бумагу, принесенную Саморуковым.
Это было спецсообщение. Рецидивисты Геннадий Логовой и Владимир Крылов, осужденные в 1936 году за вооруженный грабеж, полгода назад, после пересмотра дела, были отправлены в штрафбат и в первом же бою смертью искупили свою вину перед Родиной.
Панкратова, прочла, положила листок на стол и сказала спокойно:
— Значит, у меня квартировали другие мальчики. Я запамятовала.
А младший лейтенант в это мгновение сказал себе, что будет служить в милиции всю жизнь. И он служил в ней восемь лет и три месяца, а потом, двадцативосьмилетний, умер от старых ран.
3
Заместителю начальника управления НКВД по Сталинградской области майору милиции Бирюкову
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В декабре 1942 года в Астрахани зарегистрированы три вооруженных ограбления крупных продовольственных складов. Во всех трех случаях грабители запирали охрану, состоявшую, как правило, из пожилых женщин, в подвалы. Примет преступников, кроме самых общих и противоречивых, получить не удалось.
В конце декабря служба розыска установила, что в домах по ул. Чайковского, Урицкого, Пестеля, Чугунова происходят сборища молодежи, играющей в карты и проигрывающей большие суммы денег. Этот район был взят под особое наблюдение. В ночь с 3 на 4 января 1943 года в очередной пеший наряд для обхода указанных мест были назначены среди прочих милиционеры каввзвода Сагит-Гиреев и Клещев. После комендантского часа на ул. Пестеля они встретили неизвестного гражданина, документов у которого не оказалось. Его задержали. Из-за оплошности Клещева задержанный сумел выстрелить из нагана, тяжело ранил Сагит-Гиреева и скрылся.
4 января, в 12 часов дня, при обходе того же района пом. оперуполномоченного Чернозубов и милиционер Мареев потребовали у двух молодых людей предъявить документы. В то же мгновение один из неизвестных дважды выстрелил через пальто и ранил Чернозубова в челюсть. Стрелявший скрылся. Его спутник после отчаянного сопротивления был взят Мареевым. Все трое пошли в железнодорожную поликлинику, находящуюся поблизости. Пока врач обрабатывал рану Чернозубову, Мареев и задержанный, выглядевший подростком 15—16 лет, ожидали в приемной, так как им тоже нужна была медицинская помощь. Мареев проявил преступную халатность — не обыскал задержанного. Тот выждал момент, выхватил браунинг, тяжело ранил Мареева в грудь и, высадив раму, выпрыгнул из окна второго этажа поликлиники. Выстрелом Чернозубова, произведенным из кабинета врача, неизвестный был ранен, но сумел скрыться.
В тот же день мною был созван личный состав окружного отдела. До сведения каждого доведено, что только кровь, пролитая Чернозубовым, Мареевым и Сагит-Гиреевым, освобождает их от сурового дисциплинарного взыскания. Милиционер каввзвода Клещев, упустивший задержанного, в результате чего был ранен Сагит-Гиреев, предан мною суду трибунала. Следует заметить, что личный состав окротдела за короткое время сменен почти на 70 %, очень многие еще не освоили специфику милицейской службы. Выяснилось, что вчерашним фронтовикам кажется невозможным, чтобы мальчишка пятнадцати — шестнадцати лет предательски стрелял в своего. Большинство новичков психологически не подготовлены к этому, а отсюда — нерешительность и запоздалость действий по задержанию, несоблюдение элементарных правил предосторожности. Все случившееся мною было тщательно проанализировано с той целью, чтобы каждый извлек себе урок на будущее.
По нашим данным, в городе сейчас сформировались две бандгруппы, тесно связанные между собой. В ночь с 6 на 7 января 1943 года вооруженные бандиты напали на склады пароходства «Волготанкер», вывезли большое количество продуктов (рис, мука, пшено) и промышленных изделий (верхнюю и нижнюю одежду, белье, обувь, рулоны ситца и фланели). В ночь с 7 на 8 января был ограблен склад консервного завода. Совокупная стоимость похищенного по государственным ценам — 100 000 рублей, по рыночным — 1,5 миллиона.
На розыск преступников поднят весь личный состав окротдела и ВОМ. Для координации действий создан штаб под моим руководством. Благодаря принятым оперативным мерам, уже 10 января была выявлена квартира Клавдии Панкратовой, в которой обнаружена значительная часть продуктов и вещей, похищенных со складов пароходства «Волготанкер». Преступники вместе с хозяйкой, закрыв изнутри дверь и сделав несколько выстрелов, ушли от группы задержания подземным ходом. Панкратова была арестована на квартире у своей подруги Анны Любивой, известной нам как мелкая спекулянтка. Панкратова на допросах упорно молчит. Работают с ней начальник следственного отдела ВОМ ст. лейтенант Корсунов и начальник уголовного розыска ВОМ мл. лейтенант Тренков.
План розыскных мероприятий прилагается.
Операция проходит под кодовым названием «Лягушка».
Начальник Астраханского окружного отдела милиции капитан Заварзин
4
Оперативка штаба по ликвидации банды заканчивалась, когда Заварзину позвонил секретарь окружкома партии Александров.
— Чем занимаетесь, капитан? — спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Смысл вопроса тоже был нехорош. Что значит — «чем занимаетесь»? Кратко не ответишь, а пространно отвечать не положено. И молчать не положено.
— Подбиваем итоги проделанной за сутки работы, — ответил Заварзин. — Сейчас у нас идет оперативное совещание штаба по ликвидации банды.
Таким ответом он попытался намекнуть, что в кабинете не один, что понимает, какого рода будет разговор и что хорошо бы его перенести. Однако Александров нынче не был расположен щадить чье-либо самолюбие.
— Штаб создали, совещания идут, — сказал он, — а бандиты уже днем начали в городе стрелять, не укладываются в ночи, которые ты им отдал на откуп… У меня на столе, Заварзин, письмо. Кому, спрашивают рабочие, город принадлежит: Советской власти или бандитам? Дошли мы с тобой до ручки, если нам стали такие вопросы задавать… Что присоветуешь ответить?
В сущности, и звонка и разговора Заварзин ждал с того момента, как в городе прогремел первый бандитский выстрел. Надо отдать должное Александрову — две недели он не звонил, не поторапливал, не дергал Заварзина, хотя сводки происшествий, одна тревожнее другой, ложились ему на стол ежедневно. Терпению секретаря окружкома, видать, пришел конец…
— Андрей Николаевич, у нас пока нет прямых выходов на банду, поэтому точный срок ее ликвидации назвать не могу, — сказал Заварзин. — Но заверяю вас: органы милиции сделают все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки…
Договорить ему Александров не дал.
— Так окружкому партии не отвечают, Заварзин! — голос его налился гневной силой. — Слушай, как надо отвечать… Через две недели, одиннадцатого февраля, банда будет ликвидирована. В противном случае ты положишь партбилет на стол, и мы найдем для милиции другого руководителя, который сумеет глубже понять свою ответственность перед партией и народом. Тебе все ясно, товарищ Заварзин?
— Ясно, товарищ Александров.
— Коли ясно — выполняй. — Он помолчал и добавил: — Ты, говоришь, в кабинете не один?
— Да…
— И твои слышали наверное, все?
— Так точно. И сейчас слышат, — Заварзин обежал глазами присутствующих, улыбнулся. — Трубка у меня звонкая…
— Извини тогда, Сергей Михалыч. — Теперь на другом конце провода говорил усталый, замотанный человек. — Надо мне было свой голос подсократить.
— Ничего, — сказал Заварзин. — Подчиненные наши думают, что только с них требуют, только им устраивают головомойки, а начальству — никогда. Пусть теперь не заблуждаются на этот счет.
— Передай своим людям: надеюсь на них. Передай еще: в городе в связи с бандитскими грабежами и налетами поползли панические слухи, один нелепее другого. Это ощутимо мешает работать. Особенно большой резонанс имели перестрелки, старайтесь их больше не допускать. Во всяком случае, громких… Заметь, Сергей Михалыч: немцы бомбили город — что ж, народ это понимает: война, а бандитских выстрелов у себя за спиной он терпеть не хочет, не может и не должен. Так что укладывайся. Одиннадцатого февраля имеешь право оттянуть свой приход в окружком до двадцати часов — и ни на минуту больше. Все. До встречи.
Послышались отбойные гудки, и Заварзин положил трубку, подумав, что сегодня же надо заменить ее. Он еще раз обежал глазами присутствующих и не встретил ни одного ответного взгляда.
— А что бы вы хотели? — сказал он. — Пока в городе банда, никто меня по головке гладить не будет.
— Чертова работа! — пожаловался старший лейтенант Корсунов. — Пластаешься, пластаешься, а чуть что — ты снова в лодырях.
— Хорошенькое — чуть что! — сказал начальник Водного отдела и непосредственный начальник Корсунова старший лейтенант Кононенко. — Банда — это полтора миллиона рублей ущербу, а не чуть что. Я думаю, — он серым и острым, как нож, взглядом уколол Корсунова и Тренкова, — я думаю, все, что сказал секретарь окружкома партии, относится в первую очередь ко мне и к вам.
Он имел в виду, что бандиты по какой-то случайности брали продовольственные склады, принадлежавшие предприятиям и организациям, работавшим на реке и в море. Водный отдел нес, формально говоря, главную ответственность за эти грабежи.
— Будет уж тебе, Петр Петрович, — сказал Заварзин. — Ответственность мы несем общую. Итак, заканчиваем. Еще раз напоминаю: все материалы стекаются в Водный отдел непосредственно к начальнику следственной части Корсунову, которого вы хорошо знаете, и к начальнику уголовного розыска ВОМ, новому нашему сотруднику, младшему лейтенанту Тренкову. Старшим назначается Корсунов. Любое его указание имеет силу военного приказа для каждого начальника всех трех только что созданных оперативных групп. За все факты ведомственных рогаток и ведомственной спеси взыскивать буду беспощадно со своих, а ты, Петр Петрович, — обратился он к Кононенко, — со своих. С нас же с тобой, — Заварзин усмехнулся, — найдется кому взыскать. Вопросы есть?
— Есть, — сказал заместитель Заварзина старший лейтенант Авакумов.
В хорошо подогнанной форме, ладный, чисто выбритый, в меру пахнущий одеколоном аккуратист, Авакумов говорить умел и говорил чаще всего дельные вещи. Речь его была тщательно причесана, как и он сам, смотреть и слушать его было одно удовольствие, но иногда удовольствие длилось слишком долго… Памятуя это, Заварзин приготовился задавать вопросы, другого способа борьбы с гладкой речью Авакумова не было.
— Пятый день, — начал Авакумов, — в наших руках находится человек, который может вывести нас наикратчайшим путем к банде. Может, но не хочет, а мы бессильны повлиять на него. Разве мы не можем заставить Клавдию Панкратову заговорить? Я не верю в это. Я думаю, тому причиной — неопытность младшего лейтенанта Тренкова. Отдавая должное боевому опыту этого офицера-фронтовика, мы не можем закрывать глаза на то, что этот опыт — не очень-то большой помощник в оперативно-розыскной работе. А учитывая жесткие сроки, которые нам даны для раскрытия дела, я бы предложил заменить младшего лейтенанта, потому что…
— Кем? — настала пора задать вполне уместный вопрос, и Заварзин задал его.
— Я предлагаю себя… Думаю, что сумею найти подход к Панкратовой. Она заговорила бы у меня.
— Что ж, предложение серьезное. Давайте-ка подумаем минуты две.
Думали. Тренков, бледный, безразлично смотрел в окно, собрав все силы, чтобы дышать неслышно. Оказывается, не тогда судьба его решалась, когда он допрашивал Панкратову, а сейчас. Если отстранят, думал он, я сгорю быстро и ненужно. А почему так важно ему расследовать это дело, он не успел додумать: две минуты истекло.
Заварзин в эти две минуты думал не о том, заменять или не заменять Тренкова. Не заменять, ни в коем случае! О другом он думал… Он часто себя ловил на неприязни к Авакумову, а почему — не всегда мог отчетливо понять. Авакумов был способный офицер, хороший помощник. Заварзин сам и сделал его своим заместителем. Клавдия Панкратова у него быстро заговорила бы, это ясно. Но Авакумов не предложил своих услуг раньше, а предложил только сейчас, после звонка секретаря окружкома партии. Теперь, когда внимание окружкома приковано к этому делу, Авакумов, человек честолюбивый, согласен поработать на полную отдачу, лишь бы отличиться. Честолюбие Авакумова очень часто Заварзин использовал в нужном русле, но сегодня — нет, не тот случай…
— Две минуты истекло. Мы обсуждаем предложение моего заместителя, сводящееся к тому, чтобы заменить Тренкова. Каждый отвечает коротко, без объяснения причин. Корсунов?
— Нет, не заменять.
— Луценков?
— Да. Заменить.
— Кононенко?
— Да. Заменить.
— Миловидов?
— Да.
— Топлов?
— Да.
— Мнение присутствующих ясно… Срок ликвидации банды, без сомнения, жесткий, но горячку нам пороть не годится. Во-первых, учтем, что не один Тренков работает с Панкратовой, а под руководством опытного и всеми нами уважаемого следователя Корсунова, во-вторых, они работают с Панкратовой пять дней, знакомы со всеми деталями дела, а Авакумову надо будет знакомиться заново. В-третьих, сейчас, на мой взгляд, Корсунов и Тренков уже кое-что имеют и в ближайшие дни иметь будут больше. Так, Ефим Алексеевич?
— Чтоб только не сглазить, Сергей Михалыч… Заговорит бабенка!
— Младший лейтенант!
— Здесь! — Тренков вскочил, стараясь, чтобы это у него получилось молодцевато.
— Младший лейтенант, вы затянули работу с Панкратовой, надо признать. Но вам все-таки присуще оперативное чутье, и это заставляет меня надеяться на лучшее. Дать Панкратовой бумагу и карандаш для письма мужу — это ваша идея?
— Никак нет, товарищ капитан, — честно ответил Тренков. — Это идея самой Панкратовой.
— Потому и говорю об оперативном чутье, младший лейтенант. В нашем деле надо быть очень осторожным.
— Кое-что начинаю усваивать, товарищ капитан, — улыбнулся Тренков. — По собственному почину, конечно же, не стал бы навязывать ей письменные принадлежности. Но она очень уж просила. Мужа не любит, не пишет ему давно, а тут вдруг воспылала желанием… Вчера на допросе Панкратова, сама того не сознавая, косвенно подтвердила мне, что записка на волю сообщникам ею уже написана, она теперь ищет возможность передать ее.
— Помогите ей. Контроль за путешествием записки вами продуман?
Поднялся Корсунов, доложил:
— Через два часа план операции «Записка» будет лежать у вас на столе, товарищ капитан.
— Хорошо. А через три дня в семнадцать ноль-ноль у меня на столе должны лежать правдивые показания Панкратовой. Это приказ, Тренков! Дело Панкратовой вы доведете до конца.
— Благодарю за доверие, товарищ капитан. Я выполню приказ.
В дверях Тренков благодарно сжал локоть Корсунова.
— Ефим Алексеевич, ты один высказался за то, чтобы меня не заменять Авакумовым. Спасибо тебе, дорогой.
— Да что там, Алеша! И почему — один? А Заварзин? Это уже, брат, двое!
5
Оперативка штаба закончилась в десять часов вечера, а ровно в полночь личный состав окружного отдела и ВОМ начал облаву во всех подозрительных и злачных местах города. Она прошла быстро и закончилась удачно — без выстрелов и потерь, но пока разбирались, кого взяли, пока начальники городских отделений докладывали Заварзину по телефону о результатах, — наступил четвертый час утра.
Заварзин дал отбой всем, кто был свободен от дежурств, и сам собрался прилечь на диване. Но прозвенел телефонный звонок. Старший лейтенант Луценков просил встречи на десять минут.
— Мы с тобой, Иван Семенович, — сказал Заварзин Луценкову, когда тот вошел, — в истекшие сутки виделись раз пять. А тебя, заметил, так и тянет ко мне под утро.
Но Луценков не принял дружеского тона своего начальника.
— Не дает мне покоя, товарищ капитан, — сказал он, — давешний звонок из окружкома партии. Александров слов на ветер не бросает… Но две недели! Срок для ликвидации банды явно нереальный.
Заварзин хмыкнул, спросил:
— Слушай, а ты сейчас в какой ипостаси ко мне явился? Как подчиненный или как секретарь партийной организации?
— Един в двух лицах, Сергей Михалыч, — улыбнулся наконец и Луценков. — На ковер перед Александровым стану с тобой и я.
— Угу, — Заварзин поднялся из-за стола и заходил по кабинету. — Значит так: через две недели я являюсь в окружном и докладываю, что банда не ликвидирована, а ты, если тебя, конечно, спросят, в чем я крепко сомневаюсь, — мы ведь, не забывай, работаем с тобой в прифронтовом городе, законы в нем военные, и спрос с нас тоже военный, — а ты, если тебя, повторяю, все-таки пожелают выслушать, явишься и доложишь, что Заварзин и не мог управиться за две недели, что банда сильно законспирирована, бандиты оргий не устраивают, водку не пьют, анашу не курят, с проститутками из уголовного мира не якшаются, в малинах не бывают, — следовательно, обычных и скорых выходов на банду мы получить не могли. Ты меня защитишь, партбилет и должность останутся при мне, командирский паек — тоже, а то, что бандиты трех наших товарищей ранили, четыре крупных продовольственных склада взяли, — за это пусть дядя отвечает.
— Сергей Михалыч, — спокойно и печально сказал Луценков, — ты зачем меня дурачком выставляешь? Столько лет работаем вместе! И в дураках у тебя, судя по твоим же благодарностям, я вроде никогда не ходил.
Заварзин споткнулся, замер. Долго они глядели друг другу в глаза… Затем Заварзин подошел к столу, сел, сказал устало:
— Прости, Иван. Нервишки, видать, сдают.
— Я бы этого не сказал, Сергей. Канатные у тебя нервишки, судя по всему.
— Что ты имеешь в виду?
— Сильно ты рискуешь, не заменив Тренкова Авакумовым. И потом… Зачем было спрашивать на этот счет мнение начальников служб, ежели ты все равно не посчитался с нашим мнением? Авакумов твой заместитель, но для нас-то он является непосредственным начальником. А ты в присутствии подчиненных ударил по его самолюбию. Для такого человека, как он, удар твой — очень болезненный. Переживает… Приходил ко мне.
— …поплакаться в жилетку партийному руководителю, — в тон Луценкову продолжил Заварзин. — Ничего, выплакался — работать злее станет. А вот твоя позиция, Иван, мне не совсем ясна. Ты ведь, насколько помню, тоже высказался за то, чтобы заменить Тренкова?
— Что же тут неясного, Сергей Михалыч? Авакумов — опытный оперативник, а Тренков — пока еще мальчишка в нашем деле. Вот и вся моя позиция.
— Жидковата твоя позиция, Иван Семеныч. Этот, как ты говоришь, мальчишка фронта хлебнул под самую завязку. Геройски вел себя, возьми в кадрах его личное дело, ознакомься, тебе, как парторгу, надо бы знать, из кого завтра пополнять нашу парторганизацию.
— Обожду, — твердо сказал Луценков. — Он только что из окружения вышел.
— Не вышел — вынесли… Эту маленькую разницу улавливаешь? Авакумовские нотки слышу в твоих словах. Тот подозрителен ко всем сверх меры.
— Обожду, — еще тверже повторил Луценков. — И это не подозрительность сверх меры, а разумная осторожность. А вот ты, Сергей… Ты такой безоглядный, что иной раз мне просто боязно за тебя. Могут ведь найтись люди, которые неправильно истолкуют: окруженцу, молокососу доверил важнейшее дело, а своему заместителю, коммунисту, опытному и проверенному не раз работнику — не доверил. И случись нам не уложиться в срок с этой бандой… Много ты взял, Сергей Михалыч, на себя, много!
— Иван, — резко сказал Заварзин, — нас двое в кабинете! Не ссылайся на каких-то там людей… Но желательно мне знать: как ты сам при случае истолкуешь?
— Я до конца с тобой, Сергей, — просто ответил Луценков. Помолчал и добавил с обидой: — Мог бы мне такого пакостного вопроса и не задавать.
— И не задал бы, да что-то мы с тобой в последнее время начали не в одну дуду дудеть. Вот хотя бы с этой заменой… Я ведь вас тоже проверял на прочность и человечность, помощники мои дорогие. А вы, кроме мудрого старика Корсунова, проверку мою не прошли. А все почему? Из осторожности: как бы чего не вышло, как бы кто превратно не истолковал.
— Не прав ты, Сергей Михалыч, — возразил Луценков. — Мы в первую очередь о деле думали. Для дела, учитывая жесткие сроки, замена была бы на пользу.
— Дело, людьми делается, Иван, — сказал Заварзин. — Надломив Тренкова недоверием, мы тем самым решили бы его судьбу на будущее. А для Авакумова — это не вопрос судьбы, а всего лишь вопрос самолюбия, возможность отличиться. Ничего, уж как-нибудь мы свое самолюбие зажмем в кулак, не то время, чтобы нянчиться с ним. Ты вот не поглядел на мое самолюбие, отбрил так, аж дыхание у меня перехватило… Да и эта скоропостижная замена — знаешь, о чем бы свидетельствовала?
— О чем?
— О нервозности и неуверенности — моей, в частности. А худо, брат, когда начальник занервничает, заегозится; подчиненные тогда такое наворотят — не расхлебаешь. Не знаю, о чем тебе плакался в жилетку Авакумов, но путь он нам всем предложил лишь на первый взгляд выгодный, а на самом деле — гибельный. От тебя-то я как раз и ждал понимания этого. И поддержки ждал. Не дождался.
— Трудно мне спорить с тобой, Сергей Михалыч, — сокрушенно сказал Луценков.
— Почему трудно? — пожал плечами Заварзин. — На равных спорим, я тебе рот не затыкаю. Хорошее ты времечко выбрал для спора… Погляди-ка на себя внимательно.
— А что?
— А то, что не ходи ко мне больше под утро. Манеру взял! Не молоденький, чай. Да и я не двужильный.
Оба невесело рассмеялись.
Глава вторая
1
Следователь Корсунов глядел, как спекулянтка Анна Любивая, на квартире у которой была арестована пособница бандитов Клавдия Панкратова, старательно выводит свою подпись.
— В последний раз, Анна, — веско сказал он. — Больше ты дуриком от нас не уйдешь. Подписала? Завтра в восемь утра заступит на дежурство сержант Кашкин, он тебя и выпустит.
— Ох, Ефим Алексеич! Еще ночь маяться… А нельзя ли прямо счас на волюшку?
— Ты когда подписываешь бумаги, гляди — чего подписываешь. Бумага оформлена завтрашним числом, твои арестантские часы завтра истекают, понятно? А завтра меня не будет, я в засаду пойду, Анна, и если эту бумагу не оформить нынче, ни одна душа тебя отсюда не выпустит. Я из-за тебя, можно сказать, закон нарушаю…
— Поняла, Ефим Алексеич, чего не понять? Сильно ты душевный мужик… Великое тебе спасибо.
Корсунов долго глядел в слишком бесхитростные, слишком благодарные глаза Любивой.
— Язва ты, Анна…
Тут, как и было условлено, явился Тренков. Корсунов, указывая на Любивую, попенял ему:
— Твоя недоработка, Алексей Иваныч. Спекулянтка явная, связь с Панкратовой она тоже поддерживала, а предъявить ей ты ничего не смог. Отпускать приходится.
— Как — отпускать! — возмутился Тренков. — По какому праву?
— А не пойман — и не вор, — вставила Любивая, почувствовав поддержку Коршунова. — Это что же такое, добры люди? Попросилась подружка ко мне переночевать, пустила — и меня же за мою доброту в тигулевку? Я про Клавкины шашни с бандюгами, вот вам крест, граждане начальники, знать не знала, ведать не ведала.
— А два килограмма риса? — нажимал Тренков. — А полтора килограмма сахару?
— У меня дома тоже с килограммчик риса найдется. Так что я — спекулянт? — спросил Корсунов.
— А два килограмма топленого масла? У вас дома найдется столько? — не отступал от своего Тренков. — Рыночная цена — три тысячи за килограмм.
Корсунов вроде бы засомневался… Легкая тень прошла по его птичьему личику, рука вроде бы потянулась к бумаге — смять, порвать, выбросить в корзинку… Любивая испуганно воззвала:
— Гражданин начальник! Ефим Алексеич! Ей-богу, для чахоточной сестры потратилась. Не верите — спросите.
— Вот видишь, Алексей Иваныч, для сестры, — сказал Корсунов. — Между нами говоря, не для сестры, конечно. Но чем мы докажем суду? Нечем нам доказывать. Плохо мы сработали. Придется отпустить… Но гляди, гражданка Любивая! Встречу еще раз за перепродажей, испугом не отделаешься.
Любивую увели. Тренков с сомнением спросил:
— Не перестарались ли мы, Ефим Алексеич? Со страху она никакой записки от Панкратовой не возьмет.
— Возьмет… Жадна больно. Леша, считай: с завтрашнего дня мы выходим на банду.
— Не верится что-то. Пока с одними бабами имеем дело, да и те молчат.
— Я, милый, работал лет пятнадцать тому назад с одним парнем, Сережей Гадаловым. Начальник он был мой… И человек, Леша, был незабываемый… Так он знаешь что частенько говаривал?
— Что? — равнодушно спросил Тренков, думая о своем.
— Не знаешь… А потому не знаешь, что ты не учен по-французски. А он был учен и частенько говорил нам: «Ищите женщину». Вот мы эту самую женщину, Клавку Панкратову, и нашли. А получим ее записку к бандитам — заговорит, милая, заторопится…
2
Ночью Панкратова сняла с себя шелковую комбинацию и отдала Анне Любивой. Та надела ее под полотняную рубашку, ощутила непривычный холодок шелка, вздохнула:
— В молодые бы годы такую… Чуть припоздала ты, Клавка.
Записку она спрятала в лифчик. Ночь не спала. Камера была забита спекулянтками, лишь в дальнем конце ее тихо и застойно жили три молодые карманницы. Соседки по нарам, отбойные, прошедшие огонь и воду бабы, храпели так оглушительно, с таким тошнотным присвистыванием и прихлебыванием, что у Любивой покалывало сердце. Давно уже, лет пять, не пробовала Анна тюремного хлеба и тюремного сна — и не пробовать бы их никогда… Под утро она твердо решила: по сказанному Клавкой адресу не пойдет, записку не отдаст, сожжет ее в печке, Клавке все одно пропадать. А утром, под гром открываемой дежурным двери, окаянная Клавка обожгла ее ухо шепотом:
— Гляди, Анна! Не отдашь — узнаю, а узнаю — мои мальчики тебя из-под земли достанут. Гляди, Анна…
Ох, жизнь! Корсунов заладил: гляди да гляди, и эта тоже… А тут еще в дежурке настрадалась. Дежурство принял сержант Кашкин, ревностный служака, чтоб ему пусто было. Оглядел ее подозрительно, шмон сделал в авоське, хотя авоську ей выдали при нем, — такой уж он, собственным глазам не верит. А после предложил добровольно выдать все, что, не дай бог, несет она на волю от заключенных, пряча на себе. Любивая облилась холодным потом и, прокляв Клавку, ее шелковую комбинацию и записку, сказала, что выдавать ей нечего. А сержантки, которая обыкновенно бабам личный обыск делала, все не было и не было, непорядок какой-то, видать, случился, и сержант Кашкин стал звонить наверх, в кабинеты, чтобы кто-нибудь из юбошниц пришел. Но тут ударило на стенных ходиках восемь, никто не имел права держать Любивую ни одну лишнюю минуту под арестом, и она зашумела. Службист Кашкин порядок уважал во всем, поэтому он бросил крутить ручку телефона, сказав: «В рубашке родилась, бабонька», — после чего Анна вышла из отделения милиции на ватных ногах. Одна радость: Клавка видела все ее муки, потому что вели ее на допрос, а сопровождающий остановился поболтать с Кашкиным. Может, теперь Клавка, выйдя на свободу, добавит что-нибудь к комбинации?
Глубоко вдохнула Любивая сочный морозный воздух — ах, как сладок воздух свободы! Дыша этим счастьем, можно пойти в любую сторону. Пойдет Анна сначала домой, захватит бельишко, в бане смоет с себя тюремную карболку и воспоминания, потом чай будет пить, потом в церковь пойдет… О господи, господи! Как хорошо-то… Но тут мыслишка ворохнулась: а куда ж записку, чего с ней делать? И сразу темно стало. Ну жизнь, ну лярва, не даешь ты человеку продыха. А может, человек сам дурак? Сам оковал свою свободу цепями похлеще тюремных?
Так думала Анна Любивая, выходя из парка, в котором располагалась Водная милиция. И тут подсунулся к ней немудрященький такой мужичишка, сказал страшные слова — и не ему бы, голодранцу, их говорить:
— Гражданка Любивая, тебе чего — опять в тюрьму захотелось?
И повел ее в окружной отдел. И пока шли, Анна ежилась, плечами двигала — все хотела, чтоб проклятая записка как-нибудь выпала. Но свернутая в жгутик бумага мертво, как шов, лежала на коже.
В окружном отделе Анну ждали. Корсунов, оказывается, ни в какую засаду не ходил — тоже дожидался. И другие важные шишки сидели. И тут уж прости, Клава, своя шкура дороже. Сделаю все, как милиция велит.
А велели ей исполнить все в точности так, как просила Панкратова. Анна отнесла записку старухе Дашке, о которой слышала, что та несметно богата. Дашка записку взяла, спросила скрипуче: «А кто платить будет?» Любивая на это ответила Клавкиными словами: «Ребята заплатят, хорошо отвалят. Когда за ответом прийти?» Старуха пожевала впавшими, лиловыми губами, сказала: «Через день, как стемнеет».
Пришла Любивая через день, а Дашка встретила ее разъяренной ведьмой. «Кто платить будет? — потрясала она запиской. — Вот дура, так дура, тьфу! Ни твоя Клавка, ни ее бумажка никому не нужны, так ей и передай».
— Верни мне, бабушка, записку, — попросила Анна, вспомнив наказ Корсунова, который предвидел подобный поворот.
— Верну, — старуха вмиг притихла. — За килограмм маслица верну.
Любивая сделала добротный кукиш, сунула его под крючковатый нос старухи и вышла, рассудив, что потраченный на Дашку килограмм масла милиция ей не возвратит ни за какие коврижки.
В тот же вечер она, сменив серый пуховый платок, в котором ее забрали вместе с Клавкой, на белый, пришла к Водному отделу милиции. И прохаживалась здесь до тех пор, пока в полуподвальном зарешеченном окне размытым пятном не показалось лицо Клавки. И будто с этим мучнисто-бледным лицом молодой подружки выплыл из глубин здания тошнотный храп соседок по нарам, шибанула в нос карболовая вонь камеры — и жалко стало Клавку до боли в сердце. «А не балуй с бандюгами, дура!» — тут же решила Анна. Чтобы Клавка в сумерках хорошенько рассмотрела цвет платка, Анна развязала его, покрылась заново и пошла по главной аллее парка. А Панкратова долго и ненавистно смотрела ей вслед, как смотрят тем, кто уносит наши последние надежды.
3
Начальнику третьего отделения милиции мл. лейтенанту Топлову А. М.
РАПОРТ
Доношу, что, находясь в засаде на квартире Богомоловой Дарьи на предмет задержания бандитов, я в книжке обнаружил записку заключенной Панкратовой, в которой она просит бандитов освободить ее.
Записка прилагается.
Участковый уполномоченный сержант милиции Мациборко
4
ЗАПИСКА
Коля и Женя, спасите меня. Если вы мои друзья, вы должны это сделать. Избавьте меня от издевательств Тренкова. Очень свободно сделать мне побег. Вы спросите как? Приходите часов в восемь вечера, на первом этаже милиции никого нет, только двое дежурных, один за столом, другой возле стола. Вот этот милиционер и водит в уборную. Я зайду за уборную, а кто-нибудь из вас выйдет и прямо ему в рот что-нибудь. Двое подбегают и режут его или наганом, я в это время ухожу, а вы вяжите ему руки или совсем удавите. Народу никого нет, действуйте прямо, только застучите в окно, как придете. Скорей, пока я здесь, на Семнадцатой пристани, а увезут в тюрьму, тогда все. Смотрите, не забудьте обо мне. Ваша Клавдия.
5
Панкратова взяла записку, сунула в рот и стала жевать, Тренков онемел. Его удивило, с каким наглым, бесстрастным лицом эта русская красавица жевала бумагу и смотрела на него.
— Выплюньте, — посоветовал он. — Это же копия. Вы свой почерк забыли, что ли?
Некоторое время Клавдия сидела с полуоткрытым ртом. Вид у нее был глупый. Чтобы она не заметила его невольной улыбки, Алексей, кашляя, пошел к форточке.
— Слушайте, Панкратова, — сказал он, — вы про какие издевательства пишете своим друзьям? Мне начальству уже пришлось объяснение давать.
— По двенадцать часов допрашиваете… Воды не даете…
— А кому мне пожаловаться, что приходится вас допрашивать по двенадцать часов? А что это вы сейчас делаете, как не воду пьете, горлышко после бумаги прочищаете? Даже разрешения не попросили, как положено всякому культурному человеку. А ведь вы техникум закончили, в школе когда-то преподавали… Все больше убеждаюсь: вздорный и мелкий вы человек, Клавдия Федоровна. И не по-женски жестокий, к тому же. Чем вам помешал сержант Кашкин, которого вы удавить захотели? Службист, но добрейший человек, сами же заключенные говорят. Не-ет, Клавдия Федоровна, таких, как вы, надо расстреливать. Я даже, честно говоря, не ожидал, что в тылу такие мягкие законы.
— Я-то буду жить, — хрипло сказала Панкратова, — а вот ты, лейтенант, не жилец. На каждый случай форточки рядом не будет.
— Возможно, — сказал Тренков, садясь за стол. — Мне двадцати одного нет, вам — тридцать пять. Пожалуй, я не сумею дожить до ваших лет. Но я, Клавдия Федоровна, должен был уже десять раз помереть. По всем мыслимый и немыслимым законам. А я живу. И работаю. Кстати, благодаря вам я понял, что работа у меня очень ответственная. И потому каждый день для меня праздник. Вы это можете понять?
— Заливайте, заливайте.
— Да я и сам не понимаю, — засмеялся Тренков. — Нынче что-то у меня настроение хорошее. Выздоравливать начинаю, что ли? Слушайте, Клавдия Федоровна, а вы читали Островского «Как закалялась сталь»?
Теперь смеялась Панкратова. Долго и оскорбительно.
— Настроение хорошее, — сказала она, отсмеявшись. — А как же, лейтенант, с таким хорошим настроением поведешь меня расстреливать, а? Не смутишься? Я все же русский человек. Женщина!
— Ты — русская, ты — женщина? — чувствуя, что срывается и не в силах сдержать себя, тихо и гневно переспросил Тренков. — В окружении я собственноручно двух предателей пристрелил — таких же, как ты, русских… А если бы я их не пристрелил, мы бы не вышли из окружения. Так неужели ты думаешь, подстилка бандитская, что сейчас, когда под Сталинградом наши солдаты гибнут тысячами, моя рука дрогнет? Да никогда! В последний раз тебе говорю — назови тех, кому писала. Мне осталось с тобой работать шесть часов. Через шесть часов твои показания я должен положить на стол начальнику окружного отдела Заварзину. А не положу, с меня их спрашивать больше не станут, и с тебя — тоже. Это твой последний шанс, Панкратова. Последний!
— А я и желаю дать правдивые показания, гражданин начальник, — сказала Панкратова. — Про мальчиков, которые меня предали. Я их берегла, а они меня предали. Ловите их, подлецов! — закричала она. — Ловите и стреляйте, чтоб духу их на земле не было!
— Без истерик, Клавдия Федоровна… Что такое? Около вас я тоже сорвался. Прошу простить меня за грубое слово.
Он подал стакан воды, она выпила. Спросила:
— Какое слово?
— Какое, какое… Не повторять же мне его,, Клавдия Федоровна.
Она потерла виски пальцами, сказала с тоской:
— Господи, никогда мне не понять вас, мужиков…
— У вас будет еще время и подумать и понять. Только вот что, Клавдия Федоровна… Прошу без уверток. Всю правду и с самого начала.
— Начало было такое, — сказала она. — Пришла ко мне Дашка Богомолова…
6
Дашка Богомолова, притаенная старуха, пришла к ней однажды вечером. Была Дашка, как обычно, навеселе, но не от водки, а от опиума — под старость лет пристрастилась к нему, просаживала богатство. И вот эта Дашка сказала:
— Клава, есть ребятки, они ищут квартиру, а у меня коридор общий, возьми их к себе.
— В тюрьму с ними загремишь, — засомневалась Клавдия, еще не отмывшая трудового пота после второй отсидки. — Темные, видать, твои ребятки.
— Кому темные, а нам с тобой светлые, — настаивала старуха, имевшая от этого дела свой навар. — Тюрьмы они боятся поболе твоего. Кормить будут досыта. Бери, не раздумывай, а то попросишь — таких удачливых уж не найду.
Клавдия не ответила ни да, ни нет. А на следующий день, тоже под вечер, она столкнулась во дворе своего дома с двумя парнишками. Первый, лет семнадцати, с узким нежным лицом и юношескими прыщами на щеках, угрюмый от желания быть старше, назвал себя Евгением, другой, светловолосый улыбчивый крепыш лет двадцати, сунул ей лодочкой крепкую руку и отрекомендовался Ванькой Поваром. Кличку свою произнес легко, с удовольствием. Дом ему понравился, и место тоже. Эти молоденькие, безобидные на вид ребята дотошно осматривали каждую комнату, расспрашивали, куда какая стена выходит, пробовали, крепки ли оконные рамы, чтобы при случае их высадить, — и, видя все это, Клавдия подумала, что кровь на них уже лежит и терять им нечего. Значит, и платить будут хорошо… И она, минуту назад колебавшаяся, дала согласие.
В двенадцатом часу ночи они пришли впятером, среди них был и тот, кто жесткой рукой и на коротком поводке держал всех. Ничего особенного в нем не было, так себе, немудрященький с виду, смуглое лицо побито оспой, почти безбровое, глаза очень белые, словно выстиранные, — нет, не красавец, даже дурен. На нем были хромовые командирские сапоги и длинная шинель с лейтенантскими кубарями на отворотах воротника. Когда же он снял шинель, то оказался в хорошо подогнанной лейтенантской форме, чему она опять очень удивилась, а он, заметив ее недоуменный взгляд, усмехнулся и промолчал. Так же дотошно осмотрев дом и расспросив о соседях, он сел за стол, посадил ее рядом — ребята встали у стены — и сказал:
— Кто вы — мы знаем, Клавдия Федоровна, кто мы — вы догадываетесь. У меня в группе, — он так и сказал «в группе», — железная дисциплина, ей будете подчиняться и вы, если согласитесь нас принять. Подумайте, прежде чем согласиться. Если нет, мы уйдем, хорошо заплатив вам.
— За что? — испугалась она: в ее среде плата в подобных случаях была известная.
— Вы не поняли меня, — мягко улыбнулся он. — Мы вам дадим деньги. Хорошие деньги. За то, что вы видели нас и будете молчать. Видеть нас, — он опять улыбнулся и такая же улыбка расцвела на лицах ребят, — тоже недешево стоит.
— Господи, как вы меня испугали, — сказала она с облегчением.
— Это не мы вас испугали, — ровно продолжал он, — это прошлое вас испугало. В прошлом вы имели дело со всякой низкопробной шпаной. Прошу нас не путать с ней, мы не такие.
«А какие?» — хотела спросить она, но наткнулась на его белые, выстиранные, враз построжавшие глаза и сказала:
— Я согласна. Оставайтесь.
— В таком случае, капитана своего бросьте… Перестаньте приторговывать на базаре. С завтрашнего дня вы будете только покупать.
— А продавать мне и нечего, — легко сказала она.
— Будет чего. Но этим станут заниматься другие. Ваша забота: содержать дом в чистоте, обстирывать нас, готовить еду. Чтобы не мозолить глаза милиции, завтра вы пойдите в госпиталь, что на Парбичевом бугре, и наймитесь домашней прачкой.
Увидев, как вытянулось лицо Клавдии, сказал печально:
— Никто не любит работать. Даже то не можем понять, что жить без прикрытия нашему брату — гибель.
— А вы любите? — разозлилась Клавдия. Что это, право: он ей мораль вздумал читать. — Этак я могла бы и без вас туда устроиться.
— Ваше отношение к труду, — сказал он, — мы учли, Клавдия Федоровна. Белье в госпитале вы будете брать, относить по указанному мной адресу, получать его через несколько дней чистым и сдавать в госпиталь. Мне думается, — он чуть заметно усмехнулся, — это не очень обременительно.
Помолчал и добавил спокойно и равнодушно:
— За неисполнение хотя бы одной моей просьбы вас пришьет Женя.
Уже знакомый ей угрюмый парнишка, ходивший за Николой тенью, отслоился от стены, глянул на Клавдию горячечными пустыми глазами, и она поняла, что да, этот пришьет, этот родную мать зарежет, прикажи ему Никола.
Они были странны ей, эти воры. Ни водки, ни оргий, ни девок, ни карт — квартира ее совсем не походила на притон, к чему Клавдия была готова. В прошлом кое-кто из ребят баловался анашой — Никола и это запретил им. Когда прошли облавы по ямам, где пьянствовали, развратничали, проигрывали в карты десятки тысяч рублей и ставили на кон жизнь — свою и чужую, — когда прошли эти облавы и милиция замела много крупной шпаны, Никола презрительно усмехнулся и сказал:
— Чище будет. А то расшумелись, пакостники.
Подумал и спросил строго:
— А кто это нас тянул к бабке Дашке?
— Я, — ответил Ванька Повар. — Корешок меня туда зазывал.
— Теперь твой корешок хлебает милицейскую баланду, — сказал Никола. — Знаю его, Ваня. Единоличник сопливый. Возьмет червонец, звону по малине пустит на сто. Балаболка. Настоящий вор, мальчики, ценит слово. Часто за одно
неосторожное слово вор платит свободой. Мы же заплатим жизнью. Берегите слово, мальчики… Клавдия!
— Да, — отвечала она. По ночам, когда ребята не уходили на дело, она садилась в большой горнице у печки, брала штопку и слушала их беседы. Говорил в основном Никола, а парни с горящими глазами, похожие в эти минуты на волчат, слушали его, не проронив ни слова. Даже она, тридцатипятилетняя, знающая почем фунт лиха баба, попадала под обаяние этого человека и его речей. Обыкновенно беседы начинались с того, что он учил их осторожности, умению заметить слежку и оторваться от нее. У каждого из них в ее доме были сапоги, валенки, полушубок, пальто, ватник, по два костюма — он требовал менять верхнюю одежду часто, чуть ли не через сутки. Женьке Шепилову, его телохранителю, сменное пальто оказалось великоватым, а это могло вызвать подозрение: Никола не выпускал его из дому неделю, пока не достали вещь по фигуре. И многому другому учил он их, и это была наука выжить.
— Клавдия, — спрашивал он, — сколько мы живем у тебя?
— Да дней двадцать, — отвечала она.
— Представь теперь, что мы глухонемые. Много ли ты узнала бы о нас?
Это ей было интересно. Она думала. Отвечала:
— Почти ничего. Разве что квартира у вас еще есть, и даже не одна, потому что не всегда вы у меня ночевали. Ну и те склады, что вы брали. Шум по городу идет…
— Что ж, резонно. И от молчаливых можно много узнать путем сопоставления. А у нас еще есть языки, поганые, несдержанные. Мы поболтать любим, по-дружески, между собой, обо всем понемножку. Что же ты узнала от моих юнцов, Клавдия?
Юнцы заерзали на стульях. Открыто протестовать они не смели.
— А вы скажите, — разрешил Никола. — Я права голоса ни у кого не отнимал.
Они загалдели возмущенно.
— По одному, — поднял руку он. — А еще лучше — один пусть скажет.
— Я у Клавы не исповедовался, — заявил Иван Повар. — И за ребят ручаюсь.
— Да, это так, — подтвердила она.
— Однако у Клавдии есть уши, — сказал он. — Что же вошло в твои уши, Клавдия? Из разговоров, из недомолвок?
Она помолчала, вспоминая. И вдруг поняла, что знает о них почти все. И ужаснулась этому, потому что лучше бы ей не знать ничего.
— Клавдия! — подстегнул он. — Не юли, Клавдия!
— Ты тамбовский, Коля, кличка — Волк. Убежал из КПЗ, убил охранника. У Ивана есть девушка, зовут Галя, учится она на курсах медсестер. Любовь у них… У Жени брат старше на два года, ушел добровольцем на фронт… Все вы скрываетесь от мобилизации, недавно за сто тысяч купили дом, подставную хозяйку зовут тетя Витя. Полное ее имя, думаю, Виктория. Ну и еще кое-что по мелочам…
Тихо-тихо стало в горнице. Шипя, сгорал керосин в семилинейной лампе. Желтый немощный свет выхватывал из полутьмы горницы не лица, а застывшие маски.
— Как же мне научить вас ценить слово, брехливые собаки? Клавдия! Дай листок бумаги, карандаш, прихвати из прихожей чью-нибудь шапку.
Она принесла все, что он требовал. Дрожа, прижалась к теплому боку печки и смотрела, как он делил листок на пять равных частей И в каждую вписывал имя.
— Проверьте, — сказал он. Никто не двинулся с места.
— Чей жребий выпадет, тот умрет, — сказал он. — Проверьте.
Послышалось слабое шевеление, но встать и подойти к столу никто не решился. Тогда он скрутил в жгут каждую дольку, бросил в шапку.
— Тяни, Клавдия.
— Пятая — я? — спросила она.
— Пятый — я, — сказал он. — С такими болтунами лучше подохнуть сразу, чем быть заметенным через неделю. Я себе испрашиваю единственную привилегию — застрелиться. Любой другой должен повеситься в каком-нибудь сарае на окраине города. Чтобы не было никакого шухера, в кармане иметь собственноручную записку. Женя, проследишь. Если выпадет тебе, проследит Иван. Клавдия!
Пляшущими пальцами она нашарила в шапке первый же жгутик, развернула, прочла: Сашка Седой. Слабо застонав, поднялся с койки худенький белесый парнишка с простреленным плечом — тот самый, кто при побеге из больницы ранил милиционера Макеева и кого выстрелом из докторского кабинета ранил Чернозубов.
— Мне жаль, Саня, — дрогнув в лице, сказал Никола, — ты славный парнишка, мне не хотелось бы тебя терять. — Он медленно обвел глазами всех и добавил: — И никого из вас мне не хотелось бы терять. Тебе не повезло, Саня.
И столько печали было в его голосе, что Клавдия лишь только сейчас поверила: он заставит Седого повеситься, а Женька проследит. Она всхлипнула, сползла на пол, обняла руками колени этого странного, непонятного ей человека и стала просить несвязно:
— Коля, не нужно… Не губи его… Смерть его будет на мне… Коля! Все сделаю, вся ваша, родные вы мои… Прости его, Коля!
Захваченные ее порывом, ребята тоже подошли, брали за плечи и за руки, просили… Лишь Сашка Седой, покачиваясь, по-прежнему стоял у койки. Сжигаемый огнем изнутри, он слабо понимал, что сейчас происходит.
— Эх вы, лизуны, — голос Николы потеплел. — Ну хватит, хватит! Поднимись, Клавдия… Тоже мне, матерь божия, заступница сирых… Считай, ты в рубашке родился,, Александр. Ложись, милый. Нам, братцы, надо все-таки достать врача. Опасно, а надо. Сгорит парень.
Говоря это, он подошел к печке, открыл заслонку и вытряхнул из шапки записки с именами. Шапку, не глядя, кинул через плечо, ее подхватил всегда настороженный Женька.
Каждую ночь Клавдия ждала его к себе, нынче он наконец пришел в ее боковушку. После близости, в те отрешенные чистые минуты, когда хочется спрашивать и отвечать только правду, она сказала ему:
— Коля, зачем ты обманываешь их?
Спросила — и ждала, чутко ловя его голос. Он сапнул недовольно:
— То есть?
— Ну, воры мы — и воры… Чего уж там… икру-то метать. Не надо бы…
Под ее щекой было его плечо, и Клавдия чувствовала, как твердело оно. Но голос его еще был мягок:
— Хорошо с тобой, Клавдия… И тем хорошо, что мудрая ты: знаешь, что надо, а что не надо. А надо мне теперь, Клавдия, чтобы приняла ты Женьку, тень мою.
— Коля! — почти простонала она. — Я же не шлюха, Коля!
— Разве? — холодно спросил он.
Она, бессильно плакала у него на плече. Он обнял ее, сказал:
— Вот видишь, правда не нужна тебе. И никто не хочет знать о себе правду. Что же ты так хлопочешь за мальцов? Почему тебе кажется, что они обделены правдой и несчастны? А не наоборот ли, Клавдия?
— О господи! — сказала она. — О господи!
— А Женьку прими, — повторил он, поднимаясь. — Мне надо делать, из него мужчину. Я пришлю его сейчас.
— Коля, за что ты меня так? — шептала она, удерживая его. — Не смогу я… Сейчас не смогу…
— Сможешь, — сказал он, размыкая ее руки. — Я вор, а ты шлюха… Чего же нам икру метать?
Растерзанная, раздавленная, она глухо плакала. Ни тогда, когда ее, молоденькую учительницу из Уваров, изнасиловал на полевой тропе хмельной звероватый лесник, ни тогда, когда она хлебала в лагерях баланду, ни тогда, когда она обманывала своего доверчивого мужа, ни в объятиях боязливых откормленных чиновников, ни в ласках истеричных, бесшабашных воров, всю мужскую силу которых постоянно и тайно сжигал страх, — нет, в те позорные дни ни разу не приходила к ней горькая мысль, что жизнь ее погублена. Все ей казалось, что она мстит кому-то, и сладко это было — мстить, а еще ей казалось, что дальше будет лучше, что как-то изменится все, жизнь станет чище, а сама она станет чистой и звонкой, как туго натянутая струночка, какой шла она когда-то полевой тропой, доверчиво и безбоязненно глядя на встречного мужика. И вот теперь в теплом доме, доверху забитом жратвой и тряпками, в глухую совиную ночь, камнем павшую на голодный город, мысль о том, что жизнь ее погублена, пришла к ней и пронзила ее и не оставила обманных надежд. И поняла она, почему страдала за ребят, почему хотела для них нынешней, а не поздней правды.
В проеме двери, смутно белея оголенным телом, переминался Женька. Хрипловатым от сна, теплым, почти детским голосом он сказал:
— Ты плачешь, Клава? Ты не плачь, я тоже не хочу… Ну его… заставляет. А зачем мне? Ты не плачь. Я посижу вот тут, на табуретке, и уйду. Ты только не продай меня, ладно?
В темнота он шарил руками табуретку, ударился коленной чашечкой о ножку стола, слабо ойкнул. Клавдия приподнялась, протянула руку, положила ладонь на его враз задрожавшее плечо.
— Иди ко мне, — сказала она с щемящим чувством печали, — не бойся меня, милый…
Ранним утром все они сгинули в морозной мгле. Клавдия поднялась, умылась, стала выгребать золу из печи. Что-то словно подтолкнуло ее, и она, не зная, зачем это делает, собрала все бумажки, выброшенные ночью Николой, развернула их, прочла. На каждой стояло одно имя — Сашка Седой. Сашка метался в жару на койке, бредил. Сухими глазами она долго и равнодушно смотрела на него, и ничто не всколыхнул в ее душе еще один обман. В этот день она начала упорно долбить из чуланного подполья ход на соседний двор. Злющей собачонке, обитавшей там, она кинула кусок хлеба с мелкими иголками.
Никола нашел врача, но было уже поздно: через три дня Сашка умер. Ночью они вынесли его на Кутум, опустили в прорубь. Другой Сашка, клички у которого не было и лицо которого она даже не запомнила, пошел без разрешения Николы навестить мать, — хорошо еще, что оружия при нем не было. Туда же совершенно случайно заглянул участковый, забрал его и сдал в военкомат. Как уклоняющегося от воинской обязанности, Сашку судил трибунал, загремел парень в штрафную роту. О своем участии в банде он промолчал, благо не спрашивали, а в тот день, как его забрали, Ванька Повар по приказанию Николы отнес его матери двадцать тысяч.
По тридцать тысяч Никола в тот же день дал каждому — и Клавдии тоже, чем приравнял ее ко всем и чему она была рада. Велел найти в городе тайники, спрятать деньги и не прикасаться к ним до худших времен, объяснив, что худшие времена настанут тогда, когда они не смогут быть вместе и каждому придется выкарабкиваться самостоятельно.
Их было теперь трое, все трое не расставались с оружием… Но втроем работать было тяжело, невыгодно, и как ни противился Никола, пришлось пополнять свою группу — Клавдия так и не услышала, чтобы он хоть раз произнес слово «банда». Вскоре явился к ее ребятам ночью двадцатисемилетний матерый вор Ленька Лягушка, бежавший из воинского эшелона на пути в Сталинград. Это Клавдия узнала позже… Он постучал условным стуком, и Клавдия поняла, что встреча была назначена. Ленька с Николой закрылись в ее горенке и долго говорили о чем-то. Ленька вышел и через час привел троих своих подельников — родного брата Володьку, Пашку Джибу и Генку Блоху. А сам вышел во двор, сменив на стреме Ивана Повара. Этим он дал понять, что уступил главенство добровольно и бескровно. Иван Повар и Женька знали новых хорошо, об этом можно было судить по тем восклицаниям, шуткам, довольно бессвязным вопросам и ответам, которыми они обменивались в первые минуты. Никола же видел их впервые. Клавдия настолько хорошо изучила его, что его тревога, нерешительность передались и ей. Но голос Николы по-прежнему был сух и ровен.
— Молодые люди, — сказал он, — за каждым из вас в этот дом тянутся широкие связи с внешним миром. Смертельные связи, потому что в выборе вы неразборчивы. Оборвите их, забудьте друзей, забудьте родных. Не потерплю карт, пьянок, наркотиков, истерик, ломок ксив и прочего разгильдяйства. Мое слово — закон, малейшее самовольство карается смертью.
— Мы знаем это, — тихо сказал кто-то.
— Знайте и другое: каждый из вас входит в мою группу на равных правах со мной. Мои товарищи, — он кивнул на Женьку и Ивана, — скажут вам, что каждый заработанный рубль честно и поровну делился, и я не брал себе не единой лишней копейки. Так, Иван?
— Так, Никола…
— И будет так. В моей группе будет и есть: один за всех, все за одного. Языки привязать к зубам! Таковы мои основные правила. Сейчас составьте на ночь график дежурства — и спать. Леонида смените. Он второй здесь после меня человек и от дежурств освобождается.
Теперь у Клавдии они ночевали редко, раза два в неделю, не больше. Последний раз пришли без предупреждения, поздно вечером. Она уже собрала им на стол, как влетел Генка Блоха, выкрикнул:
— Идут, гады!
Кто-то кинулся к лампе.
— Стоять! — властно приказал Никола. — Леонид, закрой обе двери на запоры. Ты, — повернулся он к заполошно дышавшему, расхлюстанному Генке, — конечно, об этом не позаботился?
— Спешили… — сник тот.
— Спешить надо. И думать надо. Хорошо хоть, что поспешил к нам, а не в иную сторону. Молодец! А когда спешить начнешь с толком — совсем ладно будет.
Генка Блоха расцвел. Однако возразил для порядка:
— За мной не водится, чтоб товарищей оставлять.
В дверь уже бухали чем-то тяжелым. Все споро, но без сутолоки одевались. Николай, словно испытывая судьбу, неторопливо натягивал поданную Женькой шинель. Оглядел ребят.
— Павел, почему шапка набекрень? Потерять хочешь?
И ждал, усмехаясь, пока тот не застегнул тесемки малахая у подбородка. Затем подошел к окну, выстрелил наугад, отскочил в простенок между окнами. В ответ грянуло несколько выстрелов, одна из пуль, пробив толстую ставню, ударила в потолок и слабо шмякнулась на стол. Никола удовлетворенно сказал:
— Вот теперь они будут все у окон. Пора. Клавдия идет первая.
Сам вышел последним. Ребята летучими тенями скрылись во тьме. Видимо, они знали, что делать и куда идти, у них все было обговорено заранее, и только с ней никто ничего не обговорил. Она стояла одна-одинешенька под черным звездным небом, мрак был в ее душе, и если бы был у нее пистолет, она бы застрелилась.
Откуда-то вдруг подсунулся Женька, обнял, зашептал горячо:
— Клава, ты перебейся… Мы тебя найдем… Мы тебя не оставим, Клава. Я все сделаю для тебя…
— Господи, — всхлипнула она, — что ты можешь, мальчик? Дом мой громят… Без дома меня нет на земле.
— Дом… Нашла о чем печалиться, — сказал Никола. Он возник из тьмы и тоже обнял ее. — Достану тебе новые документы и куплю дом краше этого. Верь мне, Клавдия. Забудь наш разговор… Ты своя в доску баба… Верь мне, Клавдия, я добро помню.
Она знала, что ничего не будет; ни дома, ни документов, ни ребят — они уйдут сейчас и забудут о ней. Может быть, лишь у Женьки, который самозабвенно ласкал ее своими первыми, страстными, скоротечными от неопытности ласками, — может быть, у него останется боль в слепой душе, но нескоро она прорастет в прозрение. Она знала все это и верила несмотря ни на что. И когда на следующую ночь сержант Виктор Саморуков поднял ее с постели, она встала, спокойно оделась и равнодушно наблюдала, как он пересчитывает ее тридцать тысяч, а понятые, две соседки Любивой, округлившимися от ужаса глазами глядят на огромную кучу денег на столе… Она верила. И в вере своей она спасала их от ареста до самой последней минуточки. Они целы, невредимы, здоровы, никто не взят — и они отказались от нее. Неужели же прав этот молокосос, этот лейтенантик, синюшный доходяга, смертник, — неужели у воров все не так, как у всех остальных, неужели не одно солнце им светит, не одна в жилах кровь течет, и нет у них верности, нет благодарности, нет памяти — ничего нет того, чем жив человек? Почему они не пришли к ней на помощь? Почему? Почему?
Глава третья
1
Роман Мациборко вышел из нотариальной конторы и, прижмурясь, с наслаждением подставил лицо под искрящееся февральское солнце. Тепло было, чирикали воробьишки, с высокой крыши соседнего здания, в котором располагался госбанк, срывались увесистые сосульки и долбили асфальт. Весна скоро, подумал Роман, хорошо. Прикрыл глаза, скосил их вправо, узрел постового — тот тоже грелся на солнышке, жмурясь, как кот. Шинелишка на нем была потертая, не по плечу, одна пола почему-то длиннее другой, по всему видать, мужик из недавних, сунули ему в хозчасти — на тебе, боже, что мне негоже, он и смолчал. Впрочем, Роман смолчал тоже… Ничего, думал теперь он, обслужимся, поймем, что в хозчасти сидит товарищ прижимистый, у него только из горла и выдерешь что-нибудь стоящее.
— Гражданин!
— Да, — ответил Роман. Он был в штатском. — Слушаю, товарищ постовой.
— Получил справку, гражданин, и иди своей дорогой. Тут нельзя стоять. Тут банк. Деньги народные хранятся.
— Иду, иду, — сказал Роман. — От народных денег надо держаться подальше, проживешь подольше.
— Верно, — заулыбался постовой, но Роман, проходя мимо, видел, как он неуловимо отвел руку к кобуре.
Постовые, участковые, конные и пешие наряды милиции — теперь, после показаний Клавдии Панкратовой, знали приметы бандитов. И не только они, но и сотни добровольных помощников милиции, верных ее друзей. Розыск вступил в ту стадию, когда вроде бы еще и нет ничего, но уже есть многое. Сотни глаз сейчас кинжально простреливают город. Глаза на вокзале, на всех выездах, на базарах, в магазинах, в трамваях, в очередях… Уже стали поступать донесения: там-то видели Ваньку Спирина, по кличке Повар, там-то проходил тщедушный Генка Блоха… Это очень много — знать, кого надо видеть из трехсот тысяч горожан.
Но и скрыться легко среди трехсот тысяч… Впрочем, среди двадцати тысяч — тоже легко. А именно столько горожан и горожанок находится теперь на попечении Романа Мациборко: два дня назад его назначили участковым уполномоченным. Сейчас из двадцати тысяч подопечных горожан и горожанок его интересовала только одна — тетя Витя, которая выплыла на свет божий из показаний Клавдии Панкратовой. Требовалось ее найти, но как? Ни примет, ни фамилии… Да, не больно-то дружки-бандиты откровенничали с Клавдией. И все же тетя Витя — это вам не тетя Маня: мужское имя, намертво пристав к женщине, сильно сужало поле поиска. Витя, Виктория, Виолетта, Витольда… Не так-то уж много заковыристых женских имен на букву «В» — с этим убеждением и входил Роман в нотариальную контору полчаса тому назад. Теперь он вышел оттуда, имея в кармане адрес Виктории Георгиевны Барминой, купившей дом на улице Пестеля, 32. На всякий случай записал он имена еще двух покупательниц — Виолы и Виорики, памятуя, что имя имеет обыкновение в обиходе так изменяться и усекаться, что от паспортного остаются только рожки да ножки…
Итак, Виктория Георгиевна Бармина, сорока лет, мать двоих детей, муж на фронте, несудимая. Еще недавно жила Виктория Георгиевна в двухкомнатной коммунальной квартире, переулок Извилистый, дом 14. А переулок Извилистый находился во владениях участкового уполномоченного Романа Мациборки… Туда он и поехал, не переставая удивляться, как же так получилось, что мать двоих детей, работающая прачкой в военном госпитале, сумела сэкономить сто тысяч? Ну хорошо, сэкономила… Но неужели ей было тесно с двумя детьми в двухкомнатной квартире? Зачем же выбрасывать такую уйму денег за дом-пятистенку? Ох, Виктория Георгиевна, чует мое сердце, что это тебя зовут тетей Витей, подставной хозяйкой бандитского дома, ямщицей…
В квартире дома, что стоял в переулке Извилистый, дверь Роману открыла худенькая женщина с измученными глазами. Роман сделал изумленное лицо.
— Простите, — сказал он, — здесь живет Виктория Георгиевна Бармина? Или я ошибся? Да нет, я же бывал здесь не раз. Я ее племянник. Из деревни.
Интересно, думал он, а как ты, брат, выйдешь из положения, если она и есть Бармина? Зашла на старую квартиру за какой-нибудь забытой вещью. Что тогда?
— Она жила здесь, — тихо ответила женщина, — а недавно переехала. Дом купила.
— Дом? — снова изумился Роман. — Да она что? С ума сошла? У нее и эта квартира не тесная.
— Да, две комнаты, — так же тихо сказала женщина. — Светлые, теплые. Я так рада! — Она улыбнулась.
— Вот так тетка Витя! — сердился Роман. — Дом купила, а старшей сестре — ни гугу. Где ж мне теперь ее искать? Шутейное ли дело? Она хоть у вас бывает?
— Нет. Я даже и не видела ее ни разу. От соседей, правда, слышала, что дом она купила на улице Пестеля. А номера не знаю, она никому не сказала.
Все так удачно получилось, что Романа неудержимо потянуло на улицу Пестеля: может, и там что-нибудь выгорит? Ибо сказано, хватай удачу за хвост, а то неудача пырнет рогами. Правда, улица Пестеля не входит в его участок, но ведь и Роман не формалист… Надо съездить. Нет, в дом 32 он не зайдет, но через соседей наведет кое-какие справки. Участковым дан приказ: обо всех подозрительных покупательницах домов незамедлительно сообщать в городской уголовный розыск старшему лейтенанту Миловидову. Явится Роман в уголовный розыск, высыпет на стол целое лукошко фактов, все скажут: ай да Рома! Хорошо, скажут, что его повысили в должности, назначили участковым, очень к лицу ему будут теперь погоны младшего лейтенанта… Решено — еду!
Но никуда он не поехал. Почему-то вспомнилось ему слово «племяш». «Племяш, племяш, — шептал Роман. И тут его пронзило: — Ах ты сукин сын, дубина стоеросовая! Вот уж поистине — заставь дурака… А если у Барминой нет сестры и, следовательно, племянника? А если она, годами жившая в этом многоквартирном доме, навестит своих соседок, зайдет и в свою квартиру? Известие, что приходил несуществующий племяш, ее сразу кинет в дрожь. Что тогда? В младшие лейтенанты захотел, карьерист несчастный! Тут наследил, да еще и на улицу Пестеля чуть было не отправился…»
Начальнику городского розыска Геннадию Владимировичу Миловидову он рассказал все без утайки, за исключением, конечно, розовой мечты о лейтенантских погонах. Выслушав, Миловидов спросил:
— Инициатива хорошо, а что есть сверхинициатива, сержант?
— Глупость, — убито пробормотал Мациборко.
— Истинно. Не зная общего хода операции, не следует соваться туда, куда не просят. Еще одну вещь запомни, пригодится: то, что можно сделать проще, — надо делать проще! Вот ты разыграл сценку перед новой хозяйкой квартиры… Ну что же, в иных обстоятельствах без этого не обойтись. Но не в твоих! Ты уверен, что завтра судьба не приведет тебя в переулок Извилистый уже в образе участкового уполномоченного?
— Приведет, конечно. Это же мой участок…
— Вот. Увидит тебя хозяйка квартиры и сразу сообразит, что к чему. А тут может случиться то, чего ты боишься и чего действительно следует опасаться: придет навестить соседок Виктория Бармина… Давно служишь у нас, сержант… э-э… напомни-ка мне свою фамилию?
Роман напомнил и сказал, что служит чуть больше месяца.
— Мациборко, Мациборко… — задумчиво повторил Миловидов. — Фамилию, помнится, я встречал в приказе. Редкая для наших мест фамилия… Это не ты на базаре Большие Исады взял налетчика Герку Кола?
— Да повезло мне просто, товарищ старший лейтенант… Чего теперь об этом деле говорить.
Миловидов хмыкнул. Однако голос его потеплел.
— Вот что, парень. Бери ноги в руки, дуй в переулок Извилистый, поговори с женщиной, которой ты представился племянником тети Вити, предъяви свои документы и попроси ее молчать.
— Да-а… — сокрушенно протянул Мациборко. — Мог бы и сам догадаться.
— Ничего, — успокоил его Миловидов. — Ты все-таки два добрых дела сделал. Во-первых, добыл нам Викторию Георгиевну Бармину, во-вторых, у тебя хватило ума не поехать на улицу Пестеля. Для начала — совсем неплохо, сержант.
Когда Роман вышел, Миловидов поднял телефонную трубку.
— Луценков? Здравствуй. Кажется, получили мы наконец тетю Витю. Какую Витю? Ты, гляжу, показания арестованных дюже внимательно читаешь… Да, да, та самая… Ну, не совсем та самая, это нам надо с тобой уточнить. И еще два адреса есть — Виолы и Виорики… А чем черт не шутит? Ты вот что, вопросы потом будешь задавать, а сейчас двигай ко мне. Тренкова тоже попрошу прийти, вместе обговорим детали. Ох ты, какой гордый… Хорошо, мы с Тренковым придем к тебе. Готовь своих парнишек, пора и им поработать.
2
Вечером посыльный передал Роману Мациборко приказание: в 19.00 явиться снова к старшему лейтенанту Миловидову.
В назначенное время Роман доложил о прибытии. Миловидов подозвал его к столу, показал фотографию.
— Это наш сотрудник Николай Микитась, — пояснил он. — Служит в отделе Луценкова. Под видом работника домоуправления ушел на улицу Пестеля собирать сведения о Барминой. Двое других пошли по адресам Виолы и Виорики. Они вернулись в назначенный срок, Николай Микитась — нет. Найди его следы, сержант.
И он объяснил, как найти, не привлекая внимания. Добавил, что Николай Микитась отправлен на задание с удостоверением работника домоуправления Андреева.
— Безоружный? — спросил Роман.
— Работникам домоуправления оружие не полагается. Ты их видел когда-нибудь с пистолетами?
— Но ведь тетка Витя, — засомневался Роман, — она же почти та самая…
— Ему было приказано в дом Виктории Барминой не заходить. И тебе приказываю! Повтори!
— В дом к Виктории Барминой не заходить, товарищ старший лейтенант. Справки навести через соседей. Один из них, Абдрахман Кашаев, будет со мной откровенным. Можно ли спросить — почему?
— Год назад квартиру Абдрахмана Кашаева обчистили до последней вещички. А мы нашли жуликов и вернули ему украденное. С тех пор он милицию зауважал. Назови ему мою фамилию, скажи, что это моя просьба.
— Ясно. Разрешите выполнять?
— Выполняй. Вернешься, сразу иди в кабинет Заварзина, помощник его будет предупрежден. Вернуться ты должен в двадцать ноль-ноль.
Вернулся Роман чуть раньше. В кабинете капитана Заварзина шла оперативка штаба по ликвидации банды, но Романа ждали. Когда помощник ввел его, Мациборко на миг оробел — все начальство здесь собралось: Заварзин, Авакумов, Луценков, Корсунов, Тренков, даже непосредственный начальник Романа, старший лейтенант Топлов, сидел тут же и почему-то неодобрительно поглядывал на своего участкового.
— Доложи, сержант, что узнал, — сказал Заварзин.
— Виктория Бармина действительно живет в доме тридцать два, товарищ капитан. Николай Микитась проверил домовые книги примерно у десяти хозяев. И когда он сидел у хозяйки дома тридцать четыре, к ней зашла Бармина за щепоткой соли. У них состоялся там разговор, и я так понял, товарищ капитан. Микитась вынужден был пойти с Барминой, чтобы не раскрыться. На этом следы его обрываются. Всем он представлялся как работник домоуправления Андреев, ходил с палочкой, прихрамывая, говорил, что на этой работе временный, пока не заживут фронтовые раны, а потом снова уйдет на фронт. Дело обыкновенное, ни у кого никаких сомнений, как я понял, не возникло, роль свою он сыграл хорошо.
— А ему и не надо было играть, — сказал Луценков. — Николай Микитась — сталинградец, был ранен в боях за Тракторный завод, лечился в одном из наших госпиталей. И недолечился как следует, ходит с палочкой. В моем отделе служит около месяца.
«Почти как я, — подумал Мациборко. — Да и одногодок, наверно, мой».
— Авакумов! — обратился Заварзин к заместителю.
— Слушаю, товарищ капитан.
— Поднимайте свою опергруппу. Дом окружить. Если бандиты там — взять, если их нет — а я уверен, что их там уже нет, — начать обыск. Бармину после обыска доставить ко мне.
Авакумов вышел. Заварзин нашел взглядом Миловидова и Тренкова, сказал:
— Вам быть со своими людьми наготове. В ночь предстоит работа.
Луценков крепко потер ладонью вспотевшую лысину, сказал с горечью:
— Торопимся, спешим… И вот она чем оборачивается, торопливость наша.
— И еще как спешим! — поддержал его Миловидов. — Сведения о купленном Барминой доме мы получили в нотариальной конторе в двенадцать дня. Хотя бы сутки понаблюдать за ним — многое бы прояснилось. А мы уже через два часа послали туда человека, можно сказать, в лобовую атаку. Так дела не делаются…
Заварзин слушал молча. Он был из тех начальников, которые позволяли своим подчиненным высказывать все, что на душе. И они это знали…
— А по-моему, мы не больно-то и торопимся, — возразил начальник третьего городского отделения милиции Топлов. — Понаблюдать… Собрать данные… В игрушки играем. Добыли адрес Барминой — сразу надо было посылать опергруппу, бандитов бы и накрыли. А теперь ищи ветра в поле. Очередную бабенку на допрос Авакумов привезет. Будем с ней опять мыкаться, как Тренков с Панкратовой.
— А если бы не накрыли? — сказал Луценков. — А если бы эта тетя Витя оказалась не той, которая нам нужна?
— Извинились бы за беспокойство. Чего ж проще…
— Счастливый ты человек, Александр Михайлович, — вздохнул Луценков. — Мне бы твою сокрушительную уверенность.
— Где сержант Мациборко? — спросил Заварзин. — Куда он делся? Я, помнится, его не отпускал.
— Виноват, товарищ капитан, — сказал Миловидов. — Я его отпустил. Мациборко — единственный, кто знает, где на Пестеля расположен дом Барминой. Чтобы наши люди там не мыкались, не разглядывали номера…
— Вот и ответ, Александр Михайлович, на твое обвинение в медлительности, — сказал Топлову Заварзин. — Проследить, собрать данные — это отнюдь не игрушечки в розыскной работе. Мы даже подходов к дому Барминой не знаем, не говоря уже обо всем прочем. Для этого и послан был Микитась. Нет, я не вижу ошибок в нынешнем дне. Мы сработали оперативно. Конечно, с точки зрения чистой теории розыскного дела — мы спешим. После войны, товарищи, станем работать по чистой теории. Вот тогда-то и отведем душеньку. А теперь нам остается самое тяжелое — ждать вестей от Авакумова.
— Ах ты, Микитась, Микитась, — горько сказал Луценков. — Что же там случилось с тобой, браток?!
Глава четвертая
1
Бармину привезли в полночь.
— Виктория Георгиевна, — сказал Заварзин, — у меня нет времени подробно допрашивать вас, этим займемся завтра. На улице пурга, мороз, ваши квартиранты в такую ночь спать под забором не станут. Дайте нам их возможные адреса. Напоминаю, этим вы облегчите свою участь.
— Ничего не знаю, — тупо сказала Бармина. — Ничего не знаю.
С невольной жалостью глядел на нее Заварзин. Еще несколько часов назад она была зрелой, видной женщиной, бабий век которой был бы долог. Но об этом можно было лишь догадываться, потому что сейчас перед ним сидела старуха. Мертвый взгляд, потухшее, морщинистое лицо… Не по себе было Заварзину… Однако продолжать надо.
— Начнем тогда с азов, — сказал он. — В подвале вашего дома найдены шестнадцать ящиков конфет, два мешка сахарного песку, два мешка рафинада, двести пачек махорки, три рулона материи, десять шерстяных одеял. Откуда это у вас?
— Где мои дети? — мертвым голосом спросила Бармина. — Что вы сделали с ними?
— Товарищ Луценков, узнайте, что с детьми.
Луценков поднялся с дивана, вышел. Через несколько минут возвратился, доложил:
— Младшая спит, товарищ капитан. Постелили ей на диване в кабинете Криванчикова, укрыли шерстяным одеялом, конфискованным у Барминой. Старшая, Аля, спать не хочет, пьет чай с Корсуновым.
— Вот видите, Виктория Георгиевна, ничего страшного с вашими детьми не происходит и не произойдет. Отвечайте на мой вопрос. Быстро!
— Это не мои продукты, — сказала Бармина. — Их привезли какие-то воры.
— Воры устроили, продовольственно-вещевой склад, а вы жили и молчали? Наивно, Виктория Георгиевна.
— Воры появились у меня три дня назад, — сказала она. — Приходили ночами. Спали то на подлавке, то в сарае — как им захочется. Я пошла в третье отделение милиции, дежурный послал меня к сотруднику, я все ему рассказала. Он записал. Я еще попросила его забрать их быстрее.
— Фамилию сотрудника помните?
— Андреев.
Вот и все. Если и была какая-то надежда, то теперь ее нет. Большим напряжением воли удалось Заварзину сохранить прежний ровный голос.
— Опишите его. Я строго взыщу с этого человека. Если бы не его расхлябанность, вы сейчас не сидели бы передо мной.
— Уж я ждала-ждала вас, все глазоньки проглядела… Молодой такой, с палочкой ходит. Видать, раненный был. Волос светло-русый, брови черные, разлетные, глаза черные, большие. На виске черная родинка с горошек.
Заварзин не знал примет Николая Микитася и с последней надеждой глянул на Луценкова. «Он, — ответили глаза Луценкова. — Он!» Тогда Заварзин перевел взгляд на Бармину, стремясь постичь истоки ее извилистой лжи. И ничего не прочел в ее мертвых глазах. Снял трубку, попросил сонную телефонистку соединить его с начальником третьего отделения милиции.
— Топлов слушает, — густым басом сказал Топлов, и громкоговорящая трубка, заменить которую у Заварзина так и не дошли руки, разнесла его голос по кабинету.
— Александр Михайлович, у тебя в отделении есть сотрудник Андреев? — спросил Заварзин и назвал приметы.
— Был Андреев. Зимой прошлого года ушел на фронт. — Топлов помедлил. — Погиб он, товарищ начальник.
— Александр Михалыч, того Андреева я знал не хуже тебя. Ты скажи, сейчас у тебя служит Андреев, приметы которого я описал?
— Обижаете, товарищ начальник, — сказал Топлов. — Я не только свой оперсостав, я каждого постового, каждого участкового знаю в лицо и по фамилии. Нет у меня Андреева. — Чувствовалось, что Топлов начинает гневаться. — Андреев — человек Луценкова, он сегодня ходил собирать сведения о Барминой. Помните, мы еще говорили об этом на оперативке? Микитась его настоящая фамилия, вот как. Бармина прихватила его у соседей, помните? Я еще подумал, сгиб парень, но ничего не сказал, чтоб судьбу не искушать. Товарищ начальник! Але! Это, что-то там Луценков крутит. Приписал мне своего Андреева. Але! Але!
— Спасибо, Александр Михайлович, — совсем по-штатски сказал Заварзин. — Все выяснилось, — и положил трубку.
Бармина слышала разговор до единого слова.
— Я не убивала его, — сказала она и разрыдалась. Заварзин понял, что расспрашивать сейчас ее об Андрееве-Микитасе бесполезно. Замкнется, закостенеет…
— Уже час ночи, Виктория Георгиевна, — устало сказал он. — Дайте нам адреса тех, кто убил его. Хотя бы примерные.
2
Ночь. Пурга.
Ефим Алексеевич Корсунов пьет чай с десятилетней Алей Барминой. Тренков лежит на диване, прикрывшись шинелью. Его опергруппа числом в десять человек расположилась в соседних-комнатах — кто на столах, кто на стульях. Тренкову нездоровится, временами он впадает то ли в дремоту, то ли в забытье, откуда выбирается снова в эту комнату весь в поту. Тогда он слышит разговор, происходящий за столом меж старым и малым.
— Вы допрашивать меня будете, дядечка?
— Нет, дочка, не буду, — отвечает Корсунов. — Пей чай без опаски и ложись спать.
— Совсем-совсем не будете?
— Ну, как… Совсем-совсем нельзя. Завтра вызову учительницу, при ней и допрошу. А без нее допрос не дается.
— А бить меня будете?
Корсунов поперхнулся.
— Да ты что, Аля! Какие ты слова говоришь?
— А маму?
— И маму. Сидит она в кабинете начальника и разговаривает с ним, как ты со мной.
— Не верю я.
— А пойдем, посмотрим, — сказал Корсунов. — Только так: откроем дверь, глянешь ты в щелку — и сразу дверь прикрой. А то у меня начальник дюже строгий, не любит он, чтобы ему мешали разговаривать.
Пошли, посмотрели. Снова сели пить чай.
— Что же это получается? — сказала Аля. — Никола Волк, выходит, наврал? А я ему верила!
— Ясно, это так, наврал. Известный брехунишка.
— А вы его знаете, дядечка? — удивилась Аля.
— Да уж знаю. И Генку Блоху знаю, и Леньку Лягушку, и Пашку Джибу, и Женьку Шепилова. Всю эту артель знаю.
— Зачем же, дядечка, вы их не заарестовали? — с упреком сказала Аля. — Мама богу молилась, сама слышала, хоть бы, говорит, арестовали их скорее, шпану кровавую.
— Никто нам, Аля, не помогал. Вот вы с мамой молчите, ничего не говорите.
— Боязно, дядечка. Хотели мы пойти в милицию, да раздумали. Боязно… Никола-то рассказывал, что в милиции бьют, стреляют…
— Это в нас, дочка, стреляют…
— А вы никогда?
— Почему же никогда… Мы тоже, бывает, стреляем. Но всегда вторыми. Нам право такое дадено — стрелять вторым, коли жив остался. Только мы иной раз не успеваем. Ты пей чай-то… Больно у нас с тобой разговоры тяжелые на ночь глядя. Допивай свой стакан, и отведу я тебя к сестренке на диван.
— Я такая радая, что вы вместе с мамой и нас забрали. Уж не знаю, что бы делала, если б мы с Томкой одни дома остались.
— Да спать бы легли, — сказал Корсунов. — Ты уже взрослая девочка, темноты не боишься. А утром мы бы пришли, что-нибудь придумали бы.
— Темноты я не боюсь, — сказала Аля. — Я мертвых боюсь. А у нас, дядечка, в доме мертвый схоронен…
3
Старенькая полуторка остановилась около дома Барминой. Из кабины вылез Корсунов, махнул шоферу рукой: двигай дальше, мол. В кузове, скукожившись, тесно сидели оперативники Тренкова и Миловидова. Машина отошла метров на пятнадцать — и сгинула: будто и не было ее.
— Сюда, товарищ старший лейтенант, — сказал Корсунову встречающий. Он вышел на крыльцо в белой нательной рубахе, с непокрытой головой. — Давайте руку, тут лоб с непривычки расшибешь.
Прошли холодный коридор, потом теплый, потом какую-то комнату без окон, куда даже не доносился вой пурги. Корсунов послушно шел, держа в руке молодую сильную руку своего проводника.
В большой горнице жарко топилась печь, добавляя тревожный, мечущийся свет к ровному немощному свету семилинейной лампы. У стены, загораживая два закрытых на ставни окна, штабелем лежали запечатанные фанерные ящики, лежали мешки, рулоны материи, полушубки, ватники, брюки. Наметанным глазом Корсунов сразу определил, что вещей и продуктов значительно больше, чем Авакумов сообщил в коротенькой записке Заварзину. Значит, еще нашли… Авакумов сидел за столом, составлял опись. Рядом с ним дымил махрой старик с черными гвардейскими усами и сивой бородой. Девушка, лицо которой раскраснелось от печного жара и незримого внимания четверых молодых мужчин, расставляла кружки и стаканы на столе.
— Вовремя, Ефим Алексеич, — сказал Авакумов. — Сейчас чай будем пить. Уработались, как амбалы, — он довольно улыбнулся и кивнул на штабель ящиков и мешков. — Такую прорву надо было с чердака спустить, да в подвале нашли немало. Я тут малость власть превысил, изъял килограмм конфет, сахару и печенья: людям червячка заморить. А то мои понятые падут от истощения сил, да и мы еле на ногах держимся.
Насколько холоден и высокомерен был Авакумов у себя в кабинете, настолько прост и доброжелателен сейчас. Ну что ж, думал Корсунов, это бывает. У Авакумова не отнимешь цепкой хватки. Принявшись за дело, доводит его до конца. Мог бы сейчас укатить к себе в кабинет, главное ведь сделано, сливки сняты, осталась черная работа, с которой справятся и подчиненные. А он остался и работал вместе со всеми. Вон как форму измазал, чистюля. Вернется в кабинет — другим станет: не подступись. Знал Ефим Алексеевич такую странность за своим бывшим подчиненным.
— Не возражаю, Георгий Семеныч, — сказал Корсунов. — Я, это так, уже напился чаю с Алей Барминой, но с вами приму еще кружечку за компанию.
— Занятная девочка эта Аля, — сказал Авакумов, кинув на Корсунова быстрый взгляд. — Жаль, не было времени тут потолковать с ней… К столу, товарищи. Скоро светать начнет, а у нас еще дел по горло.
Какая она занятная, думал Корсунов, прихлебывая чай, не прав ты, Георгий Семеныч, она обычная девочка, десяти лет. Мать ее при одном упоминании имени Андреева цепенела, впадала в прострацию, а дочка, надежно защищенная от ужаса материнской жизни святым неведением своих десяти годков, рассказывала о нем и его смерти так, как будто это было страшно, но все же понарошку. Позже, повзрослев, содрогнется ее душа, а сейчас ужас ее был легок, ибо в детстве нет смерти — ни своей, ни чужой. Если перевести рассказ этой девочки на взрослый язык, то получится, что Микитась не сделал ни одной ошибки.
— Соль в этом доме есть? — спросил Корсунов.
— Да вы что, товарищ старший лейтенант! — удивился сержант Кузьмин. — Неужто чай подсаливаете? Не калмыцкий же пьем.
— Нет в этом доме соли, — сказал Авакумов, неодобрительно поглядев на Кузьмина. — Проверено.
«Умен, черт, — с уважением подумал Корсунов. — Знал Заварзин, кого себе в заместители назначать».
Ни одной ошибки не сделал Микитась, а судьба его уже была решена ничтожной малостью: в этом доме, забитом продуктами, не оказалось и щепотки соли. Именно за ней (но не под предлогом, что за ней, как об этом думал Корсунов до разговора с Алей) заглянула Бармина к соседке. И именно там сидел в это время Микитась, хотя мог бы находиться в другом доме. Случайность сомкнулась со случайностью, и обе, слепо, с удвоенной силой, ударили в него. Теперь, чтобы выдержать легенду до конца, Микитась был вынужден, вопреки приказу Луценкова, отправиться с Барминой в ее дом. О чем он думал на том коротком смертном пути? Корсунов понимал, что этого не узнать теперь никогда. Конечно, парень мог бы найти предлог, свернуть в сторону, ведь у приказа еще оставалась формальная сила, и она работала на его спасение. Но она уже не работала на дело. И он не свернул, а вошел в дом вместе с Барминой, шутил, улыбался — скромный работник домоуправления, которого сунули на эту должность, пока он не залечит раны и не отправится снова на фронт. Отравляемый горчайшим знанием близкого конца, он нашел в себе силы сделать последнее — убедительно умереть не в своем истинном обличье. Ах, парень, парень… Ефим Алексеевич затосковал и ярко, до боли зримо, вдруг вспомнились ему те, кого он потерял за двадцать лет службы в милиции. Какие горькие потери и какие люди! Молодые, еще не жившие. Незабвенные…
Эту тоску, эту боль души почувствовали все сидящие за столом. Притихли. Девушка молча, быстро и незаметно убрала со стола.
— Теперь, товарищи, — сухо сказал Авакумов, — слушайте приказ Корсунова. Я думаю, он не чайку попить к нам пожаловал.
Ефим Алексеевич вздохнул.
— Кузьмин, — сказал он, — найдите топор и пешню. Затем все ступайте в кладовку, уберите оттуда хлам, вскройте пол.
— А нам что делать, добры люди? — впервые подал голос старик с гвардейскими усами.
— Вам, папаша, и вам, — Корсунов обратился к девушке, — быть там же. Смотрите, запоминайте. Протокол будете подписывать.
— А мы уже подписывали, — сказала девушка.
— Еще один придется подписать, дочка, — снова вздохнул Корсунов. — Потерпи, милая. Ты сейчас глаза и уши закона.
— Бармину бы надо сюда для полного порядку, — недовольно сказал Авакумов.
— Хотели. Бунтует она. В истерику впадает.
Оперативники взяли лампу и ушли. Авакумов и Корсунов остались одни. Молчали, глядя в огненную пасть печи. В трубе жутко визжал ветер, отчего в горнице затравленно метались тени. В другом конце
дома глухо гукали голоса, и вот уже прошелся по сердцу стонущий скрежет первой отдираемой от пола доски.
— Пора и нам, — сказал Корсунов.
— Подожди минутку… Ну что там Бармина? Раскололась?
— Дала два адреса. Тренков и Миловидов поехали с ребятами.
— А парень, значит, здесь лежит, — тихо сказал Авакумов.
— Лежит, Георгий Семеныч… Сидел он с Барминой за этим столом, за которым мы сидим, проверил домовую книгу, сказал, что положено сказать в таких случаях, и собрался уходить. В прихожке они набросились на него. Ударили ножом в спину, смерть мгновенная ему пришла.
— Слушай, Ефим Алексеич, — Авакумов глядел в печное жерло, и глаза его рдели, как угли. — Слушай, Ефим Алексеич… Вот ты, знаю, не любишь меня. И за что — тоже знаю. И не ты один.
— Н-ну, Георгий Семеныч… Любишь — не любишь, что ты, право! Ты ж не девка.
— Не о том я — досадливо поморщился Авакумов, — не о том! Но я тоже тебя и тебе, подобных не признаю и не люблю, вот что. И Заварзина за это же не люблю, хотя умный и знающий он человек. Вы все вкупе совершаете большую ошибку, а за нее наши люди расплачиваются кровью.
— Не пойму тебя, — построжал Корсунов. — Четче выражайся.
— Сейчас поймешь, — Авакумов встал, одернул гимнастерку и зашагал взад-вперед по горнице. Теперь это был тот же высокомерный и сухой Авакумов, что у себя в кабинете. — Сейчас поймешь, старый служака. Вот тебе маленький примерец. Я спросил: почему Бармину не привезли? Ты ответил: в истерику впадает. Что такое? Кто такая Бармина? Она в данный политический отрезок времени по всем своим деяниям нам классовый враг, вот кто она такая. Кинуть ее в кузов — все истерики пройдут. Но как же… Нехорошо… Не по-человечески… А сейчас мы вынем из-под пола труп — это, я тебя спрашиваю, по-человечески? А в нас стреляют мгновенно — это по-человечески?
— Нам, предлагаешь, тоже надо стрелять мгновенно? Без предупреждения? Без требования показать документы?
— Ты огрубляешь мою мысль, Ефим Алексеич. Я хочу сказать: мы проявляем гнилой либерализм там, где от нас народ ждет классовой твердости. С волками имеем дело.
— С законом имеем дело, Георгий, — сказал Корсунов и улыбнулся. — Я девочке Але Барминой нешутейно давеча втолковывал, что мы стреляем всегда вторыми. Вроде поняла… А тебе скажу: выстрелишь первым — попадешь закону в сердце, это так…
Он поднялся с лавки, потер занемевшую спину.
— Пойдем, Георгий Семенович. Мы эту песню никогда с тобой согласно не допоем.
В кладовке, под полом, среди мешков с крупой и сахаром лежал, засунутый тоже в мешок, труп Николая Микитася. Подняли его, принесли в горницу, скорбно встали рядом.
— Звери, — всхлипнула девушка, — волки.
Корсунов поднял затуманенный взгляд на Авакумова. Тот, гневный, непримиримый, опустился на колени и стал осторожно развязывать веревку, намертво схватившую горловину мешка.
4
В эту ночь милицейская полуторка долго колесила по городу. Дважды останавливалась, выбрасывая из кузова людей, словно грибы из лукошка. Последней сошла группа Тренкова. Тут же из тьмы возник некто снежный, спросил простуженным голосом:
— Где ваш начальник?
Его подвели к Тренкову. Снеговик обнял Алексея, сунулся холодным лицом к его лицу, доложил:
— Участковый, сержант Мациборко. Пойдемте, провожу.
Тренков, видевший Романа на вечерней оперативке в кабинете Заварзина, удивился.
— Ты и сюда успел, сержант?
— Это мой участок, товарищ младший лейтенант.
— Давно сторожишь у дома?
— Час назад сообщили адрес — я сюда. Двор полуразгорожен, собаки нет. Пять окон, ставни наружные, из цельных плах, купеческие.
— Что значит — купеческие? Как закрываются?
— Изнутри закрываются. Штырь такой, в руку длиной, прошивает всю стену, а хозяева замыкают его конец болтиком. Изнутри такую ставню открыть невозможно, но и снаружи тоже нельзя, пока болтик в штыре торчит.
— Значит, не выпрыгнут?
— Как в садке, товарищ младший лейтенант. Но на всякий случай по человеку на окно надо поставить.
— Правильно, сержант… Поставим. Двери?
— Наружная дверь ведет на застекленную веранду. Тонка. Пуля ее прошьет и убойной силы не потеряет. А что внутри — не знаю, не бывал…
— У Панкратовой они тоже сидели, как в садке. А что вышло?
— Осмотрел соседские дворы, товарищ младший лейтенант, справа и слева. Вроде бы никаких подземных ходов нет. Но — не ручаюсь. Все занесло снегом.
— Хорошо, веди.
Алексей объяснил каждому задачу и затем расставил людей. Подошел к крыльцу. Прижавшись к кирпичной кладке фундамента, лежали здесь четыре человека — по двое в каждой стороне от крыльца. Их уже занесло снегом. Алексей подошел к тем двоим, что были слева, потянул их за воротники шинелей и повел вправо.
— Перестреляете, черти, друг друга.
И лег сам. Вытянул из кобуры пистолет. В вое и визге пурги выстрел был почти неслышен, но те, кто ждал его, услышали. Забарабанили рукоятками наганов в ставни, в стены.
— Открывай!
И почти сразу же из дома начали стрелять — в ставни, наугад. А потом зазвенели стекла на веранде, пули певуче ушли во тьму. «Двое их, — определил Тренков и скомандовал: — Огонь!» Пять огненных стрел пронизали веранду наискосок, а потом еще пять. И уже кинулись четверо мужиков в дверь, бухнули чем-то тяжелым, вынесли ее и ворвались внутрь. Алексей на такую резвость способен не был. Он поднялся через силу на крыльцо, в ноздри ударил запах парно́й крови. Лучом фонарика выхватил стоявшую у косяка фигуру человека, бледно-мертвенное лицо, пятна крови на белой рубахе. И по лучу, как по тоннелю, пробитому во тьме, прошла чья-то рука, схватила пальцами скулы, сжала, и напряжено-мстительный голос выдохнул:
— Ты… тихий, ласковый!.. Ты, сволочь, овечка!..
— Убрать руки! — властно приказал Тренков. — Кого это нервишки подвели? — Он выхватил фонариком лицо пожилого, обычно очень спокойного сержанта Кашкина, вспомнил, что Клавдия Панкратова просила в письме, удавить или пристрелить его, и сказал, смиряя голос:
— Нехорошо, Кашкин. Ах, как нехорошо!
— Виноват, товарищ младший лейтенант, — ответил Кашкин, слепо упираясь глазами в световой луч.
— Ведите его, Кашкин, в горницу. Это Ленька Лягушка. Найдите там чистые тряпки, перевяжите. И без фокусов, Кашкин! А не то загремите у меня под трибунал.
Открылась внутренняя дверь, выпустив облако подсвеченного дальней лампой пара. Предстал перед Тренковым сержант Саморуков, доложил:
— Товарищ младший лейтенант, дом осмотрен мною. Никого, кроме старой и молодой хозяек, да этих двух бандюг, больше нет. Подкопа тоже вроде не замечается.
— А где второй?
— Тут второй, — подал голос Роман Мациборко. — Лежит-полеживает.
— Ранен?
— Да нет… Сомлел от страху. Или притворяется.
— Гражданин начальник, я не стрелял, — сказал лежащий.
— Боженька за тебя стрелял… Поднимайся, вояка! — приказал Мациборко.
— Гражданин начальник! Даю чистосердечное признание. Сдобников Владимир я. Лягушка увлек меня в эту кровавую банду.
— Он же тебе брат, кажется? — спросил Тренков.
— Какой он мне брат? — закричал Сдобников. — Живоглот он, а не брат.
— Давай-давай, разговорчивый, — подталкивал его в спину пистолетом Мациборко. — Дуй в горницу. Какие могут быть на морозе чистосердечные признания? В тепле и признаешься… Товарищ младший лейтенант, пистолет этого чистосердечного человека надо найти. Куда он мог его сунуть, ума не приложу.
— Нашли уже, — сказал кто-то. — У крыльца лежал. Он его в разбитое окно под шумок выбросил.
— Не мой, — заявил Сдобников, входя в горницу, — ей-богу, не мой, гражданин начальник.
Здесь, в тепле, Алексей почувствовал, что устал смертельно. В грудь ему будто всунули нож и ворошили им безжалостно. Даже способность видеть потерял он — размытыми пятнами плавали у стены лица хозяек, какая из них старая, какая молодая — он не мог разобрать. «Упаду, — подумал он, — стыд какой». В доме разговаривали, слышались возгласы, чертыхания, но все это ударяло в голову как молотком: бу, бу, бу… «Упаду, — снова подумал Тренков, напрягая остатки воли. — Не смей падать, скотина!» Но тут из красноватой мглы подсунулся к нему Саморуков, сказал:
— Товарищ младший лейтенант, два секретных слова надобно сказать.
И зашептал что-то и повел, а Тренков чувствовал, как руки сержанта бережно и надежно поддерживают его. В маленькой комнатке Саморуков подвел его к дивану:
— Лягте, Алексей Иваныч, здесь.
— Слушай, Виктор… Неудобно… Разлягусь, как корова.
— Сказал бы я, — ворчал Саморуков, — чего делать неудобно, да должность ваша не позволяет быть откровенным. — Он рассмеялся. — Алеша! С почином, дорогой! Теперь посыпятся бандюги.
— Спасибо, Витя… Ты вот что…
— Что? — склонился над ним Саморуков.
Тренков дымными от боли, беспамятными глазами глядел на Виктора и не видел его.
Минут через двадцать Тренков заставил себя подняться, позвал Саморукова и сказал смущенно, что в милицейских тонкостях еще не горазд: есть ли смысл оставлять засаду до утра?
— На всякий случай надо, товарищ младший лейтенант, — присоветовал Саморуков. — Чем черт не шутит! Да еще в такую ночь.
— Нашумели ведь. Дверь на веранде вынесли. Они ж не дураки!
— Дверь мы уже навесили. Пурга… Все следочки наши замело, товарищ младший лейтенант. — Саморуков держался в строгих служебных рамках, и Тренков был ему благодарен за это. — Надо попытаться, их ведь сейчас с других адресов тоже сгонят. Замечутся, сволочи, глядишь — и сунутся.
— Да, есть резон, — согласился Тренков. — Оставляю тебя старшим. Людей, сколько нужно, сам возьми из группы.
— А я уже отобрал, товарищ младший лейтенант, — улыбнулся Саморуков. — Много мне не нужно, взял двоих — Мациборку и Кашкина, ежели вы позволите.
«Хороший у меня помощник, — думал Тренков, застегивая шинель. — Третий рапорт о переводе в Действующую армию подает. Не дай бог, удовлетворят! Как без рук останусь. Да и, — он пощупал гудящий затылок, — без головы тоже».
5
А в это время в другом конце города оперативная группа начальника окружного розыска Миловидова тоже нашла и оцепила нужный дом. Входная его дверь оказалась запертой на висячий замок. Постучали в окна — ни звука в ответ. Дом был пуст. Бармина, видимо, соврала или же сама не знала точного адреса…
И здесь Миловидов, опытный работник, совершил ошибку. Она не в том, что он решил открыть дом, оставить в нем засаду и снова навесить замок на дверь. К такому естественному решению пришел бы каждый. Ошибка Миловидова, которую он годами не мог простить себе, таилась в другом. Пока оперуполномоченный Василий Киреев, позванивая связкой ключей, подбирал к замку нужный, к крыльцу незаметно стянулись все, поставленные в оцепление. С людей схлынуло напряжение, с которым они шли на операцию, позволил себе расслабиться и Миловидов. Выстрела изнутри дома никто из них не услышал. Услышали лишь тупой удар, с которым пуля пробила дверь, да слабый возглас Киреева, когда она вошла ему в сердце.
И были долгие, как века, секунды полной, ошеломительной растерянности. Прислонившись боком к стене и зажав в руке связку ключей, сидел на корточках мертвый Киреев — ему не хватило жизни, чтобы упасть. В злобном вое пурги был почти нежен звон разбиваемого стекла и сух треск выдираемой рамы.
— За мной! — крикнул Миловидов.
Но было уже поздно. Двоих пурга взяла и растворила в себе, третий, длинный и нескладный, упал, огрызаясь пистолетными вспышками. Когда он поднялся и рванулся в черно-белую мглу, выстрелил навскидку Миловидов. Он был лучший стрелок в отделе и потому, не оглядываясь, тяжко зашагал к крыльцу.
6
Начальнику уголовного розыска ВОМ
мл. лейтенанту милиции Тренкову А. И.
ДОНЕСЕНИЕ
После задержания Леонида Сдобникова (кличка Лягушка) и его брата Владимира Сдобникова (кличка Перс) я вместе с сержантами Мациборко и Кашкиным остался по вашему приказанию в засаде с целью поимки могущих прийти по этому адресу других членов бандгруппы.
В 7 ч. утра во дворе дома послышался женский голос и стук в окно. Я находился в это время на кухне, из окна которой была видна застекленная веранда (холодный коридор) и входная дверь в дом. Хозяйка квартиры Евгения Суркова и ее дочь сказали, что это голос их соседки, девушки Кати, которая ежедневно по утрам приходит к ним, чтобы вместе идти на работу. Я послал Суркову открыть дверь и сам осторожно вышел за ней. Суркова открыла, девушка переступила порог, и в ту же секунду я заметил за разбитым стеклом веранды силуэт человека. Почти сразу же увидел вспышку выстрела, девушка вскрикнула и упала на руки хозяйке. Я произвел выстрел по силуэту, после чего в броске выбил оконные переплеты веранды, так как входная дверь была еще занята хозяйкой и девушкой. Метрах в четырех от меня лежал во дворе на боку неизвестный, он успел выстрелить в меня два раза подряд, я вышиб ногой револьвер из его руки. Крикнув Мациборке и Кашкину, чтобы они забрали этого человека и оказали помощь девушке, я стал преследовать другого. Полагаю, что сумел его ранить, так как после моего выстрела он, как мне показалось, зашатался и побежал неровно. Однако сам я потерял силы и упал из-за сильных ушибов и порезов, полученных во время броска с застекленной веранды и не замеченных мною в горячке. Догнавшему меня Мациборке приказал продолжать преследование. Оно результатов не дало.
Задержанный нами бандит оказался Иваном Спириным, по кличке Повар. Он получил касательное ранение спины. Скрылся от преследования, по его словам, Генка Блоха.
Девушка Катя, действительно, оказалась соседкой Сурковой, Екатериной Крашенинниковой, 20-ти лет. Выстрелом, произведенным Иваном Спириным, она была убита. Это бессмысленное убийство Спирин объясняет тем, что будто бы принял ее за сотрудницу розыска.
Пом. оперуполномоченного уголовного розыска ВОМ
сержант милиции Саморуков
7
К одиннадцати часам утра все обыски были закончены, описи похищенных продуктов и вещей составлены, протоколы написаны и подписаны, арестованные размещены в камерах. Члены штаба собрались в кабинете Заварзина.
Пурга утихла, за окном снова сияло щедрое февральское солнце и била капель. Слушая доклад Миловидова — а он докладывал последним, — каждый с болью чувствовал жестокую текучесть и неповторимость времени. Мгновение прожито — и не дано вернуть его, не дано передать то, что уже сделано тобой. А казалось бы, так просто: приказать людям занять свои места в оцеплении, не терять бдительности — и Киреев остался бы жив, и бандиты были бы захвачены… Извечен спор человека со временем, эта мысленная и запоздалая перекройка его, но усталые, замотанные люди, собравшиеся сейчас в, кабинете, не шли по такому пути даже в мыслях. Профессия дала им понимание, что любое исследуемое событие абсолютно уникально, оно не может быть повторено, оно реально невоспроизводимо. И следственный эксперимент, который будет поставлен, станет подобием, но не сутью мгновения, ушедшего, в прошлое. А сейчас истекают шестьдесят секунд молчания в память о Микитасе и Кирееве. Вот и они истекли…
Когда все сели, Заварзин сказал:
— Похороны послезавтра. Девушку тоже похороним мы. Положим рядом с нашими товарищами.
Помолчал и добавил печально:
— У меня из головы не выходит этот дикий выстрел Спирина. Какие злобные, трусливые твари! Тем опаснее они сейчас, когда заметались. Новых ограблений вряд ли можно ждать: как единый организм банда нынешней ночью уничтожена. Но бандиты остались и будут стрелять на каждый шорох. Начальникам служб и отделов, — Заварзин чуть повысил голос, — строжайшим образом предупредить личный состав об особой бдительности. Участковое должны ежедневно доносить о фактах купли и продажи домов на своих участках. Все бандитские квартиры известны нам, а теми, которые еще не известны, они не станут пользоваться из осторожности. Значит, будут искать новые, а возможно, уже искали. Это надо установить в кратчайшие сроки. Ефим Алексеевич! Твои соображения на этот счет.
Поднялся Корсунов.
— У меня, Сергей Михайлович, — сказал он, — в подчинении остался только один следователь. А взяли этой ночью трех бандитов, не считая мертвого, да около десятка их пособниц и укрывательниц. Вот и судите, каков я теперь помощник розыску. Дай бог нам вдвоем успеть составить процессуальные документы на всех взятых, а то и так может получиться: бандитов выловим, а судить не за что будет, все следы растеряем. Одних очных ставок, я сейчас прикинул, понадобится провести до двадцати. Это что? Десятая часть работы… Суд красивым нашим глазам не поверит, ему документ подавай.
— Ясно. Подчиняю тебе, Ефим Алексеевич, трех следователей своего отдела.
— Тогда другой разговор, — повеселел Корсунов. — Сейчас соберемся, составим единый план и навалимся гужом. Тогда через сутки сможем, это так, дать службе розыска ниточку к Николе Волку и к этому, как его… адъютант его, пащенок… эх, память старая!
— Женька Шепилов, — подсказал кто-то.
— Вот-вот… Никак его не запомню, а почему? Клички нет… Работа, мать ее! Всю память исковеркала… А что касается Генки Блохи, который ушел от засады, — возьмем его быстро. Мы тут подумали с Тренковым и пришли к выводу: через двое суток Генка Блоха будет у нас.
— А когда вы успели? — голос Заварзина потеплел. — Тренков, доложите!
— Наш план, товарищ начальник, основывается на том, что родная сестра Блохина, Татьяна Линяева, работает нянечкой в госпитале и, по непроверенным пока данным, уже нашла раненому брату крышу. Понаблюдаем за ней, двух суток, думаю, нам хватит. Соответствующие распоряжения я отдал.
— Дельно, — сказал Заварзин. — Садитесь, лейтенант. Ваша опергруппа действовала наиболее квалифицированно, объявляю вам благодарность. От моего имени поблагодарите за службу и сержанта Виктора Саморукова. Кто-то недавно тут говорил, что боевой опыт — плохой помощник в милицейской работе, а?
— Я говорил, — поднялся Авакумов. — Беру свои слова назад, товарищ капитан. Рад за вас, Тренков, и поздравляю.
Заварзин встал.
— Все свободны, товарищи. Рекомендую поспать несколько часов, а то, смотрю, кое-кого краше в гроб кладут. Полуторка у подъезда, развезет желающих по домам.
Глава пятая
1
— Гражданин начальник Тренков! Сидишь ты передо мной довольный — спалил, мол, Генку Блоху. Это я сижу перед тобой? Чего уж там… И на «вы» разговаривать не буду, терпи. Сидишь, говорю, ты передо мной довольный, а мог бы и не сидеть, мог бы, говорю, заземлить я тебя запросто, пугач был при мне. Сестра помешала, Танька… Вот шалава! Хату мне нашла приличную, а голову себе приличную найдешь ли? Тут уж так, какую дали, а батяня с маманей, вижу теперь, не шибко старались… Из окна сверху гляжу — прет ко мне Танька, а вы, гады, за ней втихаря, ну хоть бы оглянулась, хоть бы своей головешкой пустой подумала — не к матери же на блины спешит. Ладно… Запиши, гражданин начальник, в своей бумаге: Генка Блоха сдался без сопротивления. А вот кто-то из вас прострелил мне руку, когда мы с Ванькой Поваром шли на хату к Сурковой, знать бы кто. Этот? Тоже ручкой не шевелишь? Запомню тебя, начальник, на моем пути в будущие годы ты лучше не встревай. Я не наглый, моя беседа со всеми такая простецкая. Никола Волк, не тебе чета, однажды тоже на меня наехал, не понравилась ему, видишь, моя речь, он же у нас человек культурный, с понятием, товарищество, братство, то да се… Я ему пугач показал, он и отволокся скромненько. Ну как, одни мы были… Знать надо, когда пугачом махать, а то что ж… Разговора меж вами и мной теперь не было бы, лежал бы я где-нибудь в щели, тепла дожидался, чтоб сгнить. Но, думаю, Волк мне этого дела не простит, момент выжидал, да вы помешали. Бывало, про товарищество и братство толкует, Клавка Панкратова рот и разинет, а этот его блюдолиз, Женька Шепилов, словно опоенный слушает, молокосос сопливый. Нет, думаю, рвать когти отсюда надо: что за богадельня? Не пей, не кури, карту не кинь… Меня гроши горячат, я развернуться желаю, а он меня своим унылым братством с ложечки кормит. И что теперь? Мы, товарищи и братья, почти все тут, а он на свободе ходит. Я сразу смикитил, для чего ему братство нужно — чтобы мы тут молчали, как суслики. Н-ну, гад! Ищи Зинку Кочергину, начальник, она медсестра в каком-то госпитале. Найдешь — твой будет Волк. Нет, не видел ее ни разу, и никто из наших не видел. Стороной слышал, что она его маруха. От кого слышал? Этого я тебе не скажу. Посторонний от ваших делишек человек, тянуть его за собой не стану. Клавку Панкратову попытай: она шибко хотела про все это знать. Может, что и узнала.
Как с бандой познакомился? А чего мне с нею знакомиться, с детства многих знал. Отец и мать, бывало, уйдут в море, на шаланде они работали, мы втроем остаемся: сестра Танька, я да брат старший Володька. Сестре лет четырнадцать было, все уж при ней, с парнями вовсю гуртовалась, только мы ее ночами и видели. Брат у меня малахольный, хоть он теперь и лейтенант, все с книжкой, бывало, сидит. А я голубей гоняю с Ванькой Поваром и Пашкой Джибой. А между делом бегали по квартирным кражам, по-нашему, по-воровски, это значит по скачкам. Я, например, взял самостоятельно один скачишко в Кузнецах. Взял платья, три простых белых отреза, в рукавице был рис с комком сахара, все отдал бабке Дашке. Второй скачишко брал с Пашкой Джибой, все загнали одной тетке. Понравилось мне. А тут война началась, я уж в железнодорожном техникуме учился. Отцу и мне повестки пришли в один день, а брат добровольцем напросился. Пошли в военкомат. Отец меня цепко за руку держит, он догадывался о моих проделках, в детстве сек сильно. А у меня одна мыслишка: как бы это удрать? Батя, говорю, я же понимаю момент ответственности, чего же ты меня за руку ведешь на защиту Родины? Стыдно ж мне от людей. Он зыркнул на меня, смутился вроде, ослабил хватку. Я и был таков. А он мне в спину кричит: «Пашка! Вернись, не позорь мои седины!»
Гражданин начальник! Я понимаю, такими показаниями я под вышку себя подвожу. Хоть бы он крикнул грозно, как бывало, когда сек меня, а то жалобно крикнул, вроде в сердце я ему нож воткнул. И вот запало… Документы я выкинул, дезертиром стал, ночевал в щелях, в подвалах, а все слышу: «Вернись, милый!» Милый — это батя тоже крикнул, никогда не слышал от него такого слова, прямо как пулей ударил. А этот, сволочь, мне про братство… Какое братство — в крови омылись. Ванька Повар, дружок мой, ни за что пристрелил девку, скотина. А мужика домоуправляющего, который пришел к тетке Вите с проверкой? Его-то за что? Молодой парень, воевал, идет — палочкой постукивает, хромает. Навалились… Я потом взял удостоверение, сую Волку, вот, говорю, харя рябая, это же парень с домоуправления, оружия при нем нет, что ж ты наделал, фашист? Каждой мышки боишься. Так он чуть мне толковище не устроил. Когда возьмешь, начальник, Волка, мне скажешь, я кое-что про его прошлые делишки знаю. Тоже справочки наводил на всякий случай про товарища и брата… Сейчас сказать? Не-ет… Не пройдет номер. Как будет он тут, так я сразу спокойный стану, вот тогда и начнутся меж нами откровенные разговоры.
Слушай, начальник, все, отрезало. Давай меня к врачу, у меня огонь во всем теле. Руку-то мне прострелил? Давай меня, слушай, к врачу, а то подохну. Давай к врачу, давай. Ну чего сидишь, тебе говорю! Подыхаю. Все расскажу, все, у меня ничего не завязнет. Стопорнули хату, вставили фомич в серьгу… Свободу взяли, равенство… Ах, сволочь!.. Дай, начальник, жить… Жить хочу. Чего сидишь, чего зенки пялишь? Дай жить, начальник, дай… Жить хочу… Жить… Жить… Жить…
2
Участковый уполномоченный Роман Мациборко идет улицей. Видит — навстречу ему топает знакомый парнишка с кошелкой в руке.
— Здравствуй, Петька, — говорит Мациборко. — Куда это ты на ночь глядя зашустрил?
— Домой спешу, — отвечает Петька, всем своим видом показывая: некогда, мол, мне.
— Стой, Петька, не торопись… Как это — домой? Дом твой — вон где, — Мациборко кивнул на пятый по счету от них домишко, глядевший на улицу узкими окнами.
— Утром продали, — Петька был краток. — Свезлись. А я забыл свои причиндалы, вернулся. Отпусти меня, дядя, итить далеко.
— Жалость какая, — сокрушенно сказал Мациборко, — такой хороший парнишка съехал с моего участка.
Лесть попала в цель. Впалые Петькины щечки заалели… Мациборко, надо сказать, с ребятишками своего участка дружил. И по душевной склонности и для пользы службы. От глаз вездесущих Петек ничто не могло скрыться.
— Ну, прощай, Петька, — сказал участковый уполномоченный. — Расти большой. Пойду знакомиться с новыми жильцами.
— А нет еще там жильцов, — сказал Петька, подхватывая кошелку, из которой высовывался конец бредешка в мелкую ячею. — Одна тетя Зина. Полы подметает.
— А кто дом покупал? Она?
— Она.
— А ты говоришь — нет жильцов. Прощай, Петька. — Роман подал ему руку, с нежностью чувствуя, как пальцы цепко сжала жесткая ручонка парнишки. — Дуй, Петька, домой, а то и в самом деле поздно.
С покупательницей Роман знакомиться не пошел. Он постучался в дверь совсем другого дома. Хозяйка, открыв, испуганно схватилась за сердце:
— Ой, Рома, неужто мои что натворили?
— Что вы, что вы, Галина Петровна… У вас отличные ребята. Целый день я на ногах, устал. Разрешите, посижу немного, вот там, у окна. Вопросов мне, Галина Петровна, не задавайте, чаем не угощайте, о том, что был у вас, — никто не должен знать. Сапог снимать не буду, наслежу — вы уж простите. Давайте ноги вытру хорошенько.
Роман вытер ноги и прошел в чистенькую переднюю. Из окна был виден наискосок проданный дом. Уже темнело, когда из него вышла на улицу женщина, оглянулась по сторонам и быстро пошла улицей. Роман дернулся, чтобы встать, но тут же осадил себя: он был в форме, далеко бы эту женщину все равно не довел незамеченным. Подождал немного, попрощался с хозяйкой.
Дом, к его удивлению, заперт не был. Мациборко вошел, оглядел две небольшие комнаты, кухню. Здесь, на подоконнике, заметил клочок бумажки. Это был рецепт на имя Зинаиды Кочергиной. Роман осторожно положил его на место. Из ориентировки он знал, что Зинаида Кочергина разыскивается как пособница и укрывательница главаря банды Николы Волка и что уже трое суток она не появляется в своей квартире.
Через час Роман уже был у начальника своего отделения Топлова. Тот выслушал его и сказал:
— В двенадцать ночи оцепим дом. Пойдешь с нами, Мациборко.
— Слушаюсь.
— А до двенадцати соваться туда не станем. Спугнем еще. Сдается мне, Волк со своим пащенком нынче будут наши. Молодец, Мациборко. Хвалю. Так и дальше продолжай — добрый из тебя оперативник получится.
В служебной характеристике на Топлова было записано, что он глушит инициативу подчиненных. Александр Михайлович знал об этой строке… И то, что он сейчас искренне похвалил своего подчиненного именно за проявленную инициативу, принесло ему мстительное удовлетворение. «Вы там пишете, а мы, как видите, не такие».
— Рад стараться, товарищ старший лейтенант, — отозвался Мациборко. — Разрешите высказать свое мнение?
— Выкладывай, — разрешил Топлов.
— Хорошо бы эту ночку понаблюдать за домом. Один справлюсь, местечко для этой цели есть.
— А зачем? — в голосе Топлова послышался орлиный клекоток. — Зачем, сержант?
— Возможно, и они будут наблюдать за домом. Пусть успокоятся. А в следующую ночь возьмем.
— Вы сговорились все, что ли? — произнес Топлов непонятную для Мациборки фразу. — Дай вам волю — всю жизнь будете наблюдать за бандитами. Ты мне говоришь — возможно, вероятно. А я тебе кладу строгие факты. Утром Зинаида Кочергина купила дом, к обеду бывшие хозяева уже выехали из него. К чему такая спешка?
— Ясно же, ночевать Волку негде.
— Я тебе больше скажу: квартиру Кочергиной Тренков нашел и держит под наблюдением, он это тоже любит — наблюдать… А раз Кочергина дома не появляется, значит, и ей голову приклонить негде. А вывод?
Мациборко молчал.
— Будут они в купленном доме ночевать, сержант, будут. И мы их возьмем. Всех сразу и накроем.
— Дай-то бог, — сказал Мациборко, однако в голосе его было явное сомнение.
— Сержант! — рассвирепел Топлов. — Налево кругом! В одиннадцать быть здесь в полной боевой готовности.
— Слушаюсь!
Мациборко четко развернулся и вышел. Топлов покипел немного, перекладывая бумажки с места на место. Сам того не подозревая, он сейчас еще раз подтвердил ту злополучную строку в служебной характеристике, которая ему, человеку самолюбивому, энергичному, желавшему исполнять свою работу только на хорошо и отлично, доставляла немало тайных огорчений. Предстоящее дело в его понимании было настолько простым, удача настолько явной, что непонимание этого в других раздражало. С неохотой он взялся за телефонную трубку, чтобы доложить Заварзину о полученных данных и испросить разрешение на операцию. Заварзина на месте не оказалось, чему Топлов немало обрадовался. Позвонил Авакумову — с ним столковаться легче, этот человек рассусоливать не будет, но и Авакумов не ответил. «Вымерли они, что ли?» — сказал себе Топлов, однако же радости от себя таить не стал: руки были развязаны. Правда, нужно еще поставить в известность Корсунова, но это уж простите. Обойдется и так… Помедлив, Топлов снял трубку и позвонил все-таки: слова Заварзина о ведомственных рогатках засели у него в голове, а Топлов был по натуре строгий службист. Он требовал неукоснительного исполнения своих приказаний, но приказания начальства тоже исполнял неукоснительно.
Удача явно улыбалась ему — и Корсунова на месте не оказалось. «Вы давайте следите там, наблюдайте, — бормотал Топлов, положив трубку на рычаг, — а мы будем действовать. Каждому, братцы, свое». Он отметил в записной книжке время, в которое вызывал всех троих, и вышел из кабинета в приподнятом настроении.
До двенадцати Топлов старался не заглядывать в кабинет, чтобы не наткнуться на звонок от начальства. Начальству пришлось бы доложить, а неизвестно, как бы оно отнеслось к его инициативе.
Ровно в двенадцать сотрудники оцепили дом. У Топлова в отделении была железная дисциплина, никто и ни при каких обстоятельствах не покинул бы свое место в оцеплении, как это случилось недавно в группе Миловидова. Так что все шло по намеченному. И никто даже царапинки не получил, хотя двое бандитов яростно отстреливались. Женька Шепилов не успел пустить себе в лоб последнюю пулю — Мациборко выстрелом раздробил ему кисть руки. «До суда заживет, парень», — утешал его Мациборко, делая перевязку. «А после суда, слава богу, ему не жить, — хмуро сказал участковый Лобов. — На нем нашей крови много». Женька не проронил ни слова, в пустых морозных глазах даже боли не было — странный, нездешний, давно погибший юноша…
Второй, кого считали Николой Волком, оказался не им. При тусклом свете ночника Топлов сразу же увидел это, изумился:
— Это что? Прорвы на вас нет! Растете, как грибы. Кто таков?
— Посторонний я. Случайно попал. Нет за мной ничего, начальник.
— За оружие тоже, видать, схватился случайно? Ладно, разберемся. Всем на выход! Шепилов, идти можешь? Помоги ему, Лобов. Здесь остаются Мациборко и Тукаев.
Сели в кузов полуторки, поехали. Топлов был доволен. Хорошо бы, конечно, иметь в кузове вместо этого рыжего бандюги Николу Волка, но кто много хочет, тот не получает ничего. Улов и так неплохой.
Знать бы Топлову, что метрах в ста от разгромленной бандитской квартиры стоят, прижавшись к забору, Никола Волк и Зинаида Кочергина.
3
— Куда ж теперь, Коля? — спросила Зинаида и заплакала. Он молчал, обняв и поглаживая ее плечи.
— Господи, господи, — всхлипывала она. — Почему я такая несчастная?
Поздним вечером она привела в дом Женьку Шепилова и новенького, имени которого не знала. Потом пошла за Николаем, встретила его в условленном месте, у аптеки на Селенских Исадах, тоже привела сюда. Ноги отваливались… Третью ночь она не спала… А он в дом не пошел.
— Подождем, — сказал. — Поглядим, как и что.
Сидели на бревне, привалившись спинами к курятнику. Кур в нем давно уж не было… Чей это был двор, как они попали сюда, почему она сидит здесь глухой ночью и чего ждет — этого Зинаида не могла бы сказать, если бы спросили. Она то впадала в забытье, то выплывала из него, и порой ей казалось, что сидит она с мужем, ждет гостей, двухлетний сынишка их, обняв ручонками большую желтую дыню и весело лепеча, сидит тут же, на диване, в чистой, светлой, залитой электрическим светом комнате. Так хорошо, так покойно на душе, но чьи-то руки обнимают ее, тормошат, чей-то чужой голос хрипло и приглушенно говорит: «Не спи, Зина, замерзнешь», — и она видит ночь, какие-то строения, чей-то двор, понимает, что муж ее убит еще в самом начале войны, сынишка у чужих людей, которым заплачены неправедные деньги, и нет у нее прошлого и нечего ждать от будущего. Она стонет и инстинктивно отодвигается от мучителя своего, единственного своего, который все разрушил, все растоптал, а взамен дал эту проклятую сытую жизнь с вечной оглядкой.
Так они просидели час, второй. Она уже не теребила его идти в дом, его тревога передалась и ей. Февральская ночь была тиха, туманна, морозец оковал снеговую квашню на улицах, и самый осторожливый шаг человека был в эту пору предательски звонок. Оттого ли, что она немного поспала, от тревоги ли своей, от опасности ли, которой густо насыщалась эта предвесенняя парная ночь, но мысль Зинаиды работала теперь четко, слух был изощрен, зрачки расширились и светились, как у кошки. И все же сначала она почувствовала, как под полушубком каменно затвердело плечо Николы, и лишь потом услышала, что купленный ею дом окружают… Женька и тот, рыжий, стали стрелять, и выстрелы эти гукали глухо, отдаленно. Вскоре все было кончено.
— Куда ж теперь, Коля? — переспросила она и заплакала, понимая, что с последним выстрелом в том домишке расстреляна и вся ее недолгая жизнь с этим человеком. Теплыми ладонями он сжал ее лицо.
— Зин, я к тебе был добр?
— Добр, — сказала она, слабея от этой его ласки.
— Я не обманывал тебя? Говорил, какая жизнь тебя ожидает?
— Говорил.
— Я помогал тебе, Зин?
— Помогал, Коля. О господи, господи…
— Помоги и мне, Зин. Возьмут тебя — продержись двое суток, молчи… А потом можешь говорить, все равно они узнают.
Вчера по подложным документам за взятку в три тысячи рублей она получила для него от домоуправляющей паспорт на имя Геннадия Михайловича Баринова. Об этом Волк и просил ее молчать.
— А я? — опросила она горько. — А я?
— Ты же не сможешь со мной… У тебя сын. Да и не выдержишь ты моей жизни, Зинаида. И зачем тебе это? За тобой ничего нет, ты не воровала, не грабила. Взятку, правда, я на тебя положил — прости. Она тебе прибавит срок. А так что же — ты жила со мной, любила меня, о делах моих не знала. Вали на меня все, что можешь, — выдюжу…
Слова его были разумны, слова его были участливы, но когда он ушел — и ушел по-волчьи, ни одна ледяная корочка не хрупнула под ногой, — она сцепила зубами воротник пальто, свалилась, как куль, на бревно и глухо завыла. За двадцать четыре года своей жизни ни разу не испытывала она такого страшного, опустошительного одиночества. И чья-то рука снова легла на ее плечо. Она вздрогнула, вскочила, исступленно стала целовать его лицо и простила ему все за одно это малое мгновение.
Потом Зинаида шла по городу, шла легко, словно плыла, и ни один патруль не встретил и не задержал ее. Двумя поворотами ключа — именно так, как она закрывала, — отперла дверь, вошла в прихожку, втянула в себя воздух, уловила слабый запах чужого присутствия, сказала громко:
— Это я, Зинаида Кочергина. Я одна.
Во тьме, совсем рядом, ей ответили:
— Долго ж гуляла, Зинаида. Заждались.
Тьма около нее уплотнилась, мужская сильная рука нашла ее руку, потянула за собой в комнату. И тот же голос с затаенным нетерпением произнес:
— Витя! Саморуков! Сверни, брат, потолще. Ну, силушек моих нет — так курить хочу. За двое суток аж уши опухли…
4
На допросах Зинаида Кочергина наотрез отказалась отвечать — тянула время, чтобы дать Волку уйти. Но то, о чем она молчала, стало известно Корсунову и Тренкову из других источников. На исходе второго дня после ее ареста Коршунов привел к Заварзину Тамару Ганенко, которая работала домоуправляющей на участке третьего городского отделения милиции. Паспортистку этого отделения Раису Волкову пошел арестовывать Роман Мациборко и должен был с минуты на минуту привести ее сюда же.
— Садитесь, Ганенко, — сказал Заварзин. — Сколько же вам лет?
— Восемнадцать…
Так горько, так тяжело было сознавать, что смерть двух сотрудников, ранение четырех, бессонные ночи десятков людей оплеваны и загажены этой девчонкой! Она все еще стояла перед ним — и глаза ее, юные, молящие, дочиста выжженные стыдом, не были глазами преступницы. Тем горше стало Заварзину.
Корсунов, насупившись, сидел на диване. Заварзин вопросительно глянул на него.
— Проверим, Сергей Михайлович, всю ее документацию, конечно, — сказал он, отвечая на его немой вопрос. — А покамест все говорит за то, что в первый раз она…
— Никогда, никогда в жизни чужого не брала! — прижав кулачки к груди, воскликнула Тамара Ганенко. — Верьте мне, дяденьки! Зинка Кочергина в душу ужом пролезла. Упросила, деньги насилком всунула. Я даже и не поняла, как это случилось.
И Заварзин видел — не врала она. И все его гневные слова улетучились куда-то. Что тут скажешь? Чем поможешь?
— Дяденьки… — повторил он, усмехнувшись. — Садись, тетенька… Что же ты сделала со своими деньгами? Как вы их поделили с Волковой?
Тамара села, утопила лицо в ладонях.
— Стыдно мне… Ой стыдно мне! Пополам поделили с Раиской…
— Значит, по полторы тысячи пришлось. По три буханки хлеба, даже с довеском. Сладок ли был хлеб, Тамара?
И не в силах совладать с собой, добавил жестко:
— Совесть свою сожрала с тем хлебом, Тамара, и молодость свою, и честь.
Она ответила, глядя на него сухими глазами:
— Дяденька, не казните меня. Сама себя уж исказнила. Вот что решила я: не буду жить, руки на себя наложу.
— Не позволим, — холодно сказал Заварзин. — До суда не позволим, Тамара. А после… И после не советую. Взяв бандитские деньги, ты продала нас — и живых, и двух погибших наших товарищей. Уйдешь подло — продашь вторично. Подумай хорошенько об этом. Впереди у тебя долгая жизнь, и время подумать — будет.
— Вы ненавидите меня, дяденька…
— Нет, Тамара, — сказал он ей, не лукавя. — Мне по-человечески жалко тебя.
Она заплакала.
— Я не хлеб купила на те деньги, — говорила, всхлипывая. — Я пальто на толкучке сторговала. Обносилась вся, выйти не в чем…
Когда ее увели, Заварзин сказал смущенно:
— Под дых она меня ударила, с пальто-то этим… Ах черт, жалко девку! Прямо хоть вместо нее садись.
— Жалко, Сергей Михалыч.
— Добренькие мы с тобой, Ефим Алексеевич… Может, Авакумов и прав?
— Мы не добренькие, мы добрые. А иначе, это так, на нашей работе засохнешь на корню, чуркой станешь. Не прав твой Авакумов.
— А Волк ушел, — вздохнул Заварзин. — Упустили.
— Ушел…
— А почему ты думаешь, что ушел, старый? Почему Волку не осесть, отсидеться, пока не схлынет шум? Деньги у него, по всей видимости, есть. Вы с Тренковым отработайте-ка эту версию.
— Отработаем, конечно… Но в городе ему оставаться нельзя. Крепко почистили мы город, Сергей Михалыч. Тридцать человек проходят у нас по этому делу. Барыг, о которых мы даже не подозревали, взяли пять человек. Почти все миллионщики. На что уж вроде закаленный я товарищ, в нэп кое-что пришлось повидать, и то не по себе стало, когда у Фаруха из-под пола извлекли мешок с двумя миллионами. Паучье семя! Сколько ж, думаю, людских слез в этом мешке! Вот кого надо расстреливать без всякой жалости. Что там Волк — козявка против этих кровопийц. Поймаем и Волка, Сергей Михалыч, дай срок.
Не знал тогда Корсунов, что срок этот растянется почти на два года…
Глава шестая
1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Я, ст. следователь ОББ[3] УНКВД Астраханской области капитан Корсунов, рассмотрев материал о преступной деятельности Николая Тамбовского по кличке Волк, он же Бухаров Матвей Иванович, он же Комовский Валерий Федорович, он же Рыбцов Павел Никифорович, он же Филатов Сергей Федорович, он же Баринов Геннадий Михайлович,
НАШЕЛ:
Настоящая фамилия Николая Тамбовского-Волка — Бухаров Матвей Иванович. Бухаров происходит от зажиточных крестьян села Ветлянка Астраханской области. В 1929 году в возрасте 20-ти лет он дезертировал из рядов Красной Армии, перешел турецкую границу, а в 1930 году вернулся тем же путем. Вместе с односельчанами Дербаневым и Лебедевым занимался вооруженным грабежом мирного населения, угоном колхозного скота. В декабре 1931 года бандгруппа была ликвидирована, Лебедев и Дербанев убиты, а Бухаров захвачен и осужден на 15 лет лишения свободы. В 1936 году он бежал из лагеря, а в 1939 году был обнаружен в г. Тамбове, где учился на рабфаке под фамилией Комовского Евгения Федоровича. Убив охранника, Бухаров бежал из КПЗ.
В декабре 1942 года Бухаров, имея документы на имя выздоравливающего после ранения мл. лейтенанта Красной Армии Рыбцова Павла Никифоровича, организовал в Астрахани преступную группу из рецидивистов и дезертиров. Бандиты убили двух сотрудников милиции, ранили четырех, ограбили шесть крупных складов с продовольственными и промышленными товарами, нанеся государству ущерб в сумме 3 000 000 рублей. В феврале 1943 года сотрудниками Астраханского окружного отдела милиции и ВОМ банда была ликвидирована, но Бухарову удалось за взятку получить паспорт на имя Баринова Геннадия Михайловича и скрыться.
В январе 1944 года оперативными группами Астраханского отдела ББ была уничтожена банда бывшего легионера[4] Зургана Оджаева, состоявшая из изменников Родины и уголовного элемента различных национальностей. На вооружении бандитов были винтовки, гранаты, пистолеты, бинокли, компасы, кроме того, каждый уходил от преследования, имея по две запасныхлошади. В степях Астраханской, Ростовской, Сталинградской областей и в прикаспийских песках Казахстана банда грабила население, угоняла и уничтожала колхозный и совхозный скот. Бандиты насиловали женщин, убили после тягчайших истязаний 18 колхозников, рабочих совхозов, работников партийно-советского аппарата, сотрудников милиции. Главарь банды Зурган Оджаев находится под следствием, его сообщники уничтожены, кроме Николы Волка, которому при разгроме банды в районе Сарпинских озер удалось скрыться.
В настоящее время Никола Волк вступил в банду Басанга Огдонова, действующую в тех же степях. А поэтому, я, ст. следователь…
ПОСТАНОВИЛ:
Материалы на Николу Волка, он же Бухаров Матвей Иванович, он же Баринов Геннадий Михайлович, он же… выделить из дела № 1029 («Лягушка») и из дела № 1203 («Зурган») и принять к своему производству.
При подтверждении оперативных данных о том, что Никола Волк вошел в банду Басанга Огдонова, присоединить выделенные материалы к делу № 1204 («Степные волки»).
Ст. следователь ОББ УНКВД Астраханской области
капитан КОРСУНОВ.
Астрахань, 9 февраля 1944 года.
2
Шестые сутки опергруппа капитана Джакупа Кенжибаева преследовала в калмыцких степях банду Басанга Огдонова.
Трое осталось в банде, а было восемь. Иных оперативники убили в перестрелках, иных, раненных, пристрелили сами бандиты, взяв их коней.
Не первый раз опергруппа встречалась с бандой Басанга, но нынче — последний. Знали это и те и другие. Знали и то, что за шесть суток непрекращающейся, в лютый мороз, погони не столько оружие решит ее исход, сколько умение всадника расчетливо взять от коня его силу и выносливость. Взять — и не загубить, иначе погибнешь в степи и без пули.
На шестые сутки, в полдень, оперативники подняли бандитов с привала и пошли от них на расстоянии четырех криков
[5]. На привале, в таганке, оставленном впопыхах и набитом снегом, лежали куски синего лошадиного мяса: даже костер не успели развести. Увидев это, Роман Мациборко сказал:
— Товарищ капитан, нагоним! Пересядем на запасных, нагоним!
Джакуп промолчал. Можно пересесть на запасных, можно сделать рывок… Очень хотелось покончить все разом — сколько же можно терпеть эту муку мученическую? Но и у бандитов есть запасные лошади, даже по две. Уйдут… Или нет? Уйдут… И тогда уж уйдут окончательно.
До сих пор опергруппа шла за бандитами по следам. Снег был глубок, следы — как печати. До первого бурана, конечно… Но все эти дни стоял мертвый кристальный мороз, и Джакуп берег коней, зная, что те, кого гонят, беречь коней не смогут. Они умелые всадники, но за спиной неотрывно идет смерть. И все чаще, и все непроизвольнее их колени стальным капканом сжимают бока лошадей, все чаще и безжалостнее, вспарывая шкуру, ложится плеть меж лошадиных ушей… Нынче бандиты впервые показались на глаза, если не считать тех коротких минут, когда, истерзанные постоянной опасностью, они принимали бой. Скоро конец… Дрожь нетерпения передалась ли от всадника коню? Саврасый конь Джакупа, вытянув шею, надбавил…
— Уходят! — сказал Виктор Саморуков. — Уходят, товарищ капитан!
— Пересели?
— Нет, на тех же. — Саморуков приложил бинокль к глазам, добавил уже не так уверенно: — Должно быть, на тех же.
Часа через полтора опергруппа наткнулась на трех пристреленных лошадей. Роман Мациборко подъехал к ним первый, спешился.
— Все взяли от бедолаг, — говорил он, переходя от одной лошади к другой. — Прежде чем пристрелить, жилы им отворили, кровососы.
— Это хорошо, — откликнулся Шакен Джумалиев. — Усталая кровь — отрава, Роман. От нее у них ноги отнимутся.
— Что нам их ноги, Шакен? Отнялись бы у них… — выругался Мациборко и, непривычный к таким долгим скачкам, пошел раскорякой в сторону. Через минуту вернулся, сказал буднично:
— Там лежит один, товарищ капитан. Отбегался…
Близким выстрелом в затылок был убит бандит Ерофеев. Оперативники нашли ямку поглубже, бросили его туда, нагребли снега, плотно притоптали.
— Двое их осталось, — подытожил Мациборко. — Басанг и старый наш знакомец Никола Волк. Не забыл его еще, Витя? — спросил он Саморукова.
— Такого бандюгу забудешь… — пробурчал Саморуков. — Дорого бы дал сейчас Алеша Тренков, чтоб очутиться здесь, да только не для его пробитых легких такие скачки… И что ты скажешь? Раза два метил я в этого Волка — мимо! И тогда и сейчас — как заговоренный… Самый лютый выжил, а?
— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Роман.
Сказать-то сказал, а сам глянул на мосластых, уходившихся лошадей… Да и все глянули… И каждый подумал, что после убийства Ерофеева у бандитов теперь по три коня. Неужели сегодня опять уйдут?
— Переседлывай! — приказал Джакуп.
Уже стемнело, когда следы привели их к зимовью. Оттуда еще издали хлестанул винтовочный выстрел, и Джакуп понял, что бандиты прошли дальше: они бы не стали попусту жечь боевой патрон. На всякий случай рассредоточились, крикнули, дождались заполошного крика в ответ, подъехали. Хозяин, чабан совхоза (это были уже ростовские степи, оперативники знали их плохо), встречая, суетился, сбивчиво рассказывал, что бандиты к жилью даже не подъехали, а только отворили ворота кошары, и все.
— Что — все? — переспросил Виктор Саморуков.
— Коней не взяли, — радостно пояснил хозяин. — Кони, правда, приблудные, но я их вчерась, как на грех, оприходовал. Теперя на мне числются. Добрые лошадки, подкормил… Стоят в кошаре у глухой стены, за овцами. Знать, не увидели.
— Ярку забрали, — сказала его дочка, крепкая, кровь с молоком, солдатка лет двадцати пяти. — Живоглоты!
— Что ярка? Нашла об чем тужить… Сами живы остались, Катерина! Кабы не вы… — он благодарно глянул на Джакупа.
Катерина сказала легко:
— А винтовка на что, батяня? На что нам ее выдали-то? Отбились бы… Я по ним два раза стрельнула — и к землянке не подошли.
Оперативники невольно рассмеялись.
— Ду-у-ра! — рассвирепел отец. — Винтовка… Они бы тебе показали винтовку… Разговорилась у меня! Мясо ставь на стол да кулеш понаваристее!
Шесть суток они не ели горячего. Ночами, когда нельзя было продолжать погоню из-за опасения потерять следы и нарваться на засаду, они по очереди спали у тощего костра, будылье для которого доставали из-под снега. Четыре человека, обмороженные, оставлены позади на редких зимовьях. Нынче, на этом, останутся еще двое… И то ли от духовитого тепла землянки, то ли от съеденного мяса они быстро опьянели, сонная одурь не навалилась — обрушилась на них.
— Роман, — сказал Джакуп Кенжибаев, — и ты, Виктор… Мы сейчас пойдем дальше.
— Надо — пойдем, товарищ капитан, — ответил Мациборко. Голова покачивалась как на стебле, и было видно, какой он еще молодой, Мациборко, как далеко еще ему до жесткой мужской силы. Лица всех были обожжены морозом, шелушились, а на лице Романа юно и ало полыхал румянец… Но в смертельно усталых его глазах, несмотря на покорность этому тихому приказу, удивленно стояло: зачем пойдем и куда пойдем? Разве можно идти ночью по следам? Это значит пахать носом снег, это значит вконец обессилеть, и тогда возьмут они нас…
— Роман, — мягко сказал Джакуп, — мы не пойдем по следам… Они оставили нам это зимовье, сами тоже станут искать крышу над головой. Им отдых и горячее хлебово нужны не меньше, чем нам… Хозяин!
— Ась? — жалостливо откликнулся тот.
— Сколько верст до твоего ближайшего соседа в сторону Эргеней?
[6]
— Верст пятнадцать будет.
— А бандиты, товарищ капитан, пошли в обратную сторону, — вступила в разговор Катерина. — Я подсмотрела.
— Знамо дело, им путя не заказаны, — поддержал ее отец. — Куда хотят, туда и повернут. Почему они обязаны пойтить к Михаиле Золотову? Он им там разносолы приготовил?
— А ты хорошо его знаешь? Он тебе близкий человек?
Чабан махнул рукой, не ответив. Он не желал принимать к сердцу тревогу Джакупа, сквозившую в его тоне. Так хорошо, так надежно ему было с этими людьми, так не хотелось ему отпускать их…
— Тогда молись богу, чтобы мы успели к этому Золотову, хозяин. И коней дай. А без того твои молитвы не дойдут… Путь бандитам в степи не заказан, но к Эргеням они тащат нас аж из-под самой Астрахани.
Чабан поднялся с лавки, выбелев в лице.
— Катерина! — сказал он. — Выводи лошадей из кошары. А вы поспите, люди добрые, прямо за столом и прикорните, пока заседлаю. И к Мишке Золотову сам проведу, короткой дорогой. Успеем.
— Батяня, — Катерина торопливо затягивала полушалок, — дозволь мне самой проводить их. Растрясет тебя, батяня…
3
Басанг скакал впереди, подставив под выстрел широкую спину. Но степные боги надежнее панциря хранили Басанга от пули Николы. Они хранили его умением выжить в этой первозданной степи, найти ночью путь по звездам, отворить жилу коню и вовремя и спасительно влить его ярую кровь в холодеющую свою. Ошибся Шакен Джумалиев, степняк, но не кочевник: надо знать, какую жилу вскрыть смертельно усталому коню, чтобы у тебя не отнялись от яда ноги, а мозг стал свеж и тело сильным. Басанг знал.
Он пристрелил заболевшего Ерофеева, подошел к Николе, повернулся к нему спиной и постоял так несколько мгновений, достаточных, чтобы получить пулю в затылок. Ничего меж ними не было сказано, но главарем банды стал теперь Никола, ибо двое таких, как они, тоже банда. Жесток и хитер Басанг, темен и неграмотен он, и все-таки не мог он не понимать, что за этим русским стоит знание мира, который выше и сложнее степного. Никола Волк не насиловал женщин, по его просьбе Басанг отпустил, не тронув, двух чабанов-казахов, но тот же Никола, узнав, что в дальнем хуторе ночует участковый уполномоченный Шевырев, настоял поднять банду. И вместо того чтобы жрать мясо и пить самогон, Басанг проскакал с ним по ночной степи двадцать верст, а для чего? Никола скучно пристрелил Шевырева, лишив их долгой мести. И только на обратном пути, к мясу и самогону, Басанг, не раз умытый кровью, почувствовал себя щенком перед новичком-русским. Почему? Отчего? Смутно выплывало: есть легкая кровь и есть трудная кровь, новичок тянет их к трудной. Но разве ему, Басангу, надо не то же? Разве скот, который он имел, и три жены, и власть в хотоне в революцию не отняты? И чем же ты, Басанг, старый пес, вернешь их быстрее: кровью безоружного пастуха или кровью лейтенанта? Как получилось, что теперь каждое зимовье встречает тебя выстрелами? Ой-ей-ей!.. Где была твоя голова, зачем не думала? Надо беречь русского, небесные предки послали его, чтобы вовремя предостеречь потерявшего рассудок потомка.
Но без того, что знал и умел в степном мире Басанг, русский в степи погибнет. И Басанг, уверенно подождав, сколько было положено (мускулы спины и затылка все-таки конвульсивно напряглись), сказал Волку то, чего не говорил ни одному из своих сообщников. В Эргенях, сказал Басанг, есть у него тайник с оружием и запасом продуктов, вдвоем они проживут там до весны, а весной… Русский молча — он вообще мало говорил — положил ему руку на плечо. Басанг заседлал лошадей Ерофеева, себе взял похуже…
От зимовья, где остановились и сейчас уже, наверное, легли спать оперативники, они пошли на юго-запад, почти в строго обратную от Эргеней сторону. Басанг долго и усердно петлял, раза три они с Николой расходились и затем по оголенным от снега хребтам барханов сходились вновь. Наконец поскакали на север к зимовью, которое знал Басанг и в котором они надеялись поесть и поспать в тепле за то время, пока опергруппа, никогда не продолжавшая погоню ночью, разомкнет их следы и доберется туда. Конь под Николой всхрапывал, два запасных, слева и справа, испуганно жались к нему, и Никола, не понимая в чем дело и оберегая ноги, наотмашь бил кулаком по их мордам. Басанг по-прежнему скакал впереди, иногда гортанно смеялся чему-то, иногда что-то выкрикивал, и кони его были спокойны.
На дальний бархан вылезла багровая ущербная луна и по-азиатски лениво и надолго уселась на нем. Снега повлажнели, выдавили из себя сукровицу, и она широкой рекой заструилась от луны к всадникам. И ту дорогу пересекли летучие тени… Никола глянул влево и назад — и там тоже увидел их и понял, почему храпят и бьются на скаку его кони. Он крикнул, молчаливое волчье кольцо разжалось и сжалось, оно стало пульсировать в такт его возгласам, а кони, ободренные голосом хозяина, пошли ровнее. Как беспредельна, как мертва степь под февральскими снегами, как жестоко обнажены в ней жизнь и смерть! Еще сильны Никола и Басанг, и вооружены они, а стая уже почуяла в них ослабевших и будет терпеливо идти за ними сегодня, завтра, до конца…
Басанг вышел точно на зимовье. Слабый огонек светился из единственного окошка землянки, он потух сразу же, как только залаяли в кошаре три запертых вместе с овцами сторожевых пса. И тут же выстрел потряс степь. Пуля задела каменную горловину колодца, срикошетировала и ушла в ночь. Никола с тоской подумал, что вот оно — благословенное тепло, но не достанешь, не войдешь. Он почти физически ощущал, как холод проникает в разбитое окно землянки (оно парило), и, полузамерзший, страдал от этого, а еще от того, что придется тратить драгоценное время, чтобы убить строптивого чабана. Черно и злобно пожалел он, что хватал за руку сначала Зургана, а затем и Басанга, когда те истязали женщин, стариков и детей. Он втолковывал им, что надо воевать только с властью, с государством, но дикие бандиты оказались умнее его, непреложно зная, что государство — это все эти люди, хар яста, черная кость.
Хлев для скотины стоял за глухой стеной землянки, не под выстрелом, и они могли завести туда лошадей, которых от волков нельзя было оставлять без присмотра и на минуту. Развязав себе руки, попытались достать чабана пулей. Не тут-то было! Тот стрелял редко, с точным расчетом, по всему чувствовалось, что винтовка — в умелых руках бывшего солдата. Меж выстрелами Никола уловил женский голос и детские голоса…
— Эй, ты! — крикнул он. — Не стреляй! Переночуем — уйдем, не тронув.
— Гад ты ползучий! — отвечал ему чабан. — А еще по-русски баишь… Никола Волк, што ли? Было говорено… Покажись-ка!
— Детей бы своих пожалел, — продолжал увещевать Никола, но увещевал из-за угла сарая.
— Пожалею, как тебя достану, иуда, — ответил чабан и чуть не достал Николу, прошив пулей камышовые стенки сарая.
Басанг тоже стрелял из винтовки, его пули тоже, видимо, прошивали стены чабанского жилья, но так можно было жечь патроны долго, а их мало. Поняв бесполезность лобовых попыток, Никола приказал отойти к хлеву. Басанг подчинился, вкрадчиво улыбаясь: теперь не он был главарем банды и как выкурить чабана, уже не его печаль. Тогда Никола достал, словно от сердца оторвал, последнюю гранату, вынул из нагрудного кармана запал — и отдал ему. Крыша зимовья всего метра на полтора подымалась над землей, Басанг мягко, по-кошачьи, вспрыгнул на нее… Жили чабаны в землянках, землей же и утеплялись; по локоть ее было насыпано на крыше. А чтобы не выдули ветры, не вымыли ливни, была засеяна крыша овсюгом, шелюгой и иными устойчивыми на корень травами. И ни Михаил Золотов, ни жена его, ни две малые дочки-погодки даже не почувствовали, как их смертынька шагнула к трубе… Луна скрылась, но в слабом свете, который еще хранила ночь, Никола видел, как Басанг отвел руку, чтобы опустить гранату в черное жерло. И — не успел опустить: две автоматные очереди скрестились на нем, и граната взорвалась в его руках. Николу толкнуло взрывной волной, он упал, вскочил, последние, спрятанные на донышке души силы вскипели в нем, — и он, пригибаясь, побежал.
А Михаил Золотов открыл дверь землянки и, крутоплечий, сильный, с мученически-счастливым лицом, облапил первого же, кто подсунулся к нему, а это была Катерина. И она счастливо рассмеялась.
— Мать честная! — ахнул изумленно Золотов. — Катерина! Ты? Н-ну, Катерина… А развалюха-то моя, а? Выдержала, шалавочка… Прямо дзот! Катерина… Век тебе не забуду, Катерина…
Он обнимал Виктора, Джакупа, чуть не задушил в объятиях Романа Мациборко, тонкого и худенького даже в полушубке. Простоволосая, плача и смеясь, выбежала жена Михаила, целовала Катерину, оперативников, восклицала бессвязно. А те, на кого так неожиданно и открыто пала радость спасенных, вдруг поняли, что вот и пришел конец их страде, их мучениям, и им стало легко, они тоже заговорили бессвязно, утешая плачущих женщин, смеясь освобождение И эта радость человеческая, и смех, и участливое, исторгнутое из сердца слово, и эти теплые слезы поднялись тогда над снегами и поплыли в ночь, к ледяным звездам. И там, в черной беспредельности, никогда не погаснуть им, люди, усталые вы мои, милые вы мои!
Джакуп пересчитал в хлеву бандитских лошадей. Все шесть на месте, и он успокоенно приказал располагаться на ночевку. Он знал непреложно: тот, кто в такую пору уйдет в степь без коня, или вернется, или погибнет.
— Есть на земле справедливость, — сказал Роман Мациборко, когда опергруппа, переночевав, вышла по следам на место, где замерз Никола Волк. Его обыскали, вынули из карманов полушубка пистолет, паспорт на имя Баринова Геннадия Михайловича… Джакуп, сидя в седле, положил на планшетку лист бумаги и стал писать акт с точными приметами бандита.
— Есть на земле справедливость, — закончив, подтвердил и он. — Домой, мужики… Теперь домой!
Кони всхрапнули, взяли наметом. И долго, не оседая, серебряно мерцала на солнце снежная пыльца.
Что ответить ему
Глава первая
1
Тетка Ариша Рудаева поругалась с замужней дочерью, влезла в долги, купила домишко и ушла жить своим хозяйством. Работала она сторожем в автоколонне, работой дорожила: отдежурит сутки — трое свободна. Имела во дворе огородик, хаживала на базар, сдавала комнату квартирантке, так помаленьку-полегоньку за три года выплатила почти все, что задолжала за дом.
И все три года ни она к дочери, ни дочь к ней — ни ногой. Зять приходил. Был он плотник первой руки, а дому требовался ремонт — вот и помогал по-родственному. Звали его Петр Инжеватов. Потюкает, бывало, топориком часика два и садится за стол, где уже ждала его тещина бутылка. Он задумчиво выпивал, грустно вздыхал перед последней рюмкой и смотрел на тещу совершенно трезвыми, в собачьей тоске глазами. У общительной, жизнерадостной тетки Ариши была такая манера: любила говорить правду в глаза, прямое слово у нее не залеживалось… Но меж ними правда была давно и вся сказана, оба молчали.
Не часто, но забегал к ней восьмилетний внук Петька. От радости Ариша не знала, куда его посадить и чем накормить: сильно его любила. А мальчонке много ли радости с бабкой? Сладким куском его не прельстишь, сказкам нынешние дети в восемь лет уже не верят, разве что на ночь… Покрутится, повертится — и нет его, ветром сдуло. Бабка сникала, одиноко сидела за столом, думала. О чем? Не знаю… Быстролетный Петька словно уносил с собой что-то, оставляя смутные минуты.
Но вечерами, когда на скамейках собирались пожилые товарки, общительная тетка вела речи самые гонористые.
— Эх, бабоньки, — говорила она. — Нынче мне хорошо, живу — не нарадуюся, сама себе хозяйка. А что было? Не так встала, не так прошла, не то сказала… Самовар поставить — спросись, что купила — отрапортуй, про всяку мелочь — доложись. Моей постоялице — и то вольготнее, чем мне у родной дочери.
— Знамо дело, — дружно вздыхали соседки, — укорот нам крепкий дают.
На квартире у Ариши жила Мария Андреева, молодая женщина лет двадцати пяти, а у нее — своя беда. Разошлась Мария с мужем, и разошлась из-за свекрови. «Прямо Кабаниха, — говорила она, — дышать не давала. Вы, старухи, тоже хороши».
— Да и то сказать, — помолчав, соглашалась с ней правдолюбка Ариша. — Годы на нас, старух, пошли урожайные. В какой дом пальцем ни ткни, кто вылезет? Старуха… И всяка с норовом, взять хоть меня… А молодые нынче сами дерзки, жить хотят по-своему. Ну и идет меж вами и нами постоянная пальба…
Разговоры эти вели они за самоваром, за долгим-долгим чаем. И пока выпьют самовар, обвинить себя успеют, оправдать, пожалеть и поплакать над собой же. Одного только не смогут понять — кто прав, кто виноват, почему не терпит сердце даже малой обиды от кровных, почему неуступчиво оно? Что за такое за колдовство? Добро бы, куска хлеба не хватало. А то ведь… Нет, не понять. Только и утешения, что наговорятся вдосталь, отмякнут, и назавтра, глядишь, вроде и легче.
Так вот и жили они, хозяйка и постоялица, до пятницы, 21 сентября 197… года, до восьми часов вечера. Вечером поужинали, тетка Ариша разобрала в горнице свою постель и постель Марии, надела поверх цветастого халата синюю душегрейку, обула мягкие черевички — и была готова к выходу.
— Далеко ли? — спросила Мария. Она сидела за неприбранным столом, думая о чем-то. Тетка Ариша знала, о чем она думала, — о ребенке, которого могла родить, но, поддавшись уговорам свекрови и мужа, не оставила. И, страдая за Марию, Ариша сказала:
— Ты что это, девка? В твои ли годы горевать? Собирайся, пойдем со мной, развеешься…
— Куда? — снова спросила Мария, но было видно, мыслями она далеко. И вряд ли она слышала, что ответила ей тетка Ариша.
— Дельце одно маленькое есть, — ответила та. — И Дроботовы давеча приглашали. Кино у них посмотрим по цветному телевизору. Пойдем, Маша, а?
Долго будет Мария жалеть, что не пошла в тот вечер с хозяйкой.
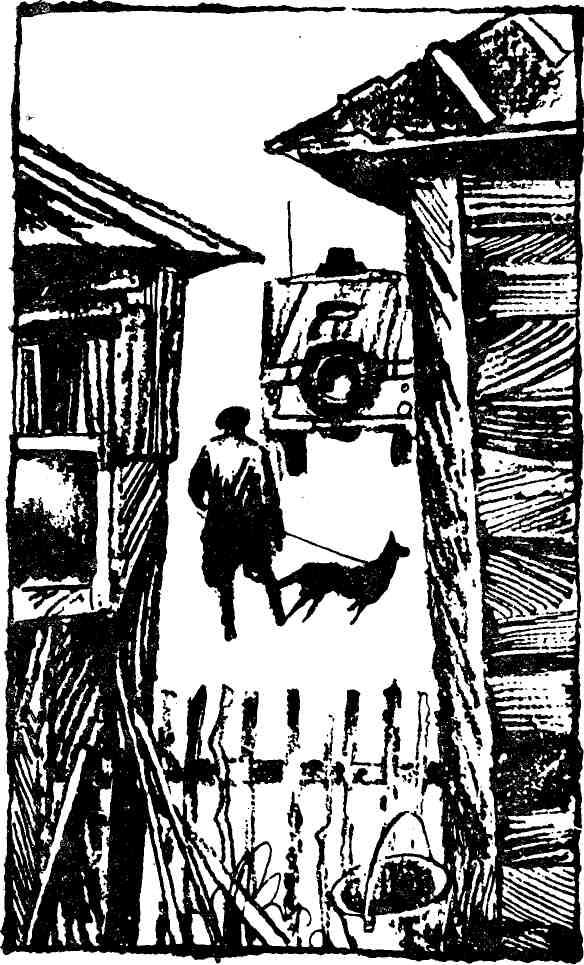
2
Далеко от Аришиного дома, в тот же вечер и в те же часы, к одному из волжских островов подошла рыбачья лодка. Ее привел сюда на буксире баркас и пошел дальше, а Михаил Бурлин, выбрав и уложив чалку, закатал штаны до колен, слез в воду и потянул лодку в горловину бухты, к седой ветле. Вспугнутые мальки тупо и щекотно били рыльцами ему в ноги. Если бы у меня не было в жизни рыбалки, думал Михаил, то что тогда было? Но он тут же отбросил эту мысль, отравлявшую ощущение счастья. Сейчас он мог все.
И все делал не торопясь, с наслаждением. Снял подвесной мотор, которым не пришлось воспользоваться, и положил его в лодку. Вытащил оттуда две старые фуфайки, кожушок, полиэтиленовые мешочки с едой и с лесками — отнес все на берег, положил у старого кострища. И еще он что-то делал, а минуты текли, и он, замерев и прикрыв глаза, пытался услышать и слышал иногда шорох уходящего времени. «Постереги мое добришко, мать, — сказал он старой ветле, к которой приковал лодку, — а я схожу к роднику».
Через час он вернулся к лодке, принес с собой фляжку с ключевой водой и старую домашнюю сумку с коровьими лепешками. Их он положит в костер, и всю ночь они будут багряно тлеть под седым пеплом, источая ровное тепло. Разжигая костер, Михаил думал, что завтра он не станет ловить рыбу, ну ее к лешему, успеется. Завтра на зорьке он уйдет в дальние луга, где колхозные механизаторы докашивают перестойные травы: давеча оттуда был слышен слабый рокот тракторов. Там встретит хозяина этого острова лесника Романа Евсеевича и спросит его, не нашел ли он себе замену. Нынче люди не больно стремятся в глушь, в прошлый раз старик, собравшийся на пенсию, ухватился за Михаила. Долго расписывал выгоды лесного житья, даже стельную корову обещал на год оставить… Потом примолк, задумчиво пожевал серыми губами, сказал просто:
— Не затем ты едешь сюда, парень. Спасаться едешь.
— Семью спасать, Евсеич, — признался Михаил.
— Не дело задумал, милок, — сказал старик. — От себя не убежишь, а шкодливая баба в лесу и с деревом спутается… Брось ты ее к чертовой матери. Молодой, другую найдешь.
— Чужую беду руками разведу, — хмуро попенял ему Михаил.
— Не серчай, парень, — Евсеич сразу потерял к нему интерес. — Как примстилось, так и сказалось. В лесу живу, оброс дурью…
Долго саднила душа после того разговора с лесником. Встреча с ним в тот раз была вроде бы случайной, а на самом деле Михаил давно искал ее. И вот оказалось, что податься в лесники — это не выход, несколькими словами старик разрушил то, что Михаил лелеял в себе бессонными ночами. Но что же делать? Ведь как-то надо спасать Таню. В последнее время он остро чувствовал, что и себя самого тоже надо спасать… «Пойду к старику завтра, решил Михаил, попытка — не пытка. Поживем здесь годика три, сынишку определим в интернат. Поживем, оглядимся, подумаем, мы же взрослые люди, и было же, было…»
А костер горел, шелестя и потрескивая, а кизячий дымок першил в горле, выбивал слезу. Михаил глубоко втянул этот забытый запах. Больно и горько ворохнулось сердце: то был запах его детства. И не стало у костра тридцатилетнего, неудачливого и не приспособленного к людской суетливой жизни человека — сидел мальчишка, отрок, с неясными, только что пробудившимися желаниями, а костерок, ало-сизый кизячный холмик, у которого сидел он на теплой вечерней земле, был разожжен не им, а его молодой вдовой матерью; за скудным столом под навесом она пила чай с двумя старшими сестрами, тоже вдовыми. Выпили сестры весь самовар и, голодные, затянули старинную протяжную песню и незаметно отдались ей, нелепо, жалко и истово помогая себе движениями рук, сминая слова тоской и рыданием. И он впервые о чем-то смутно догадался, его, худенького, робкого, тихого мальчика, захлестнула мужская жалость к матери и теткам; он заплакал. А они пели, кизячный дымок пластался по двору, пугая комаров, тонкий немощный месяц светил, приглушенно синела разлившаяся вокруг деревеньки полая вода, и где-то там, в ее таинственных холодных просторах, переливчато, одиноко кричали ночные птицы. Давно уже нет матери, разбрелись по свету тетки, а отрок, который верил, что будет жить прекрасно и даже знал, как это — жить прекрасно, с годами растерял свое знание. Да что там — за пятнадцать последних лет он ни разу не был в родной деревне, не припал губами к земле у могильного холмика, не прошептал забытых слов, не попросил прощания у родимой… Вспомнив это, Михаил застонал от невозможности вернуть все и, недоумевая, негодуя и ничего не в силах с собой поделать, вытащил записную книжку, куда вносил всякие мелочи по работе, стал писать в ней о том, над чем казнилась и чем счастлива была его душа. Никогда раньше он такими глупостями не занимался, и, наконец, измучившись до жаркого пота меж лопаток, он отбросил книжку в сторону. И все-таки стало ему легче… И яснее стало. Нет, бросить Таню он не сможет, все в нем противилось предательским словам лесника.
Натянув шапку и прикрывшись кожухом, он лег у костра.
В эту свою ночь в лесу он проснулся всего один раз, приподнялся на локте и строго, без удивления, полностью доверяя себе, смотрел, как рядом, на матово-черном зеркале воды, молча ходили белым хороводом русалки. Потом от хоровода отделилась одна и подошла к нему в подвенечном платье и фате, и это была его Таня, какой он знал ее десять лет назад, в день их свадьбы. Она прикоснулась рукой к его лицу, ладонь ее была теплой, и сердце его задрожало, он откинул кожух и обнял ее благодарно. Она пришла к нему юной и его сделала таким же, и он уснул снова, самый счастливый человек на свете.
А на свете не было человека несчастнее его. Потому что в этот час погибла насильственной смертью тетка Ариша Рудаева.
Но пока об этом никто не знал.
Не знала Мария Андреева, уже забеспокоившаяся, потому что хозяйка не ночевала дома. Не знали ни соседи, ни знакомые, ни те, кто, как и Михаил Бурлин, никогда не видел ее в глаза. Да и что этим людям тетка Ариша? Кому мешала? Кого задела?
Глава вторая
1
Токарь Иван Бурцев заканчивал смену. И надо же: чуть ли не на последней минуте отказал универсальный станок ИК-62. Иван, любя, называл его «Костей». Был большой шут… Мастер участка Петр Федорович Касаткин ругал Ивана на чем свет стоит, и поди докажи ему, что «Костя» всю неделю работал на той эмульсии. Правда, кое-какой недогляд был и за Иваном, поэтому на эмульсию он напирал не слишком настырно: старика Касаткина не проведешь. Так день славно начинался — и на тебе, получил Иван плюху… И еще увесистее получит ее в понедельник, когда выйдет из отгула мастер смены Михаил Бурлин. Веселый тогда будет денечек у Ивана.
Но, спрашивается, чего ради казнить себя неприятностями будущими? Унылым самоедством Иван Бурцев никогда не занимался. Иван был молод, силен, добродушен и незлобив, его могучая натура была настроена на радость, понимала и чувствовала только ее, а всякие там душевные штучки-дрючки сгорали в нем мгновенно и дотла. Сойдя с автобуса на своей остановке, Бурцев и думать забыл о сломанном станке.
Упругим шагом он спешил домой — к жене, двум дочкам-погодкам и старому отцу. Обычно дочки выбегали ему навстречу, но нынче что-то, наверное, случилось: у калитки ждал отец. Иван, подходя, вгляделся, спросил шутливо:
— Батя, ты не на сковородку ли сел ненароком?
— А и тебя счас посажу, — пообещал отец и, взяв Ивана за руку, повел в дальний угол подворья. Там, в простенке меж гаражом и забором, стояло обшарпанное цинковое ведерко. Иван заглянул в него… Долго глядел… Видел обрывок цветастого халата и понимал, что это — обрывок цветастого халата, а все остальное, что комком лежало в ведре, — этого он понять и принять никак не мог.
Отец сзади потянул его за ворот рубашки. Иван разогнулся, спросил шепотом:
— Эт-то что?
Не отвечая, отец опять взял его за руку и повел в дом. Лида, бледная, сидела на кухне. Здесь отец и рассказал, что в метрах пятистах от их дома, в ерике, нашли мешок, а в нем труп женщины. Сейчас на том месте милиция, прокуратура, собаку привозили, она туда-сюда потыкалась и села… Иван слушал в оцепенении, ничего не понимая. Какая-то собака, какое-то ведро, а в нем… Зачем? Почему? Откуда?
— Ты мужик аль кто?! — прикрикнул отец.
И вовремя прикрикнул. Что это в самом деле? Раскис как сопливый мальчишка… Иван помотал головой, стряхивая оцепенение, спросил строго:
— Батя! Ты убивал?
— И-и, дурень… Язык-то как у тебя повернулся?
— Лида!
Лида залилась негодующими слезами. Тогда Иван ткнул себя в грудь и заявил ответственно:
— И я не убивал. Значит, что? Сажусь в машину, дую на ерик и если милиция еще там, приглашаю в машину, берем собаку, возвращаемся. Там, ясное дело, тьма народу до милиции побывала, следы затоптаны, а от нас, глядишь, собака след и возьмет. Резонно?
В ответ на такие резонные слова Лида еще пуще залилась слезами. Все мог терпеть Иван, перед всем устоять, но перед этим… Разрывалось у него сердце от женских слез. И он с жалостью подумал, что батя терпит их с той минуты, как обнаружил подкинутое ведро.
— Так-то оно так, Ваня, — промямлил отец. — По-человечески оно так… А вот кто в собачье-то разумение влезет? От нас собака след возьмет, али нас же с Лидухой начнет цапать? Отбрешись потом от нее…
— А люди что скажут? — всхлипнула Лида. — Начнут тыкать пальцами — убийцы, мол, дыма без огня, мол, не бывает. А детям нашим будет каково? А третьему нашему? Я вся изведусь, и не будет у нас третьего…
С сильнейшего козыря пошла Лида. Но Иван еще не сдался.
— Да вы что? — воскликнул он в искреннем недоумении. — Да вы сами-то кто? Нелюди? Ведь человек убит! А если мы сейчас сдадим ведро, то убийцу, может, сразу и найдут. Да и знать желательно, кто же это нам такой подарочек спроворил? Я этого хмыря и до милиции-то не допущу!
— А если не найдут? — теперь уже напористо, без слез, спросила Лида. — Совсем-совсем не найдут? По судам нас тогда затаскают, Ваня.
— Ты ее слушайся, Ванек, — наставительно заметил уже, видать, сломленный отец. — Жена-то зря не присоветует. Ты сызмала головкой был не дюже силен, а она стихи пишет, понимает больше.
Не убедили его. Но победили… Зарыл Иван ведро там же, где оно стояло. Потом банька была, потом бутылка «Столичной» появилась на столе. А потом Иван лежал в горнице, жену дожидался, а она стихи писала. Все было как прежде.
«Пишет, — вдруг подумал он о жене отстраненно, как о чужой. — Мы человека второй раз убили, а она стихи пишет, стерва!»
Отвернулся к стене, уперся взглядом в настенный ковер и лежал так, наверное, с минуту. И тут с ним что-то случилось. Не понимая, что это с ним и зачем он это делает, чувствуя лишь ледяную тоску в сердце и желая освободиться от нее, Иван медленно, боком, приподнял на одной руке свое большое сильное тело, а другой схватил верхнюю кромку ковра, услышал испуганный вскрик жены и, падая, яростно рванул на себя. А это уже было не как прежде.
2
Марию Андрееву доставил на место происшествия участковый уполномоченный старший лейтенант Огарев.
Увидев то, что ей показали, Мария тихо сказала:
— Тетечка-а-а… Аришечка-а-а… Родненькая-а-а…
И заплакала молча, уткнув серое лицо в плечо Огареву. У него, старого служаки, так часто видевшего человеческую скорбь, боль и неустройство, что пора бы уж и привыкнуть, тоже защемило в груди, когда он заставил себя профессионально видеть… Кому же помешала Машина хозяйка, что ее не только убили, но раскромсали на части и жгли? Давненько Огарев не сталкивался с подобным зверством, даже в лютые на шпану послевоенные годы не помнит такого, а ведь он отработал здесь, в Трусовском
[7] райотделе, почти четверть века.
Поддерживая, Огарев подвел Машу к милицейской машине, помог сесть. Здесь ей совсем стало плохо, и над ней захлопотала немолодая докторша из судебно-медицинской экспертизы. Она посоветовала отвезти свидетельницу домой, и Огарев уже хотел это сделать, но подошел капитан Емельянов, шепнул: «Ты что, старик, раскомандовался? Полковник Максимов тебя ждет. Быстро к нему!» — и сел в машину. Следователь областной прокуратуры Зародов, проводивший осмотр места происшествия, поручил Емельянову допросить Марию дома, как только ей станет легче.
И тут-то Огарев увидел, что кроме следователя, доктора, эксперта-криминалиста и двух сотрудников Трусовского райотдела в осмотре места происшествия принимают участие заместитель начальника областного управления милиции полковник Максимов и начальник областного уголовного розыска полковник Бежанов. В том, что такое большое начальство приехало сюда, удивительного не было: преступление тяжелое. А как же это, подумал сокрушенно Огарев, ты, старый пень, оплошку дал, не догадался сразу же доложить, с чем приехал и кого привез, — вот что и удивительно и непростительно. Видно, Машино горе совсем сбило его с толку. Со вчерашнего дня он был в отпуске, волюшки штатской хлебнул, нынче вечером на рыбалку уже собрался — смазывал и регулировал подвесной лодочный мотор, когда пришла Маша Андреева. Он уже знал, что обнаружили в заречной части Трусовского поселка, в мелководном ерике. И заторопился, и не послушался жены, которая советовала надеть форму, посадил Машу на мотоцикл и повез ее, в чем был, — в кургузом пиджачке, в старых, запятнанных машинным маслом штанах. Давно известно, к чему приводит торопливость… Эх! Иди теперь, старый пень, в этом наряде под строгие очи полковника Максимова, докладывай. Уж он выдаст тебе по первое число! И прав будет, потому как крепко стро́жит милицейская форма нашего брата, рассупониться ему ни духом, ни телом не дает…
А что делать? Одернул пиджачок, пошел.
Максимов видел смущение участкового, которого знал, как почти всех старослужащих, в лицо и по имени, и, чтобы сбить его смущение, сказал просто:
— Докладывай, Николай Леонтьевич. Важнейшего свидетеля ты нашел.
«Это уж так, — приободрясь, подумал Огарев. — Знать, кто убит, — много знать. А я вроде бы и чуть побольше сведений привез».
Но полковнику он честно сказал, что никакой его заслуги в том, что убитая наконец опознана, нет. Просто Маша Андреева в дальнем свойстве с его супругой, и когда забеспокоилась ночным отсутствием хозяйки, сама пришла к ним. К кому же ей еще идти? Всюду искала. А он…
— Покороче, Николай Леонтьевич, — мягко прервал Максимов. — Не первый день служишь, должен понять, время дорого. Выкладывай самое основное.
— Убита Ирина Николаевна Рудаева, — вмиг выправился Огарев, — вахтер автоколонны, возраст — пятьдесят шесть лет. Вчера вечером, в двадцать ноль-ноль, вышла из дому и не вернулась. Мария Андреева запомнила, что в момент ухода хозяйки по радио передавали сигналы точного времени. Она также говорит, что хозяйка приглашала ее пойти к Дроботовым и посмотреть фильм по цветному телевизору. Название фильма — «Рассказ нищего», начало — в двадцать сорок. Сам смотрел вчера со своей старухой…
— Кто такие Дроботовы? — задал вопрос полковник.
— Виктор Дроботов — начальник автоколонны, где работала Рудаева, — ответил Огарев. — Молод, тридцать лет. По словам Марии Андреевой, Рудаева дружила с его матерью и частенько бывала у них. Кроме того, у Рудаевой есть дочь Людмила, двадцати пяти лет. Замужняя. Работает в доме быта, швея. Муж ее, Петр Инжеватов, — плотник бондарного завода.
— Все эти люди живут на твоем участке, старший лейтенант?
— Только Дроботовы. Но адреса остальных я взял у Маши перед тем, как повезти ее сюда. Разыскивая хозяйку, она у всех побывала, а потом уж пришла к нам.
Огарев вынул из записной книжки заранее приготовленный листок, подал Максимову, сказав:
— Сердце чувствовало, что везу Машу к беде и что нам эти адреса понадобятся, товарищ полковник.
Максимов полковником был молодым, звание это присвоили ему вне очереди, но зато оперативником был старым. И потому к фразе участкового: «Сердце чувствовало…» — он отнесся без тени усмешки. Когда, как Огарев, прослужишь почти четверть века в милиции, сердце поневоле научится остро чувствовать горячие точки, где зреет человеческая беда.
— Благодарю, Николай Леонтьевич, — сказал Максимов. — Сейчас по этим адресам поедут наши люди. А ты поезжай к Дроботовым, раз уж они живут на твоем участке. Пригласи Виктора Дроботова на допрос. — Максимов помолчал и уточнил: — Пригласи! Он пока для нас свидетель… Возможно, им и останется… А возможно, на допрос придется тебе везти Дроботова без всякого желания с его стороны. Одним словом, действуй по обстановке.
— Это уж да, — вздохнул Огарев.
— А вздыхаешь по какой причине? — спросил Максимов.
— С мальчонков знаю его, товарищ полковник, — ответил Огарев. — На моих глазах рос… Больше скажу, с отцом его на фронт в один день отсюда уходили. Отцу так и не пришлось узнать, кто родился — сын или дочка… Тут-то и повздыхаешь, Евгений Александрович, ежели это Витькиных рук дело.
— Вот даже как… — задумчиво проговорил Максимов. — Ну что ж, Николай Леонтьевич, не мне тогда тебя учить… Постарайся использовать свои контакты с этой семьей, прежде чем приглашать Виктора на допрос.
— Знамо дело… — совсем по-штатски ответил Огарев, но тут же снова одернул свой кургузый пиджачок, сказал: — Задание ясно, товарищ полковник. Разрешите выполнять?
— Выполняй. Имей в виду, что Рудаева была убита в ночь с пятницы на субботу в промежутке между десятью и одиннадцатью часами вечера… Из отпуска, — Максимов скользнул взглядом по затрапезной одежонке участкового, — будешь отозван. К Дроботовым, думаю, тебе лучше поехать прямо так, в чем есть. Через час мы закончим осмотр, к тому времени Виктор Дроботов уже должен быть в райотделе, следователь займется им.
Но следователю не пришлось заняться им. Огарев вернулся от Дроботовых сильно расстроенный. Даже с лица потемнел. Доложил, что узнал. И по докладу выходило, что здесь надо срочно делать обыск.
Сделали в тот же вечер. Нашли полусожженную Аришину безрукавку, остатки черевичек, обрывок цветастого халата.
Глава семьи при обыске не присутствовал. Вчера в полночь, когда, по предварительным данным судмедэксперта, Рудаева уже была мертва, Виктор Дроботов выехал из дома на грузовой машине. Что он повез на ней и куда? Почему до сих пор не вернулся? На эти вопросы ни мать, ни жена не могли ответить. Скорее всего, не хотели. Их допрашивали по отдельности, но обе согласно утверждали, что Ариша была у них в пятницу дважды: первый раз — днем, второй — вечером. Второй раз пришла перед началом фильма, посмотрела его и незадолго до окончания программы «Время» ушла. Виктор проводил ее до калитки, вернулся тотчас же. И все легли спать.
Но если так, то почему же на подворье оказалось то, что обнаружено обыском? И почему, уже улегшись спать, глава семьи вдруг поднялся и уехал? Откуда взялась грузовая машина?
В ответ были слезы. Полуобморочный страх. Глухое молчание.
Женщин отпустили, взяв подписку о невыезде. Надо было искать Виктора Дроботова…
3
Ко всем этим вечерним событиям младший лейтенант Александр Токалов отношения не имел и не знал о них, поскольку на месте происшествия получил задание — съездить к супругам Инжеватовым, дочери и зятю погибшей, сообщить им о случившемся, получить хотя бы самые общие сведения о Рудаевой и ее связях, обязательно поинтересоваться у Людмилы Инжеватовой, не была ли в последнее время чем-либо встревожена мать, не боялась ли кого и не угрожал ли ей кто… Задание с профессиональной точки зрения было простенькое, потому что Токалова посылали не к кому-нибудь, а к родной дочери погибшей, и надеялись найти у нее поддержку и понимание. Но по-человечески рассуждая… По-человечески-то рассуждая, тяжкое задание выпало на долю младшего лейтенанта. Вот он сообщит Людмиле… Как сообщит? И как это вообще делается? Наверное, надо сначала подготовить ее… А главное — как после э т о г о задавать ей вопросы? Никто не посоветовал, никто не подсказал, даже капитан Мухрыгин, шеф-наставник младшего лейтенанта, промолчал, будто Токалов всю жизнь занимался выполнением подобных поручений. А ему как-то не случалось… Он лишь третий месяц служит в уголовном розыске Трусовского райотдела после окончания милицейской школы.
Одно хорошо: Огарев, направляясь к Дроботовым и сделав крюк, подвез младшего лейтенанта почти до места. Квартала за два он остановил мотоцикл, объяснил, как выйти на улицу, где жили Инжеватовы: хотя и не его был участок, но старик все здесь знал. И тогда Токалов решился.
— Дядь Коля, — сказал он, — посоветуй…
Огарев понял его мгновенно, но затем долго, с недоумением, даже с жалостью, глядел на младшего лейтенанта.
— Ты что же, Саня… — наконец произнес он. — Я скажу, а ты заучишь? На всю остатнюю жизню? До самых до генеральских погон? Так, что ли, Саня?
Лучше бы Огарев его ударил! Александр поднял к нему ошеломленное лицо, и участковый с прежней жалостью
подумал: «Милые вы мои, да в каких же теплицах вас растят? И ведь парень-то золотой, вон как сразу с лица обрезался, а и ему поводырь на все случаи жизни надобен. А что ж? Привыкли… Холим, бережем, от каждого сквознячка укрываем».
— Этому никто тебя не научит, Саня, — сказал Огарев. — Ни папа, ни мама, ни чужой добрый дядя. Тут надо в сердце свое глядеть. И глядеть придется не раз, коли ты теперь в уголовном розыске. И всякий раз это будет по-иному, Саня.
Александр, сглотнув сухой комок, покорно кивнул.
— И не о том ты у меня спрашиваешь, — продолжал Огарев. — А спросил бы ты лучше о том, что́ я знаю об этих самых Инжеватовых. Давеча Маша Андреева была у меня, кое о чем рассказала. Вскользь, мельком, но, может быть, тебе и пригодится.
Огарев сообщил ему отрывочные, разрозненные сведения о семье Инжеватовых, Александр мысленно отметил одно, заслуживающее внимание, сказал:
— Спасибо, дядь Коля.
Огарев сел на мотоцикл и покатил к Дроботовым. А младший лейтенант потопал к Инжеватовым…
Людмилу Инжеватову подготавливать ему не пришлось. И вообще ничего такого в этом доме не случилось, если не считать, что все перевернулось в голове младшего лейтенанта… Людмила была одна. Токалов вошел, представился, попросил разрешения сесть, и только было… А она ему и слова не дала вымолвить.
— Я все знаю, младший лейтенант, — сказала спокойно.
Токалов вгляделся и не поверил себе: дочь тетки Ариши отнюдь не была убита горем. А он-то каков? Дурацкие вопросы задавал Огареву, страдал над тем, как придет, как подготовит Людмилу, как скажет… И кончилось все чем? Сидит перед ним Людмила, и на лице ее странная, полуобнаженная улыбка, которую можно понять всяко. Токалов вновь вгляделся… Нехорошо, жутковато ему стало… Вот дрянь!
— Вы не пьяны, Людмила Николаевна?
«А может, мне кажется? — усомнился он. — Может, она в шоке? Это, наверно, я не в себе после выволочки, которую мне устроил Огарев. Пожалуй, так и есть».
Младший лейтенант очень хотел бы сейчас так думать. Проще бы ему тогда было, понятнее… Но Людмила Инжеватова тут же и разрушила его позицию.
— Нет, — ответила она, не переставая улыбаться. — В полдень ходили мы с мужем на базар, по дороге выпили по две кружки пива, только и всего.
Токалов после разговора с Огаревым знал, что нынче в полдень пришла к ней обеспокоенная квартирантка матери — Мария Андреева. Сказала, что Ариша не ночевала дома, а ночевать собиралась: даже постель заранее разобрала, чтобы не тратить на это время, когда вернется. Да и не было такого — чтоб не ночевала… «Мне-то что?» — ответила дочь Маше, своей подружке, и пошла пить пиво. Ну хорошо, думал Токалов, тогда могла и не придать значения Машиной тревоге, а теперь-то, теперь? И он спросил:
— Вы когда услышали, что убита мать?
На что ему было кратко отвечено:
— С час назад.
Токалов взглянул на свои электронные, прикинул, когда Огарев привез Машу на место происшествия, сопоставил — получалось, что Людмила действительно могла услышать о смерти матери с час назад. Телеграф заречной части поселка работал вовсю… Александр записал фамилию женщины, сообщившей ей об этом, чтобы потом проверить, когда она пришла к Людмиле и называла ли в разговоре конкретно тетку Аришу… Это все он делал чисто автоматически, а думал о другом. О том думал, что вот дочь узнала о гибели матери и не кинулась туда, к ерику. Мало ли что и как скажут? А вдруг ошибка? Сидит. Улыбается… Непостижимо!
— Простите, — не выдержал он. — А ваша ли мать убита?
— Моя, — Людмила Инжеватова, сидевшая за столом напротив, положила подбородок на сплетенные пальцы. — Это мою мать так страшно убили. — Она говорила совершенно спокойно. — Вы ожидали, что я стану кататься по полу, рвать на себе волосы, раздирать лицо? Этого не будет. Моя мать прожила на свете пятьдесят шесть лет. И прожила не лучшим образом. А я в двадцать пять уже не живу, я убита, меня нет.
При желании Токалов по следам, впечатанным в милое, но рано постаревшее лицо этой молодой женщины мог бы многое прочесть. Муж Людмилы, Петр Инжеватов, был почти в два раза старше ее и каждодневно пил… Когда Огарев сообщил об этом, младший лейтенант мысленно пожалел Людмилу, но сейчас не мог выжать из себя и капли сочувствия: его поразила эгоистичность этой женщины.
— Я убита, — повторила Инжеватова, — а кто убил меня? Мать. В семнадцать лет она выдала меня, несмышленую, замуж за Петра.
— Людмила Николаевна, — возразил младший лейтенант, — я хоть на четыре года и младше вас, но все-таки мы принадлежим к одному поколению… Попробовали бы меня родители женить насильно! В наше-то время!
— В наше время быть такого не должно, это вы заучили. А не должно, стало быть, и нет. А она меня выдала! А до этого она…
Не договорив, Людмила Инжеватова разрыдалась.
Токалов почувствовал себя явно не в своей тарелке. Понимал, что подобных вещей Инжеватова завтра уже не скажет никому, а они, возможно, будут важны для следствия и розыска. Возможно! Но необязательно… И обыкновенная человеческая деликатность погнала его отсюда, заставила отодвинуть стул, чтобы подняться и уйти. Ни ему и никому уж не распутать узелочек между дочерью и матерью, никто теперь не сможет дознаться, где здесь ложь и где здесь правда. Отодвинул Токалов стул, чтобы подняться и уйти… и, придвинув, сел снова. Деликатность — это хорошо, холодно подумал он, но тогда придется забыть, что убит человек. И если для розыска убийцы будет необходимо выяснить, где же ложь и где правда в отношениях дочери и матери, то ты, карась-идеалист несчастный, это и будешь выяснять. Деликатно, но досконально!
Отчитав себя так, Токалов обрел уверенность. Успокоившуюся Людмилу стал расспрашивать, чем занималась она в пятницу, в какое время вернулся ее муж и почему он, работая во вторую смену, ушел с территории завода (сведения Огарева опять пригодились младшему лейтенанту) примерно в то же время, как и Рудаева из дома. Инжеватова была неглупа, она понимала, что на мужа и на нее («Особенно после того, что я вам выболтала») падает подозрение, но это нисколько ее не тревожило, и Токалову даже показалось, что смерть матери принесла ей какое-то облегчение, возможно еще не осознанное ею самой. И лишь в одном месте разговора она встревожилась. Токалов спросил:
— А что вы, Людмила Николаевна, имели в виду, когда сказали, что мать «прожила не лучшим образом»?
— Только то, что сказала, — ответила она.
На ее лице по-прежнему была улыбка, которую Токалов, пожалуй бы, и понял, если бы не был одет в форму и не допрос вел, а просто пришел к этой даме нынешним вечерком на чаек. Да и то — при условии, что мать этой дамы жива-здорова, а не убита вчера ночью. Токалов верил и не верил себе — чертовщина какая-то…
— Вы эту улыбочку снимите, — строго сказал он.
Лицо ее полыхнуло жаром и окаменело. Она сказала:
— Моя мать по возрасту уже должна быть на пенсии. Но до пенсионного трудового стажа ей не хватало десять лет. Это ведь тоже, наверное, прожить не лучшим образом?
Вроде бы с Людмилой Инжеватовой после этих слов ничего и не произошло, а в то же время — произошло… Будто неожиданно пришла к ней какая-то мысль, принесла в себе смутную догадку, и догадка ошеломила ее. Сникла Людмила Инжеватова, обрыхлела мгновенно.
— А вы говорите, — произнесла она растерянно, — а вы говорите!
— Что это с вами? — забеспокоился Токалов. — Я, позвольте заметить, ничего не говорю.
— Сердце, — сдавленным голосом сказала она. — Сердце ударило… Отпустите меня, не мучайте!
Токалов поднялся.
«Сердце… — думал он, возвращаясь в отдел. — Сердце у тебя каменное, гражданка Инжеватова».
В кабинетике, похожем на пенал, Токалов долго сидел, думал, вздыхал… Настроение у него, прямо скажем, было отвратительное. И вроде бы ясно почему, а в то же время — ни черта не ясно, полный ералаш в голове. Если кто и испытывал к погибшей неприязненные чувства, накаленные почти до ненависти, если кто и был ее врагом, так это, выходит, родная дочь. Непостижимо… Даже после смерти матери — и какой смерти! — Людмила не может простить ей своих обид. А эта ее улыбка, ее откровенное желание бросить на мать хоть малую тень, ее мгновенная догадка, от которой она схватилась за сердце… О чем, спрашивается, догадалась и почему не пожелала сказать? И желает ли она, чтобы убийца был найден? Вот что странно, вот что подозрительно.
Однако все это надо теперь донести по начальству рапортом…
Он положил перед собой чистый лист, взял шариковую ручку и… опять застыл надолго. Оказывается, одно дело, когда ты сомневаешься и подозреваешь, совсем другое — когда пишешь об этом. Строка требует доказательности. А ее-то и не было у младшего лейтенанта Александра Токалова.
4
Месяца полтора до описываемых событий прежний начальник Трусовского райотдела милиции ушел на пенсию, а заменил его временно майор Громов. Все служебные бумаги Громов, человек честолюбивый, вынужден был пока подписывать с огорчительной для него приставкой «врио», но в райотделе уже поговаривали, что окончательное утверждение его в должности начальника и звание подполковника — не за горами. Александру Токалову по многим причинам не хотелось бы верить этому, но, увы, с ним пока еще не консультируются о должностных перемещениях… А потому, постучав и войдя в кабинет, младший лейтенант обратился к Громову по всей форме, как и полагается обращаться подчиненному к своему начальнику.
Оказывается, за время его отсутствия в райотделе появились важные новости.
— Младший лейтенант, — сказал Громов, — два часа тому назад приказом начальника областного управления создана оперативная группа по раскрытию убийства Рудаевой. В нее из нашего райотдела входят: я, капитан Емельянов, капитан Мухрыгин и ты. Из областного отдела уголовного розыска к нам прикомандирован старший лейтенант Сергунцов.
Сергунцов сидел тут же в кабинете. Рядом с ним — Мухрыгин, он что-то усердно писал. Не было только капитана Емельянова, который повез Машу Андрееву домой и, наверное, еще не вернулся в отдел.
— Давай сюда свою бумагу, Саша, — сказал Сергунцов.
По лицу майора Громова прошла легкая тень неудовольствия. Ему не понравился простецкий тон, взятый Сергунцовым. Вечно у них так, у сыщиков, никакого тебе чинопочитания… А еще сильнее Громов был задет тем, что координировать повседневную работу оперативной группы полковник Максимов назначил Сергунцова. А ведь координировать ее мог бы с успехом и он, Громов. Но — не доверили… Можно, конечно, утешить себя тем, что у начальника райотдела, пускай и временного, забот хватает и помимо раскрытия убийства Рудаевой, но… Невысокого же мнения руководство о его, Громова, способностях к практическому сыску! Правда, служба складывалась так, что с оперативно-розыскной работой ему вплотную сталкиваться не приходилось, но ведь он же хорошо знает людей отдела, может организовать их, потребовать исполнения… «А никто, собственно говоря, и не лишает меня такой возможности, даже обязанности, — неожиданно подумалось ему, — наоборот, именно сейчас я и смогу проявить себя как руководитель отдела, и когда еще проявлять себя, как не при раскрытии тяжкого преступления?» И только подумалось ему так, тут же ожгла опасливая мысль: «А если не раскроем?» И от этой мысли он поежился…
Возможно, Сергунцов почувствовал болевые точки майора, а возможно, у него это получилось случайно, но, обращаясь к Александру Токалову, сказал:
— Чтобы тебе, Саша, дислокация наших сил стала окончательно ясной, добавлю, что начальник областного управления милиции назначил руководить опергруппой своего заместителя полковника Максимова. Мой шеф, начальник областного уголовного розыска полковник Бежанов, тоже входит в оперативную группу. Цени доверие, юноша: с большими людьми будешь работать бок о бок.
«И мне неплохо, — подумал Громов, — с больших людей — больше спросу. А за их широкими спинами мы уж как-нибудь…»
Сергунцов завершил свою краткую речь словами:
— Теперь присядь, младший лейтенант, и замри. А мы почитаем твой рапорт.
Читали молча и поочередно. Токалов по лицам читающих хотел определить их отношение к написанному. Это ему не удалось, и он приуныл.
— Ну что же, — сказал Сергунцов, когда чтение было закончено всеми, — ты, оказывается, большой психолог. Но больно уж краток, прямо Чехов. Расскажи-ка с подробностями.
Токалов рассказал. А заканчивая, почувствовал: не смог он передать ни состояния Людмилы Инжеватовой, ни своего. Прямолинейно у него вышло, грубо. Получалось, что Людмила Инжеватова строила ему глазки, только и всего.
Однако к его сбивчивым впечатлениям все отнеслись серьезно. Молчали некоторое время, обдумывали, Затем шеф-наставник Токалова капитан Мухрыгин взял рапорт, сказал:
— Вот ты пишешь: «Психологическое состояние Людмилы Инжеватовой не соответствует тяжести потери». А ведь это можно истолковать и по-другому. Бывает и так: у человека горе — он смеется. Что совсем не значит, будто он смеется от души. Не срезался ли ты, младший лейтенант, на такой маленькой психологической тонкости?
— Я и сам бы хотел так думать, товарищ капитан, — ответил Токалов. — Да Людмила мне не позволила… Из-за этого-то я никак и не могу ее понять.
Когда шеф-наставник и его подчиненный оставались в своем кабинетике-пенале наедине, то они, конечно, разговаривали друг с другом не так официально. Но сейчас рядом был майор Громов, их непосредственный начальник. Это Сергунцову, начальство которого было далеко, вольно отступать от служебных строгостей в обращении друг с другом, но не им. Наедине с Мухрыгиным младший лейтенант изложил бы свое мнение несколько пространнее, а сейчас только и сказал:
— Товарищ капитан, я уверен: психологическое состояние Людмилы Инжеватовой не соответствовало тяжести потери не из-за шока, как вы предположили, а совсем по другой причине. Но причины этой я не знаю.
— Значит, надо знать, — сказал Сергунцов. — И знать мы станем больше, если завтра с утра ты займешься алиби супругов Инжеватовых. Мимо психологии проходить тоже не след, но алиби — это уже факт, который можно подшить к делу. Особенно меня интересует Петр Инжеватов, — продолжал Сергунцов. — Подробности о нем тебе, Саша, сообщит Мухрыгин.
— Подожди меня в кабинете, младший лейтенант, — сказал шеф-наставник. — Я подойду.
— И последнее, — закончил Сергунцов. — Завтра, в девять вечера, соберемся и подобьем первые итоги. Совещание будет вести Максимов. Упаси тебя бог опоздать, прийти в несвежей сорочке и невыбритым. Полковник этого не терпит. Никакие ссылки на то, что ты весь день бегал за алиби, не пройдут.
— Ясно, — Токалов поднялся и, повернувшись к Громову, оказал: — Разрешите идти, товарищ майор?
— Иди, и чтоб завтра — никаких психологий, а то Сергунцову нечего будет к делу подшивать…
Глава третья
1
Муж Людмилы, Петр Инжеватов, оказался человеком весьма коммуникабельным. В пятницу вечером он вышел из заводской проходной в тот же час, когда покинула дом тетка Ариша. Предстояло выяснить, не скрестились ли где в тот вечер их пути… Младший лейтенант выяснял это в воскресенье, а в воскресенье люди дома не сидят. Машину Громов младшему лейтенанту не дал, сказав, что сыщика, да еще такого молодого, кормят ноги и общественный транспорт. И пришлось Токалову много бегать, ездить, много писать, и лишь в девятом часу воскресного вечера он сунул в папку девятый по счету и последний протокол свидетельских показаний, удостоверявших полную непричастность супругов Инжеватовых к тому, в чем он еще вчера их подозревал. Теперь перехватить бы чего-нибудь в столовке, выпить кружку холодного пива, приободриться — и посмотреть, обмозговать… Стоп, осадил себя младший лейтенант, какое еще пиво? В девять начнется оперативное совещание, которое будет вести полковник Максимов. Не дай бог опоздать!
И чуть не опоздал! Вошел в кабинет в ту минуту, когда все уже расселись, но еще тихо переговаривались, приготовляли ручки и блокноты для заметок, устраивались поудобнее. Александр незаметно, как он думал, прошмыгнул в уголок, но все сразу же обратили на него внимание. Полковник Максимов, оторвавшись от бумаг, с явным удовольствием оглядел стройного, выглаженного младшего лейтенанта, сказал одобрительно:
— Так и впредь держи марку, Токалов. Распустехами мы преступника не поймаем…
Помолчал, вглядываясь в каждого. Затем продолжал:
— Начнем, товарищи, работать. По делу об убийстве Рудаевой выдвинуто несколько версий. Они основываются на данных, полученных при осмотре места происшествия и оперативным путем. Сейчас все эти данные мы проанализируем, чтобы исполнители каждой версии знали и обстоятельства дела, и общее направление розыска. Начнем с анализа вещественных доказательств. К сожалению, старший следователь областной прокуратуры Кирилл Иванович Зародов почувствовал себя плохо и не смог остаться на нашем совещании. Из оперативной группы в осмотре места происшествия, кроме меня, принимал непосредственное участие следователь райотдела капитан Емельянов. Он и введет вас в курс дела. Докладывайте, капитан.
Поднялся капитан Емельянов и начал докладывать. Кое-что из его доклада Александру Токалову уже было известно. В частности, дождавшись вчера вечером своего наставника Мухрыгина, он узнал от него, что в мешке с трупом обнаружен бумажный комок из незаполненных шоферских путевок и бухгалтерских платежных поручений. Но в том комке был и обрывок газеты. Следователь прокуратуры Зародов сумел быстро установить его принадлежность номеру «Пионерской правды» за 20 августа. Этот номер оказался под рукой убийцы в ночь на 22 сентября. Нынче утром младший лейтенант поинтересовался у Инжеватовых, какие газеты они выписывают? Оказалось, «Пионерку» выписывали. Не скрывая удивления, Людмила порылась в кипе старых газет, нашла требуемый номер, подала Токалову. Целехонький. Чистые бланки шоферских путевок и платежных поручений им совсем без надобности, поскольку она — швея, он — плотник. Эти и другие вещдоки по делу, о которых сейчас докладывал капитан Емельянов, не имели никакого отношения к супругам Инжеватовым, тем самым лишний раз подтверждая свидетельские показания об их алиби. «Так что же я вцепился в супругов? — уныло думал младший лейтенант. — Что меня тревожит? И почему? Сам же выяснил, что нет никаких объективных данных для моей тревоги и подозрений».
Сомнения Токалова стали еще сильнее, когда участники совещания перешли к обсуждению версии о причастности к преступлению начальника автоколонны Виктора Дроботова. Многое говорило против этого человека; версия была, пожалуй, наиболее вероятной из всех. Младший лейтенант с жадным вниманием слушал, кто и как будет отрабатывать ее и что необходимо предпринять для выяснения некоторых противоречий, а они были. Обсуждение завершил полковник Максимов, сказав:
— По отношению к Дроботову здесь проскальзывало словечко «скрылся». Что значит скрылся? Это не отпетый уголовник, которому после преступления ничего не стоит скрыться и тем самым косвенно подтвердить свою вину. У Виктора Дроботова здесь корни, семья, работа. И, думаю, не настолько он глуп, чтобы бросить все и податься в бега… Майор Громов!
— Слушаю, товарищ полковник.
— Не следует, майор, создавать мнимые трудности словечком «скрылся». В этом уголовном деле нам действительных трудностей хватит. Позаботьтесь, чтобы ваши люди нашли и доставили Виктора Дроботова в райотдел завтра же.
— Будет исполнено, товарищ полковник.
Затем обсудили еще две версии… Наконец очередь дошла и до Александра Токалова.
— Доложи, младший лейтенант, — сказал Максимов, — что ты нам принес под свой психологический рапорт.
Александр поднялся и доложил, что принес полное алиби супругов Инжеватовых. В частности, Петр Инжеватов вышел из проходной завода…
— Частности — в рабочем порядке старшему лейтенанту Сергунцову, — сказал полковник. — А нам сейчас важен факт: алиби установлено… Но, может быть, у тебя, младший лейтенант, остаются какие-то сомнения?
— В алиби сомнений нет, — ответил Токалов. — И вещдоками по делу мои первоначальные предположения не подтверждаются. И все-таки я прошу разрешения продолжить работу с Людмилой Инжеватовой. Товарищ полковник, я сильно сомневаюсь в ней. Человек с чистой совестью не может вести себя так, как вела она себя в беседе со мной.
— Мнение присутствующих?
— Не вижу оснований для такой просьбы, товарищ полковник, — сказал Громов. — Алиби установлено, вещдоки молчат, а уголовное дело мы возбудили отнюдь не по поводу нечистой совести Людмилы Инжеватовой. Мы начнем выяснять оттенки ее совести, затратим время, а в результате может случиться так — и в моей практике подобное случалось! — что выявим какой-нибудь психологический выверт очень несчастной в семейной жизни женщины, и ничего более. Повторяю: Людмила Инжеватова и ее муж имеют твердое алиби, что позволяет нам забыть о них и обратить внимание на оставшиеся версии. Они все-таки покоятся на фактах, а чистая или нечистая совесть — это, младший лейтенант, уже сфера морали…
— Не согласен с вами, товарищ майор, — поднялся старший лейтенант Сергунцов, — и поддерживаю просьбу Токалова. Я решил перепроверить его впечатления и встретился сегодня с Людмилой Инжеватовой… Не буду касаться высказываний этой дамы, в достаточной степени рисующих ее отношение к родной матери. Меня больше настораживает тревога, которую испытывает она. Токалов очень точно уловил, что тревога Людмилы вытекает из какой-то догадки. Но какой? И почему она не хочет поделиться ею? Что-то Инжеватовой явно мешает, возможно какая-то косвенная причастность к факту преступления. А раз мы вынуждены говорить «что-то», «какая-то», «возможно», — значит, есть неясности, и нам надо продолжать работу.
— Кто еще желает высказаться?
Желающих больше не было. Полковник Максимов чуть заметно усмехнулся.
— Тридцать часов, — сказал он, — прошло с момента, как был обнаружен труп Рудаевой. За это время мы сделали довольно много, но преступник пока еще не задержан нами. И пока он не задержан, никто не освободит нас от всестороннего изучения личности и всех связей погибшей. Между тем никто и не знает ее лучше родной дочери и Марии Андреевой, жившей со своей хозяйкой бок о бок почти полтора года. Из материалов дела видно, что обе эти молодые женщины поддерживают между собой дружеские отношения. Но вот какая странность… Мария Андреева, уважая хозяйку, отзываясь о ней очень тепло, многое недоговаривает из сострадания к памяти покойной. А родная дочь, наоборот, переговаривает! Позиции подружек, как видим, различны, и это надо будет тебе использовать, младший лейтенант.
— Слушаюсь, товарищ полковник, — отозвался Токалов, веселея.
— Рапорт твой весьма психологичен, — продолжал Максимов, — потому и работу тебе поручаю тонкую… Конечно, если завтра любая другая из принятых сейчас версий даст нам прямой выход на преступника, то необходимость в твоей работе отпадет. А пока нам без нее не обойтись. Капитан Мухрыгин!
— Слушаю, товарищ полковник.
— Помогите Токалову составить подробный план и покажите его мне. О прошлом и настоящем Рудаевой мы должны знать все, ибо в ее прошлом и настоящем, в близких и дальних связях, возможно, и зрела эта насильственная смерть. Видите, я опять употребил слово «возможно», что лишний раз подчеркивает правоту Сергунцова…
Максимов закрыл совещание и, оставшись наедине с майором Громовым, сказал:
— Василий Михайлович, в этом кабинете кроме Сергунцова и… меня, — здесь полковник чуть заметно усмехнулся, — присутствовали люди, подчиненные непосредственно тебе. В следующий раз, будь добр, дай сначала им высказаться, а потом уж произноси свое руководящее мнение. А то мне только с тобой и придется совещаться…
2
Следователь райотдела капитан Емельянов забежал после совещания к себе в кабинет. На минутку. Но в кабинет только заявись — сразу уйма мелких дел навалится… Он уже собирал бумаги со стола, чтобы положить их в сейф, как дверь открыл участковый инспектор Огарев.
— Геннадий Алексеевич, — сказал Огарев, — я Дроботова привел.
— Ну и чудесно, Николай Леонтьич, — рассеянно ответил капитан. — Ну и хоро… Что? Какого Дроботова?
— Начальника автоколонны. Который у наев бегах числится.
— Отлично, старый! А наш майор обещал полковнику разыскать Дроботова завтра.
— Перевыполняем обязательства, — скромно ответил Огарев, но скрыть довольной улыбки не мог.
— Надеюсь, Дроботов не успел побывать дома и переговорить с домашними? И про обыск он тоже не знает?
— Нет, — ответил Огарев. — Мы приказы приучены выполнять… Я прохаживался перед его домом. Дожидался. Мне его привезли. Пригласил.
Емельянов не стал выяснять, почему Огарев прохаживался и дожидался, почему и откуда ему должны были привезти Дроботова. Дело Огарева — найти, дело следователя — допросить…
— Зови его, Николай Леонтьевич, — сказал капитан. — Но не сразу, а минут через двадцать. Мне надо подумать, подготовиться.
— Велено передать, — сказал Огарев, — что парнишка наш, Санька Токалов, послан перепроверить показания жены и матери Виктора Дроботова.
— Появилась такая необходимость?
Огарев пожал плечами. Коротко добавил:
— Сергунцов и Мухрыгин допрашивают Семена Паузкина.
Капитан вспомнил, что́ говорилось на совещании о гражданине Паузкине. Он был заместителем Дроботова в автоколонне. В ночь, когда Рудаева была убита, выехал из дома в неизвестном направлении. Почти в одно и то же время с Дроботовым. Значит, и его разыскали… Неплохо, черт возьми, работаем, подумал Емельянов.
Ровно через двадцать минут Дроботов постучал, вошел, сел на предложенный стул, и после того, как Емельянов заполнил лицевые графы протокола, спросил, доброжелательно улыбаясь:
— Вы подозреваете меня в убийстве, товарищ капитан?
Виктор Сергеевич Дроботов был молод и симпатичен. Для начальника автоколонны, пожалуй, слишком молод. Правда, автоколонна невелика и должна вскоре потерять хозяйственную самостоятельность, влившись в крупное автотранспортное предприятие. Однако же — пока начальник… Рубашка с коротко завернутыми рукавами, потертые джинсы, румянец на открытом сероглазом лице с разлетными бровями, располагающая к себе улыбка… Но таилась в ней еле уловимая нагловатая прямота. Такому палец в рот не клади, подумал капитан, откусит.
— А разве у вас, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов, — есть основания для подобного лобового вопроса ко мне?
— Некоторые… Ну, скажем, ваш коллега… Фамилия у него еще такая поэтическая.
— Огарев.
— Да, Огарев. Я подошел к дому, а он даже калитку не позволил мне открыть, сразу повел сюда. Вел, словно арестанта.
«А зачем эта ложь? — спросил себя капитан. — Огарев знает его очень давно, а он, видите ли, совсем не знает Огарева».
— Мы проверим, насколько тактичны были действия участкового инспектора, — сказал Емельянов.
— Ни боже мой! — поспешно отозвался Дроботов. — Я совершенно не к тому. Вы ведь спрашивали об основаниях, побудивших меня задать вам прямолинейный вопрос. Я сослался на первое из них. А второе… Рудаева дружила с моей матерью, часто бывала у нас. И в пятницу вечером тоже должна была прийти. В ночь с пятницы на субботу ее убили, а меня чуть позже угораздило уехать из дома. Будь я на вашем месте, тоже заподозрил бы неладное.
— Откуда вы знаете, когда ее убили? Вы даже в дом сейчас не успели зайти.
— Не ловите меня на слове, — снисходительно проговорил Дроботов. — Я был в степи у знакомого чабана, а два часа тому назад туда явился шофер автоколонны Аркадий Синельников и рассказал, что тетку Аришу убили. Об этом в заречной части поселка теперь, поди, каждый знает. Я — к нему в машину, и домой, а меня уж Огарев дожидается. Как видите, все просто.
Емельянов записал фамилии шофера и чабана, сказал:
— Раз уж вы заподозрили неладное, то придется вам, Виктор Сергеевич, предъявить свое алиби на критическое время ночи с пятницы на субботу. Начнем с пятницы, и не с ночи, а с трех часов дня. Для полноты картины.
— В три часа дня мы сели обедать. Мать, жена, я, две мои пацанки. Рудаева тоже обедала с нами… Вы не удивлены?
— Не приучен по второму разу, Виктор Сергеевич.
— Поработали уже, значит. Тогда для вас, конечно, не новость, что я восьмой день в отпуске. Пообедали, мать сказала: «Ариша, приходи вечером, кино будет». Рудаева обещала. И, повторяю, не пришла. Я еще, помнится, спрашивал своих: была ли?
— То есть как это — спрашивал? — насторожился Емельянов. — Почему спрашивал?
— А почему бы мне и не спросить? — удивился Дроботов. — Почему бы мне и не поинтересоваться, что происходило на семейном корабле в отсутствие капитана? После обеда я ушел из дома и вернулся в половине одиннадцатого вечера.
Емельянов молчал, обдумывал услышанное, и Дроботову очень не понравилось, как он молчал.
— Слушайте, — забеспокоился он, — я что-нибудь не то ляпнул?
— Вы не ляпать сюда позваны, а давать показания. И в ваших же интересах — правдивые. Итак, после обеда вы ушли из дома. Куда, к кому?
— А первоначально ни к кому. И слава богу, что потом зашел кое к кому… Я, товарищ капитан, три дня назад купил ружье, решил пристрелять его перед охотой. Сделал мишень, взял десяток патронов и — в степь. Мишень так в степи и осталась, а где — покажу. Часу в восьмом вечера, возвращаясь, завернул к Семену Паузкину — узнать, как там дела в родимом коллективе. Вам доложить, кто такой Семен Паузкин? Не надо? Ага… То, се, сели ужинать. Распили бутылку «Столичной». Домой явился как раз к концу программы «Время», сводку погоды передавали. Милая такая, женщина стояла с указкой у карты. Меня жена постоянно к ней ревнует. Сводку дослушали и легли спать.
— Жена и мать допрошены, — сказал Емельянов. — Послушайте, Виктор Сергеевич, их показания.
Жена и мать утверждали, что глава семьи в пятницу ни днем, ни вечером из дому не отлучался, смотрел вместе с ними телефильм «Рассказ нищего», затем программу «Время», после чего, проводив Рудаеву, лег спать.
— «Рассказ нищего»! — растерянно воскликнул Дроботов. — Это вообще что такое? Это им зачем нужно? Зачем они наговаривают на меня?
Впрочем, он быстро взял себя в руки. И даже пошутил:
— Если моя родительница и наидражайшая супруга еще разок подкинут мне такой сюрпризец, то нищими мы станем — это уж точно… Но мне опровергнуть показания своих родственников довольно просто. Вызовите Паузкина, допросите, сделайте очную ставку.
— Почитываем, Виктор Сергеевич, детективную литературу?
— На досуге балуюсь.
— О Паузкине мы поговорим с вами чуть позже. Сейчас спрошу: он вас после ужина и выпивки провожал?
— Хозяин гостя уж обязательно проводит до калитки. Здесь покурили — и разошлись.
— По пути домой никого не встретили из знакомых?
Дроботов вспоминал, наморща лоб.
— А ведь встретил! — сказал он с живейшей радостью. — И недалеко от дома встретил! Записывайте: Тамбулова Арлекина Федоровна, пенсионерка. Я еще, помню, подумал: надо же, какое имечко старуха всю жизнь носит. Не имечко, а проклятье… Но не разговаривал с ней. Во-первых, не о чем, во-вторых, поздно, в-третьих, — Дроботов говорил, как гвозди забивал, — неудобно, все ж таки я под хмельком… Вот видите, товарищ капитан, как все просто разрешилось. Старуха поставит последнюю точку в моем алиби.
— Вы думаете? Легкий вы человек, Виктор Сергеевич, все у вас, гляжу, просто. А между тем все очень не просто, к сожалению. Итак, в пятницу, в три часа дня, Рудаева обедала у вас, за обедом была приглашена посмотреть телефильм и приглашение приняла. В восемь часов вечера она закрыла за собой калитку, сказав квартирантке, что идет к вам. Небезынтересна такая деталь: от ее до вашего дома пожилой женщине идти чуть больше двадцати минут. Не торопясь. А Рудаевой и не надо было торопиться, она довольно точно рассчитала время: фильм начинался в восемь сорок.
— Возможно, возможно… — Дроботов, улыбаясь, покуривал сигарету. — Но меня-то дома не было! Предположим, что она смотрела фильм. Далее в этом случае наши пути не перекрещиваются: к моему приходу она уже ушла.
— Ваши домашние утверждают обратное. Они говорят, что лично вы проводили Аришу до калитки.
— Слушайте, товарищ капитан, — со слабым, но уже первым беспокойством заговорил Дроботов, — вы начинаете меня как-то медленно и упорно обволакивать. Не нравится мне это!
— Нравится — не нравится… Довольно легкомысленная, Виктор Сергеевич, у вас терминология. Пользуясь ею, скажу, однако: дальше вам совсем не понравится. Кстати, и мне. Мы с вами выявили сейчас первую странность, несоответствие, несовпадение ваших показаний и показаний родственников. Как все-таки вы можете объяснить это?
— Я сам бы дорого дал за объяснение, товарищ капитан.
— Подобного рода загадки решаются иногда просто, — сказал Емельянов. — Возможно, так будет и в вашем случае. Не станем над этим ломать сейчас голову, двинемся дальше, к другой загадке. Вы явились домой под хмельком, прослушали сводку погоды в программе «Время», легли спать. В первом часу ночи проснулись и поехали в степь, к чабану… — Емельянов заглянул в черновые записи, которые на допросах он всегда вел перед составлением официального протокола, назвал фамилию чабана и продолжал: — Конечно, в гости никому не запрещено выехать и глубокой ночью…
— Я отпускник, — пожал плечами Дроботов. — Сплю, сколько захочется и когда захочется. Проснулся, чувствую — не усну больше, собрался и поехал.
— Домашних, собираясь, не разбудили?
— Жена у меня чуткая. Сказал ей, к кому еду, успокоилась. Чабан — ее дальний родственник.
— Вы сказали жене, она матери. Виктор Сергеевич, возникает вторая загадка: почему они из вашей, казалось бы, обычной поездки к дальнему родственнику сделали тайну? Вам зачитать соответствующее место протокола?
— Не надо. Но я и этого не могу объяснить, — в голосе Дроботова Емельянов уловил неуверенность.
— Можете, — нажал он. — Это — можете, Виктор Сергеевич.
Дроботов молчал.
— Значит, не хотите. Дело ваше. Я уже могу взять себе на заметку, что в обычной поездке есть нечто необычное, о чем гражданин Дроботов предпочитает умолчать. Это — вторая загадка… Как вы добирались до чабана?
— На собственном мотоцикле.
— Мотоцикл стоит на вашем дворе с неисправным зажиганием. Вы уехали на грузовой машине. Фамилия шофера? Номер машины? Что вы грузили на нее глубокой ночью, при потушенных фарах? В ваших интересах, Виктор Сергеевич, ответить на мои вопросы правдиво, а иначе мы будем с вами присутствовать при рождении уже третьей по счету загадки. Не много ли их?
— Уверяю вас, — спокойно сказал Дроботов, — они не имеют никакого отношения к убийству Рудаевой.
— Не надо меня уверять, — сказал Емельянов. — Сидючи за этим столом, я много слышал уверений. Лучше дайте толковое разъяснение всем подозрительным фактам, потому что, не получив его, я вынужден предположить связь между убийством Рудаевой и вашей поездкой.
— А как вы это сделаете, желал бы я знать?
— Давайте вместе порассуждаем, Виктор Сергеевич. Каждый волен выехать из дому, когда ему заблагорассудится. Вы вздумали и поехали в гости глубокой ночью. Ну что ж… И против этого нечего возразить, если бы Рудаева была сейчас жива. Но она мертва. А как вы уехали? Поспешно, чего-то опасаясь. Чего именно? Почему ваши родственники сделали из поездки тайну, а вы пошли на прямую ложь, решив подсунуть следствию мотоцикл вместо грузовой машины? Вы по-прежнему не желаете отвечать?
— Нет.
— В таком случае мы приходим к тому, с чего начали: ваш поспешный и, подчеркиваю, тайный отъезд из дома связан с тем, чтобы спрятать труп, орудия и другие вещественные доказательства преступления.
— Да что же это такое! — возмутился Дроботов. — Поверьте, я не убивал эту старуху, не прятал топор под пальто. Нашли Раскольникова… Смех! Конечно, я не икона, кое в чем грешен… Но убить человека! Не говорю уже о том, что никакого смысла не было мне убивать тетку Аришу.
— Так… Вот мы, Виктор Сергеевич, и подошли с вами к мотиву преступления. В связи с этим настала самая пора поговорить о Семене Паузкине, вашем заместителе.
— Мне заместитель по штату не положен, колонна маленькая, — ворчливо уточнил Дроботов. — Паузкин — заведующий гаражом. Заменяет меня лишь во время отпуска.
— Кто такой Паузкин, очень хорошо знают мои коллеги из ОБХСС. У них заведено на него уголовное дело.
— Даже так? — осевшим голосом спросил Дроботов. — Вот это новость…
— Арест Паузкина и обыск в доме по санкции прокурора запланированы на завтра, то есть на понедельник, — продолжал Емельянов, словно не замечая теперь уже явного беспокойства Дроботова. — Но убийство Рудаевой ускорило события. Выяснилось, что в ночь после убийства Паузкин, так же как и вы, выехал в неизвестном направлении. И так же поспешно, тайно, словно чего-то опасаясь, Сегодня с утра мы пошли с обыском к вам и к нему. У него в подвале дома и хозяйственных пристройках нашли: четырнадцать новых скатов для грузовых автомашин, десять автомобильных камер, два электромотора и шесть аккумуляторов в заводской упаковке, тракторный двигатель-пускач, множество мелких, но крайне дефицитных запасных деталей.
— Вот жук! — возмущенно произнес Дроботов. — Всю автоколонну перетащил к себе!
— Разделяю ваше возмущение, — холодно сказал Емельянов. — Он доил вашу маленькую автоколонну, как хорошую корову-рекордистку. И, видимо, не без вашей помощи.
— Я попросил бы! — вспыхнул Дроботов.
— Я же сказал — видимо, то есть полуутвердительно, — возразил Емельянов. — Мои коллеги из ОБХСС восстановят полную картину хищений в автоколонне, вам еще не раз придется держать ответ перед ними: там и доказывайте свою непричастность к деятельности Паузкина. Зато утвердительно я могу сейчас говорить о ваших тесных внеслужебных отношениях с ним.
Дроботов, опустив голову, молчал. И Емельянов, насколько он мог понять характер сидевшего перед ним человека, чувствовал, что надо долбить эту стенку не переставая, по нарастающей.
— Итак, мотив… Рудаева работала у вас вахтером, была близка вашей семье и, конечно же, она знала многое о порядках в автоколонне. Естественно предположить, что в последние дни перед смертью она узнала нечто такое, чего мы еще не знаем, а для вас с Паузкиным ее знание стало опасным. Вот и мотив, Виктор Сергеевич. Не скрою, предполагаемый. Но не беспочвенный. А вы что думаете на этот счет?
Мнение Дроботова капитан не надеялся услышать, да и не смог бы: зазвонил телефон внутренней связи. Емельянов снял трубку.
— Геннадий Алексеич, — сказал Мухрыгин. — Бдишь? И мы бдим, Сергунцов и я. Так вот… Паузкин в ту ночь уехал в низовье, на рыбацкие тони, менял запчасти на красную рыбу и икру, где его и взяли наши коллеги из Икрянинского райотдела. Много, стервец, наменял: шесть осетров и жбан черной икры килограммов на тридцать. Неплохой довесок получит к тому сроку, который возьмет по автоколонне. Ты меня слышишь?
— Да. Можно и потише.
— Ясно… Теперь — сведения по нашему делу. В восемь вечера, когда Рудаева пошла к Дроботовым на телевизор, твой подопечный сидел на квартире Паузкина и попивал с ним водочку. До половины одиннадцатого примерно. Затем ушел домой. Неплохо на алиби поработал, даже свидетельница у него есть. Знал бы ты, как зовут эту даму, растрогался!
— Знаю.
— Мы тоже только и знаем, что на тебя работаем, хотя полковник всех нас отпустил на кратковременный заслуженный отдых… Я к тому, что новые показания домочадцев Дроботова у меня на руках. В прошлый раз они сказали на допросе неправду. По-человечески понять их можно: испугались, думали, для главы семейства будет лучше, если он окажется дома, на глазах. Так сказать, ложь во спасение. Лишь один пункт в их показаниях остается темным: теперь они утверждают, что вечером Рудаева к ним не приходила, хотя и обещала. Но в этом у меня большие сомнения.
— Спасибо, Владим Георгич, — поблагодарил Емельянов и положил трубку. Помолчал, собираясь с мыслями. Сказал:
— Продолжим, Виктор Сергеевич. Могу напомнить, о чем у вас был застольный разговор с Паузкиным. Вы обсуждали его поездку за красной рыбой и икрой. Не за хорошие глаза и не за свою открытую улыбку вы надеялись получить дорогой товар.
— Да, мы говорили об этом, — признал Дроботов. Он умел быстро брать себя в руки, а телефонный звонок все-таки разрядил напряжение. — Мы говорили об этом, но не о том, как нам проще и легче отправить на тот свет тетку Аришу. Я вам больше скажу, только прошу не заносить это в протокол: да, я кое-что скрываю. Открываться перед вами мне нет никакой охоты. Давайте говорить только по делу, по которому меня вызвали.
— Очередь-то ваша, — напомнил Емельянов.
Дроботов на несколько мгновений задумался. Затем начал:
— Не скрою, вы тонко подметили кое-какие несовпадения, странности, неувязки и даже противоречия. Но где тонко, там и рвется. Простейший пример: вы, скажем, задокументировали, что Рудаева пошла не к кому-нибудь, а ко мне смотреть телефильм в тот вечер. Ну и что? Могла передумать, зайти к другим своим знакомым, их у нее немало. Кстати, так было не раз: обещает прийти — и не придет. Есть у вас показания человека, который видел, как тетка Ариша после восьми вечера открывала калитку моего дома? Если есть — предъявите, с удовольствием почитаю.
«А неглуп, — подумал Емельянов, — весьма неглуп».
— Некоторые противоречия, — продолжал Дроботов, — я объяснить в самом деле не в силах, товарищ капитан. Вот вернусь домой и возьмусь за своих. Я покажу им «Рассказ нищего»! Впредь представителям закона они будут отвечать правду, ничего, кроме правды… А некоторые противоречия я мог бы снять и сам, но не желаю. Уже говорил — не святой, делишки, мелкие, есть за мной. А кто не грешен? Вы?
— Я, — просто ответил Емельянов. — Не грешен вот, знаете ли.
— Верю. Вы улыбаетесь? А я верю! Но сам-то я — другой человек. Люблю жить сладко. К тому же у меня — мать, жена, двое пацанок, сам-пят. Надо вертеться… Но я верчусь в большом отдалении от уголовного закона.
— А от совести?
— С совестью — сложнее, Геннадий Алексеевич, — Дроботов впервые назвал его по имени-отчеству, хотя Емельянов представился ему, еще только приступая к допросу. — Но совесть
такая штука нежная! Не каждому ее вынешь на погляд.
— Убит человек, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов. — И поэтому вынуть вам ее придется, нежную свою совесть.
— Все! — сказал Дроботов. — Я устал. Давайте мне свидетеля, улику или как это там у вас называется… Но чтобы все прямо указывало на мое участие в преступлении. Тогда я подниму руки кверху, скажу: да, я убил Рудаеву.
— Ну что ж… Напористо. Логично. Временами даже доказательно, — говорил Емельянов, вынимая из конверта несколько чистых шоферских путевок. Показал Дроботову. Сказал: — Найдены при обыске в вашем доме, Виктор Сергеевич.
— Взять несколько путевок с работы — конечно, ба-а-льшой криминал, — криво усмехнулся Дроботов.
— А все-таки нехорошо, — спокойно сказал Емельянов. — Но хуже, и намного, когда такие же шоферские путевки находят в мешке с трупом. Вот протокол обыска и осмотра места происшествия. А вот еще один конвертик. С ним я буду обращаться осторожно. Эти путевки размокли, они в иле, слизи и крови. В крови Ирины Николаевны Рудаевой.
— Ну и что? Те путевки, которые нашли у меня, — чистые. Как вы докажете, что они имеют отношение к тем, что найдены в мешке с трупом?
— Существует понятие — идентичность. Сорт бумаги, шрифт, типографская краска… Все это завтра начнут исследовать эксперты.
— Пусть исследуют, — спокойно сказал Дроботов. — Мои путевки и те — случайное совпадение.
— Возможно. Но налицо целая цепь случайных совпадений: Рудаева пошла к вам, после ее гибели вы спешно выехали из дому, многие противоречия не можете объяснить. А это — тоже совпадение?
Он снял с края стола газетный лист, открыв кусок цветастой фланели. Пояснил:
— В халате из такой фланели Рудаева в последний раз вышла из дома. Да вы, наверное, узнаёте этот материал… Остатки халата, вынутые из мешка, сушатся сейчас в комнате вещественных доказательств перед отправкой на экспертизу. Предлагаю пойти и взглянуть.
— Зачем? — спросил Дроботов. Румянец на его лице выцветал, оставляя после себя серые, словно лишаем побитые, пятна.
— Затем, чтобы до экспертизы вы могли убедиться, что обрывок, предъявленный вам, и те, что сушатся в комнате, совсем недавно, в пятницу, до восьми часов вечера, составляли единое целое с халатом Рудаевой.
Дроботов не мог отвести взгляда от лоскута на столе. Он уже догадывался, что́ сейчас скажет следователь, и не хотел верить, и, надеясь на чудо, с мольбой глянул на Емельянова.
— Найден на вашем подворье, Виктор Сергеевич, — сказал Емельянов. — И на нем, как видите, тоже кровь.
— Этот? — ошеломленно переспросил Дроботов. — Этот? У меня на подворье?
— Да, этот, — подтвердил Емельянов. — Протокол обыска лежит перед вами… Вы — знаток детективного жанра, посоветуйте, как мне поступить? Хотя что же… Насчет рук, помнится, вы ведь весьма недвусмысленно выразились?
— Нет! — выдохнул Дроботов. — Нет, товарищ капитан! Верьте мне: не убивал! Да вы спросите свою совесть: способен ли я убить? И зачем?
— Ах вот как! — с гневом сказал Емельянов. — Законы жанра, значит, побоку, теперь мы снова заговорили о совести. Но все почему-то о моей! А ваша нежная, ваша удобная, опять осталась в стороне. Свою я попытаю, и она не позволит мне уйти от решения, где вам быть после допроса, — дома или в камере. Но ведь я и вашу спрашивал о том же. А вы извивались, как уж, в поганенькую философию ускользали с наглой улыбочкой. Не за что мне уцепиться в вашей совести, Виктор Сергеевич.
— Тогда я погиб, товарищ капитан, — сказал Дроботов. — Но почему? Что за наваждение? Откуда этот обрывок? И почему мать и Нина сказали, что я был дома, когда меня дома не было? По глупости или… Это что такое? Не знаю, что и думать… У меня все рушится, товарищ капитан!
— Без крайностей, Виктор Сергеевич. Ни мать, ни жена не убивали Рудаеву. Сейчас вы мне дадите подписку о невыезде. Вам объяснить смысл этой меры пресечения?
— Не надо, — растерянно откликнулся Дроботов. — Понимаю.
Но Емельянов, подготовив постановление, официальным тоном предупредил его о последствиях за нарушение подписки. Дроботов выслушал, расписался.
— Знаете, Геннадий Алексеевич, — произнес он тихо, — хоть вы и вывернули меня наизнанку, но я зауважал вас.
— А я, — тоже тихо ответил Емельянов, — не уважаю вас, Виктор Сергеевич.
3
Михаил Бурлин проходил в это время мимо райотдела милиции. Он нес на плече подвесной мотор, опять ему не понадобившийся: тот же баркас, возвращаясь, взял его лодку на буксир. Три часа на закатно вечереющей реке, на лодке, без шума и треска мотора, были чудесны… Но Михаил уже насытился одиночеством и торопил время. Он волновался, потому что договорился с лесником о переезде на кордон, а не знал, как отнесется к этому жена. Без совета с ней он не принимал и менее важных решений, а нынешнее — рубило жизнь надвое.
Жена ни словом не обмолвилась о том, что в поселке было у всех на языке со вчерашнего дня. В его отсутствие она побелила печь, покрасила полы в доме; спать решили во дворе под пологом. Сынишке постелили рядом. Он прибежал с улицы, поел и свалился, сморенный. Уже засыпая, сказал:
— Папк, а у нас был пожар. Печка загорелась.
— Вечно, брат, у вас с мамкой без меня что-нибудь случается, — ласково сказал Михаил. — То керосинка вспыхнет, а теперь — печка. А с чего это она загорелась, со зла, что ли?
Сын не слышал, он спал, почмокивая губами. Услышала Таня, сказала:
— Чистить ее надо, Миша. Решила протопить, а сажа и займись.
Он разделся и лег, а она еще долго управлялась по хозяйству, мелькала в полутьме двора, топоча босыми ногами. За этот тяжелый и быстрый топоток он когда-то прозвал ее Топ Топычем, и она, не шутя, обижалась. Она хотела, чтобы походка ее была легкой, как у старинных красавиц, которых она видела в кинофильмах и о которых читала в книгах. Не было ему дороже походки Татьяны, особенно ее тяжелого осторожного шага, когда она была беременна Колькой. И сейчас, слыша сонное посапывание сынишки, топоток жены, он вдруг ощутил такую нежность, такое страстно-нетерпеливое желание, что стиснул зубы, чтобы не позвать ее. После сирого голодного отрочества, после скитаний по стране с неугомонными тетками, все искавшими свою судьбу, Михаил попал в Астрахань. Было ему тогда семнадцать… Через полтора года тетки завербовались на остров Шикотан. И Михаил тоже собрался с ними, ибо что ему было терять? Он подал заявление об уходе с завода, на котором только-только получил разряд слесаря, забрал документы из вечерней школы и назавтра должен был пойти в предварительную кассу за билетами, но купил билеты только для теток, потому что днем раньше познакомился с Таней. Про Михаила позже говорили, что он под каблуком у жены, а это было совсем другое. Мало надо тепла, чтобы согреть одиноких, но нет крепче и смертней привязанности их…
Судьба словно решила испытать его на прочность. Шесть лет тому назад открыл калитку участковый Огарев и предъявил Михаилу ордер на арест… Жены дома не было, ошеломленный Михаил стал собираться, ничего не понимая, тупо тычась туда и сюда, пока Огарев не сообразил и не сказал жалостливо: «Не ты мне нужен, друг, жена твоя. Читай бумагу-то, читай хорошенько». Михаил снова ухватил глазами прыгавшие строчки, набрел на полное имя Тани… Лишь на суде он узнал, что Таня, работая инспектором кадров на заводе, подделывала справки о трудовом стаже. Мошенничала она мелко и робко, взятки брала такие же; может быть, поэтому дали ей всего три года тюрьмы. После суда им позволили свидание. Татьяна плакала, клялась, умоляла дождаться ее, сберечь Кольку, но ничего не ответила, когда Михаил спросил, почему она сделала это. Ему советовали бросить ее, намекали на ее измены, и намекали тем настырнее, что он слыл человеком мягким, податливым, не от мира сего. Из лучших чувств советовали… Михаил разогнал советчиков и советчиц, никого не подпустив к своему горю. Он ждал ее.
Татьяна возвратилась домой со своим знанием, ненавистным и злобным, усвоенным ею так прочно и непреложно, что Михаилу порой казалось: это не Таня пришла, а другой человек.
Поначалу все было приглушено радостью встречи, но как только жизнь вошла в обычную колею, началось новое узнавание друг друга, и оно было мучительным. Спустя месяц, когда Михаил осторожно завел разговор о ее планах, жена резко сказала, что работать не пойдет, а если он станет гнать на работу, она примется там за старое. И эта ее нераскаянность ошеломила. Он растерянно сказал, что старое может кончиться новой тюрьмой и, увидев ее перекосившееся лицо, пожалел о сказанном: ведь давал же себе зарок ни словом, ни намеком не напоминать ей о прошлом — и сорвался. «Я была дура! — крикнула она. — Дура, набитая дура! Уж теперь бы я, миленький, не попалась, уж теперь меня на мякине не провести». И еще она кричала, что он слепой, что не видит, как ловчат люди, и что только такие праведники, как он, живут на одну зарплату.
— Вот и ты ловчила, — тихо сказал он. — Для чего, Таня? Я не помню, чтобы твои взятки нас обогатили. Они погубили нас, Таня.
Она как вспыхнула, так и погасла, — мгновенно. Заплакала неуступчиво… И после Михаил не раз возвращался к этому разговору, но он всегда кончался тем же. Однажды она схватила его за руку, подвела к калитке перед домом. «Садись, — сказала зло, — садись и разуй глаза, может, что и увидишь». И сама села рядом.
Сидели, молчали… Был конец рабочего дня, люди возвращались домой. Прошли два бондаря. Нисколько не сторожась, несли они по бочоночьему донью: о клепке, видать, позаботились раньше… Сосед слева работал на мебельной фирме, у него в доме была хорошо оборудованная мастерская, и он тоже кое-что принес… Кое-что привез себе и шофер, живущий напротив. Поздоровалась, проходя мимо, знакомая заведующая столовой, молодая женщина лет двадцати восьми. Смущенно поздоровалась: сгибалась она под двумя хозяйственными сумками, в которых, конечно же, были не камни. Еще посидели, еще посмотрели. Да-да… Ловчили люди.
— Вижу, вижу… — сказал Михаил, стараясь скрыть смущение. — Не терпится тебе, спрашивай. Вон как глаза-то разгорелись.
— И спрошу. Кто эти люди?
— Жулики, Таня. Мелкие подколодные жулики.
— А их не судят. Ты не видишь, а я вижу: годами так ходят!
— Таня, — он закипал, но еще сдерживал себя, — они — доходятся, а ты — уже… Себя, меня и сына нашего ты вываляла в грязи — и когда еще отмоемся? А ты вроде бы уже по новой настраиваешься, вроде бы благословения у меня испрашиваешь. Не позволю. Как вспомню про деньги твои взяточные — жизнь не мила, Таня. Я второй раз через этот стыд не перейду.
Она прижималась к нему, клала руку на плечо, шептала:
— Что ты за мои грехи казнишься, дурачок? Даже сын за отца не ответчик. Гляди людям в глаза прямо. Не такие уж они ангелы. Вон, еще один работничек попер домой ношу…
Тогда он развернулся и коротко ударил ее по лицу. Она не закрылась руками, глядела прямо перед собой, плакала.
— Запомни, — шептал он бессильно и отчаянно, — запомни, Таня. Нет у меня отца, нет матери, есть ты, и ближе тебя — только сын. Начнешь по новой — погубишь нас.
Она молча плакала, и ему жалко стало ее, будто по сердцу резанули…
— Прости, пожалуйста, — он придвинулся ближе, обнял, — сам не знаю как вышло. Такая злоба взяла: толковал, толковал…
— Да откуда ты взял, — она, плача, улыбалась, — что я воровать побегу? Хватит, наворовалась! Дай мне осмотреться — и на работу поступлю. Что уж ты, Миша, какой стал суровый. Пойдем, а то люди скажут: то ли дерутся, то ли милуются…
Он верил ей и не верил… Духовная власть ее над ним кончилась, она понимала это, но оставалась власть тела. В грубых ее ласках грубел и он, и, лежа рядом, обессиленный, он никак не мог освободиться от мысли, что только что изменил Тане с чужой и грязной женщиной. Мучительны были их ночи, ими она выторговывала право на свою новую жизнь и новое понимание ее, а он уступал и уступал, еще на что-то надеясь. И донадеялся! Через год пришел к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, присел стеснительно к столу (Бурлины ужинали), попросил отослать на время мальчонку. Кольке того и надо было, дунул на улицу, а Петр Федорович начал рассказывать. Его младшая восемнадцатилетняя дочь, говорил он, работает в промтоварном киоске, что на базаре, и у нее нынче украли початую штуку шерстянки с лавсаном, ни много ни мало, а метров под двадцать будет. В милицию он дочку не пустит, роток девке заткнет, хулы и огласки ни на кого не положит, но ты, Михаил Алексеич, повлияй на жену: пусть вернет украденное. И, не дав слова вымолвить Михаилу, сказал:
— Голубиная у тебя душа, Миша, потому и пришел. А так что же… Ее, — он кивнул в сторону Татьяны, как на пустое место, — на базаре все знают. Скупает, перепродает, а при случае и приворовывает. То перчатки, то шарф, то еще что по мелочи стянет с прилавка, а у моей раззявы вон как — чуть не весь киоск уперла.
Татьяна молча встала из-за стола и пошла по выложенной кирпичом дорожке в глубь двора. Они слышали, как звякнула щеколда калитки, ведущей на соседнее подворье.
— Миша, а куда это она пошла? — спросил Касаткин.
— Не знаю, Федорыч, — ответил Михаил, не подымая на Касаткина глаз.
— А знать надобно бы, Миша, — сказал с укором Касаткин. — Пошла она к соседке Акулине Коротковой. С этой беспардонной старухой и шурует твоя Татьяна на базарах. Что ж ты так-то, а?
— Не следить же мне за ней, Федорыч. Да и как уследишь… Я целыми днями на работе.
— А ты вот что, Миша… Ты это… поучи ее, а? Глядишь — и опамятовалась бы. Первое средство, лучше и не надо.
Касаткин помолчал, вздохнул:
— Жизнь перевернулась, язви ее… По своим девкам сужу. Попробуй-ка поучи их битьем: подумать страшно. А ведь отец…
Вернулась Таня, принесла плоское бревнышко материала, завернутое в грубую бумагу. Не зная, что делать с ним, куда приткнуть, она стояла и нелепо держала его в руках… Унизительные мгновения текли, текли, и не было им конца; Татьяна попыталась что-то сказать, в горле ее булькнуло, выкатилось оттуда искаженное, непонятное слово, и Михаил злобно глянул на Касаткина: да возьми же ты, пень старый!
— Пойду я, — поднялся Касаткин.
Таня по-прежнему стояла у стола, безвольно опустив руки. А он ждал минуты, чтобы яростно, с наслаждением бросить ей в лицо свои каменные слова, — невысказанные, они, казалось, разорвут его на части; и вот Касаткин ушел, Таня покорно ждала его суда, и эта покорность сразила Михаила, злоба и отчаяние, терзавшие его, схлынули, и он с холодным презрением к себе подумал, что чуть не выместил свое унижение на раздавленной страхом жене. Уже стемнело, и Михаил даже не глазами, а тем пронзительным оком души, которое дано только любящим, видел, как постарела она, как огрубели черты. Он поднялся из-за стола, подошел к Тане и обнял ее. Она, дрожа и всхлипывая, прижалась к нему.
С того случая жизнь их вошла в тихие берега. Татьяна устроилась на работу — уборщицей в заводскую контору. Пришел день, когда их пригласили в гости, и день, когда они сами принимали гостей. Потом Кольку собирали в первый класс, ходили на свое первое родительское собрание… Все обыденные и необыденные вехи семейной жизни были для Михаила полны особого значения, ибо еще раз убеждали: прошлое забыто. Лишь временами ему казалось… И Михаил заспешил. Он намеренно не поберег жену, она забеременела. Он думал, что рождение второго ребенка навсегда отсечет те щупальца, которые еще тянутся к ней из прошлого. Татьяна нашла врача и сделала аборт. Он вернулся вечером с работы, увидел ее, лежащую с бледным ненавидящим лицом, с запекшимися, искусанными губами, и понял, что вся их жизнь после тюрьмы была зыбкая, неустойчивая. Надежды его — в который уже раз! — обвально рухнули. Он выбрался из обломков без сил, с отупевшей душой, и опять прошло какое-то время, чтобы он мог помыслить о будущем. На то время и пала его первая встреча с лесником. Он чувствовал, что в словах лесника была беспощадная народная мудрость, но что оставалось ему? Ничего, ничего…
К его удивлению, Таня сразу же согласилась на отъезд. И не только согласилась, а даже попрекать начала: почему не сказал раньше, почему потратил два дня на рыбалку, а не съездил в лесничество, не договорился твердо о работе? Вдруг не примут, вдруг уже кто-то нашелся на место старика? Она испуганно прижалась к нему и зашептала с мольбой:
— Уедем, Миша. Виновата перед тобой — отмолю, заслужу, раба твоя буду. Только увези отсюда.
— Татьяна, — сказал он с шутливой строгостью, — про какую рабу говоришь? Ты ничего опять не натворила?
Слова эти выговорились, но не задели его сознания и тут же были забыты. Не придала им значения, будто не слышала, и жена. Она стала высчитывать, когда ему выпадет очередной отгул, чтобы съездить в лесничество. Прикидывали так и сяк — и выходило: не раньше второй половины октября.
— Долго, Миша, — сказала она. — Еще и раздумаю.
Это было существенно. Раздумать она могла. Он сказал решительно:
— Рвать так рвать. Завтра подам заявление. Оно и лучше — при тепле перевеземся. Давно бы нам надо было это сделать. Парень наш растет, свой умишко заимел, уже приглядывается к папке с мамкой, и скоро будем мы у него, жена моя, как на ладони. Детский суд жесток и неправеден, а если еще и длинные языки найдутся…
— Нашлись уже, Миша…
Он и сам знал, что нашлись, был у него однажды разговор с сыном, прибежавшим домой в синяках. Но не хотел он сейчас говорить об этом Тане, скажешь слово, оно потянет за собой другое, вылезет прошлое, а им надо думать о будущем.
— Миша, — сказала она, — почему ты меня не бросил? Тогда, после тюрьмы…
— Спроси что-нибудь полегче. Сколько лет-то прошло?
— Миш, и не бросишь?
— Нет, — сказал он бестрепетно. — Нет.
Глава четвертая
1
Утром в понедельник, тяжелый день, Михаил Бурлин положил на стол начальника цеха заявление об уходе с работы. Тот прочитал, глянул на Михаила, снова прочитал…
— На, — сказал он, протянув ему листок. — Я этого не видел, ты этого не писал, тезка.
— Не шутки шучу, Михаил Алексеевич. Уезжаю совсем из поселка. Очень прошу, отпустите без отработки. Мне время дорого.
Начальник цеха смотрел на Михаила усталыми глазами, а потом кое-что, видать, вспомнил, кое-что начал понимать: он жил на соседней улице. Однако… За здорово живешь выпустить из рук такого мастера? Н-нет…
— Чего вы теперь-то заегозились? — ворчливо спросил он — Все прошло, пролетело. Люди уж и думать забыли.
— Сын растет, — коротко ответил Михаил, безошибочно выбрав довод, который будет понятен. — Сын растет, а улица ничего не забывает.
— Да, — задумчиво повторил начальник цеха, сдаваясь. Но тут он опять кое-что вспомнил и сказал с надрывом: — Без ножа режешь, Миша. До конца квартала неделя осталась, план трещит… И думать, брат, не моги, чтоб без отработки.
— Имею на то моральное право. Мой план, Михаил Алексеевич, не трещит.
— Не твой трещит, а цеховой, несознательный ты элемент! В оставшуюся неделю дал бы ты мне еще пять процентов, а? Подналяг на своих, возьми голосом, чертом, чем хочешь, а дай.
— Три с половиной, Михаил Алексеич, и не больше. Остальные полтора процента возьмете в других сменах. Вам не в первый раз.
— Миша!
— Вот расчеты, Михаил Алексеич. Смогу дать продукции еще на три с половиной процента — и не больше.
С тем и расстались. Михаил поднялся в свой закуток — конторку, огладил взглядом оцинкованный, матово поблескивающий стол, заваленный чертежами, потом сквозь стеклянную стенку вниз, где солдатами в строю стояли станки. В их ровном мощном гуле, в неторопливых движениях людей, в воздухе, напоенном запахами масла, окалины, свежеструганого металла, — в воздухе, которым он дышал двенадцать лет! — было такое, отчего Михаил дернулся, сделал шаг к двери и лишь тогда понял, что идет взять свое заявление назад. «Еще раздумаю, Миша», — вспомнились ему слова жены. Как бы ему самому-то не раздумать, черт!.. Но по металлической лесенке уже поднимался к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, чем-то очень рассерженный.
— ИК-62 гробанулся, Алексеич, — сказал он.
Михаил вспомнил о трех с половиной процентах, обещанных начальнику цеха. Сломавшийся станок пробил в них теперь хоть и небольшую, но ощутимую брешь. Чем ее затыкать? Да станком же… Следовало вывернуться, исхитриться, вылезти из шкурочки, а запрячь «Костю» к завтрашнему дню. Оба понимали, что отремонтируют его наживушку, станок протянет неделю и замолчит, — и оба стали набрасывать план действий, чтобы выиграть эту горячую, дорогую неделю.
Когда закончили, Касаткин сказал:
— Через два месяца, Алексеич, ухожу. Шестьдесят стукнет.
— Поздравляю, Петр Федорович. И жаль. Руки у тебя золотые.
— Успеешь еще поздравить, — сказал Касаткин, поднимаясь. — Нашел с чем поздравлять — со старостью. Хоть два месяца, а мои. Торопиться не к чему.
— Так ты же сам напросился на поздравление, — рассмеялся Михаил. — Я сам ухожу, Федорыч. Заявление сегодня подал. Совсем уезжаем отсюда.
— А надо ли? — Касаткин сел. — Надо ли, Миша? Вроде у вас наладилось, вроде не слышно про Татьяну ничего. — Касаткин смущенно отвел глаза. — Извиняй, коли напомнил.
Касаткин действительно никогда ни словом, ни намеком не возвращался к тому вечеру… Михаил был благодарен ему, но постоянно при встречах чувствовал гложущее неудобство от постыдной тайны, хранимой обоими. Будто Касаткин открыл ему глаза на что-то, чего он сам не знал в себе.
— Этого-то не было, — сказал Михаил и тут же ощутил, как зажглось лицо, потому что было, было это… Ловил он и позже жену на мелочах: то французские духи в кошелке обнаружит, то наткнется в шкафу на джинсы с заграничными заклепками на заду… — Нет, не было этого, — повторил он с чувством унижения от необходимости врать и не понимая, откуда такая необходимость и почему не сказать Касаткину правду, а сказать ее язык не поворачивается… Уже второй человек, думал он, считает, что у нас с Таней жизнь наладилась.
И чтобы закончить тягостный для себя разговор, Михаил добавил:
— Сам посуди, Федорыч, сын у нас подрастает, об нем думать надо. — И мысленно повинился перед сыном, второй раз он прикрылся сегодня его именем, как щитом.
«Уезжать, быстрее уезжать, — думал он в обеденный перерыв, вяло дожевывая еду, взятую из дома. — Изоврался весь, под корень. Еще не вор, не спекулянт, но уже укрыватель. Вот почему меня жмет, когда вижу Касаткина.
Он сидел, привалившись спиной к штабелю еловых плах. Теплое солнце, чуть привядший запах развороченной древесной плоти нагоняли дрему; на заводском дворе, тут и там, расположились рабочие.
Он, занятый своими мыслями, не прислушивался к разговорам, но вот одно слово поразило его, второе…
— Мужики, — спросил он, — о чем это вы?
— Хо! — быстренько откликнулся Иван Бурцев. — Ты что, Михаил Алексеич, ничего не знаешь?
Бурцев начал рассказывать, но рассказывал, отметил Михаил, как-то уж слишком заинтересованно, лихорадочно, что ли… Иван выдал подробности, настолько жестокие и невероятные, что воображению уже нечего было делать, оно молчало. Женщину Михаил не знал, но по возрасту она могла быть ему матерью, и он, рано осиротевший, вздрогнул, представив, что вот так могли бы убить и его мать…
— Сволочи! — сказал он горько. — Ну, сволочи! Найти бы и перестрелять как собак!
— А меня в милиции об Инжеватове расспрашивали…
— Это кто такой?
— Да наш, плотник… Зять убитой… Я им говорю: вы, товарищи, не белены ль объелись? Этому мужику не то что тещу убить, его всякая сырная муха обидит. Еле отгородил. А уж было взять намылились… Работнички, мать их за ногу!
— Зато ты у нас работничек. Станок запорол!
— Алексеич! Ну что теперь? Так и будешь всю жизнь казнить?
Перерыв кончился, и, без разгона взяв предобеденную скорость, завертелись маховики тяжелого дня понедельника. Как татарская рать, снова поперла на Михаила всякая мелочь, рожденная далеко еще не идеальной связью человека и машины. В довершение ко всему пришел начальник цеха, добрейший тезка Михаил Алексеевич. Пришел он из заводоуправления и потому был суров, тряс Михаила как грушу, въедливо проверял его расчеты, жал и выжал не три с половиной, как почти условились утром, а четыре процента. И это — до чего же цепкий мужик! — при вышедшем из строя станке. На сообщение о станке начальник цеха лишь поморгал запаренными глазами, обронил: «Меня это покуда не касается», — и пошел себе дальше, несокрушимо уверенный, что слово человека и сила приказа понадежнее самых выверенных расчетов. И они, выверенные, были сунуты Михаилом в ящик стола за ненадобностью. Кляня в душе этого старого производственного зубра, который из всех видов трудового героизма признавал и понимал только героизм лихорадочный, Михаил торопливо сбежал по лесенке в цех. Опять не удалось ему оградить свою смену от штурмовщины, опять смена закончит квартал с большим перевыполнением, но с такими потерями, которые ей не раз аукнутся. «Погоди, тезка, погоди, штурмовик несчастный, — мстительно приговаривал Михаил. — Загну тебе салазки на первом же собрании». Как будто раньше на собраниях он не загибал ему салазок… И как будто это, новое, собрание еще могло быть в его жизни… Так неумолимо крутились маховики понедельника, так жадно и без остатка пожирали они всякую постороннюю мысль, что Михаил и думать забыл о заявлении, которое подал сегодня утром.
И вспомнил о нем уже вечером, когда подходил к дому. «Уезжаю», — удивился, словно не веря себе. «Уезжаем», — поправился он и заторопился к калитке, чтобы скорее увидеть Таню: как она там, не раздумала ли? Торопясь он все же цепкими чужими глазами покупателя (дом-то придется продать!) охватил фасад и крышу, остался доволен: хоть и не ново все, но добротно. На трубе, правда, не хватало верхнего облицовочного кирпича, это непорядок, надо сегодня же поставить. А что это у нас с печкой, думал он, прикрывая калитку, почему она горела? Память тут же подсунула слова Тани: «Чистить ее надо, Миша». Он кинул щеколду в паз… «А с какой стати чистить? Я же прочистил дымоход весной, сразу же, как кончили топить». Он затоптался на месте, недоумевая. А память уже подсказывала страшные подробности рассказа Ивана Бурцева, причем эти подробности неведомым образом связывались теперь с его домом, с Таней, и память же отбросила его назад, к тому мгновению, когда после рыбалки он открыл дверь горницы, увидел свежевыкрашенные полы, учуял слабый запах, которым никак не могла пахнуть масляная краска. И почему Таня сама выкрасила полы, ведь это же всегда делал он? «Да что за напасть такая, — сказал себе Михаил, — ты только подумай, в чем ты подозреваешь жену!» Не желая думать и все-таки думая об этом и казнясь, он кружил и кружил по двору — искал какие-то чужие следы, а какие и что именно он ищет, не смог бы ответить, если бы его и спросили. Во дворе, в сарае, в закутке, в котором стоял его верстак и лежали в ящике инструменты, все было так, как он оставил в пятницу утром. Михаил вздохнул облегченно… И вдруг заметил, что нет второго, маленького топора.
— Миш, пришел?
Она стояла сзади, голос ее был чист и ясен, и у него отлегло. Он сидел на корточках перед ящиком с инструментами, спиной к ней, надо было бы подняться, ответить, но он не мог этого сделать: ему замкнуло горло. Наконец собрался с силами и сказал как можно небрежнее:
— Топор ищу. Надо бы его на новое топорище насадить.
— А я уже побеспокоилась, — сказала она. — В субботу ходил по дворам старичок, кликал — я и отдала. Обещал найти дубовое топорище. Такое век прослужит. Нам в лесу топоры понадобятся.
Он верил не столько ее словам, сколько голосу, спокойному лицу и улыбке. Мысленно виноватясь, подошел, приобнял легонько, спросил:
— Ну как ты тут? Не раздумала?
— Чего ж раздумывать? Решили… Раньше бы надо было, Миша, додуматься-то.
Прикоснувшись к ней, Михаил совсем успокоился и даже посмеялся над своими страхами. Они казались ему нелепыми и до того стыдными, что он и под пытками бы не признался в них Тане. Звякнула щеколда — и уже бежал к нему Колька, и, поймав его на руки, он подумал: сын-то ведь был дома, возможно ли при нем?.. Кем же это надо быть? Ах, идиот, идиот! Прости, Таня, своего дурака… Но перед ужином, опять не в силах совладать с собой, он пошел в горницу, открыл дверь и жадно втянул в себя воздух. Пахло краской, чуть-чуть горелой бумагой, но того запаха, который чудился ему вчера, не было.
После позднего ужина Михаил, дождавшись сладкого посапывания Кольки, уснул — и даже не слышал, как легла к нему жена. Проснулся он под утро — и стал думать. Почему Таня сказала, что топоры понадобятся в лесу? Откуда вечером в пятницу она могла знать про лес? И почему вдруг такая заботливость о вещах, о которых она никогда не заботилась? Почему?
Как просто: разбудить жену — и спросить, и рассказать ей, и повиниться, и снять эту тяжесть с души. Господи, как просто! И как бы он был благодарен ей. Но где взять силы? Спаси меня, Таня, спаси от страшных мыслей, милая, родная.
Он решил разбудить ее. Прислушался.
Таня ровно, тепло и сонно дышала ему в плечо.
Он замер. Ему почудилось: она тоже не спит.
2
Виктор собрался, и они пошли. Огарев посапывал, вздыхал и старался вести его к райотделу безлюдными переулками.
— Что-то ты тяжело дышишь, дядь Коля, — насмешливо сказал Дроботов. Он шел, насвистывая легкий мотивчик. — Не страдай. Исполнил свой долг — дыши спокойно.
— Нынче, гляжу, я тебе уже дяденькой стал, — проворчал Огарев. — А вечор ты мою фамилию у следователя Емельянова переспрашивал, племянничек новоявленный.
— Тактика, дядь Коля. С вашим братом надо ухо держать востро.
— Не на тех ухо востришь. Ухо свое держал бы востро, когда Паузкин тебя на пикники приглашал. По степям шастали, у чабанов бешбармаки жрали. А прикинул бы, тактик: за что же тебя бешбармаками угощают? За какие такие выдающиеся достижения в овцеводстве? Вот она, твоя тактика, — полон дом слез оставил.
— Ничего, дядь Коля, поплачут — и перестанут. Это им за «Рассказ нищего»… А Паузкина ко мне не лепи, он — жулик. Не раскусил я его, куркуля.
— Витька! — гневно сказал Огарев. — Ведь я тебя мальчонкой помню и совестливым. А теперь разъясни мне за-ради бога: с каких пор ты стал такой плавучий? Ну совершенно непотопляемый! Мать, жена, дочки плачут — тебе ничего. Жулика под крылом пригрел, около него уж два года отираешься — опять ничего. Вчера подписку о невыезде дал, чернила на подписи еще не просохли, а ты, домой не заходя, в степь ударился, к чабану, к дружку своему корыстному. Подписку нарушил, следователя Емельянова подвел — и опять ничего! Тебя нынче свободы лишили, а ты…
— Позволь, товарищ Огарев, — вскинулся Дроботов, — выбирай формулировки! Меня задержали, а не арестовали. Понимать должен разницу. Через семьдесят два часа — пожалуйте обвинение. А не предъявите — я тебе же, товарищ Огарев, ручкой помашу.
— Дурень ты, дурень… Это по закону — разница, а по-человечески, по совести ежели рассуждать, разницы никакой нету, Витя. Семьдесят два часа ты будешь без свободушки. А без нее доброму человеку и минуты прожить невыносимо. За твою-то свободу у нас там, — Огарев махнул рукой туда, куда шли, — борьба мнениев открылась. М-да… А ты? Идешь, песенки насвистываешь… Тебе — опять ничего.
— Вы с Емельяновым словно сговорились, — усмехнулся Дроботов. — В одну дуду поете.
— Емельянов всего лет на пять постарше тебя, а разница меж вами… и-и-и, касатик! Далеко тебе до его сердечной чистоты и душевности. Этот много будет думать, прежде чем сунуть человека в камеру.
— Да лучше бы уж и сунул… А то всю душу вытряс. Водил, водил вокруг убийства, я и оглянуться не успел, а он уже меня подвел к нему да и ткнул мордой в Аришин халат. Тут поневоле задумаешься: уж не я ли? От тебя того же жду… Того и гляди, скажешь: признавайся, Виктор.
— Признавайся, Виктор, — сказал Огарев. — Вспомни слезы своих дочерей и признавайся, не вертись вьюнком, будь мужчиной. Перво-наперво: зачем ездил к чабану в ту ночь, когда была убита Рудаева? Почему нарушил подписку и опять уехал в степь? Что тебя туда тянуло?
— Да не в том дело! — воскликнул Дроботов. — Ты с луны свалился, что ли, участковый? Меня в чем обвиняют-то? А ты — про чабана, про подписку…
— Заюлил, заюлил… Вот потому-то Емельянов и ковырялся в твоей увертливой душонке. Видит: то тебе ничего, это нипочем, а отсюда недалеко и до убийства… Но все ж он поверил тебе. А я вот думаю: не ошибся ли? У чабана твоего мы нынче кое-что изъяли и отправили на экспертизу. Найдут эксперты кровь Рудаевой на тех предметах, тогда что ж… Тогда сомневаться боле уж не будем.
— А обрывок халата, дядь Коля? — с надеждой спросил Дроботов. — Отослали на экспертизу?
— Ответ уж получили. Ее кровь на нем, Виктор. Много, много на тебе висит.
— Ну, все, — сник Дроботов. — На допросе у Емельянова еще верилось как-то… А теперь — все! Пропал я… Своих домашних почище следователя допросил, но и не возьмем в толк: откуда этот лоскут? Ты про какие-то предметы говорил, которые вы изъяли у чабана. Я не знаю, что это, но чувствую: будет и на них кровь тетки Ариши! Ни в бога, ни в черта не верю, но, дядь Коля, это же какое-то колдовство. И все на меня, на меня, на меня!
— А на два мои простеньких вопроса так и не ответил, — сказал Огарев. — Что ж ты дурочку валяешь, щенок? Колдовство приплел… Стыдись!
Дроботов замялся.
— Вот жизнь! — вздохнул Огарев. — Прожил, почитай, ее, а не перестаю удивляться. Над человеком подозрение в убийстве висит, до обвинения недалеко, — есть ли что позорнее этого? Выходит, есть… Зачем в ночь гибели Рудаевой ездил в степь? Ну!
— А когда мне еще ездить! — взорвался Дроботов. — Ночью ты хоть спишь… А днем у тебя всюду глаза.
— И ночью ты от людских глаз не скроешься. Далее отвечай!
И опять замялся Виктор Сергеевич Дроботов. Очень ему не хотелось говорить!
— А придется… — сказал он вслух. — Все равно допытаетесь. Зря я лез в бутылку на допросе у Емельянова, А к кому ты меня сейчас ведешь, дядь Коля?
— Не крути, Виктор!..
— Ну ладно… Митька Батаев, к кому я ездил, моей жене дальний родственник. В его отаре моих овец с десяток ходит…
— В совхозной отаре, — поправил Огарев.
— Отвез ему дрова на зиму и кое-какие запчасти к «Жигуленку». Но говорю тебе, дядь Коля, — заторопился Дроботов, — с Паузкиным меня не путай. Все покупное!
— Как можно! — отозвался Огарев. — Паузкин жулик… а ты у нас честный человек… Однако и покупное возишь почему-то тайком и по ночам.
— Вот-вот… Этого и боялся. Начнете теперь меня поджаривать на медленном огоньке.
— Тебя, помимо угрозыска, ОБХСС еще поджарит, и не раз. За мудрое руководство автоколонной… Далее!
— А что далее? Знал бы, что в ту ночь была убита Рудаева, обождал, уехал в другую. Я ж не дурак — под прямое подозрение себя подводить.
— Подписку зачем нарушил? Почему сразу после допроса рванул в степь? Забеспокоился и решил понадежнее кое-что спрятать?
— Дядь Коля, ты в Шерлоки Холмсы не рвись, тебе дедукция противопоказана… Если бы я решил в степи «кое-что» спрятать, то первым делом спрятал бы там труп. Степь широка, ищи его… А его кинули в ерик. Очень укромное местечко, скажу я тебе!
— Ты крылышки-то не расправляй. Уж поверь мне, старому: от преступника можно ждать все что угодно. Он убил — и сам в смертном страхе, ему не до рассуждениев… Ждешь, скажем, что он, имея машину, отвез и закопал труп в степи, а он взял и выбросил его в ерик… Но это к слову. Ты-то что прятал в степи?
— Овечек, дядь Коля… После допроса подумал: а ведь Митьку Батаева начнут трясти. И выплывут тогда мои овечки… Съездил, предупредил, чтоб молчал, — и назад.
— Вот, значит, как… — проговорил в раздумье Огарев. — Тебе, парень, одно теперь спасение: перед Емельяновым — как на духу…
— Пусть он одно знает, дядь Коля, — я не убивал! А все эти халаты, шоферские путевки и чего вы еще нашли у чабана? Все это ко мне отношения не имеет. Диво дивное! Приехал к Митьке, сказал и уехал, а они нашли… Этак вы на нашего брата не знай чего найдете, чтоб убийство приконопатить.
— Опять? — строго спросил Огарев. — Заегозился? Крылышками захлопал?
— Я не убивал, дядь Коля, — устало сказал Дроботов. — Верь мне: не убивал.
Пошли молча. Минуты через две Дроботов, забывшись, снова засвистал веселый мотивчик. Огарев с изумлением глянул на него.
— Ну, Витька, — сказал, — ну, Витька! Сил моих с тобой больше нету. Ох, с каким бы удовольствием снял бы я с тебя джинсики и выпорол. Чтоб ты всю остатнюю жизнь, прежде чем словчить, на собственные ягодицы поглядывал!
3
По утрам, вместе с солнцем, истаивал дурной туманец в душе Михаила Бурлина, пропадали ночные страхи. Вставали Бурлины рано. Таня собирала завтрак, Колька мыкался по горнице, ища запропастившийся пенал, Михаил просматривал его тетради, наблюдал, успокаиваясь, за обычной утренней суетней жены и сына, милой его сердцу.
— Пап, — ныл Колька, — где ж он, пенал-то?
— Ускакал куда-нибудь.
— Такой же неслух, как и ты, — поддерживала мать. — Сколько говорено: сделал уроки — сразу собирай свой ранец.
— Вам бы все меня критиковать, — заявлял Колька. — А я вот в школу опоздаю. Хорошо будет?
— Да чего ж хорошего, — ответил Михаил. — Выпороть тебя тогда придется.
Колька думал-думал, говорил:
— Поищу, пожалуй, пенал-то.
— Поищи, сынок.
Страхи его пропадали, подозрения улетучивались, но они были же, были! И будут. Ночь снова придет… Михаил понимал, что такой груз в душе долго носить не сможет. Но теперь, при свете дня, ему казалось, что дело уже не в Тане, только такой сумасшедший, как он, мог связать убийство неизвестной старухи с именем жены. Дело в нем. Если он мог подумать такое о жене, значит, тут только два объяснения: или он действительно сумасшедший и об этом пока еще никто не знает, или же виноват сам…
— В чем? — спросил он с возмущением и спросил вслух.
— Ты что, папка? — сказал сын. — Чего-нибудь у меня неправильно?
— Все у тебя правильно, сынок, — Михаил отдал ему тетради. — Это я об работе думаю.
— А ты придешь на работу, тогда и думай, — сказал Колька. Пенал он нашел, в тетрадях ошибок не оказалось. Потому и выдал с материнской интонацией: — Сейчас, папка, ты обязан о семье думать, как все добрые люди.
«О семье и думаю», — хотел было ответить Михаил, да прикусил язык: вошла Таня, поставила на стол сковородку с яичницей. «Завтракать, мужики!» — сказала она с улыбкой.
Позавтракать еще не успели, как явилась старуха Акулина Короткова, соседка. С порога, не поздоровавшись, дрожа от возбуждения, спросила:
— Слыхали?
Трое Бурлиных молча и удивленно глядели на нее.
— Убивца-то нашли! И кто? А? Витька Дроботов, Михеевны сынок, — в многотысячном поселке Акулина знала многих поименно. — От сынок, всем сынкам сынок! Его еще анадысь, в воскресенье, повели к ответу, да выпустили. Видать, сумление было. А вчерась законопатили в милицию насовсем. Михеевна волосы на себе рвет…
Понаслаждавшись мгновение, Акулина продолжала с сарказмом:
— Рви, матушка, рви остатние волосенки… Произвела на свет убивца, теперя и рви, и реви, да поздно. А туда же — в начальники вышел. От они, начальнички-то, мать их…
— Акулина! — звенящим голосом сказала Таня. — Ребенок за столом!
— Колька, забудь, — тут же повинилась беспардонная Акулина. — Забыл?
— Забыл, баушка, — ответил Колька. Как ни странно, он любил старуху, пропадал у нее часами. — Нехорошо ругаться, баушка.
— Знамо, нехорошо, касатик, — Акулина пятилась к двери под взглядом Михаила. — Ты уж меня прости, глупую. До свиданьица!
И выскочила за дверь. Таня, глядя на побледневшее лицо мужа, сказала:
— Ну что мне теперь, Миша? Не на запоры же от нее закрываться. Клянусь тебе, никаких дел у меня с ней нет!
А Михаил не слышал ее слов, не об этом думая. Ему дышалось легко, освобожденно… Нашли! Боже мой, нашли! А он-то, он-то каков! Прости своего сумасшедшего, Таня…
Глава пятая
1
Для оперативной группы, работавшей над раскрытием убийства Рудаевой, был отведен в райотделе просторный кабинет, который стал штабом розыска. Поздними вечерами здесь собирались все. Из управления приезжал тогда полковник Максимов, ему докладывали, что сделано за день, уточняли план действий на завтра. И так — до следующего вечера. А в течение дня единственным хозяином кабинета был инспектор областного уголовного розыска старший лейтенант Виктор Сергунцов, да и он не сидел на месте: появлялся, исчезал, снова появлялся, звонил следователю Зародову в прокуратуру, экспертам — в управление, кого-то о чем-то просил, с кем-то уславливался о встрече, а с кем-то ругался нешуточно, и его тоже поругивали… Снова исчезал и, появившись, принимал посетителей, желавших высказать свои соображения об убийстве; знакомился с рапортами сотрудников райотдела, устанавливавших, что «убийцы», как правило, никакого касательства к Рудаевой не имели, но зато имели весьма натянутые отношения с уголовным кодексом… Каждый день наваливалась на Сергунцова эта неблагодарная, кухонная работа, без которой, однако, не обойтись, потому что преступник пока еще разгуливает на воле, а в массе пестрых фактов, которую ежедневно перемалывает проверочная машина розыска, могут оказаться золотоносные крупинки, хотя бы отдаленно намекающие на его след. Эти крупинки очень легко просмотреть, но ведь для того и создается оперативная группа, чтобы толково, целенаправленно, с привлечением криминалистики знать, что и где искать. И тогда случается, что звонит телефон, Виктор Сергунцов берет трубку и слышит голос дежурного по райотделу старшего лейтенанта Романова:
— Виктор Гаврилыч, тут к тебе посетитель. Заявление желает сделать.
У Сергунцова дел по горло, а такие звонки и посетители были…
— Пригласите ко мне, — отвечает он без всякого энтузиазма.
Через три минуты в кабинет входит токарь Иван Бурцев. В руках, прижимая к могучей груди, он держит цинковое ведерко, запакованное в большой полиэтиленовый мешок. А еще через пять минут Сергунцов в подробностях узнает, как токаря Ивана Бурцева победили домашние… И что-то не так стало в жизни Ивана. Жена не мила. Батя блудливо отводит глаза, а то и с презрением глянет на родного сыночка: во что ты, мол, и меня превратил, курица мокрая? Это все-таки твоя жена, а не моя… Четыре дня крепился Иван, а на черта, спрашивается, такая жизнь? Вину свою
признает, готов сесть, вот и кошелку с собой прихватил, чтобы, значит, без всякой задержки…
— Ведро вижу, — сказал Сергунцов, сдерживая невольную улыбку, — кошелки нет.
— За дверью оставил, — ответил Бурцев. — Чай, у вас вещички не пропадают?
Вернулся с кошелкой, водрузил ее на стол рядом с ведром, пояснил:
— Харчишки, бельишко… Тут не курорт, ясное дело.
— Жена собирала?
— Какое! — Бурцев глянул на часы. — С работы только возвращается… Кошелку мы с батей спроворили. Он у меня в недавнем прошлом знаменитый на Волге капитан. Сейчас капитанский китель с наградами надевает, чтобы, значит, бурю и натиск выдержать достойно. Он там, а я тут за честь фамилии будем страдать.
— Тут вам, гражданин Бурцев, страдать, пожалуй, не придется. Сейчас дадите следователю официальные показания и…
Такая перспектива явно не обрадовала Бурцева. По всему было видать, что страшнее домашних страданий для него нет ничего. Сергунцов вдруг подумал, что иному мужику легче пулеметную амбразуру закрыть. Да… Вот жизнь! С щемящей добротой и симпатией к этому увальню, стремясь хоть как-то утешить его, он сказал:
— Иван Сергеевич, мы ведь, знаете ли, по необходимости насквозь бумажные люди… Сначала дадите официальные показания следователю, затем надо будет зафиксировать то, что вы принесли в ведре. Часа полтора уйдет на все. Первый натиск к тому времени разобьется, а второй вы уж как-нибудь, думаю, вдвоем выдержите. Да и будет ли второй? Вы в тюрьму собрались, котомку взяли, а может, уже сидите, горемычный… Сердце-то у жены все ж таки не камень, а?
Иван ничего не ответил на это. Ладно, думал Сергунцов, оставим тебя с твоими горестями. Человек за все платит, вот и ты, хороший и добрый Ваня, выплати положенное. Хотя бы за то, что смалодушничал и не принес ведерко в первый день. Тогда оно было бы ох как к месту! Теперь оно тоже нелишне, но яичко-то дорого к христову дню. Впрочем, смотря что в ведре…
— Что в ведре? — спросил он.
— Обрывок халата, — ответил Иван. — Полусожженный. Сверху. А под ним…
Он шумно втянул ноздрями воздух, страдальчески сморщился: запах уже проступал в комнату и сквозь полиэтиленовый мешок. Спросил:
— Неужто вынимать будете? Копаться?
— Помилуй бог! — разозлился Сергунцов. — Как можно! Зачем это нам? Выбросим!
Иван виновато опустил голову. И долго сидел так, не поднимая глаз. Пострадай, опять подумал старший лейтенант, пострадай, добрый человек Ваня, тебе на пользу. А нам пора снова за работу.
Собственно, работа Виктора Сергунцова в данный момент заключалась в том, чтобы раскрутить работу… И вот уже из прокуратуры приехал следователь Зародов, сильно недомогавший в последнее время. На второй этаж райотдела, где был штаб опергруппы, он так и не смог подняться — ко всем его прочим болям добавился еще и радикулит. Пришлось старшему лейтенанту организовать для следователя помещение внизу, куда и спустился Бурцев со своим ведром. Затем Сергунцов вызвал участкового инспектора Огарева и поручил ему привезти в райотдел семью Бурцевых, которых тоже надо было допросить. А поскольку жили они на участке Огарева, то кому, как не участковому, проверить у нее «Пионерку» за 20 августа? Они эту газету, сообщил Иван, выписывали. Огарев же должен был поинтересоваться у старого волгаря-капитана, нет ли в их доме чистых шоферских путевок и бухгалтерских платежек, особенно последних, потому что супруга Ивана работала бухгалтером в СМУ. Закрутился старший лейтенант Сергунцов: то учесть, это не забыть, тому дать ход, от того принять рапорт о выполненном задании, этому дать новое — ах боже ты мой! Конец будет? Как прекрасно — мчаться за преступником в машине, желательно в «Волге», немыслимые виражи, машина переворачивается, горит, но ты вылезаешь из нее целый и невредимый, с пистолетом в руке, подлетает мотоцикл, прыжок в люльку — и дальше, дальше… Живут же люди! А тут ни разу не пришлось…
Не на машине, а на своих двоих бежал однажды младший в ту пору лейтенант Виктор Сергунцов на дальний девичий крик о помощи. Ночь, заброшенный парк, темень, лужи, грязь, сапоги пудовые, шинель отсыревшая, неподъемная — ни шику тебе, ни красоты, дыхания не хватает, глаза того и гляди выхлестнет, потому что это уже не называется — бежать, это называется — ломиться сквозь деревья и кустарник. И наконец у светового столба — вот радость-то, лампочка сохранилась! — видит он прилично одетого гражданина, который заполошно машет, кричит что-то, зовет на помощь. К нему, скорее! Младший лейтенант наддает, подбегает, дыхания у него теперь уж совсем нет, чтобы спросить — что, где? — но дышать Сергунцову больше и не придется, потому что прилично одетый гражданин молча и деловито сует ему в живот дуло пистолета и — щелк! — просто, знаете ли, без предупреждения, — щелк! — и ничего более. А если бы боек был в исправности? Что тогда? Где она, смерть яркая, при выполнении особо опасного задания. Чтобы дети и внуки вспоминали, раз уж пришлось отдать жизнь? Даже помереть красиво не дал бы, сволочь! Доставил он этого гражданина в райотдел, а дежурный, нет чтобы от лица службы сказать младшему лейтенанту золотое слово, с благодарными слезами смешанное, по запарке отругал его же! Во-первых, что за вид? Почему шинель угваздана и хлястик оторван? Во-вторых, где протокол задержания? У кого изъят пистолет с четырьмя боевыми патронами? У этого? Ах, у этого… А суд откуда узнает? Ты что же думаешь, младший лейтенант, — привел, сунул в камеру, и дело с концом? А до суда этого бандита кто доводить будет?
И ничего ведь дежурному не возразишь, ничем не оправдаешься: шинель угваздана, хлястик оторван, протокола нет, поскольку там, в парке, под проливным дождем, просто случайно — такое, знаете ли, невезение — не оказалось в кустах канцелярского стола с письменными принадлежностями. Сел младший лейтенант писать злополучный протокол, а пальцы ручку не держат, он и так, он и этак, он конфузится — не держат! Написал все ж таки. Почти зубами.
Старший лейтенант, вспоминая теперь все это, некоторое время чему-то туманно улыбался… Ладно, подумал он, у кого как, а у нас вот так, неярко, буднично, но…
Свидетельские показания Бурцевых следователь Зародов сейчас, поди, уже оформил, поэтому самая пора пойти к нему. А Зародов, потирая поясницу и болезненно морщась, сказал с сожалением:
— А ведь была версия!
— Была, — вздохнул Сергунцов. — Ох, была!
Оба имели в виду версию на причастность Виктора Дроботова к убийству. Иваново ведерко поставило сейчас на ней последний крестик. Поначалу, думал Сергунцов, такой она казалась плотненькой, такой выразительной… Зафиксировали: пошла тетка Ариша к Дроботовым на телевизор — раз. Еще зафиксировали: смотрела фильм, после чего Дроботов проводил ее до своей калитки, — два. Его внезапный, подозрительный отъезд глубокой ночью, когда Ариша была уже мертва, — три. Затем обыск: обрывок халата, остатки душегрейки, черевички, все это в Аришиной крови, — четыре. И ко всему этому — ложь. Мать и жена хотели как лучше, а их сын и муж, любитель дарового мясца и икорки, хотел прикрыть свои темные делишки. Не остановился даже перед тем, чтобы нарушить подписку о невыезде, наглец. И мы вынуждены были выдирать его из собственной лжи, где справедливость? Полегче, полегче, товарищ, на поворотах, самокритично поправил себя Сергунцов, справедливость была и будет, на том стоим. Дроботовым теперь займется ОБХСС, а мы, отрабатывая версию, узнали про последние Аришины часы кое-что новое. Даже не кое-что, совсем не кое-что… Во-первых, к Дроботовым она собиралась, но у них не была. Не успела. Не дали. И выяснил это парнишка наш, Саня Токалов. Посадил Машу Андрееву за стол так, как она сидела в тот вечер, за столом — те же чашки, ложки, вилки; радио включено, через одну-две минуты даст оно точные сигналы московского времени. С первым сигналом Токалов вышел из горницы к Марии, сказал ей те же слова, которые говорила хозяйка, приглашая задумавшуюся квартирантку на телефильм к Дроботовым. И Маша вспомнила: не так было! Сначала хозяйка упомянула о каком-то деле, а потом уж последовало приглашение к Дроботовым. Что же это за дело? Не очень-то много собиралась Ариша отдать ему времени, поскольку до начала фильма оставались 40 минут: планировала успеть. И не очень-то оно тайное было, если приглашала с собой Машу. Рудаева так и сказала: дельце. Но именно оно оказалось последним в ее жизни — это во-вторых. А в-третьих, преступник — местный, живет в заречной части поселка, там же, где живут Дроботовы и… жила Рудаева. И где живут еще около двадцати тысяч человек… Но на вчерашнем совещании оперативной группы уже сделаны кое-какие коррективы: под проверку попадают все улицы на отрезке пути Рудаевой к Дроботовым…
Все это старший лейтенант прокрутил в голове за две-три минуты, но нелишне и следователя послушать… А следователь говорил:
— Понятна логика преступника, подбросившего обрывок халата и прочее на подворье Дроботовых. Он знал о связях Рудаевой с ними, знал, что она собирается пойти к ним на телефильм. Видимо, понимал, что тем самым выдает себя, и тогда подбросил почти то же самое Бурцевым. Последние, если верить им, даже не слышали о существовании Рудаевой и живут не в заречной части поселка. Тем хуже для нас… Есть в подобном рассуждении смысл, Виктор Гаврилыч?
Вот на такие вопросы старший лейтенант не любил отвечать. Зачем? Что толку? Десятки ответов можно придумать, а все равно не обойтись без тщательной отработки всего, на что указывало содержимое Иванова ведерка. И, кстати говоря, Бурцевым было подброшено не совсем то же самое. Там, в ведерке, оказался такой же бумажный комок, как и в мешке с трупом. Различие было в том, что на одном из бланков бухгалтерского платежного поручения проглядывался машинописный текст. Бланк разорван, сохранилась меньшая часть. Но она может стать крепкой зацепкой…
— Постановления готовы, Кирилл Иванович? — спросил старший лейтенант, уходя от ответа. — Мне отвезти все экспертам, или вы сами?
— Все равно же возвращаться в город, — сказал Зародов. — Отвезу сам. В последний разочек…
— Что так?
— Послезавтра ложусь в больницу. Дело примет следователь Конев. Решено уже.
— Отлично! — вырвалось у Сергунцова, но он тут же и обругал себя маленьким язычком: вот валенок! Что же хорошего, если человек ложится в больницу? И как он истолкует твою радость по поводу прихода другого следователя?
Но слово — не воробей… Сергунцов попытался хоть немного сгладить свою оплошность.
— Кирилл Иванович, — сказал извинительно, — поймите меня правильно. Просто я очень давно знаю Конева, не раз работал с ним. И сюда, на Трусово, приехал знаете откуда? Прямо из Владимировки. С поезда — домой, из дому — сюда. Даже в родимый отдел не заглянул.
И, уже проговорив это, Сергунцов понял, что спорол еще бо́льшую глупость. Во Владимировке, дальнем райцентре области, полгода назад была убита тринадцатилетняя девочка Ира Серова. Дело тогда принял к производству старший следователь областной прокуратуры Зародов, завел его в тупик, передал своему коллеге, тоже старшему следователю, Александру Григорьевичу Коневу. Две недели назад Конев, Сергунцов и работники местного райотдела раскрыли это преступление. После чего начальство отозвало старшего лейтенанта и направило на Трусово, а Конев остался во Владимировке еще на несколько дней — добивать всякие мелочи по завершенному делу. Непроизвольно напомнив все это, Сергунцов наступил Зародову на больную мозоль. «Плохой из меня дипломат, — сокрушенно подумал он, — опять сморозил глупость. А впрочем, почему? Почему не сказать этому человеку прямо и честно: не получается у тебя, дорогой товарищ. От неудач никто не застрахован, но твои неудачи начались, слышал я, с тех самых пор, как дали тебе старшего следователя и стали поручать сложные дела». Но сказать вот так, прямо в глаза, что-то мешало Сергунцову. «Все-таки болен человек», — оправдал он себя, хотя в глубине души знал, что не в болезни тут дело.
И Зародов знал, что не в болезни. Что-то ушло от него… Но что? Не всякий умный человек способен прозреть, заглянув в себя, и далеко не всякий желает в себя заглядывать. А то там разглядишь… Семья, дети, уже возраст и положение старшего следователя областной прокуратуры — поздно менять профессию. «Я болен, я устал, — мгновенно ухватился Зародов за спасительную мысль. — Подлечат, вернусь, и мы еще покажем, покажем… А как Виктор обрадовался-то, — не удержавшись, вновь растравил он себя, — когда услышал о Коневе! Хоть бы кто-нибудь мне так порадовался…»
Сергунцов, конечно, не был ясновидцем, чтобы читать чужие мысли, но потемневшее лицо Зародова кое-что подсказало бы и слепому. Выходя из кабинета, чтобы договориться с дежурным о машине для Зародова, старший лейтенант с невольной жалостью подумал: «Конечно, поздно, кто спорит? Но ведь и мы с тобой, Кирилл Иванович, тут не табуретки поставлены строгать. Тяп-ляп в наших департаментах — это не работа».
2
Минута приема-сдачи дела была для обоих тягостна. Человек легко находит оправдания своим неудачам — и Зародов тоже нашел их. Внешне все было вполне благопристойно, самолюбие его, казалось бы, не должно страдать: он ложился в больницу, и его работу прокурор распределил между другими следователями. Но вот наступила эта минута, и все оправдания остаются при тебе, а ты сдаешь дело. Тебе никто не сказал, что ты не справился с ним, но почему же ты так оживлен, суетлив, разговорчив? Что ты хочешь скрыть от себя самого? Несладко было и Коневу. Его ждали стертые следы, приглушенная временем людская память, для него десятикратно возрастала возможность ошибочных ходов и решений. И как ни скрывали эти два человека свое состояние за незначащим разговором, оба вздохнули облегченно, когда расстались.
Два дня Конев изучал материалы и отбирал из них то, что относилось к выдвинутым версиям. Его предшественник даже этого не удосужился сделать, он без системы свалил в папку протоколы осмотра места происшествия и вещественных доказательств, акты экспертиз, протоколы свидетельских показаний, часто совершенно не относящихся к расследуемому делу. Нельзя было проследить мысль следователя, понять, над чем бьется он, какие версии считает главными, побочными, какие — уже отработаны, а над какими — еще надо работать. Но в этой бессистемности была все-таки своя своеобразная система. В дотошности, с которой Зародов требовал от оперативной группы письменно фиксировать любой факт, попавший в поле зрения следствия и розыска, Конев видел опасение: а вдруг это понадобится? И видел недоверие к сотрудникам розыска: а вдруг проглядят, пройдут мимо? И оглядку на случай неудачи видел: вот, мол, не сидел, работал, каждый шаг документально подтвержден… Как много может рассказать о характере человека следственное дело, нормированное законом до каждой точки и запятой! Формально в этой папке материалов сейчас было больше, чем требовал закон. На формальную сторону и работал Зародов, обеспечивая себе тылы на случай, если не будет найдена истина по расследуемому делу.
Конев не намеревался вести расследование, сидя у себя в кабинете. По его просьбе ему поставили стол рядом со столом Сергунцова, и в семь утра он, как и все члены оперативной группы, являлся на работу. А там — как дело покажет: частенько разъезжались по домам в двенадцатом часу ночи. Первые два дня Александр Григорьевич сидел за своей папкой безвылазно; Сергунцов, по обыкновению, появлялся, исчезал, снова появлялся — и все поглядывал, хмыкая, то на катастрофически худеющую папку, то на корзину, куда Конев, безжалостно уничтожая, выкидывал из папки следственный мусор. Наконец не выдержал, спросил:
— Александр Григорич, свирепствуешь? Уничтожаешь палочки-выручалочки Зародова?
— Приходится, — ответил Конев. — Один добрый человек втолковал мне однажды крепко, что истина не там, — он кивнул на корзину.
— Адресочек! — потребовал Сергунцов. — Не худо бы и мне пройти выучку у этого человека.
— Его уж нет в живых, Витя, — ответил Конев.
— Тогда хоть расскажи. Оторвись от бумаг, а то зачахнешь.
— Рассказать-то можно, — засомневался Конев, — да больно совестно!
— Чего уж там… Меж своими-то…
— Был он старый ленинградский следователь, а я проходил свою первую производственную практику. Нынче практикантов опекают, шагу без поводыря не дают ступить, а мой старичок придерживался иной методы: сразу поручил самостоятельное дело. Простенькое, в общем-то… На гражданку Озерову напали двое, сняли кольцо, вынули из авоськи двадцать рублей. Все произошло в условиях очевидности, нападавшие были тут же задержаны, четыре свидетеля пожелали дать показания. Дело простенькое, но ведь, сам понимаешь, мое первое самостоятельное дело! Я очень старался, Витя… Дотошностью своей измучил и потерпевшую, и свидетелей, и сопляков-грабителей. Хотелось мне сдать дело таким, чтобы шеф, прочтя, похвалил, отметил бы мою высокую профессиональную подготовку… Ну, сдал… Сижу, покуриваю с независимым видом, а сам замер, кошу глазом, жду заветных слов. Ждать пришлось секунд двадцать, не больше. Старичок взял мою папку, положил на ладонь, подержал на весу, оглядел и, не раскрывая, протянул ее мне. Возьмите, говорит, юноша, суд вернет вам это, — тут он с отвращением поморщился, — назад. В лучшем случае — с частным определением в адрес следователя, в худшем — на доследование, что, впрочем, одинаково плохо и стыдно. А я был уже далеко не юноша, поскольку в семнадцать лет ушел на фронт, воевал от звонка до звонка, три года работал на гражданке, женился, ребенка родил, двухгодичную школу следователей заканчивал… Каково ж мне, недавнему фронтовику, выслушивать такое? Но я выслушал. Сильно уважал своего старичка, было за что, а потому позволил себе лишь слабо возразить: «Андрей Михалыч, вы бы хоть обложку раскрыли, посмотрели, зачем же так огульно?» — «Огульно? — старик аж подпрыгнул в креслице от негодования. — Дайте сюда дело!» Я подал, он опять подержал его на весу, спрашивает грозно: «Это что?» Когда я сшивал материалы, то расположил их неровно, из-под обложки торчали бумажные хвосты. Неприятно, конечно, неаккуратно, но ведь и не смертельно, а? Я так ему и заявил. «Ни-ни! — снова вскинулся мой чудесный старик. — Ни слова больше! А то я вам никогда не прощу!» Он мне, видите ли, не простит… «Бойтесь бога, Андрей Михалыч, — теперь уж чуть не взвыл я, — за что вы меня так?» — «За небрежность! — отчеканил он. — Непозволительную! Преступную по отношению к нашей профессии! — Оглянулся и добавил шепотом: — И к за-ко-ну!» Меня поразило, что оглянулся он так, будто закон вживе стоит у него за спиной и может услышать нас. А он продолжал: «Никогда не позволяйте себе, юноша, неряшливо оформлять следственные дела. Мне даже заглядывать не надо, чтобы увидеть: материалы в них не систематизированы, доказательства разбросаны, не следуют одно за другим по нарастающей, а в самих доказательствах обязательно будут неточности, которые и сведут на нет их силу. Вы сами попытаетесь убедиться в этой закономерности или мне убедить вас?» — «Убедите, говорю, только вряд ли, Андрей Михалыч, вам это удастся, я очень старался, а то, что листы сшил неаккуратно, — виноват, поторопился, на будущее учту вашу критику». Это я, Витя, позволил себе вежливо съязвить… Старик со скорбью посмотрел на меня, ничего не ответил, раскрыл дело, стал читать. Через несколько минут, гляжу, он начинает расшивать папку, откладывает в сторону один протокол, второй… Этот второй, не утерпев, я тут же взял со стола, прочел раз, другой — все вроде бы нормально. Отлегло от сердца, я уж хотел положить протокол назад, и вдруг — как по глазам ударило: допрашиваемый расписался у меня везде, где положено, но свою-то подпись я поставить забыл! Тут уж не до гонора, тут одна мысль — быстрей за ручку, расписаться, а старик этак спокойненько говорит: «Да, юноша, да… расписаться необходимо. Но вот беда — не всякая небрежность следователя так легко исправляется. Скажите-ка мне, сколько потерпевших проходит по вашему делу?» Одна, отвечаю. Гражданка Озерова, у которой сняли кольцо, а из авоськи вынули двадцать рублей. «Сомнительно, — говорит мой старик. — Из материалов явствует, что гражданок Озеровых было по крайней мере три». Не может быть, отвечаю, но мне уже ничего не остается, как в отчаянии твердить: не может быть, Андрей Михалыч, потерпевшая в моем деле одна — гражданка Озерова. А он ткнул меня носом в протокол, в котором свидетель утверждает, что у гражданки Озеровой была в руках авоська, ткнул во второй, в котором гражданка Озерова держала в руках уже не авоську, а портфель… Помню, я еще как-то оправдывался, но когда в моем обвинительном заключении у гражданки Озеровой оказался в руках чемоданчик, — тут меня и не стало. Видимо, кто-то и сидел перед стариком в кабинете и, возможно, что-то бормотал в свое оправдание, но это был уже не я.
— Верю, верю, — улыбнулся Сергунцов.
— Были, конечно, и у меня неудачи, приходилось и мне передавать дела незавершенными, но в таком виде, — Конев положил ладонь на зародовскую папку, — я себе уже никогда не позволял.
— Да уж, — вздохнул Сергунцов, — предшественник твой…
— Я не к тому, — прервал его Конев, — чтобы мы сели рядком и отвели душеньку, ругая Зародова. Теперь спрос с нас с тобой. А в нашем расследуемом деле есть одна зияющая дыра. Будь жив старик Андрей Михайлович, он бы накостылял нам обоим по шее.
— А именно? — построжал Сергунцов. — За что именно, Александр Григорич? Это твой Зародов так навалился на Дроботова, что остальные версии ему — трын-трава. Даже не поинтересовался ни разу, как тут у нас дела… А мы работали по этим версиям планомерно и систематически. Хвастаться не хочу, но уже сейчас есть полная уверенность, что выйдем на преступника или через «Пионерку», или через дочку Рудаевой, или через квартирантку Машу Андрееву. Вопрос лишь во времени.
— «Твой» Зародов, «мой» Зародов… Нехорошо, Виктор… Давай не будем делиться. Одну работу работаем… И кстати, в версии, связанной с «Пионеркой», Зародов, как я понимаю, тоже сыграл не последнюю роль. Дату выхода номера, да и само название газеты он дал вам на другой же день. Будь уж объективным, коли хвастаться не хочешь.
— Винюсь! — быстро проговорил Сергунцов. И добавил сокрушенно: — До чего же отвратительно устроен человек, скажу я тебе! Чуть погладят его против шерстки — он тут же на дыбки и норовит ответно ударить. Воспитывай меня и далее, благодетель… Так что там у нас с дырой, где ты ее узрел?
— В материалах уголовного дела, где же еще… — ответил Конев. — Из них следует, что мешок, в котором находились части трупа Рудаевой, не был осмотрен и до сих пор не отправлен на экспертизу. Почему?
— Осматривали — и не раз, Александр Григорьевич, — сказал Сергунцов. — Я тоже было схватился за него, а он еще волглый, корка ила на нем в палец толщиной, трудно что-либо разглядеть. Все-таки я позвонил Зародову, тот ответил, что надо подождать и что непросохшую мешковину эксперты в работу все равно не возьмут. Резон?
— Не резон, — сказал Конев, поднимаясь из-за стола. — Позаботься о понятых, Виктор Гаврилыч. От таких резонов я, слава богу, давно отучен…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической экспертизы
…Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:
1. Каково содержание надписей, имеющихся на мешке?
2. Когда и каким красителем исполнены надписи?
Эксперта за дачу заведомо ложных показаний предупредить по ст. 181 УК РСФСР.
Ст. следователь
юрист II класса А. Конев.
* * *
— Надписей… — хмыкал начальник экспертно-криминалистической лаборатории Захаров, рассматривая расстеленный на столе мешок. — Надписей… Громко сказано, Александр Григорьевич. Тут отдельные штрихи всего от нескольких букв — и то еле проглядываются.
— Дорогой ты мой, — сказал Конев, — если бы на мешковине проглядывался адрес убийцы, я, поверь, не стал бы тебя беспокоить.
— Поддел — и рад, да? — ворчливо спросил Захаров и подал ему акт экспертизы. — Пашем на вас, пашем… И хоть бы одно доброе слово.
Конев прочел, высветлел в лице, сказал признательно:
— Спасибо, Аркадий Алексеевич. Весомая вещь!
— Куда уж весомее! — заулыбался Захаров. — У нас контора такая: пишем, что знаем, и не пишем, чего не знаем.
Конев бережно вложил в папку акт экспертизы. Сотрудники Захарова восстановили часть машинописного текста и подписи на бланке платежного поручения, вынутом из ведра, которое принес Бурцев. Подписывал платежку главный бухгалтер Икрянинского отделения госбанка, а райцентр Икряное находился в сорока верстах от поселка Трусово. Конев снял телефонную трубку, соединился с Сергунцовым и попросил срочно выяснить, кто работает главным бухгалтером Икрянинского банка, сказав, что от всей его подписи уцелели на обрывке лишь инициал и две буквы от фамилии.
Захаров между тем продолжал изучать мешковину через сильное увеличительное стекло. Наконец сказал с немалым удивлением:
— Александр Григорич, а ты, пожалуй, не зря обмолвился про домашний адрес убийцы. Адресок не исключен: в этом мешке в свое время была отправлена почтовая посылка. Да, сомнений нет… вот и второй след от сургучной печати. Посмотри-ка сам!
— Было смотрено и было видено, — отозвался Конев. — О домашнем адресе убийцы мечтать не станем, это было бы слишком хорошо, но адресок получателя этой посылки ты, Аркадий Алексеевич, разбейся, а восстанови.
— Разбиться-то я могу, — сказал Захаров, — почему ж не разбиться для старого друга? Да боюсь, толку не будет, время зря потратим. Нет, этот мешочек моим ребятам пока еще не по зубам.
Если уж Захаров говорил такое!..
— Да-а… — разочарованно протянул Конев. — А я-то думал: наука всемогуща.
— Не торопись бросать в нее камень, в науку-то, — сказал Захаров. — Мешок надо отослать в Москву, в Центральную криминалистическую лабораторию. А когда дадут нам электронный преобразователь — милости прошу, заглядывай, и не такие мешочки заставлю заговорить.
— Так чего же ты молчал! — воскликнул Конев. — Собирайся, старина! Пойдем с тобой к полковнику Максимову, он, думаю, пробьет нам эту экспертизу.
На другой день в Москву вылетел капитан Емельянов. А Конев сел на автобус и отправился в Икряное, к Елене Юрьевне Хабаровой, главному бухгалтеру районного отделения госбанка.
3
Александр Григорьевич постучал, вошел и оказался в маленьком кабинете, половину которого занимал стол с ворохом бумаг на нем. Хозяйка кабинета строго сказала:
— Будьте кратки, товарищ. Могу уделить вам пять минут. У меня срочный вызов в город.
— К сожалению, мне надо двадцать минут, Елена Юрьевна, — сказал Конев и назвал свое имя и должность.
Удивительно, думал он, но именно честные, щепетильные, порядочные люди менее всего подготовлены к встрече со следователем. Не со следователем, поправил он себя, с законом… Елена Юрьевна Хабарова была несомненно честным, порядочным человеком, но и ей, молодой, собранной женщине, так ценившей рабочее время, не удалось избежать душевной сумятицы.. «Ко мне? — испуганно спросила она. — Но почему ко мне? Что случилось, чтобы ко мне?» Обычно Конев гасил этот непроизвольный испуг, это недоумение мягкой улыбкой, дружелюбным тоном. Так сделал он и на этот раз.
— Я приехал посоветоваться с вами, Елена Юрьевна. И кое-что, конечно, выяснить. Разрешите присесть? Благодарю… Будьте добры, покажите, пожалуйста, любое платежное требование, подписанное вами.
Из кипы бумаг она взяла одну и протянула Коневу, сказав, что подписала ее десять минут назад. В свою очередь Александр Григорьевич дал ей обрывок платежки, побывавший на экспертизе, и акт экспертов.
Сколько бы женщине ни было лет, почерк ее за редчайшими исключениями остается четким, округлым, с милой детскостью в написании крупных букв. Именно такой и была, подпись Елены Юрьевны на поданном ею документе: строгий инициал и ясная, полная, без мужских хитроумных выкрутасов фамилия.
— Странная платежка, — Хабарова вертела обрывок в руках, пытаясь даже рассмотреть его на свет. — Подпись не вся, но она моя, Александр Григорьевич.
— Ваша, — подтвердил Конев. — Почитайте акт экспертизы.
Хабарова прочла его, улыбнулась.
— Воистину: в огне не сгорит, в воде не утонет. Теперь мы можем легко найти первый экземпляр этой платежки.
Она по телефону дала задание сотруднице и, положив трубку, сказала:
— Боюсь быть назойливой, Александр Григорьевич, а спросить не терпится.
— Отвечу… Убийца вытер руки о первые попавшиеся бумаги и хотел их сжечь. Но что-то помешало ему. Тогда он сунул их в мешок. — Об Ивановом ведерке Конев решил умолчать. — А мешок утопил в ерике.
— О господи! — сказала Хабарова тихо. — О господи!
Вошла девушка в яркой и пестрой, как купол парашюта, юбке-колокольчике, положила на стол листок. Разглядела лицо своей начальницы, и светлые бровки ее удивленно взлетели вверх.
— Ступай, Валя, спасибо, — сказала Елена Юрьевна. — Платежка, Александр Григорьевич, исходит из СМУ-1 «Волгоахтубстроя». Это — на Трусово.
— На Трусово? Но там же есть свой банк!
— Конечно. Однако предприятие, которому это СМУ заплатило две тысячи пятьсот рублей, — у нас, в Икряном.
Она толково и кратко объяснила ему систему взаимных банковских расчетов.
— Не нравится мне кое-что в вашей епархии, — выслушав, сказал Конев.
— Что именно, Александр Григорьевич?
— Я считал, что финансисты особенно строги к учету денежных документов. Неужели у вас нет инструкции, которая бы определяла количество выписываемых платежек? Ведь получается, что одна из них оказалась лишней и превратилась в путешественницу. Почему это стало возможным?
— А потому, что инструкцией предусмотрена и такая вещь, как авизовка…
Хабарова опять сумела кратко и толково объяснить, что это значит, и закончила с чуть заметной иронией:
— Не окажись лишнего экземпляра, вы, Александр Григорьевич, не получили бы возможность проследить его путь. А насколько я понимаю, это для вас очень важно.
Конев рассмеялся.
— Ну хорошо, — сказал он, — вот мы и подошли к главному. Имеются три финансовые точки — Икрянинский банк, Трусовский банк и Трусовское СМУ, — через которые проходил этот документ. Где мог осесть лишний экземпляр?
— Только у вас на Трусово, в СМУ. Подписав все экземпляры, один я оставила у себя, остальные отослала в Трусовский банк. Мой коллега поступил точно так же. А бухгалтер СМУ, получив эту платежку в двух экземплярах, одну вложил в отчетную документацию, другую — порвал и выбросил в корзину за ненадобностью. Кстати, посмотрим на подпись бухгалтера на моем экземпляре. Вот она: «Л. Бурцева».
«Что такое? — насторожился Конев. — А хорошо ли Сергунцов и его товарищи проверили поэтессу и ее мужа?»
Взяв со стола акт экспертизы и обрывок платежки, он сказал:
— Видимо, вы правы, Елена Юрьевна. Бурцева порвала этот документ, как ненужный. Но где? На работе? Или сначала взяла его домой?
— А смысл, Александр Григорьевич? Для подделки? Подчистки? Только сумасшедший будет подделывать и подчищать документ, деньги по которому уже перечислены. Нет, тут другое.
— Логично, — сказал Конев. — Почти убедили, Елена Юрьевна.
— Когда-то, — смущенно произнесла Хабарова, — хотела я поступать на юридический. Очень мне нравилась ваша профессия, Александр Григорьевич. Отговорили нерешительную девушку… Да, а почему «почти»? Почти убедить — это ведь, применительно к вашей профессии, совсем не убедить.
— Потому что кто-то все-таки вынес платежку из конторы СМУ. Иначе она просто не оказалась бы там, где ее нашли.
— Тоже логично, — сказала Хабарова. — Тогда открою вам, Александр Григорьевич, маленькую производственную тайну: есть у нас две уборщицы. Сколько раз им выговаривала: «Бабоньки, нельзя брать домой бумаг из мусорных корзин». Винятся, обещают не брать и берут. Зачем? У нас, Александр Григорьевич, все-таки село, а не город, нас русская печь греет… А печку надо чем-то разжечь. Поселок Трусово я хорошо знаю, там отопление не везде паровое. Думаю, что уборщицы Трусовского СМУ тоже этим грешат. С них, пожалуй, и надо вам начать.
Сказав это, Хабарова спохватилась:
— Простите, Александр Григорьевич, я, кажется, начинаю давать советы следствию лишь на том основании, что когда-то мечтала поступить в юридический институт. Ох, как нехорошо… Сама ненавижу дилетантов — и на тебе!
— Почему же, — сказал, улыбаясь, Конев, — совет дельный, мы им воспользуемся. Благодарю вас, Елена Юрьевна. Две минуты я вам все-таки сэкономил, мы уложились в восемнадцать…
4
Вскоре соседка Акулина Короткова принесла Бурлиным другую новость: освободили начальника автоколонны Виктора Дроботова. В этот раз Акулина пришла вечером. Таня отругала ее: «Ходишь, носишь… а нам-то что? Нам-то зачем знать? И своих забот хватает». Настырная Акулина, что на нее совсем было непохоже, смешалась, ответила: «Человека извели, Таня, ай непонятно? Люди добрые и по сю пору опомниться не могут, а ты? Старушка в земле лежит безвинная, а убивца — на тебе! — отпустили… Жалости, гляжу, нету в тебе, Татьяна». — «Что мне ее жалеть, — сказала Таня, — я про нее раньше и не слыхала. Вот о тебе бы я пожалела». — «Да, уж ты пожалеешь, — засомневалась Акулина, — каменюка холодная». Михаил увидел, как напряглось лицо жены от этих слов, поймал ее беспомощный взгляд, сказал:
— Акулина Степановна, вы больше к нам не приходите. Калитку нашу общую я завтра заколочу.
— Спасибо, Миша, — сказала Акулина вздорным голосом. — А ты, Татьяна, чем мне отпоешь за мою к тебе любовь и потачку?
Она отвернулась. Тогда Акулина поклонилась ей в спину, поклонилась и Михаилу, сидевшему на старенькой кушетке, сказала как ударила:
— Живите!
И открыла дверь. Но уйти ей не дал Колька. Кинулся, повис на шее, целовал… Акулина заплакала. Глянул Михаил на жену — и у нее глаза на мокром месте. Да и ему на своей кушетке что-то стало неудобно…
— Сынок, — спросил растерянно, — тебе бабушку жалко?
— А как же, пап, — ответил Колька. — Ты, бабаня, садись… — И снова — отцу: — Все ее бросили, теперь ты гонишь. Совсем одна. А заболеет, что тогда? Умрет ведь человек, умрет! А вам с мамкой хоть бы хны.
— Да ведь слова-то у нее какие, Коля! — сказала мать. — Слова-то у нее поганые. И разума нет: при ком ни приведись ляпнет — при малом, при старом, ей все одно.
— Не обращаю внимания, — заявил Колька.
— Ох, миленький, — шептала, всхлипывая, Акулина. — Ох, золотко…
— Акулина Степановна, — вконец растерявшись от такого поворота дела, сказал Михаил, — защитник у вас больно могучий, да и я не зверь… Но вы в другой раз все-таки думайте, кому и при ком говорите.
— Неученая я, Миша… Как думается, так и скажется, — по-простому. А все ж при мальчонке я окорачиваюсь… Тань, ты уж прости меня за каменюку-то холодную…
— Это называется — окоротилась… — сказала Таня. — Ты еще разочек повтори, чтоб сын получше запомнил… И насчет «убивца» — тоже. Ох, Акулина, Акулина… Что с тобой делать, прямо и не знаю.
Час спустя, уложив Кольку, она подсела к Михаилу, непривычно тихая. Прижалась плечом, сказала:
— Парень наш весь в тебя. Сердечко ясное… Вот и ты, Миша, извелся весь, мучаешься, милый мой. Я же вижу…
На него после ухода Коротковой снова обрушилось то, прежнее. Пока неизвестный ему Виктор Дроботов сидел в милицейской камере, это вроде бы потеряло смысл, ушло, развеялось в прах, но подспудная тревога все-таки тлела в нем, а теперь вспыхнула с новой разрушающей силой. И надо вложить в слово свои подлые страхи и сомнения, жена ждет, и другого такого случая не будет. Но слово не выговаривалось… И Михаил вдруг понял, что раньше, мучаясь и подозревая, он мучился и подозревал как-то так, вообще, туманно, зыбко. Ни разу он не нашел мужества подумать: «Таня убила, Таня расчленила труп, выбросила его в ерик», — нет, он трусливо обходился смутными намеками, а если и появлялась прямая мысль об этом, он поспешно отшвыривал ее, и она тут же дробилась на что-то мелкое, бесформенное, вроде бы ложное и потому терпимое, позволяющее жить рядом с Таней и не терять веру в нее. Вот в чем, оказывается, дело — об этом надо думать без обмана, если хочешь постичь правду, а он щадил себя, играл в страхи, в мнительность, потому что за ними маячила надежда: выяснят, найдут… Кого-то найдут, про кого он и не знает, зато перед Таней он останется чист, если не в помыслах, то в слове. И Таня перед ним — тоже… И тут ложь, и жалкий, щадящий обман самого себя. А вдруг не выяснят, вдруг не найдут? Что тогда? А ничего… Будет он жить с женой, которая вроде бы убийца, а вроде бы и нет. Ведь живет же он с нею, а она — воровка… но вроде бы и нет, потому что он прикрыл ее грех в тот пятилетней давности сентябрьский вечер, когда пришел к ним Петр Федорович Касаткин. С Петром Федоровичем и прикрыл, и оба теперь блудливо отводят друг от друга глаза при неизбежных встречах в цеху. А с чего бы? Да с него же, с маленького обмана. Такая ведь мелочь: взято — возвращено, а не пойман — не вор, и не отправлять же Татьяну из-за пустяка в тюрьму снова. Они оба, некрадущие, уважаемые, считающие себя честными, были, оказывается, подлее и опаснее ее, раздавленной рулончиком украденного материала, который она, стоя у стола, потерянно и нелепо держала в руках. А могла бы она узнать, что не пойман — но вор… Не узнала. И если Рудаева убита Таней, то убита не сейчас, а тогда, в тот сентябрьский вечер, за тем вечерним столом, — и не Таней, а им самим. Боже ты мой, с тоской подумал он, когда, в какую минуту я превратился в подленького лгуна? Врал Тане, себе, Касаткину — всем! И еще предстоит один обман — уедем в лес. Будто там, в лесу, можно очистить совесть, сразу перешагнув через возмездие, не перестрадав всенародно свой позор.
Она обняла его рукой за шею, притянула голову, сказала тихо:
— Не казнись, Миша… Говори уж… что ты придумал с этой старухой?
— Ты догадалась? — отшатнулся он от нее.
— Невелика догадка, дурачок ты мой. Когда ты думаешь об чем-нибудь, у тебя все на лице. Говори уж…
И он сказал. Слова его, вобрав в себя все затаенные страхи и подозрения, стали такими дикими, такими нелепыми, что не могли уже иметь в силу одного этого никакого отношения к Тане. Трудно, оказывается, думать ясно, четко и безобманно, но еще труднее — сказать. А она слушала внимательно, глядя на него с жалостью, с материнской нежностью. Не рассмеялась его словам как нелепице, не возмутилась, не откликнулась ни единым протестующим жестом.
— Все? — спросила.
— Все, — ответил он, чувствуя, что и на этом, новом для себя пути, он терпит поражение. Добавил, понурив голову: — Прости меня, Таня. Теперь и сам вижу: глупость это.
— Для меня, может, и глупость, — печально сказала она, — а тебя, горюшко мое, эта глупость может запросто до желтого дома довести. Давай разберемся трезво и спокойно. А то ляжешь нынче ночью и опять будешь прислушиваться: сплю ли?
— Значит, все-таки не спала…
— Ты страдаешь неизвестно от чего, а я что же? Я тебе не жена?
— Прости, Тань, — снова повинился он.
— Теперь слушай… Перво-наперво, смутил тебя недостающий кирпич на трубе. Подумай сам: я убивала старуху в доме или на дворе, внизу то есть, на земле. А кирпич-то по какой причине упал с трубы? Из протеста, что ли? Дать знак тебе захотел?
Михаил вскочил, заходил по горнице, сжав голову руками.
— Дурак, — шептал он, — ох, дурак… Такого поискать! Нагородил, наворочал… Не надо, Тань, а?
— Надо, — жестко сказала она. — Теперь разберемся с топориком твоим любимым… Подозрительно, что топоришко отдан мною старику сразу после убийства Рудаевой, да? А почему ты не настораживаешься, когда случайно встречаешь на улице знакомого, которого не видел, скажем, пять-шесть лет? Почему не думаешь, что все эти годы твой знакомый специально проторчал на том месте, чтобы только встретить тебя? Не подсунься ко мне в ту субботу старик — лежал бы твой топорик и до сих пор на своем месте. И не в ящике с инструментами, где ты его искал, а в прихожей, в нижнем ящике комода, там тоже твой хлам лежит, мужичок ты мой хозяйственный… Лучше бы ты этого старика сам поискал, а то он взял топор в работу — и нет его до сих пор.
— Вернул. Дня три тому назад.
— Так ты бы его и спросил, как дело-то было. Кто кого искал: я — его, или он сам по дворам шастал?
— Не догадался, Тань… Не тем мысли были заняты.
— Как же — не тем? Тем самым… Хороший, гляжу, из тебя следователь. Обвинил собственную жену, а там хоть трава не расти… Ладно, далее пойдем… Печь побеленная, полы покрашенные, запах странный… Ну, насчет запаха — я не знаю, это уж, Миша, возьми на себя, разберись сам, если сможешь. А печи наши, в доме и на кухне, проверяли пожарники дня три спустя после убийства Рудаевой. Ты был на работе. Проверили — и ушли, замечаний никаких не сделали.
— А что ж ты мне-то не сказала? — удивленно и обрадованно спросил он.
— Да запамятовала, Миша. Ко всем ходили, у всех проверяли.
И каждому факту, который тревожил его и заставлял подозревать, она дала иное толкование. Даже о сыне, в присутствии которого, как думал раньше Михаил, невозможно было совершить
э т о, она сказала:
— Так уж и невозможно… Калитка внутренняя не заколочена, Колька у Акулины часами пропадает…
Лучше бы она не говорила этих слов! С похолодевшим сердцем он подсел к ней, спросил:
— Таня, а ты не в кошки-мышки со мной играешь? Все ты мне объяснила, на все у тебя готов ответ. Будто заранее наизусть заучила.
— А мне иначе и нельзя, — сказала она просто. — Запнусь на чем-нибудь, ты меня вновь заподозришь. Тебе со мной, Миша, нелегко, это я понимаю, обжигался ты не раз… Но и мне с тобой трудно. Ты добрый, великодушный, прощал мне много, соседи говорят — он-де все тебе простит, если после тюрьмы принял… А я, Миша, гнева твоего боюсь. И потерять тебя боюсь, родной… Десять лет с тобой прожили, а непостижимый ты для меня.
— И ты, — признался он тихо и благодарно. — Иной раз будто в пустоту кричу — без ответа. И такая тоска берет, куда бы делся. Таня, про какой ты гнев говорила — не знаю, но прошу тебя… Если это ты… мне ни слова не говори, не надо. Но завтра пойди сама в милицию… Ведь человек убит, Таня!
— Господи, — сказала она в отчаянии, — ты опять за свое? Далась тебе эта старуха! Послушать тебя, так будто ты ее сам убил.
— Может быть, я и убил ее,
Таня…
Она взяла его лицо в ладони, повернула к себе, смотрела неотрывно, долго, почти со страхом.
— Вот этого, — сказала, — и боюсь. И что ты за человек? Все скорби твои. Ладно, Миша, я пойду, если хочешь. Я пойду, но ты научи меня, как мне там говорить. А то ведь и засмеют…
Лицом приникла к его лицу, целовала в ухо, шептала:
— Не мучь ты меня, и сам не казнись, родной мой. Нехорошо ты сказал про тоску… Нехорошо, больно. Молодая была, слепая, ничего не понимала, оттого и тоска твоя… Теперь иное, теперь я другая. Верь мне, Миша, верь мне, солнышко мое.
Она робко расстегивала на нем ворот рубашки, и касания ее пальцев волновали, его, она, всегда желанная, с чуть откинутым, мгновенно истончившимся от ожидания лицом, была рядом, звала его к себе, и он успел благодарно подумать: все то, прежнее, было наваждением, потому что не могла же она… не может же… нельзя же так… И освобожденный, и осчастливленный, и крылатый от новой веры в Таню, он сейчас любил ее, как любил в снах своих, больно, забыто, нежно…
Глава шестая
1
Младший лейтенант Александр Токалов, видя, что Конев с Сергунцовым заняты разговором, попросил разрешения подождать и устроился в сторонке. Следователь рассказывал о поездке в Икряное и о встрече с главным бухгалтером районного отделения госбанка Хабаровой. Сергунцов слушал, делал пометки, а сам нет-нет да и поглядывал в сторону Токалова, чувствуя, что парень дожидается неспроста. Как только Конев кончил, Сергунцов сказал:
— Александр Григорьевич, ты позвонил из Икряного, и мы сразу пошли в СМУ, чтобы заняться этой платежкой. Мухрыгин и сейчас еще там.
— Молодцы! — искренне похвалил Конев.
— А как же… Не сидим, не лежим, мхом не обрастаем, — довольно отвечал Сергунцов. — Лида Бурцева, бухгалтер СМУ, насторожила тебя зря. Милая женщина, стихи пишет. Самолично прочитал в стенгазете.
— Стихи — это не доказательство по делу, Виктор.
— Александр Григорич, — четко проговорил Сергунцов, — супруги Бурцевы проверены основательно, забудь о них. Я ведь не только стихи читал, но и ознакомился у них дома с содержанием номера «Пионерской правды» за двадцатое августа, чем нанес, можно сказать, Огареву личное оскорбление. Старикан не привык, чтобы его перепроверяли…
— Уборщицами поинтересовались?
— Еще бы. Но тут хуже. Уборщица в СМУ одна, причем новая. Приступила к работе дня через три после убийства Рудаевой. А прежняя уволилась дней за десять до убийства. Но она-то и прихватывала отработанные бумаги для домашних надобностей.
— Нашли ее?
— Выяснились кое-какие сложности, Александр Григорьевич. Мухрыгину даны сутки. Что у тебя, Саня? — спросил Сергунцов младшего лейтенанта. — Ты у меня, брат, работаешь наособицу: тебя полковник Максимов опекает…
— Не смущай парня, — добродушно проворчал Конев. — Он и так волнуется.
А было отчего. Тетка Ариша, сказал Токалов, несколько месяцев тому назад дала взятку неизвестному лицу, чтобы иметь документ на десять лет трудового стажа, не хватавшего ей для ухода на пенсию. Справку на стаж не получила. Но и денег ей не вернули.
Конев быстро глянул на Сергунцова, уловил ответный взгляд. Уже не по одному делу работали они вместе, давно научились понимать друг друга.
— Откуда сведения? — коротко спросил Сергунцов.
— Откуда же им быть, от квартирантки, Марии Андреевой, — пожал плечами Токалов. — Ариша обмолвилась ей о взятке незадолго до смерти и посетовала, что денег своих получить назад, видно, не удастся.
— Эх, Ариша, Ариша… — сожалеюще произнес Сергунцов. — Не о том бы тебе думать, как деньги вернуть, а о том бы подумать, чтобы взятку не давать. Глядишь, и жива была бы… А что, Андреева не могла вспомнить раньше?
— Ну, Виктор Гаврилыч… Понять ее можно: не хотела вспоминать. Достаточно, что родная дочка память о покойной матери не щадит… Кстати, из-за этого меж Людмилой Инжеватовой и Марией черная кошка пробежала, а раньше были довольно дружны: обе молоды, обе несчастливы в семейной жизни. Людмила и сейчас тянется к Марии, но та видеть ее не хочет. И с Аришей под конец она тоже в размолвке была. Узнав от нее о взятке, Мария вспыхнула, стала ее ругать, вгорячах даже воровкой назвала, чего теперь простить себе не может.
— Успокой ее, она недалека от истины, — сказал Сергунцов. — Попытаться украсть у государства десять лет трудового стажа — не шутка. Д-да… А все-таки не могу и я простить твоей Марии: могла бы сказать раньше!
— Товарищ старший лейтенант, — запротестовал Токалов, — да войдите же вы в ее положение! Хозяйка убита, родная дочка чернит ее, а теперь еще и Мария станет… Больших трудов стоило мне снять этот психологический барьер. Да и не могла она знать, что сведения о взятке нас заинтересуют в связи с убийством.
— Сведения о взятках интересуют милицию всегда! — отрубил Сергунцов. — Вообще, Саня, старайся воздерживаться от выдачи легковесных справок на моральную чистоту той или иной гражданки. Мне говорили: тетка Ариша — правдолюбка, но она же хотела получить пенсию незаконным путем. Мне говорят: Мария Андреева чистая натура, ее возмутил факт взятки, но дальше возмущения дело не пошло. Ладно, я не валенок, кое-что понимаю… Но теперь-то эта чистая натура пожелает помочь следствию? Ты объяснил ей, как важно нам знать имя человека, которому была дана взятка?
— Объяснил, — ответил Токалов. — Сказал, что между взяткой и убийством возможна причинная связь. И еще сказал, что единственный человек, который может знать, кому была дана взятка, — дочь тетки Ариши, Людмила Инжеватова. Посоветовал возобновить с ней дружеские отношения.
— И что Мария?
— Расплакалась. Дескать, не пошла в милицию, промолчала, — тем самым, выходит, убила свою хозяйку. Я же говорю, чистая натура, а чистые — они все на себя берут.
— Опять тебя повело, — поморщился Сергунцов. — Отвечай коротко: согласна?
— Да, Виктор Гаврилович.
— Ну вот, — довольно проговорил Сергунцов. — А то: чистая — нечистая, убила — не убила… Поступок, и только поступок, определяет духовное лицо человека. Понял?
— Понял, — произнес Токалов с сомнением.
Сергунцов рассмеялся.
— Ничего, поймешь… Садись ближе, Саня, будем думу думать, как нам, в свою очередь, помочь Марии.
— Вы думайте, — сказал Конев, — а я все-таки попытаюсь вызвать Людмилу Инжеватову на откровенность. Каково на этот счет твое категорическое суждение, Виктор Гаврилыч?
— А таково! — мгновенно откликнулся Сергунцов. — Наивный ты человек, Александр Григорич!
2
Конев не стал вызывать Инжеватову в райотдел, сам пришел к ней домой. Подготавливаясь к разговору, еще раз перечитал материалы, имевшиеся в уголовном деле. Первым с Людмилой разговаривал Токалов, за ним — Сергунцов, а следователь райотдела капитан Емельянов взял у нее уже официальные показания. Со всеми тремя сотрудниками Людмила твердо держалась на заранее занятых позициях. Следователь прокуратуры Зародов не встречался с ней. Весьма отрицательно относясь ко всякого рода «психологическим» версиям, он считал, что в поведении Людмилы Инжеватовой нет загадок, а ежели таковые и есть, то не имеют никакого отношения к расследуемому преступлению и не стоит над ними ломать голову. Противоположной точки зрения держался полковник Максимов: по его заданию младший лейтенант Токалов планомерно изучал прошлую жизнь и связи не только тетки Ариши, но и ее дочери. И кое-что выяснил. Была загадка в поведении Людмилы Инжеватовой, и она имела все-таки отношение к убийству ее матери… А иначе ничем не объяснишь те новые факты, которыми теперь был вооружен Конев.
Людмила была в доме одна, встретила его сухо, но и без удивления, будто внутренне готовилась к его приходу. Снимая плащ, Конев сказал, что сотрудники розыска многое уже знают о жизни и смерти ее матери, это знание не совпадает с тем, о чем Людмила говорила в прежних показаниях, и он хотел бы понять, почему она так говорила. В конце концов, он ведь пришел к союзнику, цель у них одна — найти убийцу Ирины Николаевны Рудаевой…
Инжеватова пригласила его к столу, застланному старинной бахромчатой скатертью. Сказала с напряженной усмешкой:
— К союзнику… А весь наш разговор сведется к одному: выпытывать у меня станете.
— Не скрою… — добродушно откликнулся Конев, усаживаясь и словно бы не замечая ее усмешки. — Но ведь и есть что, а?
— Вам виднее, — не поддалась она на его тон. — А я уже раньше сказала все, что знала.
— Вот и пройдемся по сказанному еще разок, Людмила Николаевна. Цитирую коротенькую протокольную строчку: «Моя мать прожила не лучшим образом». Вы говорили так?
— Да.
— И в доказательство сослались на десять лет, которых ей не хватало до пенсионного трудового стажа. Человек десять лет не занимался общественно полезным трудом — прямой намек на то, что занимался чем-то иным, предосудительным. Иного толкования и быть не может, ведь эти десять лет вашей матери жить как-то было надо. Впрочем, и вам тоже, поскольку вы, несовершеннолетняя, были в ту пору у нее на руках, а глава семьи долгие годы бегал за длинным рублем, да так и затерялся в бегах… В таких условиях жить без постоянной работы — значит голодать… Или, наоборот, сыто жить, но… Большой простор оставили вы нам для додумывания характера и поведения своей матери, Людмила Николаевна.
— И в этом теперь вы вините меня? А в нашей жизни все это было! Могу и сейчас повторить то же самое.
— Условимся, Людмила Николаевна, вот о чем. Мне придется говорить вам тяжелые вещи, они сами по себе будут обвинять. Но я-то пришел сюда не обвинять, я пришел понять вас. И убедить… Готов даже к тому, — Конев улыбнулся, — что стану говорить больше, чем вы. Но надеюсь — не безответно!
Наконец-то и она улыбнулась. Проговорила быстро:
— В чем я не уверена, Александр Григорьевич…
— Не торопитесь. Попытайтесь-ка мысленно поставить себя на мое место, чтобы вам было легче понять и меня. Вы, следователь прокуратуры, приняли дело к своему производству, изучаете материалы и, в частности, знакомитесь с показаниями свидетеля Инжеватовой, дочери погибшей… Что вам, следователю, сразу же бросится в глаза? Странное, необъяснимое и противоестественное желание дочери бросить хоть какую-то тень на покойную мать. Мать была плоха, а вот она, дочь, лучше. Хотя бы потому, что всю жизнь страдала от каких-то поступков и проступков своей матери… Осознанно или неосознанно, но вы, Людмила Николаевна, словно выгораживали себя. А еще говорите — мы выпытываем… Этого Саша Токалов у вас не выпытывал. Для него ваши откровения были как гром с ясного неба.
— Но я, — воскликнула Инжеватова, — была обязана говорить правду! Он же сам меня предупредил.
— Такую — не обязаны… В таких случаях и закон щадит сокровенные родственные чувства свидетеля и не обязывает его давать компрометирующие показания на близких родственников: жене — на мужа, дочери — на мать. И особенно на тех родственников, которые не встанут, не оправдаются… Как же это так, Людмила Николаевна? Понять хочу и понять надо: за что же вы в родную мать камнем, а?
Инжеватова побледнела, взволнованно затеребила бахрому скатерти. Конев ждал. Она, не желая выдавать своего волнения, поднялась, прошла к серванту, поискала в нем что-то и оттуда спросила срывающимся голосом:
— Мне можно закурить, Александр Григорьевич?
— Вы у себя дома, — ответил он. — Да я и сам иной раз балуюсь.
Она вернулась, поставила перед ним пепельницу, закурила.
— Ночей не сплю, — призналась. — Сама не понимаю, как я могла, Александр Григорьевич…
— И все? — спросил он. — И добавить вам больше нечего?
— А что еще? Рассказать, как не сплю?
— Тогда, — произнес Конев тихо, — все ваши бессонные ночи еще впереди.
Подождал. Она молчала. Добавил еще тише:
— Потому что вы лжесвидетельствовали на мать, Людмила Николаевна.
Она резко, как от удара, вздернула голову. Спросила холодно:
— А есть закон, который оградил бы меня от ваших вторжений?
— Ну если речь зашла об этом… — Конев встал и пошел к вешалке за плащом. — Разговор продолжим в райотделе: вопросы, ответы, протокол… Ждите повестку, Людмила Николаевна.
— Господи, что это я… — мгновенно сникла Инжеватова. — Останьтесь, Александр Григорьевич. И простите меня, пожалуйста.
— Так-то лучше, — пробормотал Конев, — а то гоняете, как мальчишку… Продолжим, — сказал он, отодвигая стул. — Шесть из тех десяти лет, о которых вы упоминали, Людмила Николаевна, ваша мать все-таки работала на производстве. Пусть это было маленькое полукустарное предприятие, теперь уже ликвидированное, — Конев назвал город, где Людмила жила прежде, — но ваша мать работала, а не занималась, скажем, спекуляцией… И эти шесть лет можно было бы, при желании, восстановить, присоединить к трудовому стажу, но, видимо, вам или вашей матери показалось это хлопотным… — Александр Григорьевич поймал ее испуганный взгляд и круто свернул в сторону: — Остаются, следовательно, еще четыре года, которые вроде бы соответствуют дочерним намекам на неопределенный и отнюдь не лучший образ жизни матери.
— Возможно, — ухватилась Людмила за мысль следователя, — я и имела в виду именно эти годы.
— Нехорошо, Людмила Николаевна, — укорил Конев. — Нехорошо, мелочно… И несправедливо. Эти годы падают на ваше замужество, на рождение ребенка. Мать прожила их с вами. Надо ли мне говорить, чем занималась она и чем занимаются все бабушки, когда на руках у них и внуки, и домашнее хозяйство.
Опустив голову, Инжеватова проронила глухо:
— Добивайте уж, Александр Григорьевич… Быстрее!
— А от вас-то самой я слова дождусь? Ну ладно… В брак с Петром Инжеватовым вы вступили уже здесь, в поселке Трусово. Младшему лейтенанту Александру Токалову не составляло большого труда выяснить, что ни о подневольном замужестве, ни о материнском принуждении не может быть и речи. Наоборот, мать была против вашего брака, всячески отговаривала вас. И не в семнадцать, а в восемнадцать лет выходили вы замуж — и выходили по любви. Когда лгут, ищут выгоду… Какую вы для себя искали, Людмила Николаевна?
Сухими, выжженными глазами глядела Инжеватова на следователя. Молчала. Александр Григорьевич не торопил ее: пусть подумает.
— Не знаю, — наконец ответила она. — Затмение на меня какое-то нашло, Александр Григорьевич.
— Затмение оставим в стороне, — строго сказал Конев. — После Токалова через довольно большие промежутки времени с вами беседовали другие сотрудники. Можно бы уж и выйти из затмения… Однако не пожелали.
— Значит, я изверг, а не дочь.
— И это не ответ, — сказал Конев. — Случай мне вспомнился, разрешите уж поделиться… Давно было, четверть века назад, мы все еще очень хорошо знали цену каждому куску хлеба, в газетах нам не надо было тогда о ней напоминать… Один из моих подопечных, за час до ареста, пришел домой и съел — а точнее сказать, сожрал, скотина! — все, что жена приготовила для четверых малолетних детей. Все, до кусочка, до ложки хлебова, и, заметьте, на глазах у них, голодных. А они-то ждали к обеду отца… И когда я спросил его, как же это он мог, неужели в нем ничего не шевельнулось, он ответил мне, смеясь: «А я такой!»
Она уронила голову на стол и заплакала, шепча что-то. Конев поднялся, принес из кухни стакан воды.
— Успокойтесь, — сказал, — я верю, вы любили свою мать.
— Боже мой! — прорыдала она. — Что же я наделала, Александр Григорич! Ма-ма… Мамочка… Прости меня… миленькая… родненькая… Если бы знать… Если бы знать!
— Успокойтесь, — мягко повторил Конев. — Выпейте воды… Нам теперь, Людмила Николаевна, надо рассуждать очень трезво и очень осторожно. Ведь честно говоря, за этим вашим «если бы знать» я и пришел. Скажите же нам, что вы не знали в тот час, когда вас допрашивал Токалов, но что знаете теперь. Или догадываетесь… Скажите мне, о чем вы догадываетесь, — и мы быстро найдем убийцу.
— Зачем вы меня мучите, Александр Григорьевич? Я даже не понимаю, о чем вы говорите и что от меня требуете. И как вы можете связывать убийцу со мной!
— Это называется — не понимаю… — горько сказал Конев. — Оказывается, вы все очень хорошо понимаете. Но между нами большая разница. Я хочу выяснить эту связь, а вы даже думать боитесь о ней. Авось обойдется? Авось вы тут ни при чем, да?
— Боюсь, — призналась она, и призналась, Конев видел, искренне: — Даже думать боюсь, Александр Григорич, вы правы… Матери нет, ей ничем не поможешь, ее не вернешь. В чем виновата перед ней — отмолю, отстрадаю. Она простит мою поганую ложь… Она поймет… А мне ведь жить дальше! Ради сына, ради ее внука…
— Значит, обойдется… — задумчиво проговорил Конев. — Что ж, все мы люди, все человеки, и не вечно же, в самом деле, грызть себя. Все перемелется, пройдут и бессонные ночи. Станем мы снова чисты, и очень легкой ценой. Ведь в конце концов, тот, кто должен нас понять и простить, не скажет нам об этом. Мы сами себя от его имени и поймем и простим…
— Нет! — выкрикнула она. — Нет, Александр Григорьевич! Верьте мне, я начну новую жизнь. В ней не будет лжи и обмана. Никогда! Ни словом, ни помыслом…
— Новую жизнь? — гневно переспросил Конев. — Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают с того, что идут в библиотеку за Уголовным кодексом!
— Вы следили за мной?!
— Еще чего, — поморщился Конев. — Ежели вы помните, я ходил в кухню за водой для вас… Книжечка лежит там, на подоконнике. Завтра мне скажут, в какой библиотеке, кто из вас взял ее и когда: до или после смерти вашей матери.
— Я взяла ее, — торопливо проговорила Инжеватова. — Четыре дня назад. Муж не знает. Пожалуйста, не…
— Какую же вину вы ищете в кодексе? — перебил ее Конев. — Ту самую, про которую догадываетесь? А ведь ваше алиби установлено бесспорно, Людмила Николаевна!
Конев поднялся.
— Позвольте, — сказал, — на прощанье дать вам два совета. Первый: поторопитесь прийти к нам, иначе убийцу мы найдем и без вашей помощи. Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают со старой виной и в старой лжи. Ее начинают хоть с маленькой, но правды. А второй мой совет…
Александр Григорьевич надел плащ, взялся за дверную ручку.
— А второй совет, — закончил он, — такой: виновному в чем-то человеку вникать в Уголовный кодекс порой так же опасно, как заболевшему — в медицинскую энциклопедию. Если вам, Людмила Николаевна, понадобится правильно понять статью о взяточничестве и о пособниках во взяточничестве, придите ко мне, я квалифицированно объясню вам ее… Последний раз спрашиваю: вам нечего мне больше сказать?
Она молчала, спрятав лицо в ладони.
* * *
В райотделе Александр Григорьевич застал Сергунцова, Токалова и Мухрыгина. Устало упал на стул.
— Слушайте, — сказал, — на мне будто камни возили. И жалко-то ее, и зло берет… Это что же? Как об глухую стену бился!
— О чем, не забудь, один старый товарищ и предупреждал тебя, — скромно заметил Сергунцов.
— Не скажи, Виктор… Сходил все-таки не зря. Марии Андреевой теперь будет полегче, дорожку я ей все-таки проложил. Задачу ее вижу такой: давить на совесть Инжеватовой. Одно дело когда мы уличаем ее во лжи и умолчании, и другое — когда за то же самое осуждают ее люди из ближайшего окружения. Поддастся… Она не пропащий человек, Виктор.
— Дай бог…
— А зачем нам все это? — спросил Мухрыгин. — Вернется Емельянов из Москвы. Уверен, привезет адресочек с мешка… Неужели не расстараемся?
— Ай-яй-яй! — сказал Сергунцов. — На чужого дядю надеемся, Владимир Георгич? А между тем платежка тоже могла бы дать нам адресочек, очень близкий к убийце. Где он? Имею в виду адресочек…
— Сутки еще не истекли, — смутившись, ответил Мухрыгин. — Разыщу я эту уборщицу.
— Да, кстати об уборщице, — сказал Конев. — Не узнаю наш боевой уголовный розыск. В чем дело-то?
— В принципе пустяковое, — сказал Сергунцов, — но времени этот пустячок потребует. Уборщицу зовут Милена Борисовна Свиридова, женщина бальзаковского возраста, и этим весьма озабоченная… Я не вру, Владимир Георгич?
Мухрыгин кивком подтвердил, что да, весьма.
— А главное, — продолжил Сергунцов, — прописана она в другом конце города, у дальних родственников, но у них не жила, целый год им глаза не показывала. Жила здесь, в поселке Трусово, у кого-то на квартире. Придет вечером, когда все уже отработали, в СМУ, уберет контору — и нет ее до следующего вечера.
— Найду, — повторил Мухрыгин. — Чай, не иголка. Да к тому же еще — Милена…
— А давайте подумаем вот над чем, братцы, — сказал Сергунцов. — Как плохо иметь много… Есть у нас мешок, который что-то даст, есть платежка, которая благодаря неукротимому Мухрыгину тоже что-то даст, есть в конце концов «Пионерка», и вновь появилась Аришина дочка, чью совесть, надеюсь, Маша Андреева сумеет ухватить за скользкие бока… Много кое-чего есть, вроде бы мы уже близко ходим, а конкретного-то нет ничего. Вот моя печаль, вот моя заботушка…
— С такой-то заботушкой можешь спать спокойно, Виктор, — с улыбкой заметил Конев.
— Да? А что мне нынче докладывать на планерке?
— Надо ждать, — сказал Конев. — Машина запущена, машина работает, и ждать нам, поверьте, осталось недолго.
Людмиле Инжеватовой уже нечего было ждать. Этот спокойный, неторопливый в словах, доброжелательный следователь лишил ее последних надежд, намекнув, какую статью искала она в кодексе. Значит, они выяснили и это.
Плача, она оделась и торопливо выскочила на улицу. Зачем — она и сама не знала. Был вечер. Широкая бойкая улица плавала в лаве автомобильных и рекламных огней, и Людмила инстинктивно свернула в темный переулок. Кружным путем, отворачивая лицо от редких прохожих, будто могли они узнать ее здесь, во тьме, на кромке жилья и глухого степного пространства, она пробиралась куда-то, слепая, без чувств и мыслей, с пустой, звенящей, как колокол, головой. Наконец впереди, у чьей-то калитки, тьма сгустилась до плотности вещества, там кто-то стоял, она, проходя, опять отвернула лицо — и чуть не прошла мимо.
— Людмила! — позвал ее спокойный женский голос. — Куда спешишь?
Она повернулась, сделала на подкошенных ногах два шага, обхватила руками сильные, под тонкой блузкой, плечи.
— Ты… Ты…
Вот к кому, оказывается, она шла. Нет, следователь еще не лишил ее последних надежд… Как в спасение, вцепилась она взглядом в чужие, влажно мерцавшие глаза и звонко, на срыв, спросила, утверждая:
— Таня… Твой муж… Ты… Вы не убивали мою маму?
— Молчи, дуреха! Это ты убила ее. Ты! И молчи, молчи…
3
Зам. начальника УВД Астраханского облисполкома
полковнику милиции Максимову Е. А.
РАПОРТ
…Дальнейшая работа по проверке показаний Людмилы Инжеватовой позволила установить следующее. Инжеватова, задолго до смерти своей матери, поддерживала связь с жительницей нашего города Татьяной Бурлиной. Эту связь она скрывала от работников следствия и розыска по той причине, что боялась и боится ответственности за прямое участие в даче взятки, за которую Татьяна Бурлина обещала достать справку на десятилетний трудовой стаж, необходимый матери Людмилы для получения пенсии. По инициативе Инжеватовой и в ее доме состоялось три месяца назад знакомство И. Н. Рудаевой с Татьяной Бурлиной, при котором последней и были вручены деньги в сумме 400 рублей.
После беседы со следователем А. Г. Коневым Инжеватова резко изменила свое поведение. Раньше она на все вопросы соседей о причине смерти матери отмалчивалась, не делилась ни с кем своими мыслями, теперь, наоборот, сама ведет разговоры на эту тему, в особенности — с квартиранткой покойной, Марией Андреевой. Боязнь наказания за инициативу и пособничество во взятке у нее остается, но усиливающееся чувство вины за поступок, повлекший за собой такие трагические последствия, все более толкает Инжеватову на откровенность. Мария Андреева, осуждая Людмилу за недавнюю ложь и утайку от следствия важных фактов, убеждает ее ради памяти матери прийти в милицию и рассказать все. На вопрос Марии, а не могла ли Татьяна Бурлина, присвоив деньги, подговорить мужа или кого-либо из знакомых мужчин совершить убийство, Инжеватова, заплакав, ответила: «Не знаю, что и думать. Голова идет кругом. Это я убила ее, Маша. Я!»
В настоящее время трудно судить, решится ли Инжеватова прийти в милицию. Ее положение осложняется не только внутренней душевной борьбой, но и тем, что против такого шага выступают некоторые из соседей и особенно резко — муж, Петр Инжеватов. По свидетельству двух его товарищей по работе, он недавно заявил, что не верит ни в какие чистосердечные признания, что все это враки, выдумки милиции и т. д. Такими огульными утверждениями Петр Инжеватов, несомненно, влияет на жену, не понимая источника ее страданий, усугубляя их и не давая найти им выход. В последние два дня к Людмиле Инжеватовой несколько раз приезжала «скорая помощь».
Адрес и место работы Татьяны Бурлиной устанавливаются.
Инспектор Трусовского РОВД
мл. лейтенант милиции А. Токалов.
Глава седьмая
1
В полдень позвонил из Москвы капитан Емельянов и сказал, что вылетает в Астрахань. Дежурный по городу сообщил об этом Сергунцову, когда самолет был уже в воздухе, и добавил, что все машины у него в разгоне. Сергунцов спросил вежливо:
— Товарищ майор, вы не поинтересовались, с чем летит Емельянов?
— Прилетит — узнаем, — замороженным голосом ответил дежурный. — У меня, старший лейтенант, своих забот полон короб.
— Уф! — сказал Сергунцов, положив трубку. — Кругом нервы!
И пошел к дежурному райотдела выбивать машину для Емельянова. Там ему тоже, видать, понадобились нервы, потому что, вернувшись в штаб, он вытер платком взмокшую шею, сказал:
— Подаю в отставку, мужики. Силушек моих больше нету.
— Погоди пока, — откликнулся Мухрыгин. — Послушай сначала про техничку из СМУ, Милену Свиридову. Я ее не нашел!
— То есть как? Хороши у тебя докладики!
— Наш старый товарищ по оружию тебе доложит, — кивнул Мухрыгин на Огарева. — Уж он тебе доложит!
Тон, каким это было сказано, явно не сулил Сергунцову скорой встречи с женщиной бальзаковского возраста. Платежка-путешественница что-то никак не давалась в руки… Огарев, сидевший у окна, молча достал записную книжку, полистал ее.
— Милену Свиридову, — сказал, — не ищите. Дней за десять до убийства Рудаевой я эту самую Милену с квартиры удалил.
— Удалил? — ошарашенно переспросил Сергунцов. — Как это — удалил?
— Полгода жила на моем участке без прописки. Жить положено там, где прописан. Бабенка она смазливая и одинокая. Инженер из этого СМУ, фамилию его называть не буду, стал что-то подолгу задерживаться вечерами в конторе. А у него двое детей. Жена приходила, жаловалась… Удалил!
— И правильно сделал, Николай Леонтьич, — сказал Конев. — Нам же теперь легче: с одного человека подозрения сняты. Но именно этот человек, как установлено, брал из СМУ отработанную бумагу. Однажды Милена Свиридова вместе с другим хламом прихватила с собой и бухгалтерскую платежку. Платежка в свое время дошла до Икряного, вернулась сюда, в СМУ, ее держала в руках бухгалтер Лида Бурцева и затем, смяв и порвав, выбросила за ненадобностью в корзину. А Милена Свиридова решила содержимым корзины растопить хозяйскую печку. И не успела, поскольку Огарев ее удалил… Затем следует почти невероятное. Платежка в ночь на двадцать второе сентября побывала в руках убийцы, часть бумаг он сунул в мешок, часть — в ведро, и платежка, таким образом, снова отправилась к Лиде Бурцевой, но уже в качестве улики. Мир поистине тесен… Хозяин квартиры, у которого жила Милена Свиридова, надеюсь, остался на месте?
— Хозяйка… — поправил Огарев. — Одна. Беспардонная старуха Акулина Короткова. Адрес: улица Суворова, два. Но ежели вы думаете, что она… Прямо говорю: нет! Все ее связи знаю, давно у меня под прицелом живет. С Рудаевой не знакома.
— И газет, судя по твоей характеристике, не читает, — сказал Сергунцов. — А ведь в руках убийцы, не забудем, побывал еще и номер «Пионерки» за двадцатое августа.
— Выписывает, — поправил Огарев и его. — Только «Пионерскую правду» и выписывает.
Сергунцов долго и с изумлением смотрел на Огарева.
— Николай Леонтьич, — сказал он наконец, — мы люди нервные, замотанные работой и начальством. Ты с нами так не шути! Если одинокая старушка выписывает «Пионерскую правду», то скажи зачем? И почему в таком случае ты ее не проверил? Ведь ты же отчитывался у нас на планерке!
Версию, связанную с газетным клочком, тоже усиленно отрабатывали… Исходили из того, что номер «Пионерки», вышедший в свет 20 августа и примерно тогда же купленный в киоске розничной продажи, вряд ли бы сохранился в чьем-то доме до злополучного 22 сентября. Скорее всего газета подписная, и подписчик аккуратист… Понимали, что вывод довольно шаткий, жизнь сложнее наших логических построений, но и другое понимали: жизнь была бы для человека сплошным хаосом, не подчиняйся она определенным логическим законам. Подписчиков проверяли участковые инспекторы райотдела, и проверяли так, чтобы никого не задеть, не обидеть и не оскорбить даже намеком на подозрение. Учитывая важность задания, их регулярно вызывали для отчета и контроля на ежевечерние планерки оперативной группы.
На одной из таких планерок Огарев отчитался за двадцать девять своих подписчиков. Ему оставалось проверить шестерых. Последней в этом списке стояла Акулина Короткова.
— Вот бабушка! — сказал Сергунцов. — Всем бабушкам бабушка! Пора, Александр Григорьевич, идти по выявленному адресу…
— А как с мотивом? — спросил Конев. — Пойти-то просто, да вот с мотивом у нас что-то не вытанцовывается. Это точно, Николай Леонтьевич, что Рудаева и Короткова знакомы не были?
— Стар я уж врать-то, — обиженно проговорил Огарев.
— Да… Тут, действительно, маленькая неувязка, — согласился Сергунцов. — Мотив у нас глядит совсем в иную сторону — на Татьяну Бурлину. Владим Георгич, — обратился он к Мухрыгину, — а где подведомственный тебе юноша, Саша Токалов? Нынче он должен принести адрес и первичные данные о Бурлиной.
— Звонил. Через полчаса будет, — ответил Мухрыгин.
Услышав фамилию Бурлиной, невозмутимый Огарев малость взволновался. Впрочем, выразилось это лишь в том, что он снял и положил на стол свою тесную фуражку, обнажив бритый череп с алой, словно надрез, полоской на лбу. Снова полез во внутренний карман кителя за книжкой. Полистал ее. Сказал:
— Зря гоняете мальчишку.
Все выжидательно глядели на него.
— За Бурлиными, — пояснил он, — зря… Стариков надо почаще спрашивать, худому не научат. Вот Мухрыгин, не поленился, спросил — и получил Милену Свиридову. А Сашка Токалов, торопыга, все сам, все сам:..
— Не томи! — сказал Сергунцов. — Докладывай!
Огарев еще раз глянул в свою книжку.
— Значит, так. Акулина Короткова и Бурлины — соседи. У Татьяны Бурлиной со старухой неразливная дружба. Двор у них общий, разделен маленьким заборчиком, внутри калитка. Так и ходят друг к дружке. Татьяна в прошлом была судима.
После этих слов Сергунцов снял трубку и позвонил в управление, сообщив о судимости Бурлиной. Затем сказал Коневу:
— Теперь-то, Александр Григорич, пора!
Конев глянул на часы, спросил:
— Московский самолет приземлился?
— Да.
— Подождем, Виктор, минутки остались. Не может быть, чтобы мы зря гоняли Емельянова в Москву!
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
…Принят на исследование мешок стандартной формы, изготовленный из мешковины желто-серого цвета. Поверхность сильно загрязнена и потерта.
В процессе исследования грязь с мешка была удалена и отдельные его участки фотографировались в инфракрасных лучах. На полученных снимках выявлены слова и цифры. В дальнейшем поверхность мешка просматривалась в электронно-оптическом преобразователе с целью расшифровки букв и слов, полученных неотчетливо на снимках.
В результате выявлен текст следующего содержания:
Астрах[а]нь
пос. Трусо[во] Су[во]рова 2
Коротковой Акулине Степановне
* * *
Емельянов рассказывал, как прилетел в Москву, явился в Центральную криминалистическую лабораторию, как там осмотрели мешок и попросили выстирать его в ванне… Конев, поневоле прислушиваясь, готовил два постановления на обыск. Закончив, попросил Сергунцова разделить людей на две группы.
— Одна, — пояснил, — идет со мной к Акулине Коротковой. Другая во главе с Емельяновым — к Бурлиным. Геннадий Алексеич, ты не против? Может, отдохнуть поедешь домой? Заслужил!
— Что вы, что вы! — протестующе поднял руку Емельянов. — Это вы тут вкалывали, а на моем счету только и есть, что одна постирушка…
Из райотдела вышли с ощущением, что теперь-то конец близок.
2
Приходу следователя и сотрудников милиции Акулина Короткова ничуть не удивилась: видать, приходили к ней не в первый раз.
— Ох, не ко времени, гостенечки дорогие, — съязвила она. — Обождать бы вам до завтрева.
На столе у нее стояла чуть начатая бутылка плодово-ягодного, на загнетке шипела сковородка с картошкой и мясом. Акулина Короткова кого-то ждала. А так как клюквенный нос ее был тщательно припудрен и от нее несло дешевыми духами, то можно было заключить, что в свои шестьдесят лет Акулина умела извлекать из жизни радости.
Минут через десять, когда обыск уже шел вовсю, явился маленький, лысый, розовощекий старичок, испуганно затоптался у порога, увидев людей, на общество которых явно не рассчитывал. Акулина и тут съязвила:
— За что боролся, на то и напоролся… Так-то вот опаздывать, чугунок старый.
Румяный кавалер, втянув аппетитный запах жаркого, с сожалением глянул на бутылку.
— Пойду я, — сказал он. — А то моя старуха заругается.
— Посидите, гражданин, — попросил его Токалов. — Отпустим, тогда и пойдете к своей старухе.
У Акулины Коротковой нашли кипу старых платежек, заполненных и незаполненных, бланки строительных нарядов и шоферских путевок, отдельные номера «Пионерской правды». «Жиличка моя, Милка Свиридова, приносила из конторы на разжижку печи, соседке моей тоже давала», — пояснила она. Когда Александр Григорьевич сказал, что придется ей пойти вместе с ним в райотдел милиции, Короткова ответила:
— Я готова.
Конев допрашивал ее в кабинете Мухрыгина. На все вопросы Акулина отвечала охотно и безмятежно. До войны жила она в Ленинграде, в сорок первом эвакуировалась, судьба забросила ее в Астрахань. От первого мужа, погибшего, детей у нее не было, а со вторым — уж поздно заводить, да и помер он вскорости. С тех пор живет одна как перст.
— Родственники в Ленинграде у вас есть, Акулина Степановна?
— А как же, родименький, — Акулина за спокойным разговором со следователем окончательно освоилась, потеряла ершистость и забыла, где сидит и с кем говорит. А может быть, сделала вид, что забыла. — Сестра старшая есть, да три ее дочки, мои племяшки. Живут — куда тебе! Ну и подкинут иной раз на бедность… То денежек пришлют, то одежонку какую. Продам — тем и питаюсь.
Конев в сомнении покачал головой. Короткова уловила это, быстренько поправилась:
— Конечно, батюшка, на дареном не проживешь. Что уж там! Изворачиваешься и так и сяк… То скупишь, это продашь… Жить-то надо! Ты бы, батюшка, отпустил старика-то, — Короткова кивнула на дверь, за которой томился ее кавалер. — Отпустил бы, а? Старуха у него громовая… Не дай бог, дойдет до нее слух — прогонит! А он что? Он ко мне начнет прилобаниваться, а зачем он мне нужен в одних порточках? Тут бы самой как прокуковать…
— Старика отпустим, — сказал Конев. — Но вы что-то за себя не шибко беспокоитесь, Акулина Степановна.
— Меня отседова быстро не отпущают… Ваш Огарев давно на меня глаз положил!
— Это в каком же смысле? — улыбнулся Конев.
— А в государственном… Примстилось ему, будто я государство обманываю. Уж такой мужик допытливый! Анадысь сюда же вызвал, два часа битых мытарил. Все про какую-то штуку шерстянки с лавсаном толковал. Вроде бы я, значит, с Танькой Бурлиной украла ее с прилавка. На беззащитную женщину кто хочешь могет сослыгнуться, а он и рад, непутевый.
— Акулина Степановна, мы что-то никак друг друга не поймем. Я уж говорил вам о цели обыска, но вы почему-то не обратили на мои слова внимания. Мы подозреваем вас, Акулина Степановна, в причастности к убийству Рудаевой.
— Царица небесная! — воскликнула Короткова, но страха в ее голосе не было. — Ты меня не пужай, батюшка. Ни в жисть не поверю.
— «Пионерскую правду» выписываете, Акулина Степановна?
— А как же… Для соседского парнишки, Кольки Бурлина.
— Что же, Бурлины сами не могут выписать газету своему единственному сыну?
— Они могут, — помолчав, ответила Акулина. — Да я-то упросила…
— Зачем?
Еще помолчала Акулина. А потом глянула в глаза Коневу старая, одинокая женщина… Сказала тихо:
— Принесут газетку, покличешь: «Колька, Колька!» — он и прибежит… И почитаем вместе, поговорим, посмеемся, вот и у меня в доме не пусто и сердцу не так уныло.
Нечаянно обнажив перед следователем трепетный, в неутихающей тоске, уголочек души, Короткова спохватилась:
— А на кой ляд сдалась тебе эта газета, батюшка?
Не отвечая, Конев достал мешок из бумажного свертка, расстелил его на столе.
— Ваш?
Акулина взяла, помяла, подошла к окну и оглядела его со всех сторон.
— Мой, — сказала удивленно. — Посылку от сестры в нем получала… Я-то думала — куда запропал? — а он у вас. Ничем, гляжу, не требуете, за все хватайтесь, чтоб беспомощную женщину под статью подвести.
Конев объяснил ей, каким образом очутился в милиции ее мешок и что в нем нашли…
Короткова, выслушав, осоловело плюхнулась на стул. Беспутная ее жизнь складывалась так, что юридическую грамоту Акулина постигала во время кратковременных приводов в милицию. Но и этой грамоты вполне хватило, чтобы понять, о чем сейчас говорил ей следователь.
— Батюшка! — взмолилась она, с трудом выталкивая слова. — Гражданин начальник! Ловчила, жила неправедно, каюсь, есть за мной. Но чтобы убить? Вызволяй меня, родимый. Засудишь — грех на тебе ляжет…
3
В соседнем кабинете капитан Емельянов допрашивал Михаила Бурлина.
Обыск в доме у Бурлиных был более удачным, чем у Коротковой. А в то, что он будет удачным, Емельянов поверил сразу же, как только все они вошли в горницу. Хозяин, высокий, нескладный, с измученным, как показалось Емельянову, какой-то болезнью лицом, поднялся и, жалко улыбаясь, произнес:
— А мы вас ждали.
— Почему? — спросил Сергунцов. — Почему вы нас ждали, Михаил Алексеевич?
— Ждали — и все, — сказал Бурлин так, будто свалил с себя огромную тяжесть. И эту освобожденность, эту странную жутковатую радость почувствовали все, в том числе и понятые, парень и девчонка, тремя минутами раньше шедшие в кино и откликнувшиеся на неожиданную для них просьбу. Понятыми им ни разу не приходилось быть, это обещало новые неизведанные впечатления: они согласились охотно, ожидая по молодости лет игры, а не дела. Но теперь, увидев хозяина дома, услышав его слова, почуяв за ними то, что он, потерянный, не сумел скрыть, молодые люди тревожно и болезненно напряглись. Девушка сделала инстинктивное движение назад; не оборачиваясь и не отводя глаз от Бурлина, она нащупывала дверную ручку, чтобы уйти из этого дома, где игрой в детектив и не пахло. Парень, сомкнув брови, предупреждающе сжал ей локоть. Текла долгая минута всеобщего напряжения от смутной, но единой для всех догадки, и наконец ее сумела рассечь, как ножом, хозяйка дома.
— Ко всем приходили, — сказала она спокойно. — Отчего бы и к нам не прийти? Тоже в заречье живем.
— Не ко всем с обыском, Татьяна Васильевна, — Емельянов протянул ей ордер.
Она прочла, пожала плечами.
— Ищите.
Вечером, хотя и ранним, но уже без солнца, не больно-то много найдешь… Но вот в спальне под тумбочкой Сергунцов обнаружил крышку люка, ведущего в подпол. Сдвинул тумбочку, откинул крышку… Вылез оттуда весь в пыли, сунул фонарик понятому: твоя, мол, очередь поглядеть на то, за что будешь расписываться в протоколе. А парень сначала поглядел на свой костюм, потом на девушку…
— Не робей, — сказал Сергунцов. — Все, что можно вынести на себе, я вынес. Тебе крохи остались.
Парень махнул рукой, полез.
— Товарищ капитан! — обратился Сергунцов к Емельянову по всей форме. На время роли переменились: теперь не Емельянов ему, а он подчинялся Емельянову как следователю, руководящему обыском. — Товарищ капитан, в подполе на досках, особенно в щелях между ними, мною обнаружены подозрительные натеки. Вот… — он протянул Емельянову крошечную лепешку темно-коричневого вещества. — Кровь. Свежая, еще и вязкости не потеряла.
И неприкрытую радость Сергунцова, и бодрый его тон, и ловчий азарт капитан Емельянов понимал и внутренне разделял, потому что все это было вызвано — теперь уже несомненно! — скорым окончанием дела. Но рядом стоял Михаил Бурлин. Глядя в его опрокинутое потухшее лицо, видя его неизмеримое и до удивления открытое всем страдание, капитан Емельянов чувствовал себя беспокойно, стыдно ему было почему-то за этот бодрый тон Сергунцова. Но кто же тогда, кто? Не Бурлина же Татьяна — так естественно держаться невозможно. А Сергунцов, деловитый и жестокий в своей деловитости, снял верхний рядок кирпичей с пода русской печи и, подозвав Бурлина, показал ему на темные пятна.
— Сплоховали вы, Михаил Алексеевич, — сказал он, выламывая два кирпича на экспертизу. — Следовало бы перебрать весь под.
Во время обыска Бурлин старался не отходить от Емельянова. И сейчас качнулся к нему, словно хотел сказать: защити! И опять это движение было замечено всеми.
— Что уж ты, Миша! — сказала недовольно жена. — Чего ты так пугаешься? Забыл, что ли? Мы же осетра разделывали.
— Какого осетра? — спросил он, С надеждой спросил. И тут же, успокаиваясь, повторил эхом: — Да, осетра… Запамятовал я.
— Не слышал, чтобы осетров-то разделывали в спальне, — жестко сказал Сергунцов. — Сомневаюсь, чтобы и загнетка была подходящим для этого местом.
Бурлин крепко потер ладонью лоб, будто приходя
в себя. Спросил у жены:
— Где сын?
— К соседке отвела, Миша…
Тогда он спокойно сказал Емельянову:
— Заберите меня, гражданин следователь. Не тяните.
И так же спокойно и ровно он отвечал в кабинете на установочные вопросы: фамилия, имя, год рождения, место работы… Покончив с этим, Емельянов сказал:
— Мне показалось, Михаил Алексеевич, что результаты обыска были для вас неожиданны. Ваша реакция, честно говоря, сбивает меня с толку. Но тогда кто? Кто убил в вашем даме Рудаеву? Вы? Ваша жена? Или третий кто?
А Бурлин опять ухватился за ту надежду, которую разрушил своими жесткими словами Сергунцов, спросил:
— А может быть, она и не была убита в нашем доме? Может быть, все это, — он кивнул на два кирпича и кусок доски, вырезанный из пола, — совпадение? Помню, Татьяна покупала у кого-то осетра…
— Вряд ли совпадение, Михаил Алексеевич… Вы, конечно, имеете право ничего не отвечать до результатов экспертизы. Да и после экспертизы — тоже имеете полное право. Но мы ведь пошли на обыск в ваш дом не потому, что нам так захотелось… Вы понимаете, о чем я говорю?
— Да, — ответил он. — Хорошо, что вы нашли нас. Я боялся: не найдете.
Помолчали.
— Странный вы человек, Михаил Алексеевич… Вы хорошо продумали свои слова?
— Да, — повторил он. И добавил четко: — Я убил Рудаеву.
Еще помолчали.
— Не верю я вам, — тихо произнес Емельянов. — Однако слово сказано… В таком случае давайте, Михаил Алексеевич, подробности: когда, за что, как чем?
— Я не смогу ответить на ваши вопросы, — сказал Бурмин. — Я был тогда как во сне… Но я убил ее. Убил!
4
Пока у Бурлиных и Коротковой шел обыск, старший лейтенант Огарев по заданию Сергунцова ходил к их соседям.
К Марковым он пришел, когда вся семья пила калмыцкий чай во дворе под навесом, называемым здесь повсеместно салтенькою. Охотно принял приглашение к столу: с утра маковой росинки во рту не было, загонял Сергунцов. Он выпил третью кружку (калмыцкий чай полагалось пить из кружек) и, покрывшись легкой испариной, сказал с сожалением:
— Не устоял, соблазнился… Пью ваш чай, хозяева, ем ваш хлеб, а душа болит.
— Что так, Леонтьич? — обеспокоилась хозяйка. — От души и предложено.
— Потому и соблазнился, что от души, а я при службе. Не положено. Это первое… А второе — обманули вы меня, хозяева, крепко обманули!
— Сурьезно выражаешься, Николай Леонтьич, — сказал Марков, шофер по профессии, а по натуре — основательный, крепкий мужик, не ветрогон.-Этим он был похож на Огарева, и они, кстати сказать, знакомы были давно, и даже больше чем знакомы: не одну рыбачью зорьку встретили вместе. — Сурьезно выражаешься, — повторил Марков. — Поясни, будь добр, свою мыслю.
— Я у тебя двадцать четвертого сентября был?
— Был. Не помню, какого числа, но недели полторы назад был.
— Двадцать четвертого был, — сказал Огарев, сверившись со своей книжкой. — И об чем я тебя спрашивал? И тебя, Михаловна, — обратился он к хозяйке.
— Да уж забыла я, Леонтьич. Времечка-то сколько прошло?
— Не крути, мать… — сказал Марков. — Спрашивал ты, не горела ли у кого в пятницу вечером сажа в печи, не видел ли я у соседей искр, пламени? Вот об чем ты спрашивал.
— Хорошая у тебя память, Константин, — сказал с удовлетворением Огарев. — И что ты мне тогда ответил?
— Ответил: не видел.
— А теперь что ответишь?
— И теперь бы надо так ответить, — замялся Марков, — да лицо что-то у тебя дюже сурьезное. И потому отвечу: видел. Искрила, и сильно, труба у Бурлиных. Дня за два до твоего прихода ко мне. Теперь уж дело прошлое — можно сказать.
— Поглядите-ка на него, а? — возмутился Огарев. — Он сам решает, когда можно, когда нельзя. Я к тебе и тогда не с улыбочкой и не с песнями приходил… Тебя закон обязывал говорить правду, а ты?
Маркова было трудно вывести из себя, но при упоминании о законе его мотор начал набирать обороты.
— Не кричи на меня, — сказал он. — Тоже — друг называется…
— Я тебе сейчас не друг, — сказал Огарев, — а представитель власти. И ты отвечай представителю власти: почему правду сразу не сказал?
— А потому, что вы тогда все словно взбесились… Пожарники да и ваш брат, милиционер, каждую печь обнюхивали. Не ты ли в мою сам заглядывал? Обида взяла… Многих заставили перекладывать, а зима на носу. Скажи я про Бурлиных — могли бы и их без тепла оставить, ныне печника не больно быстро сыщешь, дефицит! Да и делов-то? Ну, печь искрила… Постучал я к ним в окно, вышла Татьяна. Спасибочко, говорит, Петрович, я и не вижу. Вас, говорит, мужиков, дьяволов, таких-рассяких, разве вовремя заставишь дымоход прочистить? Мой опять увеялся на рыбалку до понедельника, а я тут хоть разорвись.
— Это уж точно, — поддакнула Михайловна. — Я, грешная, Татьяну недолюбливаю, но срезала она вашего брата не в бровь, а в глаз. Вы со своей рыбалкой скоро ума лишитесь.
— Слыхал? — Марков озорно глянул на Огарева. — Я сам Таньку не люблю, это не баба, а сей-вей-рассевай, не такую бы надо Михаилу, парень он уж больно хороший. Так чего ж я буду его подводить? Да и делов-то, говорю, всех? Приехал, дымоход прочистил — печь на ходу.
— А в котором часу вечера труба искрила?
Марков задумался, вспоминая. Ответил не совсем уверенно:
— Кажется, в девятом.
— А Михаил когда уехал на рыбалку?
— В седьмом. Я с работы иду, а он мне навстречу, на плече подвесной мотор держит. Поздоровались, потолковали немного. Помню, он сказал, что едет на остров Буйный и вернется вечером в воскресенье.
Добираться до острова, соображал Огарев, примерно полтора часа на подвесном моторе: он не раз с тем же Марковым ездил туда. Но сначала надо от дома добраться до лодочной станции. Конец рабочего дня, транспорт загружен, а Михаил не из тех, кто будет пробиваться к трамваю нахрапом, да еще с мотором на плече. Час убил, не менее… Итого на круг получается два с половиной часа. Значит, в самое критическое время Татьяна оставалась дома одна. Не может быть… Видимо, он все-таки по каким-то причинам не уехал на рыбалку.
— А Михаил не вернулся тогда же? У нас вот с тобой сколько раз дело срывалось! Мотор, сломался, то-се, мало ли…
— Мотор у него и впрямь сломался, но Мишку попутный баркас дотащил до острова, и оттуда, в воскресенье, — домой привез.
— Он сам тебе говорил про баркас?
— Слушай, товарищ Огарев! — взъерошился Марков. — Ты чего это в меня, как клещ, впился?
— Оттого и впился, — горько ответил Огарев, — что несознательный ты элемент, Константин. А кабы был ты сознательный, как все граждане, мы бы убийство в три дня раскрутили.
— Какое еще убийство? — ахнула хозяйка.
— Такое… Рудаеву забыли?
Огарев видел, как у основательного его товарища по рыбалке вытянулось лицо. Туго соображал Марков, но, сообразив, попал в точку.
— Прости тогда, Леонтьич, — сказал он. — Подвел я тебя.
— Да как же так? — ахала и охала хозяйка. — Неужто Бурлины? Да кабы знать — рази мы бы умолчали? Да не может такого быть, Леонтьич! Ох, изверги, изверги! И мысли-то такой не было, и подумать-то на них не могли!
— Я вас не про мысли спрашивал, — сказал Огарев, поднимаясь. — Я вас про возгорание в печи тогда спрашивал… Гражданин Марков! Собирайся… Пойдешь со мной в отдел, дашь там свидетельские показания следователю.
Доро́гой Марков сказал, что баркас называется «Зоркий», а капитаном на нем шурин Маркова, Сергей Вырин. Назвал адрес…
5
Есть много странностей в поведении человека, которые он сам же не может ни понять, ни разумно объяснить. Зачем Иван Бурцев зарывал в землю подкинутое ведро, осторожно запаковав его в полиэтиленовый мешок? К чему такая предусмотрительность, если добрый человек Ваня уже был побежден своими домашними, сдался, отступил? Объяснить он это тоже не мог. А экспертам и не нужны были его объяснения: они получили возможность — с большим трудом, правда, среди стертых и полустертых отпечатков пальцев на внешней и внутренней поверхностях ведра, — выявить один, очень четкий. А дальше — дело техники: есть картотека, а Татьяна Бурлина была когда-то судима…
Но имя ее и без того уже попало в поле зрения розыска — из рапорта Александра Токалова. Официальное заключение экспертизы поступило с нарочным в райотдел минут через десять после того, как члены оперативной группы ушли на обыск к Бурлиным и Коротковой. Обыски были закончены, получено признание Михаила Бурлина в убийстве; у старухи Акулины Коротковой Конев выяснил, что месяца три назад Татьяна Бурлина брала у нее злополучный мешок для каких-то домашних надобностей. И не вернула. А в пятницу вечером, с девяти до одиннадцати, лежала старуха Акулина в постели с большим давлением, при ней был сынишка Бурлиных, Колька, принес ей градусник, измерял температуру, любит он это дело, на врача, видно, выучится, пострел! Конев отпустил Акулину домой, сказав мимоходом, что подозрение с нее снимается, поскольку Михаил Бурлин признался в убийстве. И, увидев, как в радостном возбуждении забегали ее шустрые глаза, суровым тоном предупредил, что доверил ей тайну следствия, которую ни при каких обстоятельствах не должна знать Татьяна Бурлина. Акулина клятвенно заверила Конева, что придет домой, запрется — и ни-ни… Но не такая старуха сидела перед следователем, чтобы утерпеть, несмотря на доверенную тайну… Александр Григорьевич на это и рассчитывал.
Затем он допросил Михаила Бурлина, но тот повторял, что и Емельянову: убил он, на рыбалку в пятницу вечером собрался, но раздумал ехать, с полпути на лодочную станцию вернулся, жены дома не было, ушла с сыном куда-то в гости, об убийстве не знает и к нему непричастна. Конев предъявил Бурлину акт экспертизы, сказал тихо:
— Если она ничего не знает, то вы сами подкидывали и ведро к Бурцевым. Но почему на нем пальцы вашей жены?
И тогда Михаил Бурлин замолчал, как будто не слышал ничего, что говорил ему следователь. А может быть, и не слышал…
Конев приостановил безрезультатный допрос.
Был уже одиннадцатый час вечера, сегодняшний долгий день измучил всех, и можно было бы сейчас поставить точку, а остальное доделать завтра с утра. Но уходить никому не хотелось. Собрались в штабе, ждали Огарева, который обещал разыскать капитана баркаса Сергея Вырина, если только «Зоркий» не ушел в очередной рейс. К счастью, не ушел… Александр Григорьевич допросил Вырина и, зная, что его ждут, вернулся в штаб, сказал коротко:
— Полное алиби.
Помолчали.
— Брать ее надо, — сказал Токалов. — Чего медлим?
— Ребенок при ней, Саш, — ответил Огарев. — При ребенке — нехорошо… Утром уйдет в школу, тогда уж… Мое дело десятое, следователю здесь распоряжаться, но думаю, что и Мишке Бурлину лучше эту ночь у нас переночевать. Сумной он, кабы чего не натворил над собой… А с солнышком у человека дух крепче.
Оделись, вышли на улицу. Прощаясь, Огарев — жил он неподалеку — сказал, продолжая свою беспокойную мысль:
— Разнесчастный мужик… Вчуже жалко!
— Жертвенник он, твой Мишка, — проронил Мухрыгин, влезая в дежурную машину. — Надо же — все взял на себя! И на что надеялся? Мы ему что тут — лопухи?
— Лихо ты его припечатал, Владим Георгич, — сказал Емельянов, усаживаясь рядом. — А вот во мне Бурлин вызывает сочувствие.
— Есть в нем что-то, — согласился и Сергунцов. — Но тоже, знаете… так нельзя. На жертву шел, а подумал бы: осудят меня, с кем сын останется, с какой мамочкой?
— Когда идут на жертву, не думают, Виктор, — сказал Конев. — А подумают — уж не идут… И слава богу, что не успеваем подумать.
— Старею, — вздохнул Огарев, стоя у машины, — совсем старею… Что-то в нынешней совести стал мало понимать. После войны шпана убивала за кусок хлеба, за десятку… Возьмешь, бывало, такого ворюгу, гнев обуяет, ну, кажись, разорвал бы! А понимал, ясно было, почему и отчего. В нехватках да недостатках взгляд на совесть человечью был тогда прост и прям. А нынче что? Женщина, мать… Не голодала, не холодала, одета, обута, в доме, не скажу, густо, но ведь и не бедно. Ан, нет — за лишние деньжонки — я человека убью, не пожалею… И эта, вторая, как ее… Людка Инжеватова! «Скорая» к ней приезжает, врачи хлопочут, молодое сердечко и нервишки ей поддерживают, но в милицию она так и не пришла, не проснулась в ней совесть до такого шага, не выгребла из души прошлого, будет в нем подгнивать. Да и будет ли? Нынче успокоительных таблеток — пей, не хочу. В каждой — райская жизнь. Моя старуха, чуть что не по ней — хлоп! — приняла… И все по ней, и душа тиха, и жизнь прекрасна. Н-не понимаю… Дело раскрутили, а радости никакой нет.
— А вот у меня, старый, большая радость, — с вызовом сказал Мухрыгин.
— С чего бы это? — хмуро спросил Огарев.
В раскрытую дверцу просунулась мухрыгинская правая рука с широко растопыренными пальцами.
— Гляди, старый, — сказал Мухрыгин и стал загибать пальцы. — Убийцу нашли. Нахаленка Дроботова отучили от даровых барашков; захочет, положим, еще разок разменять совестишку на пятачки, да вспомнит, как прищучили, поостережется; неволей, из страха, станет жить честно, что тоже, скажу тебе, старый, совсем неплохо, законы-то надо уважать! А страдалица Инжеватова? И она впредь совать взяток не станет, шустрая! У меня и о Бурлине, о котором вы тут плачетесь, есть слово. Благодаря нам гражданину Бурлину опять же будет над чем подумать. Что это? Вырыл в собственной семье монашескую пещерку, спасался в ней, а жена что хотела, то и творила. Не моя она жена!
Все невольно рассмеялись.
— Чему смеетесь? — не на шутку обиделся Мухрыгин. — Повело вас, гляжу, на жалость и сочувствие… Ох вы печальники! Поднял я в архиве дело Татьяны Бурлиной, почитал. Полные пять лет ей можно было дать по закону, но как же… Молода, в первый раз, ребенок маленький, муж хороший, семья будет разбита… Учли, вошли в положение, смягчили, раз закон позволяет, дали три года. И тех не отсидела, голубка! Уж чересчур мы добрые да жалостливые…
— Я с тобой согласен, Владим Георгич, — серьезно сказал Сергунцов.
— А я нет, — сказал Конев.
— И я нет, — сказал Токалов, забившийся в уголок на заднем сиденье.
— Трогай, парень, — обратился Огарев к шоферу, — ихним разговорам не будет конца. Всю правду никогда в одно слово не вложишь, правда большая, много слов для нее надобно… Александр Григорич! Мне поручишь завтра утречком привести Бурлину?
— Думаю, она сама придет, Николай Леонтьич, — ответил Конев, вспомнив об Акулине Коротковой. — Предупреди, на всякий случай, дежурного… А уж если нет, к десяти утра доставь.
— Ох философы! — возмущенно пробормотал Мухрыгин. — Ох жалельщики!
Огарев прощально махнул рукой и устало пошел в дежурку…
6
На рассвете Татьяна Бурлина пришла в райотдел, назвала старшему лейтенанту Романову свое имя и сказала, зачем пришла…
Романов, выжатый колготной ночью, заполнял в этот тихий час журнал приема и сдачи дежурств. Поднял голову от страницы, вгляделся в лицо вошедшей.
— Эх, Татьяна Васильевна, — сказал с укором. — Прийти бы тебе вот так-то недельки две назад. А нынче что ж? Могла бы и солнышка дождаться.
Она, будто не по ту сторону деревянного барьера стояла, — ответила далеким-далеким голосом:
— Мое солнышко давно закатилось, старший лейтенант. Отпустите, прошу, мужа. Не виноват он.
— Об этом следователя надо просить, гражданка Бурлина, — строго сказал Романов. — Я одно лишь могу сделать — зафиксировать явку в журнале…
7
Чувствуя отвращение к каждому мгновению, которое он еще должен прожить, Михаил сел на кушетку, пригнулся и торопливой рукой стал срывать с правой ноги носок. Зажатая меж колен двустволка по-змеиному холодила щеку, мешала ему, он дергал лицом, отодвигал ее, мешал себе еще больше. Наконец все. Откинулся, примериваясь. Сейчас, сейчас…
И вдруг услышал: дверь на веранду открывает сын, зовет его. Еще секунды оставались, он мог бы успеть… Михаил сквозь зубы, со стоном, втянул в себя воздух. Переломил ствол, вынул патрон и отшвырнул ружье прочь.
Ему и этого нельзя. Надо жить.
Влетел Колька, теплыми ручонками обнял отца за шею, и Михаил прижал к себе худенькое тельце, не понимая теперь, как же он мог забыть о сыне. Помнил все четырнадцать часов, которые провел под арестом, знал, что есть в их семье самый главный, самый хрупкий, перед которым надо держать, ответ не только Тане, но и ему. И вот — будто замстило…
— Папка, папка… Это правда? Мама убила бабушку Аришу?
— Ты ее знал? — спросил Михаил, холодея.
— Она приходила к нам. Ни за что не поверю! Скажи мне, папка, скажи… Быстрее!
Глаза в глаза… И не отвести их, и не скрыться, и не солгать. Нет сил ответить. Нельзя не ответить. И надо еще жить, жить…
Печь с выломанным подом, как с распяленным в крике черным ртом, качнулась и медленно поплыла на Михаила. Он выдвинул плечо вперед и прижал, загораживая, к себе сынишку. Колька, спрятав лицо в отцовскую грудь, бил кулачонками по его плечам.
Что ответить ему? Что?
Соловьёв А
Дважды украденная смерть
Повести
Приключенческие повести, представленные в книге, принадлежат перу челябинских литераторов. Поклонники детективного жанра смогут найти в них и занимательный сюжет, и сложно переплетенную фабулу жизни людей нашего непростого сегодняшнего времени, когда не каждый еще в состоянии определить собственное место среди других людей достаточно точно.




Магическое слово «Инюрколлегия»



В тот день мужчины из техотдела, как обычно, вышли на лестничную площадку покурить. Эдик Подгорный, большой любитель розыгрышей, сенсаций и, конечно, сплетен, не успев еще поджечь сигарету, огорошил всех сообщением:
— Наш старик, агент «Два нуля восемь», скоро, похоже, наследство в долларах получит!
— Не трепись, — равнодушно отреагировал за всех Хрусталев, человек серьезный и обстоятельный. За всех, потому что знали, что Эдиковы сенсации на девяносто девять процентов были липой, порождением его фантазии, непроверенными слухами. Либо искаженными сведениями из газет, которые сам-то он читал не слишком регулярно и прилежно.
Агентом «Два нуля восемь» за глаза прозвали Степана Викентьевича Корзуна, работавшего в отделе экспертом по зарубежным техническим разработкам. В силу своего пенсионного возраста, а также благодаря необычным своим занятиям, он находился особняком в коллективе и был предметом безобидных, в основном, шуток. Знание же им языков невольно порождало уважительное отношение.
Прозвище «Агент» родилось не случайно. Было в биографии Степана Викентьевича нечто такое, что находилось для сотрудников треста под семью печатями. Те, кому положено, знали, конечно, как и при каких обстоятельствах попал Корзун за рубеж, а также и то, как вернулся на Родину. Но никто не знает, как и при каких обстоятельствах сведения, которые стараются не афишировать, просачиваются для всеобщих пересудов, трансформируются в домыслы и вообще в чепуху, становясь достоянием тех, кого они меньше всего касаются.
Степан Викентьевич своими воспоминаниями в тресте ни с кем не делился, мемуаров, надо полагать, не писал. Его досье в отделе кадров содержало то, что ему положено содержать. И люди в этом отделе тоже знают, о чем говорить можно, а о чем нельзя. Ан нет! Окружающие с уверенностью утверждали, что он жил в Австралии, в Гонконге, в Нью-Йорке. С кем-то переписывался и даже получал посылки. Пустяковые, понятно, с мелким барахлишком, заморскими диковинками, каких у нас не бывает и которые там ровным счетом ничего не стоят. Что-то Степан Викентьевич иной раз показывал, а что-то даже дарил. Обычно женщинам.
Эдиково сообщение, несмотря на его вздорность и анекдотичность, все же вызывало кое-какое оживление. Своей вздорностью хотя бы.
— Он тебе что, сам сказал? — вопросом, в котором было больше иронии, нежели заинтересованности, попытался обезоружить любителя фантазий Вовчик Колобов из лаборатории вычислительной техники, постоянный участник дискуссий клуба-курилки на лестничной площадке. И к тому же лучший Эдиков друг.
Эдику этого вопроса только и надо было. Он даже забыл про сигарету — настолько ему хотелось поделиться сделанным открытием.
— Сам допер! Вычислил! — с торжеством объявил он, почему-то понизив голос. И как раз то, что он понизил голос, по неписанной логике парадокса, привлекло к его рассказу внимание даже самых скептически настроенных. — В общем, мне бритвочка понадобилась, ну лезвие, значит, карандаш подточить...
То, что Эдик большую часть рабочего времени ищет предлог покинуть свое место за служебным столом, факт настолько привычный, что история с лезвием придала его болтовне известную долю достоверности.
— У Степана этого добра припасено столько, что на две конторы хватит... Я и подкатился к нему, так, мол, и так, позвольте лезвие... А он, такой всегда предупредительный, будто и не слышит. В газету уставился. Я тут на него глянул, а у него челюсть отвалилась и глаза остекленели. Я его еще раз по имени-отчеству окликнул — ноль эмоций. Осторожно глянул ему через плечо: что это, думаю, его так в «Известиях» чуть ли не до кондрашки довело? А он уперся глазами в то место, где обычно мелконьким таким шрифтом, черненьким таким, «Инюрколлегия» объявления свои дает. Я потихоньку отошел, сел за свой стол. На него поглядываю. Ну чего тут, козе ясно, в чем фокус... Видно, кто-то из его заокеанских друзей ласты загнул, а старику свои капиталы оставил. Завещал, так сказать. Если много, так тут не только дара речи можно лишиться. Вообще Кондрат может оглоушить...
— Какой Кондрат? — не понял Вовчик, но потом все же сообразил. И следующий вопрос задал уже по существу: — А там что, фамилия его указана?
— А тебе что, его настоящая фамилия известна? Под какой он там фамилией жил — кто знает.
Это рассуждение произвело впечатление на всех.
— Получается, что он себя узнал?
— Получается. Это для нас там всякие Джонсы и Смиты — пустой звук, а он-то въехал, будь спок. Тем более, что и география сама за себя говорит. Тут все схвачено, за все заплачено...
— У нас тоже есть подшивка «Известий». Нонна подшивает. Как и «Правду», «Рабочую трибуну»...
— А ты у Корзуна не пробовал попросить газету, — вмешался Хрусталев.
— В том то и дело, что нет! — горячо отреагировал Эдик. — Он ее сразу в ящик стола запрятал, ключ в замке повернул, как только осознал мое присутствие. А как только врубился, что я всего лишь за лезвием, засуетился, готов был все свои канцелярские принадлежности подарить. Лишь бы я поскорее слинял.
— Так ты, значит, так и не прочитал, что там в том объявлении сказано?
Эдик хмыкнул.
— Так я ж не такой умный, не сообразил, что в подшивку можно заглянуть. Да и Нонна не почесалась, наверно, чтобы свежую газету подшить. Старик-то ее в киоске, надо думать, в семь утра схватил.
Сколь ни необычным и неожиданным было предположение Эдика насчет инюрколлегии, в самой ситуации заключалась определенная притягательность. Никому из присутствующих в импровизированном клубе-курилке не доводилось встречать в жизни наследника иноземного капитала, живущего в нашей стране, тем более работающего в одной организации. А легенды, связанные с именем Корзуна, позволяли сделать допущение, по отношению к кому-то другому могущее показаться нелепым. Вовчик, загасив сигарету, вдруг выказал решимость к немедленным действиям:
— Пошли, возьмем у Нонны газету. Прочитаем объявление и либо изобличим трепача, либо выведем на чистую воду капиталиста.
Понятно, что никто из солидных товарищей и не подумал последовать этому легкомысленному призыву. Зам. начальника отдела, демократично дымивший вместе с подчиненными, произнес вкрадчиво:
— Прогуляйтесь, прогуляйтесь, гляньте, потом нам расскажете.
Так что Вовчика сопровождал лишь носитель идеи — Эдик. Газету они нашли без труда — она лежала у Нонны на столе вместе с другими, дожидаясь, когда настанет очередь отправиться в подшивку.
Появление сразу двух претендентов на одно периодическое издание ничуть не удивило Нонну: вечно этим парням нужен какой-то футбол, хоккей, еще что-то такое, что и век не нужно нормальным людям. А вникать ей, Нонне, библиотекарю отдела, во все это, ясное дело, было недосуг.
Изучение объявления инюрколлегии не дало никакой пищи умам доморощенных детективов. Вовчик сразу поскучнел: ни география, ни начертания фамилий к Корзуну, похоже, никакого отношения не имели.
— Что-то ты, старичок, во сне увидел, а на работу досыпать пришел. Тебе и показалось. Дед, может, и не в газету вовсе смотрел, сердчишко, может, прихватило. Вот и прибалдел. А ты сразу: наследство, наследство!
Сухие и малопонятные строки объявления инюрколлегии слегка охладили пыл Подгорного; в них и вправду ничего не говорилось насчет Корзуна, даже намека никакого не просматривалось. Но сдаваться он не собирался.
— Чего ты понимаешь! — более громко, нежели позволяли условия приемной управляющего трестом, начал он доказывать. — Фамилии вообще могут не совпадать. А потом, у этого деятеля там, за кордоном, вообще мог быть десяток фамилий. И все на иностранный лад. Это он здесь Корзун... А там — если Токарев, так Вилли. Или какой-нибудь Смирнофф, Петрофф. Слыхал: Смирнофф водка?
Внимание Нонны было поглощено срочной бумагой, которую дал ей напечатать главный инженер. Но знакомое имя мгновенно включило вторую сигнальную систему: не отрываясь от текста и клавишей машинки, девушка машинально, почти автоматически поинтересовалась: «А что Корзун?» Вразумительного ответа на свой вопрос она не получила и снова углубилась в работу.
Друзья еще пошушукались насчет фортуны и наследства. Потом перешли на заграничные напитки. После чего разошлись по своим рабочим местам, договорившись после работы заглянуть в коктейль-бар, посмотреть, что там творится. Благо был день аванса, так что сам бог велел...
* * *
Засыпан полумрачным светом ресторан.
Под звук бокалов — говорящий голос джаза.
Я слышу южный диалект людей, влюбленных не навек,
Мужские нежности, любезности и фразы... —
ныл магнитофонный тенор.
Сытый бармен, упакованный ярко, как шведский презерватив, держался соответственно своей обложке. От скуки он протирал бокалы тряпкой, изредка оглядывая полупустой зал.
Эдик и Вовчик, покручиваясь на вращающихся табуретках у стойки, потягивали через соломинку коктейль. Уже третий по счету.
— Черт бы его побрал, — бурчал Эдик, который молчать попросту не умел — ну наливай же сюда коньяк, ну ликер! Ну, а «Агдам»-то зачем лить? От этого «бутерброда» фонит исключительно «Агдамом».
— Пей, что дают, — флегматично отозвался Вовчик. — Годика два-три назад и это было бы за счастье. И потом, посуди сам, коктейль обозвали «Тройка». Значит, надо же было и третий ингредиент, кроме коньяка и ликера. Привезли им «Агдам» — вот и заливают его третьим.
Третий — лишний.
— Бог троицу любит. И вообще ты ж не в Австралии! — Вовчик подмигнул.
— Австралия! — Эдик завелся с полоборота. — Увижу ли Бразилию до старости моей! Проклятая жизнь — травят тебя коктейлем «Тройка» с «Агдамом», и только с «Агдамом». И без него не нальют. И все потому, что у тебя деньги деревянные. Да и тех не навалом. А этому мерину старому отцепят сейчас мешок фунтов австралийских и будет пить «конину». Французскую, по сто рублей за кило...
— В Австралии доллары, а не фунты.
— Тем более. Это же валюта. Ва-лю-та!
— Да не будет он коньяк французский пить. Он же старенький. У него уже печень сморщилась.
— Право, дурак же ты, парень! Французским коньяком печень не испортишь. Это «как-дамом» вонючим печень испортишь. Мы ее портим с тобой. Ишачим, как быдло, задарма и к старости получим по ордену сутулого на брата.
— Уж ты изработался в своем техотделе, бедный.
— Я как истый советский инженер делаю вид, что работаю. Государство делает вид, что мне платит. Знакомая ведь тебе формула? А этому козлу Корзуну — наследство в валюте. Почему ж ему везет, а не мне?
— Ты был бы агентом, может, и тебе повезло бы. Я не хочу быть агентом. Но тоже хочу австралийских фунтов.
— Долларов.
— Не важно. Лишь бы побольше.
— Ладно, пошли курнем, австралиец.
Они вышли на крыльцо бара и задымили.
Залитый сизым светом шумный ресторан.
В дыму табачном два буянят маримана —
доносилась из недр бара бесконечная песня неизвестного тенора.
— Меня от одного воспоминания об этом наследстве контачит. Мне дурно делается, понимаешь. Я б его своими руками придушил, честно...
— И чего бы ты добился? Наследство на твое имя все равно бы не перевели. Тебя бы перевели из советских инженеров — в советские заключенные. А я — простой советский заключенный и мой товарищ — старый брянский волк... Слыхал такую песню?
— А я б самолет угнал, — Эдик говорил одухотворенно, словно уже видел себя в самолете (этому способствовала третья доза коктейля «Тройка», что была тоже не без «Агдама»).
— И полетел бы за наследством в Австралию. Не запретишь красиво жить...
— Зачем ему эти баксы? — снова завелся после минутного молчания Эдик. — Ведь он один, совершенно один. Не сегодня — завтра сам свернется. Так кому же они достанутся? Государству?
— Дадут объявление где-нибудь в Канаде или Гватемале. Найдется еще какой-нибудь наследник. Или передадут какому-нибудь обществу или фонду. АНТИСПИДУ или еще АНТИ чему-нибудь. АНТИобщественному.
— Не-ет. Плохо же ты его знаешь. Он никому не завещает. Он подохнет на мешке с долларами. У него трояка до получки не выпросишь, это ж скупой рыцарь... Ты б видел его рожу, когда он читал это объявленьице. Ты не видел, а я видел. На это надо было посмотреть.
— А может быть, он женится? С баксами его живо какая-нибудь шлюшка, типа нашей Нонночки из библиотеки, охомутает.
— А это идея! Надо ему подставить какую-нибудь телку и стричь вместе с ней с него шерсть!
— В сутенеры решил податься? — Вовчик добродушно рассмеялся. — Ты себе путевую телку найди.
— Ага, завидно, что я неженатый. Эх, Вовчик, Вовчик, иди к своей бабе, она приласкает. А уж я как-нибудь.
— Слушай, у меня идея наклюнулась. Вотрись к старику в доверие. Обхаживай его, в магазин ему бегай. Состарится совсем — кефир ему неси, клистир делай. Помогай ему, в общем. Глядишь, когда он помрет, лет через... надцать, — тебе завещание отпишет. Ты еще тогда будешь не старый. И, может быть, еще неженатым.
— В гробу я его видел вместе с клистиром.
— Но он же об этом не знает...
— Да пошел ты! Тебе что, ты ж гений. Сидишь там, в лаборатории, паяешь себе. А открытие сделаешь — прославишься в веках. А нам, как крысам техотделовским, всю жизнь коктейлем с «Агдамом» травиться? Нет, не я буду, если не придумаю, как расколоть этого старого козла.
И отшвырнул окурок, Вовчик же поплевал на свой и кинул его в урну.
— Ну что, тронулись? Знаешь, Вовчик, пойдем отсюда. Этим «Агдамом» у меня уже мозги пропахли. Пошли в «Сугроб», ударим по пиву!
— Коктейль на пиво — это диво! А наоборот — не лучший вариант. Да мне уже домой надо двигаться.
— А-а. Примерный семьянин. А я пива хочу. Надо залить горе.
— Какое такое горе?
— Такое, что не на меня наследство свалилось.
* * *
В пивбаре «Снежок» было, как всегда, шумно. Под потолком висел табачный дым. Вальяжный варено-джинсовый бармен здесь отсутствовал, его заменяли дюжие официантки, разносившие между столиков громоздкие подносы с кружками и графинами.
Эдик засел капитально — он пил уже второй графин пива, невзирая на бешеную надбавку, которая вырастала еще и за счет соленой рыбы неизвестного названия. И уже не второй, как у Булгакова, свежести, а черт знает какой. Рыбу эту почти никто не ел, она скапливалась на столах в больших количествах, пока официантки не сгребали ее на поднос и не уносили. Но рыбина жизнь на том не кончалась, поскольку, совершив круговорот, она возвращалась снова на столы после некоторого косметического макияжа. Но новые клиенты так же дружно ее отвергали, как и предыдущие, и все начиналось по новой...
Настроение у Эдика, несмотря на обильное возлияние, было гораздо ниже нижней отметки. Его тянуло с кем-либо пообщаться, поделиться своими безотрадными мыслями. Но подходящего объекта не подвертывалось. Слева клевал носом старикашка с трехцветной недельной щетиной на подбородке, справа подсел слепой со старым разваливающимся баяном, повисшем на плечевом ремне. Смотреть на его одутловатое белесое лицо желания у Эдика не было, застывшие, устремленные в никуда глаза действовали нехорошо на его возбужденную пивом психику. Слепой выложил мятый рубль, и официантка поставила перед ним кружку с пивом. Он отхлебнул половину одним глотком, потянулся к жестяной одноразовой плошке с гофрированными краями, заменявшей здесь солонку, щедро сдобрил свое пиво солью, хотя и не мог, конечно, видеть, как оно вспенилось. А, может, услышал слабое шипенье? Говорят, у слепых слух во много раз тоньше, чем у зрячих... Слепец неплохо разбирался в окружающей обстановке, видимо, был завсегдатаем этого злачного места. Допив пиво, он начал наигрывать «Очи черные».
— Эй! — Эдик очнулся от своих черных мыслей. — А ламбаду ты можешь сламбать?
— А как это? Ты напой.
— Та-та- та- та-та. Та-та-та- та-та-та-та-та-та-а...
Слепой попробовал подобрать, но получилось нечто весьма отдаленное.
— Баланда это у тебя, а не ламбада. — Эдик налил слепому баянисту из своего графина. — Допивай и дергай отсюда.
Слепой не. заставил повторять приказание. Посолив пиво, он быстро его выпил и слинял. Через пару минут звуки его ветхого инструмента слышались уже с другого конца зала.
— Не занято? — Место слепого, можно сказать, остыть не успело. Бородатый в зеленой куртке — на груди слева красный флажок — уселся на стул. Старик слева окончательно отключился, погрузившись даже не в дремоту, а вполне основательный сон.
— Слава, — представилась борода.
— Эдуард Михайлович, — слегка наклонил голову Эдик. — Не возражаешь? — Эдик обхватил пальцами горлышко графина и кивнул на пустую кружку.
— Да пока принесут, пей, кому говорю, — процитировал Высоцкого новый клиент. — Воспользуемся гостеприимством. Кстати, можно и по чуть-чуть. — Слава похлопал себя по животу, а когда отвел полу куртки, то стала видна заткнутая горлом вниз бутылка пшеничной.
— Наливай! — с жестом отчаяния, в известной мере понятно деланного, выразил свое согласие Эдик. Если честно говорить, то водку он действительно не любил, можно сказать, терпеть не мог. А тут неизвестно даже с кем. Но сегодня его прямо-таки тянуло напиться.
Слава булькнул обоим в пиво.
— Со знакомством!
Они сдвинули кружки, издавшие отнюдь не звон, а глухой стук соприкоснувшихся булыжников.
— Гадость, — сообщил Эдик, причастившись.
— Ну это ты зря, Михалыч! Нормальный советский ерш. Колючий, конечно, а жизнь какая?
— Да, жизнь... — Эдика сразу потянуло пофилософствовать. — Осень вот наступает. Очередная. А ты знаешь, что в Австралии сейчас весна.
— В Австралии? — Слава достал из гофрированной солонки щепотку соли. Из той самой, в которой недавно ковырялся слепой музыкант.
— Это хорошо.
— Что хорошо? — Эдик уже потерял нить беседы.
— Что хорошо? Все хорошо. Хорошо, что в Австралии весна.
— А! Ты про Австралию? Этот мерин Корзун поедет в Австралию.
— Какой мерин?
— Какой, какой... Корзун — мерин. Сядет на самолет. На «Боинг», «Кобру» или еще какой — и тама. А я бы поплыл пароходом.
— Что у него там родственники? — косясь на официантку, решив, что они вне поля ее зрения, борода снова плеснул «по чуть-чуть».
— Родственники? Нету у него родственников. У него есть наследство. Миллион! Понимаешь, мил-ли-он! Миллион австралийских долларов. Прикинь, миллион валютой. Не кисло?
— Да, не кисло. Ему повезло. — Слава достал сигареты. — А кто он? Старик, говоришь?
— Дерьмо. Старое дерьмо. Агент ЦРУ. Австралийский шпион. Нет, ты не въехал — он миллион получит.
— Ладно, не гони дуру. Он что твой знакомый?
— Друг. Лучший друг. Я ему каждый день покупаю кефир и ставлю клистир. А он мне завещал полмиллиона фунтов. Он мой дедушка...
— А у дедушки есть телефон? Может, поздравим его с праздником? Скажем, сегодня... Как его звать? Степаном? Ну скажем — Степанов день.
— Телефон у него простой. 36... А дальше... Дальше не помню. Не в этом суть. Он миллионер. Подпольный. Да он все равно уезжает в Австралию. В Сидней. Слыхал?
— А где он живет?
— Кто?
— Ну дедушка твой. Австралиец этот.
— Да здесь недалеко.
— Так, может, зайдем к дедушке в гости? На огонек. Мне надо кое-что заказать ему в Австралии.
— Хрен ты у него закажешь. Он мне дает полмиллиона. А тебе — хрен на рыло!
— Ладно, парень. Ты уже готов. Пойдем-ка на свежий воздух. Прогуляемся, тебе надо освежить мозги.
Он плеснул себе еще немного водки, бутылку с остатками засунул в карман. Взял отяжелевшего Эдика под руку и повел его к выходу через шумный, галдящий, дымящий зал.
* * *
Следователь прокуратуры Рудольф Христофорович Рунге поднялся из-за стола, хрустнул суставами. Потом подошел к окну, распахнул его. Бабье лето, выдавшееся нынче необыкновенно теплым, было, как видно, при последнем издыхании. Солнце светило еще прилично, но на севере, за нагромождением многоэтажных домов, за церковью, блестевшей новой позолотой куполов и крестов, за пеленой заводских дымов, угадывалась черная снежная туча, предвещавшая зиму. С высоты седьмого этажа кабинета зам. управляющего (хозяин уехал в командировку) просматривался почти весь город.
Город просматривался, да не просматривалось дело, которое привело следователя по особо важным делам в этот пустующий кабинет. Дело об убийстве сотрудника треста Корзуна Степана Алексеевича.
Рудольф Рунге за свою практику всякого успел повидать. Много дел прошло через его руки — сложных и ортодоксальных, запутанных и простых, как пятиалтынный. Это дело — он чувствовал — из разряда странных. Корзуна, как следовало из материалов следствия, милицейского протокола и медицинского заключения, нашли в собственной квартире с проломленным черепом. Кто-то ударил его в висок тяжелым предметом с острыми краями. Удар был силен, осколки черепа глубоко вдавились в мозг. Убитый упал головой на стол. Орудие убийства однако отсутствовало, на кастет не похоже, судя по форме раны. На молоток — тоже. Обнаружены были пустая бутылка из-под коньяка и всего один стакан. Из количества выпитого можно заключить: выпил бутылку Корзун не один. Но никаких следов пребывания кого-то другого обнаружить не удалось. Отпечатки пальцев тщательно стерты, собака след не взяла. Микрочастицы с пола, где мог ступать убийца, исследовались, но идентифицировать их можно лишь при условии, что убийца будет обнаружен. Обыск в квартире не дал ничего, что позволило бы навести на его след.
Сам факт убийства стал известен через день. Корзун славился своей пунктуальностью, был аккуратен, поэтому его отсутствие сразу вызвало тревогу. Но послали членов месткома только на следующий день, после того как Степан Викентьевич не вышел на работу. Решили, что заболел. Тем более, больничные листы он брал главным образом по причине гипертонии. Но надо быть очень больным, чтобы не подойти к телефону. На дверные звонки хозяин квартиры тоже никак не реагировал. Представители месткома заволновались, вызвали милицию, работников ЖЭУ. Вскрыли дверь. Ну и увидели...
Всякое преступление имеет свои мотивы. Вот в этой-то части и обнаруживается пробел. Мотивы никак не просматривались. Ограбление? Мало похоже. Деньги — рублей сто с лишним — лежали почти на виду. В столе, правда, под ключом — сберкнижка. Много ли, мало ли — около четырех тысяч на ней. Убийца похоже, в нее даже не заглянул. Кое-какие безделушки, некоторые весьма ценные. Книги. Тут на одних книгах можно получить состояние. Библия дореволюционного издания. Словарь Даля — конец девятнадцатого. Уже ценность. И еще много книг на английском и французском. Словом, поживиться было чем...
Опрос соседей Корзуна ровным счетом ничего не дал. Никто ничего не видел и не слышал, чему можно было в общем-то поверить: убитый ни с кем не общался, никто к нему не ходил. Так что если бы он не работал, то о разыгравшейся в его квартире трагедии не скоро стало бы известно. Теперь вся надежда на сослуживцев. Хотя, впрочем, тоже невеликая...
Тем неожиданней оказался забрезживший «свет в конце туннеля». Следователь Рудольф Христофорович Рунге воспрянул духом, когда от работников треста, которых он приглашал на беседу, услышал какие-то туманные намеки на связь происшедшего с объявлением инюрколлегии. Прямую зависимость, понятно, тут вывести трудно, но что-то такое, за что можно было хотя бы зацепиться, все же намечалось. Появлялась хотя бы возможность разрабатывать версию. Перспективную или нет, будет видно, но все же... все же не топтание на месте.
Отпустив очередного приглашенного для беседы, Рунге задумался. Газета — все та же, вернее, такая же, как и у Корзуна — «Известия» с объявлением инюрколлегии лежала перед ним. Ничего в нем, даже отдаленно касающегося убитого, не было. Фамилия его во всяком случае отсутствовала. Это, правда, еще ни о чем не говорит: в Союзе он может жить и под другой фамилией. Следовательно, если речь идет о нем, то уж он-то понял, что к чему. Но только ли он? Или понял еще кто-то? Но зачем убивать? Объявление о наследстве еще не само наследство. Надо ведь, чтобы курочка еще снесла золотое яичко. Иначе бессмыслица. А если кто-то захотел устранить соперника? Такое ведь тоже полностью исключить нельзя. В наше время всякое возможно. Мог оказаться еще кто-то, заинтересованный в наследстве. Устранил конкурента и занялся добыванием наследства уже для себя. Возможный вариант... Но как это все раскрутить? Огромная работа? Надо привлекать международные организации, может быть, Интерпол, благо мы сейчас в него входим...
Рунге вздохнул и стал смотреть в список, чтобы
пригласить очередного свидетеля.
Этим очередным оказался Эдик.
Рудольф Христофорович задавал ему вопросы в той специально выработанной манере, мягкой и доброжелательной, в которой и можно только разговаривать с людьми, которые ничем тебе не обязаны, для которых сообщить или не сообщить что-либо — их полное право. Но неожиданно наступил момент, когда вопросы следователя вдруг стали приобретать жесткость и остроту.
— Так это вы, Эдуард Михайлыч, автор открытия, что Корзун разыскивается иностранной юридической коллегией как наследник зарубежных родственников?
— Какое открытие? Мне показалось...
— Показалось... детский сад... — Рунге хотел сказать, что когда кажется — надо креститься. Но сдержался.
— Что значит, показалось? Он вам что-то говорил?
— Да нет, не было у нас никакого о том разговора. Я случайно подошел к его рабочему столу, когда он, как завороженный, смотрел в газету...
— В какую газету?
— Ну в «Известия» же, больше ведь инюрколлегия не печатается нигде.
— Да это ясно. Я имел в виду, что же его так сильно заинтересовало? Как вы это поняли, коль даже полусловом не обмолвились? Ведь газета-то большая.
— Да он смотрел как раз в тот угол, где объявление инюрколлегии тиснуто. Точнее, на само это объявление.
— Допустим. Но из чего вы сделали вывод, что его в этом объявлении что-то поразило.
— Да вы бы видели, какое у него лицо?
— Допустим. Но ваше предположение могло быть ошибочным и, естественно, не давало права высказывать его везде и всюду.
— Свободу слова у нас еще пока никто не отменял, даже наоборот, — буркнул Эдик.
— Так и клевету можно под свободу слова подвести. Захотел на кого-то напраслину возвести и — пожалуйста. Потому как «свобода слова»... Так, что ли? Только за клевету уголовное наказание положено... Ну ладно, это все беллетристика... Ближе к делу. А еще с кем-нибудь вы своими «предположениями» делились? Я имею в виду — за стенами своего учреждения.
Эдик не сразу ответил, и это не ускользнуло от следователя. И поэтому, когда услышал как бы через силу произнесенное «нет», отнесся к этому без особого доверия. Но настаивать на том, чтобы собеседник хорошо подумал, прежде чем быть столь категоричным, не стал: все же беседа, не допрос, да и не свидетель перед ним даже, а просто человек, которого попросили хоть что-то вспомнить об образе жизни, привычках и возможных связях покойного сослуживца. К тому же Рудольф Христофорович интуитивно чувствовал, что с недорослем с высшим инженерном образованием беседовать придется еще не раз: что-то он не договаривает...
Рунге пробежался глазами по списку. Фамилии ему, естественно, ничего не говорили, но у некоторых стояли точки. Этих людей трестовское начальство выделило в том смысле, что у них с покойным были более тесные, нежели с другими работниками треста, служебные и даже неслужебные отношения и контакты. «Так, так, так...» — следователь вел пальцем по списку. Хрусталев Дмитрий Евгеньевич. О нем начальник отдела Громов (а именно в его отделе работали и Корзун, и Хрусталев) говорил, что он живет в том же доме, что и Корзун. И чуть ли не в том же подъезде (эта деталь начальника отдела мало интересовала), но если даже в одном доме, уже это что-то значит. Одни и те же магазины, бытовые учреждения, газетные киоски, зрелищные учреждения (хотя сомнительно, чтобы покойник их посещал). Словом, не могут люди не встречаться, постоянно вращаясь на одном и том же пятачке. Хоть какие-то детали мог сосед подметить?
* * *
Дмитрий Евгеньевич оказался человеком довольно высоким, худощавым и жилистым, с твердыми крупными чертами лица. Взгляд серых глаз тоже был твердым, смотрел он прямо в глаза собеседнику. Некоторая напряженность была вполне объяснима: она чувствовалась, пожалуй, у каждого, кто приходил к следователю на беседу. Вполне понятно, сама тема разговора была такой, что не располагала к фривольности и легкомыслию, вообще расслабленности. А если учесть, что убитым оказался сосед, то самообладание Хрусталева можно вообще признать завидным.
— Дмитрий Евгеньевич, — начал Рунге, — я, конечно, далек от того, чтобы спрашивать вас что-либо об убийстве. Если бы вам что-то было известно, вы бы сами пришли и все рассказали. Я прав?
Хрусталев кивнул с полным пониманием и согласием, что так бы оно непременно и было. Только горькая складка у губ обозначилась еще резче.
— Я хотел бы, чтобы вы мне рассказали о покойном как о сослуживце. А еще больше — как о соседе. Когда живешь в одном доме, волей-неволей приходится встречаться, что-то видеть, замечать. У вас, кстати, подъезды далеко друг от друга?
— В одном живем.
Он так и сказал «живем», хотя время глагола было верно относительно его самого. Впрочем, зачем ему говорить о себе в прошедшем времени?
Рудольф Христофорович все понял правильно. И следующий его вопрос совершенно вытекал из этой фразы.
— Вы живете с семьей?
— Нет, я живу один.
Это обстоятельство никаким боком к делу не относилось, и Рунге поспешил перейти к тому, что его интересовало.
— Вы бывали друг у друга?
— Да.
Односложный, предельно краткий ответ свидетельствовал о том, что Хрусталев не любил тратить слов впустую. А может, опять же предмет разговора располагал к такой лапидарности?
— Зачем, по какому поводу, я вас спрашивать не стану, дела соседские. Меня интересует, чем Корзун занимался в свободное время, какие были у него контакты с внешним, так сказать, миром?
— Боюсь, что могу сообщить вам очень немного. Мы ведь не общались, хоть и разделяли нас всего два этажа. Это женщины чуть что бегут друг к другу, то за утюгом, то за щепоткой соли, то за лавровым листом. У нас, стариков, все на многие годы вперед запасено. До самой смерти...
И, видимо, поняв вдруг двусмысленность сказанного, опустил глаза. Рунге с любопытством разглядывал собеседника, думая о том, что личность эта, пожалуй, незаурядная. Нос, что называется, орлиный, близко сведенные брови, жесткие, четко очерченные губы.
— Вы в этой организации давно работаете? — спросил вдруг следователь.
Вопрос получился сам собой и возник по простой причине: скромная должность, занимаемая Хрусталевым, совсем не соответствовала его внешнему виду — с такой внешностью хоть в дипломаты, хоть в министры.
— Да, — снова односложно ответил Хрусталев, и Рунге даже не стал уточнять, что кроется за этим «да».
— Мы остановились на том, что вы бывали друг у друга. Можно уточнить, когда это было в последний раз? По какому случаю, не спрашиваю — мне важно не это, другое.
— А вот по какому случаю, пожалуй, прежде всего и надо сообщить. С месяц назад начальник отдела просил зайти к соседу. Был он на больничном, а журнал иностранный понадобилось срочно передать ему. Вот меня и откомандировали...
— Так, так, — заинтересованно откликнулся следователь. — Полагаю, повод для визита позволял ограничить общение несколькими секундами. Чтобы передать журнал, необязательно даже в квартиру заходить?
— Не совсем так. Мне было поручено также забрать кое-что из того, что покойный заготовил передать в отдел.
— Но ведь это тоже секундное дело.
— Ну и все же он пригласил меня войти. Может, из вежливости, а может, и в самом деле поинтересовался, как идут дела...
— А по какой причине больничный был?
— Да гипертония. Болезнь в наше время самая популярная. Каждый второй, почитай, ее у себя в одно прекрасное время обнаруживает... Так вот, пригласил он меня войти и присесть на пару минут, поскольку надумал черкнуть записку начальнику отдела.
— Ну и вы вошли, сели. Что-нибудь любопытное бросилось вам в глаза?
Рунге на квартире убитого побывал и вопрос задавал вполне с определенной целью. Ему самому в глаза бросились кое-какие детали, и было небезынтересно узнать, как на них реагировали другие. А с другой стороны, вопрос позволял более раскованно говорить о вещах, в данном конкретном случае представляющихся деликатными.
— Ну, как не бросилось, — позволил себе Хрусталев нечто вроде усмешки. — Ковер на стене, каких я, честно говоря, не видывал. Кенгуру во всю стену скачет на фоне пейзажа, скажем прямо, не похожего на наш. И сам ковер так соткан, что смотрится, как японская стереоскопическая открытка. Ну и еще диковинок в квартире немало по разным углам. Маски какие-то, тарелки настенные, шкатулки...
— Что-нибудь ценное, на ваш взгляд, было?
— Да ведь как сказать, что можно считать ценным, а что нет. И потом особенно ценные вещи не принято напоказ выставлять. Ковер, я так думаю, немалых денег стоит, но ведь и продать его не просто. Он что, пропал?
Рунге не ответил. И ковер, и маски, и прочие диковинки остались в квартире убитого, убийца ничего не взял. Другое дело — может, было действительно что-то еще более ценное, чем сто рублей и книги: золото, драгоценные камни...
— О чем-нибудь говорили?
— Да нет. Он же писал, а я молчал, чтобы не мешать.
— Так и не перемолвились ни словом?
— Нет, отчего же. Он закончил писать, отдал мне записку. Увидел, что любуюсь ковром, спросил:
— Нравится?
Я, конечно, ответил, что да, очень. Поинтересовался, откуда такая оригинальная вещь. Он сказал, что прислали из Австралии.
— Родственники, знакомые?
— Он сказал «да», но непонятно, что имел в виду — родственников или знакомых. Я не стал уточнять, а он как-то перевел разговор на другую тему, и вскоре я ушел.
— А он у вас по какому поводу бывал?
— Аналогичная ситуация. Так же посидел у меня, поговорили ни о чем, чай пить отказался. Вот и все, пожалуй.
— Не знаете, захаживал к нему кто-нибудь?
— Не в курсе. Сам не видел, врать не буду.
— Ну что ж, спасибо.
Рунге подал собеседнику руку и, едва за ним закрылась дверь, углубился в свои бумажки.
«Негусто. Хотя австралийские родственники (или знакомые) — деталь, кое о чем говорит. С инюрколлегией, может статься, не такая уж и блажь. Хрусталева начальник отдела характеризовал как человека исключительно серьезного, порядочного, честного. Стало быть, доверять выданной им информации можно. Но вот как увязать австралийских родственников с объявлением инюрколлегии?
Придется делать запросы. Да и переписку покойного надо хорошенько просмотреть: должны же у него быть адреса...»
Потом на беседу приходили женщины. Из числа тех, кому по службе доводилось иметь контакты с Корзуном. О покойном они отзывались со сдержанным одобрением. Всем импонировала его вежливость в обращении, спокойствие, а заграничные сувениры, которые он преподносил в дни рожденья, всех приводили в восторг. Все удручены случившимся, жалость у всех была искренней и неподдельной, а кое-кто и слезу пускал, как скажем, библиотекарша Нонна.
— Такой он был обходительный, — размазывая тушь с ресниц, говорила она. — Куда нашим мужикам до него!..
Что ж, человек, долго проживший за границей, должен был нахвататься культуры.
— А говорят, он нелюдим был?
— А что ему с нашими охламонами балаболить? Да и моложе они все его.
— А Хрусталев?
— Интереса, значит, общего не находилось.
Напоследок Рудольф Христофорович все же решил подвести общий итог своим беседам с Громовым. А более всего попытаться найти подход к Эдику — Эдуарду Михайловичу. Он, как автор идеи об инюрколлегии, особенно привлекал внимание Рунге. Ведь вероятность того, что слух о каком-то зарубежном наследстве распространился далеко за пределами конторы, более чем очевидна. А это... Это может повлечь или повлекло за собой определенного рода последствия.
* * *
— В вашем отделе Подгорный с кем-нибудь прочные дружеские контакты имеет?
Громов изобразил нечто вроде усмешки:
— С кем ему контакты-то у нас иметь? Единомышленников тут у него ни в каком плане нет.
— Ну а в тресте?
— В тресте, надо полагать, есть. Но ведь это уже вне моей компетенции...
— Понятно...
— Впрочем, ходит к нему тут один из лаборатории, с ним, они, по-моему, постоянно хороводятся.
— Так, так. Это уже интересно. Как мне до этого его приятеля добраться?
— Это несложно, — Громов потянулся к телефону. — Мы с его начальником свяжемся... Сейчас будет, — проговорил он, положив трубку. — Как вы поняли, я не стал объяснять, зачем и куда. К зам. управляющего он мигом прискачет.
Владимир Колобов подтвердил только что сказанное. Правда, удивления по поводу того, что вызвал его не зам, а следователь прокуратуры, он не высказал. Казалось, он ожидал, что именно такой оборот дела предстоит.
«Ясно. Уже обменялись соображениями», — отметил Рунге.
С первых же минут беседы следователь понял, что встреча может оказаться небесполезной.
— Как вы думаете, Подгорный делился с кем-нибудь своими выводами относительно зарубежного наследства Корзуна?
— Думаю, да, — без особой охоты ответил Вовчик.
— Думаете или знаете?
— Откуда я могу знать точно? При мне он никому ничего не говорил.
— А без вас?
— Так, я полагаю, об этом его надо спрашивать.
— Целиком с вами согласен. Но ваш приятель не спешит почему-то обогатить нас этой информацией.
— А меня, стало быть, поспешил?
— Не будем терять время на бесплодные рассуждения. Зачем мне вас, человека с высшим образованием, призывать к тому, что помощь правоохранительным органам — долг каждого гражданина?
— Но я-то к этому делу вообще никакого отношения не имею! — попытался еще посопротивляться Вовчик, но бессмысленность такого поведения была очевидна и для него. — Дело в том... дело в том, что он и сам не помнит толком, кому и в каком виде выдал информацию. Он ведь не злоумышленник какой, но, как я понял, хорошо набрался. И теперь у него только смутные и обрывочные воспоминания о том. Может, потому он и вам не может ничего конкретного сообщить...
— Да-а... Боролись, боролись с пьянством и алкоголизмом, а вполне порядочные инженеры не помнят, с кем и о чем накануне беседовали... Ну, а из тех отрывочных сведений, которые он выдал вам, мы хоть что-то можем предположить? Какую-то картину можем представить?
— По его словам, он познакомился с каким-то парнем в пивбаре и чуть ли даже не отправились к старику в гости.
Брови у следователя поползли кверху.
— В гости? К Корзуну?
— Эдик — большой фантазер. С него все может статься. Особенно, когда он под хорошим градусом...
Дело принимало неожиданный оборот. Подгорного следовало вызывать уже не в кабинет к зам. управляющего, а в прокуратуру официальной повесткой. Выяснив у Колобова, о каком пивбаре шла речь и какого числа произошло знакомство Подгорного с человеком, пожелавшим встретиться с Корзуном, Рунге стал собираться. Он почувствовал, что центр тяжести возводимого им здания следствия начинает перемещаться.
* * *
— Эдуард Михайлович?
— На проводе.
— Эдуард Михайлович, это из прокуратуры, Рунге. Мы с вами вчера встречались...
Эдик поежился. Черт бы побрал этого прокурора, вчера прицепился, сегодня опять звонит с утра пораньше.
— ...Извините, что по телефону, но так быстрее будет, чем повесткой, а время у нас дорогое. Зайдите, пожалуйста, к нам в прокуратуру, в комнату номер восемнадцать. Это на третьем этаже. Знаете, где мы находимся? Если надо, я предупрежу вашего начальника...
Эдик вышел на лестничную площадку и закурил. В прокуратуру его вызывали первый раз в жизни, настроение было самое противное. Что же пронюхал этот чертов прокурор? Почему именно его вызывают? А, может быть, опять всех по очереди, как вчера? Сначала в кабинет зама, а сейчас вот на «лубянку». Ну, артисты! Пойти с Вовчиком потрекать... Стоп! Что-то Вовчик вчера слинял после работы втихаря, обычно вместе шли — по пути домой, в одну сторону. Не потому ли, что его тоже тягал прокурор, а он что-то брякнул неподходящее?
Эдик бросил сигарету и ускоренным шагом рванул в лабораторный корпус. На двери лаборатории был кодовый замок, кода Эдик не знал. Пришлось звонить и ждать, когда вызовут приятеля. Вовчик вышел, вытирая руки о белый халат. Халат был не первой свежести, в нескольких местах облит кислотой и прожжен паяльником.
— Привет, — буркнул Эдик, — пошли-ка потолкуем, гражданин Колобов.
— Некогда, старина. Запарка.
Вовчик провел для убедительности пальцем по кадыку, но вид у него был довольно смущенный и взгляд он почему-то отводил.
— Запарка... Запарка... Тебя вчера вызывал этот Пинкертон, Мегрэ или как его там? Следователь, словом.
— Вызывал.
— Визивал... — Эдика тянуло на дерзости. Передразнивая приятеля, он тем самым выказывал свое возмущение, заранее уверенный, что тот его «заложил». — Ну и чем ты с ним поделился? Давай выкладывай, а то меня на «Лубянку» тягают. Архипелаг ГУЛАГ под меня копается.
— Да так, ничего особенного. Знаешь, Эдька, я ему продал твоего кента из пивнушки. Дай сказать! — Вовчик перехватил протестующий жест Эдика взглядом. — Это ведь не шутка, человека-то пристукнули. И все равно докопаются, так что не тяни, колись. Может статься, что ты навел стрелки на Корзуна. Сам понимаешь, болтун — находка для врага.
— Сам ты болтун. Кретин! А меня сейчас по судам затаскают, засудят к такой-то маме... А может, это ты его ухлопал? А? Пошел, якобы к бабе своей под каблук, а сам, пока я пивом наливался, — шасть — и спровадил дядю на тот свет?
— Это тоже естественно предположить, — Вовчик ухмыльнулся. — Ты молодец, догадался. А сейчас я жду, когда на меня переведут наследство из Австралии. А тебе, не кажется, что оснований заподозрить тебя еще больше? Не ты ли на эти фунты — доллары — лиры зарился и большое желание имел к ним присоседиться?
— Ладно, не вякай. — Эдик достал сигарету и спрятал пачку, не предложив как обычно приятелю. — Что ты конкретно выдал?
— А только то, что мне сказал. Этот Христофор Колумб меня прижал. Пришлось проинформировать его насчет твоего нового знакомого: подозрительная, на мой взгляд, личность. По твоему описанию то есть. И про его нездоровый интерес к заграничному наследству Ну и все. Я же на вашем балу в «Сугробе» не присутствовал...
— Спасибо, ты настоящий друг, — процедил Эдик сквозь зубы, выплюнул недокуренную сигарету под ноги приятелю, круто повернулся и пошел. Пора было ехать в прокуратуру, каяться в грехах...
* * *
Они сидели в кабинете друг против друга. Рунге перебирал бумажки, Эдик, насупившись, смотрел на решетку, украшавшую окно. И хоть это была не устрашающая прямоугольная клетка, символ несвободы, а расходящиеся радиальные стальные прутья-лучи, все равно это была решетка, и она его угнетала.
— Что ж, приступим, — нарушил молчание Рунге. — Сегодня это у нас не просто беседа, но допрос, а посему давайте соблюдем все формальности.
От формальностей Эдика бросило в пот. Называть свои анкетные данные, оказывается, не так приятно, когда их кто-то записывает. А предупреждение о даче ложных показаний и связанных с этим последствий и вовсе повергло его в уныние.
Но и Рунге чувствовал себя не лучшим образом. Он подавлял в себе раздражение, которое вызывал в нем один вид этого инженера-недоумка. Балаболка! И если уж он не соучастник убийства в прямом смысле, то косвенно — это точно. Своим длинным языком, как пить дать, способствовал преступлению.
Эдик же чувствовал, что его крепко прихватили и уже просто так не отпустят. Это соображение и вид решетки на окне не вызывали в нем более желания изворачиваться и финтить. Поэтому он вполне обстоятельно и подробно описал свой поход с Вовчиком в коктейль-бар, не забыв даже упомянуть вонючий «Агдам» — третий ингредиент напитка с псевдорусским названием.
Эдик увлекся своим рассказом, что, как ни странно, успокаивало его. Он изо всех сил старался вспомнить подробности своего пребывания в пивбаре «Снежок», но это ему плохо удавалось. Внешность Славы возникала в его памяти весьма расплывчато. Описывая его лицо, он упирал на то обстоятельство, что у его нового знакомого были светлые волосы и рыжая борода. Намного темнее, чем голова. Он помнил, что интересовался у Славы, красит ли тот бороду, а вот какой был ответ — не помнит. Не припомнит он — хоть убей! — во что Слава был одет. Может, в кожаной куртке. А может, в вельветовой. А может быть, в замшевой. Не исключено, что в джинсовой... Точнее, к сожалению, он, Эдик, припомнить не может...
— Как я понимаю, в финале вы отправились к Корзуну? Зачем?
Эдик опустил голову.
— Да, самое смешное (или печальное), что мы пошли к Корзуну...
— Ну и как он вас встретил?
Рунге впился глазами в сидевшего перед ним человека. Он невольно напрягся, ожидая ответа. Но ответ оказался несколько неожиданным.
— Да никак он нас не встретил. Мы ходили-ходили кругами, да так и не нашли, где он живет. Ведь я не был у него ни разу, так лишь представление имел. Ну, дом знаю. Примерно. Да ноги-то плохо слушались...
— И чем все кончилось? — Рунге с трудом скрывал свое разочарование.
— Чем кончилось? Я, слава богу, дома оказался. Не в вашем ведомстве, не в трезвяке. Слава, наверное, тоже. У меня не было случая возобновить наше знакомство и спросить его, где он закончил тот приятный вечер.
— Приятный, говорите? Ну раз в «трезвяк», как вы выражаетесь, не попали, то, стало быть, приятный. Только «трезвяки» не по нашему ведомству. Ну а почему вы не воспользовались адресом? Он ведь у вас был?
— Адрес?
Явное замешательство отобразилось на лице Эдика, и ответ поэтому был нелепым:
— Так темно же было...
Рунге на это отреагировал по-своему.
— Так, значит, адрес у вас был, — произнес это утвердительно, не вопросительно. — А где вы его взяли? Впрочем, это уже не так важно. Вы дали его своему новому знакомому?
— Не помню, кажется, дал...
— Не помню... Что вы еще говорили о Корзуне этому Славе?
— Не пом... Что-то насчет наследства... Насчет Австралии.
— Ну так что же получается? Вечером вы даете адрес своего сослуживца первому встречному, сообщаете подробности его биографии, которые он вряд ли стал афишировать сам, а наутро он не выходит на работу. Не выходит потому, что той самой ночью был убит. Как прикажете все это расценивать?
Эдик побелел. Ему совсем нехорошо. От бравады не осталось и следа. Он уже не хорохорился.
— Разрешите закурить това... гражданин, не знаю, как вас называть...
— Рудольф Христофорович меня зовут. Вы пока не подсудимый, и мы не в суде. Говорите все, что знаете, только правду, для вас же лучше. И можете курить, если вам это помогает.
Рунге встал и подошел к окну, дотянулся до форточки. Сам он бросил курить несколько лет назад и теперь старался по возможности меньше дышать табачным дымом.
А за окном, пересеченным радиальными линиями решетки, все еще стояло бабье лето, которое не желало сдаваться вопреки прогнозам.
— Ну так, — вернулся он на свое место. — Попробуем составить словесный портрет вашего случайного собутыльника. Нам необходимо его найти. А вас мы привлечем...
— Но я не убивал никого! Клянусь вам! Я не был у Корзуна! — в отчаянии выкрикнул Эдик. — Я его в глаза не видел в тот вечер...
— ...Привлечем к прямому поиску. Пойдете с нашими товарищами и постараетесь узнать этого Славу. Если он, конечно, не плод вашего воображения. Надежды мало, но и не использовать этого шанса тоже нельзя. Сами понимаете, это в ваших интересах. А теперь подпишите вот эти бумаги.
— Что это? — со страхом спросил Эдик.
— Пока ничего страшного. Протокол допроса и подписка о невыезде. До окончания следствия.
— Но я должен в командировку ехать... В столицу.
— Подождет командировка. Молите бога, чтобы не пришлось в другую сторону поехать. Не очень-то все для вас, прямо скажем, благоприятно складывается. А теперь слушайте внимательно. На службе вас найдет человек. Знать вам его род занятий и службы необязательно. С ним пойдете в пивной бар. Посидите, не обращая на себя внимания. Только пива много не пейте. Что делать, как поступать — скажет вам тот человек. Будете во всем слушать его. Понятно, приказать я вам не имею права, но повторяю — это в ваших же интересах. Безопасность вашу постараемся гарантировать. Но риска с вашей стороны, полагаю, будет не больше, чем тогда, когда вы в одиночку шатаетесь по злачным местам. А пока идите...
Оставшись один (Эдика как ветром сдуло), Рунге стал размышлять. Конечно, Слава — это версия. И даже перспективная. Но много непонятного. Почему не взяты деньги, ценности? Такие, как Слава, как его описывает Подгорный, ничем не брезгуют. Может, его вспугнул кто-то? И это возможно. Или тут все гораздо сложнее...
Придется поломать голову.
* * *
Теперь, когда осмотр квартиры убитого со всеми официальными церемониями (понятые, сотрудники уголовного розыска) был завершен, можно было углубиться в детальное изучение его архивов, переписки, накопившегося за годы хлама. Разгадка преступления, возможно, где-то здесь. Убийца не тронул предметов австралийского происхождения, и Рудольф Христофорович имел возможность осмотреть их, полюбоваться непривычной для нашего глаза работой. Но его интересовала переписка — оригинальные безделушки и затейливые поделки ничего ему подсказать не могли. Вот они и письма. Совсем немного. Ненашенские штемпели, почтовые отметки, марки со зверями, птицами и растениями бывшего некогда загадочным континента. Письма на русском языке. Немногословны, не шибко грамотны (надо думать, подзабыли русский язык заморские адресаты). В письмах нет ничего, что могло бы предопределить причины трагедии. Ни о каких деньгах, ни о каком-либо наследстве... Имена совсем не те, что упомянуты в объявлении инюрколлегии. Да и не упомянут там ни один из городов Австралии. В той заметке — города Соединенных Штатов и Европы — как это все увязать? И там были у Корзуна родственники? Но ведь имя-то его опять нигде не упомянуто.
Что можно сделать? Послать австралийский адрес компетентным юристам из коллегии, занимающейся вопросами иностранных наследств? Объяснить, в чем суть проблемы. Возможно ли такое положение, что человек, живущий под совсем другим именем, узнал себя? Или кого-то знакомого? Люди, которые всеми этими делами занимаются, могут смоделировать ситуацию, сообщат какие-то дополнительные данные, которые прольют свет на мотивы убийства. Но приблизят ли к убийце, помогут ли выйти на него?
Незнакомец, с которым разболтался в пивном баре Подгорный, конечно, мог убить. Сейчас таких подонков, для которых человеческая жизнь — пустяк, пруд пруди.
Но за что? За деньги? Корзун мог накопить какую-то сумму. Но чего бы ему иметь ее дома? На сберкнижке у покойного что-то около четырех тысяч. Деньги по нынешним меркам небольшие, но тем не менее — деньги. И если он хранит их на сберегательной книжке, то зачем ему держать какую-то сумму дома? Покупать он, по всей вероятности, ничего не собирался. Какая-либо драгоценность? Вполне возможно. Но ведь не держал же ее покойный на виду. Ее надо было обнаружить, а для этого все перерыть. Но не похоже, что тут кто-то рылся! Впечатление такое, что вообще ничего не взято. Зачем же было убивать? Опять это пресловутое объявление инюрколлегии. Такая ситуация: только эти двое знают, что к чему. Или больше, чем двое? Обстановка после убийства не дает возможности достоверно предполагать ни то, ни другое. Есть только факт убийства...
Тот, кого навел сюда Подгорный, что он мог взять? Драгоценности, которые убитый мог выдать под угрозой убийства. Такое тоже возможно. Но так это или нет будет известно лишь после того, как найдут того незнакомца. На признание рассчитывать, ясное дело, не приходится. Рассчитывать можно лишь на мастерство оперативников, которые ищут сейчас подозреваемого в убийстве и тоже изучают оставленные им следы. Им, а может, и не им... Может быть, все-таки, это дело рук самого Подгорного? А собутыльник — лишь черная кошка в темной комнате? А Колобов? Тоже странная личность...
Рунге спокойно и методично перебирал бумажки в письменном столе его бывшего хозяина, не пропуская ничего и... мало надеясь на то, что найдет что-либо, способное его заинтересовать.
Дешевенькая толстая тетрадка, не ученическая, нет, из тех, что продаются в киосках «Союзпечати», привлекла внимание Рунге тем, что все ее записи состояли из цифр. Ряды цифр пронумерованы попарно. Шесть цифр, потом пять. И следующий порядковый номер. И все подряд — 1, 2, 3... и так до пятидесяти двух. Потом опять те же колонки цифр, пронумерованные попарно.
«Шифр, что ли, какой?»
Следователь уже несколько минут сидел над этой тетрадкой.
«Отдать тем, кто в этом разбирается? В шифрах, то есть. Такая аккуратная запись не может быть бессмыслицей, что-то за этим кроется. Последний номер — тридцать один. Кстати, почему под одними номерами рядов цифр больше, чем под другими? Никакой закономерности не усматривается. Под последним номером — только два ряда цифр. Один ряд — шесть цифр, поставленных через запятую, второй — пять, точно таким же образом.
«Придется спросить в шифровальном отделе КГБ».
Спрятав тетрадь в дипломат, Рунге еще некоторое время поперебирал бумажки, книги и в состоянии полной неопределенности отправился к себе.
* * *
Звонок раздался в конце рабочего дня, когда Эдик уже втайне стал надеяться, что от него отстали. Немного отвлекшись работой, он уже подумывал, что про него забыли, и ему стало уже казаться, что вся эта история с убийством — дурной сон.
Но телефонная трубка развеяла эти робкие надежды. Она назвалась лейтенантом Фроловым и предложила встретиться в шесть ноль-ноль на ближайшей троллейбусной остановке. Эдик нехотя пообещал быть, а лейтенант на другом конце провода обстоятельно описал свою милицейскую униформу: кроссовки, небесно голубая куртка на красной молнии, вареные джинсы. Головной убор отсутствует, его заменяет светлая шевелюра. Особая примета — «Комсомольская правда» в руке. Естественно, свернута так, что можно прочесть название. «Как в хреновом детективе, — с тоской подумал Эдик, кладя трубку. — Не мент, а какой-то фарцовщик... Фарцмент...»
Впрочем, сама встреча сгладила это возникшее было неприятное чувство. Лейтенант сразу расположил к себе Эдика, пожав ему руку и по-простецки представившись Николаем. Они примерно одного роста и возраста, и было у них что-то общее: в манере держаться, в прическе, даже в «упаковке». И уже через некоторое время Эдик почувствовал себя, что называется, вполне в своей тарелке. Это все ж не зануда Христофорович, один взгляд которого чего стоит: не то насмешливый, не то изучающий, но все время пристальный. От него, от его кабинета, веет чем-то нехорошим. Хоть небо там и не в клетку в буквальном смысле, но суть-то одна...
— Итак, поясняю обстановку, — говорил тем временем Николай. — Двигаем сейчас в пивнушку, постараемся сесть к той же официантке. Твоя задача — сидеть, не крутя головой (они сразу условились перейти на «ты», поскольку это еще диктовалось обстоятельствами совместного мероприятия), но все видеть и замечать. Собственно, видеть тебе и замечать надо только одно: обнаружить своего собу... собеседника, с которым свела тебя судьба в тот известный вечер. Если вдруг засечешь, незаметно дашь мне маяк. Дальше уже моя забота, а ты вообще будешь стараться в этот раз остаться незаметным и стремиться возобновить знакомство не станешь.
— А как насчет пива? Моя милиция меня не только, наверное, бережет, но и пивом угощает?
— Будет пиво. А прокурор, как говорится, добавит. Правда, с моей-то стороны пиво будет только для камуфляжа. Сам знаешь, милиция у нас бедная. Да и я при исполнении, к тому же. А если тебе мало, то добавляй. На свои. В разумных пределах, конечно.
— А сколько это — в разумных пределах? Две кружки? Или десять?
— Двух хватит. А то еще в какую-нибудь историю вляпаешься.
— А ты как? Рыбку их фирменную насухую будешь грызть? Ох, у них и рыбка! А минеральной не держат. Как и лимонаду. Помнишь, у Зощенко?
— За меня не страдай. Сумею разобраться, что к чему.
— А вот почему зарубежные сыщики хлещут почем зря? Тот же комиссар Мегрэ. То он пиво сосет, находясь при исполнении, то аперитив, то рюмочку перно, то, глядишь, и коньячок зальет... Арманьяк... Звучит-то как! Приходилось тебе пробовать арманьяк?
— Ладно, кончай трепаться. — Они уже подошли к дверям пивбара. — Зайдем, осмотрись хорошенько. И держись как можно естественней. Просто два кореша зашли пивком побаловаться.
— Слушай, а пистолет у тебя с собой? Ведь преступник может быть вооружен и ос-с-собо опасен. При задержании.
— Автомат. И пара гранат.
— «И па-ар-ра гранат не пустяк», — пропел Эдик, почувствовав некоторый подъем при виде милой его сердцу обстановки. Он потянул на себя массивную деревянную дверь со сверхмощной пружиной. В нос ударил своеобразный коктейль запахов, состоящий из кислого пролитого пива, табачного дыма и фирменной рыбы, которую только что нахваливал Эдик.
Зал был пока наполовину пуст. Час, когда бывает негде упасть яблоку (если бы яблоку вздумалось упасть), еще не настал. Из дальнего угла доносилось всхлипывание ветхого баяна: слепой тоже уже был «при исполнении». При деле, во всяком случае.
Эдик высчитал стол, за которым он пировал со Славой. Стол был свободен, и они приземлились. Эдик, памятуя урок своего наставника, осторожно осматривался. Николай достал сигареты, свободно откинулся на спинку стула. В своем наряде, с небрежной прической он неплохо вписывался в интерьер — ни дать ни взять завсегдатай.
— Нет. Его здесь нет, — подвел итог своему осмотру Эдик. — Слепой здесь. Так он и не научился играть ламбаду.
— Какие его годы... Официантка та?
— Та самая. Лошадь, а не баба.
— О’кей! Девушка! Принесите нам графин пива и что-нибудь съедобное.
Сонная, несмотря на то, что вечер лишь начинался, официантка, с малоподвижным лицом и могучей фигурой, поплыла к кассе выбивать чек. Наступила пауза, которую Николай прервал своими соображениями вслух.
— Сейчас она принесет заказ, и я пойду с ней потолкую. — Николай нахмурился. — Конечно, она ни черта не помнит, спит на ходу.
— Поработай в пивной, такой же будешь.
Когда девушка принесла пиво и закуску и отправилась было дремать за столик, за которым сидела перед этим, Николай догнал ее и что-то тихо сказал. Она кивнула, не проявляя однако особой заинтересованности и повела лейтенанта в недра своего заведения, куда простым смертным входить запрещено.
Эдик тем временем налил себе пива и стал нюхать рыбу. Похоже, это была та самая рыба, которую они не стали есть с находящимся ныне в розыске Славой.
* * *
Лейтенант Фролов присел на краешек стола, за которым сидел Рунге и не спеша закурил. Рунге смотрел за его действиями неодобрительно. Потом, переведя взгляд на городской пейзаж за окном, где осень все же начинала отстаивать свои права, изрек без всякого энтузиазма:
— Все курят, кому не лень. Преступники, оперативник, прокуроры. Зачем, спрашивается, я бросал? Чужой дым вдыхать, говорят, так же вредно, или даже еще вреднее.
— Рудольф Христофорович, вы все равно в выигрыше. И дым бесплатно, и при том положении, которое у нас нынче с куревом, нервы сбережете, поскольку из-за табака суетиться не надо.
— Вот повешу табличку «Не курить», и дискуссии на эту тему не нужны будут. Давай, что у тебя?
— В баре был, пиво пил.
— Ай-я-яй. При исполнении?
— Ваш приятель Подгорный просветил меня, что комиссар Мегрэ ни одного преступления не раскрыл, пока не выпивал несколько кружек пива и не выкуривал несколько трубок.
— А еще что полезного, кроме этого, сообщил тебе Подгорный? Вообще, как он себя вел?
— Вел нормально. В меру нагловат, в меру циничен. Это, надо думать, такова норма поведения нашего поколения. А бывает, что и в крови... Ни на убийцу, ни даже на соучастника он, на мой взгляд, не тянет. Так, пустомеля... Тот не появлялся. По идее, если он убийца, то постарается залечь на дно, хотя бы на некоторое время.
— А что официантка?
— Клавдия... — Фролов заглянул в записную книжку — Клавдия Петровна Назарова. Поначалу, естественно, пыталась сослаться на большое всегда число клиентов, «не помню, не знаю», потом все же здравый смысл взял верх. Подгорного узнала, Славу вспомнила, когда поняла, что я все равно не отстану. Описала его примерно так же, как и Подгорный. По ее словам, видит его не первый раз. Похоже, он там постоянно пасется. Или пасся, если исходить из наших предположений насчет старика...
— Предположения всего лишь предположения, — вздохнул Рунге. — Нам нужны факты и доказательства.
— Надо искать. Я думаю, версия самая перспективная. Все сходится. Или почти все. Этот Слава... поил незнакомого человека водкой, все выпытывал, записал адрес. Официантка, кстати, видела, как они и водку пили (это им казалось, что она не видит) и как что-то записывал.
— Эту деталь, я имею в виду водку, а не адрес, Подгорный тоже не счел нужным от меня скрывать. А вот насчет адреса пришлось вытягивать.
Они помолчали; каждый обдумывал ситуацию. Рунге спросил:
— Как считаешь, есть смысл там караулить еще?
— Думаю, да. Несколько вечеров угробить на это придется. Если он убийца, но почувствовал, что его никто не подозревает, можно спокойненько заявиться на насиженное место. Привычка — дело такое. Друзья опять же. Кстати, Назарова обещала припомнить, с кем у этого Славы бывали еще контакты. Может, кого покажет, а через них на Славу выйдем. Где-то он живет, работает.
— Может, и не работает. Надо фоторобот составить — теперь уже со слов двоих, достаточно точно можно вылепить. И разослать.
— Понял. Принимаю к исполнению.
— И держи меня в курсе. Чуть что — сообщай. Сам понимаешь, начальство уже беспокоится.
Когда дверь за Фроловым закрылась, Рунге подвинул к себе телефон. Сегодня обещали дать ответ относительно возможной связи Корзуна с недавним объявлением инюрколлегии. Компетентные органы достаточно определенно выяснили: никакой предосудительной деятельностью, в частности, шпионской, Корзун Степан Викентьевич никогда не занимался. Он был из числа репатриантов, вернувшихся на Родину из Китая в середине-конце пятидесятых. Жил в Соединенных Штатах Америки, Австралии, но в конце концов предпочел вернуться в Союз. В Австралии — родственники, а именно теща, мать его погибшей в автокатастрофе жены, ее братья и сестры. Был ли кто-то у Корзуна в Штатах (а именно оттуда шло наследство, упоминаемое в объявлении инюрколлегии) — не установлено. Установить сейчас, когда Корзуна уже нет в живых — во сто крат сложнее. Надо запрашивать австралийских родственников Корзуна. Вряд ли кто-то из них что-то завещал. Но, может, им известно, под каким именем жил Корзун в Штатах.
Телефон молчал. Рунге глянул на часы. Да, еще рано. Если что-то выяснится, так разве что к вечеру.
* * *
— Никогда бы не поверил, если б мне сказали, что моя милиция меня не только беречь будет, но и каждый вечер будет водить в «Сугроб» поить пивом. Слушай, Коля, а нельзя с утра ходить сюда, чтобы еще и рабочее время шло, восьмерки бы мне проставляли. Я здесь сижу пиво пью, а на работе числюсь, как выполняющий особо важное задание. Как?
Николай снисходительно улыбался, разглядывая струйку дыма своей сигареты. Кружка пива, нетронутая почти, стояла перед ним, тогда как Эдик принимался уже за третью. Но со стороны выглядело так, будто два закадычных друга давно и хорошо сидят.
Официантка тоже, похоже, вошла в роль. Во всяком случае, когда ей приходилось заниматься столом этих двух молодых людей, она улыбалась по-особому — заговорщически.
— Что такое фоторобот сейчас каждый первоклассник знает, и по телевизору видел, — заговорил Николай. — Ты, я думаю, тоже это хорошо представляешь. Инженер все же...
— А как же! В каком это кино недавно показывали? Подъезжают глаза. Не те! Другие. Не те! Вот, пожалуй, эти. Потом нос. Рот. Борода... Представляю.
Эдик был уже в весьма оптимистичном настроении, как говорится, махнул рукой на все тревоги и страхи.
— Вот завтра с утра ты тоже будешь сидеть и определять, где то, а где не то. Усек?
— Всосал. В рабочее время — за милую душу.
— Клава тебе помогать будет. Вернее, вместе вы этим заниматься будете.
— Хм... Была бы посимпатичней. А то не баба — железобетон. Крупнокалиберная. «Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат! Ты, Дуся, агрегат, на сто киловатт!»
— Ничем не могу помочь. Значит, в девять ноль-ноль. Пойдем в лабораторию составлять фоторобот.
— Робот, робот, — забормотал вдруг Эдик, вцепившись Николаю в рукав. — И перешел на шепот: — Вон он, без робота нарисовался!
Несмотря на то, что лейтенант Фролов, не особенно веривший в быструю возможность встречи, все же готовился к ней, прикидывал всякие возможные ситуации, сейчас он слегка растерялся: все получилось не так, как он «проигрывал» в своих расчетах. Условный знак своим помощникам, сидевшим неподалеку, он подал, но было слишком неожиданно, что «зверь» чересчур прямолинейно «бежал на ловца». Слава сходу заметил своего недавнего знакомца и шел прямо к нему, широко улыбаясь. Он сменил зеленую куртку с красным флажком на потертый кожаный пиджак. К улыбке теперь добавились еще приветственные жесты, а в момент соприкосновения или стыковки, выразившихся в крепком рукопожатии, на детектива и его невольного пособника обрушился поток громких, почему-то испанских слов.
— Венсеремос! Патриа о муэрте. Но пасаран!
И поскольку стулья от их стола были предусмотрительно официанткой убраны, Слава громко потребовал стул. Естественно, никто не бросился его приказание выполнять, он схватил его сам от соседнего стола.
Николай попытался перехватить инициативу.
— Садись, садись, — стал он радушно приглашать неожиданного (точнее, ожидаемого, но не совсем так). — Сейчас пивка закажем!
И бросился к официантке.
— Это он, — уверенно подтвердила она. Ошибки не было.
— Пива принесите. И не мешайте нам. Понадобится помощь — я шепну.
И вернулся на место, где Слава уже гудел добродушно:
— Кенты! Надо бы за встречу по чуть-чуть. С этого пива только ссать электролитом будешь... Ты ведь Эдька, я не забыл? Тащи молока! Бабки есть.
И он вытащил небрежно пачку денег (никак не меньше тыщи, отметил про себя Фролов), и отстегнул купюру.
— Держи четверть. Ты помоложе.
— Да где же я сейчас возьму?
Пивной кайф слетел с Эдика. Он напрягся, побледнел и явно не представлял, как вести себя в создавшейся ситуации.
— Ну ты че, в натуре, — заговорил Николай вдруг на жаргоне, близком многим сидящим в этом прокуренном, пропахшем пивом и рыбой зале. — Подкатись к рэксу. Отоваришься за три секунды. А стоянка за углом, знаешь?
— Бу сделано. — Эдик с явным облегчением принял поручение. Малоприятная операция доставания водки в позднее время на этот раз
освобождала его от еще менее приятного общения со Славой и позволяла ускользнуть хотя бы на время от событий, ничего хорошего не предвещавших. На Славу он поглядывал с затаенным страхом: он успел утвердиться за это время в мысли, что его случайный собутыльник и есть убийца Корзуна. Что же касается самого Славы, то он был настолько «хорош», что ему было плевать на то, кто и что сейчас о нем думает. Уже в дверях, бросив взгляд на оставляемую компанию, он отметил, что Слава и Николай углубились в самую задушевную беседу. Слов слышно не было, но Славино гуденье явно заглушало мягкий и вкрадчивый голос Николая, в основном поддакивающего своему новоявленному собеседнику.
* * *
Есть на земле немало профессий, обладатели которых почти никогда не отключаются от своих дел: они их занимают и во время отдыха, и во время личных занятий, словом, всегда...
Профессия следователя — одна из таких. Коль уж человек влез в расследование, оно ему не дает покоя ни днем, ни ночью. Рунге в версию «Подгорный — Незнакомец» и верил, и не верил. «Фифти-фифти», как модно стало выражаться. Хотя почему «фифти»? Может, и вообще нуль... Все может быть...
— Ладно, начальник. Твоя взяла...
Слава обхватил голову руками... Лицо его было помято, борода не выглядела окладистой — она торчала клочками.
О человеке, который сидел напротив него, Рунге знал уже достаточно много. Судим. Мелкая ходка — хулиганство. На среднем пальце руки соответствующая этой статье (206-й УК РСФСР) наколка. Но вот отпечатка ни этого, ни какого-либо другого пальца найти в квартире Корзуна не удалось. Будь такой отпечаток — и в деле можно было бы поставить точку. А сейчас что? Улик — ноль целых, ноль десятых...
— Откуда у вас столько денег с собой, Шульгин?
— Я же не спрашиваю, откуда у вас денег нету. Заработал.
Мог и заработать. Нынче деньги появляются в карманах людей вроде бы совсем из ничего. А Шульгин, как выяснилось, последнее время работает форматором в скульптурном цехе художественного фонда. Бывают такие заказы, что деньги хоть лопатой греби.
— Я же сказал. Твоя взяла. Бери штраф, сколько положено и сколько неположено. За трезвяк, за мордобой, за мат и оскорбление властей. Только выпустите. Тошно тут у вас, да и работать мне надо, бабки хорошие в руки плывут.
— Вот разберемся, определим, кто чего стоит и кто за что отвечать должен, и отпустим.
— Да мои грехи любой сержант отпустить может, а меня как гангстера какого за решетку под замок упрятали. На пятерку всех моих прегрешений всего.
— А может, и поболе. Давайте вместе посчитаем. Как говорят, на пальцах... — Рунге и в самом деле стал загибать пальцы.
— Вспомним вчерашний вечер. Спиртные напитки в пивбаре распивали — раз. Дебош устроили — два. Милиции сопротивлялись — три. На пятнадцать суток «заслуг» у вас набирается. А требуете выпустить.
— Да не сопротивлялся я! Это Колян все учудил. Сломался парень на глазах — за пять минут выехал. Все был нормальный и сразу пьяней самогона стал. Артист! А мне была охота по спине дубинкой заработать.
Рунге усмехнулся. Действительно, Фролов неплохой поставил спектакль. Притворился пьяным, помощники подыграли, а тут и спецфургон подоспел. Дилижанс, как его уважительно алкаши именуют. Запихнули в машину несколько человек, хотя нужен был только Шульгин. С возможным обоснованием пятнадцати суток. С таким расчетом, что вдруг за трое положенных по закону раскрутить его не удастся. Через семьдесят два часа либо предъяви обвинение, либо отпускай на все четыре... Шульгину впору идти прокурору жаловаться на незаконные действия милиции, но что делать — уж больно серьезное подозрение висит на Славе.
— Ладно, Шульгин, вы правы. Пусть вашим поведением занимается милиция. У меня к вам есть вопросы, ко вчерашнему вечеру не относящиеся. Причем, предупреждаю, что это вполне официальный допрос, так что все, что касается ложных показаний, попыток скрыть истину влечет за собой последствия, сами знаете какие.
Шульгин посерьезнел и насторожился.
После того, как была заполнена формулярная «шапка», Рунге перешел к интересующим его вопросам.
— Вы можете мне с определенной ясностью сказать, что вы делали восемнадцатого сентября после двадцати двух часов тридцати минут?
— Вот вопросик! — Шульгин даже изобразил нечто вроде смешка, хотя в глазах мелькнула тревога. — Я что, по-вашему, по хронометру живу? Все запоминаю и записываю? Но самое верное, пожалуй, если скажу, что спал. Время-то детское. Что я еще мог делать?
— Допустим. Тогда так: фамилия Корзун вам что-нибудь говорит?
Шульгин ответил легко, не задумываясь:
— Нет. Впервые слышу.
— А если подумать?
— Корзун... Корзун... Вообще-то что-то такое на задворках памяти маячит. Но какое мне до него дело? На брудершафт я с человеком под такой фамилией не пил, это точно.
— А без брудершафта?
— Да никак не пил. Что мне, кроме него, пить не с кем?
— Тогда давайте так. В указанный день и час вы намеревались пойти к Корзуну домой. Это может подтвердить свидетель.
— А за каким хреном я должен был к нему пойти? Да еще в такое позднее время. Он что, мне должен был?
— Выбирайте выражения. Зачем вы собирались — вам лучше знать. Но что намерение у вас такое было — установлено точно. Вы ведь даже адрес записали.
Рунге вынул из ящика стола записную книжку.
— Ваша?
— Ну моя.
— Эту запись вы делали? — Рунге поднес книжку к глазам Славы.
— Ну я.
— Я вам помогу вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Этот адрес вам продиктовал Подгорный Эдуард Михайлович. Все в тот же интересующий нас вечер.
— Ну и что? Только я никакого Подгорного не знаю.
— Вот здесь-то вы говорите явную неправду. В одном и том же пивном баре вы с ним пили и вчера, и восемнадцатого. Да, да. С Эдуардом Подгорным.
— Эдуардом? С Эдькой, что ли? Фу ты черт! Так бы и говорил. Ну, тогда понятно. Припоминаю. Ну и что этот Корзун? Он, Эдька, болтал, наследство вроде получил? С Австралией что-то связано?
— Все так. Но не это сейчас главное. Главное то, что в тот же вечер Корзун в своей квартире был убит.
— Убит? — Шульгин переспросил, вникая в суть сказанного. Потом с изменившимся лицом спросил тихо:
— Так вы что, считаете: раз я его адрес записывал, то и убивать сразу пошел?
— Тогда расскажите, как было дело.
— А не было никакого дела. По пьяни действительно у нас возникла такая идея — пойти поздравить человека. Тем более, Эдькиного дядю. Но он так накушался, что и дома дядиного не нашел.
— Но у вас же был адрес.
— Ну и что? У меня не было времени этот адрес разыскивать. Я спешил.
— Куда, если не секрет?
— Не секрет. На вокзал спешил. Не было у меня времени убивать. В одиннадцать я уже отчалил в Карамыш. Там у нас заказ срочный. Оттуда я вчера и вернулся. Там и бабки скалымил, которые вас заколебали.
— Кто подтвердит?
— Да вся бригада наша. У бригадира, наверно, и билеты сохранились.
— А Подгорный знал об этом? Что уезжаете?
— Я ему говорил, но он давно уже отключился. На автопилоте был, так и домой, видно, добирался. Если добрался. Вчера я его о том не спрашивал. Не дали поговорить, суки...
— Давайте без выражений. Все, что вы сказали, проверим. А с милицией выясняйте отношения сами...
...И таких разочарований в практике Рунге было предостаточно. Но переживать их каждый раз нелегко. Версия с бородатым убийцей лопнула. В этом уже не было сомнений: проверяй не проверяй — чутье подсказывало, что Шульгин говорил правду...
* * *
Как утопающий за соломинку, он опять взялся за газету, которая уже замызгалась от бесчисленных к ней обращений. Ну что, собственно, ожидал он увидеть, открывая газету на последней странице? Объявление инюрколлегии он уже знал наизусть. Может, в очертаниях фамилий, в названиях что-то вдруг новое увидится?
Рудольф Христофорович усмехнулся своим мыслям. Он бегло глянул на объявление, и в тот миг, когда стал сворачивать газету, увидел нечто, поразившее его, словно удар током. Цифры! Нет, не в объявлении инюрколлегии, а ниже, под ним. Цифры! Он же их видел недавно, этот ряд цифр, числом пять. Они недавно стояли у него перед глазами. Где? Да в тетрадке же этой, которую он отдал в шифровальный отдел.
Рунге захохотал, как, вероятно, хохочут внезапно лишившиеся ума люди. Но смех был коротким. Он впился глазами в этот ряд цифр и стал спокойно анализировать возникшую вдруг ситуацию. Цифры, которые он сейчас видел, были выигрышем в спортлото. Сам Рудольф Христофорович этой игрой никогда не баловался, но представление о том, что это такое, имел уже хотя бы по долгу службы. Итак, выигрыш в спортлото! Очевидно,. крупный. В зависимости от того, сколько... Впрочем, надо проконсультироваться. Жаль, в управление «Спортлото» звонить уже поздно. Ладно, завтра с утра...
А утром Рудольф Христофорович сидел напротив симпатичной молодой женщины и внимательно слушал ее объяснение. Она была чем-то похожа на дикторшу из ТСН, и это обстоятельство мешало Рудольфу Христофоровичу сосредоточиться на том, что она говорила. Но главное он уяснил сразу. Сумма выигрыша зависела от того, сколько было заполнено вариантов. Один из пяти номеров, там, где пять из тридцати шести, — уже десять тысяч. Если оба варианта, то соответственно двадцать тысяч. А если больше, то... подсчитать нетрудно. Сколько вариантов, столько раз по десять тысяч...
Да, за это могли и убить. Только кто мог узнать о выигрыше? Тот, с которым познакомился в пивбаре Эдик, был сориентирован на иноземное наследство. Может, отрицая сам факт наследства, Корзун признался, что выиграл? Маловероятно.
— Скажите, — спросил Рунге женщину, которая отрекомендовалась Эльвирой Петровной, — а как оформляется получение выигрыша? И где?
— Крупных — только у нас. Это билет лотерейный можно предъявить в любом уголке Союза, а выигрыш спортлото — в том зональном управлении, где состоялся розыгрыш.
— Стало быть, за ним надо будет прийти сюда?
— Совершенно верно. С предъявлением документов. Хотя по природе своей — выигрыш анонимный. Но мы должны знать, кому мы выдаем такие большие суммы. Существует же статистика.
— А время, в течение которого следует получить выигрыш, как-то лимитировано или безразмерно?
— Очень даже размерно. Если по лотерее можно получить в течение года, у нас только в течение месяца.
— А где конкретно, у кого получать?
— Здесь у нас. В кассе.
— А если мы захотим установить личность получателя, то как это сделать?
— Не знаю. Говорите с начальством.
— Когда начнется выплата по тридцать первому тиражу?
— Завтра.
— То есть еще не выдавали. Но вы уже знаете, что есть крупный выигрыш?
— Конечно. Это установлено по частям Б и В, сданных нам карточек, участвующих в названном вами тираже.
— Понятно. Так как пройти к вашему начальству?
— Идемте, провожу.
Начальник управления оказался человеком еще молодым, скроенным по спортивным меркам (надо думать, из бывших спортсменов), модно и современно одетый.
— Итак, что криминального усмотрела прокуратура в наших деяниях? — весело спросил главный босс «Спортлото», а в глазах настороженность: в каких нас грехах подозревают?
До этого он внимательно изучал удостоверение Рунге, был серьезен, а изобразить улыбку смог, по всей видимости, сделав некоторое усилие над собой.
Рунге в сдержанных выражениях объяснил цель своего визита. Его собеседник понял с полуслова.
— Вы полагаете, — начал он осторожно, — кто-то завладел карточками, на которые пал крупный выигрыш? Да, мы знаем, выигрыш такой в нашем городе есть. Весьма крупный, который выпадает очень нечасто. Но почему вы считаете, что карточками завладел посторонний, а у подлинного владельца их уже нет?
— У нас есть веские основания предполагать, что это так. Цифры выигрыша опубликованы... — Рунге замолчал, обдумывая, как объяснить ситуацию. Начальник попробовал прийти ему на помощь.
— Угаданные цифры. Это делается каждый раз на следующий день. «Правда», «Известия», «Советская Россия», некоторые местные газеты делают это регулярно. О выигрыше каждый участник тиража узнает либо из передач Центрального телевидения, либо заглянув на следующий день в газету (розыгрыш проводится по воскресеньям, в понедельник результат уже в газетах или во вторник, поскольку в понедельник выходят только две центральные газеты). О крупных выигрышах люди обычно предпочитают не распространяться, особенно в наше время. Что же произошло в этом случае? Вы меня можете посвятить в создавшиеся обстоятельства?
— Я пытаюсь это сделать. Но вы понимаете, что это следственная тайна и все, что станет вам известно, дальше этих стен пойти не должно. Но вы сейчас можете нам помочь в изобличении и поимке преступника.
— Все же объясните, как вы пришли к выводу, что налицо преступник и преступление? Может, вы на ложном пути? В каждом деле ведь своя специфика, а нам она известна, конечно, больше, чем вам.
— С этим никто не спорит. Потому я и у вас. Что вы скажете об этом?
Рунге протянул начальнику тетрадку, найденную у Корзуна. Тот полистал записи, посмотрел внимательно на последнюю, кивнул: все ясно.
— И где хозяин этой тетрадки? Судя по записям человек аккуратный, к игре в «Спортлото» относился серьезно...
— Хозяин мертв. Убит. И скорее всего именно по этой причине. Тетрадь нашли, а вот карточек... нету!
Начальник откинулся в своем кресле.
— Да, дела... — все, что он мог вымолвить. Сейчас он был серьезен и сразу стал казаться не таким уж молодым.
— Кто-то предъявит эти карточки...
— Или карточку...
— Иначе какой был смысл идти на преступление?
— Но мы не можем ни задержать предъявителя выигравшей карточки, ни даже усомниться в его праве на получение выигрыша.
— Разумеется. Ваша задача — сообщить нам. Только давайте продумаем вместе, как это лучше сделать.
— Да, как это сделать? Позвонить вам? Вы ж не можете здесь в течение месяца дежурить?
— В этом нет нужды. Потянете немного с оформлением, а там и наши люди подоспеют. Но что можно предполагать, так это то, что на месте получателя окажется подставное лицо.
— Деньги-то все равно должны попасть по назначению, то есть тому, кто в данный момент владеет карточками.
— Это-то ясно. Но при таком раскладе у преступника есть хоть и очень небольшой, но все же шанс ускользнуть. Сами понимаете, что допустить этого нельзя.
— Как не понять...
И они стали обговаривать детали предстоящей операции.
* * *
Карточку предъявила женщина. Одну, но оба варианта были заполнены одинаково, что увеличивало сумму выигрыша вдвое. Впрочем, о том, сколько карточек, мог гадать только Рунге — в управлении точно знали, что карточка одна и начальник отнюдь не случайно в разговоре со следователем сделал тогда поправку.
Женщина была одета скромно, возраст ее был довольно неопределенный, держалась она спокойно, словно получать такие большие деньги — для нее дело привычное. Все управление сбежалось на нее посмотреть, а она устроилась в уголке, когда ей сказали, что придется немного подождать. Предъявленный ею паспорт отнесли к начальнику управления, где он старательно перенес все данные получательницы. «Галактионова Зоя Петровна, серия, номер, выдан... прописана... не замужем — штампа о регистрации брака нет...»
А тем временем наиболее любопытные сотрудницы пытались разговорить счастливицу, спрашивали, как это ей так повезло, давно ли играет в «Спортлото», не боится ли идти по улице с такой суммой и почему не позвала кого-нибудь ее сопровождать. Галактионова отвечала односложно и хотя вежливо при этом улыбалась, было очевидно, что она с удовольствием послала бы всех любопытствующих подальше.
Рунге запретил оперативникам пользоваться машиной и проинструктировал каждого, как кому действовать. Двоим надлежало (по одному) пройти в управление. Еще двое, которым уже сообщили приметы женщины, тоже по одному, независимо друг от друга, должны проследить за ней с момента выхода из управления. К ним присоединятся и те, которые пойдут за Галактионовой из управления «Спортлото». Эти будут знать ее уже не по приметам: у них будет возможность увидеть ее воочию. Правда, и пристроиться за объектом наблюдения им будет труднее: женщина не раз осмотрится, прежде чем решится передать свою ношу.
— Одно могу сказать: преступник опасен. Возможно, вооружен. Церемониться не станет. У него может быть, а это скорее всего, машина. Где и как его брать — решить можно только сообразуясь с обстоятельствами. Заранее предсказать ничего нельзя — о преступнике пока ровным счетом ничего не известно...
Рунге и сам бы охотно принял участие в операции — так велико было его нетерпение узнать, кто же этот монстр и как он сумел «вычислить» выигрыш. Но он знал, что профессионалы сделают все четче, лучше, увереннее. Оставалось только ждать.
Вот выполнены все формальности, извлечены из сейфа пачки денег, уложены в дипломат — и неприметная женщина выскользнула из дверей управления «Спортлото», унося в неприметном же чемоданчике десятилетнюю зарплату инженера.
Она, понятно, внимания не обратила на молодого в тренировочном костюме парня, пытающегося прямо на улице устранить какую-то неполадку в спортивном велосипеде. Убедившись, что попытки эти тщетны, он легко вскинул велосипед на плечо и пошел, не торопясь, с беззаботным видом. То, что его маршрут совпадал с маршрутом женщины, было, конечно, чистой случайностью...
Мужчина в светлом пиджаке и серых брюках, читавший какое-то объявление, прилепленное к стене дома, оторвал из бумажной бахромки интересующий его номер телефона и в задумчивости зашагал в ту же сторону, что и велосипедист.
С интервалом в минуту вышли из управления «Спортлото» молодые мужчины, надо думать, сотрудники этой организации.
Все дальнейшее произошло достаточно буднично. Женщина с чемоданчиком прошла всего два квартала и направилась к скверу, где царили тишина и спокойствие. Била вода из фонтана, доцветали цветы, играли дети. Она опустилась на скамейку в тени кустов и поставила чемоданчик на колени, обняв его обеими руками. Смотрела она в землю прямо перед собой.
Велосипедист, прислонив машину к скамейке, снова стал качать педаль — что-то не устраивало его в цепной передаче. Мужчина в светлом пиджаке, достав записную книжку, что-то стал заносить в нее, примостившись на скамейке неподалеку. Мужчины из «Спортлото» в сквер не заходили — их вообще не было видно.
Женщина в одиночестве просидела недолго. Немолодой, высокий мужчина появился в сквере откуда-то из-за кустов. Неторопливой походкой гуляющего человека он подошел к скамейке, где сидела женщина и присел рядом. Они обменялись негромкими фразами, она поставила чемоданчик между собой и ним. Широкая его ладонь легла на ручку дипломата, он поднялся и неторопливо двинулся в сторону оживленной улицы. Женщина тоже встала и пошла, но в противоположную сторону. Она поэтому не видела, как по бокам мужчины, с которым только что разговаривала, выросли двое. Мужчина с дипломатом не успел даже отреагировать: у тротуара остановилась вишневая «Волга», дверца распахнулась, и он сам не понял, как оказался на заднем сиденье между двумя дюжими парнями.
Женщина, между тем, тоже ушла недалеко: велосипедист и любитель объявлений тоже проводили ее к автомобилю, подъехавшему так же неожиданно, как и тот, что увез мужчину с дипломатом.
* * *
Когда Рунге сообщили, что операция по задержанию прошла благополучно и он может допрашивать задержанных, он чуть не бегом бросился в следственный изолятор.
— К кому сначала, к мужчине, к женщине?
— Надо бы к женщине, ее все равно, возможно, отпустить придется. Хотя... Давайте к мужчине.
Действительно, роль женщины может оказаться не такой уж безобидной. А если она не только получала деньги, но и участвовала в краже карточек и в том, что с этой кражей было связано?
Казалось бы, удивляться чему бы то ни было на своей работе Рунге не приходилось. Но когда мужчина, сидевший в камере, повернулся к нему лицом, Рунге остолбенел.
— Хрусталев, — вырвалось у него. — Вы!?
Он чуть было не протянул руку. Ведь перед ним сидел человек, которого совсем недавно рекомендовали как образец честности и порядочности.
Хрусталев молчал. Только смотрел так же, как и несколько дней назад, прямым и твердым взглядом.
— За что меня задержали? — произнес он наконец хриплым надтреснутым голосом.
Рунге смотрел Хрусталеву в глаза, и странное чувство охватывало его. Словно перед ним был не живой человек, а робот, лишенный каких бы то ни было человеческих чувств. Он понял, что признания не будет, что борьба предстоит трудная. Следователь вычислил преступника, но доказательств-то, по сути, никаких нет. Ни отпечатков пальцев, ни каких-то вещественных... Отсутствует орудие убийства (сейчас на квартире Хрусталева идет обыск, но найдут ли что? Уж больно он хитер и осторожен).
— Вы подозреваетесь в убийстве своего сослуживца и соседа Степана Корзуна, в присвоении карточек «Спортлото», на которые выпал выигрыш большой суммы. Вы присвоили себе этот выигрыш, что подтверждается наличием этой суммы в изъятом у вас чемоданчике типа «дипломат».
— Чушь! Я никого не убивал, а выигрыш — мой выигрыш. Я играю в «Спортлото» уже много лет. И у меня есть доказательства этого.
— Ваш выигрыш? Отчего же вы сами не пошли его получать?
— Это мое личное дело. И никого не касается. Я не хотел, чтобы узнали на работе. Слишком много у нас завистников.
— Галактионовой вы что-то обещали за такую услугу?
— Это опять же мое личное дело.
— Корзун вел тетрадь своих карточек несколько лет в специальной тетрадке. Он не пропускал ни одного тиража и все аккуратно записывал перед тем, как опустить части Б и В в ящик. Номер последнего тиража, в котором он угадал все пять цифр, тоже зафиксирован и записаны номера, которые Корзун зачеркнул в карточке.
— А может, он записал их после того, как тираж уже состоялся.
— Зачем ему это было делать?
— Это его надо спрашивать...
— Не думал, что вы циник, Хрусталев. Вы убили человека, обокрали его, а теперь говорите такие вещи.
— Я никого не убивал. А что касается тетради, я тоже веду учет тиражей, в которых участвую. И тоже записываю все цифры. Могу показать. У меня тоже записаны эти цифры.
— Вот тут-то я могу поверить, что вы сделали запись после того, как итоги тиража были опубликованы.
— Верить или не верить — дело ваше. А вот доказать вы ничего не сможете.
— На частях Б и В остались отпечатки пальцев Корзуна. А выигрыш такого порядка, очень, кстати, редкий — один на всю зону. Чем вы это объясните?
— А зачем мне что-то объяснять? Объясняйте, если вам нужно.
— Вот мы и объясняем. Карточки заполнял Корзун. На них остались отпечатки его пальцев. Убив владельца, вы завладели частью А, дающей право на выигрыш. На ней тоже отпечатки пальцев Корзуна. Этого мало?
— А если он мне их сам передал? Вы можете исключить такую возможность?
Каким бы нелепым и наглым не выглядело такое заявление, Рунге понимал, что опровергнуть его не так-то просто. Хрусталев сейчас ухватится за эту мысль и может возвести на покойника любую напраслину. Скажет, что Корзун боялся сам получать выигрыш, что они договорились, чтобы деньги получил Хрусталев, а к убийству он не имеет никакого отношения.
Хрусталев заметил замешательство следователя, взял наступательный тон:
— Хотите легко раскрыть преступление? Удобный случай представился? Есть на кого повесить убийство? Да, Корзун передал мне карточку. Мы договорились, что он заплатит нам с Зоей. Никто не мог предполагать, что его убьют. В том, что мы взялись получить выигрыш, еще нет преступления.
— Но деньги-то вы хотели присвоить себе?
— А это еще неизвестно. Может, мы передали бы их в фонд Чернобыля...
— Галактионова знала, что это — деньги Корзуна?
— Нет! — быстро ответил Хрусталев. — Зачем ей было это знать?
— Вы сказали: «нам с Зоей». Как это понимать?
— Ничего я не говорил.
— Но я же записал. В протокол. И диктофон тоже.
Рунге выдвинул ящик стола.
— Я оговорился. А магнитофонная запись — не доказательство. Вы необоснованно меня задержали, я требую меня освободить и дать мне возможность встретиться с адвокатом.
— Прав ваших ущемлять никто не собирается. А вот освобождать вас мы пока повременим. Послушаем еще, что скажет Галактионова, и посмотрим, что дадут результаты обыска в вашей квартире.
— Это беззаконие! — Хрусталев побелел от бессильной злобы. — Кто вам дал право делать обыск?
— Закон дал такое право. Ваше утверждение, что Корзун сам дал вам часть карточки «Спортлото» — не более как грубая уловка, ничем не обоснованная...
Хрусталев криво усмехнулся.
— Ищите, ищите. Ответите еще и за это.
Протокол Хрусталев подписал почти не читая.
* * *
Допрос Галактионовой ничего не дал. Да, Хрусталев ее давний знакомый, оба они люди одинокие, отношения их никого не касаются, а что попросил получить деньги по выигрышу, так это любой поймет: зачем, чтобы знали о выигрыше на работе, соседи и вообще... А она откажется, если кто будет спрашивать. Что-то спутали, не я это выиграла, да и все тут. А Хрусталев обещал дать тысячу рублей. Он человек честный, не обманет. А разве это преступление — получить деньги за другого человека, если он тебе доверяет?
О Корзуне она и не слышала ничего. Кто такой — не знает. Где живет — тем более. В том же подъезде, что и Хрусталев. Так там много народу живет — она никого там не знает. А если и бывала у Хрусталева, так старалась, чтобы ее поменьше видели.
Оснований задерживать Галактионову более не было. Даже если выяснится ее участие в убийстве Корзуна, никуда она не денется. Бежать ей некуда да и незачем. Ведь и Хрусталев, судя по всему, не закоренелый преступник, а она-то тем более оказалась запутанной в это дело случайно. Словом, достаточно подписки о невыезде.
Спокойная наглость Хрусталева не только не поколебала уверенности Рунге в его виновности, но и укрепила в ней. Но доказательства в самом деле повисли в воздухе. Умозаключений, даже самых остроумных для суда, мало — нужны твердые доказательства. Обыск. Что даст обыск в квартире Хрусталева? Не может же он не допустить хоть какой-то промашки. Рунге глянул на часы. Вполне возможно, что обыск еще не закончился. Может, он сам что заметит? Может, что интуиция подскажет? И Рудольф Христофорович заспешил на квартиру Хрусталева. Поймав первого же подвернувшегося частника, он помчался к дому, где жил убитый и, в чем он был совершенно уверен, убийца.
Обыск подходил к концу. Понятые уже собирались уходить. Судя по их постным лицам, никаких сенсаций увидеть им не удалось. Хмурым и сосредоточенным было лицо старшего группы капитана Еремеева. «Стало быть, ничего». Рунге подавил вздох разочарования. Но, стараясь придать бодрость голосу, все же поинтересовался:
— Как успехи?
Спросил, чтобы что-то сказать. И так все ясно. Сейчас Еремеев либо пожмет плечами, либо разведет руками.
Но капитан почему-то не сделал ни того, ни другого. Он кивком головы указал на стол, на котором лежали... валенки.
— Что это? — в полном недоумении спросил Рунге.
— Подарок лейтенанта Костина.
Ответ, не рассеял недоумения следователя, но он уже понял, что это не пустой розыгрыш, хотя капитан и не отказал себе в удовольствии «потянуть резину».
— Знаете анекдот: можно ли убить валенком жену? — И сам же дал ответ, который, впрочем, Рудольфу Христофоровичу тоже был известен: — Можно, если положить в него утюг.
Рунге начал кое-что соображать. Он осторожно взял валенки, и сразу почувствовал по весу, что в них лежало что-то тяжелое. Точнее в одном. Отложив пустой валенок, Рунге заглянул в другой. Там что-то белело.
— Костин обнаружил валенки в антресолях. Да доставайте, ничего, только разворачивайте осторожно, чтобы пальчики не оставить.
Предмет, завернутый в чистый платок, был тяжелым. «Килограммов около трех», — определил Рунге. В длину однако предмет, а он был продолговатым, был сантиметров двадцать. Следователь в нетерпении развернул платок.
Сюрприз следовал за сюрпризом! Черный, как негр, каслинского чугунного литья Дон Кихот выглянул из платка. Рыцарь Печального Образа в шлеме-тазике, том самом цирюльничьем тазике с выемкой на краю, глянул на следователя задорно и даже весело, но в то же время непреклонно. Топорщились усы, вздернутая эспаньолка, словно указка или шпага, была выставлена вперед. Это был поясной бюст, созданный в конце прошлого века, о чем свидетельствовал проставленный на литье год. Латы рыцаря выпирали острыми углами, но в основании, на котором бюст устанавливался, грани напоминали обух туристского топорика, нет, были гораздо острее. Память сразу вытолкнула из своих недр фразу, сказанную одной из женщин-сослуживиц Корзуна: «Мы ему к юбилею каслинское литье подарили». Это в подтверждение того, что старик пользовался уважением... Да, на спине рыцаря была привинчена маленькая светлая пластинка с гравировкой: «Степану Никитичу Корзуну от сослуживцев в день юбилея». Год, дата.
— Сейчас же на экспертизу, — подавляя волнение, приказал Рунге. — Следы крови все равно должны обнаружиться.
Еремеев кивнул. А Рунге отчетливо представил себе ту фразу из медицинского заключения, где говорилось о характере черепно-мозговой травмы. «Тяжелый предмет с острыми краями». Кто бы мог подумать, что этим предметом окажется бюст самого гуманного из созданных человеческим воображением людей!
* * *
Прием не новый, старый как мир, но срабатывает безотказно. Без промаха. Отправляясь на свидание с Хрусталевым, Рунге захватил бюстик Дон-Кихота. Сейчас-то он был во всеоружии доказательств: экспертиза подтвердила и наличие крови группы Корзуна, и микроскопические остатки мозгового вещества. Статуэтку Хрусталев обмыл не достаточно тщательно, не учел возможностей нынешних криминалистических лабораторий, применяющих электронику и спектральный анализ...
Бюстик Рыцаря Печального Образа стоял на столе. Эффект этот Рунге не стал оставлять напоследок, полагая, что так разговор пойдет легче. Не дурак же в конце концов Хрусталев.
Действительно, увидев скульптуру, Хрусталев только и произнес устало:
— Нашли все же?..
— Что же вы, Дмитрий Евгеньевич, такую важную улику не ликвидировали?
— Утопить хотел по случаю. Чугун, не сожжешь ведь, не разрубишь на кусочки, не спустишь в унитаз...
— А зачем вообще было брать? Стерли бы следы, поставили бы, где раньше стоял...
— Хотелось поскорей уйти — сунул в карман почти машинально.
— Все верно. Ну рассказывайте, как все было. Или лучше опишите?
— Записывайте. Нет у меня желания заниматься литературным творчеством.
— Тогда вопрос: как вы догадались, что дело не в инюрколлегии, а в «Спортлото»?
— Я знал, что Корзун играет в «Спортлото». Причем, по какой-то системе. Мы встретились однажды в магазине, я покупал карточки, он подошел сдавать свои. Разговорились. И поэтому, когда этот балаболка Подгорный стал всюду распространять байку об инюрколлегии, я, лишь глянув в газету, понял, в чем дело. Не вытерпел, пошел вечером к Корзуну...
— Цель-то все же у вас какая-то была?
— Хотелось проверить свою догадку. Знаете, наверное, все, кто в «Спортлото» играют, завидуют более удачливым. Почему ему везет, а мне нет? И потом, может, действительно система дает возможность выигрывать и даже крупно.
— Вы надеялись, что Корзун поделится с вами секретами своей системы? Как надеялся Герман выведать у графини тайну трех карт.
Хрусталев болезненно скривился: литературная параллель показалась ему неуместной. Рунге тоже это понял и, боясь, что подследственный может замкнуться, мягко попросил:
— Продолжайте, Дмитрий Евгеньевич.
Голос Хрусталева звучал глухо, отрешенно. Говорил он с трудом, и все-таки создавалось впечатление, что говорить ему все же легче, чем молчать.
— Корзун не то удивился, не то растерялся, но пригласил войти. Он не убрал никаких бумаг со стола, за которым сидел перед моим приходом. Я сразу увидел газету «Известия» и раскрытую папку, в которой лежали карточки «Спортлото» и раскрытую тоже тетрадку с какими-то схемами-вычислениями. И поскольку мне надо было как-то объяснить причину своего прихода (когда я пошел, решил, что скажу, позвонить, мол, надо, но телефон стоял в коридоре), то я просто заговорил на тему и мне и ему интересную: что, система сработала? Он не удержался от желания похвастать и сказал, улыбаясь: «Представьте себе, да!» И тут я заметил, что он выпил. Это наш примерный работник, аккуратист, которого все считали поборником трезвости! Да еще гипертоник. Но это обстоятельство придало мне смелости, и я сказал то, на что не решился бы при других обстоятельствах. «Представьте, есть! Есть что и есть чем!» Он вытащил из шкафа бутылку коньяка, уже початую, стакан. За другим стаканом сходил на кухню, налил мне и себе. Когда выпили, я спросил, кивнув на бутылку: «Так что, удача стоит того?» — «Еще как! Полный, можно сказать, бант, как говорили в старину о полном комплекте наград. Два варианта и оба по пять!» — Разыгрываете!»
И тут он, сунув мне «Известия», полез в сервант, где у него стояли книги. Вытащив из второго ряда какую-то малоприметную брошюрку, он раскрыл ее на известной только ему странице и достал часть А тридцать первого тиража «Спортлото», того самого, результаты которого были опубликованы в газете, находившейся у меня в руках. Все точно: маленький клочок бумаги стоил двадцать тысяч... Мне не хотелось выпускать его из рук, но и Корзуну не терпелось заполучить его обратно. Пришлось отдать. Но в брошюру на этот раз он класть не стал, а засунул в ящик стола.
«Да, такое не грех отметить», — сказал я.
Он принял мои слова за намек и тут же налил по полстакана. Мы пили, не закусывая и оба быстро опьянели. Особенно он. У меня уже отпала надобность придумывать причину прихода — ему она была не нужна. Он вдруг стал разговорчивым, принялся рассказывать, в каких странах побывал, а у меня в голове засело занозой: ну зачем ему деньги? Он и так обеспечен, семьи нет, путешествовать не собирается — всего навидался... А тут вот всю жизнь ишачил, а что к финалу? За границу так и не смог съездить, в отпуск всегда выбирал, что подешевле (это сейчас один, а семья ведь была). Мне бы эти двадцать тысяч! Уж я бы развернулся! Бабу молодую бы нашел, на курортах бы порезвился, за границу бы съездил...
Я уже почти не слышал, о чем он там мне поет. А он полез опять в сервант, альбом, что ли, какой доставать. Вижу, качается, думаю, столкнет сейчас что-нибудь, потом объясняйся по трезвости. И точно, толкнул он сервант, тот качнулся, а у него там на верхотуре статуэтка чугунная, каслинское литье, бюстик какой-то, не разберу издалека., но вижу в шляпе круглой и при бородке. Так вот качнулась эта статуэтка, я вскочил, подхватил, а она хоть и невелика на вид, а весу килограмма два с лишним. Ну, как гиря! Но, когда пальцы шею-то обхватили, лег этот бюстик в руке так удобно, так прочно. А Корзун забыл, что и хотел мне показать. К столу опять сел и, смотрю, уже выключился. Думаю, пойду. А двадцать тысяч? Исчезнет карточка, он же на меня покажет. Если что и заспит, то мой-то приход все равно в памяти останется. Надо, думаю, взять, завтра в случае чего объясню. И стал потихоньку ящик выдвигать, куда он положил часть А. Но он почти лежит на этом ящике, его надо слегка отодвинуть. Но только я попытался это сделать, как он, и не спал будто, схватил меня за руку. «А, так ты обокрасть меня пришел!» Схватил меня за левую руку, в правой я держал чугунный бюстик. И когда он стал приподниматься со своего кресла, я этим бюстиком ударил его в висок...
Теперь у меня была только одна мысль — поскорее уйти. Я достал карточку, стараясь не оставить отпечатков пальцев, сунул скульптуру в карман, захватил папку с карточками и свой стакан. Была одна мысль — испариться отсюда. Папку я взял, чтобы никому не пришла в голову мысль о «Спортлото» — пусть думают, что это все произошло из-за объявления инюрколлегии. Отмыть стакан было лучше дома, как и статуэтку. А вот о том, что он дублирует записи в специальной тетрадке, я не подумал. Да и думать тогда не мог.
Я посмотрел на Корзуна, хотя заставить себя это сделать было нелегко. Он был мертв. Я кинулся к двери. Несколько минут стоял, прислушиваясь, — на это хватило выдержки, смотрел в глазок дверной, потом выскользнул. Дверь я не захлопнул, сообразил, что мог, что-нибудь забыть, тогда среди ночи еще можно прийти исправить. Стакан я вымыл, отнес на кухню. У меня тоже такие есть. Папку протер — папка как папка, каких много. Никаких на ней пометок. Записи Корзуна сжег. Еще не заполненные карточки тоже протер, смешал со своими, они у меня тоже есть. А вот бюстик... Его я вымыл, но идти ночью куда-то выбрасывать у меня просто не хватило сил. И зря. Если бы не это — не сидел бы я у вас сейчас.
— Не это, так другое. Мы каждый миллиметр в квартире Корзуна осмотрели бы, но нашли ваши следы: А как получилось, что дверь оказалась закрытой?
— Я не спал всю ночь. Часа в три пошел, чтобы протереть ручки дверей; когда я уходил, люди нет-нет, да появлялись на лестничной площадке, и я боялся это делать. Теперь это сделал, но в квартиру уже не решался войти. «А вдруг он ожил?» — мелькнуло у меня. Пересилив страх, отвращение, я вошел. Он сидел, не меняя позы. Я еще раз оглядел все, прикидывая, где мог оставить какие-либо следы, но решил, что все предусмотрел. Теперь я был в перчатках и не боялся трогать предметы, перемещать их. И почему только я не вернул на место эту злосчастную статуэтку!
— Судьба, — усмехнулся Рунге. — Но повторяю, она только ускорила построение системы доказательств. Способов изобличения... — Рунге запнулся, прежде чем вымолвить слово «преступника». Он таки опустил его. — Способов вашего изобличения мы ведь еще всех не исчерпали. Если бы собака не взяла ваш след, исследование микрочастиц вашей обуви и оставленных в квартире следов дало бы достаточно для суда материалов. Мы-то ведь были уверены, что убили вы.
Хрусталев опустил голову.
— Вы правы, — сказал он наконец. — Все это было безумием. Но сейчас мне все равно. Если меня приговорят к смертной казни, я буду только рад. Тюрьмы мне не выдержать.
— Позвольте последний вопрос, на который вы вправе не отвечать. А как бы вы жили, если бы вас не изобличили?
Хрусталев долго не отвечал. Потом проговорил голосом бесцветным и невыразительным:
— На этот вопрос я не смогу вам ответить, если бы даже хотел.
Птица цвета ультрамарин



ПРОЛОГ
Начальник уголовного розыска Чеканска майор Бахарев с особой тщательностью просматривал поступившие за ночь сводки. Опыт подсказывал, зацепка для раскрытия ограбления может оказаться в этих коротких сообщениях.
Ограбление универмага было необычайно дерзким. И дилетантским: профессионал ни за что бы не решился действовать так неосмотрительно и бесшабашно. Вору или ворам помогли случай и вопиющая безответственность работников магазина.
Был использован самый избитый прием. Грабитель остался в торговом зале, спрятался в секции готового платья между вешалками, дождался ночи. Выбрал в галантерейном отделе хозяйственную сумку повместительней, сгреб в нее с витрин драгоценности, которые по странной случайности не были спрятаны в сейф, партию золотых часов. На связанных ремнях спустился из окна второго этажа и растворился в предрассветной мгле. Вместе с ним из магазина «уплыло» более чем на сто тысяч рублей товаров.
Те, по чьей вине драгоценности оказались ночью вне сейфа, с теми, кто не проверил сигнализацию, понесут ответ. Но о возвращении украденного, о возмещении материального ущерба государству, о поиске преступников, наконец, голова должна болеть прежде всего у работников уголовного розыска, у него, Бахарева, в частности. Поэтому с таким старанием изучал майор каждую строчку донесений.
Кое-что он себе пометил. Так, на всякий случай. Но чувствовал — не то. Потом принялся за рапорты дежурного по управлению пожарной охраны.
«После ноля часов в поселке Даньшино в доме гр. Васильева возник пожар. Из-за отсутствия связи сообщение о пожаре поступило в пожарную часть только в 01 час 12 минут. Позвонили соседи, обнаружившие пожар. Звонили из магазина, находящегося в 800 метрах от очага загорания. Пожар был ликвидирован... силами...»
Бахарев пропустил перечисление участвовавших в пожаре машин и частей, от которых они прибыли. Судя по всему, там хватило бы и одной машины: сопоставив время, когда на пульт городской пожарной охраны поступило сообщение и время ликвидации пожара, он понял, что горело не более получаса. Но его внимание привлекло окончание рапорта.
«В результате пожара погиб хозяин дома Васильев С. С. Предположение: задохнулся в дыму. Кроме него в доме никто не обнаружен».
Далее следовала приписка, носящая полуофициальный характер и сделанная, по всей вероятности, дежурным специально для работников милиции. (Бахарев в свое время убедительно просил товарищей из управления пожарной охраны отмечать в рапортах все, что имеет хотя бы малейшее отношение к правонарушениям).
«Судя по количеству пустых винно-водочных емкостей, а особенно стаканов, накануне в доме была большая попойка. Явился ли причиной пожара кто-то из гостей — неизвестно. Предварительное мнение работников пожарной охраны: пожар возник от незатушенной папиросы».
Мысль Бахарева работала в определенном направлении, и слова «большая попойка» вызвали у него соответствующую реакцию. «А не пропивалось ли здесь уворованное золотишко?»
Заканчивая просмотр оставшихся сообщений, он уже прикидывал, что следует предпринять в первую очередь. «Что представляет из себя погибший хозяин дома? Что за окружение у него было?»
В конце концов он решил послать кого-нибудь на место происшествия. Опытному работнику надо немедленно осмотреть все на месте. Наметанный глаз увидит то, мимо чего прошли другие.
Размышляя кого послать, Бахарев перебирал в уме всех сотрудников отдела. Дел у всех «под завязку». Капитана Евсеева разве? Вот чья дотошность может пригодиться! В группу, созданную для раскрытия ограбления универмага, он не входит, но это даже лучше: в
то, что потянется ниточка от пожара сюда, Бахарев в общем-то не очень верил.
— Садись, Всеволод Петрович, — пригласил хозяин кабинета после взаимного обмена приветствиями ладно скроенного, среднего роста человека, вошедшего буквально через минуту после того, как майор положил трубку внутреннего телефона. — У меня к тебе небольшое поручение...
Уголки твердых губ капитана заметно дрогнули в усмешке. Кто-кто, а Всеволод Петрович знал эти «небольшие поручения» начотдела. Не один год проработал он с Бахаревым, многому у него научился и уже давно привык к тому, что задания Бахарева, даваемые на оперативках или вот так незапланированно, всегда таят в себе сюрпризы. Начинается с «небольшого поручения», а кончается командировкой, которая порой прибавляет несколько седых волос в твоей шевелюре.
— Знаю, знаю, что за тобой еще много чего числится, — поспешил майор предупредить возможные возражения. — Но тут в самом деле надо лишь глянуть тренированным оком. Наши там были, но с готовой версией...
И он принялся излагать суть дела.
Когда Евсеев был уже в дверях, Бахарев крикнул вдогонку:
— Участкового я разыщу по телефону, предупрежу!
Глава первая
СТРАННЫЙ КЛИЕНТ
Будка сапожного мастера приткнулась к крылу большого многоэтажного дома со стороны переулка. Место людное, бойкое: поблизости магазины, в двух десятках шагов — центральная магистраль большого города. Словом, в клиентуре у Ашота недостатка нет.
В будке-мастерской могут сразу поместиться не более трех человек. Поэтому часть клиентуры дожидается своей очереди на скамейке поблизости.
В утренний этот час очередь отсутствовала. Если не считать, конечно, девушку, которая пристроилась на упомянутой скамье. О том, что она не просто отдыхает, свидетельствовала прислоненная к спинке скамейки сумка из пластика, в которой угадывались контуры дамских сапожек.
Неслышно и почти незаметно присоединился к девушке молодой человек с газетным свертком под мышкой. На нем — синтетическая желтая куртка, одна из тех, которые, несмотря на яркость, а может, как раз благодаря ей, напоминают униформу. Лицо юноши украшено шкиперской бородкой, на нем не то озабоченность, не то какое-то внутреннее напряжение.
Девушка вскоре поднялась, поспешно запихнула в сумку журнал, который читала, и поторопилась занять освободившееся в «приемной» место. Юноша, оставшись один, нервно зевнул и оглянулся по сторонам.
Вскоре недра мастерской выпустили очередного посетителя. Но молодой человек не очень-то спешил, как следовало того ожидать, в святилище сапожного бога. Больше того, когда к нему подсел пожилой гражданин в очках и вежливо осведомился, ждет ли молодой человек очереди к мастеру и есть ли за ним еще кто, юноша замялся и ответил весьма неопределенно:
— Да... нет...
И добавил:
— Вы проходите. Я жду...
Кого и чего ждал обладатель желтой куртки, гражданин выяснять не стал, он резво подхватил свои пожитки и тотчас просунулся в узенькую дверцу.
На протяжении ближайшего получаса эта сцена повторялась еще несколько раз. Менялись клиенты, а нерешительный юноша все ерзал на скамейке, прижимая, будто невесть какую ценность, газетный сверток.
После обеденного перерыва в госучреждениях поток клиентуры сапожного мастера заметно поубавился. Наконец наступил момент, когда ни около будки, ни внутри не осталось никого. И тогда юноша решился. Стремительно поднялся, и вот уже его напряженный взгляд встретился с холодным, чуть насмешливым взглядом мастера.
— Что, дарагой?
Ашот говорил с акцентом, который становился то более заметным, то исчезал совсем. С клиентами он всегда держался с той чуть иронической снисходительностью, которая давала ему, сапожному мастеру, возможность сохранять свое достоинство.
Молодой человек покосился на вход и стал разворачивать сверток. Содержимое его легло на прилавок. Брови мастера поползли кверху. Удивление сменилось брезгливостью.
— Что это?
— Вот принес... — явно с усилием выдавил клиент. — Чтобы, как новые...
Мастер с опаской потрогал растоптанный башмак.
— Ты хочешь, чтобы я тебе сшил такие же? Это можно. Ясное дело, это тебе обойдется дороже, чем в магазине. Но зато и вещь будет! Я тебя верно понял?
— Точно, точно, — обрадованно подхватил клиент. Но развить мысль ему помешал новый посетитель. Молодой человек тотчас уступил место у прилавка. Башмаки словно жгли ему руки и, подержав их секунду, кинул в мусорную корзину. Занятый с клиентом, Ашот лишь покосился, но промолчал.
Поступив столь неожиданно с принесенной в починку обувью, молодой человек, похоже, обрел равновесие. Он принялся разглядывать выстроившуюся, словно на выставке, обувь самых разнообразных размеров, фасонов, расцветок. Взгляд его задержался на японском транзисторе.
Парень не заметил, что Ашот уже распрощался с посетителем и сверлит его изучающим взглядом.
— Ну?
Мастер выразительно прикоснулся несколько раз согнутым пальцем к циферблату электронных часов.
— Обед? — заискивающе предположил парень.
— Обед, — внушительно подтвердил хозяин. — Только я тебя что-то опять перестал понимать. Ты пришел обувь заказывать или пообедать меня пригласить? Ты здесь все утро отираешься, а ни одного вразумительного слова я от тебя не слышал.
Ашот, огромного роста мужчина (как он только помещался в своем закутке!), смотрел на гостя в упор.
Парень опять растерялся.
— Могу и пообедать пригласить... Поговорить надо. Дело есть... Серьезный разговор. Чтобы ты да я, и больше никого.
Взгляд Ашота оставался столь же жестким, холодным. Он молчал. Затем прикоснулся пальцем к щеточке усов, потрогал зачем-то свой внушительных размеров нос и проговорил без всякого выражения, но с сильным акцентом:
— А ты нэ ошибся адрэсом? Я думаю, тэбя надо выкинуть вместе с твоей рванью. Зачэм суда принес? Чего мнэ мозг туманишь? Зачэм комэдия? Я все утро за тобой наблюдаю, а понять нэ могу...
Молодой человек затравленно оглянулся, посмотрел в окно. Действительно, мастеру с его места прекрасно видна скамейка, на которой он провел столько времени. Ему ведь тоже была видна голова Ашота, но он полагал, что занятый работой мастер в окно не глазеет.
Гость сделал непроизвольное движение к двери. Но Ашот его опередил. Почти не двинувшись с места, он протянул длинную руку к косяку, щелкнул замком, прислонил к стеклу табличку «закрыто на обед», коротко бросил: «Гавари!»
— Я думал... Просто так зайти как-то не то... Я тебя не знаю, ты меня. И народ все время...
Ашот слушал этот бессвязный лепет, молчал отчужденно.
— Понимаешь, могут обратить внимание... Вот я и подумал...
Ашот взорвался с чисто южным темпераментом:
— Ты пришел мэня вэрбовать в иностранную развэдку? Шпионские свэдэния принос? Я сапожник, а нэ рэзидент! Сэйчас пришибу тэбя.
Парень невольно отшатнулся от вскинутого к его носу кулака, сделал попытку проскользнуть к двери, но безуспешно: кавказец вцепился в рукав его куртки.
— Ты, сын собаки! Куда? Думаешь, пошутить со мной можно и сбэжать? Я из-за тэбя пять чэловэк потэрял! (это было неправдой: никто во время их короткой беседы в будку даже не постучал). Нэ знаю, кто тэбя кормит, а я сам хлэб зарабатываю. Гавари, что нада, последний раз спрашиваю!
Всерьез испуганный гость выдавил:
— Машина... Билет...
Ашот понял. Он разом обмяк, сел.
— Гавари! По порядку гавари.
Уловив в голосе хозяина нотки заинтересованности, молодой человек зашептал, хотя услышать его не мог никто.
— Понимаешь, один человек выиграл «Волгу». По лотерее. Продать хочет.
— А я при чем? У меня есть машина. Мне больше одной не надо. Я сапожник, а не завгар. И машинами я не торгую. И почему кто-то выиграл, а ты приходишь и устраиваешь тут комедию? Я тебя спрашиваю?
— Понимаешь, это девушка. Ей самой неудобно.
— А-а... Тебе, значит, удобно? А что она, поумней не нашла никого?
Парень не обиделся.
— Выходит, не нашла.
Ашот рассуждал вслух:
— Купить машину много кто хочет. Не только на Кавказе. И в Москве. И здесь, на Урале. Отчего на рынок не пошел? Там много джигитов. Деньги имеют. Машину хотят.
— Видишь ли... — осторожно вклинился в размышления хозяина гость. — На рынок, конечно, можно. Но кто их знает, что они там за люди? Сегодня здесь — завтра нету. А ты человек известный. Тебя все знают. Говорят, человек честный. И друзей, наверно, у тебя много.
— Друзей! Каких смотря, друзей. Таких, что за ухо да в музей? А если честно дело хочешь делать, отчего билет в сберкассу не сдать? Калым хочешь? На рынке боишься — обманут. А сам ты не обманешь? Я тебя знаю? Может, ворованный у тебя билет?
— Ладно, — устало сдался парень. — Открой дверь. Верно говоришь, ошибся я адресом. Есть места, где мораль лучше твоего читают...
Он решительно двинулся к двери.
— Э, нэ горячись! — Ашот встал на пути парня. — Я ведь тебе окончательного слова еще не сказал. Кто в таких делах торопится. Сам понимаешь, дело деликатное. Сам говоришь, меня все знают. А зачем мне, чтобы плохо знали? Ты мне не совсем честное дело предлагаешь и хочешь, чтобы я с тобой обниматься начал... Я знаю человека, которому нужна машина, но я должен знать, что ты за человек. И что за человек хозяин билета. Можно и пообедать вместе, это неплохо. Почему не пообедать?
Гость буркнул:
— С этого и начинать надо было. А то сразу — пришибу...
Хозяин пропустил эту реплику мимо ушей. Его интересовало другое.
— Билет с собой?
Гость осклабился.
— А ты сто «штук» в кармане носишь?
Ашот нахмурился. Что-то прикинул. Решил:
— Приходи завтра в это же время с билетом. Съездим в сберкассу, проверим, потом сведу тебя с покупателем. Договариваться будете сами. И о цене, и обо всем прочем. А пока гуляй.
Оставшись один, Ашот задумался. Посидел, потом не спеша надел пиджак. Достал из внутреннего кармана бумажник, открыл, извлек оттуда фотографию. Долго смотрел на изображение тонкого стройного юноши с такими же, как у него, Ашота, миндалевидными глазами.
Глава вторая
ПАСПОРТ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
«Уазик» ярко-красного цвета, опоясанный белой полосой, бросало из стороны в сторону на ухабах узких улочек поселка Даньшино. Пассажиры — два офицера пожарной охраны и третий в штатском — чертыхались при сильных толчках, крепче стискивая подлокотники и спинки сидений.
— Вот дороги, — с осуждением произнес капитан-пожарник, явно обращаясь за поддержкой к штатскому. — Вездеход и то тут еле проскребается, а каково пожарным машинам с их габаритами?
Штатский, а это был Евсеев, хотел, видимо, что-то ответить, но тут так тряхнуло, что он только безнадежно махнул рукой.
— Не гони так! — крикнул второй пожарник шоферу. — Не на пожар ведь. Так нас не довезешь живыми.
Да, особенно торопиться теперь уже было незачем. Что горело, — погашено. Труп — в морге. Родственников покойного и наследников установят те, кому этим положено заниматься. А сейчас на место происшествия ехали специалисты-эксперты, которые не по догадкам, а по науке должны дать заключение, отчего произошло загорание. Оно, вроде, и так ясно: курил пьяный, уснул. Сигарету выронил или папиросу — затлело одеяло, потом диван. Дыму в таком случае, понятно, не только на одного, на десять человек хватит. В сущности, какая разница: телевизор ли не выключил, утюг ли, окурок ли не затушил — все сам виноват. В итоге — был человек и нет человека... А эксперты свое заключение сделать должны. И подпись свою в акте поставить. Именно потому, что нет человека...
У дома, где произошла ночная трагедия, дежурил сержант. Внешне дом этот ничем особенным от других не отличался — огонь не успел оставить на нем своих грозных отметин. А за то, что пожар в силу войти не смог, надо благодарить парочку, поздно возвращавшуюся из города. Молодые люди заметили валивший из форточки дым и подняли тревогу.
«Вовремя спохватились. Не они бы, так не только мебели, но и стен бы не осталось», — подумал Евсеев, разглядывая хаос внутри пострадавшего жилища.
Пожарники считали, что случай ординарный. Сколько таких раззяв каждую ночь засыпает по пьяному делу с папиросой в зубах, не перечесть. Чаще, конечно, дело заканчивается прожженными рубашками, простынями, одеялами, сгоревшими диванами. Но и трагический исход, как в данном случае, — тоже не редкость. И мудрить тут нечего. Так Евсееву объяснило пожарное начальство, когда он связался с ним по телефону после разговора с Бахаревым. Однако на просьбу капитана — захватить его на осмотр места происшествия — возражений не было.
Что же дальше? Пожарники, хоть и были заранее уверены в результате своих исследований, принялись добросовестно и скрупулезно изучать очаг загорания. Евсеев вышел на кухню.
Здесь все было почти как при хозяине, если не считать тех предметов, которые вынесли из комнаты. Немудрящая кухонная утварь, посуда. Холодильник какой-то допотопной марки. Интересно, сколько этому холодильнику лет? Евсеев ругнулся про себя: дался ему этот холодильник! Всегда так, когда предстоит напряженная умственная работа, мозг как бы увиливает от нее. Только какая здесь, собственно, работа? Похоже, добрейший Николай Иванович, он же майор Бахарев, зря отнял у него, капитана Евсеева, полдня. Вот пожарники обратно со спокойной совестью поедут. Им что, они действуют по разработанной годами методике.
Словно услышав мысли Евсеева, в дверях показался один из экспертов. Он поинтересовался, обращаясь к капитану:
— Вы домой не скоро?
И, узнав, что инспектор намерен еще задержаться, предложил заехать за ним после того, как побывают в районной пожарной части. Евсеева это устраивало как нельзя лучше. Можно еще раз все внимательно осмотреть, пока никто не мешает, не торопит, не стоит над душой.
— Лады, ждите нас через часок.
Евсеев снова вошел в комнату. Взгляд его остановился на пустых водочных и винных бутылках. На тех, что стояли на столе. Те, что в углу — не в счет. Это старые. Одному столько за месяц не опорожнить. Гости, надо думать, не только вчера бывали.
Сколько же человек здесь было вчера? По количеству стаканов определить трудно. Стаканы, похоже, в мойке бывали редко. Водопровода в доме нет, воду каждый раз принести надо. Не расходовать же ее на мытье стаканов.
Где сейчас хозяин — известно. А где его вчерашние собутыльники? И кто они? Пили, потом разошлись. Куда? В какое время? Хозяину этих вопросов уже не задашь... А именно гости больше всего и интересовали капитана.
Конечно, если судить по ассортименту напитков, денежного изобилия, которое надеялся обнаружить здесь Бахарев, не было. Самые непритязательные вкусы, все по принципу «числом поболее, ценою подешевле». Но это тоже еще ни о чем не говорит. Со времени ограбления магазина прошло всего три дня, срок для, реализации драгоценностей слишком маленький. Преступник наверняка надолго затаился. И все же...
Поскольку осмотр с соблюдением всех формальностей уже был, можно позволить себе порыться в вещах покойного и без понятых.
Платяной шкаф от пожара не пострадал. Здесь плащ, демисезонное пальто, пиджак. В карманах пиджака — непочатая пачка «Беломора», расческа, дешевенькая шариковая ручка, медяки, ключи. Записная книжка. Брюк не оказалось. Скорее всего, в них и отправился смотреть свои последние сны хозяин дома.
Половина, предназначенная для белья, была заперта. Ключ легко отыскался в связке. Да, покойник аккуратностью не отличался: все вместе — грязное, чистое. Тут же на бельевой полке под газеткой — документы. Паспорт, военный билет, свидетельство об окончании курсов газоэлектросварщиков. В самом потаенном уголке — деньги. Двадцать шесть рублей. Не густо. Сберкнижки не видно. Да и откуда ей быть? В паспорте — штамп о регистрации брака. Васильева Степанида Ильинична. А покойника звали Степаном Степановичем. Вот так. Степан и Степанида. Где же теперь Степанида, с сегодняшнего дня вдова? Ведь отметки о расторжении брака нет.
А это что за документ? Смотри-ка паспорт на холодильник. Сколько же лет он тут пылится? Вот и представилась возможность установить возраст холодильника.
Но прежде, чем Евсеев отыскал дату выпуска, он наткнулся между страничек брошюрки-инструкции на лотерейные билеты. Досаафовские. Пять штук. Судя по дате — розыгрыш уже был. Капитан прикинул, совсем недавно, получается. Успел ли проверить их Васильев? Если успел, то чего держал? Почему не выбросил? Не могли же они все пять штук выиграть. Ну, это можно проверить.
Капитан вынул свою записную книжку, аккуратно переписал в нее номера и серии билетов.
Записная книжка навела его на мысль о блокноте Васильева, изучение которого он отложил напоследок. Самое время сейчас полистать.
Записей было немного. Почерк у Степана Степановича был крупный, разборчивый. Несколько фамилий. И мужских, и женских. Номера телефонов. И адреса есть. Может, кто-нибудь из вчерашних собутыльников?
Он продолжал листать. Какие-то рабочие записи. Евсеев вспомнил: Васильев последнее время работал в комбинате бытового обслуживания. Так что адреса и телефоны могут быть просто координатами клиентов. А что это? Столбец цифр. Да это же... Те самые номера, которые Евсеев только что переписал себе. Точно, они!
А точно ли те же? Цифру 100 — номер билета — он вроде бы не писал. А тут есть. Заинтригованный, снова достал билеты, стал сверять с записью Васильева. Четыре номера совпали, пятый — нет. Как понимать? Заменил? С кем-то поменялся? Внимательно осмотрел билеты. На обратной стороне одного из них заметил маленький крестик, сделанный шариковой ручкой с синей пастой.
Бывает, что меняются билетами. Но такие люди, как Васильев... Может, докупил еще билет, а положил отдельно? Но записывал, похоже, за один раз.
Евсеев еще раз внимательно полистал паспорт холодильника, даже встряхнул его, но ничего не обнаружил. Пошарил под газетой в шкафу — безрезультатно. Больше, вроде, билет прятать некуда.
Выписал номер из Васильевской книжки себе. Шестым. Обвел его. Потом обвел тот, который был помечен крестиком. Должен же что-то этот крестик означать?
Потом еще походил по квартире, осматривая все ее углы. Мысли были поглощены шестым билетом. За этим что-то кроется... К заданию Бахарева это уж и вовсе никакого отношения не имеет, но непонятное исчезновение билета, владелец которого уже никогда и никому не сможет ничего объяснить, заинтересовало.
С улицы донесся шум подъезжающей машины. Выглянув в окошко, Евсеев увидел притормозивший у палисадника красный с белой полосой «уазик».
Глава третья
«СЮРПРИЗЫ» ИСЧЕЗНУВШЕГО БИЛЕТА
Через час он сидел уже в небольшом зале сберкассы. Таблица лотереи ДОСААФ лежала на столике для посетителей. Капитану было известно, что розыгрыши оборонно-спортивной лотереи проводятся два раза в год — в середине года, летом, и в конце. Стало быть, сейчас нужна летняя таблица за этот год. Она нашлась. Доставая записную книжку, Евсеев вдруг почувствовал непонятное волнение. Странное дело, если бы речь шла о билетах, которые обычно по своей инициативе Всеволод Петрович не покупал, но на сдачу брать не отказывался, никаких эмоций он бы не испытывал. Сейчас другое дело: подтвердится ли догадка?
Обведенный в книжке номер капитан оставил напоследок. Из тех пяти, как и следовало ожидать, даже на рубль ни один не потянул. И вот последний... Точно, выигрыш! Да не какой-нибудь рядовой, а самый крупный. Автомобиль «Волга».
Капитан посидел несколько минут неподвижно, прикрыв глаза, стараясь проанализировать ситуацию. Выходит, что кто-то об этом выигрыше уже знает. Или знал, если иметь в виду хозяина. Могло ведь быть и так: проверил по записи, изъял выигравший из общей пачки, спрятал понадежнее. Но куда? Носил все время с собой? Если так, то счастливый билет и сейчас где-то в тайниках одежды покойного. Остальные выбросить не успел, просто забыл о них. До бумажек ли, когда в руках такое сокровище?
Эта мысль об оставшихся билетах в какой-то миг сломала всю логику предыдущих размышлений. Если сознательно оставил, то их должно быть четыре, а не пять! Стало быть, исчез не шестой билет, а пятый, выигравший. Шестой, тоже пустой, лег на его место. Подмена? Кто, когда и зачем ее произвел? А крестик, имеет он какой-то смысл?
Шагая по улице, Евсеев продолжал размышлять. Итак, не исключена возможность похищения билета. Кто бы ни был человек, им завладевший, он не минует сберегательной кассы. Но это может произойти за сотни километров отсюда. И никто не сможет доказать, что билет украден. Ведь заявить-то о пропаже уже некому.
Всеволоду Петровичу не терпелось поделиться своими открытиями с Бахаревым. Но прежде чем он успел поинтересоваться у дежурного, на месте ли начальник угро, тот сообщил, что Бахарев просил Евсеева немедленно с ним связаться.
— Ну, что ты выяснил? — спросил Бахарев, едва капитан переступил порог его кабинета. И, не дожидаясь ответа, протянул листок бумаги. — Посмотри-ка вот это.
«Это» было заключением патологоанатома о смерти Васильева. При вскрытии в затылочной части головы покойного была обнаружена обширная гематома, возникшая в результате удара твердым, не имеющим выступов предметом. Непосредственно вызвать смерть такое повреждение не могло, но при потере сознания могло послужить причиной асфиксии в задымленном помещении.
— Я разговаривал с врачом, который делал вскрытие. Его мнение таково: покойный не просто задохнулся в дыму, ему помогли это сделать. Конечно, и по пьянке многие погибают от удушья во время пожара, но не так. Кто-то и приходит в себя, не от дыма, так от пожара. А тут человек был без сознания. И это уже считай — убийство. Твое впечатление: было его за что убивать?
— Похоже, было.
И капитан рассказал про билет.
— М-да... Я ждал, что ты поможешь одну задачу решить, а ты новую головоломку подкинул.
Наступило непродолжительное молчание. Бахарев первым нарушил его.
— Билет билетом, а от медицинского заключения просто так не отмахнешься. Прокуратуру я поставил в известность.
— Билетом вообще не будем заниматься?
— А как мы будем заниматься им, если нет заявителя, нет уверенности, что вещь пропала? Собственно, сам по себе билет ведь еще не вещь. И не деньги. Как все это выглядит в правовом отношении? Все это зыбко. Мог хозяин билета с кем-то поменяться. И вообще, кто теперь докажет, что билеты — собственность покойного?
— То, что билеты принадлежат Васильеву, сомнения быть не может. Кто станет переписывать в свою записную книжку номера билетов, принадлежащих чужому дяде?
— Всякое бывает. Есть чудаки, которые все эти лотерейные операции превращают в игру.
— По-моему, не тот случай. Люди, вроде Васильева, не очень-то любят тратить трудовые копейки на столь эфемерное дело, как лотерея. Полтинника может не хватить на бутылку. С полтинником можно уже компаньонов искать, а тут жди... Тем более, что в этой лотерее ждать надо ни больше, ни меньше — полгода.
— А ты не допускаешь, что Васильев сам мог затеять аферу с билетом? — прервал эти рассуждения Бахарев. — Сам посуди, станет ли пьющий одинокий человек брать машину? Зачем она ему? Машину, да еще такую держать, ой-ей, какая крепкая материальная база нужна. А тут деньги, и немалые. Наслышан, вероятно, и о том, что можно получить намного больше номинала. Стал искать контакты с темными дельцами, нарвался на таких, которые сами не прочь руки погреть на прибыльной афере, в результате стал жертвой собственной жадности... Возможно, что те, кому он предложил сделку, смекнули, что можно и билетом завладеть, и деньги себе оставить. Могло дойти и до стычки. Тогда пожар — инсценировка. Чтобы скрыть убийство.
— Эксперты пришли к выводу, что причиной пожара была все же папироса. Но человек, находившийся без сознания, не мог ее закурить.
— Но он мог прийти в себя после удара, закурить и снова впасть в беспамятство или просто уснуть. Он же не успел протрезветь.
— Вот с этим и предстоит разобраться.
Глава четвертая
ТЕЛЕФОН ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Прежде чем поехать опять в Даньшино, Евсеев еще раз полистал записи Васильева. Не исключена возможность, что какие-то из фамилий знакомы соседям, а кто-то из тех, кто в записях фигурирует, был участником трагически закончившейся попойки.
Люди, имеющие привычку делать долги, обычно ведут записи. Степан Степанович либо долгов не делал, либо их не записывал. Адреса и телефоны — по большей части клиентура. Это можно заключить по соответствующим пометкам. Но один телефон все же заинтересовал капитана. Из-за краткости данных абонента. Всего лишь одно слово: «Верунька». Амурное увлечение тут предположить трудно. Но кого можно назвать столь легковесно, по-свойски? Дочь? Родственницу?
Рука сама потянулась к аппарату. На том конце почти сразу сняли трубку и женский голос не очень приветливо сообщил:
— Магазин.
— Можно Веру?
— Как фамилия? У нас их две.
Евсеев положил трубку. Фамилию он, вероятно, будет знать завтра, когда вернется из Свердловска младший лейтенант Королев. Именно там проживала жена, точнее, вдова Васильева. Ее местонахождение установили через паспортный стол: Степанида Ильинична, уезжая к дочери, выписалась по всем правилам, а следовательно, указала и место, куда уезжала. Если Верунька родственница, она Васильевой известна. А Королев, надо думать, догадается переписать всех, кто имеет хоть малейшее отношение к покойному.
Сейчас же следует установить номер магазина. Это нетрудно сделать по телефонному справочнику.
После непродолжительных путешествий пальца по строчкам справочника в разделе «Магазины», Евсеев отыскал номер телефона, который только что набирал. Продовольственный магазин № 16 по улице Менделеева. Это кое-что.
Евсееву почему-то казалось, что человек, упомянутый в записной книжке в столь доверительной форме, непременно должен знать нечто такое, что неизвестно другим. Но спрашивать надо очень осторожно. Если Веруньке действительно известны какие-то детали, способные пролить свет на случившееся, то надо помнить: возможно ее участие, если не в самой трагедии, то в предшествовавших ей событиях. Иначе, зачем эта запись, судя по всему, не очень старая?
Всеволод Петрович еще раз внимательно, листик за листиком, пересмотрел записную книжку Васильева в потертых, ставших уже грязноватыми корочках. Нет, ничто не указывало на дополнительные данные о Веруньке. А фамилия нужна! Ведь не подойдешь, не спросишь: «Это вы здесь записаны?» Таким вопросом все можно испортить. Может, и знает что, да предпочтет умолчать.
«Ладно, — решил Всеволод Петрович, — дождусь Королева. Не сегодня завтра он должен быть. Если в добытых им сведениях ничего подходящего не окажется, придется осторожно выведать все о Веруньке у администрации магазина». А пока надо заняться поисками предмета, которым нанесен удар. Участковому уже дано указание, чтобы в дом никого не пускали, ничего там не трогали.
Предмет этот — скорее всего бутылка.
Могут кое-что рассказать отпечатки пальцев. Если, конечно, кто-то их не позаботился уничтожить. Во всяком случае, тот, кто может иметь к этой истории отношение.
Словом, сейчас надо быть на месте гибели Васильева.
Глава пятая
ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО
Степанида Ильинична Васильева с мужем своим, Степаном Степановичем, не жила уже больше трех лет. Уехала от него в соседний областной центр, тоже большой уральский город, к дочери, которая еще студенткой вышла замуж и вместе с мужем, тоже инженером, после распределения попала на всемирно известный завод. Квартиру получили просторную, внуки подрастают, зять на хорошем счету. Съездила, как водится, сначала в гости. Молодые ухватились за бабку: сами все время на работе, да и погулять хочется, кто лучше родного человека с детишками управится? И по хозяйству тоже. Уговорили. И то: все лучше, чем с алкашом маяться. «Закладывать» стал Степан последние годы «не по уму». Какие-то «левые» заработки появились (и то сказать — бытовая техника, прежнюю-то работу бросил), дружки такие же непутевые, забулдыжные нашлись. Разводиться не стали, чего на старости лет людей смешить. Плюнула да и убралась подальше. Решила, там видно будет.
Городская квартира, когда ее в порядке содержишь да каждый день обиходишь, трудов не так уж много требует. Вот и сейчас, до обеда еще далеко, а дел, вроде, уже и никаких. Посуда перемыта, полы подтерты, плита блестит, в ванной чистота. Старшенький в садике, младшенькая спит после прогулки. В магазин идти не за чем, все есть, все куплено.
Степанида Ильинична присела к низенькому полированному столику в глубокое кресло. Не дремать. Дремать удобнее на тахте. Перечитать еще раз странное то письмо, которым «обрадовал» ее муженек. Похоже, под сильным градусом был благоверный, бумага и та, вроде, винный дух источала. Это-то в порядке вещей. А вот смысл письма? Непонятный и тревожный какой-то. Во-первых, звал Степан домой вернуться. Во-вторых, хоть прямо не было что-либо вразумительно изложено, но содержались в письме намеки на какое-то не то событие, не то происшествие, которое, по Степанову разумению, должно дать семейному кораблю новый курс. И, в-третьих, ссылался хозяин туманно на какую-то баснословную прибыль, невесть откуда привалившую, чуть ли не богатство. Не иначе, «налил шары», вот и пришла такая фантазия.
Ехать Степаниде Ильиничне из-за такого вздорного письма вовсе не хотелось. На пьянку, что ли, опять смотреть? И потому с неделю назад отправила сестре письмо с просьбой попытаться выведать, что там удумал опять Степушка. Сестра, правда, и раньше Степана расположением не очень-то жаловала, а теперь и вовсе за родственника не держит. Но дочку могла бы и послать. Племянница в добрые времена захаживала к нам, а Степан добрая душа, с Верой всегда был ласков, привечал, подарки делал, когда она еще в школе училась.
За такими размышлениями и застал Степаниду Ильиничну звонок в прихожей. На пороге стоял молодой человек с видом строгим и официальным.
— Могу я видеть гражданку Васильеву Степаниду Ильиничну?
Предъявив красную книжечку, рассматривать которую Степанида Ильинична не стала, гость приступил к изложению дела, которое привело его сюда.
Коля Королев по реакции Васильевой понял: ей еще не известно, что она уже вдова, и это ставило его в сложное положение. Ему поручено собрать необходимую информацию, а если сообщить прямо сейчас о смерти мужа — пиши пропало. Опять же ходить вокруг до около он не мог, видя, как встревожена пожилая женщина. Хочешь не хочешь, а начинать разговор придется с этого горестного известия.
И он в самых осторожных выражениях поведал Степаниде Ильиничне о трагическом происшествии.
Конечно, душевные контакты за последние годы у супругов сильно ослабли. Но слишком ошеломляющей была новость, чтобы отнестись к ней спокойно. Подождав, пока женщина успокоится, Королев задал несколько вопросов, касающихся родственников и знакомых, ибо никто лучше нее ответить на эти вопросы все равно не мог. Время от времени, переставая плакать, Васильева с покорной терпеливостью перечисляла своих и мужниных родственников, объясняла, какие между кем существовали отношения. Названы были и самые зловредные из «дружков», которые, по мнению Степаниды Ильиничны, и довели Степана до гибели. Блокнот Королева заполнили многие имена и фамилии. Вполне возможно, был в этих списках и кто-то из тех, кто находился с Васильевым в последние часы его жизни.
Дошла в рассказе Степаниды Ильиничны очередь и до письма. В сложившейся ситуации оно кое-что объясняло. Королев попросил разрешения почитать письмо. Васильева отдала его без малейших колебаний и не возражала, когда младший лейтенант попросил кое-что переписать в свой блокнот.
Отметил он и то обстоятельство, что Васильева отправила письмо сестре, но ответа пока еще не получила.
— Да и зачем теперь ответ, когда все так вышло. Все равно надо ехать самой.
И она опять принялась промокать слезы уголком головного платка. Королев стал прощаться.
Глава шестая
ДЕНЬ ПРИЯТНЫХ ЗНАКОМСТВ
Тех, кто надеялся с утра пораньше сдать в ремонт обувь, ждало разочарование: «фирма» Ашота бездействовала. Обитую жестью дверь будки пересекала по диагонали железная полоса, верхний конец которой увенчивал массивный замок.
Скамейка на сей раз пустовала. Но ко времени обеденного перерыва, обозначенного на табличке за стеклом, на ней примостилась парочка. Вчерашний бородатый молодой человек и девушка.
На девушке вязаная безрукавка, красная юбка с черной отделкой, белые туфли. Под распахнутой безрукавкой — желтая майка. На загорелой шее — массивные бусы из зеленоватых камней. Рыжеватые волосы небрежно падают на плечи, а спереди почти закрывают лоб. Косметики на лице мало — чуть подкрашены губы и ресницы.
Девушка понимает, что выглядит привлекательно. Отсюда снисходительная улыбка, с легким оттенком высокомерия, ленивый прищур темных глаз. На скамейке она расположилась свободно, вытянув стройные ноги, левая рука покоится на спинке скамейки, на которую наброшен светлый плащ.
— Ну и долго мы будем тут загорать?
Девушка произносит это с некоторым раздражением. Потом тянется к лежащей на коленях сумочке, достает сигареты, щелкает зажигалкой. Курит она манерно.
— Дай сигарету, — не желая вступать в пререкания, говорит парень. И поскольку просьба его остается без внимания, лезет в карман джинсов и достает свои сигареты. Дешевенькие. Но прикуривает он все от той же иностранной зажигалки, которую протянула ему девушка.
И тут появился Ашот. Он вынырнул откуда-то со двора. Направился было к своей будке, но вдруг резко изменил направление и прямо по газону прошагал к скамейке. Отрывисто поздоровался, вопросительно глянул на девушку. Подтверждая его догадку, парень довольно развязно проговорил:
— Да шеф, это она...
Метнув на бородача косой взгляд, Ашот словно преобразился, целиком переключив внимание на его спутницу. Акцент его потерял налет грубоватого просторечия.
— Счастлив приветствовать такую красивую девушку. Готов слушать ваши распоряжения. Может быть, поедем отсюда для разговора в более подходящее место?
— Я готова.
Она критически, как это умеют делать только женщины, обозревала пришедшего. И осталась, видимо, удовлетворена. Ашот работать сегодня не собирался и одет был соответственно. Пиджак с блестящей ниткой, словно у эстрадного певца, розовая рубашка, фиолетовые брюки. Обувь, само собой, являла верх совершенства. Подобный подбор цветов его одежды, может быть, смотрелся бы нелепо на ком-то другом, но восточная внешность Ашота в сочетании с небрежной природной элегантностью делали его весьма привлекательным.
Кавказец жестом пригласил девушку пойти с ним. Спутника ее он будто вообще перестал замечать.
— Куда мы идем? — поинтересовалась девушка.
— Сначала к машине. Потом поедем к человеку, который вас интересует. Я уже говорил вашему другу. — Ашот небрежно кивнул в сторону парня, который плелся сзади, — мне лично ваш товар не нужен. Но я знаю человека, которому нужен. Самому мне ничего не надо.
Они обогнули дом, вышли на стоянку машин. Оранжевый лимузин кавказца стоял особняком. Открыв машину, Ашот распахнул перед девушкой переднюю дверцу, предлагая ей сесть рядом с собой. И только когда она устроилась на переднем сиденье, протянул руку к рычажку, при помощи которого освобождается запор на задней дверце. Всем своим видом он показывал, что охотно отделался бы от третьего пассажира, чье присутствие казалось абсолютно ненужным.
Место, куда привез Ашот молодых людей, было хорошо знакомо им обоим, как и всем в городе. Ибо редко кто не пользуется услугами Центрального рынка.
Но не торговые ряды привлекали кавказца. Притормозил он на стоянке у гостиницы. Ашот уверенно шел впереди, изредка с кем-то здороваясь. Среди его знакомых были и сотрудники администрации, и жильцы. Но целью путешествия оказался не номер, а всего лишь гостиничный буфет.
— Вы не возражаете, если мы здесь немного обождем? — обратился Ашот к девушке. Та лишь повела плечиком, что вполне можно было расценить как согласие; спутник ее определенно не возражал.
В небольшой комнате разместилось несколько столиков. Как и повсюду в заведениях подобного типа — витрины с выставкой закусок, застекленные шкафы с набором бутылок. Ашот устроил своих гостей за столиком в углу, сам направился к стойке.
— Тетя Маша!
В этой интонации, усвоенной завсегдатаями, угадывалась та степень отношений между клиентом и буфетчицей, когда основа — взаимная заинтересованность. Это как пароль.
Буфетчица вынырнула откуда-то из-за занавесок. Она была грузна и словоохотлива.
— А-а! Ашотик пожаловал. Чем прикажешь угостить?
Они обменялись, казалось бы, ничего не значащими словами, но к столу кавказец вернулся с бутылкой марочного муската, которого не было видно на витрине, с яблоками, виноградом, шоколадными конфетами. Сам же принес стаканы.
Разливал Ашот небрежно, не глядя на стаканы, но тем не менее не пролил ни капли. Молодой человек, ревниво следивший за этими манипуляциями, выразил свое одобрение словом «артист!» Ашот не расслышал льстивой реплики. Все его внимание было поглощено девушкой. Глазами-маслинами он уперся в ее лицо, поднял стакан.
— За нашу даму! За знакомство!
Девушка отвела глаза, разглядывая вино на свет. Губы ее дрогнули в усмешке.
— Можно и за знакомство. Вас звать Ашот? Ваше имя что-нибудь означает по вашему?
— Все означает. Силу, верность, любовь. А вас как родители назвали? Как-нибудь, наверное, очень красиво?
Девушка сделала небольшую паузу. Потом проговорила нехотя, будто расставаясь с какой-то тайной:
— Меня Никой зовут.
Кавказец поспешил выразить восторг:
— О! Имя богини! Прекрасное имя! Оно вам подходит. За это надо выпить. За вас!
Назвать Ашота интересным собеседником можно было лишь с большой натяжкой. Речь его состояла в основном из комплиментов, обращенных к Нике, и замысловатых тостов-здравиц в ее честь. Вскоре он, глянув на часы, встал.
— Сейчас я приведу человека, который вам нужен. Подождите немного.
Когда молодые люди остались одни, она спросила:
— Что ты на это скажешь?
Он налил себе вина, потом задал встречный вопрос:
— А ты?
— Как ты думаешь, надежный он человек?
Принятая доза настроила бородатого спутника Ники на критический лад. Глаза его блестели, движения стали резкими.
— Кто? Твой Ашот?
— Он больше твой, чем мой.
— Сожрет тебя вместе с твоей «Волгой» и не подавится. Колеса. Колеса только выплюнет, да твои золотые сережки с бусами. Бандит с большой дороги. Ему бы еще длинный кинжал, и тогда он сразу «рэзать» начнет.
— Я серьезно спрашиваю.
Он налил себе в стакан остатки из бутылки, выпил и упрямо повторил:
— Бандит. Жулик.
После этого бесцеремонно потянулся к ее стакану, отлил из него в свой, глотнул, поцокал языком от удовольствия, покрутил головой.
— Ты что, напиться хочешь? Помощничек... Надо серьезный разговор вести, а у тебя язык заплетается. В своем амплуа. Шут гороховый!
— Зато твой Ашот, как огурчик.
— Он такой же мой, как и твой. Ты его где-то откопал, а теперь говоришь — жулик. Да пьешь в два горла.
— Плевать мне на него! «Богиня! За знакомство!» — передразнил бородач. — Не видишь как он на тебя пялится? Ему, похоже, не билет нужен...
— Ну и что? Симпатичный мужчина, на все сто. А про билет он сразу сказал, что машина ему не нужна.
— Ну и катись с ним на своей «Волге». Подальше. И попутный вам...
— Не хами! Если я ему нравлюсь, тем лучше. Поможет договориться. Ведь если он даже не ради комиссионных старается, то какой ему смысл?
— Не было бы смысла, стал бы он разоряться на дорогое вино?
— Какого-то нужного человека хочет облагодетельствовать, как я поняла.
— Тише, вон он нарисовался с каким-то фраером. Еще один гангстер.
Ашот подводил к столу человека ничем не примечательной наружности, невысокого, гладко выбритого, с остатками черных волос на голове, в темных очках. Серый скромный костюм не особенно вязался с представлением о его больших капиталах.
Новый гость представился сдержанно и лаконично: «Миша». Он присел с видом человека, оторвавшегося от важного дела всего на минутку, и, поблескивая очками, внимательно оглядел всех сидящих в помещении буфета, потом принялся изучать новых знакомых. И хоть глаза Миши прятались за темными стеклами очков, Ника отметила про себя, что глаза эти обладают способностью пронизывать насквозь. Она ощутила неприятный холодок в груди, захотелось вдруг встать и уйти отсюда. А гостеприимный Ашот уже вновь хлопотал по поводу угощенья. Поскольку бутылка была пуста, он позаботился о новой. Но Миша бутылку раскрыть не дал.
— Может, пойдем отсюда, — предложил он мягко. — Чего нам здесь торчать на виду у всех.
И первый поднялся. Бутылку Ашот взял, но фрукты почти не тронутыми оставались на столе (конфеты Ника предусмотрительно ссыпала в сумочку). Ее спутник выбрал яблоко покрупнее, засунул в карман куртки, подмигнул допивавшему за соседним столиком кефир тощему гражданину: «Пригодится на закуску».
Поднявшись на этаж выше, прошли в дальний конец коридора. Миша постучал в одну из дверей, как показалось Нике, условным стуком. Из-за двери раздалось гортанное «Вхады!»
Гостиничный номер, в котором они оказались, ничем не отличался от любого такого же в построенном по типовому проекту здании, за исключением одной особенности: здесь стоял плотный запах фруктов. Так бывает в почтовых отделениях в пору наплыва посылок с юга.
— Компотом пахнет, — громко и бесцеремонно прокомментировал это обстоятельство спутник Ники.
— Харочий запах, — невозмутимо отозвался человек, встретивший их. Ростом он был еще меньше Миши, огромная черная кепка блином покрывала его голову. Он был по-южному смугл и по-южному предупредителен. Увидев поставленную на стол бутылку, он без лишних слов стал ставить на стол стаканы. Их почему-то оказалось здесь гораздо больше, чем предусмотрено в двухместном номере. Зря бородатый телохранитель Ники тратил усилия, чтобы умыкнуть яблоко: вслед за стаканами появились и фрукты, причем в гораздо большем объеме и ассортименте. Мало того, человек в кепке извлек из-под кровати кислородную подушку.
Проявив незаурядную сноровку в обращении с этим не так уж часто распространенным резервуаром, он наполнил из шланга стаканы янтарной жидкостью.
Глава седьмая
ОПЕРАЦИЯ «ТРАНСФЕРТ»
За столиком, придвинутым к одной из деревянных кроватей, Ника оказалась между Ашотом и Мишей. Снова начались тосты, комплименты, которые Ника получала теперь с двух сторон. Даже малоразговорчивый хозяин изредка вставлял что-то на своем языке, явно лестное и приятное, что можно было заключить по выразительному цоканью. Что же касается Никиного дружка, то он был предоставлен сам себе. Только человек в кепке не забывал наполнять его стакан, несмотря на протестующие жесты девушки. А вскоре и она, поняв тщетность своих усилий, махнула рукой. Тем более, что вниманием ее прочно овладел Миша.
— Этот милый юноша вам кто? — поинтересовался Миша вполголоса, наклонившись к Нике. — Муж, брат, жених, сосед?
— А есть ли необходимость уточнять степень наших родственных отношений? — уклонилась Ника от ответа. — Выяснять анкетные данные, мне кажется, не наступило время. Я ведь не пытаюсь выведать ваши.
— Вы меня не поняли. Я тоже не рвусь изучать вехи вашего жизненного пути. Просто мне надо знать: как мы поведем разговор? Втроем? Вдвоем? Один на один или в присутствии всего общества?
— Разумеется, тет-а-тет. Все решаю я. Зачем еще кто-то?
— Разумно. Но ведь привели же вы его зачем-то? Для делового разговора он уже не пригоден. Как телохранитель... тоже не очень.
— Он что, мешает вам?
— Мне нет. Лишь бы вам не мешал. Обговорим детали? Вы уже решили, сколько вы хотите за свою бумажку? Может быть, не сойдемся и придется вам искать другого покупателя.
— Мне кажется, мы договоримся. Я не жадная.
— Тогда не будем торговаться. Я наводил справки по какой цене идет сейчас ваш товар. Вы, полагаю, не станете возражать, если мы будем, так сказать, ориентироваться на них. Кто-нибудь смог бы, вероятно, диктовать свои условия, но вы слишком неопытны. Считайте, что вам повезло, когда судьба свела вас со мной. В разумных пределах я в состоянии заплатить. Так что будем считать, что в принципе договоренность достигнута. А как вы все мыслите практически?
Ашот, сославшись на какие-то дела, удалился, пообещав вернуться через полчаса. Бородатый юноша пытался выразить свою любовь хозяину кислородной подушки. Неисчерпаемость этого резервуара, а также уход Ашота дали новый заряд его оптимизму. Человек в кепке отвечал односложно, проявляя свое расположение к собеседнику тем, что каждый раз снова брался за шланг.
— Практически? — Ника задумалась. — Я не знаю. Наверное, так: я вам — билет, вы мне — деньги.
— Как Рогожин Настасье Филипповне, в «Биржевых ведомостях?» Этакую большую пачку?
— А что? Чек выпишете? Как мистер Твистер? Я бы предпочла пачку.
— А вы знаете, что такое «кукла»?
— В куклы я уже давно отыграла.
— Ну, не так уж и давно, скажем прямо. «Кукла» — это пачка резаной бумаги, которую подсовывают доверчивым людям вместо денег. Не боитесь такого?
— А-а... Слышала. Но раз вы меня предупредили, то я проверю, пересчитаю. Разве, когда хотят обмануть, предупреждают заранее?
— Нет, конечно. Все это я к тому, что иметь дело с крупными суммами всегда небезопасно. Как вы догадываетесь, я человек приезжий, покупка автомобиля в мои планы не входила, чемоданчика с деньгами я не вожу. За деньгами надо ехать. И не близко. Но и везти их — тоже удовольствие маленькое. Конечно, можно воспользоваться такой удобной формой, как аккредитив, но внимание к своей скромной особе привлекать не хочется. Я деньги, конечно, зарабатываю честным путем, но всегда находятся люди, косо смотрящие на обладателей больших сумм.
— Справедливо. На академика вы не очень похожи, на лауреата тоже.
Миша слегка покривился от таких откровений, но сказал весело:
— Не будем обсуждать источник моих доходов. Я ведь не против того, например, что вы хотите реализовать с умом подвернувшуюся вам удачу: синяя птица вас не устраивает, вы хотите «птицу цвета ультрамарин». — Он попытался напеть вполголоса: — «Мы — охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин»...
— Слышала, — недовольно прервала эту импровизацию Ника. — Вы свою птицу удач, похоже, давно изловили, но сюда тоже не на экскурсию приехали...
Миша сделал вид, что не понял, но нахмурился и перевел разговор на другую тему.
— Я хочу предложить более современный способ оплаты. Перечислением. Откроем сейчас в нескольких сберкассах счета на ваше имя, а проще говоря, заведем несколько сберкнижек. (Вы все равно их вынуждены будете завести — не в чулке же деньги держать). Я перечислю на ваши счета требуемые суммы — и будем взаимно здоровы и счастливы.
— А билет? Не хотите ли вы сказать, что я вам должна отдать билет? Я не настолько доверчива.
— Ну об этом не может быть и речи. Билет останется... нет, не у вас, но здесь в городе.
— Как понимать? Кто его будет хранить, в каком сейфе? Поясните.
— Вы правильно выразились. В сейфе. В сейфе с шифром. Я имею в виду камеру хранения на вокзале.
— То есть?
— Потерпите, я все объясню. Прежде всего камера — это надежно. Не зря ею пользовался для хранения своих миллионов всем известный Корейко. Пусть герой литературный, но он правильно делал, что не боялся, доверял. Годами. А мы всего на три дня.
— Я слышала, камеры хранения тоже обворовывают. Ну те, что с шифром. Автоматы.
— Обворовывают, когда заранее знают, что там есть что украсть. А мы поставим скромную такую сумочку. Хозяйственную. На которую никто не позарится, если она даже на улице будет стоять.
— Ну, а кто будет знать шифр?
— Никто из нас. Точнее, никто полностью. Каждый будет знать только свою половину. Когда вы убедитесь, что все деньги поступили на ваши счета, вы сообщите мне вторую половину шифра.
Ника глянула на своего спутника. Да, действительно, от него трудно было ожидать какой бы то ни было помощи. Он уже весьма отвлеченно воспринимал окружающее, хотя и пытался еще что-то говорить. Нет, он был не против того, что Ника куда-то уходит, безразлично было ему и с кем уходит, главное — оставался бурдюк и никто не препятствовал тесному общению с ним.
Пока билет был в сумочке, Нику задуманный план не особенно волновал. Прикинув, какие из сберегательных касс для нее будут удобнее других, она сказала, что потребуется такси. Миша с готовностью согласился. Номеров сберкасс девушка, естественно, не знала; она просто объяснила шоферу, куда ехать. Делая первый вклад, решили, что будет достаточно трех сберкнижек в трех разных кассах. Каждый вклад — по сто рублей, еще две сотни Миша давал для «округления» суммы. Народу в сберкассах, которые они объехали, было немного — середина рабочего дня, — и все «банковские операции» заняли немного времени. Скромный по сравнению с обусловленной суммой задаток Миша объяснил отсутствием при себе наличия, но поступление остальных денег он гарантировал в течение двух-трех дней. Он сегодня же улетает домой, завтра перечисляет всю сумму — и обратно, чтобы вместе пойти к камере хранения.
А пока камеру хранения предстояло посетить для того, чтобы оставить в ней билет. Вот тут-то Никой стали овладевать сомнения. Вариант, предложенный Мишей, уже не казался таким надежным, как во время разговора в гостинице. Выветрилось действие мускатно-«кислородного» допинга. Теперь она уже жалела, что рядом нет бородатого дружка, такого привычного, своего. Она бы чувствовала себя уверенней от одного только его присутствия. Не надо было давать ему пить, не надо было так легко от него отказываться. Не захотелось ни с кем делиться, стремление стать единоличной обладательницей невесть откуда свалившегося богатства победило все. «Птица цвета ультрамарин»... Но отступать было поздно. Сберегательные книжки, лежащие в ее сумочке рядом с билетом (пока он там!), побуждали действовать. Зачем она согласилась? Сдала бы в сберкассу в крайнем случае. Да и в автомагазине в очереди можно было найти таких, кто выложил бы все сразу в сверх того...
Миша спросил у таксиста, который их вез сейчас (они сменили уже третью машину, разъезжая по сберкассам), где поблизости есть магазин культтоваров или кожгалантереи. Ближе всех оказался магазин Спорткультторга. Там и купили спортивную сумку, скромную, не бросающуюся в глаза. В магазине «Техническая книга» приобрели, не читая названий, несколько учебников.
И вот они на вокзале. Свободная ячейка шкафа-автомата нашлась в одном из залов, где располагались камеры хранения.
— Что? — не поняла Ника. Потом, догадавшись, раскрыла сумочку. С неохотой, через силу. Вот он, билет...
Миша подставил раскрытую книгу. Он как бы показывал: к билету не прикасаюсь, пока не имею на него прав. Но когда билет уже лежал между страниц, он, приблизив книгу к глазам, внимательно посмотрел на номер и серию. Повернул книгу, чтобы билет лег обратной стороной. Оглядел и эту сторону. Потом достал записную книжку, что-то нашел в ней, посмотрел, удовлетворенно кивнул: все в порядке.
Ника разгадала смысл этих манипуляций: в записной книжке были, вероятно, выписаны номера главных выигрышей.
— Боитесь подлога? Мне как-то и в голову не приходило.
Миша извиняюще улыбнулся.
— Все бывает. Доверяй, но проверяй. Кстати, вы один билет покупали, или у вас их было несколько?
Вопрос почему-то не понравился Нике.
— Какая вам разница? — Суховатым тоном она дала понять, что распространяться на эту тему не намерена. — Давайте лучше заканчивать эту процедуру.
Миша пристально посмотрел на девушку. Однако ничего не сказал. Он расстегнул «молнию» на сумке, вложил книжку, потом сверху остальные, резко, со звуком затянул замок. Поверх «молнии» шел еще ремень с замком-защелкой. Аккуратно подогнав защелку под скобочку, подергав для верности — хорошо ли закрылось, — поставил сумку в ячейку шкафа.
Теперь предстояло найти тех, кто согласится участвовать в этой малопонятной игре. Удаляться от шкафа с заветной сумкой не хотелось ни ему, ни ей. Оставалось уповать на судьбу. Но вот Миша уже перехватил девушку, которая, захлопнув свой шкаф, проходила мимо. Она явно ничего не поняла, но поставить цифру, которую ей шепнул Миша, согласилась. Ника стояла, повернувшись к ним спиной.
Мише везло на молодежь. С молодыми легче договориться. Теперь он «заарканил» парня с дипломатом. Едва Миша начал опять плести историю насчет пари, как тот оборвал его на полуслове, взял бумажку, на которой была написана нужная цифра, крутанул ручку.
У Ники не все сошло столь гладко. Она было обратилась к пожилому, деревенского вида мужчине, расположившемуся со своей корзиной поблизости, но он сам ждал, что ему кто-нибудь поможет разобраться с правилами пользования автоматом. Девушка поспешила отделаться от «колхозного старикана».
Видя, что дело застопорилось, Миша поспешил на помощь. На этот раз он сагитировал пожилую интеллигентную женщину, которая слушала его болтовню насчет пари по угадыванию цифр с сочувственной улыбкой. Он же показал, какую крутнуть ручку, а Ника тихонько продиктовала цифру, когда Миша отступил на несколько шагов.
Женщина отошла, сопровождаемая потоком Мишиных благодарностей. Теперь оставалось самое сложное: поставить последнюю цифру. Надо было найти подходящего для этой цели человека. Во-первых, такого, который бы понял, что от него требуется. Во-вторых, чтобы ничего не заподозрил. Этот человек увидит все четыре цифры; он не должен догадаться, что, подобно Алладину, станет обладателем пароля: если не в пещеру с сокровищами, то во всяком случае, к мечте многих смертных. От одной этой мысли Ника почувствовала себя нехорошо.
Но кандидат для набора последней цифры нашелся как нельзя более подходящий. Это был грузный, запыхавшийся гражданин, от которого неслось пивное благоухание. Он явно спешил. И, поскольку его ячейка находилась рядом с ячейкой комбинаторов, он доверительно сообщил им, что чуть было не прослушал объявление об отходе своего поезда, засидевшись в ресторане. Ему надо на поезд дальнего следования, о прибытии которого уже объявили, а он еще не взял вещи.
Ника пустила в ход все свое обаяние.
— О, успеете! Сто раз еще успеете. Поезд еще не пришел даже, я слушала (толстяк сообщил маршрут). Помогите нам, всего одна секунда.
— А в чем дело? Я очень тороплюсь. — Мужчина уже выволок из шкафа свой такой же объемистый, как и он сам, чемодан. Но отказать в просьбе хорошенькой девушке, он не мог. — Что я должен сделать?
— Пустяк. Поставьте первую цифру шифра в этой ячейке. Какую? Я сейчас скажу вам на ухо. У нас, видите, пари такое...
— А, тогда пожалуйста! Диктуйте. Первую, говорите? Ну вот, пожалуйста, вам первую. Вот... Будьте здоровы!
И он побежал к своему поезду, который через несколько минут устремится во Владивосток. Можно было не сомневаться в том, что через полчаса этот человек, повернувший ручку последней цифры, будет сидеть в вагоне-ресторане, забыв не только о встрече у камеры хранения, но и вообще о городе, который он покинул. До каких там ему цифр!
Подойдя к дверце шкафа с лицевой стороны, так что его никак нельзя было заподозрить в подглядывании, Миша опустил монетку в щель дверцы и, глянув на Нику, захлопнул ее.
Дело сделано. Ника круто повернулась и пошла прочь. Миша догнал ее. Некоторое время шли рядом молча. Потом он спросил:
— Не ругаете себя, что выпустили билет из рук? — и добавил: — не волнуйтесь, все будет в порядке.
— Я и не волнуюсь. Я уже устала его стеречь. Как владелец машины, у которого нет гаража. Когда вы улетаете?
— Есть ночной рейс в наши края. Вот с ним я и улетучусь.
— Не задерживайтесь. Камера-автомат только на пять суток...
Она не закончила фразу. Она хотела сказать: «а потом». Внезапно ее поразила эта мысль: а что потом? И побоялась сказать вслух.
А Миша говорил уверенно, тоном, не допускающим сомнений:
— Буду обратно через три дня. Встретимся здесь в двенадцать дня. Вы сможете? Договорились? — заключил он, так как Ника согласно кивнула. — А теперь едем обратно. Я просил Ашота заказать столик в ресторане. Надо же отметить. Приятеля вашего заодно попроведаем. Все расходы беру на себя.
Глава восьмая
ВИТЬКА, КЛЮЕВ, МУСКУЛ И ОСТАЛЬНЫЕ
В мастерской бытового обслуживания о несчастье уже знали. Жалели Васильева. Работник он был добросовестный, хоть и «закладывал».
— Такие дела, — со скорбным видом молвил директор, когда Евсеев, представившись, объяснил причину своего прихода. — Был человек, и нету. Мужик-то был хороший, только вот... это... злоупотреблял немного в последнее время.
Он крякнул смущенно. Как там ни поверни, а раз начальник, стало быть, есть в случившемся доля и его вины. Недоглядели, недовоспитали, промашку допустили. Евсееву эти переживания были неинтересны. Ему надо было знать другое.
— А с кем конкретно «злоупотреблял»?
— Трудное это дело. У нас профиль такой. Есть, конечно, непьющие. Геннадий Иванович, к примеру. Правда, у него язва. Ну, и женщины, само собой...
Цвет лица Геннадия Ивановича вполне мог быть подтверждением слов директора о язве. Но еще больше об этом свидетельствовала желчность тона, с которой этот представитель коллектива говорил об окружающих.
— Да с Витькой он, Степан, почитай, каждый день флаконил. С утра примут для бодрости, а затем на вызова, кто их там унюхает? Клиенту без разницы, под запахом ты или нет, абы механизмы заработали. Принюхиваться — это дело начальства.
— Где же они берут с утра? Вы же с восьми работаете.
— С восьми, — подтвердил Геннадий Иванович. — Да у них все продавцы знакомы-перезнакомы. Что вы не знаете? Кому надо — завсегда найдут, круглые сутки. А с утра, так это только продавцам заработок. И профиль у нас такой, что все в нашем брате нуждаются. Там холодильник забарахлил, там вентилятор, там электромотор... Тут уж не только водочку — любой дефицит из-под прилавка вытащишь...
И Геннадий Иванович принялся с большим знанием дела посвящать капитана в ухищрения алкашей, жаждущих «поправиться». Евсеев прервал его:
— А Витька что — молодой парень?
— Витька-то? Да уж четвертый десяток давно, наверно, разменял.
С высоты возраста Геннадия Ивановича, может, и «Витька», но выходит это ровесник его, Евсеева.
— А когда он с вызова вернется?
— А леший его знает. Может, сегодня и вовсе не придет. Опять же, Степана помянуть надо...
— С кем еще Васильев пил? Дружков его знаете?
— А что, али подозрение какое есть насчет Степана? Кто-то помог ему сгореть? — И понимающе покивал: — Милиция зря интересоваться не станет. А насчет дружков его... Разные к нему захаживали. Может, кто и по делу, а у другого и делов-то всего — стакан спросить. Ну, и Степану плеснут...
— Спасибо за информацию. А Виктору передайте, чтобы утром никуда не отлучался. А то в управление вызовем повесткой.
— Я что? Я скажу. Только начальнику лучше нашему скажите, он прикажет и всего делов, а меня Витька не послушает — нет...
Уже в машине Евсеев подумал, что надо было спросить, как этот Витька выглядит. Соседи Васильева могли его видеть во время последней пирушки.
В разгар рабочего дня застать соседей капитан не очень надеялся. Разве что пенсионеров. В доме, который вплотную примыкал к Васильевскому, оказались дети и глуховатая старушка. Какую тут почерпнешь информацию?
Но капитан по опыту знал: есть такие, кто не только прекрасно видит и слышит, но и обладает способностью сопоставлять факты, делать выводы из своих наблюдений. Это — первые помощники следствия.
Молодая женщина, набиравшая воду в колонке, сама заговорила с Евсеевым.
— Вы, наверно, про Васильева хотите узнать?
«Видела, что я вышел из машины у дома Васильева, вот и выскочила за водой». И ответил вопросом на вопрос:
— А вы можете что-нибудь о нем рассказать?
— Да я что? У меня с ним дел никаких не было. Вот тетка Дарья все на него обижалась. Мужика он ее, говорит, сманивал. Пировали вместе. Дружки были.
— А в тот вечер? Ну, когда пожар случился.
— А кто их знает. Они все время вместе хороводились. Дарья-то уж наверняка знает.
— Кто еще из соседей у Васильева бывал?
— Да, всякие. Я вон там наискосок живу, в заводе работаю, по сменам, сегодня во вторую. Приглядываться к ним, что ли? Мужика у меня нету, пасти некого. Это надо тех, у пивного киоска, спрашивать. Степан там каждый вечер, почитай, отирался. Дарьин мужик тоже. Ну, а потом всей толпой и прутся к Васильеву: бабы-то у него нет, турнуть-то некому. А не из наших бывает у него один — долговязый такой, тощий. Особенно, когда непогода загонит. В магазине-то и водка, и вино есть. Вот и соображают. Своих-то, поселковых, бабы разгоняют, а пришлые, бывает, и ночуют.
— Еще кого-нибудь помните?
— Да где их всех запомнишь? Парень вот еще один отирается частенько. Этот приметный: борода у него да куртка желтая.
— А Дарья, как ее по батюшке, она где живет?
— Семеновна. Вот там, в конце улицы тополь такой здоровый, половина засохшая, так это в их садочке.
— Сейчас она дома? Не на работе?
— Домохозяйка она. Должна быть дома.
Евсеев предполагал, что тетка Дарья, или Дарья Семеновна, будет как-то выгораживать своего благоверного и, скорее всего, станет утверждать, что в ту роковую ночь ее муж был дома и не пил. Однако в оценке действий своего супруга Дарья Семеновна была решительна и категорична, ее пожелания в его адрес были тоже достаточно конкретны.
— Чтоб он подох, алкоголик проклятый! Не мог сгореть вместе со Степкой! Им бы только надраться...
Капитан сидел в просторной прохладной комнате и, осматривая добротную новую мебель, половички на полу, телевизор с большим экраном, прикидывал, что не такая уж, видать, заблудшая душа Игнат Тихонович, хозяин этого дома, чтобы так его костерить. Просто все случившееся, видимо, сильно потрясло хозяйку.
Выяснилось, что работает Карасев, супруг Дарьи Семеновны, на прядильно-ткацкой фабрике, с Васильевым знаком с незапамятных времен. В семье все нормально. Дети выучились, выросли, живут и работают не хуже других, да и хозяин вовсе не слыл забулдыгой-прогульщиком. Ведь и Васильев не всегда имел репутацию выпивохи.
При Степаниде семья как семья у Васильева была. Вот последнее время...
Особенно неприязненно говорила Дарья Семеновна об участившихся сборищах у Васильева. Негодование ее вызывали темные личности, которые стали появляться в покинутом хозяйкой доме.
Мало им, старым дуракам, своей компании, так еще со шпаной всякой связались, с уголовниками...
Евсеев насторожился: если не просто со зла сболтнула это хозяйка, то это уже серьезно. Постепенно выяснилось, что вернувшийся из заключения некто Клюев, который жил когда-то в поселке, а сейчас неизвестно где обитающий, зачастил к Васильеву, да не один, а с высоким бородатым парнем. Кто такой, как звать — не знает, но видела неоднократно около магазина в обществе Васильева, своего мужа и Клюева на распивочном пятачке у пивного киоска. Бывали они у Васильева дома, пили там, муж в такие дни приходил поздно.
— Женщин у них там не бывало?
Вопрос этот капитан задал еще и затем, чтобы проверить, не вызвано ли агрессивное настроение Дарьи Семеновны ревностью, которая, как известно, любые фантазии породить может. Тут не только уголовники привидятся... Но хозяйка к вопросу отнеслась спокойно.
— Какие там женщины! Кто к ним, алкашам, пойдет? Да им и самим никто не нужен, кроме винища этого проклятого.
Но после некоторого раздумья все же добавила:
— Не помню уж в какой день, с неделю, а может, и поболе, такси к Степанову дому подъезжало. В нем девушка какая-то. Одна. В дом заходила. Недолго там была. На такси и уехала. Кто такая — не знай».
— А что точно уехала, не осталась?
— Да нет, вроде. Чего она там останется? Степан-то, наверно, пьяный был, с работы косенький шел, я видела. А девушка, может, родня какая...
«Беспроволочная связь тут неплохо работает», — отметил про себя капитан. А вслух поинтересовался:
— Не заметили, как была одета?
— Да аккуратненько так. Свитерок беленький, брючки синие, туфельки... Сумочка в руках. По моде, в общем, одета.
Всеволод Петрович попросил стакан воды. Пока хозяйка ходила за ней, подошел к окошку. Нет, отсюда все это Дарья Семеновна наблюдать не могла. Либо пункт наблюдения находился где-то поблизости, либо сведения получены из вторых рук. Но это уже детали. Любопытен сам факт. Что если девушка и есть Верунька? Очень вероятно. Надо побывать в магазине. Но сначала повидать Игната Тихоновича Карасева, хозяина этого дома. Ему наверняка что-то известно.
Суханова, начальник цеха, в котором Карасев работал, охарактеризовала его положительно.
— Давно у нас работает. Слесарь по ремонту оборудования, машины хорошо знает. Нарушений не допускает, прогулов не имеет. Пить у нас на рабочем месте невозможно. У нас все мужчины непьющие. Да их в цехе — раз, два и обчелся. Не знаю, чего это Карасевым уголовный розыск заинтересовался?
— Не им. Успокойтесь. Его дружок погиб при не совсем обычных обстоятельствах, вот разбираемся.
Капитан попросил проводить его на рабочее место Карасева.
— Нет уж, лучше я его сама сюда приведу. В наших цехах разговаривать невозможно. Хотя, впрочем, пойдемте в красный уголок. Там вам никто мешать не будет. А то в цехе — шум, а сюда ко мне люди все время заходят.
Да, действительно, ткацкие станки издавали такой непрерывный грохот, что перекричать его было трудно. Но женщины, ходившие между станков, словно не замечали шума.
Игнат Тихонович выглядел растерянным и смущенным, нервно тер испачканные машинным маслом руки. Испуганное выражение не сходило с его лица во все время разговора. Евсеев старался взять такой тон, при котором скованность собеседника исчезла бы.
Карасев подтвердил, что знакомство с Васильевым у него давнее, отношения дружеские. Делить, как говорится, было нечего. Выпивали, само собой, иногда. Пивком, в основном, баловались. На вопрос, что он, Карасев, думает о гибели приятеля, неопределенно развел руками.
— Так ведь кто ж его знает, как все получилось... Задохнулся в дыму. От своей же папиросы, пожарники говорят, загорание произошло. И милиция с ними согласная.
— Вы с ним пили в тот вечер?
Карасев отвел глаза.
— Было дело.
— И как было дело? Вы когда уходили, он еще не спал?
— Спал, спал. Все ушли. Вино выпито, хозяин спит, чего еще? А потом, наверное, проснулся, закурил, опять уснул. У нашего брата, куряк, завсегда так. В ночь-полночь эту соску сосем. Особенно по пьяному делу...
— Кто еще кроме вас был? Что за люди?
Евсеев видел, что отвечать на этот вопрос Игнату Тихоновичу ой как не хочется! Он даже вспотел и заерзал на стуле.
— Так это... Я их и не знаю вовсе... Посторонние, можно сказать люди.
— Что же вы с посторонними пьете? И часто так бывает?
— Да нет! Впервой. Этих я вообще раньше не видел.
Это утверждение расходилось с тем, что рассказывала Дарья Семеновна. Были, следовательно, причины, по которым Карасев стремился избежать этой темы. Но врать он явно не умел.
— Как же так? Клюева-то вы должны знать. — Капитан дал понять, что ему известно гораздо больше, чем Карасев мог предполагать. Игнат Тихонович от вопроса как бы сжался, исподлобья взглянул на своего собеседника и принялся шарить по карманам в поисках спичек; папиросу он уже давно держал в пальцах.
— Курите, курите, — поощрил Евсеев. — Пусть меня ругают, если что. Да и выветрится — окна открыты.
— Оно конечно... Только я-то этому Клюеву никакой не друг, не товарищ. Про дела его не знаю ничего.
Евсеев видел: Карасеву стыдно за свою ложь, и сейчас он будет говорить все, что знает.
— Я вас про дела Клюева и не спрашиваю. Расскажите мне подробно, что было в тот вечер. Кто был и что делал. И больше от вас ничего не требуется.
— А что, сомнение какое у милиции есть?
— Про сомнения потом поговорим. Нам надо знать, что происходило в тот вечер у Васильева дома. Раз вы там были, говорите все, что вам известно. Вы не первый день живете на свете, понимаете что к чему. Я вас спрашиваю: кто был? Не заставляйте меня подсказывать. Чем подробней изложите, тем лучше.
Евсеев чуть было не сказал «для вас». Но вовремя остановился. Карасев, скорее всего, ни при чем. Он свидетель. Зачем его пугать?
— Верно, был Клюев. «Клювом» его дразнят.
— Еще кто? Давайте так, чтобы мне не тянуть из вас клещами. Мы сейчас с вами просто беседуем, как знакомые. Зачем вам, чтобы беседа была перенесена в казенное присутствие?
Это подействовало.
— Был еще Мускул, да Витька со Степановой работы. Ну и все, вроде...
— А если без «вроде»? Был еще кто-нибудь?
— Мог же кто-то зайти, потом выйти. Я ведь за швейцара не стоял.
— Чем занимались?
— Ну это... Вино пили.
— За чей счет? Кто платил?
— Все платили. Скидывались, как всегда. И Степан, и Витька, и я. А у тех бичей денег никогда не бывает.
— Что произошло потом? Была драка?
— Не было драки, — хрипло вымолвил Карасев. Он чиркнул спичкой, стараясь поджечь потухшую папиросу. Руки его дрожали.
— Это все Мускул.
И, видя, что капитан ждет продолжения, заговорил:
— Когда подпили, Степан ни с того ни с сего стал болтать, что скоро на «Волге» разъезжать будет. «Что, очередь подходит?» — это Клюев его подначивает. А Степан пьяный шебутной. «Я, — говорит, — и без очереди возьму!» — «А деньги где, в чулке, поди?» — это уже Мускул подзуживает. Степа духарится: «Не твое, мол, «гортоп», дело! Как ты, копейки на пиво не считаю!» Мускул проглотил, только хихикнул: «Во дает!» А тут последнюю бутылку разлили. Вроде бы надо еще сбегать, пока не поздно. Я «рябчик» вынул, Витька тоже. Степа чего-то замешкался. Мускул к нему: «Ты, мильенщик, чего жмешься!» Степан возьми да фигу ему под нос сунь. Тот его по руке. Степан поорал, попетушился, да все на него насели, успокоили, уговорили. Вытащил он откуда-то червонец, бросил на стол. Мускул сразу его подхватил, в магазин побежал.
— Разве еще торговали водкой?
— Мускулу без разницы. Он да не принесет! Приволок все, что надо. Ну и все, что я знаю. Потому как едва успел я еще сотку принять, как моя Дашка прирулила. И понесла на нас. Клюв с Витькой сразу слиняли, а Мускул хорохорится: что, мол, за начальство такое! Нечего, мол, тут командовать. Но моя баба тоже не из пугливых, видала она всяких, такое ему сказанула, что он сразу отвял. А меня домой увела. А утром слышу, беда со Степаном.
— Вас жена увела, гости разошлись, Васильев один остался. А вернуться никто не мог? Водка-то, как я понял, оставалась еще?
— То-то и оно. Вернулся кто или нет — не знаю, но водка точно оставалась. Мускул одну-то бутылку в угол поставил, распечатать еще не успели. И Степан еще не спал, хоть и тяжелый уже был. Ну, он все равно бы о ней вспомнил... Свет у него горел, когда мы к своему дому подходили.
Так. Никакой водки в доме покойного обнаружено не было. Значит, кем-то она была выпита или унесена. Выходит, кто-то вернулся. А Игнат Тихонович, похоже, действительно ничего не знает. Про билет он, надо думать, не в курсе. Ничего такого, что могло бы заинтересовать органы правопорядка, в его поступках нет.
Глава девятая
ИНОГДА ПОЛЕЗНО ПРИТВОРИТЬСЯ СПЯЩИМ
Незадачливый компаньон Ники проснулся ближе к вечеру. Он с трудом сообразил, где находится. Но тут появился хозяин номера. Он мурлыкал что-то себе под нос и, судя по всему, занимался хозяйственными делами. Заметив, что гость проснулся, приветствовал его радостным восклицанием:
— Вах! Однако проснулся? Это хорошо.
— А где все? — сильно севшим голосом осведомился бородатый.
Хозяин либо не расслышал вопроса, либо не счел его достойным внимания. Он рассказывал:
— Есть люди, выпьют, голова болит. Я сколько хочешь выпью — не болит. А чему болеть? Это же кост! — И рассмеялся резким гортанным смехом.
Он был сейчас без своей устрашающих размеров кепки. Это обстоятельство давало ему возможность со смаком постучать себя по темени костяшками пальцев и повторять с видимым удовольствием: «Это же кост!» Сдвинув прилипшие ко лбу волосы, еще несколько раз повторял полюбившееся выражение, заливаясь смехом.
Смеялся он, однако, один. Парень ничего забавного в изображаемой ситуации не усматривал. Его интересовало совсем другое.
— Где Ника, где Ашот?
— Не знаю, — равнодушно произнес хозяин. — Где твои друзья, мне неизвестно. Они не сказали, куда пошли. Хочешь пить?
И он снова извлек из под кровати неистощимую кислородную подушку. Спустя полчаса они снова вели приятные разговоры. Многократно повторенный анекдот возымел, наконец, действие. Оба «соподушника» долго смеялись. Хозяин щедро подливал, гость пил и хвалил, хвалил и пил. Бурдюк-подушка дна не имела. По мере чередования полных стаканов с пустыми, новоявленные приятели все меньше слушали друг друга. Потом молодому бородачу снова захотелось подремать.
Сколько продолжался этот второй сон, сказать трудно. Но даже самое отличное вино не может без остатка всасываться в кровь. Так или иначе, бородач завозился на кровати, где он спал одетым, и хотел было встать, но услышал голос как будто даже знакомый:
— Этот все еще дрыхнет?
Презрительные интонации звучали в этом вопросе. В ответ послышалось сопение. Бородач лежал, повернувшись к стене, говоривших он не мог видеть, но понял, что сопение принадлежит владельцу резинового резервуара. На всякий случай он сделал вид, что спит и очень крепко. Тем более, что в говорившем узнал, наконец, Мишу, общаться с которым не было никакого желания. Кроме того, прикинувшись спящим, парень рассчитывал узнать, где Ника.
Миша, однако, был занят своими проблемами.
— Позови Гамида, — приказал он отрывисто.
Хлопнула дверь. Миша двигался по номеру: вероятно, собирал вещи.
Снова хлопнула дверь. Кто-то вошел. И не один — можно было понять по разговору. Речь хозяина сопровождалась характерным покряхтыванием и подкашливанием. После вопроса Миши: «Ну что, узнал?» кто-то заговорил голосом резким и высоким, с сильным акцентом. «Узнал. У него дядя живет в Черкесске. Овчинников фамилия. Звать Яков Прокофьевич. Подходящий дядя. Бывал у «хозяина», срок мотал. Опыт имеет в таких делах». Миша грязно выругался. «Значит... — произнес он и замолчал, видимо, что-то обдумывая. Потом опять заговорил, не скрывая злости. — Этот зяблик, этот воробышек себя возомнил крупной птицей. Придется его разочаровать. Убедить его, что никакой он не коршун, а всего-навсего пичужка, птенчик желторотый. Я ему повыдергаю перышки, а заодно и лапки. А надо будет, и голову оторву. Я им сам займусь, сейчас лечу в те края. А тебе придется за твоим приятелем Ашотом последить. Он, похоже, втюрился в эту дурочку. И если она ему пожалуется, что я ее чуть-чуть пощипал, ему может не понравиться. Он горячий джигит, как бы не кинулся меня разыскивать. Кроме того, я намекнул, что могу устроить встречу с Рамо. Черт! Это можно сделать разве только на том свете... Не исключено, что так и придется. В зависимости от того, как он себя поведет... Ты меня понял? У тебя с ним свои счеты. Вот и разбирайтесь. Где меня найти — знаешь. Иди!
Дал напутствие Миша и хозяину номера:
— Ты тоже сматывайся. И скорее. И этого выпроводи.
Парень понял, что последняя фраза относится к нему и с облегчением почувствовал, что дверь закрылась. Чуть выждав, он поднялся. Его «воскресение» встретил возглас:
— А, проснулся! Пить будешь? Вино есть...
Глава десятая
ВЕРОНИКА: ВЕРА ИЛИ НИКА?
Как и надеялся Евсеев, Королев установил фамилию племянницы Васильева. И едва отчет о командировке младшего лейтенанта оказался у него на столе, он набрал номер телефона магазина по улице Менделеева.
— Мне Веру Раскатову, пожалуйста!
Слова «пожалуйста» оказалось недостаточно для той, что сняла трубку. Была ли она не в духе, или слишком занятая, но в ответ Евсеев услышал раздраженное:
— Только мне и делов, звать подружек для кавалеров!
Капитан не успел даже объяснить, что он по делу, а трубка уже зачастила короткими гудками.
«А зачем, собственно, звонить? Не позвала лишь потому, что не захотела, значит, девушка там. Надо ехать. Все равно по телефону разговора не получится. Тем более, надо посмотреть на Веруньку со стороны, попробовать определить, что она из себя представляет».
Магазин — не самообслуживания. Стало быть, можно ходить сколько заблагорассудится, не обращая на себя внимания. Самому понаблюдать за Верунькой.
Кого звать «Верой», капитану спрашивать не пришлось: через несколько минут после его прихода одна из продавщиц крикнула на весь зал кассирше:
— Вера! За пиво не выбивай! Пиво кончается.
Стало быть, за кассовым аппаратом сидела Вера. Только вот которая из двух? Встал в очередь, чтобы понаблюдать за девушкой. Полненькая блондинка с яркой косметикой. С покупателями доброжелательна, спокойна, но застенчивой ее никак не назовешь. К кожуху кассового аппарата веером приткнуты билеты денежно-вещевой лотереи. Вера не забывала предлагать их на сдачу.
Пиво кончилось, кое-кто отошел от кассы. Покинул очередь и Евсеев. Он собрался было пройти к директору, чтобы вызвать туда Веру, если это та, которая ему нужна. И тут услышал как Вера громко объявила: «Товарищи, проходите в другую кассу!» Действительно, в соседней кассе, до сей поры пустовавшей, появилась напарница, а Вера, собрав билеты, закрыла их в ящике с деньгами и, стуча каблучками, направилась к служебным помещениям. Евсеев догнал ее, спросил:
— Раскатова — это вы?
Девушка удивленно подняла брови.
— Нет. А вам Раскатову надо? Ее сегодня нет. Должна была прийти, но почему-то не пришла. Может, заболела.
Капитан хотел было уйти, но решил, что неплохо узнать о Раскатовой побольше. Поговорить хотя бы с этой девушкой, ее тезкой. Назвав себя, Евсеев попросил Веру уделить ему несколько минут.
Ни растерянности, ни боязни — одно любопытство в глазах.
Чтобы придать разговору непринужденность, капитан назвал девушку тезкой Раскатовой, но в ответ услышал.
— А мы и не тезки вовсе. Я — Вера. Она — Вероника. Ее сокращенно то Верой зовут, то Никой. Ей больше нравится — Ника.
Девушка говорила легко, свободно, и Евсеев понял, что здесь он узнает больше, чем из официального источника. Они сидели в комнатке, которая громко именовалась кабинетом директора и сейчас пустовала. Так что беседовать можно было без помех.
— Вы спрашиваете, подруги мы или нет? Не сказать, что неразлучные, но по годам ровня. Вместе работаем. С кем поболтать, иногда и после работы время провести, как не с ней? — И, непроизвольно понизив голос, спросила доверительно: — У нее что-то случилось?
Капитан заверил девушку, что речь идет о людях, с которыми Раскатова, очевидно, знакома. Но чтобы о них разговаривать, не мешает иметь некоторое представление и о самой Раскатовой. Веру Дееву такое объяснение вполне устроило, и она принялась выкладывать о, своей подруге все, что ей было известно.
Вероника работает в магазине после десятилетки. Пыталась поступить в институт. Как будто намерена зарабатывать стаж, но что-то непохоже, чтобы очень рвалась на учебу. Не замужем и пока не собирается. («Чего нам торопиться? Еще успеем в упряжке побегать, погулять надо, пока молодые»). Жених? Какой там жених! Похаживает тут к ней один знакомый. Студент бывший. Из института погнали, сейчас нигде не учится, не работает. Да и заходит-то больше затем, чтобы рублевку занять. Парень ничего на вид, симпатичный даже. С бородой. Они давно знакомы, чуть ли не со школы. Или жили в одном доме. Это у ней самой надо спросить. Родственники? Не знает... Ну есть родители.
Она усмехнулась, что-то вспомнив.
— Был тут один деятель с месяц назад. Вроде, дядюшкой его Ника назвала. Прирулил к открытию магазина, «пузырек» ему понадобился, а ждать до режимного часа — душа не терпит. Вот и вспомнил, что родня в магазине работает...
Девушка замолчала, как бы спохватившись, что коснулась той стороны торговли, о которой сотруднику милиции в общем-то и знать ни к чему.
— Говорите, не стесняйтесь, — подбодрил девушку Евсеев..
— Ну, раз так, слушайте.
И Деева поведала капитану историю о том, как Ника за оказанную родственную услугу, а точнее за то, что отпустила спиртное в нарушение режимного времени заставила его взять в кассе несколько билетов лотереи ДОСААФ. Тот не только выполнил поставленное условие, но даже подарил по билету девушкам. Сказал, что в случае выигрыша он подруг не забудет, а чтобы они знали, выиграет он или нет, переписал свои номера на обрывке ленты от кассового аппарата и заставил Нику взять этот клочок бумаги, хотя она и отказалась брать. И еще телефон Ники записал.
— Ну и как, выиграли билеты? — машинально спросил Евсеев, слегка взволнованный тем, что услышал.
— А я и не проверяла. Не помню уже, где и билет. Да и газета не попадалась, не идти же специально в сберкассу.
Но Евсеева ответ не интересовал. Его интересовало другое.
— По имени не называла Ника своего родственника? И кем он ей приходится, не уточняла потом?
— Седьмая вода на киселе. Дядя, не кровный, а так... Материной сестры муж. По имени она его не называла. Во всяком случае, я не запомнила.
— А тот парень, ее знакомый, его как звать?
— Его-то? Толей.
Глава одиннадцатая
ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ...
У Евсеева стала вырисовываться версия, в которой как будто начали просматриваться действия основных участников драмы. Вероника не выбросила бумажку с номерами билетов и не забыла о ней. Проверив, обнаружила, что ее непутевый дядюшка стал обладателем счастливого билета с крупным выигрышем. Съездила к нему, чтобы убедиться в этом, потом отправила своего бородатого приятеля. Его все видели неоднократно в обществе Васильева. Видимо, входил в доверие и искал случая выкрасть билет. Кроме него о билете не знал никто из собутыльников, этим и объясняется его стремление свести все к шутке, когда Васильев стал намекать на подвалившую ему удачу. Боялся, что старик проговорится, обнаружит себя перед всей компанией. Анатолию это понятно, невыгодно. После того, как Васильев почуял неладное, бородач понял, что надо торопиться. Ударил старика, так как иной возможности заполучить билета не видел, инсценировал пожар. Правда, факт подмены билета не очень укладывается в эту схему. Может, боялся, что пожар обнаружат раньше, чем огонь уничтожит улики?
Где искать Анатолия, знает, конечно, Вероника. Но дело в том, что ее нет не только на работе, но и дома. Сбежала вместе с билетом? Родители о местонахождении дочери ничего сказать не могли. Они сами были встревожены ее отсутствием, но, по их свидетельству, случалось и раньше, что она дома не ночевала. Евсеев оставил номер телефона, по которому просил немедленно сообщить, как только девушка появится. Пока же имело смысл поискать бородача через Клюева. Где-то ведь они встречались, раз приходили к Васильеву вместе? Вопрос, где искать самого Клюева?
Однако все оказалось намного проще. Клюев, вернувшись после отбытия наказания, отметился в соответствующих организациях, встал на учет, получил разрешение на прописку.
Словом, Клюев сидел перед капитаном и хмуро отвечал на его вопросы. Всем своим видом он хотел дать понять: не знает, что от него требуют. Васильев задохнулся от собственной папиросы, как все говорят. А причем здесь он, Клюев?
— А если есть другие данные? Например, что Васильеву помогли задохнуться?
Клюев побледнел. Такой оборот в любом случае не сулил ничего хорошего.
— Мне шьете? — голос у него сразу сел и стал хриплым. — Так не выйдет ничего. Не виноватый я.
— Кто виноват, разберемся. От вас пока одно требуется: честно рассказать, как все было. Это в ваших интересах.
— Нечего мне говорить. Пили, беседовали, пока баба одного дистрофика компанию не испортила. Я ушел, вот и весь сказ. Что там еще было — меня не касается.
Не чувствовалось, чтобы Клюев юлил или хитрил. Слишком смело он себя держал, был уверен в себе, глаз не отводил. Конечно, калач это был тертый, привык к допросам, но наигранность всегда заметна.
— А приятель ваш бородатый, он когда ушел? Кстати, как его звать?
— А я знаю, когда он ушел? И как звать — не знаю. Мускул — и все.
— А где вы с ним познакомились? Вас все время вместе видели.
— Мы с ним и не знакомились. Пили вместе, вот и все знакомство. Такой же он мой друг, как и ваш.
— Где его найти?
— А бес его
знает!
— А если без беса? Почему бы вам не помочь нам? Мы к вам по-хорошему, давайте и вы так же.
Клюев пожал было плечами, но потом смекнул, что лучше будет, если он попытается помочь милиции.
— Где «гортоп» пасется, там и Мускул. Скорей всего, он сейчас около пива на «Северке». Туда податься — не ошибешься. Самое его время.
Что такое «гортоп», капитану объяснять не надо. Топать в город в поисках дармовой выпивки — вот смысл жизни гортоповцев. Гуртуются они у пивных киосков. И хоть пиво продается только навынос, гортоповцев это нимало не смущает. Пьют прямо из трехлитровых банок, пущенных по кругу, припадая к ним по очереди. У них всегда «занята» очередь. Очередь они могут уступить за глоток пива, за мелочь, которой им всегда не хватает, но все равно они всегда у пивной «амбразуры». До конца, пока пиво не кончится.
С видимой неохотой Клюев согласился показать наиболее вероятные места пребывания Мускула. При том условии, что покажет издалека, не выходя из машины.
Перед тем, как отпустить Клюева, Евсеев поинтересовался, есть ли у бородача девушка и как ее зовут.
Клюев хмыкнул:
— Бутылка у него подруга. Нету у него никакой постоянной бабы. Я лично не видел.
Бородача привезли быстро, не прошло и часа. Это был высокий широкоплечий парень, с правильными чертами лица, с выражением довольно добродушным и бесхитростным. Окладистая рыжеватая борода его не старила. Мускул источал ощутимый пивной аромат и держался по этой причине независимо и даже с некоторым вызовом.
— За что взяли? — с некоторой долей нахальства и сознанием полной непричастности к каким бы то ни было противозаконным деяниям спросил он.
— Все по порядку. Назовите сначала себя.
Парень назвал себя Николаем Першуновым. И это повергло капитана в смущение. Он даже чуть растерялся. Переспросил:
— Николай, говоришь? А разве...
И смолк, поняв всю нелепость ситуации. Не убеждать же парня, что его зовут иначе. У него ведь и документы, конечно, есть. «Николай, Коля. Коля — Толя. Может, спутала Вера Деева? Уменьшительные имена созвучны, могла не расслышать или забыть...»
Как бы там ни было, а беседовать надо. Тем более, что есть о чем. И прежде всего о том, в чьей руке была бутылка, которой ударили Васильева.
Рассказ о событиях того вечера в изложении Першунова подтверждал в общих чертах то, что рассказывали Карасев и Клюев. Но, по мере того, как Евсеев углублялся в перипетии случившегося, ответы Першунова теряли свою четкость и определенность. Он стал путаться, отвечая на вопросы о времени своего ухода, о том, когда и кем была вылита принесенная им водка, попытался скрыть стычку с Васильевым, возникшую из-за намека покойного на выигранную машину. Капитан понял, что настало время открыть карты.
— Вот что, Першунов. Экспертиза установила, что Васильев погиб не от папиросы, а от того, что его ударили. Бутылкой по голове. Да так, что он потерял сознание. А горящую папиросу уже потом подкинули ему на диван. Что ты по этому поводу скажешь?
Першунов уставился на капитана застывшими глазами, лицо его покрылось вдруг нездоровой желтизной, сквозь которую проступали фиолетовые прожилки.
— А, я что?... Почем я знаю?
— Знаешь. И в твоих интересах самому правдиво рассказать, как все было. Ведь на бутылке остались отпечатки пальцев — перчаток, насколько я понимаю, ты не носишь.
— У вас моих отпечатков пальцев нету...
— Будут, значит. Это уж не твоя забота. Ты лучше рассказывай: все разошлись, ты ударил Васильева, испугался, что убил, потом инсценировал пожар...
— Неправда! Он очухался! Он...
Поняв, что запираться бессмысленно, что он уже по сути дела сознался, Першунов произнес несколько отрывистых фраз:
— Он сам на меня набросился. Я не хотел его бить. Так, легонько задел, чтобы он утихомирился. Он сильно пьяный был, на ходу спал, на стулья натыкался...
— Когда это случилось? Кто видел?
— Да никого не было. Все разошлись, а я вернулся.
— Зачем?
— Так водка же осталась. Да и сигареты я забыл. Сунулся, а курить нечего. Вот и вернулся.
— Васильев еще не спал?
— Не... Он сперва обрадовался, обниматься полез, давай, мол, выпьем. А водку-то я спрятал, он даже не знал куда. А я хотел бутылку втихую забрать да отвалить: чего мне с ним, он уже из соображения выпал. Думал, куревом запасусь и буду рвать, чтобы он мне на хвост не сел. Да и все равно ему лишку было.
— А вас что, кто-нибудь ждал?
— Не... Думал, приму чуток да на похмелку оставлю. Неловко вроде стало, на его же деньги водка-то куплена...
Першунов стал подробно рассказывать, как они еще выпили и как Васильев, окончательно опьянев, стал бросаться на своего гостя. Хватал даже нож со стола, кричал, что не даст себя ограбить.
— Я нож отнял, пихнул его к дивану и — к дверям. Так он меня догнал, в рукав вцепился. А я ведь тоже пьяный был. Маленько озверел. Схватил бутылку, что на столе стояла, крутанул его да легонько и стукнул. Ей-бо, чуток, чтобы отвял он. Его и спичкой свалить в тот момент можно было. Ну, я его подтащил к дивану, забросил. Постоял малость, послушал — дышит. И пошел. И вот те крест, больше я его пальцем не тронул...
— В какое время это было?
— Откуда мне знать, часов-то у меня нету... На трамвайную остановку пришел — еще двенадцати не было.
Записывая показания Першунова, Евсеев размышлял над создавшейся ситуацией. «Чуток стукнул». Да такой битюг, к тому же пьяный, где ему рассчитать силу удара? Быка свалить может, не только пьяного пожилого человека.
Першунов вздохнул.
— Че мне теперь будет? Я же не хотел...
— Это дело суда разбираться и меру наказания определять. А ты считаешь, видно, что можно людей бить по голове чем придется, да еще благодарности за это ждать?
И все же капитан решил немного приободрить парня. Хотя бы для того, чтобы он ответил на еще один важный вопрос.
— Многое будет зависеть от заключения экспертизы. Если все так, как ты говоришь, если он после удара пришел в себя, а уж потом закурил и погиб от собственной папиросы, то тебя можно будет обвинить лишь в участии в драке и нанесении телесных повреждений, не повлекших за собой особо тяжких последствий. То есть, если бы он не закурил, к примеру, то утром проснулся бы и голову щупал, стараясь вспомнить, где это он ударился!
— Во-во! — обрадованно подхватил Першунов. — Я же говорю...
— Ну, ты это адвокату расскажешь. А теперь еще ответь: кроме водки, взял еще что-нибудь у Васильева?
Першунов удивился совершенно искренне.
— Да я что, вор? Водку взял, так она ему все равно ни к чему была. А чтобы я еще что-то... Воровать где ешь-пьешь?
О своей честности Першунов был явно преувеличенного мнения. Что денег он не взял — факт. Но что там какая-то мелочь по сравнению с билетом? Да и деньги, вероятно, еще искать надо было, а местонахождение билета, возможно, было известно.
— А билет?
Можно было, более или менее талантливо разыграть изумление, переспросить, чтобы оттянуть время. Першунов просто смотрел на капитана преданными глазами, уверовав в его объективность и доброжелательность. Он просто ничего не понял: какой билет, при чем тут билет? И спросил невпопад:
— Куда билет?
«В кино!» — чуть было не сказал с досады Евсеев. Действительно, как в поговорке: «Федот, да не тот». Не ошиблась, значит, Вера Деева — там все же Толя, а не Коля. С Коли придется пока взять подписку о невыезде, а вот Толю надо искать.
Но все же спросил еще на всякий случай:
— С Вероникой когда последний раз виделись?
Першунов настолько осмелел, что даже позволил себе улыбнуться:
— Что-то я перестал вас понимать, начальник. Такие имена, я считаю, только в книжках бывают. В натуре мне лично встречать не приходилось...
Глава двенадцатая
ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ
В утро после той ночи, когда родители Вероники не дождались ее, а капитан Евсеев тщетно пытался выяснить, куда исчезла девушка, сама она тоже не очень четко представляла, где находится. Во всяком случае, первые мгновения. Она очнулась от тяжелого забытья на широкой деревянной кровати под легким покрывалом. В полуоткрытое окно веяло прохладой. Легкое прикосновение свежего воздуха, колыхнувшего кремовую штору, она ощутила, как только откинула покрывало. По обнаженному телу пробежал озноб. Поискала глазами одежду, обнаружила ее ни кресле поблизости. По обстановке заключила, что эта просторная комната — гостиничный номер. Поспешно стала одеваться, поглядывая на придвинутый к кровати журнальный столик. Там стояли бутылки с минеральной водой и пивом, лежал на тарелочке виноград; не забыты были и сигареты. Даже открывашки рядом с чистым стаканом... Сумочка с деньгами лежала на кресле под одеждой. Все на месте.
И все же тревога на оставляла ее. Она потянулась за пивом. Пила прямо из горлышка, пока не избавилась от неприятной сухости во рту. Взяла сигарету, присела на кровать. Затянувшись, стала восстанавливать ход вчерашних событий.
Они приехали сюда в этот номер с Мишей. Спутник ее сказал, что снят номер специально для нее, все оплачено, ни о чем беспокоиться не надо. Толик тоже спит в гостинице, там, где его оставили. Проспится, его позовут, если будет в нем надобность. А сначала — в ресторан, там Ашот ждет уже.
...Смутно помнит, как вернулась из ресторана. Там, за столиком пыталась вначале сдерживаться, потом отпустила вожжи. Подходили какие-то люди, приглашали танцевать, с соседних столиков присылали шампанское. Когда Миша стал прощаться, она отнеслась к этому довольно спокойно. Только спросила, не забыл ли он чего, не перепутал ли? «Все будет в ажуре!» И прижимал руки к груди. Ашот тоже подтверждал, что все будет как надо.
А потом она полностью перешла на попечение Ашота. На всю ночь.
Она потерла лицо ладонями. Нужен ей этот Ашот... Оставить билет в камере хранения! Какая глупость!
Она вспомнила, что Ашот просил ее утром не беспокоиться, никуда не уходить. Номер за ней. А он с утра съездит по делам и вернется. Ну, нет, надо на вокзал, выручать билет! Сейчас поедет, найдет того, кто там на вокзале за эти камеры отвечает, расплачется, скажет, что бумажку с шифром затеряла. Что, ей не откроют, что ли! Эта мысль ей еще вчера пришла в голову. Конечно, она сделала вид, что верит всей этой чепухе с хитроумным набором, когда ни одна душа в мире не знает поставленных на шкале секции цифр.
С Ашотом договорились вместе провести день. Съездить куда-нибудь на озеро, покупаться, позагорать. Только вот, что на работе? «Что-нибудь придумаем».
У нее, собственно, не возникало намерения обманывать этого чудика Мишу. Конспиратор... Конечно, если он сделает все, как надо, она отдаст билет. Возможно, поставив дополнительные условия. Там видно будет...
Она потягивала пиво и строила планы. Настроение заметно улучшилось. Виски перестало давить. Когда вторая бутылка стала подходить к концу, ей и вовсе показалось, что все складывается как нельзя лучше. Она отлично запомнила, как выглядит сумка, а главное — количество книг и их названия. Никто не засомневается, не придерется.
Но именно при воспоминании о книгах ощущение тревоги вернулось к ней. Что же? Билет в книгу положила она сама. Сумку Миша поставил нормально, дверцу захлопнул, подергал.
И вдруг она поняла что. Она запоминала книги, чтобы перечислить их, когда будет просить открыть ячейку. Но ведь и он может сделать то же самое!
Простая эта мысль, не приходившая доселе в голову, на какое-то время лишила ее сил. Она откинулась на подушку. «Не может быть, не может быть», — стучало в висках. Опять стало сухо во рту. Она поднялась, прошла в ванную комнату. И там, в раковине, наполненной водой, она увидела нераспечатанную бутылку шампанского. Это, конечно, предусмотрительный Ашот постарался. Но сейчас было не до него. Плохо слушающимися пальцами, она сорвала проволоку, бросая на пол обрывки серебряной фольги, раскачала пробку. Бутылка слабо выстрелила, газ завился у горлышка, подобно слабой струйке дыма. Она наполнила стоявший тут же на полке стакан, не заботясь о его чистоте, сдувая пену, выпила. Посмотрела на бутылку, поставила. Нельзя больше пить, еще чего доброго придерутся, уловив запах. Скажут, немудрено, что забыла шифр, пошлют сначала проспаться. Скорее на вокзал.
Она пробежала мимо дежурной по этажу, опасаясь что сейчас ее остановят.
Никто ее не остановил, ни о чем не спросил. Она уже пробегала по аллейке сквера, разбитого перед фасадом гостиницы, когда у клумбы с цветами путь ей преградил поднявшийся со скамейки человек. Поглощенная своими мыслями, стремясь как можно быстрее увидеть где-нибудь свободное такси, Ника ничего не замечала вокруг и сейчас в испуге отпрянула. Испуг сменился радостью: перед ней стоял ее потерянный было спутник.
— Уф! Испугал! Откуда ты такой? Ну, и видок у тебя... Зеленый, как три рубля.
Парень тоже пробудился совсем недавно, и так же, как Ника, один в номере. Состояние его после вчерашних необузданных возлияний требовало «поправки». Но исчез его новоявленный друг в кепке, а главное, исчезла чудо-подушка. «Надо сматываться от греха подальше», — сообразил он все же, не без оснований полагая, что просто так, без причины поспешно не бегут. Да и разговоры эти подозрительные...
В сквере он присел, чтобы немного прийти в себя, осмотреться. Появлению Ники он тоже обрадовался, но все же сдерзил:
— Зато ты, как новый полтинник, блестишь... Со всеми представителями гор переспать, наверно, успела? Прямо сейчас из постельки?
— Не твое, как говорится, собачье дело. Пить надо меньше. Что, небось, здесь и спал?
Толик посчитал вопрос не заслуживающим внимания.
— Освежиться бы надо, — высказал он желание, преобладающее в нем над всеми остальными. — Давай развернись, за твои грехи страдаю.
Ника задумалась на миг, потом решительно взяла парня под руку.
— Пойдем. Проводишь меня до вокзала, там мне надо кое-что сделать. Помощи от тебя не потребуется никакой. Разве что моральная поддержка. А там найдем что-нибудь и для твоей страждущей души.
«Страждущую душу» вполне устроили бы и ассортимент гостиничного буфета, зачем еще куда-то тащиться? Но хозяин — барин, он же лицо зависимое. Тем более, что никаких иных перспектив не предвиделось.
Подвернувшееся такси через несколько минут доставило их на вокзал. К просьбе открыть шкаф камеры хранения дежурная по вокзалу отнеслась довольно спокойно: на большом вокзале таких случаев сколько угодно. И шифр забывают, и бумажки с записями теряют, и набирают неточно, и «колдуют» у камер не всегда со свежей головой.
Нику охватило волнение, когда мужчина в железнодорожной форме, открыв специальным ключом замок, потянул на себя дверцу. Она даже зажмурилась от страха. Дверца, слабо щелкнув, открылась. Сумка стояла на месте. Теперь, когда ее ремень был уже в ее руках, она еле дождалась момента, когда дежурный, занятый своими делами, отошел. Она выхватила, замирая от страшных предчувствий, «Курс статистики», приоткрыла 47-ю страницу, тут же захлопнула, шумно вздохнув. Это был вздох облегчения: билет был на месте.
Сразу забылись все переживания, отпали все подозрения.
— Надо отметить — еще не охладев от горячки возбуждения, предложила Ника. — Ты не против?
Он бы еще был против! Конечно, спутник Ники ничего не понимал в происходящем и только таращил глаза, слушая объяснения о каком-то забытом шифре, о книгах для главного инженера совхоза и молчал: не его это ума дело. А вот «отметить» — это другой разговор!
Вокзальный ресторан был еще закрыт, но местным гурманам хорошо было известно кафе, расположенное в многоэтажной части вокзала и весьма претенциозно названное «Седьмое небо». Лифт доставил их к цели. Сжимая в руках ручки обеих сумок, большой и маленькой, Ника направилась к самому крайнему столику. Толик хотел избавить девушку от неудобной ноши и взялся было за ремень спортивной сумки, но она неожиданно резко выдернула ее.
— Тебе же неудобно с ней таскаться, — оправдываясь, пробормотал Толик, но настаивать не посмел.
Ника, устроившись за столиком, придвинула к себе пустой стул и примостила сумку на нем. Спутник ее привык ко всякого рода чудачествам и не обратил на этот жест ни малейшего внимания. Его больше волновало, на что размахнется распорядитель кредитов. О билете, как о реальной финансовой величине, он уже как-то забыл. Легкомысленные действия Вероники давали все основания предполагать, что дальше амурных похождений билетно-валютная операция не двинулась. Поэтому он осторожно осведомился, не уточняя, что же они пришли отмечать:
— По пиву ударим?
Ника сделала гримаску:
— Ты можешь лакать пиво, а я хочу шампанского.
— Что, золотой телец приручен? — Толик оживился. Неужели этот хмырь и в самом деле оказался мешком с деньгами. И все выложил? Что-то не верится.
Официантка принесла шампанское. Они выпили «за успех предприятия», закурили. И только тогда девушка заговорила.
Она принялась рассказывать о Мишином предложении перечислить деньги, о том, как они делали вклады в разных сберегательных кассах, о заведенных сберкнижках, о наличных, которые дал ей Миша для «округления» задатка. Толик слушал с возрастающим интересом. Ника, подогреваемая этой заинтересованностью, а еще больше — шампанским, все больше увлекалась своим рассказом. Теперь ей и самой казалось, что действовала она умно и решительно.
— Оставить билет в камере хранения! — ахнул Толик не то восхищенно, не то испуганно. — И ты на такое решилась?
— А вот представь себе, решилась! И как видишь, не промахнулась.
Она похлопала ладонью по сумке, красовавшейся на стуле, поблескивающей своими лакированными боками...
— Пролететь же было можно... Ты проверила, все в порядке? Вон как ты легко забрала сумку безо всякого шифра.
— Ты же видел, сумка на месте, билет там, куда я его положила...
И она потянулась за сумкой. Вынула книгу, достала из нее билет, положила перед собой. Склонилась над маленьким бумажным прямоугольничком, на котором изображен стреляющий из винтовки человек. И вдруг бессильно откинулась на спинку стула с побелевшим лицом:
— Подменил... Подменил, мерзавец! Совсем не тот номер...
Глава тринадцатая
РОДСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
Едва капитан Евсеев вернулся к себе, дежурный передал ему: звонила Раскатова. Просила передать, что дочь дома.
«Вот это спасибо! Забеспокоилась, стало быть, мамаша. Сейчас же пойдем знакомиться».
Но «сейчас же» не получилось: вызвал Бахарев. Что ж, капитан и сам намеревался посетить своего начальника. По сути дела, можно уже докладывать о том, что задание выполнено: «автор» гематомы, обнаруженной у покойного, выявлен и «авторство» свое признал. Вот только ребус с билетом еще не разгадан. Девочка-то объявилась, надо с ней побеседовать.
— Дался тебе этот билет, — поморщился Бахарев. — Где у тебя заявление о его пропаже? Предполагаемого владельца нет в живых. Родственники по всей вероятности ничего даже и не знают...
— Не знаю насчет остальных родственников, но одна знала. И я как раз собрался с ней на эту тему поговорить.
— Препятствовать не стану, если чувствуешь, что за этим что-то есть. Но в «ювелирном деле» образовались кое-какие проблески. Тебе придется заняться разработкой одной из версий. Связано с поездкой. В южные края. Благодатные, курортные.
— Тронут заботой руководства. А что конкретно?
— Конкретно еще обсудим. Но ориентировочно, чтобы ты уже начал думать в нужном направлении, исходные данные такие: в Шахтерске нашим работникам поступил сигнал. Очень любопытный. Одна гражданка, не самого примерного, прямо скажем, поведения, вдруг начала продавать золотые безделушки. Одной сережки, другой колечко, брошку, булавку... И думаешь, почём? За бутылку! У ней свой домишко, живет она давно уже одна, перебивается случайными заработками, попрошайничеством. Алкоголичка... И вдруг такое! Наследство получить неоткуда, на клад тоже не походит: вещи новые, изготовленные в наше время. Выявить тех, кто соблазнился на дешевку удалось, идентификация подтверждает предположение, что это из тех, украденных. Но дальше снова цепочка расследования прерывается.
— А она, обладательница золотого запаса, совсем ничего не хочет говорить?
— В том-то и дело, что она почти не запиралась. Вначале бормотала, что нашла, потом призналась: действительно нашла, но в подполье собственного дома. Что уж она там искала, зачем ей туда понадобилось, если в доме у нее — шаром покати, но факт тот, что обнаружила. Кто положил, она не знает. Может только предполагать. Предполагать, впрочем, нетрудно. У нее есть сын. Живет в городе, там работает. Где-то слесарит, как она выражается. Только он мог положить в углубление под слегой пола два целлофановых пакета с такими дорогими игрушками. Засунул, небрежно присыпал. Сделал, по всей вероятности, в один из своих приездов. Но к тому моменту, когда работники милиции захотели осмотреть «золотую жилу» сами, там уже ничего не было, кроме упомянутого углубления...
— Фантастика, — усмехнулся Евсеев. — Колдовство.
— Да, если бы не вполне реальные вещицы, которые мы изъяли у любителей дешевых украшений. Точнее, дорогих, но за бесценок.
— А где же сынок?
— Ребята из группы, ведущей расследование, тоже хотели бы это знать. Да, да, — покивал Бахарев, видя, что его собеседник хочет что-то возразить. — По имени, фамилии, году рождения нашли и место работы, и место жительства. В общежитии. Но и только лишь. А не самого парня. Его и след простыл.
— Что он из себя представляет, удалось выяснить?
— Зеленый мальчишка. Тихий, не очень приметный. Ни у его непосредственных руководителей, ни у тех, с кем он работал рядом или жил, никогда не возникало никаких сомнений по поводу абсолютной безобидности паренька. Работал незаметно, без нарушений. Жил тоже. Ребята, из одной с ним комнаты, не припомнят случая, чтобы он с кем-то повздорил, поругался. К нему никто не приходил. Выпивши бывал иногда, но вел себя спокойно. Со своими почти не общался, от компаний воздерживался. Так что окружение не выявлено.
— А какие-нибудь родственные связи?
— Мать сказала, что где-то есть дядька. Но никаких отношений (это ее брат) с ним давно уже якобы никто не поддерживает. Последнее его вероятное местонахождение — где-то на Кавказе.
— Кавказ велик.
— Да, имея даже о человеке основные данные, найти его непросто. Но придется. Парнишка будет искать пути для реализации награбленного добра, а одному ему это не под силу. Дядя — самое вероятное. Парень мог и скрыть от матери, особенно от такой, что имеет контакт с дядюшкой. А возможно, что и она, проспавшись основательно в КПЗ, решила попридержать язык. Решила забыть адрес брата на всякий случай. Ей ведь много не дадут, скорее всего отправят в лечебно-трудовой профилакторий.
— Я понял так, что мне придется заняться поисками дяди?
— Да. Как только появится какая-то возможность хотя бы примерно уточнить его координаты. Возможно, что тебе придется принять участие в уточнении этих координат. Так что закругляйся с билетом. Девчонка, скорее всего, ничего не знает. А если и знает, то не скажет. И тут ты ничего не докажешь. Действовать ни от имени покойного, ни в его интересах ты не можешь. Он тебя не уполномочил, интересов у него больше нет никаких, есть интересы его родственников и наследников, а девушка, возможно, таковой как раз и является.
Глава четырнадцатая
ЕЩЕ ОБ ОДНОМ РОДСТВЕННОМ ВИЗИТЕ
Вероника лежала, уткнувшись лицом в подушку. Слез не было. Тупое равнодушие овладело ею. Все происходившее казалось кошмарным сном. Стоило проснуться, и все вернется на свои места. Не было никакого билета, никакого Ашота, никакого Миши. Зачем она влезла в эту глупую историю?
Единственная дочь у родителей, Вероника никогда и ни в чем не имела отказа, не знала, чем пахнет нужда. Все ей давалось легко, включая учебу в школе. А вот с институтом вышла осечка. Аттестат был серенький, готовиться к поступлению в институт мешала образовавшаяся в последний год учебы в школе компания. Вылазки за город, затяжные пикники. Появились новые, уже не школьные, друзья, у которых тяга к романтике проявлялась главным образом в пенье песен под гитару, выпивках, шатанье по барам и дискотекам, во всем том, к чему даже придуман ими же самими термин «балдеть». Толя, ее соученик, принадлежал к той же «стае». Считалось, что они «дружили» — бытует такое неопределенное понятие. Суть его можно трактовать как угодно, кроме первоначального основного значения слова.
Толе в институт помогли устроиться родители, используя какие-то связи, хотя к будущей профессии педагога он ничуть не тяготел и вылетел из вуза сразу после первого семестра. Компания и все совместные развлечения не давали ему учиться. И в армию не взяли из-за какого-то изъяна здоровья. Сам он не объяснял из-за какого, а Веронике ни к чему было вдаваться в подробности. Замуж за него она не собиралась.
Делал Толик попытки работать, но хорошо, если выдерживал хотя бы месяц... А родители терпеливо ждали, что парень все-таки образумится, кормили его, а на выпивку он и сам находил. Как ни странно, это удавалось почти ежедневно.
Успешное, как Нике показалось, проведение «операции», победу над многоопытным дельцом она приписывала своему обаянию. Ведь это было ее главное оружие, которое обычно не подводило. А оказалось, что и обаяние помогает далеко не всегда.
Ведь она почти разгадала несложный трюк с камерой хранения, всю кажущуюся незыблемость логических заключений в предложенной ей партии. Почему же она все-таки согласилась? Это сейчас объяснить не удавалось самой себе. Так же, как не могут объяснить свои поступки легковерные жертвы гадалок.
Вспомнив все, она застонала, как от физический боли, в бессильной ярости закусила угол подушки. Резкий, продолжительный звонок заставил ее вздрогнуть. Дома она была одна, открыть дверь больше некому, а вставать в таком состоянии Ника не хотела.
Кто это мог быть? С работы? Толяй? Его она прогнала, обругав в приступе истерики так, что вряд ли он сейчас пожелает показаться на глаза.
Звонок повторился. Требовательный, настойчивый. Веронику охватило бешенство: кто это еще так трезвонит... Она сорвалась с постели, пошла к двери. Обида, злость, раздражение искали выхода. Она даже спрашивать не стала кто за дверью, просто распахнула ее С желанием устроить скандал.
Но звонивший был ей совершенно незнаком. Это несколько охладило первоначальный порыв.
— Вам кого?
— Если вы Вероника Раскатова, то вас.
Голос человека почти соответствовал внешности, в нем слышались одновременно и твердость и доброжелательность.
— А что вы... вам...
— Что мне от вас надо, хотите вы спросить? — улыбнулся незнакомец. — Если вы меня пропустите, уделите немного времени, то, думаю, полностью смогу удовлетворить ваше любопытство.
— А вы кто?
— Я инспектор уголовного розыска, капитан Евсеев. Вот мое удостоверение.
Вероника на документ лишь покосилась. Она почувствовала слабость. Нет, не боязнь, не страх испытывала она сейчас перед этим человеком. Скорее, это было чувство облегчения и даже какой-то надежды. Вдруг этот капитан пришел ей помочь?
Девушка провела капитана в гостиную. Сама почти упала в кресло, лишь тогда вспомнив, что надо пригласить сесть и гостя. Но до приличий ли сейчас? У нее не было сомнения, что сотрудник милиции пришел по беспокоившему ее делу.
— У вас есть дядя. Как давно вы с ним виделись?
Вот оно что... Начинается... Вероника встала, нашла припрятанную в серванте пачку сигарет. Спросила лишь, чтобы что-то спросить:
— Какого дядю вы имеете в виду?
— А что, у вас их много? Я имею в виду Степана Степановича Васильева.
— А-а... — в голосе Вероники прозвучало пренебрежение. — Так какой он мне дядя? Условное понятие. Он муж маминой сестры, а они вместе не живут, так что он мне вообще, можно сказать, никто. Почему он вас заинтересовал?
— Вы не ответили на мой вопрос: как давно вы с ним виделись?
— Не помню. У нас он бывал, когда я еще маленькой была. Бывал редко. Живут они далеко, в поселке, туда добираться не меньше часа. Мама его за родственника не считает, отец тем более... А почему именно ко мне вы обратились? Вы бы с мамой поговорили, если он вас чем-то заинтересовал.
— Боюсь, что ваша мама не в курсе некоторых вопросов, касающихся вас и его.
— Как так? Что я могу знать о нем такого, что не знает мама? Не понимаю?
Появившаяся в голосе девушки нервозность укрепила капитана в уверенности, что он прав в своих предположениях. Он помолчал, выдерживая паузу, не отвечая на вопрос Вероники. Тогда она снова спросила:
— А почему вам с дядей... Со Степаном Степановичем не поговорить?
Это была слабая попытка увести разговор в сторону, избавиться от неприятной необходимости отвечать на какие-то вопросы. Но это же подтвердило догадку капитана, что девушка ничего не знает о гибели родственника.
Он вслух произнес:
— Может быть, я уже обо всем с ним переговорил и он мне все рассказал. Теперь очередь за вами.
— Что он вам такое мог рассказать? — изменившимся голосом, тихо, почти переходя на шепот, опять спросила Вероника.
Евсеев понял, что настало время говорить открыто, иначе начнется топтание на месте. В конце концов перед ним сидит не опытный преступник, а запутавшаяся девчонка, которая, быть может, и рада признаться, да только не знает, как это сделать. И пока она не знает, что Васильева нет в живых, надо попытаться добиться от нее признания, иначе может статься, что и вообще говорить будет бесполезно.
Не знал капитан, что девушка недавно перенесла такое потрясение, что готова была сознаться во всем, лишь бы избавиться от этого мучительного чувства ужасной непоправимости случившегося. Но чтобы заговорить со всей откровенностью, нужен был какой-то толчок. Намеки капитана только раздражали девушку, вызывая протест из элементарного чувства противоречия. Что ему известно? Куда он гнет? Что мог ему сказать старый алкаш, если во время ее визита он спал без задних ног? И вообще: что может быть кому-то известно?
— Вы мне все задаете вопросы, — усмехнулся Евсеев. — А ведь это я пришел спрашивать. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь ответить как можно точнее. Я хочу, чтобы вы мне объяснили, каким образом произошел у вас обмен билетами лотереи ДОСААФ, приобретенными Васильевым в магазине, где вы работаете? Приобрел он их у вашей подруги Веры в вашем присутствии, подарил вам по билету... И вот оказалось, что подаренный вам билет оказался у Васильева, а один из его билетов — у вас? Именно тот, на который выпал крупный выигрыш?
Вероника сидела ни жива, ни мертва. Но все же нашла в себе силы выговорить:
— Это он вам сказал? И вы ему верите?
Евсеев пожал плечами.
— Откуда же мне тогда вообще знать о билетах? А насчет «верите» я и хочу узнать вашу точку зрения на эту историю. Думаю, мы сумеем разобраться, кому верить, а кому нет.
Девушка закрыла лицо руками.
— Я все расскажу...
Глава пятнадцатая
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ВЫСТЛАНА ДОРОГА В АД...
— Не знаю, что подумает обо мне дядя Степан, не знаю, что подумаете обо мне вы, но я не виновата. Я хотела как лучше...
И девушка залилась вдруг слезами. Евсеев терпеливо пережидал, справедливо полагая, что женщина, проплакавшись, будет рассуждать и действовать разумнее. Но будет ли она говорить более правдиво — другой вопрос... И вообще неизвестно, что за «легенду» готовится преподнести Вероника, поскольку на чистосердечное признание капитан не очень-то надеялся. Иногда люди не говорят правды не потому даже, что это повредит им, а просто так, впрок. А вдруг?..
«Дядя Степан уже ничего не подумает, что бы ты тут, голубушка, ни наплела, а вот что я подумаю...»
Вероника сходила в ванную комнату, сполоснула лицо. Закурила. Посидела еще с минуту, собираясь с мыслями, потом начала свой невеселый рассказ.
...После того, как мать сказала Веронике о письме тетки Степаниды, прошло несколько дней. Девушка отмахнулась сначала, когда мать попросила ее исполнить просьбу своей сестры, но эпизод, не имеющий прямого отношения к дяде Степану — продажа спиртного с нарушением режимного времени, — побудил ее вспомнить о непутевом родственнике. И о бумажке, с переписанными на ней номерами. Она немного поломала голову, припоминая куда она эту бумажку засунула, и, возможно, забыла бы опять, но бумажка сама попалась ей в коробке из-под духов, в которой хранились вперемешку всякие лекарства. Взяла бумажку, не поленилась зайти в сберкассу, благо она напротив парфюмерного магазина, в который девушка регулярно заглядывала. Дядя Степа наверняка свои билеты куда-нибудь засунул и забыл о них. А вдруг тут выигрыш! Вот уж тогда так или иначе придется ехать — двойной повод.
Свой билет оказался, ясное дело, пустым. Но дядина бумажка привела ее в шоковое состояние. Что это — ошибка в записи? Мистификация? Но ведь когда дядя царапал эти цифирки, до розыгрыша было далеко... Вначале хотела поделиться с Верой: как-никак она и свидетель, и участник. Словом, не совсем посторонняя: из-за нее навязала Вероника билеты дяде Степану. Но, поразмыслив, говорить раздумала. Спросила только подругу, проверила ли она свой билет, сказала, что на ее, Вероники, билет ничего не выпало, а на вопрос о бумажке (Вера оказывается запомнила) ответила, что потеряла. Посетовали на судьбу («разве нам когда повезет»), да на том вроде бы и успокоились.
Успокоилась Вера. Веронике же дядин выигрыш теперь ни минуты не давал покоя. Она поняла: надо ехать. Иначе изведется, если не выяснит, что намерен предпринять дядюшка с привалившей ему удачей. В письме, как она догадалась, дядя лишь намекал тетке Степаниде, не решаясь прямо сообщить о выигрыше. Она, Вероника, одна могла лишь расшифровать эти намеки. Сестрам и в голову бы никогда не пришло, что же произошло на самом деле. А дядюшка, выходит, не забыл о билетах!
Не очень-то уверенная в правомерности своей миссии ехала она к дяде. Как повести разговор? Сказать о беспокойстве тетки? Спросить о билете? Нет, она не решила, как себя повести. Но одно ощущала точно: дядина шальная удача притягивала ее, как магнитом, помимо воли.
Увидеть трезвым дядюшку после рабочего дня она не очень-то надеялась. Но открывшаяся ей картина оказалась немного ярче той, которую рисовало ее воображение. Дверь была открыта. На столе — объедки хлеба, колбасы, открытая банка «Завтрак туриста»... В водочной бутылке оставалось еще порядочно, в немногочисленных тарелках и даже в стаканах плавали окурки. И всюду мухи. На огрызках закуски, в консервной банке, в лужицах вина, разлитого на давно не видевшей тряпки клеенке.
Хозяин присутствовал тут же, на диване, к которому стол был придвинут. Но присутствовало лишь тело: дух витал неведомо где...
Но не это все поразило девушку. Такие картины ей случалось видывать. Поразило ее другое.
На полу, рядом с диваном, среди окурков и пустых винных и пивных бутылок были разбросаны лотерейные билеты. Она насчитала четыре. Где же пятый? Дядя спал на животе, одна рука свисала с дивана, другая была засунута под подушку. Приподняв край подушки (дядя даже не пошевелился) девушка убедилась, что билет там, под рукой. Осторожно освободила его. По обрывку ленты (он лежал у нее в сумочке вместе с ее невыигравшим билетом, в сберкассе сунула все это машинально в сумочку, да так и не выбросила) сверила: да, он. Тот самый, отмеченный судьбой. Расправила — билет немного помялся — и несколько секунд смотрела на серенький прямоугольничек, на котором человек целился из винтовки в мишень. Легкая дрожь охватила ее: ведь ничтожный кусочек бумаги, а во что его можно обратить... Куда его теперь? Обратно под подушку? Ну нет! Дверь распахнута, сюда может войти кто угодно. Надо прибрать.
Проснувшись, дядя, конечно, заметит отсутствие билета. Еще хватит старика кондрашка с расстройства. Она вынула из сумочки свой билет. Это пока, чтобы не расстраивался. А там видно будет... Сам же еще ее будет благодарить.
Но чем-то же отличает он этот билет от остальных? Неужели номер запомнил? Она повертела бумажку, вынутую из-под подушки, еще раз ее внимательно осмотрела. Заметила маленький крестик на обороте. Что ж, недолго поставить такой же. Дядюшкиной же ручкой. Вот она торчит в кармане пиджака, наброшенного на спинку стула.
Итак, под подушкой оказался теперь совсем другой билет, с таким же синеньким крестиком, но с другим номером.
На этом месте рассказа наступила пауза. Манипуляции с крестиком напомнили девушке, что жулик, именовавший себя Мишей, тоже на какое-то время ввел ее в заблуждение с помощью крестика. Ведь там, у камеры хранения, раскрыв книгу, она прежде всего поискала крестик, а увидев, успокоилась. На какой-то час...
Уже сидя в такси, которое Вероника предусмотрительно не отпустила, она почувствовала, что у нее не хватит сил расстаться с этой серенькой бумажкой, которая лежала сейчас в ее сумочке. Ведь никто ничего не видел! Дядя если и разберется, будет «грешить» на своих дружков-алкашей. О ее посещении он и не подозревает. В поселке, если кто и обратил внимание на подъезжавшее к дядиному дому такси, все равно одно с другим никак не свяжет. Таксисту, молодому беспечному парню, который охотно травил разные байки симпатичной пассажирке всю дорогу, дела нет до того, к кому и зачем она ездила. Высадит ее из машины и забудет.
Разумеется, в пересказе Вероники все выглядело иначе. Она упирала главным образом на то, что не забери она билет, он бы все равно пропал, а она руководствовалась лишь одним соображением: сохранить билет для дяди. Увы, это были именно те самые благие намерения, которыми вымощена дорога в ад.
Веронику обуревали сомнения. Поделиться было не с кем. Настоящих подруг у нее не водилось, друзей тоже. К родителям с таким разговором и думать нечего соваться.
Всякое лезло в голову. Одно было ясно: ни о какой машине не может быть и речи. «Толкнуть» бумажку — вот выход. Но не за свою же цену! Сейчас, кому очень надо, могут дать намного больше. Но где таких найти? Как к ним подкатиться?
Поручать это дело Толику было ошибкой. Худшего варианта не мог посоветовать и злейший враг...
Евсеева наивный лепет о том, что все делалось с самыми благими намерениями, ничуть не убедил. Одна подмена билета сама за себя говорила. Здесь все ясна. Но чем вызвана такая откровенность? Если она не знает, что дяди нет в живых, зачем ей изливать душу перед работником милиции. Ну, поняла, что ее поймали за руку, так быстрее обратно, к дяде. И уж перед ним оправдываться. Что-то тут не то...
— Ну, а что же вы не поспешили успокоить дядю? Скажем, на следующий день? Через два дня, через неделю, наконец? Приехали бы к нему: мол, так и так, скажи спасибо, что сохранила драгоценную бумажку. И инцидент исчерпан.
Вероника неотрывно смотрела в окно. Глаза ее снова наполнились слезами. Наконец, она прошептала:
— В том-то и дело, что билета больше нет...
Эта вторая часть рассказа Вероники о попытке выгодно продать билет никак не втискивалась в рамки построенной ею легенды о дядиных интересах. Сама не веря тому, что говорит, она все же стремилась объяснить свои поступки все теми же бескорыстными намерениями. Дядя, мол, пропил бы билет раньше, чем продал, его бы обворовали, обманули... Она бы положила деньги на книжку и отдала бы ему уже книжку. И вот жулики ее обманули...
«Теперь понятно, почему она созналась. Она, похоже, сама была готова обратиться в милицию за помощью. Получается, что она — жертва подонков, охотящихся за чужим добром. И ловить надо их, этих мошенников. А то, что образовалась классическая ситуация — «вор у вора», ей, видимо, в голову не приходит».
— Но вы хоть знаете откуда он, этот Миша, как его фамилия, чем он занимается? Кто еще был с ним? Где искать этих людей?
Ни на один из этих вопросов вразумительного ответа капитан не получил. Конкретными в какой-то мере были Ашот, Толик и номер в гостинице, где жил человек в кепке (должны же быть какие-то записи).
Не сумела Вероника объяснить и того, как она упустила билет из рук. Эпизод с камерой хранения она предпочла не рассказывать: не очень-то порядочно она в нем выглядела. Ничего не узнал на этот раз капитан и о сберегательных книжках: Вероника сказала лишь о задатке, полученном на руки. Услышав о том, что билет похищен, Евсеев понял, главное сейчас — напасть на след жуликов. Первостепенное значение приобретали те детали, которые могли помочь это сделать. Понял он и то, что девушка сейчас все равно всего не скажет, что он лишь теряет время, вытягивая из нее по крупицам сведения, за достоверность которых трудно поручиться. «Потом все расскажет. В данный момент ее откровения вряд ли помогут: она сама ничего не знает о тех, кто ее облапошил. Посмотрим, что скажут остальные участники этого спектакля».
— Каково участие во всей этой истории вашего друга Анатолия?
Вопрос капитана вызвал у девушки вспышку злости.
И она подробно рассказала, где и когда можно найти Анатолия Журавского, ее знакомого, который привел ее к сапожному мастеру. Евсеев записал адрес, по которому можно найти сапожное заведение Ашота, а также гостиничный номер.
Перед тем, как уйти, попросил девушку подробно описать все, что касается истории с билетом. Назвал номер комнаты в городском отделении милиции, время, телефон.
— Напишите все, как можно правдивее. Понимаете, это в ваших интересах.
Девушка кивнула. Потом, видя, что капитан направляется к двери, мучительно краснея, проговорила:
— А как быть с дядей? Степан Степанычем? Я сама все ему должна рассказать?
Евсеев помолчал. Подумал. Пришел к выводу, что скрывать нет никакой необходимости. От своих показаний она все равно теперь уже не откажется. Да и оставшиеся билеты будут подвергнуты дактилоскопической экспертизе. Да, скрывать смысла нет. Не сегодня завтра сама узнает. От матери хотя бы...
— Конечно, лучше бы самой. Но у вас больше такой возможности не будет. Ни вы, ни я, никто другой ему уже ничего больше не расскажет. Его нет в живых.
Глава шестнадцатая
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ГЕОГРАФИЮ
Как бы ни был толстокож и равнодушен ко всем человеческим горестям и бедам Анатолий Журавский, эпизод с утратой билета даже на него произвел впечатление. К тому же он чувствовал себя виноватым, и истерика, случившаяся с его подружкой, несколько выбила его из привычной колеи. Он едва сумел увести ее из кафе.
Часа полтора он бродил по городу, приложился пару раз к
стакану, но в ушах все еще звучал надрывный крик: «Грязный подонок! Это ты во всем виноват! Ты заодно с этими бандитами! Ты меня привел к ним, чтобы ограбить!» И еще что-то в том же роде.
Интересное кино! А я-то при чем? Ну, виноват. Соблазнился дармовой выпивкой. Нельзя было оставлять девчонку одну. Так ведь она сама... Кто так дела делает? Какие-то фокусы со сберкнижками, камера хранения... Козе понятно, что все это туфта, чтобы облапошить дурочку. Деньги на бочку, и никаких комбинаций. Теперь ищи-свищи.
Интересно, а этот громила-кавказец, в городе он или нет? Или тоже сбежал? Но ведь будку-то сапожную он с собой все равно забрать не сможет, ее в карман не положишь. По будке и найти его можно. И прижать. Он с этим Мишей заодно, наверно...
И тут Толик вдруг вспомнил, что когда в гостинице он притворялся спящим, чтобы не встречаться с этим неприятным типом Мишей, в адрес Ашота было сказано что-то не очень лестное. Интонация была, прямо скажем, неласковая... Толик стал напрягать память. Он тогда только-только проснулся, и тут эти зашли. Вздремнул он перед, этим основательно, новую зарядку получить еще не успел, так что голова была вполне способна принимать и усваивать информацию. Если разобраться, так и вовсе что-то нехорошее тянул этот, правильно Ника говорит, мерзавец, на Ашотика. Ну, насчет того, что кто-то кому-то собирается устроить встречу на том свете, это, конечно, в порядке шутки, не будем на этом заострять. Это из шпионских книжек, когда кто-то кого-то велит «убрать». Но, похоже, что любви особой у этого Миши с Ашотом нет. Что если сходить к Ашоту? Поговорить с ним по душам, если он, понятное дело, не слинял. Он нам подсунул этого, с позволения сказать, «покупателя». Может, посоветует что.
Толик поколебался чуток, принять или нет малость для понту (он расплачивался Никиными крупными деньгами в кафе и за такси, так что кое-какая мелочишка налипла на пальцы), но решил воздержаться: Ашот нервный, а если он, Толик, глотнет еще, то тоже будет нервным и разговора может не получиться.
Может статься, что если бы Толик знал историю происхождения билета (а ему Ника сказала, что выиграла сама), он, пожалуй, не стал бы «дергаться».
Ашота он застал не сразу. Мастерская была закрыта. Люди приходили, бросали взгляд на замок и уходили. Только на знакомой скамейке сидел, побалтывая ногой, беспечного вида молодой субъект в светлом плащике. К нему, как однажды к Толику, обращались за информацией, он охотно отвечал, не переставая при этом раскачивать носком ноги. Толик тоже присел на скамейку, перемолвился со словоохотливым парнем, а потом вспомнил, что за углом есть пельменная, в которой «дают» на разлив. Не хотел, но раз нет этого...
Ашот появился после обеда. Он приехал на машине. Толик как раз вернулся из пельменной. Ашот копался в багажнике, что-то искал. Толик подошел, встал рядом. Ашот покосился на него, узнал, но ничего не сказал, продолжая свое занятие. Встал со скамейки и приблизился к машине парень в светлом плащике. Говорить при нем в расчеты Толика не входило.
— Поговорить, шеф, надо, — негромко, как ему казалось, произнес Толик.
— Не имею желания, — процедил Ашот сквозь зубы. Толик взорвался:
— Билет отнять у девчонки имел желание, а теперь в кусты! Скажу кому надо — и будку твою перевернут, и тебе ботинок на нос наденут! «Не имею желания»...
Ашот выпрямился. Выражение его лица было таким, что Толик невольно попятился. Казалось, вот-вот кавказец схватит и сотворит с ним нечто ужасное. Но Ашот проговорил почти спокойно:
— Зачем грозишь? Зачем гаваришь нэправду? — Он резко, стуком захлопнул крышку багажника. — Садысь в машину, рассказывай, что случилось.
— Никуда я не поеду! Некуда ехать, приехали.
— Нэ хочешь — нэ надо. В мастерскую пойдем, там погаварим. Только пэрэстань кричать, тихо гавари.
Присутствие молодого человека в светлом плаще, который все время находился поблизости, терпеливо ожидая, когда освободится мастер, действовало на обоих. Толику придавало некоторую уверенность, на Ашота — сдерживающе. Он и в будку предложил пойти поэтому. А Толик тоже согласился благодаря присутствию свидетеля.
Парень, смотревший во время их разговора в сторону и бывший совершенно безучастным, двинулся за ними следом. Он даже довольно ловко просунулся в двери вслед за Толиком, справедливо полагая, что в разговорах про обувь секретов быть не может. Но Ашот, сверкнув глазами, сердито бросил:
— Абажди, пожалуйста! Потом зайдешь. Пять минут...
— Да мне только спросить... — начал было парень.
— Через пять минут все спросишь, пагади!
Молодой человек вышел, осторожно прикрыв за собой дверцу, но отходить от нее не стал. Едва мастер и Толик объяснились, парень проскользнул внутрь и стал что-то выяснять насчет «молнии» на дамских сапожках у мрачного, поглощенного своими мыслями Ашота. Мастер отвечал рассеянно. Парень, словно войдя в его положение, горячо поблагодарил и выскочил из будки. Желтая куртка Толика маячила впереди. Поравнявшись с ним, парень негромко спросил:
— Анатолий Журавский? — И, не оставляя Толику времени на удивление, предложил: — Пройдемте, пожалуйста, со мной. Вон туда, к машине. Нам надо задать вам несколько вопросов.
Через несколько минут Толик уже сидел в кабинете Евсеева. Он все еще не мог прийти в себя от такого поворота событий. Ашотов клиент, с которым он только что перебрасывался ничего не значащими фразами на скамейке, вдруг предъявил красные корочки и повез его, Толика, в дом, куда он меньше всего рвался.
— Садитесь, Журавский. — Евсеев начал с ходу: — Скажите мне, почему вы решили предложить билет лотереи ДОСААФ Джугамишеву? Я знаю, вы это сделали по просьбе вашей знакомой Раскатовой.
— Какому Джуми... — Толик поперхнулся.
— Джугамишеву Ашоту, сапожнику-кустарю, который работает на углу проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Розы Люксембург.
Толик думал недолго. В конце концов, это даже лучше, что этим делом занялась милиция. Был момент, когда он и сам начинал подумывать, не лучше ли обратиться туда, где по долгу службы проявляют интерес ко всяким любителям поживиться за чужой счет. Ника, конечно, не дело затеяла с этим билетом, но это же акулы! А коли милиция сама заинтересовалась этим делом, то... Глупо, да и бесполезно задавать вопросы типа: «Откуда вам это известно?», «Кто вам сказал?» и другие в том же роде. Только напомнят лишний раз, кто здесь задает вопросы. И Толик счел за лучшее выложить все, что ему известно. Тем более, себя он виноватым ни в чем не считал. Попросили узнать, кому нужна машина, он и узнал. Его, Толика, выгоды все равно никакой. Ну и напоила бы раз-другой до посинения и — весь навар. Так стоит ли из-за этого на срок напрашиваться? Эта психованная не знает уж, на кого и кидаться с расстройства, так на него бочку катить вздумала. Да провались они все! Пусть горят голубым огнем и Ашот, и Миша, и Ника со своим билетом...
— Почему Ашоту? — повторил Толик вопрос. И стал излагать свои на этот счет соображения. — А кому я еще мог предложить? У моих корешей больше полтинника в кармане не бывает, на рынке к любому-каждому просто так не подойдешь: оттяпают вместе с руками, без штанов убежишь. А у этого постоянная прописка, фирма... Да и отзывы о нем неплохие. И знакомых у него — весь базар.
— Понятно. А когда вы договаривались, какие-то выговаривали условия? Ну комиссионные, что ли, вознаграждение?
— Да какие там комиссионные! — Толик даже привстал от возбуждения. — Разговору даже об этом не было. Ну, поставила бы Ника пузырек-другой... А у Ашота, я понял, своя выгода какая-то. Но о деньгах разговора не было.
— Это мы все проверим. — Евсеев собирался было подвинуть Толику протокол допроса, чтобы тот его подписал, но раздумал. — А скажите, Журавский, вы себе отдавали отчет, что, соглашаясь на такое вот посредничество, вы шли на нарушение правовых норм? Ведь это — незаконная сделка, можно сказать, спекуляция. Почему мы вам должны верить, что никакой выгоды вы для себя не хотели? Чем вы это докажете?
— А чего мне доказывать? Если бы я был в доле, то разве бы я... («упустил бы билет», — хотел сказать Толик, но решил, что это, пожалуй, будет лишнее)... меня бы не оставили спать в номере. — Толик оживился. — Я что? Я пешка. Вам не мной интересоваться надо, а этой кодлой, которая девчонку обмишулила. Это же мафия. Вы бы послушали, что эти гангстеры говорят. Они думали, я сплю, а я все слышал.
— Ну, и что они говорят? — без особого интереса спросил Евсеев. Равнодушие поначалу даже не было наигранным: капитан не очень-то верил, что этот легкомысленный мальчик может сообщить, что-то серьезное. Но по мере того, как Толик припоминал подробности разговора «гангстеров», интерес Евсеева возрастал.
— По-вашему получается, что Ашот и этот Миша, как он себя называет, вовсе и не друзья, а вроде бы и наоборот?
— Точно определили! — с воодушевлением подтвердил Толик. — На том свете он ему встречу пообещал. Ну, это, я понимаю, для красного словца, но все же... Другу хорошему даже на словах такое не пообещаешь.
— А дядя чей? Как вы сказали... в Черкассах?
— Ну, дядя, это из другой оперы. Это у них там свои дела. Только не в Черкассах, а в Черкесске. Я географию в школе учил, да и сам успел кое-где побывать. Черкассы — это на Украине, а Черкесск — на Кавказе...
Толик увлеченно разглагольствовал, довольный тем, что может поучить «мента». Евсеев же специально изменил название упомянутого Толиком города, смутно почувствовав, что где-то рядом ходит удача. Что если?..
Телефонный звонок прервал ход его размышлений.
— Иду, — коротко сказал он в трубку и, попросив Толика посидеть пяток минут, вышел.
Страх прошел у Толика. Отчасти это объяснялось тем, что ему было известно уже, ради чего его вызвали, отчасти доброжелательным тоном, которым с ним разговаривал сотрудник милиции. Более того, Толику стало даже казаться, что он сообщил полезные сведения, а это возвысило его в собственных глазах.
И действительно, вернувшись, капитан продолжил разговор о том, чей же дядя живет в Черкесске. Толик старался изо всех сил припомнить все до малейших подробностей. Имена, правда, начисто улетучились из его памяти. Но когда Евсеев сам назвал Якова Прокофьевича Овчинникова, он радостно воскликнул:
— Во-во! Он самый! О нем был разговор. А вы откуда знаете?
Капитан заставил его еще раз подробно описать приметы Миши и хозяина номера, сделал себе пометки. К сожалению, того, который приходил, Толик не видел.
— Когда понадобитесь, вызовем, — напутствовал Евсеев заметно повеселевшего Журавского. Толик бормотал что-то из слов благодарности, обещаний сделать все, как надо. Похоже, «история с географией» окончилась для него более или менее благополучно.
Глава семнадцатая
НИТОЧКИ ПОТЯНУЛИСЬ НА КАВКАЗ
Кресло Ашота находилось впереди, по другую сторону от прохода. Евсеева от него отделяло всего два ряда, и капитану кавказец был хорошо виден. Он заснул, едва на табло погасла надпись «Не курить!»
Необходимость этого полета стала очевидной после беседы с Журавским. Евсеев сразу же направился к Бахареву. Рассказал еще об одном «дяде» на Кавказе. Бахарев внимательно слушал. А когда Евсеев дошел до аллегорических рассуждений Миши насчет птичек, он встрепенулся:
— Не коршун, а воробышек? Так это же... Ведь у мальчишки, которого мы ищем фамилия Коршунов!
— Мало того, он подтвердил, что речь шла именно об Овчинникове.
— Ну это он мог просто со страху, чтобы тебе потрафить. — И добавил уже серьезно: — То, что за спиной мальчишки кто-то стоит, я предполагал и раньше. Но сейчас этот «кто-то», похоже, обретает конкретный образ.
— Кстати, мы можем составить хотя бы приблизительный его портрет, — вставил Евсеев.
— Да, это надо незамедлительно сделать. И девушка и парень его видели достаточно долго, чтобы довольно четко обрисовать приметы. Для фоторобота. И этот сапожник, где он? Его тоже допросить.
— За ним уже послано: Его павильончик под наблюдением. С того момента, как стало известно о причастности Джугамишева к перепродаже билета. Но он не проявляет никаких поползновений к бегству.
— А чего ему бежать? Скажет, познакомился с человеком в ресторане, свел с людьми, желающими продать билет. И взятки гладки. Чем докажешь, что это не так?
— Королев сумел записать разговор Ашота с Журавским. Послушаем, пока Ашот не прибыл?
Парню в светлом плаще (это был младший лейтенант Королев) хватило короткого мига, чтобы незаметно закрепить магнитофон за выступом дверного косяка Краткая консультация у Ашота насчет дамских сапожек позволила незаметно изъять миниатюрное звукозаписывающее устройство. Запись беседы давала ответы на кое-какие вопросы.
Ашот: Объясняй! Кто отнял билет? Зачем отнял?
Толик: Зачем отнял, тебя надо спросить. Твой друг. Зона по нему скучает...
Ашот: Почему знаешь, что обманул? Ника сказала?
Толик: По радио передавали... Кто еще кроме нее сказать мог? Девчонка чуть концы не отдала с расстройства.
Ашот: Он что, билет взял, а деньги не отдал? «Куклу» подсунул?
Толик: Ага. Целых три. Буратину, Чебурашку да еще крокодила Гену.
Ашот: Не будь клоуном. Гавари, как было дело?
Толик: А я и говорю. Заведем, говорит, три сберкнижки, я на них деньги перечислю. А билет пусть полежит пока в камере хранения. Ника поверила, согласилась. Пока вы тут развлекались, он билет подменил. Вот ловкач: за пятьсот рублей «Волгу» купил, ха-ха... (Небольшая пауза).
Ашот: Пес! Он сказал мне, что все будет честно. Он меня обманул. Скажи Нике — я найду его. Я не вор. Я людей никогда не обманывал. Он отдаст деньги, заплатит. Или билет вернет. Я найду его!
Толик: Найдешь теперь его, как же! Где ты его будешь искать?
Ашот: Где искать — мое дело. Я знаю, где искать. Передай Нике, я полечу за ним сегодня же. Через пять дней, самое большее, верну билет или привезу деньги. Верь мне. И Ника пусть верит. Пусть не плачет и в милицию не заявляет. Я сам все сделаю.
Толик: Сам, сам... Не шибко-то храбрись. Они и тебе «козу» могут устроить. Слышал я, что он своему шестерке насчет тебя наказывал...
Ашот: Что наказывал? Гавари!
Толик: Да не мое это дело. Я и не понял толком, чего они там бормотали, пока я в номере лежал и «косил» на сонного. Смысл тот, что велел с тобой не цацкаться.
Ашот: Я им покажу, отродьям собаки! Они у меня попляшут!
Толик: Это ты в самую точку: сучьи они дети. Только я на твоем месте не очень бы хорохорился. Это же мафия!
Ашот: Ты все сказал? Теперь иди. Нику успокой. Скажи: Ашот все сделает.
Евсеев, который слушал запись во второй раз, ждал, что скажет Бахарев. Тот высказывать свое мнение не торопился. Потом сказал:
— Непростая штучка, этот Ашот. Не поймешь, то ли он мозги этому мальчишке крутит, то ли в самом деле возмущен. Ты как считаешь, Всеволод Петрович? Благородная поза, чтобы успокоить сопляков? Если же сообщник, то иначе он и вести себя не может.
— Не думаю. Этого бородатого недоросля по-моему никто из них всерьез не воспринимает. Чего перед ним-то благородство разыгрывать. Это одно. И второе: тот волк довольно конкретно по поводу Ашота высказался, когда не думал, что кто-то его может слышать. Мальчишка просто не решился все пересказать. В беседе со мной он был более откровенен. Там прямая угроза в адрес Джугамишева прозвучала. Что за этим всем стоит — неизвестно.
— Может быть, сам Ашот рассеет этот туман?
— Если не напустит большего... Если все так, как он говорит, то чего же он милиции боится? Честному человеку милиции бояться нечего.
— Ну это-то как раз понять можно. У Ашота фирма, он дело с людьми имеет, а чуть что просочится — уже с клиентурой не тот контакт. А насчет паренька этого ты не совсем прав. Может, благородство перед ним и не надо изображать, а вот успокоить на время есть смысл. Пять дней он, установил срок. Время немалое. Тут пять раз этот злосчастный билет перепродать можно. Тот, кто будет последним, вообще может оказаться человеком приличным. — Но тут же возразил сам себе: — Хотя порядочный человек втридорога покупать не станет...
— Беседовать как с ним будем? Вместе?
— Лучше я один. Если он и в самом деле намерен заняться поиском пропавшего билета, а, стало быть, и этого Миши, то есть смысл проследить за ним. Ты как я понимаю, уже настроился на те края. Так что ни к чему, пожалуй, вам сейчас знакомиться.
Ашот местопребывание человека, назвавшего себя Мишей, не указал. Он не сказал: «Не скажу». Он сказал: «Не знаю». Хотя Ашот не запирался, не юлил (он вообще отнесся к приглашению в милицию совершенно спокойно, как человек, за которым не водится никаких грехов), но он и не обмолвился ни словом насчет того, что собирается совершить вояж с целью отыскать похитителя билета.
Не скрывал Ашот того, где и когда познакомился с Хачизовым — такую фамилию носил Миша на момент их первой встречи.
Знакомство состоялось в Теберде — знаменитом кавказском горном курорте — лет около трех назад. Для Ашота — это родные места. Хачизов появился неизвестно откуда. Чем он занимался — не знал никто. Впрочем, в условиях курорта, где тысячи отдыхают на туристических базах и лечатся в санаториях, могут жить, не обращая на себя внимания, и любители путешествий, и искатели приключений, и темные личности вроде Хачизова.
Знакомство не было случайным. Ашоту посоветовали обратиться к Хачизову как к человеку, располагающему могущественными связями в юридических кругах. Джугамишев поверил, что такой человек может помочь ему, а главное, его родителям, отцу и матери, убитым горем: их сын Рамо, младший брат Ашота, должен был предстать перед судом в группе задержанных на грабеже молодых людей. Парнишка оказался впутанным в эту историю не прямо, доказательств его непосредственного участия в разбойных вылазках не было. Адвокат успокаивал стариков, но, как часто в таких случаях бывает, официальный представитель закона в глазах малограмотных обитателей горного аула значил меньше, чем самозванец. Так игнорируют врача, обращаясь к знахарю.
Отец с матерью уповали на помощь нужного человека. Уступая их настоятельной просьбе, Ашот связался с Хачизовым. Тот согласился передать «подарки» людям, от которых якобы зависела судьба Рамо.
Потом состоялся процесс, главари шайки были приговорены к разным срокам, Рамо был оправдан. Благодарность родителей не имела границ. Ашот тоже уверовал в возможности Хачизова.
Мальчик не оценил благосклонности судьбы. Не прошло и года, как он снова оказался втянутым в какие-то темные дела. И опять помог Хачизов. Но на этот раз не как посредник между семьей Джугамишевых и органами правосудия: он попросту помог юноше скрыться. Для стариков-родителей это было настоящим ударом. Больную мать переживания совсем подкосили. Она слегла, да и не встала больше. Расстроилась намечавшаяся свадьба у Ашота. Горячо любивший младшего братишку, он не мог простить себе, что, занятый личными делами, упустил мальчика из-под своего влияния. Разрыв с невестой (ее родители не захотели породниться с семьей, в которой не все чисто), смерть матери, исчезновение Рамо, — все это заставило Ашота покинуть родные места. Он поехал искать счастья в чужих краях, да и осел на Урале. Время от времени он навещал отца, пытался выяснить, где младший брат, что с ним, хотел как-то вмешаться в устройство его судьбы.
И вот встреча с Хачизовым в Чеканске. Миша, естественно, не распространялся перед Ашотом, какие его привели сюда дела, но упомянул, что надеется здесь купить машину, причем, желательно, высокого класса. На вопросы Ашота о Рамо, Хачизов туманно намекнул, что, может быть, сумеет устроить встречу с братом. И тут подвернулся Журавский со своим предложением. Все складывалось как нельзя лучше. Но Хачизов обманул девушку. А стало быть, и его Ашота, тоже.
По представлениям Ашота, сам он ничего предосудительного не совершал, пытаясь облегчить судьбу брата, вырвать его из лап преступников, а заодно освободить от заслуженного наказания. Но теперь — другое дело. Он столкнулся с прямым обманом, низким и подлым, и это поставило под сомнение все предыдущие действия Хачизова.
— Если бы я знал, где его искать, вы бы тоже знали, — заключил Ашот свой рассказ о Хачизове. — Но если найду раньше вас, он мне за все ответит.
Бывает, что такие слова люди произносят, не вкладывая в них прямого смысла. Высказанная в горячности и запальчивости угроза зачастую не больше, чем способ дать выход возмущенным чувствам. Скорее всего, и здесь то же самое.
Но решительные действия Джугамишева становились ощутимым фактором. Еще до конца дня Ашот побывал в кассе Аэрофлота. Не стоило большого труда установить, что он взял билет до Минеральных Вод. (Другое дело, как ему это удалось в разгар сезона). На первый утренний рейс. Заехал к своему павильончику, повесил объявление, что мастерская временно закрыта. Поставил машину в гараж и на такси отправился к себе на квартиру: он снимал комнату у одинокой старушки.
И хотя все это не явилось неожиданностью, и в одном из вариантов плана поимки Хачизова такой оборот событий был предусмотрен, от теоретических посылок настало время переходить к практическому осуществлению задуманной операции.
Бахарев позвал Евсеева еще раз обговорить все детали: теперь уже конкретно, с учетом предстоящего вылета Джугамишева.
— Значит, так, — начал Бахарев. — Руководство управления нашло доводы убедительными, а план — приемлемым. Вопрос о моей командировке тоже решен. Кстати, выбранный нами район поиска подтверждается еще одним косвенным фактом. В номере, который назвал Журавский, жил человек вполне реальный и ныне здравствующий. То есть жил не он, — он этим летом никуда не выезжал из станции Усть-Джегутинской, где прописан, а некто, выдававший себя за него. Обычная история: паспорт был утерян либо украден, дубликат давно выдан, а кто-то обделывает свои делишки, прикрывшись ширмой чужого документа. Для нас важно другое: Усть-Джегута всего километрах в тридцати от Черкесска. А это уже интересно.
— Это что же тогда получается? Выходит, тут не случайное совпадение? Получается, что Коршунов был с Черкесском и раньше связан?
— То-то и оно. Мать имеет очень смутное представление о занятиях сына. По ее понятиям, он «где-то слесарит». А он не просто слесарь, а слесарь-электрик, сопровождающий вагоны-рефрижераторы. Все его рабочее время — на колесах. Зато в свободное от поездок время — больше месяца отдых. И билет бесплатный. Отсюда вывод: с дядей парень мог видеться гораздо чаще, чем об этом подозревала мать. А он этих контактов не афишировал, если даже соучастники ничего о существовании дяди не знали. Я сам полечу разбираться и с дядей, и с племянником. Ты берешь на себя Ашота. Будем держать постоянную связь. Ты полетишь в том же самолете, что и Джугамишев, я — следующим рейсом. Таким образом, у нас будет два пути выйти на Хачизова. Жизнь покажет, который путь короче. А, может быть, сойдемся в одной точке...
— Есть еще один путь, и, полагаю, его тоже надо попытаться использовать, хотя этот путь может вывести на Хачизова лишь при удачном стечении обстоятельств.
Евсеев задумался, прикидывая что-то в уме. Бахарев ждал с трудно скрываемым нетерпением, но не торопил. Евсеев заговорил, словно размышляя вслух:
— Я опять про билет. Не для коллекции же украл его Хачизов. Ждать, пока товар подорожает, он тоже вряд ли станет. О том, что мы напали на его след, он не подозревает. Уехал от места похищения билета он тоже достаточно далеко. Какие у него могут быть причины воздерживаться от реализации? А поскольку такой выигрыш можно оформить лишь в сберкассе высокого разряда, мы можем уже сейчас во всех крупных городах края, да и побережья, сделать запрос, предварительно сообщив номер билета. Для получения выигрыша потребуется паспорт... Не приходится сомневаться, что Хачизов будет действовать через подставных людей, но ведь и через них можно выйти на него.
— Шансы невелики, но попробовать надо. Я дам указание. А о фотороботе позаботься. Нас здесь завтра уже не будет, но надо, чтобы парень и девушка завтра побывали здесь, помогли составить портрет. Нам его вышлют по фототелеграфу. Местные товарищи посмотрят, может, тоже признают...
...И вот они в самолете. Ашот спокойно спит, Евсеев «проигрывает» в уме возможные варианты поиска. Джугамишев определил себе срок в пять дней. Вместе с дорогой. Это, конечно, так, с потолка. Но на что-то он все же рассчитывает? Исходит из каких-то соображений? Надеется долго с поиском не затягивать, с выяснением отношений — тоже. Интересно, в какую сторону от Минеральных Вод отправится самодеятельный детектив?
Глава восемнадцатая
НА РАЗНЫХ ТОЧКАХ ВОЕННО-СУХУМСКОЙ ДОРОГИ
Ашота никто не встречал. Так оно и должно было быть. Он никому не звонил, не телеграфировал. Сразу же пошел на автобусную остановку, сел в рейсовую машину, идущую на железнодорожный вокзал. Евсеев с одним из встретивших его товарищей последовал за ним. Уже через несколько минут стало ясно, что помощь местных сотрудников пока не требуется: Ашот взял билет до Пятигорска. Все, что они могли сделать, это подбросить капитана до горотдела на машине, пока Ашот едет на электричке. А чтобы застраховаться на тот случай, если Ашот выйдет где-нибудь на промежуточной станции, в поезде с ним поедет один из встречавших. Он же и сообщит о том, куда направится гость по прибытии. Такая расстановка сил позволяла капитану не только осмотреться, но и попытаться обнаружить следы пребывания Хачизова в этом краю в не очень отдаленном прошлом.
Бахарев, по всей вероятности, уже в самолете, летящем в Минеральные Воды. Посвящая пятигорских коллег в основные обстоятельства дела, ради которого он здесь, Евсеев передал все, что знал о взаимоотношениях Хачизова и Джугамишева. Но фамилия никому ничего не говорила. Решили вернуться к этому вопросу после присылки фоторобота.
Сотрудник, сопровождавший Ашота, сообщил, что гость благополучно прибыл в город, никуда не заходил, ни с кем не общался. Но позвонил кому-то из телефона-автомата. Поскольку багажа у него всего один портфель, первую остановку он сделал в ресторане «Машук». Нет, ни с кем не общался, кроме официанта. По телефону говорил недолго. Видимо, назначил свидание, так как сейчас у него вид человека, ожидающего кого-то. Никуда не торопится.
Мало вероятности, что это будет встреча с Хачизовым. Не с таким благодушным настроением сидел бы он в этом случае. Да и не в ресторане она, наверное, должна состояться...
Ашот не спеша разделывался с цыпленком табака, потягивал пиво. И хотя он сделал всего один звонок, на встречу с ним порознь пришли с некоторым интервалом двое. Они тоже заказали пиво, цыплят, но этим не ограничились. Официант принес еще и коньяк, минеральную воду. Говорили тосты за встречу старых друзей.
Пригласил ли Джугамишев этих людей с целью выведать местонахождение Хачизова или просто захотел повидаться с добрыми знакомыми, было неясно. Пил он очень мало, говорил еще меньше, был задумчив, даже мрачен. Приглашенные им люди только-только входили во вкус пирушки, а он, посмотрев на часы, показал, что ему пора. Расплатившись, все трое направились к выходу. Маршрут их определился довольно скоро — шли по направлению к автовокзалу. Как и следовало предполагать, Ашот взял билет до Теберды. Джугамишев, видимо, хорошо знал расписание, так как автобус подошел вскоре. Капитан с выделенным ему помощником поехал за автобусом на машине, второй втиснулся в салон экспресса перед самым отходом, на случай, если Ашот вздумает прервать путешествие где-нибудь посреди дороги: такое тоже нельзя исключить.
Ехать впритык к автобусу было невозможно, поэтому машина то и дело вырывалась вперед, в пунктах стоянок дожидалась его, выбрав при припарковке удобное для наблюдения место.
Великолепие пролетающих за ветровым стеклом пейзажей на какие-то мгновения заставляло Всеволода Петровича забывать о цели командировки. Невольно вспоминалось его первое путешествие по Военно-Сухумской дороге. Автобус шел тогда вечером, быстро темнело, сгустившиеся за несколько минут сумерки были полны таинственности. Стеной темнели черные отроги горных кряжей, в открытые форточки автобусного салона врывались запахи весны...
На остановках, поджидая автобус, Всеволод Петрович заходил в почтовые отделения вокзальчиков, покупал открытки с видами Северного Кавказа и, надписав свой домашний адрес, бросал в почтовый ящик. Для шестилетнего сынишки Артема. Ашоту на глаза не попадался, но тот и не озирался по сторонам. Экзотика его ничуть не волновала, кроме буфета и туалета, он никуда не отлучался. Пил пиво, ни с кем не заговаривал.
Стало вечереть, когда подъезжали к Теберде. Это был конечный пункт путешествия, но рейсовый автобус в селении, растянувшемся на километры вдоль горной реки, делал несколько остановок. Ашот мог сойти на любой из них и затеряться среди сотен одноэтажных деревянных строений, разбросанных по обе стороны стремительного горного потока.
Но Ашот доехал до конечной остановки. На автовокзале долго изучал расписание местных автобусов, не торопясь, прошел в расположенный поблизости ресторан, там попросил минеральной воды, присел за столик, а когда официантка принесла заказ, о чем-то поговорил с ней. Народу в уютном зальчике было немного, и сотруднику, вошедшему вместе с Ашотом в ресторан, было нетрудно догадаться, о чем шел разговор, Джугамишев спрашивал о ком-то, кто работал в ресторане. Но уже по жестам девушки было ясно, что этого человека сейчас нет. Полученная информация Ашота вполне удовлетворила. Взглянув на часы, он тотчас же поднялся. Вышел на автобусную остановку и через четверть часа снова оказался в той части селения, которую уже проезжал. Похоже, что никого из знакомых навещать он не собирался (отец, как припомнил Евсеев, жил не в самой Теберде, а в ауле). Объектом его внимания стало кафе, прилепившееся одним боком к обрыву речки — притока Теберды. Здесь Ашот пробыл дольше, чем в ресторане. С буфетчиком-мужчиной, который принимал заказы и сам же получал-деньги, он обменялся несколькими репликами. Но главной целью его визита оказалась раздатчица. Получая свой шашлык в окошке раздачи, он сказал несколько слов немолодой женщине, собиравшей посуду и относившей ее на мойку.
Женщина ответила что-то на местном наречии, затем, оставив свои тарелки, исчезла. Ашот флегматично жевал мясо, ждал. Основательно стемнело. Через прозрачные стены «стекляшки-аквариума» за Джугамишевым можно было спокойно наблюдать с улицы, встроенные в потолке светильники хорошо освещали внутренность кафе. Он пристроился на свободном месте за столиком, занятым компанией немолодых, хорошо одетых мужчин. И за другими столиками посетители, чувствовалось, объединены были какими-то общими интересами. Но никто из них, видимо, не был знаком Ашоту. Евсеев, заглянувший на минутку в кафе, не рискуя быть замеченным при таком многолюдье, догадался что это — не местные, а отдыхающие из санаториев, расположенных в этой части селения. Ресторан, а потом кафе напомнили оперативникам, что ужин не помешал бы им тоже. Но о шашлыках никто не решился даже заговорить: Ашот мог сняться с места в любую минуту. Действительно, едва один из ребят, что помоложе, возвратился с бутербродами, как появилась посудница. Она поманила Ашота, и он, оставив недопитое пиво, поднялся. Едва он вышел, миновав полосу света, отбрасываемую стенами-окнами «стекляшки», к нему от темнеющей на берегу ивы, шагнул человек. После взаимных, негромко произнесенных приветствий, оба направились к мостику, переброшенному через речку, перешли через него, углубились в узенький извилистый переулок.
Домики стояли здесь, окружив себя частоколами заборчиков, выставив их вперед, как аванпосты, сами же словно играли в прятки, укрывшись среди густой зелени деревьев в глубине дворов. Провожатый Ашота подвел его к калитке, которая лишь угадывалась в темноте, открыл ее, сняв какой-то потайной запор, прошел вперед, дав знак следовать за собой. Оба скрылись в сенцах дома, окна которого светились ярко, сильно. Но занавески были пригнаны плотно, надежно охраняя все, происходящее внутри.
Дежурили, разделив ночь на смены. Свободные от дежурства спали в машине. До утра ровным счетом ничего не случилось. Из дома никто не делал никаких вылазок. Вероятнее всего, Ашот просто попросился к знакомым на ночлег. Это предположение подтвердилось тем, что утром Джугамишев появился один, без провожатых. На городском автобусе доехал до автостанции. Значит, в самой Теберде не было людей, могущих дать какие-либо сведения о Хачизове. Дальше в горы вела лишь одна дорога, к всемирно известной горно-спортивной базе — Домбаю. Да, в этой Мекке туристов могут затеряться какие угодно авантюристы. Рядом — перевал, дорога к морю. Не автомобильная — пешеходная, она проходит через горы. Там, где Карачаево-Черкессия смыкается с Абхазией.
В Домбае Ашот равнодушно прошел мимо экзотических теремов лыжной базы. Здесь как раз любят фотографироваться туристы. Вот и сейчас фотомастер размещал на фоне базы очередную группу. Ашот остановился поблизости, дождался, пока фотограф переписал всех желающих приобрести карточки, собрал свой инвентарь. Потом направился прямо к нему. Тот изобразил последовательно удивление, потом радость. Долго тряс гостю руку. Потянул в сторону кафе. По дороге завернули на стоянку машин. Фотограф открыл зеленые «Жигули» пятой модели, положил на сиденье кофр с аппаратурой, штатив.
Автомобиль несколько осложнял действия группы наблюдения. Если эти двое куда-то поедут, придется «висеть на хвосте».
Когда двое скрылись в кафе, члены оперативной группы собрались у машины.
— Надо попытаться выяснить, что представляет собой этот деятель от фотографии? — раздумывал Евсеев вслух. — Это раз. Надо попытаться узнать, о чем говорят эти двое? Два...
— Фотографа я знаю, он здесь давно, — сказал тот из помощников, который был постарше, по имени Камил. — А слушать придется вам самому, не исключена возможность, что нас тут может кто-нибудь узнать.
— Ясно. Тогда ждите меня в машине. Одна загвоздка: вдруг они станут говорить не по-русски?
— Вряд ли. Фотограф грузин, а этот грузинского не знает.
— Тогда легче.
Евсеев взял в буфете бутылку кефира и чистый стакан, пристроился за соседний столик, как можно ближе к беседующим. Успел заметить, что ничего спиртного у них нет. Сметана, сосиски, чай.
Капитан, напрягая слух, пытался вникнуть в смысл коротких реплик, которыми обменивались те двое. Дважды была упомянута фамилия «Нафталиев». Последнюю фразу, сказанную Ашотом громко и отчетливо, Евсеев расслышал хорошо.
— Тогда поедем в Северный приют.
— Давай поедем, — не стал возражать собеседник. — Сейчас поедем?
— А Нафталиев не ушел с группой?
— Нет, он должен прийти обратно.
— Тогда сейчас поедем. — Ашот отодвинул тарелку, одним глотком допил чай, поднялся. Евсеев выскользнул из кафе.
— Они едут в Северный приют, — сообщил он своим спутникам. — Это где?
— Это недалеко. И дорога хорошая. Машин много проезжает, на нас никто не обратит внимание.
— Упоминали какого-то Нафталиева. Он должен прийти с группой.
— Речь идет о проводнике, который сопровождает туристские группы при переходе через перевал.
Зеленые «Жигули» покинули стоянку. Машина оперативников тронулась вслед. Надо было убедиться, что капитан все понял правильно. Но после того, как машина, идущая впереди, миновав мост, свернула направо, к Северному приюту, Камил предложил немного отстать.
— Все равно тут сворачивать некуда. Не будем мозолить им глаза.
Евсеев счел совет разумным. Шофер сбросил скорость, потом газанул, когда идущая впереди машина скрылась.
— Так этот проводник, он что?..
Камил понял, что интересовало капитана.
— Летом, как только открывается перевал, через него идут группы туристов. Человек по сто сразу. Пользуются перевалом и те, кому дорога к морю здесь кажется самой короткой. Ведь Сухуми — рядом. Но нет никакого транспорта. Канатная дорога пока лишь в проекте. Если, скажем, лететь самолетом, то надо возвращаться в Минеральные Воды. Да и не всем самолет подходит. Паспорт, то-се...
— А пешком — всем подходит?
— Здоровым и сильным — всем. И приятно, и полезно. Так, вот, проводники. Без них никак нельзя. С горами можно только на «вы». Сотни опасностей: лавины, пропасти, обвалы... Неопытному человеку, не дай бог с горами остаться один на один. А заблудиться — пара пустяков. Вот для этого и проводники. Официально — они все на службе. Но ведь кроме услуг официальных могут быть ведь и услуги неофициальные? Похоже, здесь как раз такой случай. Что-то связывает интересующую нас личность одновременно и с Абхазией, и со Ставропольским краем. Точнее, с Карачаево-Черкессией.
К стоянке машин у Северного приюта подъехали, когда пассажиры зеленых «Жигулей» их уже покинули. Оставив Веню у машины, оперативники отправились к домикам турбазы. Минут через десять договорились встретиться, чтобы скоординировать совместные действия. За десять минут надлежало обнаружить интересующие личности. На весьма ограниченной территории турбазы этого было более чем достаточно.
Скоро Евсеев увидел Ашота и фотографа, беседующих с двумя мужчинами. Обоим было за тридцать, оба были смуглы, черноволосы. Один в синем шерстяном костюме с белыми лампасами, другой одет, как охотник или геолог. Человек в спортивном костюме скоро ушел. Внешность того, который был одет в штормовку, ничем не напоминала, приметы Хачизова. В спортивном костюме — очевидно, проводник. Поблизости от увлеченной разговором троицы капитан заметил Рафика — своего второго помощника. Он остановил девушку (судя по всему, незнакомую) и принялся ее о чем-то расспрашивать. Девушка кокетничала, польщенная вниманием симпатичного молодого человека. Вот она уже звонко смеется, а Рафик говорит ей, видимо, что-то смешное, а сам, стоя спиной к говорившим, прислушивается к их разговору. «Уверен, значит, что никто из троих его не знает. Видимо, что-то интересное услышал, раз решил проявить такую самодеятельность», — отметил Евсеев, направляясь к машине.
Камил уже поджидал его в автомобиле.
— Рафик ничем не рискует, — объяснил он. — А меня может вспомнить фотограф. Этот, который в штормовке, он не один. Сейчас увидите... Темная лошадка. Сейчас увидите... Темная лошадка. Но не Хачизов.
Этот второй не мог быть Хачизовым уже по причине маленького роста. Хачизов все же ближе к среднему. Об этом подумал Евсеев, когда все четверо появились у машины фотографа.
Они уже отъезжали, когда Рафик втиснулся на заднее сиденье.
— Похоже, опять ближе к дому будем двигаться.
Все смотрели на молодого человека вопросительно. Чувствуя этот всеобщий к себе интерес, Рафик поспешил объяснить:
— Они едут в Черкесск.
— Это точно?
— Как то, что я сижу с вами в машине. Фотограф сказал вполне отчетливо: «Нет, в Черкесск я не могу поехать. Это слишком далеко, у меня работа, да и бензину мало». Ашот сказал, что заплатит за потерянный день, за бензин. Тот посопел обиженно, но все же пробурчал: «До Черкесска я вас довезу, а сам сразу обратно». Ашот стал жать ему руку, сказал, что в долгу не останется и что в Черкесске не заставит его стоять ни секунды.
Машина фотографа уже скрылась за поворотом, когда они тронулись.
— Кто они, не удалось выяснить?
— Тот, который появился первым, прибыл из Сухуми. Это я понял потому, что фотограф интересовался погодой в столице Абхазии. Не потому, что ему это и в самом деле интересно, а чтобы показать свою причастность к этому городу. Ашот поинтересовался Хачизовым, но, как я понял, вразумительного ответа не получил. Потом появился этот, маленький. Ашот поздоровался с ним, как со знакомым. Откуда он взялся — непонятно. Тот, что из Сухуми, слушается его, в рот заглядывает. Похоже, он главный. Это он сказал, что надо ехать в Черкесск. Вот тогда-то Джугамишев и заторопился, стал уговаривать фотографа.
В это время их обогнал мотоцикл с коляской.
Все обратили внимание на эту одиноко несущуюся машину. Каждый отреагировал по-своему.
— Куда торопится, на тот свет?
— Откуда он вывернулся? — недоумевал Камил. — На стоянке мотоцикла я не видел.
— Наверно, кого-то привез, — предложил Евсеев. — Проехал дальше стоянки раньше нашего, вот мы его и не видели.
И только Рафик воскликнул, хлопнув себя по лбу:
— Вот почему низкорослый что-то бормотал про мотоцикл! Это он приехал на мотоцикле! Видимо, хотел встретить этого, сухумского.
— А уехать решил с большим комфортом. Все понятно.
— Понятно-то понятно, — в раздумье произнес Евсеев. — Но мне сдается, что я эту тележку видел в Домбае.
— Может, другой? Мало ли мотоциклов?
— Да нет, пожалуй. Цвет коляски не тот, что цвет самой машины. Я обратил на это внимание, когда проходил мимо автомобильной стоянки в Домбае. Зачем они туда заезжали?
— Да мало ли зачем? По пути заскочить — минута дел...
Объяснение вполне приемлемое. Однако Евсеева оно не удовлетворило. Разгадка этой детали сейчас ничего не давала, даже если она и имела какое-то значение. Подумать было о чем: если Хачизов в Черкесске, предстоит серьезная операция по его задержанию. Его и всех его помощников. А коль скоро все они слетаются в этот город, можно почти с уверенностью сказать, что драгоценности из Чеканского магазина перекочевали сюда. И если так, то эта же публика и поможет обнаружить дядю и его изворотливого племянника. Да и Бахарев не сидит, конечно, сложа руки. И местные товарищи, надо думать, не дремлют.
А пока впереди — опять дорога. Километров сто — не меньше. Пустяк, конечно, по такому асфальту и для такой машины. Если бы не необходимость следить за другой, такой же, мчащейся впереди в сопровождении мотоцикла.
Глава девятнадцатая
ОПАСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ СТАРИННОГО ХРАМА
Зеленые «Жигули», преодолев большую часть Военно-Сухумской дороги, достигли пригорода Черкесска. Здесь фотограф подрулил к неприметному одноэтажному дому, высадил своих пассажиров и, развернувшись, умчался обратно. Вскоре здесь же остановился мотоцикл. Машина оперативников проскочила, не задерживаясь, мимо переулка, в котором стоял дом. Оказавшись вне видимости, остановились тоже. Оба помощника капитана высадились: надо было установить адрес, по нему владельца дома. Евсеев проехал в городской отдел.
День уже далеко шагнул в послеобеденную пору. Надо было поспешить: предстояло скоординировать свои
действия с местными товарищами, разыскать Бахарева, чтобы объединить усилия в предстоящем поиске и, если возникнет необходимость, в захвате.
Бахарев был несказанно рад появлению Евсеева. Он только что побывал у своего коллеги — начальника уголовного розыска, которого посвятил в создавшуюся ситуацию. Дядю разыскать не составляло большого труда; более того, он признался, что живущий на Урале племянник прислал ему телеграмму. Сообщал в ней, что скоро приедет. Но вот уже минула неделя, а о племяннике ни слуху, ни духу. Последнее озадачило не только дядю. В чем дело? Перехватили? Передумал? Сообразил, наконец, что сам лезет зверю в пасть?
Дядя Гены Коршунова был обеспокоен еще одним обстоятельством. Не далее как вчера его остановили на улице двое неизвестных. Как ни странно, они тоже спрашивали про Гену. Почуяв недоброе, Яков Прокофьевич о телеграмме умолчал, а сказал, что с племянником давно не имеет никаких связей. Спрашивавшие довольно прозрачно намекнули, если дядя Яша (а эти двое по возрастному признаку лишь с большой натяжкой могли подойти под разряд его племянников) будет темнить, то большие неприятности ему обеспечены. На размышление дали два дня сроку. О разговоре советовали помалкивать.
— Сам «дядя Яша» вряд ли решился бы обратиться в милицию, — рассуждал Бахарев, — у него такое прошлое, что он контактов с представителями правопорядка старается избегать. Они бы договорились с племянником, я думаю. Однако с дядей надо быть помягче. И появление племянника легче через него обнаружить (если он, конечно, появится), да и этих двоих — тоже.
— К этим двоим, кажется, есть еще подход.
И Евсеев принялся подробно рассказывать обо всем, что ему удалось узнать, наблюдая за передвижениями Ашота.
Сообщение о прибытии новых гостей требовало внести коррективы в первоначальные планы. Ведь если Хачизов здесь, это многое меняет.
Обстоятельства вынуждали занять выжидательную позицию. Хачизова в любом случае нет в том доме, куда так открыто привезли Ашота. В гостиницу он вряд ли сунется. Остается одно — наблюдать за домом. Должны же где-то встретиться Ашот с Хачизовым?
Данные о хозяине, у которого находился сейчас Ашот и его спутники, ничего не проясняли. Живет человек, работает. Семейный. Ни в чем предосудительном не замечен. И в теперешних его действиях нет ничего недозволенного. Сходил в магазин, вернулся с двумя сумками продуктов, бутылок. Дело к вечеру, похоже, что сегодня ничего не произойдет.
Бахарева и его спутников поместили в гостинице. После обеда расположились на отдых. Договорились, что если еще до утра начнется какое-либо шевеление, их предупредят телефонным звонком, вышлют машины. Группа будет усилена.
Звонок раздался около полуночи: «Сейчас подойдут машины».
В считанные секунды все были готовы. Машины уже стояли у подъезда. Слабо светились подфарники, двигатели были запущены.
Машина, в которой ехал Евсеев, через несколько кварталов притормозила. Какой-то человек сел к ним — в темноте не разглядеть.
— На выезд из города! — произнес он негромко, словно боясь, что кто-то услышит его вне автомобиля. — Мотоцикл выехал в сторону Карачаевска. За ним идет машина с наблюдателем. Как только мы их нагоним, наблюдатель передаст объект нам. Разрешите... — Он потянулся к трубке радиотелефона через плечо Евсеева. — Я пятый, я пятый!
— Слышу вас, — отозвалась трубка. — Объект движется на большой скорости в сторону Карачаевска. — Никуда не сворачивал. Держим в поле зрения. В машине — трое. Как поняли?
«Пятый» подтвердил, что все поняли и передал трубку Евсееву.
— Берите руководство операцией на себя. Они передадут нам сейчас объект и вернутся в город, но будут на связи на случай каких-либо непредвиденных осложнений. — И запоздало представился: — Старший лейтенант Амиров.
Красные фонарики впереди идущей машины замаячили вскоре. Помигав фарами, водитель пошел на ее обгон. Веня, который вез Камила и Рафика, последовал его примеру.
— Видите мотоцикл? — спросила трубка.
Водитель показал на прыгающую впереди красную точку.
— Видим, — сказал Евсеев. — Можете возвращаться.
Движение по Военно-Сухумской дороге не прекращается и ночью. Разумеется, оно не такое интенсивное, как днем. Но опасаться, что на мотоцикле заподозрят преследование, оснований не было. И все же надо быть предельно осторожными.
Евсеев терялся в догадках. Почему уехали из города? Опять в Теберду? Там обосновался Хачизов? Или куда-то еще?
Ехали уже больше получаса. За стеклами промелькнуло несколько поселков. Амиров, сидящий сзади, называл их. Когда огней по сторонам стало особенно много, а впереди засветилось зарево, он в очередной раз определил координаты:
— Подъезжаем к Карачаевску.
А еще через несколько минут произнес с тревогой в голосе:
— Внимание, они сворачивают с главной магистрали.
Шофер сбросил скорость.
— Что будем делать? Свернуть сразу — обратим на себя внимание.
— Что там может быть впереди? Деревня, хутор?
— Там развалины старого храма. И ничего больше. Они направляются туда. Что они там забыли?
— Не подходящее для экскурсии время, — резюмировал шофер. — Их уже не видно. Поедем? Потихоньку, без света, на подфарниках.
Евсеев согласился.
Так проехали метров триста. Потом водитель, напряженно вглядывавшийся в дорогу, притормозил:
— Все. Дальше на машине не проехать. Опасно.
Впритык затормозила вторая машина.
— Храм тут рядом, — рассуждал Амиров. — Мы можем подняться к нему по тропе. Они нас не намного опередят. Идем?
— Другого выхода у нас нет.
Вышли на дорогу, прислушались. Открылись дверцы второй машины. Амиров предупредил.
— Не хлопайте дверцами. Сейчас пойдем. Захватите фонари. И подфарники надо выключить.
Сразу наступила полная темнота.
Амиров пошел впереди, указывая дорогу. За ним Евсеев, Камил и Рафик замыкали шествие. Шоферы остались у машин.
Ночь была чернильно-черной. Мерцавшие в глубине неба звезды, даже не пытались бороться с темнотой. Стрекотание цикад не нарушало тишины: эти звуки и тишина воспринимались как одно целое. Свежий ночной воздух, полный ароматов растений, был неподвижен. Мир и покой царили вокруг.
По мере того, как цепочка поднималась среди, камней, становилось ясно, что расплывчатые очертания темной громады впереди рукотворного происхождения. Прошли еще десяток метров, и узкая тропа влилась в более широкую, почти дорогу. На этой дороге виднелся темным пятном какой-то громоздкий предмет. Он источал запахи бензина и подогретого машинного масла. Мотоцикл! Это он остывал в ночном мраке.
«Никого не оставили, стало быть, уверены, что за ними никто не следит. Или им просто нечего опасаться?» — отметил про себя Евсеев.
Миновали церковную ограду. Осторожно подошли к воротам храма. Глаза, уже привыкшие к темноте, различали черные проемы окон. От всего веяло мрачной тайной. За века храм накопил их немало.
О внутреннем расположении храма никто, кроме Амирова, не имел представления. Нигде ни звука. Куда скрылись люди? Наверняка здесь есть какие-то подземелья.
— Вы ориентируетесь в этих руинах? — шепнул капитан Амирову.
— Более или менее. Сейчас надо проверить, задержались они в центральном зале или прошли на второй этаж. Если они здесь, внизу, мы их услышим. Может, вспышкой света себя обнаружат.
— Что их привело сюда? Какой смысл в этой ночной экскурсии? Или кто-то здесь прячется?
— Все может быть... Давайте слушать. Оставайтесь у входа, я проникну внутрь, разведаю, дам вам знать.
Прошла томительная минута. По-прежнему ни звука. Кто-то потянул Евсеева за рукав. Услышал шепот Амирова.
— Внизу их нет. Будем подниматься?
Евсеев откликнулся тоже шепотом:
— Да. Только предупрежу ребят.
Отдал приказания: «Стойте здесь, внимательно слушайте. Мы пойдем внутрь. Оружие, фонарики — держите наготове». Потрогал рукоятку пистолета, но вынимать из кобуры не стал: какой от него прок в такой темноте? Левой рукой зажал фонарик, держа указательный палец на кнопке. Осторожно шагнул вслед за Амировым. Сразу охватила могильная сырость. Затхлый воздух, присущий внутренним помещениям заброшенных зданий, был особенно заметен сейчас по контрасту с чистым горным воздухом.
Лишь угадывая присутствие своего провожатого, по слуху следя за его перемещением, Евсеев медленно продвигался в кромешной тьме. Больше всего он боялся наткнуться на что-нибудь такое, что, загремев, обнаружило бы его присутствие. «Какая-нибудь консервная банка может наделать шуму на всю церковь»...
От страшного крика, который донесся откуда-то сверху, потом сбоку, снизу и мгновенно оборвался, содрогнулись оба. Евсеев рванулся вперед, включив фонари. Туда на крик!
Поток света вырвал из мрака стены, углубления ниш, своды. Капитан нащупал лучом каменные ступени узкой лестницы, ведущей вверх. Опережая своего спутника, он бросился к этим ступеням, стал взбегать по ним. Первый марш лестницы заканчивался небольшой площадкой. Под прямым углом вставала за ней арка входа, за которой начинались новые ступени. На этих ступенях, словно привидение, возникла фигура человека, который, выставив ладони вперед, инстинктивно пытался укрыться от ослепляющего света, бьющего в лицо. Парализованный страхом, он не мог сообразить, куда кинуться. Спустя мгновение, его уже держали.
— Ведите его к выходу! — приказал Евсеев.
Человек не сопротивлялся. Он был напуган, ошарашен, и, кажется, не столько встречей с оперативниками, а больше тем, что произошло где-то там внутри храма.
Подсвечивая себе фонариком, Евсеев двинулся по лестнице дальше. Следующая площадка представляла собой тупик. Но, пошарив лучом по стенам, капитан обнаружил на внутренней стороне, на высоте примерно сантиметров в семьдесят, подобие двери, скорее лаз, за которым опять начиналась лестница. Конца ее фонарик не просвечивал. Капитан замер, напрягая слух. Продвижение вперед было сопряжено с риском. Он обнаружит себя фонариком, а где гарантия, что из-за неосвещенного угла не обрушится ему на голову какой-нибудь тяжелый предмет? Без фонарика тоже нельзя: улетишь в какую-нибудь дыру, костей не соберешь... Может быть, тот, кто кричал, сорвался? Или... Сейчас придет Амиров, надо посоветоваться с ним.
Тот подал голос откуда-то снизу:
— Товарищ капитан, у храма несколько выходов. Они могут уйти через них!
Евсеев понял, что в таком случае обыскивать храм бесполезно. «Мотоцикл!» — мелькнула мысль. Он сбежал вниз, метнулся к выходу. И тотчас услышал голос Рафика:
— Стой! Стрелять буду!
Отчетливо стал слышен удаляющийся топот бегущих. Туда, в направлении к мотоциклу.
— За ними! — бросил капитан в темноту и, доставая на ходу пистолет, пустился вдогонку. Амиров присоединился к нему. Камил и Рафик, остались с задержанным.
Преимущество было у убегавших. Ясно, что у мотоцикла они окажутся раньше. Вот уже послышался характерный звук, издаваемый педалью заводки при качании. Потом заводивший сообразил, что достаточно просто дать машине покатиться под уклон, включив скорость, потому что послышались хлопки цилиндра — не успевшая остыть машина сразу завелась. Перекрывая треск мотоциклетного двигателя, хлопнул выстрел: капитан разрядил свой пистолет в звезды. Убегавших выстрел только подстегнул. Тот, что вскочил в седло водителя, дал газ, движок взревел, как на гонках. Капитан выстрелил еще раз. Стрелял он теперь не для беглецов: надо было привлечь внимание водителей своей группы. Поймут, насторожатся, услышав шум мотоцикла, догадаются перекрыть дорогу.
Они догадались: развернули машины так, что объехать их было невозможно. К тому же беглецы поздно заметили препятствие: ехали без света — и чуть было не врезались в машины. Водитель мотоцикла резко крутанул руль и наскочил на камень, лежащий на обочине дороги. Удар пришелся по ноге, машина завалилась набок. Вылетевший с заднего сиденья пассажир, поднявшись, попытался бежать, но оперативники уже подоспели. Водитель мотоцикла, похоже, сломал ногу. Он стонал с подвыванием, обхватив колено и скрючившись на траве. Рафик подвел третьего задержанного. Поочередно осветив фонариком каждого, Евсеев понял, что Ашота среди них нет. В раненом узнал того, которого видел на перевале, в Северном приюте. Двое других — незнакомы. Не было низкорослого. Отсутствовал и хозяин дома.
— Где Ашот? — резко спросил капитан. — Где остальные? Кто кричал?
Тот, к кому он обратился, молчал, шевеля губами. Молчал и тот, которого схватили в храме. С раненым вообще было бесполезно говорить.
— Ладно, давайте их всех по машинам, — распорядился Евсеев. — Раненого — в больницу. Этих двоих — в камеру. Утром разберемся. Мы с Амировым вернемся: надо искать Джугамишева. Доедете до больницы, скажите, чтобы прислали «скорую». Чует мое сердце — есть пострадавший: от удовольствия так не кричат. Ну и, конечно, пусть высылают подмогу.
Когда красные фонарики автомобилей растворились в темноте, Амиров посветил на мотоцикл:
— Этот так и оставим?
— А куда он денется? Приедут ребята, разберемся. Пойдемте в храм. У меня дурные предчувствия.
— А меня беспокоит одно обстоятельство. У нас, как у новобранца при сборке винтовки, оказалась лишняя деталь. Даже две. На мотоцикле, когда мы за ним ехали, было три человека. И сейчас у нас трое. Но не те... Во всяком случае, двое из них. Значит, есть еще, как минимум, двое. Кто-то скрывался этой ночью в храме. Да двое ли?
— Ну, сейчас-то вряд ли кто там остался. Выстрелы, шум, крики...
— Все равно надо быть осторожными. Может, подождать, пока прибудет подкрепление да станет посветлее?
— Кто-то кричал. А если этот человек еще жив, раненый? Надо действовать. Максимум внимания, и будем подстраховывать друг друга.
Тишина заброшенного храма не угнетала теперь так сильно, как вначале. Погоня, связанные с ней волнения, притупили первоначальное чувство неуверенности и боязни. Внимательно осмотрев первый этаж и ничего не обнаружив, снова стали подниматься по лестнице, на которой столкнулись с «привидением». Медленно преодолевали ступени, ощупывая фонариком стены. Дошли до той площадки, где Евсеев прекратил поиск.
— Здесь осторожней, товарищ капитан, — предупредил Амиров. — Сорваться можно. Открытые проемы и никаких ограждений. А высота, дай боже! Сюда альпинисты тренироваться приходят. Как бы нам по ночному делу не ссыпаться...
— Что им гор не хватает для тренировок, — спросил Евсеев, думая совсем о другом. Он, кажется, начал догадываться...
— Где это опасное место?
И увидел засиневшие в темноте прямоугольники не то окон, не то дверей, ведущих в никуда. Осторожно выглянув наружу он не увидел ничего, кроме темноты. Оконные проемы начинались у самого пола; чтобы посмотреть вниз, надо было держаться за косяк. Капитан попытался разглядеть что-нибудь с помощью фонарика. Но свет его бесследно растворялся во мраке. Тогда Амиров включил небольшой переносный прожектор, захваченный из машины. Посветил, помогая фонарику Евсеева. Световое пятно легло на камни. Они увидели совершенно отчетливо: там, внизу, на камнях, лежит человек. Евсеев зябко повел плечами, Амиров подавил готовый сорваться крик.
— Скорее туда!
Евсеев первый ринулся вниз, гулко стуча каблуками по каменным ступеням. Догнавший его Амиров тронул за плечо, когда капитан в нерешительности остановился, очутившись за воротами.
— Я знаю, как туда пройти. Идемте.
Они стали обходить здание по периметру. Тропа резко уходила вниз: перепад уровней площадок у фасада и противоположной стороны был, видимо, велик сам по себе. Да плюс высота стены. Евсеев подумал: «Не меньше тридцати метров. Это значит...»
Человек, раскинув руки, лежал лицом вниз. Евсеев приподнял голову. Тонкая струйка крови застыла в уголке рта, кровью был залит висок. На лице — выражение скорее гнева, чем страха. Открытые глаза были неподвижны. Ашот был мертв.
— Поднимитесь наверх, встретьте... «Скорая» должна подойти.
Амиров растворился в темноте. Евсеев, чуть отойдя в сторону, присел на камне. Через несколько минут послышались голоса.
Когда врач и кто-то с ним еще занялись трупом, Амиров нагнулся к Евсееву.
— Товарищ капитан, мотоцикл исчез.
Глава двадцатая
ПРИМАНКА ДЛЯ ЗАПАДНИ
Кто и зачем столкнул Джугамишева со стены? Что побудило его пойти со своими убийцами в такое опасное место да еще ночью? Кто угнал мотоцикл (один человек, двое, трое)? Где Хачизов?
Вот вопросы, которые стояли теперь перед Евсеевым, Бахаревым и местными товарищами, для которых после убийства Ашота это дело выдвинулось в разряд первостепенных. Вопросы требовали немедленного решения.
Хозяин дома, в котором останавливались сухумский гость, Ашот и приезжий маленького роста, готов был рассказать все, но ему нечего было рассказывать. По его словам, два дня назад к нему приехал Гамид, родственник из Теберды, тот самый, низкорослый, и сказал, что поживет пару дней: дела у него в Черкесске. Потом попросил свозить его в Домбай, в Северный приют. Зачем? Кого-то повидать, мол, надо. Пришлось отпрашиваться с работы. Ночью вдруг понадобилось отвезти того, которого называли Ашотом, в Теберду. Но ни ночью, ни утром никто из них не появился. Да, конечно, он хорошо понимает, что не имел права передавать управление мотоциклом. Но что было делать? Он не может болтаться где-то по ночам. У него семья, утром на работу надо. А как откажешь родственнику? Нет, кроме тех двоих, что приехали на зеленой машине из Северного приюта, он никого не видел, не знает. Из троих задержанных, которых ему показали, он признал только одного, о котором говорил уже.
Зато «дядя Яша» с уверенностью указал на тех двоих парней: они интересовались племянником и сулили неприятности.
Едва начало светать, храм обыскали до последнего сантиметра. В одной из келий обнаружили свежие следы пребывания людей,. Пустые пачки от сигарет «Апсны», выпущенных Сухумской табачной фабрикой, бутылки из-под вина «Саэро», остатки мяса, сыра, хлеба, завернутые в газету «Сабчота Абхазети» трехдневной давности. На выступе стены был прилеплен оплывший огарок свечи.
Гадать, кто все это оставил, не приходилось. Да и парни не стали запираться. В том, что они провели две ночи в монастыре, криминала не было. Но когда их действия стали связывать с шантажом «дяди Яши», а тем более с убийством, они принялись «темнить», насколько были способны. Но поскольку договориться у них не было возможности, мало-помалу стали сообщать необходимые следствию сведения. Выяснилось, что они прибыли из Сухуми. С целью, которая в деталях не была известна им самим. Им обещали хорошо заплатить, если они разыщут некоего Овчинникова Якова Прокофьевича и выведают у него местонахождение племянника. Поручение это дал (а также обещал заплатить) Дато, тот, что со сломанной ногой. Никто никого убивать им не поручал. Овчинникова следовало припугнуть, не больше. В том, что произошло в монастыре, они не виноваты. Они даже не знают, как все случилось. Им велено было не соваться в гостиницы. Ночь приготовились скоротать в монастыре. Проводить там время посоветовал Гамид. Его и Дато слушался. Но и Гамид — не самый главный. А кто — им неизвестно. Они сидели, мирно беседовали, уже собирались устраиваться на ночлег, как раздался условный свист, которым предупреждал о своем появлении Гамид.
Потушив на всякий случай свечу, парни пошли навстречу. Вещей у них никаких с собой не было, собирать ничего не надо, стали спускаться. Уже где-то совсем рядом Гамид окликнул их. Они отозвались, и тут раздался тот страшный крик. Бросились в разные стороны. Один тут же наткнулся на оперативников, другой выбежал через южный вход.
Дато поначалу отвечать на вопросы отказался. Он демонстративно стонал, хватался за поврежденную ногу (перелома, как выяснилось, не было, но ушиб сильный). Прикидывался случайным свидетелем несчастного случая, божился, что ничего не знает, отрицая даже заведомо-бесспорные факты. За остаток ночи он сочинил свою версию происшедшего. И хоть была эта версия наивной и жалкой, он со всей серьезностью отстаивал эту чепуху. Плел что-то насчет того, что подвыпивший Ашот затеял с Гамидом спор, кто лучше знает руины храма близ Карачаевска. Джугамишев на пари брался найти дорогу на галерею, проходящую через верхний ярус молельных помещений, с завязанными глазами.
— Ну и фантазия! — усмехнулся Амиров. — Получше-то ничего не мог придумать? Что-то я не видел никакой повязки. Ни на глазах покойника, ни в каком другом месте.
— Наверно, спала. Упал человек — слетела повязка, — подумав немного, поднял указательный палец, словно вспоминая. — Да, правильно. Это сперва хотели повязку. Но там так темно, что и повязки не надо...
— Вот тут спорить не стану. Действительно, темно было, сами убедились. И хватит сказок! Днем мы изучили следы на площадке. Внимательно изучили. Так вот, ваши следы и следы убитого находятся в таком положении, что совершенно очевидно: вы столкнули Ашота. На слое пыли это так все хорошо отпечаталось, что у суда сомнений не останется.
Побледнев, Дато вскочил, забыв про больную ногу.
— Нет! Это не мои следы! Не я толкнул! Это Гамид. Мне не за что было убивать его.
Инстинкт самосохранения возобладал над всеми другими чувствами. Дато заговорил. Он подтвердил, что появление «агентов» из-за хребта действительно связано с поисками племянника Овчинникова. Его, Дато, послал Хачизов. Где он сейчас — неизвестно. Но завтра надлежит дать телеграмму в Сухуми. На главпочту, до востребования. На имя Ломейко Тамары Александровны. В зависимости от того, как будет складываться ситуация. Либо: «Дядя с выездом задерживается», в случае если нет пока ничего определенного. Либо: «Дядя приехать не может, приезжай сама». Это в случае, если племянник появился и ожидается товар при нем.
— Какое отношение ко всему этому имел Джугамишев?
— Мне об этом ничего не известно. Я только понял, что он чем-то помешал Хачизову. Это знает только Гамид. Когда в Северном приюте Нафталиев привел Ашота и он стал спрашивать, где Хачизов, я сказал, что не знаю. Но вдруг появился Гамид и сказал, что надо ехать в Черкесск и ждать там Хачизова. И туда придет Рамо.
— Рамо? Кто это?
— Я понял, что это брат Ашота. Когда приехали в Черкесск, Гамид сказал, что Рамо нельзя показываться в городе, его ищут. Но ночью они поедут к нему. Ашот очень волновался и все торопил Гамида. Я не хотел ехать. Гамид сказал: «Надо, Хачизов велел». И я поехал.
Так вот на чем сыграл этот коротышка! Вот что стало приманкой для западни.
— Я не толкал Ашота. Я шел сзади и сам боялся упасть, было так темно. Потом Гамид остановился, кому-то свистнул. Кто-то ему ответил, и — крик... Я побежал. Куда — не знаю. Кто-то бросился навстречу, толкнул, но я бежал вперед за тем, кто убегал. Когда оказались снаружи, я понял, что бегу за Гамидом. И еще кто-то за нами. Гамид отстал, я наткнулся на мотоцикл. Увидел, что ключ зажигания на месте, стал заводить. Подбежал еще кто-то. Не Гамид. А когда загрохотали выстрелы, я совсем перепугался. Поэтому наехал на камень.
Значит, Гамид один... осуществил свой план и бежал. Следы позволили восстановить картину убийства. Рассказ Дато и показания задержанных парней дополнили ее очень важными деталями.
Хитро все было задумано. Свистел, голос подавал, чтобы полностью усыпить подозрения Ашота. Ведь прислушиваясь к голосам и стараясь уловить знакомые родные интонации, Ашот утратил всякую осторожность. А стоял на краю пропасти. Гамид зашел сбоку (это действительно удалось установить по следам, оставленным на налете пыли. Никому из задержанных эти отпечатки не принадлежали — слишком были малы) и с силой толкнул Джугамишева. Падая, тот все же инстинктивно ухватился за косяк проема. Гамид оторвал руку (следы этой короткой борьбы тоже удалось рассмотреть при помощи сильной лупы). И тогда Ашот закричал...
Он пошел на встречу с братом, о судьбе которого не знал уже несколько лет. Но ведь у него была еще цель — встретиться с человеком, бросившим тень на его доброе имя, восстановить справедливость. Это стоило ему жизни.
...Мотоцикл обнаружили в реке Клухор, недалеко от Северного приюта. Эта находка позволяла сделать предположение, что убийца выбрал, чтобы скрыться, дорогу через перевал.
Глава двадцать первая
ПЕРЕВАЛ
Стремительно развернувшиеся события требовали самых энергичных действий. И не только для поисков Гамида.
Во-первых, дал о себе знать Гена Коршунов. Сработала задействованная Бахаревым система оповещения всех возможных точек, в которых могло обнаружиться «рыжье» — золото. Новоявленный Монте-Кристо «проклюнулся» в Кисловодске. Уже по характеру самого преступления можно было предположить, что парень осторожностью не отличается. Задержка с прибытием к дяде могла означать, кроме всяких привходящих случайных причин, главную — беспечность. Загулял, утратил осторожность, начал в открытую торговать: наличные, видимо, кончились. Сигнал из курортного города полностью подтверждал это предположение. Надо было срочно туда выезжать. Пятигорские товарищи, возвращавшиеся к себе, готовы были доставить Бахарева.
Во-вторых, из Сухуми поступило сообщение, что в одну из сберегательных касс города предъявлен билет лотереи ДОСААФ с интересующим Чеканскую милицию номером. Как известно, для оформления выигрыша требуется паспорт. Так вот, установлено, что билет оказался в руках жительницы Сухуми Ломейко Тамары Александровны. Таким образом, подтвердилось наличие названного Дато адресата и его связи с Хачизовым. Установлено, что названная гражданка — пенсионерка, живет в собственном доме. Намерена получить машину, не деньги. Утверждает, что билет купила в своем городе, хотя билеты данной серии в Закавказской зоне не распространялись.
И, наконец, в-третьих, из Чеканска по фототелеграфу передан, составленный по приметам, портрет Миши-Хачизова. Оказалось, что в местных картотеках есть похожий портрет, тоже составленный по приметам. Украшает он личное дело Гайсана Эфендиева, который разыскивается за крупное мошенничество. Разъезжая по городам и весям на небольшом автофургоне, Эфендиев обхаживал руководителей потребительских обществ и по липовым доверенностям получал дефицитные дорогостоящие продукты, такие, как мед, сухофрукты, перец.
Счет шел на тысячи рублей. Директора заготконтор соблазнялись обещаниями мнимого покупателя-оптовика помочь достать шифер, многослойную фанеру, кровельное железо и арматурную сталь. Автофургон уезжал, увозя бидоны с медом, сотни килограммов кишмиша, тонны молотого перца, а райпотребсоюзы тщетно ожидали лимитированных строительных материалов, а также денег за продукты. Письма-обязательства, в которых давалась гарантия оплаты за выданные товары, оказались фальшивыми. Завороженные видом автофургона с иногородним номерным знаком, а еще тем, что оборотистый коробейник свободно оперировал названиями сортаментов арматурных прутков, металлических уголков, кровельных материалов, работники потребительских обществ долго не могли поверить, что их околпачил ловкий проходимец. Эта замедленная реакция каждый раз давала Эфендиеву возможность скрываться без особой спешки. Но, видимо, чувствуя, что тучи над его головой сгущаются, он временно покинул пределы Северного Кавказа. Можно было понять после этого во много раз возросшую заинтересованность местных работников правопорядка в поиске, который вели их уральские коллеги.
Предстояло выработать общий план и, исходя из этих данных, скоординировать действия.
Мнение хозяев сводилось в основном к следующим мероприятиям. Специально организованной группе немедленно вылететь в Сухуми. Через Ломейко попытаться выйти на Хачизова — Эфендиева. Гамида встретить в конечной точке маршрута, идущего через перевал, — в Южном приюте и даже раньше. Это могут сделать работники абхазской милиции. Они же могут проследить его путь до Сухуми. Гамид наверняка приведет к тому же Эфендиеву. Возможно, что какими-то сведениями располагает и задержанный Коршунов: он ведь тоже был связан с Хачизовым и даже действовал какое-то время под его руководством. Пока не ускользнул от него.
У плана выйти на Хачизова через Гамида есть, однако, существенный недостаток: неизвестно, какие каналы связи использует эта шайка. Это может быть и телефон. Это могут быть и контакты с людьми, могущими передать сигнал тревоги по какой-то закодированной системе, да и без всяких ухищрений могут предупредить, вспугнуть. А такой матерый жулик, надо думать, очень осторожен.
Кроме того, «вести» Гамида от Южного приюта до Сухуми будет непросто. Трудно предсказать, каким он воспользуется транспортом, чтобы преодолеть стокилометровый участок пути.
Что касается возможности выйти на Хачизова через гражданку Ломейко, предъявившую билет, то и тут свои сложности. Неясно, что связывает пенсионерку с этим мошенником. Можно только с уверенностью заключить, что машину она берет не для себя. Для подарка кому-либо? Сыну там, внуку... Есть, конечно, и такие пенсионерки, которые способны выложить сумму, составляющую десятилетний заработок шахтера. Но, по всей вероятности, здесь не тот случай. Человека, с которым Хачизов совершил спекулятивную сделку, он не стал бы просить об одолжении — получить телеграмму до востребования. И это не сообщник. Сообщника он не стал бы так в открытую выставлять. Наивная старая женщина, для которой нетрудно сочинить вполне правдоподобную историю, может из элементарного чувства благодарности выполнить просьбу, не особенно вдаваясь в суть ее содержания. А если это так, то она ничем не сможет оказаться полезной.
И все же попытаться надо. Хотя бы дать телеграмму на имя Ломейко. В том варианте, который предусматривает его выезд. Что-что, а дележ награбленного Хачизов своим сообщникам не доверит, поедет сам. И тут появится возможность его взять.
Возлагать надежды на момент передачи телеграммы особенно тоже не приходится: без всякого контакта может быть подан совершенно незаметно условный знак, сигнал, заранее обговоренный. При многолюдье почтамта это делается совершенно незаметно.
Согласившись, что телеграмму дать необходимо, Евсеев и Бахарев в отношении Гамида были иного мнения: если он двинулся через перевал, его надо брать здесь.
Местные товарищи в деликатных выражениях объяснили своим уральским коллегам, что это не так просто. Если Гамид пристроился к туристской группе (а уверенности в этом нет), то он вышел в пять часов утра и идет уже несколько часов. Пешком его уже не догнать, а колеса там не помогут.
— А если вертолет?
Нельзя, конечно, сказать, что идея эта никому не приходила в голову, но горы есть горы. К тому же Гамид, увидев, что за группой следует вертолет, может догадаться, что это — за ним. Спрячется в горах, отсидится до ночи, тогда его еще труднее будет искать.
— Можно взять собаку.
В конце концов, у идеи — действовать немедленно — нашлись сторонники среди местных товарищей. Вариант с вертолетом был одобрен. Решено было, что полетят Евсеев и Амиров. Бахарев отбыл в Кисловодск.
По дороге на аэродром Евсеев поинтересовался, как, по мнению Амирова, будет добираться из Сухуми в Черкесск Хачизов.
— Самый быстрый путь, естественно, самолет. До Минеральных Вод. Там автобус, такси.
— Вероятно, есть смысл установить дежурства в аэропорту.
— Это, конечно, будет сделано. Но в этих краях Хачизов предельно осторожен. Ему каким-то образом удается ускользнуть, хотя ищут его уже не первый год. Больше надежды задержать его в Черкесске.
Спустя час, Евсеев, не отрываясь, смотрел в иллюминатор вертолета на развернувшуюся перед ним картину Главного Кавказского хребта. Стеной вставали величественные великаны в голубовато-белых ледяных шлемах. Но воспользоваться редкой возможностью — полюбоваться горами с высоты птичьего полета — капитану мешали думы о предстоящей операции. Это поглощало его целиком.
Капитан вглядывался в слепящую снежную равнину, неожиданно возникшую среди скальных громад. Черная пунктирная линия обозначилась на ней вдруг. Это цепочкой, протянувшейся не на одну сотню метров, двигалась туристская группа. Помощник пилота, наблюдавший за землей через экран телевизионно-оптического визира, знаком пригласил капитана. Всеволод Петрович различал теперь даже лица идущих. Манипулируя наводящим устройством, капитан стал просматривать всю цепочку. Задача облегчалась тем, что больше половины идущих составляли женщины.
— Вот он! — Евсеев сделал знак Амирову. Тот, заняв место капитана, через минуту кивком головы подтвердил:
— Да, он.
Капитан крикнул на ухо пилоту:
— Здесь!
Тот, кто их интересовал, шел в хвосте цепочки. Соответственно туда надо было направить и машину. Но фирн, слежавшийся на высокогорных склонах снег, — мало подходящая площадка для многотонной машины. Выход один — воспользоваться лестницей.
Люди с удивлением смотрели на зависший вертолет, на спускавшихся людей. Цепь прекратила движение. И только один человек стоять не стал: он бросился бежать. Это был Гамид.
— Стой! Там трещина! — вдруг закричал кто-то из цепи. Евсеев понял, что это проводник, замыкающий движение, предупреждает бегущего об опасности. Но было поздно: не добежав двух десятков метров до ближайшей скалы, Гамид, нелепо взмахнув руками, исчез.
Глава двадцать вторая
ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ
Гена Коршунов оказался довольно занятным парнем. Надо было привыкнуть к его манере разговаривать, чтобы понять, где у него бравада, а где искренность.
Не похоже, чтобы его очень расстраивала потеря награбленного и сильно расстраивало грядущее наказание. Финал своей воровской акции он воспринимал как нечто должное. Не было тех ноток бахвальства, которые в таких случаях, бывает, проскальзывают: если бы не то-то и то-то, я бы...
О сообщниках, судя по всему, распространяться не собирался. И только пожимал плечами, когда об этом заходила речь.
— Подал идею? Какую идею? А, кто подал идею?.. Да никто. Сам додул. Сам набедокурил, сам и отвечать буду.
Но, увидев фотографию Хачизова, сник. Даже в лице немного изменился. Спросил тихо:
— Его что тоже взяли?
— Как его зовут? — в свою очередь спросил Бахарев. — И откуда ты его знаешь?
— Это Юсупов. Микаэл Рустамович. Откуда знаю? Да так, познакомились...
И Коршунов рассказал. Состав рефрижераторов, который он сопровождал как слесарь-электрик, вез виноград с одной из южных станций. Незадолго перед отправлением к вагону, где ехала бригада Геннадия, подкатили двое симпатичных черноволосых граждан. Обворожительно улыбаясь, они попросили ребят отвезти в своем вагоне несколько кислородных подушек в тот город, куда лежал их маршрут. Ясное дело, не бесплатно. По прибытии их встретят и из одной подушки всем нальют по трехлитровой банке. А ведь там не какое-нибудь кисленькое винцо, а коньяк. Да и в дороге могут для бодрости прикладываться, сколько захотят. Только чтобы незаметно было. Не для подушки, нет. В подушке сорок пять литров, много надо выпить, чтобы стало заметно. Начальство чтобы не заметило.
Но вот начальство-то как раз и заметило. То ли кто видел, то ли кто донес, но еще до отхода поезда нагрянула проверка. Назревали неприятности. И тут появился Юсупов. Начальство, слегка пожурив ребят, велело все сгрузить и больше такими делами не заниматься. Но коньяк все равно уехал, а после Геннадий имел дела с Юсуповым еще, перевозя какие-то ящики, мешки, бидоны. Юсупов платил. Не так чтобы уж и много, но погулять хватало. Отпуск-то у Геннадия большой — через каждые полтора месяца на колесах, считай, сорок дней, денег много надо.
В деле, на котором Геннадий попался, ему отводилась самая незначительная роль. Но он, смекнув, понял, что может и один провернуть все. Ведь при юсуповском раскладе ему и вознаграждение полагалось столь же незначительное...
И тут Геннадий всхлипнул.
— Да на хрена они мне все эти побрякушки! Обозлился я на эту кодлу юсуповскую из-за Рамо...
Так впервые было упомянуто Коршуновым имя брата Ашота Джугамишева в связи с Юсуповым (он же Хачизов, он же Эфендиев). С молодым Джугамишевым Коршунов познакомился во время очередной отправки тайного груза на Урал. Рамо выступал в роли посыльного. Потом встречи такого рода стали повторяться.
Однажды Рамо пришел с девушкой. Дело было как раз в Кисловодске. Завершив свои дела, молодые люди на том же такси, на котором Рамо привез товар, отправились в ресторан. И вот здесь-то Минаба (так звали девушку) и высказала свой взгляд на «подпольную» деятельность друзей и их шефа Юсупова. И в тоне, и в словах Минабы звучали ненависть и презрение. Она убеждала ребят, что пока не поздно, надо со всем этим кончать, что дела у Юсупова нечистые, что сколько веревочке ни виться...
— Как от них уйдешь, — с тоской проговорил Рамо. — Они из-под земли достанут...
А через несколько дней Геннадий узнал, что Рамо погиб. При загадочных обстоятельствах. Геннадий не был уверен, что его не ждет такая же участь. Когда шайка Юсупова задумала ограбить универмаг в Чеканске (Юсупов и его люди ничем не брезговали), Коршунову предложили участвовать в этом деле. Он согласился, но не из желания получить долю, а чтобы «засыпать» всю эту кодлу и тем самым отомстить за смерть Рамо. А в том, что это они его убили, Геннадий не сомневался. Но так все обернулось, что хоть золото и увел Коршунов у этих живоглотов, пострадает-то только он один.
— Что ж ты полез сюда, в эти края, зная, что они здесь свое гнездо свили? Ведь прямо им в лапы.
— Ну хотя бы потому, что им и в голову не пришло бы искать меня здесь. А потом здесь живет дядя, о котором они ничего не знают...
— Это только тебе кажется, что не знают, — усмехнулся Бахарев. — И мы знаем, и они знают. Только мы раньше успели тебя перехватить. На твое счастье. Отбудешь наказание, может, человеком станешь. А у них, сам знаешь, какие законы. С братом Рамо они тоже рассчитались. Только за то, что попытался одному грязному делу помешать... Где теперь Юсупов?
— Никто никогда не знает, где он обитается. Вот только...
— Что только? — Бахарев так и впился в лицо Геннадия. Кажется, опять появилась соломинка, за которую можно ухватиться. Третий допрос Коршунова вел Бахарев уже после того, как стало ясно, что поиски главаря с тройной фамилией зашли в тупик. Гамид погиб, свалившись в пропасть. С ним оборвалась ниточка, дававшая, правда, очень слабую надежду.
Ничего не дали сухумские изыскания. Опасения насчет пенсионерки оправдались. Действительно, пожилая домохозяйка за небольшую плату согласилась оформить на себя выигранный автомобиль. Попросил ее об этом бывший жилец-квартирант Эдуард Владимирович Клинский.
Попросил потому, что не хотел понапрасну терять время, которое должно пройти с момента предъявления билета до выдачи машины, а это месяца три. Самому же Клинскому, как он сказал, предстояла длительная зарубежная командировка. Он надеялся вернуться к тому времени, когда срок соблюдения необходимых формальностей выйдет. Пожилой женщине, конечно, не под силу хлопоты, связанные с технической стороной дела, но Клинский заверил, что в этом смысле ей ничего не придется предпринимать. Потом, после возвращения Клинского, передачу прав на машину Тамара Александровна должна была осуществить по дарственной. Скромное вознаграждение за хлопоты, ясное дело, одинокой женщине не помешает. А обратился Клинский к Ломейко потому, что доверял ей больше, чем кому бы то ни было.
«Что же касается телеграммы, то эта просьба, конечно, немного странная. Но это связано с сердечными делами. А как тут не помочь? Сама молодая была. Что я должна была сделать? Прийти на почту, подать паспорт в окошечко «до востребования», прочитать телеграмму, если она там окажется. Передавать никому не надо. Если в телеграмме сказано «приезжай» — положить в сумочку. «Задержись» — тогда в карман плаща. После еще надо сходить три раза на почту, спросить телеграмму. Причем в одно и то же время — ровно в двенадцать. Вот и все. Пришла телеграмма, там было сказано, что надо выезжать. Положила в сумочку. Больше ничего не надо делать. И на почту ходить больше не надо».
В аэропорту Хачизова встретить не удалось. Либо он применил какой-то грим, либо воспользовался каким-то другим транспортом.
Вот почему с такой заинтересованностью отнесся Бахарев к проскользнувшему у Коршунова намеку на какую-то возможность напасть на след Хачизова.
— Я подумал, — неуверенно продолжал Геннадий. — А если вам поговорить с Минабой?
— А откуда она может знать?
— Она, может, и не знает, но кое-что знал Рамо. Она могла кое о чем догадываться. Тогда, в ресторане, она грозилась все узнать и вывести всех на чистую воду. Что-то она, значит, подозревала.
— А где ее искать, Минабу? Кто она, кем работает?
— Она медсестра в санатории «Хатипара» в Теберде. Там ее и искать надо. Где живет, не знаю. Да там скажут.
Минутой позже, когда Коршунова увезли, Бахарев уже звонил Евсееву. Он еще не успел досказать, как капитан воскликнул:
— Только что собирался звонить тебе по этому же поводу. Амиров рассказал мне, что в истории гибели Рамо много неясного. Компетентные люди говорили ему, что следствие проведено поверхностно. Не наше дело этим заниматься, но я как раз хотел просить разрешения поехать в Теберду, поговорить с людьми, которые знали Рамо и с ним общались. Эта девушка как нельзя более кстати.
— Тогда двигай туда со всей возможной быстротой. С машиной договоришься?
— Я думаю, у здешних товарищей в этом деле заинтересованности не меньше, чем у нас.
Санаторий «Хатипара» — старой довоенной постройки. Приземистые одно- и двухэтажные корпуса без всякого намека на архитектурные украшения. Ни ажурных веранд, ни легких балконов. Словом, без претензий, как и гора, именем которой санаторий назван.
Минаба была на дежурстве. Ее быстро отыскали. Прошли в сад, под деревья. Подальше от любопытных глаз.
Несколько секунд Евсеев разглядывал девушку, невольно любуясь ее правильными строгими чертами лица. Взгляд темных глаз печален. На лице никаких следов косметики. Если бы не несколько непривычное имя, Евсеев не предположил бы в девушке горянки.
— Я не ослышалась, вы откуда-то приехали. Не местный?
Евсеев объяснил. Минаба выслушала, вздохнула.
— Его теперь все равно не вернешь...
— Но ведь должен ответить тот, кто его погубил.
— Да,
конечно. Только у нас здесь считают, что он сам во всем виноват, никто его не губил.
— А вы как считаете?
— Как я считаю? — В глазах девушки вспыхнул огонек. — Как я считаю, скоро кое-кто узнает! Пусть со мной расправятся, как с ним, но я уже написала, куда следует.
— Так вот, чтобы не расправились, расскажите мне все.
...Рамо сорвался с висячего моста через горную бурную реку. Моста там, собственно, нет, как такового. Есть только канаты, на которых кое-где сохранились доски настила. Переходить по зыбким и ненадежным стальным ниткам, повисшим над пропастью, запрещено. Но смельчаки этот запрет игнорируют, экономя несколько минут, которые надо потратить, чтобы дойти до капитального автомобильно-пешеходного моста, находящегося сотней метров ниже.
Рамо всегда преодолевал висячий мост с ловкостью акробата-канатоходца. Происшедшее с ним несчастье следователь списал на опьянение. Якобы и по ровной дороге Рамо в тот вечер передвигался с трудом, а тут еще понесло его на опасную переправу. Сорвался на камни, ударился головой, захлебнулся. Кто видел? Никто не видел. Но она-то, Минаба, знает, что Рамо в тот вечер вообще не пил.
— Все дело в том разговоре... Накануне по моему настоянию Рамо заявил Юсупову, что он из его игры выходит, темных его дел знать больше не хочет, поскольку собрался жениться. Юсупов — хитрая лиса, он никак своего неудовольствия не выказал, даже на свадьбу напросился, пообещал подарок хороший. Подарок... А потом появился этот хорек Гамид, злобный коротышка. Это враг Ашота, есть у Рамо брат, живет где-то у вас на Урале.
«Был, жил», — мысленно поправил девушку Евсеев.
— Ашот несколько лет назад уличал Гамида в воровстве — украл барана, это сейчас он по крупному ворует («отворовался»). Был скандал на весь аул: и тогда он затаил злобу. Вот и отомстил («обоим братьям за одного барана»). Это Гамид столкнул Рамо с моста. Не просто сбросил, ударил чем-то по голове, так бы ему с Рамо не справиться.
«Откуда у нее такая уверенность? И неужели Ашоту во время посещения родных мест никто ничего не сказал о гибели брата? В противном случае, западня бы не сработала. А может, знал, но все равно пошел, чтобы отомстить. Теперь этого уже не узнать...»
— Но ведь я-то знаю: Гамид приходил вечером к Рамо, мы в ресторане сидели, и что-то ему сказал. Я потом спросила, но Рамо отмахнулся: шеф, мол, что-то на прощанье хочет сказать. Мы выпили лишь немного сухого вина, Рамо был совершенно трезвый, когда меня провожал. «Ты пойдешь к этим?» — спросила я. «Надо. Все равно ведь не отвяжутся. Коротышка уже ждет». — «А он зачем, ты что, один дорогу не знаешь?» — «Сказал, что поведет в такое место, которое я не знаю». А наутро разговоры: пьяный ночью упал с моста. Все поверили. И никакого дела возбуждать не стали. Меня никто не слушал. А ведь видели — рана на голове такая, какой при падении он не мог получить. Так и похоронили.
— Значит, он сказал: «Место, которого я не знаю». Стало быть, другие места Рамо знал? Вы что-нибудь можете сказать об этом?
— Рамо меня не посвящал. Однажды мне надо было побывать в Черкесске. Я хотела поехать на автобусе, но он предложил воспользоваться машиной шефа. (У Юсупова был в то время небольшой фургончик, серенький такой, а Рамо ездил на нем по каким-то «липовым» документам). Так вот, надо было съездить за коробочкой лекарства, очень дефицитного, заграничного, для какого-то нужного шефу человека. Это недалеко от Черкесска, километров тридцать. Помню, у селения двойное название. Уже дорогой стали решать, куда раньше двинуться: в Черкесск или на «явку»? Решили вначале проехать в то селение, а уже из города вернуться домой. «Правда, шеф мне голову оторвет, если узнает, что брал тебя, — сказал Рамо. — Не любит, когда кто-то из посторонних узнает его тайные квартиры. Меня он строго предупредил. Но разве ты для меня посторонняя?» Это он себя успокаивал... К самому дому подвозить не стал, высадил на въезде в аул. Но я все равно видела, куда он подруливал. Да он и не хотел от меня скрывать, просто боялся, что из дома в машине увидят.
— Вы можете показать мне этот дом?
— Прямо сейчас? Так надо еще сообразить, как в тот аул проехать.
— Сообразим. Вам помочь отпроситься с работы?
— Не нужно. Мое дежурство уже закончилось. Но почему вы думаете, что Юсупов там?
Упоминание о фургоне навело капитана на мысль, что, кроме воздушного пути, у Хачизова-Юсупова была еще возможность добраться из Сухуми в Черкесск. Неприметная малолитражка специального назначения, каких бесчисленное множество движется по дорогам страны. Что может быть лучше для такой цели?
Единственную остановку сделали около киоска «Союзпечати», чтобы запастись туристской схемой. Приказав водителю ехать в сторону Черкесска, капитан принялся вместе с девушкой изучать схему.
— Тут много двойных названий, — озабоченно констатировал Евсеев результат своих изысканий. Минаба, наморщив лоб, пыталась вспомнить.
— Кажется, вот это. Кош-Хабль. И по расстоянию подходит, и по направлению.
Конечно, было сейчас у капитана небольшое сомнение насчет правильности своих действий. Надо было поставить в известность руководство. Но, во-первых, для начальства его доводы могли показаться неубедительными. Во-вторых, время. Потерянных минут не простят, не оправдают, если уйдет преступник. А окажутся ошибочными его предположения, так что ж — разочарование постигнет лишь его одного. Впрочем, нет. Покосившись на побелевшее лицо Минабы, он увидел, как плотно сжаты ее губы, каким огнем горят глаза. Нет, не один он будет разочарован.
При въезде в поселок Минаба впилась глазами в открывшийся перед нею вид тихих улочек, садов. Вдруг, побледнев еще больше, она схватила капитана за руку: «Тут! Вон тот дом! И машина!»
Евсеев увидел приткнувшийся к палисаднику небольшой автофургон мышиного цвета. Вырывавшийся из-под кузова голубоватый дымок сомнений не оставлял: у машины запущен двигатель, в любой миг она может сорваться с места. Кузов фургончика не позволял видеть тех, кто сидит в кабине, но водитель уже, конечно, заметил «уазик» в зеркале заднего вида. И хотя на «уазике» не было никаких знаков, говорящих о принадлежности к милиции, в фургоне наверняка насторожились.
— Загораживай им дорогу! — приказал капитан шоферу.
«Уазик» рванулся и через несколько мгновений оказался на пути тронувшегося с места фургона. Чтобы избежать столкновения, водитель его был вынужден затормозить. Кабины машин были теперь совсем рядом, и Евсеев увидел рядом с мордастым шофером бледное лицо того, кто столько дней и ночей виделся ему, не давал покоя. Это был он: Хачизов-Эфендиев-Юсупов-Клинский. Он же Миша.
Мордастый выскочил из кабины и бросился к «уазику». В руке его был зажат ломик-монтировка.
— Вы что хулиганите? — Он подкрепил свой возглас грязным ругательством. — Жить надоело? Сейчас я вам ноги повыдергиваю!
— Спокойно! — тоже выпрыгивая из машины, громко крикнул Евсеев. — Милиция. Предъявите документы!
Злоба исказила лицо мордастого. Он замахнулся на капитана, но ударить не сумел: поднырнув под занесенную руку, Евсеев перехватил ее и заломил на выброшенном углом локте своей руки. Кисть, сжимавшая ломик, сразу ослабела, монтировка выпала, а мордастый, оказавшись на коленях, взвыл от боли. Но возиться с этим типом вовсе не входило в планы Всеволода. Он старался не упускать из вида кабину автофургона, откуда, распахнув дверцу, соскочил на землю тот, кто его сейчас интересовал больше всех.
— Держи его! — приказал он подскочившему шоферу. — Да не того! Того я сам возьму. Этого, чтобы не путался под ногами. — И кинулся вслед убегавшему Хачизову, догнал его в несколько прыжков.
Вот уже щелкнул замок наручника, второй для верности капитан уже намеревался закрепить на своей кисти, но не успел: правая рука понадобилась ему для движения, с которым нельзя было медлить и долю секунды. Пистолет как бы сам по себе оказался выброшенным на уровень глаз. Он был направлен на двоих, которые двигались на капитана с вполне определенными намерениями. Евсеев подозревал, что такой сюрприз возможен: хоть автофургон и не предназначен для перевозки людей, исключения делаются чаще, чем можно предполагать.
Оба были вооружены. Но не страх почувствовал капитан, увидев в руках одного обрез. Единственная мысль была: неужели уйдет? Ну нет!
Пули одна за другой взметнули фонтанчики земли у ног надвигавшихся на него бандитов.
— Бросай оружие!
Этот приказ капитана, подкрепленный еще одним выстрелом, возымел действие. Полетели на землю и обрез, и нож.
Но Хачизов успел отпрыгнуть. И в это мгновение раздался пронзительный женский крик:
— Нет! Не уйдешь!
Минаба выпрыгнула из машины с такой быстротой и легкостью, словно у нее были крылья. Хачизов обернулся на крик и замер, глядя на девушку, будто на привидение. Его замешательство продолжалось какой-то миг, но Минабе хватило этого мига, чтобы оказаться рядом с Хачизовым. Она вцепилась в него так крепко, что Евсеев успокоился: не уйдет! У него есть несколько секунд, чтобы подобрать брошенное оружие, запереть в фургоне обоих бандитов вместе с мордастым водителем.
Потом он займется Хачизовым и вызовет по рации подмогу.
Цена шестой заповеди



Сколько же я его не видел? Лет пять. Нет, четыре с половиной...
И вот стоит спокойненько так у калитки и мне маяк дает, — мол, попридержи зверюгу. А Рэмбо уже с лая на хрип съехал — до того увлекся.
Я кричу: цыц, Рэмбо, с-сукин сын! А он не слышит (делает вид, что не слышит) так разохотился. На забор прыгает, зубами щелкает. Ну, волчара, ну, зверь! Хороший сторож. Вот только бы жрал поменьше — цены бы ему не было.
— Цыц, Рэмбо! — и под ребра ему ногой. Да я в кроссовках, ему не очень-то и больно. Вернее, совсем не больно, попробуй прошибить такую тушу. Но обидно. Сразу заглох. Заскулил. Он такой — провинится, потом переживает. Понимает все, как человек, с-сукин кот.
Схватил я его за ошейник и пристегнул на цепь. А этому, как его звать? вот память стала, забыл за эти годы, заходи, мол, сколько зим, привет.
— Привет, привет! — заходит, щурится. Руки потирает. А сам — почти не изменился. Немножко, разве что, круглей стал, раньше совсем худой был. Или, может быть, шмотье цивильное — джинсики, рубашечка его немножко изменили. Там, в хэбэ, все одинаковыми казались, нескладными, худыми. Но рыжий такой же, глаза светлые. А на левом — рыжинка. Так, не бельмо, а меточка, зайчик. Бог метит шельму.
— Собачка у тебя с норовом. Злая.
— А кто сейчас добрый? Ты добрых где сейчас видел?
Хмыкает, да, мол. А сам озирается, как я, смотрит, устроился. А я ничего устроился, неплохо. Дом. Гараж. Сад. Баня. Столик стоит под старой сливой. Вот так.
— Ну, садись. Сейчас баба накроет на стол. Посидим, потрекаем.
А он стоит, все осматривается.
— Не кисло, — говорит, — ты живешь.
— Я старался.
— Я знаешь, вообще-то поговорить с тобой заехал.
Вот оно: по-г-оворить. Егор. Е-г-о-р его звать. Вспомнилось сразу...
* * *
...— Ег-гор! — подлетает к нему Мишка Донской, и н-на! ему под дыхалку. И он скрючивается, ртом воздух ловит. Больно, когда под дыхалку бьют...
Кабанил его тогда Мишка по-черному. Он тогда «дедушка» был, а мы — «помазки», весной призывались. Вместе с ним, с Егором, и приехали. Считай, земляки, зёмы. Только я с Города, а он километрах в ста жил, где-то на поселке. А вообще он не местный, родители его привезли то ли с Урала, то ли с Сибири. Он и «г» не по-нашему, не по южному выговаривал. Не мягко, с придыханием «х», а твердо — «г». Вот Мишка Донской, а он тоже со Ставрополья откуда-то, к нему и прицепился. Переучивал его, как надо «г» говорить. Или еще Егор «че» говорил. Мишку это вообще бесило. «Козел! Не «че», а «што»! — И сапогом ему по яйцам. Подкреплял, так сказать.
Нас тогда, всех молодых, здорово кабанили старики. Мне, правда, «дедушка» более спокойный достался. Придешь к нему вечером, пожелаешь спокойной ночи. Мол, спите, «дедушка», вам до дембеля столько-то дней осталось. А он, если в добром настроении, — просто в морду плюнет. А если сердитый — может и кулаком плевок размазать. Зато спать давал. Почистишь ему сапоги после отбоя, воротничок постираешь, выгладишь, подошьешь, как полагается, — и до подъема можешь дрыхнуть.
А Егорке и по ночам доставалось. Лежишь, бывало, спишь, а он «р-р-р, тр-р-р» — под шконками ползает. И рычит, как автомобиль. Это он правила вождения Мише Донскому сдавал. Или вытащит Миша из постели такого же чмушника зашуганного и — д-з-д-з, руки растопырят, налетают друг на друга, жужжат, авиационный бой изображают. А Миша смотрит, балдеет. Бессонница на него напала перед дембелем. А только не пришлось ему в дембель со своими откинуться. Под самый праздник, на седьмое ноября его в дисбат. На год. В Ухте, говорят, трибунал был показательный. За несколько дней до дембеля не повезло... А тоже за «сынка» влетел. Зашугал он одного так, что тот повесился. Не до смерти, откачали. А когда его в дурдом привезли, — чтобы «седьмую степень» влепить и к мамке отправить, он и колонулся. Мол, Донской меня довел. Ну и повязали Мишаню, пришлось ему еще годик отдохнуть от гражданки, да не где-нибудь, а в дисбате.
А потом перестали Егорку чуханить. Совсем перестали, правда, это уже на втором году было.
Все равно, очень скучно было нам, южанам, на севере. Особенно зимой. Снег, мороз, тайга... Иногда мы завидовали тем зэкам, которых караулили...
* * *
— Ты Мишу-то Донского помнишь?
— А как же не помнить. — Егор отпил из кружки вина, у меня такие кружки есть глиняные, бочоночки. Я вино люблю из них пить. Свое вино, из погреба. Не то, за которым ханыги по очередям давятся, а настоящее, с бочки. Хороший был парень Мишаня. Да жаль парня, раскрутился тогда на зону. Или на дисбат?
— На дисбат. А как ты ему вождение сдавал?
— Все сдавали.
— Я не сдавал.
— Ну это тебе, значит, не повезло просто.
Смеется, закурили. Тут нам баба моя жратву подгоняет. Вина еще кувшинчик. Не друган мне этот Егорка, но гость все же. Так. Где ж он эти пять лет был? Не писал, знать о себе не давал, а тут на тебе — заявился. Мы с ним вместе и на дембель ехали, в Городе на вокзале и расстались. Он свою котомку закинул на погон на красный, ручку пожал, и привет. Ой, нет, вру, что не писал! К Новому году пару раз открытку присылал. Только я ему не отвечал. К нему вообще отношение было странное. Друзей у него не было в армии. Его даже сторонились слегка после того случая...
* * *
...Да, на втором году его перестали чуханить. Правда наших дедов уже не было. Пришли на их место бывшие «черпаки», а мы уже стали «гусями ВВ».
Вот тогда-то Егор человека-то и ухлопал. Опять же, как сказать, человека. Крытника! Какой он человек... Но все ж с руками и с ногами. И с головой, как мы.
Сторожили мы зону строгого режима. Часть наша в поселке располагалась, зона тут же рядышком.
Вели мы тогда колонну в лес. По дрова. Идем хорошо, морозец бодрит — градусов под тридцать, подгоняет, но это еще по-божески. Без ветра, даже не колыхнет. Идем, короче, все в порядке. И вдруг — раз! — выскакивает один из строя — и деру! Прямо по снежной целине. Как сейчас его вижу, в бушлате, в валенках бежит, по пояс в сугробах увязает. Я с другой стороны колонны шел, но все равно хорошо видел.
А Егор, он с той стороны как раз шел. И — а-та-та — по спине ему. С «Акая» по спине... Верный бедняга, как его и учили, в снегу по брюхо, дополз и за глотку хватает. Да поздно, там уж падаль на снегу лежит. Только и успел прохрипеть: «больно, суки!» И отъехал. Хана...
Вот тут-то я и понял, что такое страшно. Колонна «у-у-у!» уже не колонна, а толпа. Толпа воет, собаки воют. Мы им — автоматы в хари, а они вот-вот на автоматы кинутся. И тогда разорвут, задавят, затопчут. У меня акаэм в руках прыгает: счас, думаю, все! Прапор, бедный, аж посерел весь, бегает с пистолетом, а у самого, наверное, аж полные штаны страха.
А потом вдруг: «ш-ш-ш» по толпе. И уже опять не толпа — колонна. Успокоились. Положняк, мол. Положено, значит, было, чтобы было так...
По-разному потом говорили об этом побеге.
Проигрался, одни баяли, все равно, дескать, конец. Но другая, так сказать, версия была. Он, тот кадр, которого Егор завалил, с «крытой» тюрьмы пришел. Как раз этап был, их пригнали несколько человек. Спокойные, как удавы, начитанные. На любую тему могут базары вести — только уши заворачиваться будут. Хоть про экстрасенсов, хоть про микропроцессоров. Стихи могут толкать по нескольку часов — хоть свои, хоть Пушкина. Их там, в крытой, работать не заставляют, они там до зоны сидят по нескольку лет, вообще ни черта не делают. Книжечки почитывают. Это их так по суду приговаривают, убийц. Если не вышка — там-то проще, к стене прислонят и привет — то дают пять лет тюрьмы и десять потом зоны. А на зоне — вкалывать надо, лес валить. Только они там работать-то отвыкли. Так вот, на того «крытника», что смертельный трюк выкинул, кто-то там дернулся в бараке у них. А тот н-на! ему ложкой алюминиевой в висок. И тот — труп. Пришли дознаваться, что почем — несчастный случай. Упал со шконки, головой стукнулся. Все, как один, кто был в бараке, так и заявили. Тут уж дальше не попрешь: как пришла комиссия, так и ушла. Несчастный, значит, несчастный. Случай, значит, случай. Нету виноватых.
А «Рог хаты» — это у них в бараке вроде самого главного начальника — сказал, что «низ-з-я так делать...» И тому намекнули, что, мол, у тебя одна, дружище, дорога. Либо баланом по хребтине, либо в «обиженников» перевод. Ну он и не стал дожидаться и проверять на собственной шкуре.
Так или не так все было, мне-то, в общем, какая разница? Было — сплыло...
...Вернули ту колонну обратно в зону, не погнали в лес.
А Егорку — к майору. О чем-то они там долго толковали. Да что толковать, он стрелял правильно. «По уставу правильно стрелял», — как у Высоцкого поется.
Да, он, Егорка, здорово стрелял. По стрельбе был лучшим в роте. Охотник. По живой мишени, по двуногому, так сказать, зверю свое полное преимущество проявил и на этот раз. Истинно «ворошиловский стрелок».
Ну, а потом, когда у нас за полтора года службы перевалило, мы уж разворачиваться стали. Да не так, чтобы уж и очень, тут как раз «душняк» стали «дедовщине» устраивать. (Это по газетам, в основном, не в натуре). Но несколько судов прокатилось показательных и у нас, на севере, в Комях. А тут как раз этап (тьфу ты, господи, не этап, — призыв) пригнали с Азии, так там был один здоровый такой бык, ему бы с кистенем где-нибудь на афганской тропе духов пугать. Или в соцстранах, чтобы советской власти боялись. Так Егорка прицепился к нему мертвой хваткой. Приводит, бывало, «сынка» этого в каптерку. Мы чай сидим пьем. А Егор: хотите чудо света? Ну, прикол, помрете со смеху!
— Хотим!
Он «сынку»: майнуй! Тот голову нагибает, а Егор — х-ха! — ему по шее. А у того глаза — ну, в натуре, ни разу больше такого не видал — вращаются. Один по часовой, другой — против. Вот это в самом деле был прикол. Мы, как один, все, на «бис», кричим, давай! Егорка на бис его — хрясть! Тот же эффект! Ну силен «сынок», раз пять на бис шнифты раскручивал... А потом его комиссовали через дурдом. Его вообще, оказывается, брать нельзя было, разве что в ВСО. А его — в ВВ. Да еще автомат дали. Ошиблись... Ничего себе, ошибочка.
Вот так мы потихоньку и дослужили до дембеля.
* * *
Прикончили мы второй кувшинчик, я уже чувствую, что сам тяжелый. Все-таки вино у меня свое. Мое. Это не бормота, из-за которой кости друг другу ломают. А Егорка уже вообще хорош стал. Но зачем пришел, видать, не забыл. И в который раз уже начинает:
— Слушай, я к тебе ведь не квасить пришел, а по делу.
Ладно, думаю, надо все же узнать, что у него за дело.
— Ну давай, излагай, деловой.
— Займи две штуки. До нового года. Край надо. Понимаешь, «Ниву» надыбал, не хватает пару штучек.
Ого! думал. Две тыщи ему дай. А он опять на пять лет сквозанет.
— Мы, — заверяет, — чин-чинарем.
— А с чего отдавать будешь?
— Ну, это уж мои заботы, — этак с гонорком.
Ладно, сидим, курим.
— Есть, — говорю у меня бабки. — Есть. Я их сам заработал, своими руками. Вот этими вот, двумя. Прикидываешь? Есть у меня и «жучка», и дом, и сад, и огород. Свиньи есть. Видик есть «Сони» и с изюминкой, и с клубничкой. И все это я сам заработал. Но взаймы я никому не даю. Если хочешь — заработай.
— Так мне ж срочно надо. Когда ж я их заработаю-то, две косых?
— А я тебе работенку не пыльную хочу подогнать. На пять минут. Раз — и в дамках. За пять минут — пара косых. Прикидываешь?
— Ну, колись. — У него аж глаза задымились. Меченый его особенно. Эх, шельму метит бог!
Я не тороплюсь, закуриваю медленно, нарочито. Тут баба моя со стола убирает, вошкается — не будешь же при ней. Отходит она, я еще минуту-другую выдерживаю характер, потом выкладываю карты:
— Прикидываешь, шмальнуть надо кой-кого. Две штуки стоит.
А сам на него смотрю, как он среагирует. Кто послабей, так от такого и со стула упасть может. А он кивнул этак понимающе, тоже сигарету взял, закурил. Вина отхлебнул, пепел стряхнул.
— Заметано, — говорит. — Подгоняй шмалер.
— Ты въехал? Человека завалить надо.
— Ну, я ж не глухой. «Приблуду» давай. Оформим. Вот так. И глазом не моргнул.
Заперлись мы, короче, в биндеге у меня, я на чердак слазил, достал ТОЗик (держу такую штуку на всякий случай, счас времена тревожные, надо иметь). Егор прищурился, в прицел посмотрел, затвором пощелкал. Все чин-чинарем, смазано как полагается. Оценил.
— Попробовать бы надо. Пристрелять.
— Попробуем. Вот только с патронами у меня прогар — поспалил, а достать пока не получается — все жмутся, боятся. Два только могу выделить. Пристрелочный и зачетный... Но ты ж профессор. Завалишь с одного?
— Малопулька. — Он поморщился, скривился пренебрежительно. — Посерьезней бы что-нибудь. Но ничего. В чайник можно уконтрапупить.
— Ясное дело, жаканом или картечью сподручней было бы. Но здесь свое преимущество — почти бесшумно. Да ведь не на медведя пойдешь. Прикидываешь?
— Вот именно. — Он подмигнул.
Завернули мы ТОЗик в халат старый и пошел я «жучку» заводить.
Баба тут выступила моя, мол, куда пьяный за руль лезешь, но я ей — ша! — сгинь, ворона! И рассказал ей в двух словах, что думаю о ее маме. Не ее ума дело. Надо, значит, срочно.
А меня уже самого потряхивает. Ну, думаю, дела. Заварил, теперь расхлебывай. Азарт даже какой-то появился. Пошла масть.
Выехали мы с Егором из Города, первым делом заехали в лесок. Полянку нашли подходящую. Красота кругом, птицы поют. А солнце уже к закату клонится. Торопиться надо, пока не стемнело.
Нашел я консервную банку. Кидают везде, сволочи, губят природу! Поставил на пенек. И Егорка — шасть по ней шагов с семидесяти. Продырявил посредине. Не хилый был выстрел! Охотник, мать его, ничего не скажешь. Спец. Уважаю спецов.
— Ну ладно, — подытоживаю. — Ты профессор. Но ведь это жестянка. А там черепок-то костяной, под ним мозги живые, душой живой еще называют.
— Ничё. Всё путем будет. С малопульки, ясно, не фонтан. Но если чердак продырявить — поканает. Красавец будет в гробу.
Едем дальше. В Город зарулили с другой стороны. Там тоже индивидуального застроя домики стоят, частный, так сказать, сектор. По холмикам вверх-вниз разбежались. А уже и сумерки подкрадываются. Со стороны моря ветерком прохладным потянуло. Благодать... Кому в такую погоду помирать захочется.
Только Егорке такие мысли, похоже, и в голову не приходят. Мы на гребень забрались, домик под нами с двориком. Как на ладони. Там во дворике пацан лет четырнадцати дрова колет. Нас не видно из-за бугорка, а мы все видим.
От машины совсем недалеко отошли, за минуту добежать можно. Сразу-то ведь никто и не сообразит, что случилось. Пока прочухаются, мы уже далеко будем. Кто, что, откуда? — попробуй определи. Сто шансов из ста, что никогда никто не догадается.
— Вон видишь, пацан дрова колет?
— Вижу, — Егорка кивает.
— Это мишень. Шмальнешь — через минуту мы уже мчим, а еще через пять — мы уже далеко-далеко, будто нас здесь никогда и не было. Шмалер в речку за много верст от этого места. И все. Никто ни сном, ни духом. Держи патрон.
Берет, но что-то не так уж резво, как следовало ожидать.
— Так пацана что ли?
— Ну, а кого же еще?
Он передернул плечами. Пробормотал:
— Что ж ты его сам не шмальнешь? Дешевле бы вышло...
Это все ж не зэка в спину из автомата. Смотрю на него, счас, думаю, откажется. Пацан все же... Но он ТОЗик берет, патрон пристраивает.
— Дело хозяйское. Самому, значит, слабо.
— Понимаешь, свинью резать и то спеца-профессионала приглашаю. Оно и надежней, и работа чистая.
Он хмыкнул. Повторил: «дело хозяйское» и стал прилаживаться, как лучше стрельнуть. Не в тире все же, упора специального нет. А промахнуться нельзя. Приладил винтовочную ложу на сучочек, в прорезь прицела смотрит на мушку, один глаз прищурив.
А пацан притомился видать, топор в полено вогнал, на другое присел, пот со лба вытирает. Идеальная мишень! И я бы, пожалуй, попал. Разве что не в чайник.
Сидит, куда-то в даль смотрит, и не ведает, что дяденька, притаившийся за кустами, светлую его головенку видит через колечко, окружающее мушку.
Плавно, как на учебном стрельбище, стронул Егорка спусковой крючок.
Щелк!
— Осечка. Давай другой патрон.
Голос у него хриплый вдруг сделался. Не стальной, значит, тоже. Видать, кое-какие нервишки тоже имеются.
— А нету другого. — И повторил, потому как до него вроде сразу-то и не дошло. — Другого-то нету.
И все равно до него не доходит. Смотрит на меня, словно в первый раз видит. Повторяет, как автомат:
— Давай другой патрон!
— Да нету у меня другого патрона!. — Я уже горячусь. — Я ж тебе говорил. А за осечку я не плачу. Я только за работу плачу.
Он ничего больше не сказал. Бросил винтарь на землю, круто повернулся и пошел вниз по тропинке. Я поднял ТОЗик, пыль с него сдунул, в халат опять завернул и — следом.
Сели в машину, закурили. Он молчит. Я молчу. Зажигание врубаю, на сцепление жму, поехали.
— Ну что, — разговор завожу. — Поехали, догонимся. Кувшинчик еще раздавим. Ты такого вина нигде больше не попробуешь. Это тебе не бормота, что в сельпо туземцам сдают.
— Нет, закинь меня на автовокзал. Домой надо съездить.
На вокзал, так на вокзал. А он все молчит. Догадался, ясное дело, что я ему дохлый патрон подсунул. У меня сынишка трехлетка таким играет. Порох-то я вылущил, а пулю обратно вставил. Чтобы как настоящий был. И не отличишь.
Приехали. Он сигарету в окошко выкинул, повернулся ко мне и произнес монолог. Признаться, не по себе мне было, пока он его произносил. Можно сказать, мурашки по спине заползали.
— Знаешь, это не фокус со шмалера лупануть. Бац — и в мозгах сквозняк. Ты даже вякнуть не успеешь, как уже на том свете. Это фуфло все. А ты прикинь такую картину. Стоишь ты, к примеру, у своего дома. Ну, покурить ты за калитку вышел перед сном. Воздухом подышать вечерним. Прохладцей. И хорошо у тебя на душе, спокойно. Вот твой дом за спиной твоей. Крепость твоя. Видик фирмы «Сони». Башня из какой-то там кости. Полная чаша. Гараж у тебя тут, машина «шестерка». Жена у тебя красивая, покладистая. Любит тебя. Дети. Деньги. Все у тебя есть. Все у тебя хорошо. Ты стоишь, расслабился. Вот сейчас, думаешь, сделаю на бабу рейс, стаканчик вина (своего, не бормоты) замахну перед сном и залягу спать. Хорошо на свете жить!
А тут идет по улице какой-то кент. Прохожий просто. Ну, прохожий. Не старый вроде, молодой скорее. Бежит себе трусцой по улице мимо тебя. Неприметный такой парнишка бежит в джинсах линялых, в маечке. Никто, короче, пустое место. Ты уже докурил, бычок свой бросил, повернулся, чтобы домой идти, а парнишка тот как раз поравнялся с тобой — и вдруг! — на тебе! — под ребра кусок арматуры ржавой, заточенной, заостренной. Заехал и дальше себе бежит спокойненько.
А ты лежишь около своей калитки и корчишься. Лежишь и ласты заворачиваешь. И ни крикнуть ты не можешь, ни пискнуть. Потому что у тебя в печени кусок арматурины ржавой, печенка проткнута и кончик уже из спины торчит. А ты подыхаешь и видишь глазами своими тускнеющими, что в доме твоем свет горит мирно, там за дверью жена красивая в постели лежит, тебя дожидается, дети умные уже спят. И никогда ты больше их не увидишь, потому, что та старуха костлявая, в простынку белую завернутая, стоит уже над тобой и косой своей острой замахнулась...
Вот она страшная смерть-то какая. А в мозг пуля — это не мука. Это, скорей, избавление от мук.
У меня даже рот сам собой открылся, пока я эту лекцию слушал. А Егорка толкнул дверцу, подмигнул мне так, что у меня челюсть еще больше отвисла, не вышел, а выскочил, с резким хлопком (как выстрелил) влепил дверцу в свое гнездо и мгновенно растворился в темноте, без всяких там «гуд бай» и «ауфвидерзеен».
Я с минуту сидел, уставившись тупо в приборную панель, прежде чем запустил движок. Потом уж рука сама автоматически повернула ключ зажигания, да и все остальное совершилось как бы автоматом. И хоть арматуры в моей печенке не было, в мозгу я ее сейчас точно ощущал. Бр-р...
Видно это выражение так впечаталось в мой портрет, что баба моя (а она у ворот дежурила, беспокоилась, зная, что я баранку крутить взялся тяжеленький, что редко со мной бывает) еще больше взволновалась.
— Что с тобой, на тебе лица нет?
Глупая эта фраза, избитая, в другой раз у меня бы разве что раздражение вызвала, но сейчас даже ее я воспринял соответственно овладевшему мной настроению.
— Ничего, Настенька, ничего. Все в порядке.
Чувствую, она вообще в панику ударилась: Настенькой ее обозвал. Последнее время все больше «коза» да «ворона», или как еще повыразительней, а тут «Настенька». Явно не к добру.
— Да что с тобой?
В объяснения я, естественно, вдаваться не стал, так и оставив бабу в неведении относительно моих переживаний. Но сам месяц, не меньше, потом дергался. Мудак, сам про себя думал. С кем, думаю, связался? Ведь не знаю совсем, что это за фрукт. Над кем пошутить надумал? Да ведь ему человека прикончить все равно, что комара. Про того «крытника» он наверняка и не вспоминал никогда. И пацану бы в голове дырку сделал, и тут же бы забыл. Он наверно и не слыхал никогда про пятую заповедь «не убий!». Плевал он на нее, как и на все остальные. Кто его, чмушника этого знает, чем он сейчас занимается? Может, в рэкетменах ходит или еще что похлеще. Всегда был темным. А в нынешнее темное время такие как он и правят бал...
Словом, не было мне покоя. Жалел уже, что не дал ему денег. Черт с ними с деньгами. Мудрость гласит: деньги потерял, — ничего не потерял. А вот арматура... Да и пуля в черепушку не очень меня прельщала.
Письмо написал: если, мол, что со мной случится, то вот объяснение, вот где надо искать причину, и искать далеко не надо. Словом, перетрусил так, что вспоминать стыдно.
Потом отпустило. Со временем прошел идиотский тот страх. Фуфло все это — так и решил. Обычный пьяный треп. Сам подзавел чмушника, сам же и в штаны наложил. А Егора я все же здорово умыл. Ишь ты, на халяву две штуки зацепить захотел! И шмалер ему подогнали, и патрон. И стояли с ним рядом для поддержки боевого духа. Нет, так дела не делаются. Сейчас, я слыхал (да и по телевизору об этом было), человека шмальнуть — пять сотен стоит. Причем так: отдал пять сотен и все чин-чинарем. Чики-чик будет оформлено. И про приблуду тебе заботиться не надо — твое дело бабки выложить.
Дело прошлое, как говорится, быльем поросло, но было. А было такое: в далеком своем детстве братца своего двоюродного собирался в лучший мир спровадить. Лет по шестнадцать — семнадцать нам с ним тогда было. Из-за бабы. Срочно его надо было устранить с пути-дороги. «Третий должен уйти» — в песне поется. Только сам он этого, похоже, делать, как в песне не собирался. И я стал разрабатывать план, как и что. Сначала такой вариант у меня был. В школе на окне горшки с цветами стояли. По моим тогдашним представлениям достаточно увесистые, чтобы лишить человека жизни, если опустить один из них с высоты ему на голову. Подзову, думаю, его к окну, а сам горшок потихоньку и спихну... Случайность! Тем более, под окном газон. А по газонам, все знают, ходить нельзя. Зачем нарушал? Но все же даже тогда хватило соображения отнестись к плану этому критически и увидеть его очевидные недостатки. Во-первых, можно ведь и не попасть. Голова и горшок — предметы по величине примерно одинаковые и не очень большие, так что разойтись им в обширном пространстве школьного двора очень даже легко. А потом что: второй горшок сталкивать? Это уже на случайность списать труднее. Ну, а во-вторых, если рассчитать по формуле падающего свободного тела (как раз по физике учили), то удара может оказаться достаточно лишь для того, чтобы шишку набить...
Поэтому другой вариант стал продумывать. Что если пригласить его на вылазку за город? Позвать на каменный карьер покупаться, рыбки половить, ушки наварить, винца выпить (баловались уже втихаря). Свежий воздух, сосны, костерчик — кто от такого откажется? В карьере том когда-то гигантские выработки велись, гранит брали. Метров двадцать отвесные стены от края до дна. Внизу камни. Улетишь — ни один доктор не склеит. А местами к этим отвесам вода подходит. И глубина порядочная. Спихнуть с такого отвеса — ничего не стоит. Вот уж тут-то точно — несчастный случай. Подпил и сорвался, свидетелей нет. Тут уж точно ничего не докажешь. Вот только как спихивать? Будут же осматривать место происшествия, а рядом с его следами — мои следы. (Вот такой был наивняк.) А по следам раскрутят...
Тогда решил так: столкну шестом. Тут уж никто не подкопается, следов-то рядом не будет, стало быть, сам дурак сорвался.
И взялся за осуществление плана во всех деталях. И место выбрал. И шест пятиметровый нашел. И уже договорился с братцем, когда поедем. Только он не поехал. Что-то у него не заладилось, не получилось, откладывали, да и забыли помаленьку. И девица та из нашего Города уехала в Москву учиться. Так что, когда причина, по которой я намеревался братца жизни лишить, исчезла, исчезла и моя неприязнь к нему. Сейчас мы с Юркой, с братом, значит, душа в душу живем. Я ему про все это как-то по пьянке рассказал. Посмеялись. Дети, мол. А по трезвости иной раз задумываюсь: а мог бы я его тогда вот так, шестом? Позже-то понял, что убить человека — не шутка. Но ведь замышлял же!
* * *
Поскучал я, как уже говорил, с месяцок основательно. ТОЗик свой под подушкой держал заряженный. Рэмбо про цепь забыл.
Но помаленьку все вошло в норму. И все случившееся стало восприниматься несколько по-иному. И про Егора стал я думать уже не так, как прежде. Все же он молодец. Железные нервы. Напрасно я с ним рассорился. Да я и не ссорился вовсе. Подумаешь, пошутил...
А если по-серьезному, совсем по-серьезному, то надо бы мне и в самом деле кое-кого шмальнуть. Очень надо. И это уже не по пьяни, без булды... Надо бы... Я бы и трех штук не пожалел...
* * *
Дожди пошли. К новому году снег выпал. А к Рождеству растаял. Мерзкая у нас зимой погода. Слякоть.
Но время идет. И зима к концу подошла. И весной уже запахло.
Копался я как-то в палисаднике. К весне-то забот поднакатывает. Увлекся работой и по сторонам не смотрю. И визг тормозов у самой моей калитки, прямо скажем, врасплох меня застал. Новехонькая зеленая «Нива» присела на рессорах — так с ходу ударил водила по тормозам. Что еще за лихач пожаловал?
Щелк — дверца. А из-за баранки Егор вылезает. Собственной персоной. Ухмыляется, как всегда. Рэмбо тут у меня чуть из шкуры своей не вылез, опять в хрипе зашелся.
А у меня первая реакция — лопату половчее ухватить. Лопаты у меня всегда хорошо наточены. И копать хорошо, и любой корень перерубит, и за алебарду сойдет. Но у Егора никакого агрессивного настроя. Ухмыляется, а сам машину по боку блестящему похлопывает. И подмигивает опять. «Без сопливых обошлось», — читаю я в его ухмылочке-улыбочке.
Кричит весело:
— Ты чё меня с лопатой наперевес встречаешь? Военные действия еще не объявлялись. И зверя своего придержи.
Вогнал я лопату в землю, пошел Рэмбо успокаивать. Пришпилил его на цепь, Егора впустил. А он — как ничего и не было между нами. Руку жмет от души, разве что обниматься не стал. Ну и моя настороженность, понятно, поубавилась. Интересуюсь:
— Как жизнь молодая? Успехи как?
— Сам видишь. Обошелся тогда все же. И сейчас не безлошадный. Свои колеса. Твоя хата на пути оказалась, дай, думаю заеду, похвастаюсь.
И почувствовал я, что впервые за все это время меня, наконец, отпустило. По-настоящему. Оказывается, страх до конца не проходил. Только признаться себе в этом не хотел. Боялся признаться.
— Эй! — я вороне своей кричу. — Давай на стол. Вина тащи!
— Да нет, — говорит, — я не буду. Я ж за рулем. Да и на минутку я всего.
— Мы, — говорю, — все за рулем. А встречу надо обмыть. Встречу старых друзей обмывать полагается.
И сам я в яму полез с кувшином. Лучшего вина выбрал, пока там баба на стол накрывала.
Сели мы за стол, но он пить-есть отказывается. Нет, мол, не хочу, не могу.
— Ты, — говорю, — как граф Монте-Кристо. Он в доме врага ничего не ел и не пил. Но я же, — говорю, — тебе не враг. Верно?
Он ухмыляется.
— Да уж, — говорит, — я совсем, как граф Монте-Кристо. Та только разница, что у него было много денег, а у меня — много долгов...
Ну, я его продолжал уговаривать. А это трудно удержаться, когда вино на столе и кто-то его при тебе пьет. Он и не выдержал. Уговорил.
Выпили мы с ним по кружечке, по другой. Опять треп пошел. Про то, про сё. Графинчик, глядишь, и поддался. Все вроде путем. И чего я его боялся? Сам себе страхи выдумал. Аж стыдно, тьфу...
Короче, подпили мы с Егором основательно.
И говорю я ему тогда:
— Слышь, Егор, тебе долги отдавать надо. А у меня работа для тебя есть. На пару штук. Ты как, в форме?
— А как насчет «осечки»? Вдруг опять осечка будет?
— Нет, — говорю. — На этот раз осечки не будет. Это уже серьезная работа.
Он посмотрел на меня, как в прошлый раз оценивающе и говорит:
— Годится. Только я уж теперь со своим шмалером приеду. Тогда уж точно не будет осечки.
* * *
Посидели мы тогда с ним, поговорили. Потом он уехал. Пообещал навестить. Недель так через пару.
А они прошли уже те пара недель. Значит, в любой момент заявиться может.
И такая у меня опять тоска. Черт меня по пьянке за язык тянул?
Но, может, и не приедет.
А с другой стороны шмальнуть-то и в самом деле кое-кого надо.
И хочется и колется.
И хочется...
И колется...
А надо бы...
Дважды украденная смерть



В погожий июньский день, собственно, только еще начавшийся, на автомобильном вокзале областного центра царило обычное оживление. Чувствовалась даже некоторая праздничность, которая отчасти исходила от близкого соседства божьего храма — действующей церкви, в которой шла служба. Что ни говори, а и на самых убежденных атеистов и оголтелых безбожников ритуал богослужения действует облагораживающе. Даже при том условии, что сама служба шла за стенами собора, а приметы этого события выражались для поглощенных своими заботами пассажиров коловращением древних бабок у церковных врат. Впрочем, для «наперсточников», пристроившихся на равновеликом расстоянии от молебного дома и помещения автовокзала, ровным счетом не имело значения кого обдирать — верующих или неверующих. Шла игра.
Сержант милиции Краснов прекрасно об этом знал, но при обходе территории вокзала и посадочных площадок, расположенных под навесами, к наперсточникам не совался: бесполезно, — караульные дадут знать о его появлении лишь только он шаг сделает в сторону полигона околпачивания. «Ну и шут с ними, — раз и навсегда решил Краснов, имея в виду простаков, верящих, что в наперстки можно что-то выиграть. — Не жалко денег, значит тоже легко достались».
Большие сборища людей принято почему-то сравнивать с биологическими состояниями коллективно существующих животных и насекомых. Хотя общая примета только количественная — много муравьев, много пчел, котиков на лежбище, птиц на птичьем базаре. Не ведают ни муравьи, ни пчелы, ни птицы грусти расставания, радостного волнения близкой встречи, обычных нервных издержек, сопутствующих любому путешествию, добровольному или по необходимости. Краснову эти мысли в голову не приходили — маршрут привычный, мысли тоже, если никаких инцидентов. Тесноват вокзал для миллионного города. Хоть тут и нет транзитных пассажиров, сутками ожидающих, как на железной дороге, все равно кто-то ждет...
Все как всегда об эту пору. Шум многоголосого говора, плач ребенка, кому-то весело — жизнерадостный смех тоже отнюдь не исключительное явление. Кто-то посчитал, что пора завтракать.
В положенное время подъезжают автобусы. Женский голос из динамиков, без труда перекрывающий все вокзальные шумы, несет нужные пассажирам сведения — номера маршрутов, время отправления, место стоянки. Особенно чутко прислушиваются к этому голосу стоящие в безразмерных по летнему времени очередях у билетных касс. Получившие желанную бумажку либо устремляются на посадку, либо, если посадка еще не скоро, — дремать, читать вчерашние газеты, поскольку свежих еще не привезли, искать, где бы чего попить после переживаний из-за билета и вообще по причине жары.
Краснов направился в комнату милиции.
Дежурный Фатеев, не отрываясь от писанины (надо закончить рапорт перед сдачей смены), поинтересовался:
— Ну что, порядок?
— Порядок, — подтвердил Краснов тоном, не допускающим сомнений по поводу того, что возможно другое: разве может быть иначе, когда он, Краснов, несет службу?
Непоколебимая эта уверенность была поколеблена минутой позже, когда в дежурку втиснулся робко и в то же время решительно посетитель. На лице его читались одновременно растерянность и удивление.
* * *
— Бим! Бим! Би-и-мм!
Женщина звала собаку кокетливо, явно рассчитывая на слушателей, нимало не смущаясь тем, что громкие ее призывы в начинающийся теплый июньский день, когда распахнуты окна и балконы, радуют далеко не всех. Особенно Бельтикова, сидевшего на скамейке у подъезда дома. Он тихо выругался вполголоса, через силу подумал: «Бим? Что за Бим? Почему не Бум? Или еще лучше —
БАМ. Черт бы тебя побрал вместе с твоим Бимом!» И передразнил со злостью: «Би-и-мм!»
Женщину он даже не видел, слышал только ее голос и лишь по нему мог судить, что она скорее всего молода и, наверно, привлекательна, коль так широковещательно себя подает. Раздражала его, конечно, не эта дворовая идиллия, когда на весь мир демонстрируется любовь к четвероногому другу. Раздражало то обстоятельство, что приходилось в этот ранний час торчать в собственном дворе и ждать личность, с которой вовсе не хотелось общаться в такую расчудесную погоду. Да если бы этой встречей все и ограничилось! За спиной этой личности стояло еще две, и даже три, столь же мало привлекательных, во всяком случае, сегодня, поскольку вчера он их всех любил и называл лучшими друзьями. А самое грустное, что в обществе этих личностей предстояло провести все лето вдали от привычных комфортных городских условий. Сейчас-то, на трезвую голову, он понимал, что никто в этой компании особо могучим интеллектом не отличается, попросту примитивен и джентльменскими привычками не обладает. Но и довершало все скверное состояние: голова болела, мутило и тошнило, горечь во рту не проходила, сколько ни плюй...
Тот, кого звали Аликом, появился в назначенное время. Не то улыбочка, не то ухмылочка была как бы приклеена к его физиономии. Взгляд, как и вчера, настороженный и изучающий, одутловатость щек еще заметней. «Ироническое восприятие всего окружающего», — такой вывод сделал Бельтиков, разглядывая при первом знакомстве будущего «бугра».
Что быть Алику бугром, то есть бригадиром создаваемой шабашной бригады, согласились все. Судя по его словам, он знал все, что требуется знать шабашнику: плотницкое и столярное дело, электричество, электросварку, мог вести кладку и даже, что, понятно, для наемного работника-строителя вовсе и не обязательно, мог починить телевизор...
Познакомил Бельтикова с Аликом Фадеич. Также как и с Витькой — плотным широким круглолицым мужиком с разного цвета глазами. Пятый член компании прибился через знакомых самого Бельтикова. Именовал он себя инженером-электриком, на шабашке намеревался подзаработать в отпускное время, звали его Тенгиз — именем, мало что говорящем о принадлежности к какой-то определенной национальности. (Оказался он, как впоследствии выяснилось, татарином). Просясь в бригаду, тоже перечислял свои многочисленные таланты и способности, уверял, что будет очень полезен.
Сам Бельтиков признавал, что делать почти ничего не умеет. В университетском дипломе его значилась профессия «филолог»; из своих сорока двух лет пятнадцать он проработал в газете, с весны оказался не у дел из-за конфликта на почве всеобщей борьбы с пьянством. Он не то чтобы был не согласен с общеизвестным постановлением, но держался принципа: больше не буду, и меньше не буду...
А с Фадеичем его никто не знакомил. В тот печально памятный день, когда выяснилось, что в родном редакционном коллективе ему больше не работать, Бельтиков, уже принявший хорошо по этому случаю с сочувствовавшими ему друзьями, возвращался домой с полной сеткой пива, которое посчастливилось купить, поскольку был в числе тех, кто первым увидел вставшую под разгрузку машину. Тяжело отдуваясь, он поставил или положил сетку с пивом на скамейку, где сидел, развалившись, какой-то мужик. В своем подъезде он таких не видел — явно пришлый. Да Бельтикова поначалу этот тип и не интересовал вовсе. И не из-за пьяного желания «побазарить» с незнакомым человеком, а вот что-то в лице, вернее, вначале в прическе, его привлекло. «Чем-то он похож на композитора Антона Рубинштейна, — с пьяной безапелляционностью решил Бельтиков. — Пышная шевелюра, квадратный лоб, короткий нос...» А коли так, то возникла необходимость познакомиться.
— Хотите пива? — по-простецки, как ему показалось, спросил Бельтиков.
«Рубинштейн» глянул чуть ли не с испугом.
— Что вы, что вы! Спасибо! Я вот тут жду...
— Чепуха! Никого не надо ждать. Надо пить пиво.
И он протянул бутылку, которая была принята бережно и осторожно, словно хрустальная ваза. Себе Бельтиков тоже вытянул из сетки бутылку, скребнул пробкой спинку скамейки, отчего пробка отлетела, со звуком шмякнувшись об асфальт. «Рубинштейн» повторил маневр, и вот уже они потягивали пиво, выясняя друг у друга (приоритет, понятно, держал Бельтиков) анкетные данные. Выяснилось, что «Рубинштейна» звать не Антон, а Иван, что фамилия у него Зайцев, а отчество Фадеич, что он тоже в данный момент ни на какой службе не состоит, поскольку в Горзеленхозе, где он до недавнего времени подвизался, работают в основном женщины, а они никак не хотят понимать, что запах, который после вчерашнего дня, не может быть поставлен человеку в вину, поскольку после работы никто человеку выпить запретить не может. Пришлось уйти.
— На шабашку надо ехать, на заработки, — убежденно заявил Бельтиков.
— А что, — встрепенулся Рубинштейн-Зайцев. — Я по плотницкому делу могу. Ну и там, если механизмом каким, тоже сумею...
— Знаешь что, пошли-ка ко мне домой. Там все досконально обсудим, что к чему.
«Достонально», а именно так произносил это слово Фадеич, как впоследствии имел неоднократную возможность убедиться Бельтиков, обсудить вопрос Рубинштейн-Зайцев не возражал в принципе, но его беспокоило, как отнесется к его визиту супруга нового знакомого.
— Нету супруги. В загранкомандировке. Один я.
Насчет загранкомандировки сказано было сильновато и не по делу, но кого в данной ситуации могут интересовать такие детали?
В домашних условиях Фадеич повел себя более раскованно. Биографические его данные пополнились довольно любопытными фактами. Оказалось, что он фронтовик, на войне был в строительных войсках, непосредственного участия в боевых действиях не принимал, да и пришелся на его долю неполный год, когда эти самые боевые действия происходили. Жены нету, точнее была, да, как говорится, сплыла. На скамейке должно было состояться свидание, но баба — куда она денется, а пивом не каждый день угощают, да и с хорошим человеком тоже не всякий раз поговорить приходится.
За приятной беседой на темы как конкретные, так и отвлеченные и родилась идея создания шабашного десанта. Фадеич брал на себя миссию подбора соответствующих кадров. («У меня есть на примете мужички подходящие. Все могут. Один так вообще всегда в буграх ходит»).
...И вот этот-то самый, который «всегда в буграх» приближался сейчас к страдающему Бельтикову. В одной руке он нес небольшой чемоданчик, довольно потрепанный, видавший виды, и полотняную сумку, в которой угадывалось нечто, внушающее надежду.
При виде Бельтикова улыбка у Алика несколько деформировалась, и стала понятна причина такой криворотости: верхних передних зубов не было. Причину этой щербатости Бельтиков узнал несколько позже, а пока что, вяло пожав протянутую руку, покосился на сумку.
— Привет труженикам пера! Точность — вежливость королей. Головка бобо? Сейчас полечимся.
И Алик торжественно извлек из сумки банку с пивом.
— Ну благодетель! Вот это, я понимаю, благотворительность! — заговорил Бельтиков языком Карлсона, который живет на крыше. — Вот уважил, так уважил!
И оба стали по очереди припадать губами к банке, нимало не смущаясь тем, что кто-то их может увидеть.
— Сейчас подлечимся и двинем на вокзал. Наши архаровцы уже ждут наверно. Договорились ехать, значит, будем ехать, — рассуждал Алик вслух.
И Бельтикову уже не казалось решение, принятое вчера на совещании-попойке членами бригады, мягко говоря, несостоятельным. Все будет о’кей. Вчера, во всяком случае, так казалось. Временное утреннее сомнение можно отнести за счет состояния. Поправилось состояние, поправилось настроение. Так что, вперед, с песней!
* * *
Фатеев, вынужденный оторваться от важного дела — писания бумаги (а в ней и надо-то было всего несколько фраз) — недовольно уставился на посетителя.
— В чем дело, гражданин?
Гражданин, прилично одетый мужчина лет под сорок, развел руками, изображая недоумение.
— Обокрали.
— Как то есть, обокрали?
— Обыкновенно. Увели саквояж.
Краснов смотрел на мужчину, словно на привидение, хотя спортивного вида безрукавка с карманчиками и светло-серые хорошо отутюженные брюки говорили за то, что это нормальный, вполне современный человек, к потустороннему миру отношения не имеющий. Как же так, ведь Краснов только что докладывал, что все в полном порядке! Ни шума, ни гама, ни криков «Держи вора!» Наливаясь краской, Краснов спросил посетителя:
— А вы куда смотрели?
Тот смущенно пожал плечами.
— Видите ли, мы с сынишкой поехали в Карабаш к моей сестре на день рождения племянника. Билеты купили, до автобуса еще двадцать минут, я пошел посмотреть не привезли ли свежие газеты. Сыну сказал, чтобы посматривал, вернулся буквально через пять минут, спрашиваю сына где саквояж, а он только глазами хлопает.
— Ясно... Ясненько. А что было в саквояже?
— Ну что, свои вещички кое-какие, пару дней все же собирались задержаться, у меня отгулы по работе... И подарки, понятно. Фотоаппарат мальчишке я вез, мой парень авторучку трехцветную приготовил... Электробритву я с собой всегда вожу свою, чужими не бреюсь. Так, по мелочи еще, платки, носки. Личного пользования так сказать, вещи...
— В общей сложности на какую сумму наберется? Можете прикинуть?
Гражданин подсчитывал в уме минуты три. Оба милиционера молчали. Посетитель наконец решился.
— Думаю, рублей на сорок.
Фатеев удовлетворенно крякнул.
— Ну, вот видите, гражданин хороший, мы ваше заявление-то и принимать не можем. Даже до полусотни не дотягивает ваша пропажа. А искать где? Вор, может, уже со скоростью восемьдесят километров в час в совершенно противоположную сторону мчится.
— Так что же, выходит, воруй себе на здоровье и никому до этого и дела нет?
— Дело-то, положим, есть. Но сами посудите, сколько будет стоить этот поиск? Намного дороже, чем ваше барахлишко. А нет бы вам самим поаккуратнее быть. Оставляете вещи, уходите, а милиция виновата. Перепишите ваши вещички, список оставьте. Где что обнаружится — дадим знать.
Гражданин вздохнул. Невесело усмехнулся:
— Один шанс из миллиона. Так сказать, спасение утопающих — дело рук самих утопающих...
— Осторожней надо быть в другой раз.
Высокий молодой парень в зеленой штормовке, показавшийся в дверях, спросил разрешения, прежде чем войти, и, получив положительный кивок головы старшего по званию, втиснулся в помещение.
— Рюкзак...
— Что «рюкзак»? Стащили?
Эти слова Фатеева парень воспринял как подсказку. Словно студент на экзамене.
— Да-да, — заторопился он. — Именно стащили. Увидел знакомую, поговорил с ней пять минут, вернулся — рюкзака нет.
— Куда ехали? И что в рюкзаке?
— На озере у нас база. Институтская. Ехал туда, разное вез, свое и для ребят. Много чего, полный рюкзак был набит...
— А все же поконкретней?
— Кинокамера была, любительская. Шестнадцать миллиметров. Рыболовные снасти. Будильник. Велосипедные камеры...
— Камеры... — повторил в раздумье Фатеев. Велосипедные, куда еще ни шло, а вот кинокамера...
Он побарабанил пальцами по столу. Проговорил, ни к кому не обращаясь:
— Гастролеры, выходит, какие-то наш вокзал своим вниманием удостоили...
* * *
Витька в сильно потертой кожаной тужурке, которая, надо думать, была старше хозяина, с обширной хозяйственной сумкой на молнии уже поджидал их в условленном месте. По его широкому лицу невозможно было определить, какое у него настроение и состояние: бесстрастное выражение никаких оснований для предположений и догадок не оставляло.
— Фадеича нет? — коротко поинтересовался Алик. — Билеты не брал?
Витька неопределенно пожал плечами, что было ответом на оба вопроса: нет.
По тону вопросов можно было заключить, что Алик уже принял на себя обязанности «бугра». И Бельтиков как должное принял его распоряжение:
— Ты, Артур, — а именно так нарекли родители Бельтикова, в честь, надо думать, Овода, — давай за билетами, а мы будем караулить Фадеича. Старый козел с похмелюги может заблудиться.
Бельтиков не стал выяснять, что может означать «заблудиться». Он только спросил, сколько брать билетов. Алик на секунду задумался, потом вынес решение:
— Бери четыре. Фадеич все равно должен подойти. Тенгиз обещал позже подъехать. Дела какие-то ему тут завершить надо.
В том направлении, куда бригада собралась, автобусов шло много, долго стоять в очереди не пришлось и, когда Бельтиков вернулся к своим компаньонам, Фадеич уже дополнял группу, украсив ее своим присутствием. Ибо невооруженным глазом можно было установить, что он не просто «освежился» где-то, но и готов к любым подвигам. Соответствующее объяснение с бугром, видимо, уже произошло, поскольку Фадеич всем своим видом выражал готовность идти в огонь и воду. К Бельтикову он бросился как к родному брату, которого не видел много лет и начал чуть ли не обниматься. Бельтиков почувствовал густой запах одеколона, но не такой, какой бывает после парикмахерской.
Конечным маршрутом путешествия было отделение одного из совхозов, питающих город молоком и овощами. Ехать было не так уж и далеко — километров, может быть, шестьдесят. Друзья-журналисты договорились насчет работы, адрес был вполне конкретный, к конкретному человеку, который был согласен принять на лето бригаду наемных рабочих — дел-то всегда хватает, а рабочие руки — где они?
Бельтиков не видел, с какими вещами прибыл Фадеич, и, когда началась посадка на автобус, постарался побыстрее проскользнуть в салон, неся на плече свою походную сумку. Витька последовал за ним и они устроились на задней площадке, не особенно жаждая общаться с остальными членами бригады, поскольку вид Фадеича, его громкий голос уже привлекал недоуменные взгляды окружающих. Алик же считал своим долгом проследить за членом бригады, чтобы с самого начала не иметь потерь в личном составе.
Билетов на посадке не проверяли, и Алик, убедившись, что Фадеич понял, в какой автобус ему надлежит влезть, поднялся к остальным. Бельтиков ждал, когда же этот старый дурень присоединится к ним. Но тот, судя по всему, не торопился. Он размахивал руками, бодро покрикивал и даже, похоже, кому-то помогал с посадкой. Вот он закинул в автобус какой-то рюкзак, потом в руках его мелькнула сумка с эмблемой Аэрофлота... Бельтиков отвернулся, чтобы, не дай бог, его не заподозрили в знакомстве с этим пьяным кретином. «Джентльмена из себя вздумал корчить, алкаш дубоголовый, пень старый, прохиндей чертов». Он облегченно вздохнул, когда автобус наконец тронулся. Однако обрадовался он преждевременно: все еще было впереди. Фадеич никак не хотел сидеть на одном месте. Он ходил по салону, хватаясь за спинки кресел, выкрикивал какие-то нелепости, словом, шарашился. Бельтиков начал было уже побаиваться, что их всех высадят где-нибудь средь чиста поля, но Фадеич, пристроившись на заднем сиденье, неожиданно уснул. Да так и ехал, никому не мешая, до конечной остановки. Выходили последними. И когда Фадеич, глядя на окружающий мир осоловелыми глазами, вдруг сказал, что эти вещи тоже наши, имея в виду рюкзак, аэрофлотовскую сумку и саквояж, все были слегка озадачены. Но Фадеич, схватив свой потрепанный чемоданишко, в котором, как оказалось, были инструменты плотницкие и столярные, ухватил еще и рюкзак. Тоном, не допускающим возражений, велел прихватить Витьке саквояж. Алику ничего не оставалось, как взять оставшуюся сумку. Бельтиков к вещам этим прикасаться не захотел — в душу его закралось подозрение. Все это ему не нравилось.
Автостоянка представляла собой сляпанный из шлакоблоков прямоугольник с неполной одной стороной. Сооружение это отстояло от села — главной усадьбы совхоза — на довольно значительном расстоянии и располагалось на перекрестке дорог. Здесь предстояла пересадка на автобус, идущий до совхозного отделения, в котором предполагалось работать. Часть людей, вышедших здесь, направилась в село, другая часть осталась вместе с «шабашным десантом», но довольно скоро тоже уехала на рейсовой машине, идущей в противоположном от нужного бригаде направлении.
Шабашники остались одни. Теперь-то стало сразу заметно, что вещей для столь маленького коллектива многовато. Да и вид этих сумок мало гармонировал с видом членов бригады. Сиротливо сбившиеся у одной из наружных стен сумка, рюкзак, саквояж вызывали у Бельтикова чувство растерянности, даже страха.
А виновник всех этих треволнений — Фадеич, утомленный ожиданием, безмятежно спал на травке, положив голову на чемоданчик с инструментами. Витька тоже вроде бы подремывал, прислонясь к стене. Алик безучастно устремил скучающий взгляд в пространство. Бельтиков подошел к нему, ощущая во рту сухость от охватившего его волнения:
— Чьи это вещи?
Алик неопределенно дернул плечом. Потом переадресовал вопрос к Витьке.
— Витек, ты что по поводу этих «сидоров» думаешь?
Тот, не меняя позы, равнодушно бросил:
— Фадеича спрашивайте. Я думал это вы столько барахлишка с собой везете. А, выходит, дядино это...
— Он нас что, под срок подвести захотел? Как его теперь спрашивать, без задних ног дрыхнет...
— Да где он так накушался? — вырвалось у Бельтикова.
— Флакушки. Он их большой любитель.
Все понятно: Фадеич из тех, что пьет любое спиртосодержащее вещество, а дуреют от этого по-страшному. Но от этого объяснения не легче: сам того не желая, Бельтиков стал соучастником преступления. И как этого пьяного обормота никто за руку не схватил? Вот тебе и шабашка! Впрочем, то, что не схватили сразу, еще ничего не значит. Будут искать, могут найти. Что теперь делать? Заявить в милицию? Вряд ли такое решение одобрят остальные. Фадеича заметут. А что дальше? Бельтиков мучительно искал выход из положения.
— Что будем делать? — обратился он теперь уже к обоим.
И снова пожимание плечами. Но видно было, что неординарность ситуации смущала и Алика и Витьку.
Подошедший автобус понуждал принимать немедленное решение.
— Может, оставим все здесь, — робко предложил Бельтиков.
— А что толку, — рассудительно выдвинул Алик контрпредложение, — упрут какие-нибудь ханыги. Да и кто первый увидит, тот и заграбастает.
— Ну хоть мы чистыми будем. А так...
— Ладно, пока возьмем, а там разберемся что делать. Витек, подхвати это барахлишко! А ты, Артур, распинай этого козла, а то ведь так тут и останется.
«Это было бы самое лучшее», — подумал Бельтиков, но «козла» поднимать пошел, радуясь, что как и в первый раз, в автобусе, не прикасался к ворованным вещам. Алик и Витька справились одни. А Фадеич, глядя осоловевшими глазами, которые продрал не без труда, никак не мог понять, чего от него хотят. Бельтиков почти силком впихнул его в автобус.
* * *
Следователь Пеночкин, которому поручили расследовать обстоятельства краж на вокзале, отнесся к этому с философским спокойствием: одним нераскрытым делом больше, меньше — какая разница? В том, что дело абсолютно безнадежно, он ничуть не сомневался. Полное отсутствие каких бы то ни было улик; непонятное совершенно ограбление. Подозрительных личностей работниками милиции, дежурившими в тот день на автовокзале, замечено не было. Свидетелей, понятно, никаких. Потерпевшие в абсолютном неведении относительно того, как это все могло произойти. Полежат их заявления в папочке сколько положено, а там и списать можно. Единственное, что может вывести на след — появление похищенных предметов где-нибудь в продаже. Но где? Они и в Ташкенте могут объявиться, и в области в каком-либо городке, и в самом областном центре. Фотоаппарат и кинокамера — вот предметы, которые еще могут быть проданы; во всяком случае попытку продать их выявить есть надежда. Правда, очень и очень слабая. Либо случайность, либо везение. И то и другое, как известно, бывает не часто...
На всякий случай Пеночкин внимательно перечитал длинный список похищенных вещей, не пренебрегая даже самыми мелкими. Так сказать, для очистки совести. Нельзя же просто так отмахнуться от поручения из-за полной его безнадежности. А вдруг?
Подробно, насколько позволяли описания заявителей, написал ориентировку на несколько предметов, показавшихся ему более значительными. Соответствующие службы и люди займутся этим, за то и деньги получают. А ему, Пеночкину, хлопот и без того хватает. И он потянулся к папке, в которой заключались материалы по делу о хищении наркотиков в одной из аптек города.
* * *
Управляющего на месте не оказалось. Кроме же управляющего, естественно, никто ни принять, ни сказать ничего определенного насчет работы не может, ни тем более устроить с местом жительства или там с питанием. А перекусить уже не мешало.
Расположились под деревьями напротив конторы. Так, чтобы самим особенно глаза не мозолить, но управляющего не пропустить. Фадеич снова кулем упал. Да так, что даже рот открытым остался. Остальные тоже прилегли, обмениваясь негромкими репликами, которые, как почувствовал Бельтиков, крутились вокруг прибавления имущества, сколь неожиданного, столь и противозаконного. И вполне понятно, что все это интриговало, занимало умы. Но первым произнести слово, которое бы послужило сигналом «на абордаж», не решался никто. Витька явно не хотел «высовываться», а Бельтиков боялся того, что произойдет, хотя теперь уже понимал неизбежность этого. Всем хотелось переложить ответственность на Фадеича, хотя каждый понимал, что это — липовый предлог, чтобы успокоить совесть.
Гениальные мысли рождаются сами собой, неожиданно, экспромтом. Витек просто высказал вслух то, что, видимо, давно не давало ему покоя:
— Мужики, а может, кто пузырек вез? Лежит сейчас, родимый, без дела. И он страдает, и мы... Может, проверим?
— Пусть Фадеич проверяет, это по его части.
— Он сейчас всю неделю вот так, с раскрытой пастью, спать будет.
Возможностей Фадеича проспать целую неделю оспорить Алик не успел. Грузовик, лихо пыливший по деревенской улице в сторону конторы, вдруг круто свернул к деревьям, под которыми высадился шабашный десант. Из кабины выскочил моложавый еще человек в рубашке с короткими рукавами и довольно замызганных джинсах.
— Что за публика? — спросил скорее весело, нежели начальственно. — Откуда табор?
Бельтиков, имевший соответствующие рекомендации друзей, координаты и фамилию управляющего, предположил, что это он и есть и не ошибся. На вопрос «Вы наверно Василий Николаевич?» получил утвердительный ответ.
— Ну вот мы прибыли, — стараясь придать голосу как можно больше бодрости, стал он представлять участников экспедиции. — Это наш бригадир — Александр Васильевич Ершов. — Это — члены бригады. Один еще не прибыл, дела в городе держат, завтра-послезавтра прибудет. Готовы выполнить любой приказ родины.
— Приказ-то приказ... А тот — тоже член бригады?
— Д-да, — нерешительно протянул Бельтиков. Голос его сам собой приобрел заискивающий оттенок. — Заслуженный товарищ, фронтовик, строительными специальностями владеет многими, полезный, словом, товарищ...
— Может, и полезный, — легко согласился управляющий. — Только давайте, чтобы его тут не было. Не надо, чтобы тут такие были. Своих хватает.
— Утомился человек, все ж в возрасте... — попытался вступиться за подопечного Алик.
— Вижу, как он утомился, — усмехнулся управляющий. — Ну, ладно, у меня дела срочные. Вечером часов в пять поговорим обо всем. Решим все проблемы. И насчет того, чем будете заниматься...
— И где жить, — вставил Алик. — А вот насчет того, чего покушать, и сейчас бы не мешало решить... Мы ж без сухого пайка...
— Хорошо хоть, без мокрого. Дам записку в столовую. Покормят вас там, за наличный расчет, само собой...
И он упылил так же внезапно, как и появился. Витек как бы невзначай пошевелил сумку с эмблемой Аэрофлота, пытаясь понять, как она открывается.
Замок молнии за полсекунды сделал возможным обзор таинственного содержимого сумки. Тонкая сброшюрованная пачечка листков из журнала «Огонек». (Бельтиков понял, что это собранный из разных номеров какой-то детектив). Объемистый пакет с травой. И еще один сверток, содержимое которого повергло Бельтикова в смятение. Шприцы, ампулы, коробочки с лекарствами — даже самый несведущий в этих делах человек сегодня понимает, что все это может означать.
В аэрофлотовской сумке больше ничего не оказалось, если не считать какого-то замызганного барахла. Витька не смог скрыть своего разочарования: наркоманские штучки его не интересовали. Брезгливо-равнодушно покрутил все это и Алик, Бельтиков ни к чему не прикоснулся. Витька полистал переплетенные журнальные листы, даже встряхнув их, чтобы убедиться, не заложено ли чего между ними. Бельтиков успел прочесть на одной из открывшихся страниц название повести и автора: Жорж Сименон «Мегрэ и его мертвец».
«Веселенькое названьице. Все в масть...»
Рубикон был перейден, за первой сумкой принялись потрошить остальные. Витьку, одержимого идеей найти спиртное, теперь уже остановить было невозможно. И искомое обнаружилось. Вез с собой бутылку марочного хереса гражданин, ехавший на день рождения племянника (о чем он либо забыл упомянуть в милиции; либо поскромничал). В обширном рюкзаке направлявшегося на базу отдыха молодого человека среди множества предметов оказалось даже две бутылки коньяка. Витька это обстоятельство повергло в восторг, от его меланхолии не осталось и следа. «Живем!» — потирал он руки. Бельтиков, как ни странно, тоже почувствовал какой-то душевный подъем. Захотелось уйти от этих неприятных событий реальности, не думая о последствиях. Алик же отнесся ко всему с позиций человека практического, к тому же облеченного доверием и властью.
— Мы этим угостим управляющего. Проверим его, так сказать, на вшивость, — рассуждал он, подкидывая бутылку в руке. — От пяти звездочек, думаю, не откажется, какой бы идейный ни был. А, Витёк?
— Да дуру он гонит, — отозвался Витёк поспешно, думая явно о другом. Делиться с кем-то посторонним дармовым коньяком ему совсем не улыбалось. Хотя вступать в пререкания с бугром, да и остальными, ему тоже было ни к чему. А что еще скажет Фадеич? Он поднялся и постучал носком ботинка в Фадеичеву подошву.
— Кончай ночевать! Дед Мороз подарок принес!
Фадеич мычал, бормотал что-то вроде «не мешай спать», но в конце концов сел и стал с некоторым недоумением озираться. Но когда взгляд его зацепился за бутылки, он вдруг подобрался, как пружина, и, приговаривая «ну-ка, ну-ка», сделал нетвердыми ногами шаг-другой по направлению к бутылкам.
— Твоя добыча, давай банкуй, — не то шутя, не то серьезно подначил Фадеича Витек. — Ты их, видать, через материю учуял...
Фадеич ровным счетом ничего не понимал, кроме того, что есть бутылки и находятся они в расположении бригады. И то ли что-то сопоставив, что-то смекнув, он вопросов лишних задавать не стал, лишь поинтересовался, у кого есть тара. Тара, аршин, балдометр — сколько названий у безобидного стакана! И никому не надо переводить с тарабарского на русский все и так понятно.
— Ишь, разлетелся, тару ему подавай, — проворчал Алик, — Артур, дойди до столовой, попроси стакан, а заодно скажи, что Василий Николаевич нас накормить велел... Хотя, ладно, я сам схожу. Покажу записку, договорюсь, когда подойти.
Или Алик по напрягшемуся лицу Бельтикова заметил, что эта роль мальчика на побегушках не по его характеру, или и в самом деле понял, что ему, бугру, пойти договариваться насчет обеда сподручней, только пошел он сам. Столовая стояла в том же порядке домов, что и контора, их разделяла только дорога, через которую, поднимая пыль, проносились автомашины.
Вернулся Алик быстро, по лицу его было видно, что миссия завершилась удачно во всех отношениях. Укрывшись за кустом, чтобы не видно было из окон конторы, распечатали коньяк. Как выглядит четвертая часть бутылки в граненом, расширяющемся кверху стакане, известно было всем. Однако Алик грязным ногтем наметил на этикетке бороздки и дележ «пузырька» прошел гладко. По очереди (первым это право было предоставлено почему-то Бельтикову) заглотили дорогой коньяк, заели конфетками из коробки гражданина, ехавшего на день рождения, и через несколько минут все повеселели.
Бельтиков даже повторил свою обычную шутку, которую повторял всегда, когда доводилось пить коньяк: «Божественный напиток, но цена безбожная!»
* * *
Костя Длинный был в отчаянье. Не то слово: он чувствовал себя осужденным, приговоренным к высшей мере. Убить за потерю могут, не раздумывая. Попробуй докажи, что тебя обворовали, а не загнал ты сам «соломку», «машинки», «колеса» и все прочее.
Сам Костя «на иглу не садился», «травку» курить пробовал, но Таня так решительно этому воспротивилась («если узнаю, что ты продолжаешь с этими хороводиться, ко мне не ходи и не звони»). Она так выделила слово «этими», что сомневаться не приходилось: «тянуть резинку» не станет. Девушка красивая, замену найдет, а ему, Косте, что делать? На иглу садиться вместе с Коляней и его компанией? Нет уж... Больно все это страшно. Отсутствующий взгляд, который становится стеклянным, как у мертвеца. Пустая квартира, мерзость запустения, жрать нечего, а все помыслы на то, как бы уколоться... А эта ломка? Смотреть жутко.
Весной, когда обворовали аптеку, в Коляниной компании начались трения. Кое-кто считал, что Коляня замешан в этом, но виду не показывает. И вот сейчас его намерение уехать из города эту версию как бы подтверждает. Косте в принципе на это все наплевать: оберегать надо лучше народное достояние, тогда и воровать не будут. Ах, черт! Как зло шутит судьба. Ирония эта обернулась сейчас против него самого... Оберегать... Сумку несчастную не уберег... Постой, как же это получилось. Все время на плече была. Ведь ясное же получил предупреждение: не довезешь сумку до места — читай молитвы, какие знаешь... Вот и не спускал ее с плеча. А тут... Женщина коляску с ребенком втискивала в автобус. Даже и не просила ведь, а так только с мольбой взглянула. Дверь створчатая, проход трубчатой дугой разделен для удобства пассажиров, чтобы держаться им было за что. Кому-то удобство, а кому-то хоть плачь. Костя и бросился на помощь. А сумку инстинктивно бросил на скамейку, на секунду забыв, что в ней. И этой секунды хватило, чтобы она исчезла. Может, следили уже за ним? А чем докажут, что это моя сумка? Своих-то вещей и затолкнул в нее Костя лишь детектив сименоновский на дорогу. Да нет, не следил за ним, конечно, никто. Просто стоял рядом какой-то подонок, все видел и польстился на красивую сумку, даже не предполагая что в ней за содержимое, наверняка посчитав, что в такой шикарной оболочке и начинка шикарная... Чего теперь гадать. Надо думать, как выходить из положения. Выхода же пока не виделось никакого. В Новоуральске его ждут сегодня. Придут встречать. В назначенное время. Приехать без сумки — нечего и думать. Не поверят, чего бы ни придумал. Правде тем более не поверят. Спрятаться, скрыться, уехать куда-нибудь? Надо позвонить Тане, предупредить. А мать? Сказать, что поехал в командировку? Будь они прокляты, эти игольщики! Сказать бы твердо: не поеду никуда, нет возможности. «Век не забудем»... Их век-то и помнить нечего. Память только в одном направлении работает: где найти? Где достать? На что купить? А на что купить забота серьезная. Вот если бы даже знал, где купить то, что у него украли, не смог бы все равно. Шансов, как говорится, не хватит...
Да, забыл совсем. Пустяк самый — а как с работой? Не выходить и все, а там по статье? Ну, проклятое положение! Куда ни кинь... Жизнь однако дороже. А сколько можно прятаться? Неделю, месяц, год? А дальше? Менять место жительства? И что Тане сказать? Где жить? За чьи-то грехи... Ну, дурак, дурак. Хоть топись...
И в следующее мгновенье Костя понял, что никакого иного выхода, кроме того, чтобы пойти и признаться во всем Коляне у него нет. «Разборы» будут жестокие, это как пить дать, но чтобы убить...
Такого еще не бывало. То есть, бывать-то, конечно, бывало, читал даже, как мента топором пристукнули. Но то преступники, а их и без наркоманов хватает. Просто среди них и наркоманы есть. Здесь же все-таки свои ребята. Пообещаю со временем вернуть, может, сам что достану...
...Николай Шариков, именуемый в определенных кругах «Коляней», грузноватый мужик лет под сорок, к наркотикам пристрастился давно. Был хорошим закройщиком, имел много денег, семью. Все ушло. Ушли заработки, ушла жена с сыном, отдалились или вовсе отошли насовсем друзья и знакомые из тех, что поприличней. В квартире Коляни образовался некий «клуб по интересам». Были поначалу кое-какие сбережения (о них Коляня распространяться не любил никогда), но слишком дорого стало обходиться увлечение. Источники добывания средств становились все опаснее, публика, посещавшая Коляню, все подозрительней.
Костя Длинный (прозванный так, естественно, за рост) был из тех знакомых, которые сохранились еще из благополучных времен. Познакомились они не по принципу «ты мне — я тебе», ни соседские, ни служебные дела их не связывали. Их в свое время свела общая страсть к собиранию значков. Коллекционеры редко ограничиваются каким-то одним видом собирания. Вместе со значками подкапливаются и монеты, и марки, и открытки — все в хозяйстве коллекционерском пригодиться может. Но Костя и Коляня были преданы значкам, собирали их по географическому принципу, а это принцип не простой: постоянно сидя в одном городе на очень большое разнообразие рассчитывать не приходится. Коляне с его швейными делами разъезжать по городам и весям особой нужды не было. А вот Костя мотался по всему Союзу — был он специалистом по КИП и автоматике, в электронике разбирался, а это по нынешним временам дело нужное. Даже в Иране успел побывать несмотря на свой сравнительно небольшой — за тридцать — возраст. А вот жениться времени не хватило. Жил с мамой, о собственной семье как-то особенно не помышлял, пока не встретился с Таней-аптекаршей. Сама беленькая и во всем белом произвела она на Костю неотразимое впечатление. Ходил он для мамы выкупать лекарство: ему-то услугами аптек рано еще пользоваться. Но зачастил в это заведение. То витаминок купить, то цитрамону — на большее его фантазии не хватало — пока не осмелился пригласить Таню в кино. И она не сразу, но согласилась. А потом пошло-поехало...
Перемены в Коляниной жизни Костя заметил не сразу. Дома они друг у друга почти и не бывали — все их встречи в основном ограничивались меновым клубом. Коляня Костю ценил, расположением его дорожил — еще бы, такие значки всегда из поездок привозит! А Костя, когда была возможность добыть хотя бы два значка, один всегда заначивал для Коляни. Понятно, и тот в долгу не оставался, делился, чем мог. К тряпкам правда, Костя был равнодушен, смокингов не заказывал, предпочитая покупать пиджаки в отделе готового платья. Но у Коляни среди коллекционеров был авторитет, а влияние его распространялось отчасти и на Костю.
Как-то Костя раздобыл особо редкий значок из ЮАР, был вне себя от радости, летел к приятелю, чтобы эту радость разделить, и был немало удивлен, когда ответных восторгов не последовало. «Да, знаешь, дома не все ладно», — объяснил тогда Коляня причину своего кислого состояния. Потом Костя понял, что его приятель-компаньон к их общему увлечению охладел. В причины он вникать не хотел, но Коляня пригласил его однажды к себе.
— Жена с сыном в отпуск уехали, — предупредил он.
— Так я, может, с девушкой приду?
Коляня слегка призадумался, но потом разрешил:
— Валяй.
Таню сборище Коляниных гостей поразило. Ему же, наоборот, они показались интересными: с его технарскими пристрастиями любопытно было послушать о чем говорят люди, близкие, как ему сказали, к литературе, к искусству. Видок у этих жрецов храма искусств был, правда, несколько необычный, но вольность в нарядах, прическах и манерах объяснялась емким и красивым словом «богема».
Возможность Кости бывать в дальних командировках, похоже, вызвала интерес. Но, пожалуй, с еще большей заинтересованностью отнеслись присутствующие к принадлежности Тани к провизорскому делу. Тогда-то и предложили им покурить «травки». Костя храбро согласился, а Таня так активно и даже сердито на это отреагировала, что он, чтобы не уронить мужского достоинства сделал пару затяжек, приобщился, так сказать, и тоже сказал, что ему не нравится.
Потом виделись редко. Что стало с Коляниной коллекцией, Костя не интересовался, но догадывался. Он уже знал, что означают сборища, подобные тому, какое он видел у Коляни. А этот последний, как выяснилось, порывать отношений с Костей не хотел. От него несколько раз приходили какие-то типы, звали заходить, спрашивали, где работает Таня — кому-то, якобы, надо достать редкое лекарство. Визиты эти кончались ничем, Костя никуда идти не хотел.
Таня так категорически выразила свое нежелание иметь какие бы то ни было контакты с «этой» публикой, что Костя понял: о Коляне и его друзьях надо забыть навсегда.
Не получилось. На этот раз Коляня пришел сам и стал слезно умолять оказать ему услугу. Услуга заключалась в том, чтобы отвезти в Новоуральск сумку. Сам Коляня собирался туда ехать погостить, вещей у него набирается много, а товар это такой, что почте не доверишь. Для Кости риска никакого, в крайнем случае прямо назовет, у кого он взял эту сумку и для чего. Костя попытался было сослаться на работу, но Коляня и слышать ничего не хотел: «Возьми отгул, я в долгу не останусь...»
И вот финал. Сейчас надо идти к Коляне и объяснять, чем кончилась его затея.
* * *
Работы на отделении хватало на все лето. Управляющий, приехавший из соседнего совхоза с какого-то мероприятия районного масштаба, был настроен более размягченно и разговаривал на этот раз без первоначальной напористости. О своем требовании изгнать проштрафившегося Фадеича он словно бы и забыл, а когда в руках Алика появилась бутылка хереса, он даже крякнул, выразив тем самым свое удовлетворение принимаемым оборотом дела. Он взял бутылку, долго ее крутил в руках, разглядывая надписи и вынес заключение:
— Мы здесь от такого уже давно отвыкли. Не помню, когда уж и пробовал...
— За чем дело стало? — встрепенулся Алик. — Сейчас и попробуем. У нас и стакашек найдется.
— Ну, такую красоту, да из стакана! Это ж не пить — дегустировать надо.
Алик сориентировался моментально..
— Тогда так. Бутылку от нас примите для знакомства. С супругой в подходящий момент распробуете. А для знакомства можно и более мужской напиток принять.
И снова в руках у Алика бутылка. На этот раз коньяк. Пять звездочек, армянский. Устоять против этого трудно. Управ заколебался.
— Ну что вы, мужики, как можно... Прямо, считай, перед окнами своей конторы. Хоть бы в помещении где-нибудь.
— Вот как раз и насчет помещения, — опять нашелся Алик. — Насчет жилья-то нам пора подумать, вечер надвигается, а у нас крыши над головой пока нету.
— Да-да, это вы вовремя вспомнили. О жилье для вас надо решить вопрос безотлагательно. Надо вас куда-то поместить. А вот куда?
Управ задумался. Все почтительно молчали. Фадеич, на которого вновь принятая доза, как ни странно, повлияла благотворно, вдруг ожил. Он сидел прямо, смотрел на начальство преданными глазами и всем своим видом выражал готовность идти и в огонь и в воду, хотя про себя наверняка думал, что неплохо бы сейчас попасть в «Гвоздику» — парфюмерный магазин... Алик, полагая, что немножко грубой лести в данный момент не повредит, решил похвалить столовую отделения. Хорошая столовая — управа, считай, заслуга. И пока он расхваливал гуляш с вермишелью, которым их кормили, а заодно и само новое помещение столовой, мысли управа приняли верное направление.
— Да! Столовую-то мы ведь построили совсем недавно. А старое помещение пустует. Кровати поставить — вот вам и жилье. Матрацы, постельное белье — дадим.
— И новоселье заодно отметим, — вдруг вылез Фадеич.
Алик вложил во взгляд, которым одарил непрошеного комментатора событий, весь гнев и все презрение, которыми был наделен. Управляющий реплику игнорировал. Он поднялся со сломанного ящика, на котором сидел (это уже гости временно устраивали свой быт, натащив всякого хлама, который можно приспособить под сиденье) и окликнул выходившую из конторы девушку:
— Настя! Сходи к Клавдии Ивановне, возьми у нее ключ от старой столовой и принеси.
Помещение бывшего пункта питания грязновато, темновато, тесновато, в одном из углов небольшого зальца, которому суждено было стать общежитием, стояла круглая голландская печка, которую, станет прохладно, можно подтапливать, но все же импонировало своей автономностью. Ни столов, ни стульев сейчас, правда, в зальчике не было, но в кухонном отделении, где еще не демонтировали громоздкие плиты, на которых раньше варились супы, борщи и компоты, готовились гуляши и поджарки, можно было пристроиться. В кранах еще была вода, так что единственный стакан, которым бригада на данный момент располагала, можно было даже сполоснуть, прежде чем подать его Василию Ивановичу.
Разговор состоялся душевный. Управляющий был настроен на положительное отношение к приехавшим наемным рабочим еще до встречи с ними: ему звонили, предупреждали. Ну, а личный контакт вылился и в более чем деловой. Стало быть, можно рассчитывать на работу выгодную, хорошо оплачиваемую. Пусть и трудную, но чтобы не протолочься все лето впустую.
— Силосную траншею бетонировать возьметесь? — спросил управ, когда стакан обошел всех по кругу и курильщики вынули у кого что: Алик неизменный «Беломор», Фадеич — «Астру», Витька «Приму». Бельтиков и Василий Николаевич участия в отравлении атмосферы не принимали, оба были некурящими. — Надо выставить стенки из готовых уже плит. Они привариваются друг к другу там, где есть выходы арматуры. Кран дадим, варить самим придется. Бетон самим готовить, бетономешалку дадим, цемент, песок, щебенку тоже сами возить будете. Бетонировать — самым примитивным образом: носилочками... В основном — все своими руками. На лето вот так хватит!
И управ провел ребром ладони себе по горлу.
— Думаю, нам это под силу, — за всех ответил Алик. — С завтрашнего дня и приступаем. Значит, насчет кроваток, постелек указание будет дано?
— Сейчас напишу записку Клавдии Ивановне.
Бельтикову, слегка оглушенному новой коньячной дозой, слышать все это было отрадно. Не очень-то верилось ему поначалу, что за словами последует и дело. Но при всем при этом никакой кайф уже не мог заглушить тревоги: краденые вещи мозолили глаза, да и выпитый коньяк тоже был ворованным.
* * *
Коляня, к
счастью, оказался один. Пребывал он в блаженном состоянии кайфа, был добродушен и выразил чуть ли не радостное удивление, увидав Костю.
— Ты что, уже съездил? Так быстро? Ну, молоток!
— У меня украли сумку, — не давая времени на подготовку, выпалил Костя.
Смысл сказанного дошел до Коляни не сразу. Он еще улыбался широко и приветливо, но вдруг словно на бегу споткнулся о преграду: «Ты что сказал?»
— У меня украли сумку, — раздельно произнося каждое слово, отчетливо выговорил Костя.
— Не надо так шутить, — все еще улыбаясь проговорил Коляня, но в глазах его чадно затлел нехороший огонек.
— У меня украли сумку! — почти выкрикнул зло Костя. — Украли на вокзале. Может, твои же друзья, откуда мне знать. Сам же ты их за мной мог и послать.
— А зачем мне это? — тихо и зловеще спросил Коляня. — Я тебе верил, а ты меня обманул. Я не дурачок, чтобы верить басням. Только не пойму, зачем тебе это понадобилось. Если продал — заплатишь цену в пять, в десять раз большую. Если ты нас продал — заплатишь... сам знаешь чем. Расскажи, как было дело?
Костя рассказал. Коляня сидел в кресле, покачивая ногой и вперив взгляд в разноцветный узор линолеума на полу. Когда Костя закончил свое повествование, он еще долго не поднимал головы, стоял, прислонившись к дверному косяку, и со страхом ожидал Коляниного решения. Молчание затягивалось, ему стало не по себе.
— Могло случиться и так, — проговорил Коляня наконец. — Могла и женщина с коляской подвернуться, мог и вор поблизости очутиться. Но нам от твоего объяснения не легче. Мои мальчики тебя не поймут. Я бы тебя по старой памяти простил, но другие... Боюсь, тебе круто придется. Башли во всяком случае собирай. Может, и откупишься. Но лучше всего — ищи. Ищи все, что можно... — И, словно вспомнив что-то очень важное, поднял палец и замер, как бы прислушиваясь. Понизил голос до шепота. — У тебя ведь знакомая в аптеке работает? Ну, девушка твоя. Так вот, если она тебя любит, пусть подумает, чем тебе помочь. А у нее, сам понимаешь, возможности есть.
— Да какие у нее возможности?! — почти выкрикнул Костя.
— А ты подумай, подумай. И она пусть подумает.
Спорить было бесполезно. В Костином положении приходилось только соглашаться. Теперь, когда он сообщил о пропаже сумки, когда страх перед необходимостью сознаться в потере миновал, можно было думать и о реальных шагах, чтобы выкрутиться из неприятного положения, в которое попал по глупости.
* * *
Следователь Пеночкин тщательно изучал обстоятельства ограбления аптеки № 17. Никого из сотрудников заподозрить в соучастии он не мог. Никаких контактов наркоманов, находящихся под наблюдением, и аптечных работников зафиксировано не было. Поэтому когда ему сообщили, что работница аптеки № 21 Татьяна Вавилина со своим женихом Константином Опрятновым бывает в компании, где верховодит Николай Шариков, он насторожился: не здесь ли та самая ниточка, за которую можно ухватиться? У Вавилиной вполне могли быть знакомые в семнадцатой аптеке. Естественно, что она могла там бывать, а следовательно ее можно рассматривать как потенциальный источник информации.
* * *
Работа, когда она настоящая, вызывает уважение, и неважно как называются исполнители — мастера, специалисты или просто шабашники. Результаты труда всех уравнивают в правах.
Работали хорошо все. Увлеченно, без понуканий. Бельтиков несложные эти операции освоил быстро. Стропить и устанавливать плиты, а потом приваривать их друг к другу брались Алик, Витька и даже Фадеич. Ничего, получалось. А главное, никто не помышлял о выпивке.
Но червем грызло Бельтикова начало шабашной эпопеи. Когда у крыльца конторы останавливалась по каким-либо надобностям машина с желтыми полосами и гербом на дверце, а то и сине-желтый мотоцикл, сердце у него екало, становилось нехорошо. Сейчас придут, сейчас позовут...
Конечно, сейчас, когда прошел уже почти месяц, найти что-либо было невозможно. Наркотические принадлежности поначалу решено было выбросить в уборную, в выгребную яму, поскольку желающих приобщиться не оказалось. Но Алик, поразмыслив, решил, что это неразумно. «Это же денег стоит и говорят, я слышал, больших. Может, еще сгодится. Я поспрошаю, когда в городе буду». Возражать ему никто не стал и он припрятал сумку в леске, где по его представлениям найти ее никто не сможет. Рыболовецкие принадлежности обменяли на бражку, которую выпили еще в первые дни, пока шла раскачка, так сказать, подготовительный период. В печке сожгли рюкзак. Кинокамеру, фотоаппарат и еще кое-что из оставшихся предметов сложили в саквояж и всей бригадой выехали на центральную усадьбу. Бельтиков охотно отказался бы от участия в этой экспедиции, но оставаться чистеньким в такой ситуации значило, как это говорится, противопоставить себя коллективу. Что-что, а приверженность к солидарности у нас воспитывается с младых ногтей, пусть даже эта солидарность в деле отнюдь неблаговидном. И хотя непосредственно заниматься распродажей его не заставили, участие в операции по реализации все равно стало совершившимся фактом. Продавщица из магазина взяла фотоаппарат. Труднее оказалось с кинокамерой. Желающих взять ее хотя бы за треть, а то и за четверть цены не находилось. Но один парень, видимо, из числа недавних выпускников школы, назвал адрес. «Сходите туда, спросите Митрича, с ним, думаю добазаритесь». Митрич, неопределенного возраста и еще более неопределенного рода занятий, мужичонка в косоворотке, каких ныне уже и не носят, в круглых очках (а их-то уж не жалуют точно) крутил камеру и так и этак, нажимал на пуск, хватал в видоискатель виды своего дома и двора (попытка направить объектив на «купцов» была пресечена Аликом в довольно грубой форме: «Э, ты, дядя, не зарывайся!» и предложил цену. Как он и ожидал, рядиться с ним не стали. «Купцы», впрочем, были довольны и этим — главное было сбыть поскорее все. Даже саквояж за бесценок, что называется «всучили» какой-то старушенции. Словом, к приезду Тенгиза не осталось ничего, что бы свидетельствовало об опасной той акции, которую совершил Фадеич и в которую в конечном счете оказались втянуты все.
Деньги, вырученные, если называть вещи своими именами, от ворованного, решено было оставить у бугра. Предложение Фадеича и примкнувшего к нему Витьки съездить в город и соответствующим образом отовариться, получило сильное противодействие со стороны Алика и Бельтикова. Конечно, ушли бы деньги, быстрее ушло бы и воспоминание о неприятном сем событии, но вместо работы может начаться заурядная пьянка, в результате которой и расплачиваться в столовой будет нечем. Фадеич и Витька поворчали, но не могли не признать разумность доводов.
Тенгиз, естественно, ни о чем так и не узнал. И все-таки зацепило и его этой цепочкой. Один предмет в силу его полного для членов бригады отсутствия ценности и какой бы то ни было материальной значимости был забыт всеми. Небрежно брошенные Бельтиковым сброшюрованные страницы журнала с детективом Сименона покоились на прибитой к стене полке (вероятно для цветов). Он намеревался почитать детектив, но сильно уставал с непривычки и как-то даже перестал вспоминать о нем. Но внимание Тенгиза эта самодельная книжка привлекла. Он полистал странички и сразу же загорелся желанием почитать.
— Чье это, — спросил Фадеича, поскольку больше никого не было. — Кто хозяин?
Фадеич только плечами пожал. Он и в самом деле не знал откуда эти, как ему показалось, журналы. Из сумки их извлекли впервые, когда он спал. Бельтиков потом сунул их себе в карман. Пока они лежали на полке, он не обращал на них внимания, так что можно сказать, видел их впервые.
— Шут их знает, — ответил, проявив полнейшее к литературе равнодушие. — Валялись, наверно, еще до нас.
— Ну тогда я их заберу, — обрадовался Тенгиз.
— Забирай, если охота, — великодушно разрешил Фадеич.
После сдачи объекта было решено сделать небольшую трехдневную передышку. Было, правда, опасение, что с большими деньгами в кармане Фадеич, Витька да и сам Алик могут заложить такой вираж, что не только трех дней — трех недель мало будет. Но «красные рубли» (рассчитали, правда, зелеными бумажками «полтинниками») все равно будут жечь карман. Сами не поедут — попросят кого-нибудь, кто поедет в город, купить все, что надо.
Бельтиков за себя был уверен. Тенгиз тоже, считалось, был вне подозрений в этом плане. Василий Николаевич и работой и поведением наемных рабочих остался доволен и подтвердил готовность предоставить новый объект. За сим последовали взаимные заверения в полном друг к другу уважении и высказана надежда на скорую встречу. В том, что она состоится и непременно будет радостной, никто конечно не сомневался.
* * *
Куда пойти в городе с приличной суммой денег в кармане ни для кого из членов бригады проблемой не было. Для Бельтикова тоже. Правда, Алевтина говорила что-то насчет отпуска и ее может в городе не оказаться, но уезжать далеко она не собиралась, отыскать же в одном из местных домов отдыха или курортов будет наверно не трудно. Так что, вперед.
Перспектива приятного времяпровождения заслонила волнения и страхи, отодвинула их. Поползли убаюкивающие мысли: «Да кто там что будет искать? Кому надо? И найти совершенно невозможно. Ничего не осталось, никаких следов...»
— Ой, как хорошо, что ты позвонил! — услышал он голос Алевтины. — Я сегодня последний день работаю, завтра уже в отпуске. Путевка в Озерное с завтрашнего дня.
— Ну вот, а я приехал, денег полный карман... Честно заработанных. Думал, по ресторанам пошляемся.
— Ой, как хорошо!
— А что хорошего: я приехал, ты уезжаешь.
— Ну, я могу ведь и тормознуться. Ты насовсем приехал или еще поедешь?
— Там видно будет, — уклонился Бельтиков. Собственно, он и сам не знал, будет ли он возвращаться. Ему казалось, что чем скорее он покинет те места, где они «реализовали товар» — сбывали краденое, чем дальше он куда-то уедет, тем больше будет у него шансов выпутаться, выйти сухим из этой мутной воды. А денег всех все равно не заработаешь...
— Ну и хорошо, — защебетала в телефон Алевтина. — Приедешь в Синегорск, устроишься там в гостиницу, я буду к тебе ездить, это ведь рядом. А ты ко мне.
— Ладно, там договоримся, кто к кому будет ездить. А сейчас договоримся лучше, когда и как встретимся.
— Во второй половине дня я буду свободна. Подъезжай ко мне.
Алевтина работала медсестрой в онкологическом диспансере. Путь туда из центра города неблизкий.
— Ладно, идет. Подкачу на такси.
— Ой, как хорошо!
«Тебе все хорошо», — подумал Бельтиков с нежностью, но что-то словно толкнуло его в сердце: не все уж так хорошо...
Условились, во сколько Бельтиков подъедет. Глянув на часы, он прикинул, что времени у него предостаточно. «Неплохо бы освежиться, да где сейчас? Не те времена... Впрочем, в кафе «Русский чай» стали продавать стакашками. Надо пойти проверить. А потом пройтись по магазинам. Занятие крайне неприятное, но надо хоть слегка обновить гардероб. Символически — косметически. В магазинах, понятно, ни черта нет, но какие-нибудь штиблеты, штаны, куртку все же отыскать можно. Носки бы надо, шляпу...»
«Русский чай» в числе прочих своих блюд и напитков (был ли там чай, Бельтиков не интересовался) предлагал и болгарский рислинг — «Золотой берег». Сидя над третьим стаканом, Бельтиков размышлял, а стоит ли ему шляться по магазинам? Здесь гораздо лучше... Алевтина помогла бы ему сделать покупки: все-таки женщина... Но соображения иного порядка взяли верх: во-первых, можно здесь так «нарислингиться», что и про свидание забудешь. А во-вторых, хотелось предстать перед Алевтиной в некоем обновленном виде. И, с сожалением глядя, как люди разных возрастов — от весьма сопливых юнцов, считающих копейки, до почтенных пенсионеров, те и другие — с дамами и без дам, — отходят от стойки с полными стаканами, тяжело поднялся.
...Приобретения были оценены по достоинству.
— Ой, Арт, какой ты красивый! — приветствовала Бельтикова Алевтина. Она уже стояла за воротами и ее фигурка, все прелести которой не скрывало летнее газовое платьице, не одного шофера из проносившихся мимо машин заставляла, скосив взгляд, отрывать его от дороги.
Бельтиков, смущенно посмотрел на таксиста и легонько подтолкнул Алевтину к распахнутой дверце: «Не болтай!», усадил ее, сел рядом, сразу ощутив аромат разгоряченного женского тела и почувствовав неодолимое желание прижать к себе эту маленькую и такую соблазнительную женщину, которая посещала его в снах все это время, несмотря на физическую усталость. Но он только поплотнее уселся, инстинктивно стараясь не испачкать чем-нибудь свои новые доспехи — голубую безрукавку и кремовые новые брюки, еще носившие, казалось, запах магазина. Но запах исходил, скорее всего, от кожи новых летних туфель-босоножек, и от всех этих вещей Бельтиков чувствовал себя манекеном. Но Алевтина никакой неловкости не испытывала. Ничуть не смущаясь присутствия постороннего, она бросилась Бельтикову на шею, целуя, скороговоркой зачастила: «Как загорел! Как похудел, совсем живота не стало. А брови выгорели. Как тебе идет эта рубашечка! Наверно всех доярок там перещупали. А? Ну-ка, сознавайся!»
Бельтиков мягко, но решительно освободился от объятий, усадил свою спутницу на сиденье, сам поправил взбившееся выше коленок по бедру платье, и усмехнулся: «Доярок! До доярок там было. Наломаешься за десять, а то и все двенадцать часов, упадешь без задних ног, так тебя хоть самого...» Алевтина хихикнула.
А такси уже мчалось по маршруту, обговоренному заранее. Вечер еще только начинался и шансы попасть в любой из ресторанов были вполне реальные. Но начинать решено было с самого главного в городе. Туда и ехали.
Ресторан только что открылся после перерыва, свободных мест было более чем предостаточно, но обливреенный швейцар, вставший на пути вновь прибывшей пары, не очень-то был расположен приглашать ее в зал. «Столики заказаны», — с равнодушием магнитофонной ленты произнес он привычную фразу.
— А шампанским торгуете, — подмигнув ему, спросил Бельтиков. — Очень пить хочется. А столик и у нас заказан. Вот документ.
И он сунул в руку швейцару пятирублевую бумажку.
— Как же, как же! Есть шампанское, — забормотал страж ворот, уступая дорогу. — Вон туда к окошечку проходите.
Официант, молодой парень, оценивающе глянул на Алевтину, на Бельтикова и не спеша положил на столик меню. Отошел, давая возможность сделать выбор.
— Шампанское принесите, — крикнул вдогонку Бельтиков.
— Возьму заказ, принесу, — не оборачиваясь бросил официант.
— Боров недоколотый, — вполголоса выругался Бельтиков. — На лакейскую должность пошел, так гнись глистой. А то и рубль дармовой зашибить надо и гонор при себе держать хочется. И рыбку съесть и... Ладно... Подождем, не умрем, коли уже просочились сюда. Расскажи лучше, как ты тут без меня?
Алевтина радостная, возбужденная, стреляла глазками по залу, по столикам, несла всякую чепуху, собирая в одну кучу сплетни городского и общесоюзного масштаба, дворовые и домашние. Газетные сенсации ее не очень волновали, чтением она себя не очень утруждала, поэтому в разговоре с ней Бельтиков придерживался той игриво облегченной интонации, какой иногда пользуются при разговоре с детьми. К чему все эти умные разговоры? За месяц с лишним Бельтиков не посмотрел ни одного фильма, забыл, как выглядит телевизор, так что и в этом направлении темы для разговора возникнуть не могло.
До того как познакомиться с Бельтиковым, Алевтина успела оставить двух мужей, жила с родителями, но при всей внешней легкости характера на жизнь смотрела достаточно серьезно. У нее рос трехлетний малыш, для которого она мечтала о хорошем отце, но понимала, что в лице Бельтикова она такового не найдет. Еще серьезней относилась она к работе, понимая, что на шее родителей вечно сидеть не будешь, сына самой поднимать придется. И о работе болтать не любила. Да и то сказать, веселого в этой теме мало. Онкология и все с нею связанное слишком мало располагают к легкомысленной беседе.
И поэтому вопрос, заданный просто так, лишь бы что-то сказать, произвел на Алевтину совершенно неожиданное действие. Она вдруг сразу погрустнела, поскучнела, красивое лицо ее приняло задумчивое выражение.
— Да знаешь, хорошего мало...
— С Олежкой что-нибудь? С родителями нелады?
— Да нет, тут вроде все нормально. Относительно. Была тут одна история неприятная... По работе...
Она помолчала. Бельтиков не торопил: не так уж и интересовали его какие бы то ни было истории по работе, особенно Алевтининой. Тем более, что официант заказ брать не торопился. А Алевтина заговорила голосом, который так не вязался с ее праздничным видом и обстановкой, в которой они находились.
— Уколы я одному больному делала. На дому. Рак легких. В этой стадии, когда уже нельзя человека оставлять без морфия. Между прочим, фронтовик, инвалид по ранениям. Набирать в шприц стала, смотрю, ампула последняя: Говорю его жене, кончается, мол, лекарство. «Ой, и правда, закрутилась совсем, не посмотрела. В аптеку надо идти. А у меня ноги больные. Да и его как тут оставишь... Может, сходила бы ты, дочка, я тебе заплачу». Ну, какая там плата, схожу, конечно. Взяла рецепт, пошла. Смотрю, а аптека закрыта, да не просто закрыта, опечатана. И мужики там какие-то, совсем не аптечного вида потом появились. В аптеках-то у нас ведь женщины в основном работают. Ну, выяснилось — ограбили аптеку. Знали, стало быть, что был в ней морфий и другие лекарства, за которыми наркоманы охотятся. Где-то ведь узнают все, и про сигнализацию знали, значит, и про то, как сейфы вскрывать. Я туда-сюда, не так просто на другую аптеку переключиться. Не везде это лекарство есть, а где есть — там не дают, не своим врачом рецепт выписан, надо еще договариваться. Вот и продоговаривались, пока человек не скончался...
— Ну, а ты-то при чем? Чем ты виновата? Аптеку обокрали какие-то подонки, другие подонки не выдали лекарство. Чем ты могла помочь?
— Не знаю... Может, надо было поактивнее бегать. В облаптекоуправление сходить. Или еще куда... Откуда я знаю? А ощущение такое, что я больше всех виновата...
— Не глупи, не бери в голову. Никакой тут твоей вины нет... — И вдруг, вспомнив о чем-то, спросил. — А что еще там украли? Что еще в аптеке может представлять ценность? Для тех же наркоманов?
— Да что угодно. Любым снотворным они не брезгуют. Элениум, реланиум, нозепам, седуксен — все годится.
— И все это было в аптеке?
Задал он этот вопрос неспроста. Его вновь охватило смутное беспокойство. К пакету из аэрофлотовской сумки сам он не притрагивался, но вспомнил, что Витька, перебирая содержимое пакета, называл, читая надписи на коробках, на этикетках. Среди них были и те, что называла сейчас Алевтина... Все это могло быть случайным совпадением. Лекарства, обнаруженные в сумке, могли быть приобретены самым наизаконнейшим путем, но мрачное предчувствие большой беды вновь захватило Бельтикова. Недоставало еще вляпаться в настоящее уголовное дело, да еще связанное с наркотиками. Тут условной мерой не отделаешься. А попробуй докажи, что ни сном, ни духом к делу этому не имеешь ровно никакого отношения. А что если еще этот кретин вздумает искать покупателя на «товар». Это же верная гибель! Бельтиков даже похолодел. И когда официант принес, наконец, шампанское, он дрожащей рукой налил себе фужер и выпил без всяких тостов. И только тогда сообразил, как это выглядит в глазах изумленной Алевтины.
— Пить очень захотел, — извиняющимся тоном объяснил Бельтиков, поспешно наполняя бокал своей спутницы и снова свой. — Шампанского, думаю, у них хватит. Ну, за встречу!
Заказали все самое что ни на есть престижное, фирменное, дорогое, хотя Алевтина и пыталась слабо возражать: «Ну зачем цыплят-табака, да еще лангеты? А шашлыки уж вовсе ни к чему... Да мне вообще одного мясного ассорти хватит. Куда это все — мороженое, шоколад, кофе?» Бельтиков в ответ только безвольно делал кистью руки движение, означающее «А, пустяки!» и в который раз принимался спрашивать официанта, достаточный ли у них запас шампанского. На вопрос: «Не желаете ли чего покрепче? Коньячку или ликерчик есть?» (Официант, наконец, понял, что клиент имеет право на уважительное отношение: этот счет проверять не станет) — Бельтиков энергично крутил головой: «Нет-нет!» Напиваться сейчас в его планы не входило. От выпитого мысль о том, что Фадеич украл ворованное, стала казаться нелепой, совпадение невозможным, и вообще — какое ему до всего этого дело? Ведь он ничего не крал, ни с каким преступным миром не связан, а шампанское пьет на свои, честно заработанные деньги.
Алевтина пользовалась огромным успехом. Ее без конца приглашали танцевать, и Бельтиков, видя, что это ей нравится, лишь улыбался поощрительно. Кто-то послал ей бутылку шампанского, кто-то цветы. С парой, обосновавшейся за их столиком, установились самые родственные отношения, пошел обмен тостами, адресами и телефонами, хотя наверняка они виделись в первый и последний раз.
Но все кончается. Настало и время покидать ресторан. И только оказавшись за его дверями, оба задались одним вопросом: куда теперь? К Алевтине, понятно, нельзя. Где сейчас пребывала его жена, Бельтиков не знал. Но где бы она ни была, домой могла нагрянуть в любой момент. Юридически она имела на это полное право, развод их оформлен не был, естественно, и размен тоже. Ставить Алевтину в неловкую ситуацию Бельтикову не хотелось. Но и расставаться не хотелось тоже. Завалиться к кому-нибудь из друзей? Бельтиков стал перебирать в памяти тех, кто мог бы его приютить сейчас в столь поздний час да еще не одного, но ничего подходящего вспомнить не смог. «Вот ведь читаешь же, как на Западе. Никаких проблем, снял в гостинице номер, и никому дела нет. Даже записаться можно под чужой фамилией...» А что, если попробовать? Гостиница находилась в том же здании, что и ресторан, стоило только пересечь вестибюль, чтобы оказаться у окошка администратора. Оно как водится, было закрыто, табличка «мест нет» могла быть вполне вычеканена бронзой на мраморе на вечные времена. Несколько неприкаянных душ дремали в креслах, ожидая неизвестно чего. Во всяком случае не чуда, здесь оно не происходит никогда. Сложив вдвое четвертную бумажку и уместив ее в согнутой лодочкой ладони, Бельтиков поскребся в окошечко. Окошечко приоткрылось. Подведенные глаза под ярко накрашенными глазами глянули вопросительно и не очень приветливо. «Что вы хотите?» — произнесли ярко красные губы.
Приложив ладонь с кредиткой ко рту, Бельтиков вполголоса ответил:
— Вот мой документ. Мне нужен номер до утра. Только до утра. В шесть обо мне останется только воспоминание. И никаких нигде записей...
Женщина несколько секунд не отрываясь смотрела на бумажку, словно не зная, на что решиться.
— Поднимитесь в вестибюль второго этажа, — проговорила она наконец. — Посидите там, я к вам подойду.
Алевтина, уставшая от шумного ресторанного вечера среди командировочных, сидела откинувшись в кресле с закрытыми глазами, не очень-то понимая, чего добивается ее спутник, хотя и догадывалась, что он хлопочет о ночлеге. В успех она верила мало. «Подожди еще немножко, — шептал ей Бельтиков, — кажется что-то получается».
Дама появилась минут через пять. Спросила:
— Вы не один?
— Естественно.
— Та, что сидит в розовом платье в вестибюле?
— Да. Она не из здешних.
— Я вижу. Давайте деньги. Вот ключ от 212 номера. В шесть утра, чтобы вас не было. И чтобы не видно вас было, не слышно. Из номера тоже никуда не выходите. Там все есть — туалет, ванна.
И она исчезла.
Ничего не объясняя Алевтине, Бельтиков подхватил ее сумку, в которой кроме всего прочего лежали и упакованные в бумагу покладистым официантом бутылки — коньяк и шампанское, и ее самою. Она ничего не спрашивала, стараясь лишь поспеть за своим быстро шагавшим спутником. И только очутившись в номере, Алевтина поверила, что чудесно начавшийся вечер закончится еще более чудесной ночью.
Торопливо повернув ключ в двери, опустив на пол сумку, Бельтиков повернулся к Алевтине и сжал ее в своих объятиях.
— Ну давай поздороваемся еще раз!
И стал целовать ее губы, глаза, нос, шею. Легкая ткань платья мешала до конца ощутить теплоту и упругость тела; словно поняв это, Алевтина стала быстро освобождаться от одежды. Отлетели в сторону босоножки, все по-летнему невесомые принадлежности женского туалета оказались в кресле; и вот она обнаженная, прекрасная в своей женственности снова повисла у Бельтикова на шее. Придерживая ее одной рукой, он другой рукой стаскивал свои обновы...
Когда через полчаса, они, лежа на чистой простыне и потягивая из горлышка шампанское, смеялись, сравнивая его черный загар и белизну ее, почти не тронутой летним солнцем кожи, Бельтиков сказал:
— Между прочим, в шесть надо отсюда выметаться. А сейчас почти два. Так что спать не придется.
— Отосплюсь, я же в отпуске. Так ты поедешь со мной?
— Куда же я денусь? Программа развлечений только начинается...
* * *
Целую неделю Костю Длинного никто не трогал. Он уже начал было мечтать, что все прошло как дурной сон, когда, проснувшись, человек с облегчением сознает, что привидевшиеся страшные картины — лишь плод непонятных процессов, происходящих в мозгу.
Мечты оказались иллюзорными. В тот вечер, проводив домой Таню из кино, он возвращался в довольно бодром настроении. Таня собиралась в отпуск, она вроде бы была не против совместной поездки диким способом на море (какое — южное или северное еще не решили), оставалось окончательно все согласовать и договориться относительно сроков. Скрыться на месяцок из города сейчас было бы самым правильным тактическим ходом. За месяц может многое измениться. Коляня и его дружки до краю ходят. Может, они и считают, что знают, где край, но ведь и в милиции есть светлые головы. Если в этой компании нечисто, то ведь и ему, Косте, не заказана дорога, чтобы пойти и кого следует известить. Про угрозы, про шантаж. Ну, потерял он эту их вонючую сумку. Красная цена ей червонец. А сколько стоит содержимое — его не касается. Описи ему не давали, да и не сам он вызвался, а попросили, слезно притом. Ну и начхать!
Остановили его во дворе собственного дома.
— Привет, земляк! Как ноги носят?
Парни незнакомые, развязные, морды наглые.
— Что-то я, вроде, вас раньше здесь не встречал... Вроде и не знаю вас.
Один, пониже ростом, конопатый, с грязными нечесаными рыжеватыми волосами усмехнулся, кривя большой рот:
— Не знаешь, так узнаешь. Как родных братьев полюбишь.
Тот, что повыше, с обвислыми усами, острыми чертами лица, смугловатый, процедил с гримасой превосходства:
— Тут некоторые забывают, что надо отдавать долги. А за это карают.
Сдерживая нервную дрожь, пересиливая себя, Костя произнес, стараясь быть спокойным:
— Я долгов никогда не делаю, ко мне это, стало быть, никакого отношения не имеет.
— Слушай, ты! Мы не для дискуссий к тебе пришли. Не можешь сразу отдать то, что утаил от нас — подождем. Не хочешь — тогда дело другое. Будем говорить по другому. Но пока мы согласны подождать... С одним условием.
Костя похолодел. Он догадывался, о чем пойдет речь. А тот продолжал, поигрывая ключиками (на машине, видно, приехали, подонки):
— Нам надо поговорить с твоей крошкой. Она нам должна кое-что рассказать. Ясное дело, чтобы никто не знал. А иначе...
Оттопыренным большим пальцем правой руки он чиркнул себя по горлу. В том, что этот жест означает, сомневаться не приходилось. Конечности у Кости сделались ватными. И он начал спокойным, можно сказать, миролюбивым тоном:
— Зря вы это. Не по адресу вы...
— Нам лучше знать, зря или нет! — наглел усатый. — Тебя никто не просит рассуждать, что зря, а что не зря. Слушай, что тебе говорят и выполняй. И не умничай. Ты нас сам к этому вынудил.
— Ну, а она-то тут при чем? Она меня и слушать не захочет. По-вашему, я на нее такое большое влияние имею, что ли?
— Нас это не касается. Захочешь жить — завлияешь!
— Хи-хи-хи, — залился смешком конопатый. — Еще как завлияешь!
Усатый подвел итог беседе:
— Мы тебя предупреждали. Второй раз предупреждать не будем. Через три дня чтобы все было сделано. Мы тебя сами найдем. И не вздумай дергаться. Себе только хуже сделаешь. Так еще, может, и договоримся полюбовно, а сунешься к ментам — заказывай панихиду.
И они пошли, спокойные, уверенные в себе и в тех порядках, на которых, по их мнению, сегодня держится мир.
А Костя, оглушенный, раздавленный, побрел домой. Теперь-то его страхи обрели под собой реальную основу. Колянины разговоры, намеки, угрозы казались ему какими-то опереточными. Кто он, Коляня? Его бывший дружок по общему увлечению. А сейчас безвольный, больной человек, за которым нет никакой силы. Лишился нужных ему веществ, вот и дергается, не зная как вернуть. Блефует, пугает... Но эти два жлоба — это не Коляня... Сколько их вообще против Кости? Кто они, чем занимаются? Какое отношение имеют к Коляне? Что им надо от Тани? Наркотики — это ведь лекарства. Но есть ли они в Таниной аптеке? И даже если есть, что она, согласится помочь их достать? Как достать? Украсть? Зная Танин характер, Костя мог предположить, как она к этому всему отнесется. Но предпринимать что-то все равно надо. Просто так исчезнуть, как помышлял прежде, теперь уже не мог: он поставил под удар Таню и он же должен ее из под этого удара вывести. Но надо, видимо, прежде всего посоветоваться с ней. Он просто обязан сообщить про этот шантаж. Не становиться же ей соучастницей преступления только потому, что ее знакомый парень влип в неприятную историю!
Об истории с сумкой Костя Тане не рассказывал. Сейчас он решил это сделать не откладывая.
...Таня слушала хмурясь, все больше и больше мрачнея. В карих глазах ее то возникало беспокойство, то недоумение, то негодование, то презрение.
— А раньше почему молчал? — спросила она наконец.
— Тебя не хотел тревожить. Думал, обойдется...
— Такие дела, к сожалению, не обходятся, — вздохнула девушка, — слишком велика ставка. И дело конечно же в сумке, которую ты потерял...
— У меня ее украли.
— Это еще хуже. Сумка — это личное дело твоего Коляни. Сам он ее доверил, сам пусть и выручает свой товар или плату за него. А вот, что ты оказался на крючке, да еще меня умудрился зацепить — это уже хуже. Для нас, во всяком случае.
— Что же делать? — в растерянности произнес Костя.
— Прежде всего, не связываться со всякими сомнительными личностями. А я буду действовать, как...
— ...подсказывает совесть? — не удержался Костя.
Таня бросила на него уничтожающий взгляд, который заменяет одно весьма распространенное, но не самое благозвучное слово.
— ...целесообразнее всего поступить в такой ситуации.
— И как же?
— Обращусь в соответствующие организации.
— Но ведь они предупредили же...
На Таню, похоже, невнятное Костино бормотание впечатления не произвело.
— Расскажу все, кому следует, — слегка повысив голос, подтвердила она свое намерение. — И никто меня не остановит, не испугает. Они ведь только на испуг и рассчитывают. Ничего они не сделают... — Она задумалась. И заговорила, словно размышляя. — Значит, за аптеками, не зря говорили, охотятся. Вот так же наверно обрабатывали кого-то из 17-й. Ты слышал, что ее обокрали?
— Откуда? Что, аптека промтоварный магазин что ли, или ювелирный, чтобы ее обворовывать? Что там брать-то?
— В том-то и дело, что по нынешним временам там можно украсть кое-что, что не дешевле иного ювелирного изделия и что спросом пользуется гораздо большим. Вот и «работают» такие жучки, которые на тебя страху нагнали... Нашли прибыльное дело и теперь торопятся, чтобы кто-нибудь не перехватил инициативу.
— А ты из семнадцатой аптеки кого-нибудь знала?
— Ну, знала...
И она осеклась. Потом глубоко задумалась. Костя этого не заметил: он думал о том, что аптеки действительно не снабжены подходящей защитой, вроде той, которая есть у банков, ювелирных магазинов и тому подобных хранилищ ценностей. Получив исчерпывающую информацию определенного рода, да еще имея в соучастниках кого-то из сотрудников, можно рассчитывать на бесспорный успех. Таню, похоже, занимали эти же мысли.
— А почему они, собственно, уверены, что я что-то кому-то стану рассказывать?
— Они, видимо, считают, раз ты со мной, то и дела у нас общие... — неуверенно предположил Костя.
— Поня-я-тно... — протянула Таня. — Уж не хотят ли они меня убедить в том, что я связана с семнадцатой аптекой? На этом, наверно, и свой шантаж построить хотят?
— Кто им поверит?
— Когда захотят, поверят чему угодно. Анонимку подкинут, а потом доказывай...
— ...что не верблюд...
— Сам ты верблюд. Не был бы им, так и всей этой истории бы не было.
Костя «верблюда» «проглотил» безропотно. Что ему оставалось в его положении? А Таня продолжала:
— Теперь-то я понимаю, почему был проявлен интерес к моей работе, когда ты меня затянул в это болото. «На крючке» мы, выходит, давно уже?
Тут Костя уже не нашел что ответить. Но Танина решительность его чуть-чуть взбодрила. Поэтому он уже смелее спросил:
— А как быть насчет трех дней? Мне же срок дали... Что я скажу, когда эти жлобы опять вынырнут невесть откуда? Вопросы у них будут конкретные: говорил ли я с тобой и что ты ответила?
— Я скажу, что ты должен будешь говорить. Но не сегодня. Постараюсь сделать так, чтобы ты знал, что ответить, когда к тебе придут.
* * *
Следователь Пеночкин был несколько удивлен и безусловно обрадован, когда к нему на прием попросилась работница аптеки № 21 Татьяна Вавилина. Он сам искал повода побеседовать с девушкой, но так, чтобы она не заподозрила, о чем речь. Задавать напрямую вопросы по интересующему его делу он боялся: так можно все испортить. С другой стороны — крутить вокруг да около — ничего не узнаешь. Тем более, что девушка, скорее всего, действительно ничего не знала. Единственный визит в сборище наркоманов мог быть чистейшей случайностью. Проверка ее знакомств и родственных связей, как и ее жениха, ровным счетом ничего не дала. Ее привел парень — она могла и не знать, к кому идет. Словом, ниточка была настолько тонкая, что схватился за нее Пеночкин лишь потому, что другие были не намного толще. И вот такой, можно сказать, сюрприз...
Танин рассказ заинтересовал Пеночкина чрезвычайно. Хоть и была это по-прежнему задача со многими неизвестными, но наметился вариант модели событий, довольно близкий к реальности. Ясно, что наркотики достают, производят или крадут для того, чтобы их сбывать, причем сбывать по возможности дороже. Скорее всего, кражу осуществляли те, кто сам наркотики не употребляет. В таком случае, кто такой Шариков и какова его роль во всем этом деле? Почему он решил отправить сумку с наркотиками в другой город? Что-то почуял? Но ведь если он не был прямым участником грабежа, то чего ему особенно бояться? Купил, у кого — не знаю. И ничего не докажешь, хоть сто раз будет доказано, что это краденый товар. Тогда можно предположить, что он посредник между поставщиками товара и потребителями его. А это фигура немаловажная. Тут тоже без комиссионных не обходится...
Этих вопросов следователь Пеночкин Татьяне Вавилиной, разумеется, не задавал, поскольку ответить на них она не могла. Но и те вопросы, на которые могла ответить посетительница, тоже представляли немалый интерес.
— Как я понял, вам через вашего жениха передано нечто вроде ультиматума?
— Называйте, как хотите. Я сообщаю только то, что передали мне.
— Да, вы правы, язык дипломатии тут мало подходит. И как вы решили ответить на такое категорическое требование встретиться?
— Пока никак. Пришла посоветоваться к вам. Я имею в виду милицию. А уж конкретно к вам меня направили, сказали, что это по вашей части.
— Все правильно. По моей части... Ну, а вы хоть примерно предполагаете, о чем будет разговор?
— Предположить нетрудно. Раз эти шантажисты считают, что я могу сообщить какие-то сведения, используя которые они смогут компенсировать свои потери, то хотят они немалого.
— А вы располагаете такими сведениями?
— Да, собственно, что эти сведения? Я думаю, они и сами все знают, что надо. Все-таки аптека не секретный военный объект. Скорее всего, им нужна конкретная помощь или участие. Тогда они могут рассчитывать на успех...
— А в чем может выразиться эта помощь?
— Я не знаю... Но ведь и так понятно, что им нужно четкое расписание режима работы, ключи от входа, может быть, от склада, от сейфов. Не знаю, конечно, что им надо.
— А как бы вы ответили на любое из этих предложений?
— Послала бы, конечно...
— Даже сознавая, что это небезопасно?
— А вступать в сговор с преступниками, вы полагаете, лучше? Безопасней?
— Нет, я так не думаю, — медленно с расстановкой произнес Пеночкин. — Но не у всякого хватает мужества сделать правильный выбор. Вы его сделали, хотя бы уже потому, что пришли к нам.
— Что тоже, как меня предупредили, опять же небезопасно.
— Ну эта-то опасность как раз преувеличена. Во-первых, непросто уследить за нашими с вами контактами. Это же надо иметь целую хорошо разветвленную сеть агентов, что маловероятно. Во-вторых, угроза — это одно, ее выполнение — уже совсем другое. Во втором случае они уже должны вступать в конфликт с нами, то есть с властью. Потому что, раз вы к нам обратились, мы обязаны вас защитить, обеспечить вашу неприкосновенность... Но вот какая деталь меня смущает: шантажисты действуют так, словно у них стопроцентная уверенность в том, что отказа не будет. Что вселяет в них эту уверенность? Может быть, ваш жених завязан, что называется, гораздо сильнее, чем он вам сказал? А потому уверены, что он выполнит любое, поставленное ими условие.
— Не думаю. И потом выполнять ведь предстоит мне, а не ему. А я не собираюсь принимать никаких условий.
— Хорошо. Это вы не собираетесь? А если вы поработаете немного на нас? Точнее, на наши общие с вами интересы. Нам надо выйти на этих людей, с вашей помощью мы это сделаем быстрей, нежели без нее.
— Я готова, — просто ответила Таня. — За этим и пришла.
— Тогда нам надо обговорить все детали вашего предстоящего разговора. Мы еще не знаем, где и когда он состоится, но быть надо в полной готовности уже сейчас. Но для начала мне надо встретиться с вашим женихом. Только сюда ему приходить не надо. Я напишу телефон, пусть позвонит, договоримся, где и как встретиться. А у вас его телефон есть? Продиктуйте, я запишу на всякий случай. И коль скоро вы к нам обратились, давайте не допускать никакой самодеятельности. Чуть что — звоните мне, а я позвоню вам, как только проведу соответствующую подготовку.
* * *
Танино сообщение о том, что заботу об охране и безопасности его невесты, то есть ее, Тани, берет на себя милиция, Костю весьма обрадовало. Он почувствовал большое облегчение и очень охотно согласился выполнять все указания следствия. Следователю Пеночкину он выложил все, что знал сам относительно Коляни и сборищ у него, которые ему, Косте, доводилось наблюдать; подробно рассказал обстоятельства утраты сумки и описал, насколько запомнил, приметы обоих шантажистов. Относительно того, чтобы не допускать самодеятельности, Костя горячо заверил: «Ни-ни! Ни в коем разе!»
Но жизнь порой вносит такие коррективы, что самые благие намерения летят к чертям собачьим.
Во всяком случае то, что произошло, предвидеть никто не мог. Следует учесть и шоковое состояние, которое охватило Костю после того, что он увидел.
А случилось это в троллейбусе, идущем от вокзала. Костя и попал-то в него случайно: ему нужен был другой номер маршрута. Он уже собирался выходить, как вдруг замер от неожиданности, что говорится, не веря своим глазам. Мужик, сидящий в кресле, за дужку которого он держался, увлеченно читал журнал. То есть не совсем журнал, а вырванные из нескольких журналов и сброшюрованные страницы. Что-то ужасно знакомое было в них. И когда читающий пассажир перевернул страницу, на журнальных полях Костя увидел... схему, выведенную собственной рукой. Он беспомощно оглянулся по сторонам, словно желая спросить, как же это так? Но во всем троллейбусе он был единственным человеком, которого поразил факт присутствия нарисованной им схемы на полях журнала. Потому что пассажира, увлеченного содержанием детектива, схема тоже ни в коей мере не интересовала. А Костя, когда он чуть пришел в себя, стал лихорадочно соображать, что предпринять. Вопрос, как попал сюда журнал, пришел ему в голову чуть позже, а сейчас его занимало одно: книжка здесь, а где все остальное? Человек этот так или иначе связан с пропавшей сумкой. Он ее украл? Так почему так открыто, не таясь, демонстрирует похищенное? Или хотя бы какую-то часть его? Заговорить с этим человеком сейчас же? Соображение, что этим он может все испортить, остановило Костю. Нет, так нельзя. А как можно? Один выход — следить за человеком, выяснить куда он идет, может быть, где живет. А что дальше? Там видно будет. Главное — не потерять из вида обладателя журнального детектива, не дать ему бесследно, навсегда затеряться в миллионном городе. С человеком этим Костя никогда не встречался, он в этом уверен. Очень уж характерное лицо, что-то явно монгольское в нем, ни дать ни взять — хан Батый... Если даже он украл сумку, то Костю он вряд ли запомнил. Хотя, кто его знает... Все же лучше стараться не попадаться на глаза.
Так началась слежка. Смуглый, с восточного вида лицом пассажир сошел, немного не доехав до конечной остановки. Рюкзачок его (сразу видно, что человек откуда-то приехал) ничуть не походил на похищенную сумку: без особых претензий, но все же что-то не ординарное, с налетом туристского шика. И костюм вроде бы туриста-путешественника (впрочем, это, скорее всего, роба студенческого строительного отряда, приспособленная для нужд человека более старшего возраста). Костя гадал, что за человек? Откуда он приехал (а то, что приехал — заметно невооруженным глазом). На вора не похож, впрочем, откуда знать, как они выглядят, люди, крадущие чужие сумки? Но что не наркота — это точно.
Человека с монгольскими чертами лица интересовали газетные киоски, где он, видимо, спрашивал, а ему подавали какие-то журналы, он их листал, и либо подавал обратно, либо покупал, а потом запихивал в широченные карманы своего рюкзака (то, что он читал в троллейбусе нашло себе место там же). Он шел себе и шел, легко неся свой нарядный рюкзачок, пока не дошел до девятиэтажного дома, стоявшего на пересечении улиц Островского (неизвестно которого) и той, что много лет называлась улицей Жданова, а сейчас названной в память о
подвиге милицейского полковника, погибшего при взятии вооруженного бандита. Костя заволновался: человек направлялся к одному из подъездов дома, а это уже создавало ситуацию невыгодную: в доме лифты, сейчас сядет в лифт и уедет! Войти вместе? А вдруг узнает? Костины мысли снова заметались беспорядочно. Но он продолжал идти: в подъезде больше тридцати квартир — попробуй потом найти, в которой из них скрылся незнакомец! А вдруг он вообще здесь не живет? Приехал к кому-то в гости? Просто зашел по пути? Передать, например, что-то?
Костя, стараясь держать минимальный интервал, Проскользнул в подъезд. Впереди идущий человек поднимался уже на второй марш (лифт начинался не с первого этажа — из-за магазина на первом) легкой походкой. У лифта он почти догнал объект своего преследования и уже готов был крикнуть «подождите, не уезжайте!», как увидел, что тот проходит дальше: люди живущие на невысоком этаже часто предпочитают лифтом не пользоваться. Костя тихо крался, поднимаясь по ступенькам и прислушиваясь к шагам того, кто шел перед ним. Наконец шаги затихли: человек остановился перед дверью. Костя замер. Послышалось звяканье ключей. Значит, не в гости, домой. Теперь только не прозевать момента перед тем, как дверь захлопнется. Когда человек в дверях, он уже назад не смотрит, если только случайно не оглянется. Костя сделал еще пару осторожных бесшумных шагов. До него донесся звук открывающейся двери, и он сделал быстрый рывок, чтобы оказаться на площадке с таким расчетом: самому остаться незамеченным, но номер квартиры заметить успеть. Квартира оказалась не первой в ряду по расположению на лестничной площадке, и Костина голова едва поднялась над бетонным полом, как уже через какую-то долю секунды щелкнул замок — дверь захлопнулась. Но Костя уловил которая: ему хватило того мгновенья, когда щель еще оставалась между дверным косяком и самой дверью. Номер восемь — легко запоминается, всего одна цифра — и у Тани день рожденья приходится на 8 марта...
Костя все же поднялся на лестничную площадку, внимательно осмотрел дверь, будто этот осмотр мог что-то прибавить к его представлениям о хозяине квартиры. Но дверь была как дверь, не обита даже, как некоторые, номерок не сделан на заказ, не нарисован художником-самоучкой. И глазка на двери нет. И покрашена казенной краской, как и все остальные на площадке.
Теперь, когда операция по выслеживанию была завершена, Костя с новой силой ощутил всю странность создавшейся ситуации. Надо ведь было что-то предпринимать.
И тем не менее, он сел на скамейку у подъезда, чтобы собраться с мыслями. Наверно, самое разумное было позвонить Пеночкину. Там-то живо установят личность любителя детективов, и постараются, надо думать, узнать, где он их достает. Сообщить об этом Коляне? Желание оправдаться перед ним по-прежнему жило в Костиной душе, хотя он и сознавал сейчас, что ссылка на журнальный детектив, обнаруженный в троллейбусе у незнакомого пассажира, не очень-то весомый аргумент. Сброшюрованные журнальные странички Коляне ни к чему. Ему еще надо объяснить, какая связь между ними и его потерей. И, может статься, что состояние, в котором он находится в данный момент, совсем не подходит для такого рода объяснений. Да еще вдруг там окажутся эти шакалы...
Костя медленно побрел в сторону дома, прокручивая возможные варианты использования неожиданно свалившейся на него новости. Было у него в мыслях поговорить и с Таней, но ее реакцию можно было предвидеть: конечно, она посоветует сообщить об открытии Пеночкину. Словом, все сходилось на этом. С такой мыслью дошагал Костя и до своего дома. Глянул на часы: а что если позвонить прямо сейчас? Рабочее время еще не кончилось, вдруг Пеночкин на месте?
Телефоны-автоматы висели около универмага. Найти свободный и исправный там можно было вполне. И Костя стал искать телефон Пеночкина. Однако все было напрасно: длинные гудки слышались в трубке, хотя он набирал номер дважды. «Ничего не поделаешь...» — Костя вздохнул.
Он стоял в раздумье около телефона-автомата, размышляя, не позвонить ли Тане, когда на плечо его легла чья-то рука. От неожиданности Костя вздрогнул.
— Испужалсси! — нагло издевательский голос конопатого Костя узнал сразу, прежде чем поднял на него глаза. — А кого боишься? Ментам опять, поди, названивал?
Может, оттого, что именно этим он как раз и занимался, Костя почувствовал себя нагадившим щенком. И все, что он стал дальше делать, совершалось вопреки его предыдущим намерениям, как это нередко бывает с людьми, которых застали врасплох.
А конопатый продолжал тем же издевательским тоном:
— Давай, докладывай, каких успехов достиг? Заложил нас ментам, а теперь трясешься от страха?
Усатый его напарник хмуро молчал. Молчал и Костя, ожидая, что же последует за этим всем.
— Ну, что молчишь? Мы тебя предупредили...
Костя не мог знать, берут ли его, что называется, на «понт», или в самом деле имеют какую-то информацию относительно его и Таниных переговоров с Пеночкиным. Хотя второе представилось совершенно невероятным: откуда?
— Что сказала твоя краля? Согласилась она с нами посекретничать?
— Согласилась... — Костя произнес это, настороженно оглянувшись, нерешительно. И вдруг выпалил, неожиданно для самого себя.
— Я нашел того, кто «увел» у меня сумку.
Оба посмотрели на Костю с явным недоверием.
— Ну, ты нам уши не три!
Понимая, что отступать теперь уже некуда, Костя принялся сбивчиво объяснять. И насчет сумки, и насчет детектива из журнальных страничек, положенного им в эту сумку и насчет человека с монгольскими чертами лица.
— Интересная кинокомедия... Фантастикой, наверно, увлекаешься. Такое сочинить... А что если мы твоего «монгольского типа» пощупаем? И обнаружится, что ты просто нам решил мозги попудрить. Что мы тогда с тобой должны сделать?
— Давай поехали! Показывай!
«Лада» шестой модели в два счета доставила их на место, названное Костей. Конопатый, сидевший за рулем, немного поразмыслив, припарковал машину наискосок от подъезда, указанного Костей.
— Что будем делать? — обернулся он к усатому, который сидел сзади рядом с Когтей.
Тот, откинувшись на спинку сиденья, отозвался:
— Да вот соображаю. Вопрос не простой. Если нам наш друг не соврал, то нам придется этого субчика сильно тряхнуть. Он, ясное дело, сразу фраером прикинется, мол, я не я и лошадь не моя. В таком разе, надо будет ему под ребрышками пощекотать. А если он даже и дома, как нам наш друг сообщил...
— Пока я отсутствовал, он мог уйти куда-нибудь, — вставил Костя.
— А ты бы не «отсутствовал». Сидел бы ждал, последил бы, куда он дальше свои стопы направил.
— А я так думаю, что он человек культурный и раз только что приехал откуда-то, то принимает сейчас ванну, — вмешался конопатый. — Чего он сразу попрется по такой жаре по каким-то делам?
— Может и принимает, — усмехнулся усатый. — Если у них в доме на лето горячую воду не отключили, как у нас. А если принимает, то с чистеньким-то бы самое время сейчас и побеседовать. Хорошо, если бы у него после ванны была привычка что-нибудь кроме чая принимать. Тогда бы мы с ним быстрей общий язык нашли.
— Эт-т точно. Вот только в гости он нас пока не приглашал.
— Мы люди не гордые, можем и без приглашения нарисоваться. Вот только бы знать его семейное положение, а еще лучше — состав семьи. Люди с монгольскими чертами лица по многу детишек имеют обыкновение делать.
— Что ж, детишки могут и сгодиться. Пригласить их покупаться, а потом папе позвонить, предложить в обмен на тайну исчезнувшей сумки.
— Было бы из-за чего... По большому играть можно, когда знаешь, что большой куш сорвешь.
— Тебе виднее, — не стал спорить конопатый.
В машине наступило молчание. Какие уж варианты рождались в головах шантажистов, Косте не было известно, а вот сам себя он проклинал за очередную глупость. Ну, для чего он это брякнул?
Как в шахматной игре: вдруг покажется, что ход удачный и — раз! — фигурой. А потом видно, не подумал. Подставился, неприятности себе нажил, а перехаживать нельзя...
— Ну что, командир, принял решение? — заговорил наконец конопатый водитель. — Время деньги, а за простой тачки мне не платят. Может, двинем?
— За что тебе платят, тебе лучше знать. А по этому случаю принимать решение мне никто не поручал. Пусть принимают их те, у кого мозгов больше. Давай двигай.
Но едва конопатый водила повернул ключ зажигания, как Костя локтем толкнул усатого:
— Вот он! — сказал он, зачем-то понизив голос.
Объяснять «кто» не понадобилось. Предварительное описание вполне соответствовало действительному виду, хотя человек с монгольскими чертами лица полностью преобразился. Догадка насчет ванны была, пожалуй, верна. Вид у объекта наблюдения был соответствующий тому, который принимает хорошо помывшийся человек. На нем была белоснежная рубашка, легкие летние с голубоватым отливом брюки; обувка тоже была летняя, открытая, с глубокими со всех сторон вырезами, позволяющими любоваться синими носками в белую полоску. Внушительных размеров солнцезащитные очки довершали наряд. Сидевшие в машине об этом, конечно, не догадывались и прокомментировали внешность незнакомца по-своему.
— Ишь, нафраерился, обезьяний потрох! Гульнуть, видно, решил. Давай за ним потихоньку: вдруг вскочит в трамвай или троллейбус, а то и на такси. Такие общественным транспортом предпочитают не пользоваться.
Но тот, за кем так пристально сейчас наблюдали три пары глаз, ни общественным, ни индивидуальным транспортом воспользоваться не спешил. Он прошел всего один квартал и свернул к дверям заведения достаточно популярного. Конопатый присвистнул, усатый крякнул, а Костя выругался про себя: «Ах ты, гад!» Но эмоции эмоциями, а дело делом. Руководитель операции тут же распорядился: «Встань вон там, из машины не выходить. Ну, а я пойду посмотрю, зачем такие фраера, не успев приехать, раньше чем в кабак, бегут в сберкассу». Потому что именно в дверях сберкассы скрылся новоявленный подопечный вездесущих шантажистов. «Сбежать разве? — с тоской думал Костя. — Но куда? Был бы на месте Пеночкин...»
— Если он просто за телефон пошел платить, так не забудь номерок телефона зафиксировать, ну и имя с отчеством тоже! — напутствовал водила своего шефа.
— Знаю, что делать, — буркнул тот в ответ.
«Сейчас бы накрыть их всех вместе. Но ведь этот гад может догнать и ножом пырнуть. У них это просто. Ишь как они про детей-то... Но, может, хоть нас с Танькой оставят в покое, если с этим фраером разберутся...» А усатый тем временем, взяв бланк со стойки, пошел прямо к столу, за которым уже устроился интересовавший его человек. На заполняемом им бланке можно прочесть и сумму (вносимую или забираемую с книжки), а также фамилию, имя, отчество. При хорошем конечно зрении. Какие-то минуты спустя, усатый располагал всеми этими сведениями. Человек, за которым он наблюдал, не скрытничал, не озирался по сторонам, заполняя приходный ордер. А усатый, скомкав бумажку, на которой записал первую пришедшую ему в голову фамилию, быстро покинул сберкассу. Очереди у окошечка контролера почти не было и, судя по всему, объект наблюдения здесь долго не задержится. Теперь предстояло самое трудное...
— Ну, и что там восточный человек поделывает, — поинтересовался как бы нехотя водила. — Проводит рекогносцировку, чтобы «взять» кассу? С его рожей это нетрудно...
— Не трепись. Он сейчас к своему капитальцу целую штуку подогнал. Зовут Тенгизом, отчество больно мудреное, а фамилия что-то вроде Мухамедьянов. Не встречал?
— Не приходилось. Такого в наших порядках не было.
— А ты? — бросил колючий взгляд на Костю.
Тот только пожал плечами..
— Ну это мы сейчас выясним, — недобро скривился усатый. — Выдь на секунду, — велел он водителю.
Тот лениво вывалился из машины. Они отошли немного в сторону и стали о чем-то совещаться. Косте их голосов слышно не было. Сердце его сжалось от нехорошего предчувствия. Что-то замышлялось на его глазах, а он бессилен что-либо предпринять. Теперь-то уж они его, понятно, не отпустят. Чем все это кончится? Скорей бы уж...
Дальше события развивались ни дать ни взять как в кинобоевике. С тою лишь разницей, что чем бы там дело ни кончилось, кончается фильм и можно шагать домой. А здесь еще вопрос — удастся ли пойти домой...
Тенгиз легкой походкой удачливого человека, довольного судьбой, легко вышагивал по тротуару. В момент, когда он приблизился к его кромке, около него остановилась машина. В отворившуюся заднюю дверцу высунулся человек с обвислыми усами и вежливо спросил:
— Молодой человек, можно вас на минутку.
Тенгиз подошел к машине, склонился к спрашивавшему. Костя (а ему, перед тем как поехать, было велено пересесть вперед) видел, как все это произошло. Вопрос был самый что ни на есть наивный, но именно такой, на который любой человек сочтет нужным ответить. Усатый спросил, как проехать к областной больнице. Тенгиз стал объяснять. В это время водитель вышел будто бы по своей шоферской надобности, обошел машину, приоткрыл и снова захлопнул багажник, и вдруг подскочил к Тенгизу сзади. Усатый железной хваткой вцепился Тенгизу в руку, вторую руку захватил конопатый. В результате одновременного резкого рывка и толчка сзади, Тенгиз оказался в машине.
— Только попробуй пикнуть, — прошипел усатый. В руке его блеснул нож.
— Ребята, что вы, что вы...
— Заткнись, если не хочешь, чтобы я тебе потроха выпустил!
А машина мчалась, минуя знакомые дома и улицы, проскочила на полном ходу мимо той самой больницы, как проехать к которой еще несколько минут назад пытался объяснить Тенгиз...
За городом начались сады и дачные строения. Чуть поодаль от забора, огораживающего садовый участок, виднелось какое-то полуразвалившееся строение. И хотя накатанного подъезда к нему не было, водитель уверенно направил машину к этому дому: чувствовалось, что сюда подъезжать ему было не впервой. Он даже сумел подогнать свою «Ладу» почти вплотную, так что она оказалась надежно защищена стеной строения от взглядов со стороны.
— Пошли! — скомандовал усатый.
— Никуда я не пойду! — попытался сопротивляться Тенгиз. — Нечего мне там делать.
Коротким взмахом усатый ударил своего пленника в лицо. Его белоснежная рубашка тотчас окрасилась кровью.
— Ну вот, опять мне сиденье отмывать, — изображая брезгливую гримасу изрек конопатый.
Зажимая разбитый нос рукой, Тенгиз вылез из машины.
— Ну, а ты чего ждешь? — бросил ничего хорошего не обещавший взгляд усатый на Костю. — Давай тоже!
Внутри помещение выглядело менее заброшенным, нежели снаружи. Была это по-видимому какая-то контора ликвидированного хозяйства, каких немало возникало в прежние времена вокруг больших городов с целью снабжения их овощами. Костя и Тенгиз, естественно, кроме страха, ничего испытывать не могли, а того, что их собственно двое против двоих же, они не подозревали. Костя в Тенгизе видел похитителя его сумки или хотя бы соучастника этого деяния; Тенгиз считал Костю одним из трех бандитов, так коварно его захвативших. Он ничуть не сомневался, что причиной захвата были деньги, которые числились на счету его сберкнижки и лишь немного утешала мысль, что это не наличные деньги (а таковых у него с собой было немного), а снять деньги со счета без его личного участия никак не удастся.
Бандиты свое внутреннее напряжение старались скрыть под напускным цинизмом. Сознаться в том, что у них нет уверенности, что они сейчас поступают правильно, они не могли бы и сами себе. Они не могли не чувствовать; что-то в этой истории с похищением сумки и с обликом человека, которого они сейчас привезли в свое тайное логово, не совсем вяжется. Представитель конкурирующего клана, по их представлениям, должен был бы вести себя иначе...
О том, что помещение это посещаемо, говорила хотя бы его относительная чистота. Отсутствовала «вековая пыль», прогнившие доски пола, выбитые стекла и прочие аксессуары запустения. Кое-какая мебелишка была пригодна для ее прямого назначения: то есть на стульях можно было сидеть, на стол — что-то поставить, а на замызганный раскладной диванчик — лечь. Все это было явно вывезено во времена, далеко отстоящие от тех, когда контора еще функционировала.
Когда все разместились (Тенгизу и Косте, впрочем, было указано, куда сесть), усатый «открыл собрание»:
— Ты этого знаешь? — обратился он к Тенгизу, ткнув рукой в сторону Кости.
— В первый раз вижу.
— Ну, это так все говорят. Придумай какую-нибудь другую формулировочку.
— Что я могу придумать, если действительно вижу человека в первый раз?
— Ладно, к этому еще вернемся. Ну-ка, выворачивай карманы!
— По какому праву...
— Еще раз так загнусишь — умоешься опять кровью. И это будет повторяться столько раз, сколько ты будешь вылезать. Пока не научишься себя вести. Усек? А теперь давай свое барахлишко.
Кошелек с деньгами, носовой платок, расческа — что еще может поместиться в карманах брюк мужчины летом, когда жара не дает надевать пиджаки.
— Все что ли? — насмешливо скривился усатый. — Никак ты не можешь понять, что с нами надо, как у попа на исповеди — ничего не утаивать. А ты все жмешь и жмешь, причем главное. Неужели из-за твоего сопливого платка мы бензин жгем? Доставай сберкнижку! — гаркнул он так, что Костя вздрогнул.
Тенгиз выбросил сберкнижку на стол. Усатый полистал ее, помолчал, раздумывая.
— А где ключи от квартиры? Почему не выложил?
— Я без ключей ушел, — глухо, через силу выдавил Тенгиз.
— Ясненько. А кто дома?
Лицо Тенгиза почернело.
— Не твое дело, — скрипнул он зубами.
И тотчас получил такой удар от конопатого, от которого слетел с табурета. Поднялся, держась за скулу, произнес тихо:
— Семью не трогайте. Все, что у меня есть — тут, на книжке. Вам это — слону дробина. А жену и детей не трогайте...
— Да, действительно, не густо... — опять посмотрел в сберкнижку усатый. — Пять штучек всего. Может, у тебя таких книжек пять, десять? Библиотечка?
— Откуда? Я деньги честным трудом зарабатываю. А это на машину накопил...
— Ну, ладно, нас твои жизненные проблемы не колышат. Говори по-хорошему: откуда к тебе попала сумка этого фраера и кому, за сколько ты ее толкнул?
— Не знаю, о чем вы?
Недоумение на лице Тенгиза было столь неподдельным, что бандиты переглянулись.
— Ты на кого работаешь? — решил начать по-другому усатый.
— Как на кого? На себя, — Тенгиз начал понимать, что тут не банальное ограбление с изъятием денег путем угрозы. Его явно принимают за кого-то другого. Это открытие придало ему бодрости, и хотя он понимал, что теперь уйти от этих субъектов со звериными повадками все равно непросто, все-таки какие-то шансы сделать это есть. Поэтому отвечать надо по возможности так, чтобы не вызывать раздражение у своих тюремщиков (как их иначе назовешь!) и четкостью ответов полностью снять с себя подозрение в том, что он замешан в делах какой-то мафии. А ведь он даже не знает пока, о чем речь...
— Значит, на себя, — недоверчиво повторил усатый. — Ты можешь не называть своего шефа, но намекни, мы поймем.
— А чего намекать? Я работаю в институте, шеф у нас...
— Постой, постой. Эти сведения нам ни к чему. А ты нам либо лапшу на уши вешаешь, дурачком притворяешься, либо...
Усатый не закончил.
— Да я говорю то, что есть.
— А откуда эти башли, что ты сейчас на книжку положил?
— Да с шабашки я еду. Заработал. Потом. По двенадцать часов иной раз вкалывали. Это ж проверить — один пустяк.
Усатый повернулся к Косте.
— Ну, что ты на это скажешь? Похоже все же, что ты фанта-а-зе-ер...
Костю и самого убедило поведение Тенгиза, его рассказ о себе. Но о наличии журнального детектива в его руках нет пока ничего ясного. Как с этим-то быть.
— Скажите, — хриплым от волнения голосом обратился он к Тенгизу. — Вы сегодня в троллейбусе читали детектив, собранный из журнальных листочков. Где вы его взяли?
Этот вопрос удивил Тенгиза не меньше остальных. Это обращение на «вы», этот запуганный вид и робкий голос — все подсказывало Тенгизу, что он не единственный здесь пленник, что охранников-то не так уж и много, что если бы знать это раньше и как-то объединиться, то еще можно посмотреть, кто здесь главнее. Поэтому он ответил как можно спокойней.
— Да, читал. Люблю детективы. А вот где взял... Там же и взял, где шабашничал.
— Что, так просто и взял, — вмешался конопатый. — Иди спер, или почитать тебе его дали? А то — «взял»... Чтобы взять, надо чтобы кто-то положил. А вот кто положил?
— Да какая разница? Я спросил у мужиков: «Чье?», «Да так, говорят, приблудное». Ну, я и взял, раз охотников больше не оказалось. Все равно пропадет. Ладно, если кто читать взял бы, а то ведь и на подтирку пойдет...
Усатый скрипнул зубами, выругался грязно:
— Все у вас, как посмотришь, гладко, чисто. Сговорились, падлы! Сейчас обоих здесь замочим, если правду не скажете.
— Да не знаю я ничего! — выкрикнул Тенгиз. — Есть ведь люди, чтобы подтвердить, что я на шабашке больше месяца пахал, и в ведомости я за эти деньги расписался, и журналы где взял, могу место показать!
У усатого пот выступил на лбу. Талантом следователя он явно не обладал, а тут следствие зашло в тупик. Он и верил, и не верил. Татарин, похоже, не врет. И этот слюнтяй — тоже, хотя бы потому, что врать он явно не умеет. А сумка пропала. Кроме того, что она дорого стоит, по ней еще можно будет определить, где взято кое-что в ней находящееся. А там, дальше-больше и на тех, кто брал, выйдут. А уж тут такие пойдут разборы, что лучше и не думать...
— Где вы шабашили?
Тенгиз назвал отделение совхоза, деревню.
— Это сколько отсюда будет?
Тенгиз сказал.
— Поедешь с нами, покажешь. И ты поедешь. Если обнаружится, что все это туфта — дома родного вам больше не видать. Так что лучше выкладывайте, как вы нас решили облапошить. Отдадите в два раза больше — и начинайте по новой ковать монету. Так башлями откупитесь. Нет — головой.
— Как я в таком виде поеду?
— Ничего, мы тебя прибарахлим. Обновим твой гардеробчик.
И кивнул конопатому:
— Принеси ему что-нибудь. Под цвет его ползунков.
Тот, мерзко хихикнув, нырнул в какую-то дверцу сбоку, совершенно ранее не замеченную. Вернулся с серо-голубой рубашкой с накладными кармашками. Бросил Тенгизу.
— Держи! Потом мы все равно к общему счету припишем.
— А эту я к какому счету припишу? — буркнул Тенгиз, стягивая окровавленную рубашку.
— Может, пока ты голый, тебе еще разок врезать? С кожи-то кровь смывается...
Но Тенгиз уже напялил на себя бандитское подношение и оглядывал себя критически.
— Не боись, не с трупа. Вещдоков не оставляем. Даровому коню куда-то там не смотрят.
Препятствие, которое пытался выставить Тенгиз, было устранено. Можно было ехать. Но тут заныл конопатый:
— Шеф, может, не стоит? Семь верст киселя хлебать? Посмотреть на полочку, где журнальчики лежали? А того, кто их положил, где мы увидим?
— Не твоего ума дело. Твое дело — баранку крутить. Погнали!
* * *
Алику снился сон. Собственно, это был не сон, а нагромождение каких-то кошмаров, фантасмагорий, навеянных духотой комнаты и алкоголем. Сюжеты этого полусна-полукошмара все время варьировались на фоне неосознанной тревоги. Вот мать — или это не мать — мать давно умерла, протягивает к нему руки и говорит: «Саша, не пей, Саша, не пей». Вот врачи в белых халатах суетятся вокруг чего-то, а это что-то — он сам... Вот ему втыкают шприц в бедро, а он кричит: «Не надо, не надо!» А по ноге у него течет кровь...
И опять видение возникло. Рыгаловка — место излечения алкоголиков по методу Буренкова — он пробовал лечиться по этому методу лет десять назад... Ходит врач по палате, звенит стаканом и бутылкой и кричит: «Водка, водка бэ-бэ-ээ, бэ-э-э, водка-водка бэ-э-э, бэ-э-э». И все алкаши на кушетках рыгают: бэ-э-э...
Последний сюжет был самый страшный: ему приснилось, что у него украли деньги. От страха он проснулся, будто бы выпрыгнул из чего-то мерзкого. Фф-у-ух! Он сел на кровати. Пот ручьем течет по спине. И сразу же — ширк под матрас. Вот они — «мани». Милые, зеленые. Все здесь, как на сберкнижке. «Храните деньги в сберегательной кассе!» Не все так страшно, жизнь продолжается.
В комнате тьма, за окном тьма. Утро или вечер — понять невозможно. Глаза постепенно привыкают к темноте и он видит свою комнату с немудрящей обстановкой; не комнату — комнатенку, которая досталась ему после размена квартиры, когда он развелся с женой лет десять назад. На столе стоят бутылки, стаканы. Все грязное, а главное — пустое. Но то, что проснулся дома — уже неплохо...
Под столом кто-то лежит и надсадно храпит. Чертовы алкаши, гнать надо таких гостей. Алик делает над собой усилие и встает. Включает свет. Да, бутылки пусты безнадежно. Он открывает холодильник, шкаф, заглядывает под кровать — ни жрать, ни выпить...
Давненько он не входил в такой вираж. Но что ж делать, «бабки» на кармане, как тут удержишься от красивой жизни. Красиво, как говорят, жить не запретишь.
— Эй ты, чучело! — Алик пинает босой ногой лежащего на полу. Реакции никакой: Фадеич дрыхнет как обычно с разинутым ртом, раскинув руки. Притомился. Отдыхает...
— Вставай, быдло, — Алик чувствует, что будить старика бесполезно. Да и черт с ним.
За стеной сосед врубает магнитофон. Значит, вечер. По утрам тот сосед любит поспать. Зато допоздна гоняет свой идиотский музон. Песня отдает тупой болью в воспаленном мозгу.
— Черт бы его побрал, — бормочет Алик. Можно конечно постучать в стену, да лень. Он так и сидит, раскачиваясь в такт музыке, обхватив голову руками.
Родители поклонники морали
Похожи на двуручную пилу.
За двадцать лет так девочку достали,
Что от тоски та села на иглу. —
выводит хриплый насмешливый тенор.
Принцесса села на иглу,
Принцесса села на иглу,
Какая глу, какая глу,
Какая глу-упость...
Терпение Алика кончается и он стучит в стену.
А фея тут как тут:
Сует мастырку
И норовит пристроить на иглу-у...
Поет голос уже тише. Сосед всегда убавляет звук стоит только стукнуть. Вот только сам почему-то никогда не догадается.
Фадеич на стук реагирует довольно странно: издает какой-то булькающий звук, но не просыпается. Потом произносит несколько затасканных ругательств, после чего начинает храпеть еще громче.
— Ишак. Осел. Козел. Мерин. Бык... — произносит Алик скорее устало, нежели зло, натягивая штаны и рубашку. Потом он выходит, захлопнув дверь, оставляя Фадеича мирно похрапывающим.
На улице хорошо. Прохладно. Становится легче, намного легче. Надо что-то найти. Черт возьми, сколько же сейчас времени?
Принцесса села на иглу,
Принцесса села на иглу... —
незамысловатый мотивчик железно вписался в нездоровые мозги. Кстати, про иглу. Ведь лежит сумочка, лежит, родная, в лесу. А ведь это куш. Это верные бабки. И наверняка не чета всей этой убогой шабашке. Там одних ампул штук двести. Таблетки. Тоже хренова туча. Но как к этому подойти? Как? Первый раз в своей пестрой жизни Алик столкнулся с таким феноменом: есть товар. На товар, наверняка, есть спрос. Но как все это прокрутить? Товар опасный. Страшно. А для друзей по шабашке его уже нету, товара этого. Для них — сумочка аэрофлотская утонула в болоте. Для них — утопил ее бугор. Концы, как говорится, в воде. А сумочка лежит. Лежит, а в ней бабки. Бабки!
Он даже разволновался, в который раз разволновался, вспоминая про сумку. А вот она есть... Есть, и не дает спокойно спать.
Алик пошарил в карманах — папиросы были, а спичек — тю-тю. Ориентируясь на мерцающие в глубине двора огоньки сигарет, он подошел к лавочке, где зеленая парочка обнималась и пускала дым.
— Сколько времени, — спросил он, прикурив.
— А у нас часов нет, мы их не наблюдаем. Спроси у ментов, батяня, — молокосос показал на двух милиционеров, шагавших по двору. У Алика поднялась волна беспричинной тревоги. Какого хрена менты разгуливают по двору? Но те прошли мимо его подъезда, и тревога улеглась. Проклятые нервы. Пить надо меньше.
— Какой я тебе батяня? Что, так старо выгляжу?
— Ну, видно, что подержанный. Волос на две драки осталось.
Алик хмыкнул. Батяня... Вот, достукался. В сорок с хвостиком обозвали батяней.
— Кстати, про ментов, сынок, есть такой анекдот. — Алик затянулся, присев на скамейку. — Бабке вот также посоветовали к менту подойти и время спросить. Она подошла и говорит: «Слушай, мент, сколько щас времени?» А он ей отвечает: «Сейчас, бабка, три часа. И три рубля штрафу за оскорбление при исполнении». «Спасибо», — бабка говорит и дает ему червонец. А он, мол, сдачи нет. А бабка говорит: «Ну и ладно. Мент. Мент. А на рубль — козел драный».
Парочка захихикала.
— Сейчас двенадцать, — впервые подала голос девчонка.
— Ну вот и спасибо. — Алик поднялся. — Я вам байку — вы мне время. Все по честному.
Время еще детское. Было бы желание и «капуста» — найти можно. А то и другое присутствовало.
Алик вышел на улицу. Подождал, пока не набежал на него зеленый огонек, помахал. Конечно же, ночной рэкс, если и не держит под сиденьем, то информацией располагает. Верняк.
— Шеф, — сообщил Алик без вводных предложений и прелюдий. — Нужно срочно достать, душа дымит.
Таксист, флегматичный длинноволосый парень постучал пальцем по баранке.
— Я не балуюсь. Но на сдачу могу закинуть.
— Валяй. Не обижу. А что там за заведение?
— Заведений там нет. Там есть место. И там сдают все, что хочешь — от и до. Подъезжаешь, тушишь фары — и они подлетают как коршуны. Ребята работают, позавидовать можно.
— Слыхал про такие места, только сам ни разу не брал. А куда ж менты смотрят?
— У них там все схвачено. Если чуть шухером пахнет, участковый приходит и говорит: ребятки, сегодня в футбол играйте. И ребятки в футбол гоняют. Рейд там или что — приезжают — тишь да гладь. А в следующую ночь — на боевом посту, как обычно. Как-то к ним рэкеты заявились. Подгоняйте, говорят, за ночь по стольнику. Те — хрен, мол, вам! Приехали тогда на трех «жучках» ребятищи, дали тем шороху.
— Ну и что?
— Ничего. Теперь платят. Что им стольник — шелуха. Они там деньги делают, какие нам с тобой и не снились.
За разговором приехали. То место было за большим широкоформатным кинотеатром в переулочке. Как только погасили фары, подошел парень. Высокий, в спортивном костюмчике, в кроссовках. Со спортивной сумкой фирмы «Адидас», сверкая лампасами на штанах: такие бывают только у генералов и швейцаров.
— Что есть? — Алик спросил.
— Все есть. Водка, вино.
— А коньяк есть?
— Сейчас узнаем. — И кого-то поманил. — Эй, кто конину сдает?
Та же спортивная униформа, сумочка. Олимпийцы, спортсмены доброй воли, да и только! Из сумочки появились бутылки с коньяком. Коньяк шел по тридцатке, водка по два червонца. Крепленое вино любой марки — по «чирику». Цены стабильные, твердые, рухни вся экономика страны к чертям!
Бутылки с «кониной» перекочевали из «адиковской» сумки в мешок Алика. Деньги — в обратном порядке. Можно было ехать, но Алик решил рискнуть. Надо же с чего-то начинать.
— Слушай, «делаш», — поманил он сдатчика «конины». Можно тебя на пару ласковых?
— Пожалуйста, Вася. Но помни — время — деньги.
— Да я не Вася.
— А это, Вася, не принципиально. Ты на Васю похож.
— Ну, лады, проехали. Вот ты сдаешь градусы, а мне надо кой-чего покрепче опрокинуть.
— Ага. «Надоела мне марихуана, мне б мастырку кашкарского плана. А после плана кайфовые ночи: снятся Гагры, Батуми и Сочи» — пропел олимпийский чемпион. — Не в жилу, Васек, извиняй. Все, привет Мне работать надо.
— Да ты годи! Понимаю, ты честный советский фарцмэн. Но, может, где-то слышал краем уха. А?
— Хорошо, Васек, что понимаешь. Это надо понимать. Короче, так: гони полтинник, может, чего и вспомнится на радостях.
— Не кисло! Ты не промах, делаш!
— А жизнь какая, Вася! Ведь дорого все, инфляция проклятая опять же...
— А если ты мне фуфел подгонишь? Где же гарантии, как говорят дипломаты?
— Гарантии бывают только на смиренном кладбище. Стопроцентные, как говорят финансисты. А пока мы, так сказать, живы, все зыбко, все ускользает. А вообще-то говоря, я Вышинского уважаю. Знаешь, цитирую: признание — царица доказательств. Я тебе сознаюсь, ты уж можешь верить, можешь нет. Думай, Вася, думай. А то я погнал, работа стоит.
Действительно, подъехало несколько машин. Торг шел в полный рост, в открытую.
— На! — Алик решился. Отступать было некуда. — Давай адресок.
— Пивнуху знаешь на горке? Там на цепи Артем сидит. Все. Ты меня не видел, я тебя не знаю. Рисуй сквозняк.
Алик забрался в машину к скучавшему таксисту. Артем на цепи? Что-то стало проясняться в этой истории. Полтинник было жалко до слез. Вон татарин остался на неделю, управ просил выбоины в коровнике замазать, но никто кроме него не согласился, все рванули, когда бабки в кармане зашелестели. Сколько он там на этом коровнике забашляет? Полтинник или два? Но в таком деле издержки неизбежны.
Когда, наконец, он добрался до своей конуры, там уже было весело и без него. Большая часть бригады, считай кворум, была в сборе. Неизвестно откуда появившийся разноглазый Витька разливал портвейн типа «Агдам», Фадеич сидел на стуле настолько нетвердо, что Алик подумал, что предшествовавшая этому поза ему больше подходит.
— Привет, золотая рота! — Алик сел за стол. Витька полез обниматься — соскучился. Давно не виделись — полсуток не прошло.
Но мысли Алика блуждали далеко, около пивбара, около таинственного Артема. Если он, конечно, есть в натуре, если его, Алика, не купили, как те «кидалы» с шариком и колпачками.
— Принцесса села на иглу, — сказал он. — Какая глу, какая глупость...
— Что, что? — разноглазый Витька силился понять, о чем это любимый бугор.
— Да ничего. Принцесса, говорю, села на иглу.
— А-а... А я слышал, на горошину...
— А-а... ...на!
И Алик откупорил коньяк.
* * *
«На горке» стояла очередь. Невзирая на то обстоятельство, что жаркий августовский день был еще и рабочим. Очередники, томясь под лучами, хотя и не южного, но безжалостного солнца, медленно и покорно продвигались к заветной двери, за которой им уготованы были райские кущи — жидкое несвежее пиво и мелкие выцветше-розовые раки. Впрочем, не всегда они бывают: чаще там пересоленая рыба, в качестве гарнира к которой насыпаны внутренности... грецких орехов. Надо иметь богатую фантазию, чтобы додуматься до такого: никак не сочетается пиво по вкусу с продуктом этим, заморским по названию, а по извилинам напоминающим человеческий мозг в миниатюре. Но зато как для калькуляции удобно! Надо же догнать цену двух кружек паршивого пойла до трех рублей...
Круг обсуждаемых вопросов в очереди был необычайно широк — от высокой мировой политики до мелкой уголовной хроники. «Слышь ты, — бубнила бесцветная личность при шляпе, ближе к хвосту очереди, — кольцо с пальца не снимается никак, а камушек-то с каратами. Ну так он ей давай палец ножом резать. Он ей режет, а она молчит, зубы стиснула, как Зоя Космодемьянская. А ей ментяра потом говорит: ну что ты молчала-то, на помощь надо было звать. Опять же, слышь ты, больно наверное, когда палец отрезают... А она — попробовала бы закричать — вишь все зубы золотые. Вот и молчала, рот боялась открыть, а то, слышь ты, все бы зубы и выставили вместе с пальцем-то. Хи-хи-хи...»
В середине очереди шел принципиальный спор: сколько золотых звезд было у Брежнева. Кто-то утверждал, что четыре, но высокий прыщеватый парень в спортивных трусах и кооперативной майке с серпом и молотом на груди, возражал, называя цифру пять. Основным аргументом в споре он выдвигал слова из современной песни: «...а потом схватил штурвал кукурузный гений и давай махать с трибуны грязным башмаком. Помахал и передал вскоре эстафету пятикратному герою — другу дураков». Потом стали спорить, был ли Брежнев генералиссимусом. Дошли и до трапа с эскалатором, и до специальных сигарет для большого вождя. Потолковав про Сталина, Ворошилова и Кагановича, дошли и до баб. Но на этой теме разговор стал как-то лениво провисать — в такую жару про баб говорить было скучно...
У двери, загородив проход длинными волосатыми ногами (он был в шортах) восседал на стуле здоровенный малый со свороченным набок носом, хмурясь от дыма сигареты, зажатой в бульдожьих челюстях, а может быть, от удовольствия, вызванного сознанием собственной исключительности и независимости. Он поигрывал стальной цепью; медленно наматывал ее на пудовый кулак, потом разматывал снова с таким видом, будто занимается очень важным интеллигентным делом. Функции вышибалы-швейцара были следующие: если кто-то выходил из бара, накачавшись до отрыжки, он, потомив сначала очередников, поджимал ноги и лениво цедил: «Заходите двое» или «Заходи еще один». Счастливчики кидались в недра, а амбал водружал свои ноги-шлагбаумы на место и занимался любимой цепью. Когда кто-либо из первоочередных пытался «качнуть права», мол, вышли трое, что ты не запускаешь, он выплевывал давно потухший окурок и просвещал несознательного: «Ты, быдло, затыкай, нанюхались. Когда надо будет тогда и пущу. Возбухнешь еще разик — пиво на тебе и кончится». И бунтарь-одиночка сникал, уразумев, что не ему перестраивать местный уклад, существующий веками.
Но тут подошли две какие-то личности, и амбал резво соскочил, пропуская их без очереди, всем своим видом показывая уважение к ним. Толпа зароптала, послышались выкрики типа «мафия хренова», но амбал уселся на, свой стул, погрозив очереди цепью и вытянул ноги.
— Артем, — взмолился один из страждущих, — пусти, жабры горят.
«Вот Артем, вот цепь. Все сходится», — подумал Алик. Он стоял четвертым-пятым от входа и уже догадывался, что к чему. Теперь поступило подтверждение.
— Артем, — произнес он вполголоса, приблизившись к объекту вплотную. — Поговорить бы надо.
Артем отсутствующим взглядом скользнул по Алику.
— Говори. Тут все свои.
— И все же хотелось бы тет на тет.
— Эй, старина! — Артем крикнул вглубь зала.
Появился красноглазый старик с орденом Красной Звезды на лацкане заношенного пиджака. У старика были буденовские усы и мутные маленькие глазки. Он был изрядно пьян.
— Постереги, — кивнул Артем на дверь. И повесил свою цепь на специальные ушки, закрыв таким образом вход в бар.
— Ну, давай, беззубый, сюда! — И Артем завел Алика в пустовавший по случаю лета и жары гардероб. — Излагай, только короче, а то я на работе.
«Все вы на работе, — мелькнуло в голове у Алика. — Рабочий класс. Гегемон...»
— Да у меня дело пустячное. Может, я тебя зря и от работы оторвал. Просто мне надо кой-чего сдать. Из дури, — выпалил Алик заранее приготовленную фразу, внутренне сжавшись. Что-то ответит ему на это «хозяин пивбара»?
— Во-он что, беззубый. Так ты торговец белой смертью? — Артем обнаружил вполне осмысленный иронический взгляд. За лениво-циничной вывеской, да еще с цепью впридачу скрывался совсем не дурачок. — И как же ты со своей совестью уживаешься? Мальчики кровавые в глазах не являются?
— А тебе не являются? — Алик почувствовал, что не зря стравил полтинник фарцу-философу в ту ночь.
— Ладно, мы вот что сделаем. Мы сейчас дяденьку милиционера пригласим. И скажем ему, что здесь какой-то беззубый хочет нажиться на страдании и крови ни в чем не повинных людей, — последние слова Артем произнес с дрожью в голосе, с пафосом и слезой.
— Зови, — Алик немного вспотел. — Скажу, что пошутил, разыграл тебя по-дружески.
— Так, логично. А если ты сам ведешь, так сказать, «незримый» бой с теми, «кто честно жить не хочет»? А? Хотя это вряд ли. Слишком у тебя хлебало заметное, таких красавцев там не жалуют. Ну, ладно. Ближе к делу. Чем располагаешь? Кажи масть.
— Колеса.
— А на фасаде? По латыни?
— Седуксен. Ноксирон. Нитразепам.
— Знаешь, что, товарищ с дефицитом зубов. Иди-ка ты домой. И глотай свое фуфло. А нам этого не надо. Спим мы крепко и знаешь почему? Потому что у нас совесть чистая.
— Ну там еще что-то было. Промедол, вроде...
— А ну так бы и говорил. Это уже теплее, теплее. Хотя, конечно, не фонтан.
— ...ампулы...
— А что на ампулах?
— Гидрохлорид какой-то.
— А ты, оказывается, мужик с головой. Только по химии, наверно, балла два имел в школе. Если вообще в школу когда-нибудь ходил. Гидрохлорид-то чего?
— Не помню. Помню, что гидрохлорид.
— Ну морфина, пантопона, омнопона?
— Да, что-то в этом роде.
Артем помолчал, постукивая толстыми пальцами по деревянной стене. На одном из пальцев блестел тяжелый золотой перстень-печатка. Задумался не на шутку.
— Ладно, вот что. Посиди здесь, я тебе пива принесу.
Он исчез на несколько минут и вернулся с графином пива и пустым стаканом.
— Пей пиво.
— А ты?
— А я пива не пью. У меня на него аллергия. Я, знаешь ли, шампанское уважаю, холодненькое. Шампанское, знаешь ли, со льда...
Алик единым духом выпил стакан. Налил второй. Стало немного легче. Напряжение спадало.
— Ну, так что ж ты просишь за свое стекло?
— По чирику. — Алик сказал наугад. Черт возьми, знать хотя бы приблизительно, почем этот товар.
— По пятаку возьму. Колеса — промедол — по рябчику. А остальное засунь себе в одно место, крепче спать будешь.
— Шприцы чешские.
— Машинки годятся. А где же твой товар?
— В надежном месте.
— Хорошо хоть, в надежном. А то у такого лоха и в ненадежном оказаться может. Значит, слушай сюда: здесь больше не светись. Давай адресок.
Алик призадумался. Давать адрес этой публике в его планы не входило. Можно так влипнуть — потом не отлипнешь.
— Не хочешь, черт с тобой. Живи уродом. — Артем прочитал его сомненья. — Давай тогда так вот: южное шоссе знаешь? Так вот на выезде из города — пятый километр.. Желтая «девятка» будет стоять. Если меня не будет, будет мой кент заклятый. Он будет в курсе. Сядешь в тачку — товар-деньги-товар. Про политэкономию слышал? Или это для тебя такая же наука, как и химия?
— Ладно, затыкай, нанюхались, — Алик вспомнил, как Артем учил уму-разуму «взбухнувшую» очередь. — Когда все это будет?
— А это назначай время ты. Когда сможешь.
— Надо за товаром съездить. Завтра поеду. Давай послезавтра.
— Заметано. Послезавтра в двенадцать на том самом месте. Все, свободен.
— Дай пиво допить.
— Пиво будешь пить, когда
заработаешь. Все, выметайся. Так понял: место встречи изменить нельзя. Ну-ка встань.
Алик встал и Артем похлопал его по груди, спине и бедрам.
— Это на тот случай, если у тебя вертушка под шмотьем. Знаешь, как бывает: мы с тобой чирик-чирик. А она — круть-верть, круть-верть. Одному моему знакомому вот так вот на шесть лет с конфискацией накрутили. Маленькая сука, да удаленькая. Пришли к нему люди с красивыми лицами и увели в некрасивый дом. Хотя пленка — это не доказательство. Он сам, дурак, колонулся. Ну ладно, проваливай, а то я тебе тут уже целую лекцию по криминалистике закатал. Пора уже с тебя деньги брать.
Алик хлебнул еще разок из графина, в котором осталось совсем немного, и пошел на выход, где дед, вооруженный Артемовой цепью вершил судьбы людские: пускать или не пускать.
Да, складывалось все неплохо. Отдам этот чертов товар, получу бабки, — и привет! Он меня не знает, я его не знаю, да и знать не хочу. Сколько же там натикает? Выходило совсем неплохо — вот шабашка, так шабашка. И все благодаря этому козлу Фадеичу. Надо будет ему с таких башлей духов купить французских. А то он все жалуется, что не приходилось ни разу в жизни попробовать...
Риск, конечно, есть. Черт его знает, что они там задумали, вдруг что-нибудь темное. Но об этом не хотелось думать. Думать хотелось только о «бабках». И только о них. Конечно, наколол его этот прощелыга Артем. Ясно, что не по пятаку стоит вся эта тряхомудия. Да черт с ним, быстрей бы только развязаться. А там можно и дернуть куда-нибудь на юга. Отдохнуть со вкусом. «Под солнцем юга жить легко и просто: там море, бабы, есть чего украсть»... Ну, «украсть» — ни к чему, а вот насчет баб...
С такими мыслями, размякший от «халявного» пива, Алик шел вниз с «Горки».
Он не заметил одного: когда он выходил из пивбара, из магазина напротив вышел белобрысенький паренек в джинсах-варенках, в белой маечке с диковинным иероглифом на груди, со спортивной сумочкой на плече. Обыкновенный, словом, парнишка-студент, каких в городе, что воробьев. Но парнишка шел за Аликом. Шагах, этак, в двадцати. И свернул вслед за Аликом на остановку. И в троллейбусе сел вместе с Аликом. И вышел вместе с ним. Ненавязчиво держась сзади и в тени, проводил до дому, записал адресок, но не ушел, а сел неподалеку от подъезда. Вытащил книгу и стал ее почитывать. Преспокойненько. Так оно и продолжалось: Алик пил у себя дома коньяк, а парнишка у него под окнами почитывал себе книгу.
* * *
Татьяна позвонила следователю Пеночкину утром, как только он пришел на работу. В голосе ее чувствовалась тревога.
— Что-нибудь случилось? — Пеночкин тоже почувствовал смутное беспокойство.
— Константин потерялся.
— Как потерялся?
— Договорились встретиться вчера вечером, а он не пришел.
— Может, планы изменились. Задержало что-нибудь...
— Не в его привычках. А главное, не тот случай, чтобы задерживаться. Мы должны были окончательно все уточнить насчет, как вы выразились, ультиматума. Договориться, как себя вести. Время-то не ждет...
— Дома у него не были? — с надеждой спросил Пеночкин.
— В том-то и дело, что была. Не ночевал он дома. И вообще не появлялся. Просто так он не мог не прийти. Что-то с ним случилось...
Потерялся... Случилось... По-разному может потеряться человек в городе. Может сбить машина. Если нет при себе документов, не сразу можно выяснить, кто есть кто. Родственники тоже ведь не сразу забеспокоятся. Это уж позже начнется поиск. По больницам, моргам... Опознание, когда самый тяжелый исход. А сколько бывает: ушел и не вернулся...
В отношении Опрятнова Пеночкин на несчастный случай грешил меньше всего. Молодой здоровый мужчина в трезвом виде под колесами не гибнет. Просто так... Самоубийство не в счет. Но бывает, что и специально наедут. Только пока вроде бы незачем. Не удержался от самодеятельности? Тоже бывает. И, к сожалению, часто. Но что могло к этому побудить. И где теперь его искать? За что схватиться? Ведь в данном случае не просто заявление о пропаже человека: пропал важный свидетель. А это уже следователя Пеночкина непосредственно касалось, и сильно касалось. Приставить караульных к каждому свидетелю, само собой, нет возможности. Но в этом случае все же желательно было контролировать ситуацию. Надо было более подробно изучить предполагаемый распорядок жизни свидетеля, чтобы хоть по первоначалу знать, куда сунуться. Да разве все предусмотришь...
Может, действительно какое-либо дорожное происшествие? Трамвай, к примеру, на что-то налетел. Или наоборот. Надо проверить. Все равно надо с чего-то начинать. И прямо после разговора с Татьяной Пеночкин связался с отделом, куда стекаются сведения о происшествиях, заявления о потерявшихся людях, о лицах, обнаруженных без документов и не могущих сообщить что-то о себе (пьяные не в счет — ими другие службы занимаются). Время, после которого Константина можно считать исчезнувшим неизвестно куда, можно определить лишь приблизительно. Но это в любом случае меньше суток. Что произошло в городе за этот период?
Оказалось, почти ничего. Во всяком случае, такого, что можно было бы соотнести с Костиным исчезновением. Ни в одном из дорожно-транспортных происшествий молодой человек высокого роста с шапкой пепельных волос не фигурировал. Заявлять о Косте в официальном порядке никто не заявлял. Его матери Татьяна сказала, что будет звонить в милицию. Та, конечно, обеспокоена, но будет ждать сведений от Тани.
Ну, а поступали ли заявления об исчезновении других граждан за это время? Да были. Пеночкин узнал, что в милицию обратилась очень расстроенная женщина, у которой буквально на полчаса вышел из дому муж и не вернулся. Не пришел ночевать, не пришел и утром. А когда выходил из дому, то при нем была крупная сумма денег. По словам жены человек был не из тех, кто, уйдя на несколько минут, скажем, в булочную за хлебом, возвращается через несколько дней по той причине, что встретил приятелей.
Разумеется связывать одно исчезновение с другим можно было только лишь, надеясь на случайность. В одном случае не пришел ночевать человек, в другом — тоже. У них для этого могли быть самые разные причины, а находиться они могли в самых разных концах города. Но не сидеть же сложа руки!
— А когда была эта женщина? — поинтересовался Пеночкин.
— Да она, наверно, еще и не ушла, — ответила сотрудница отдела. — Она была очень настойчива, да и заявление, что и говорить серьезное. Крупная сумма денег, не пришел ночевать... Передали ее оперативникам, чтобы взяли данные, побеседовали и решили, как действовать дальше. Надо думать, они тоже просто так не отмахнутся.
Узнав, что заявительница находится у лейтенанта Петрова в сорок девятом кабинете, Пеночкин направился туда. Беседа, похоже, еще не начиналась, поскольку Петров убирал со стола какие-то папки, потом извлек из стола чистую бумагу и из набора шариковых ручек, стоящих в стакане, выбирал ту, что получше пишет. Увидев Пеночкина, Петров приостановил подготовку к ведению записи беседы и поинтересовался, чем может быть полезен коллеге. Пеночкин же лишь попросил разрешения поприсутствовать при беседе. Слегка пожав плечом, что несомненно могло быть воспринято однозначно: пожалуйста, если интересно. Вопросов в таких случаях обычно не задают: надо, значит, надо. А зачем — коллеге виднее. Одно бесспорно: не из праздного любопытства...
Выслушав заявительницу, записав ее данные и данные ее потерявшегося мужа, Петров не преминул сделать предположение, что муж задержался, может быть, у друзей.
— Каких друзей, каких друзей! — с возмущением воскликнула женщина. — Ни у каких друзей он не мог задержаться. Ему домой надо было срочно вернуться. День рождения у сына, сказал, что сейчас же вернется, только деньги на сберкнижку положит. Сберкасса у нас недалеко.
Пеночкин разглядывал женщину. По фамилии, имени, да и внешности — татарка. Довольно еще молодая и симпатичная. По всему видно, сильно обеспокоена исчезновением мужа. Волнуется. У мужа тоже татарская фамилия. Тенгиз Мухамедьянов. Пеночкину это ничего не говорило.
А Петров гнул свое.
— Ну, а вдруг по службе, по делам? Бывает, что-то срочное — домой некогда заскочить.
— Какая служба, какие дела, если человек в отпуске? Приехал с заработков, деньги привез. Специально ко дню рождения сына подгадал. За стол собирались садиться. Он говорит: «Пойду деньги на книжку положу. Чего им дома болтаться?» Он приехал, помылся, есть даже не стал, собирались обедать и день рождения Рената отпраздновать... Час прошел, два прошло, три... И ночью не пришел. Среди бела дня исчез человек! Денег при нем было больше тысячи, вот о чем я думаю...
Зульфия, так звали женщину, говорила быстро, строя фразы так, как их обычно строят татарки. Но слез в ее голосе не было, напористость ее действовала на Петрова определенным образом. Он задал вопрос, который должен был убедить заявительницу в серьезности его отношения к происшедшему.
— Фотографию мужа с собой захватили?
— Как же, захватила.
Женщина полезла в пластиковую сумку с каким-то пейзажем из красивой жизни. Пеночкин, решивший, что здесь он только напрасно теряет время, все же подумал, что на фото не лишним будет взглянуть: лицо иной раз помнится, а фамилия забывается. Но не фотография — нечто другое приковало его взгляд? А именно: журнал «Огонек», в который та фотография была вложена. Это и не журнал даже, а объединенные под одной обложкой, листочки из журнала — так делают, когда публикуемые с пометкой «Продолжение следует», повести и романы собирают воедино для домашней библиотеки. Обложка — вот что привлекло внимание Пеночкина. Ему казалось, что он уже видел ее раньше (что немудрено — «Огонек» самое популярное ныне издание). Но не то главное — видел или не видел. Он слышал описание этой обложки. Он слышал голос Константина Опрятнова, повторявшего зачем-то: «Там еще белый медведь на белом снегу и вертолет в синем небе». Костя объяснял, что в украденной у него сумке был лишь один предмет, принадлежавший ему — детектив Сименона, собранный из разных журналов, объединенный одной обложкой. Описывал он эту вещь так, словно именно этот детектив был самым главным в утерянной сумке, и так подробно его описывал. Он повторял описание обложки в разной вариации, видимо, не зная, что еще говорить, пока Пеночкин, улыбнувшись, не спросил, просто так, чтобы перевести Костины мысли в другое русло: «А еще какие приметы у вашего детектива?» Костя думал очень мало над этим вопросом. «А еще там я на полях схемку одну электрическую начертил...» И добавил: — «И расписался».
И вот теперь он видит этот журнал воочию: белый медведь, белый снег, синее небо и вертолет... Пеночкин невольно протянул руку к журналу.
— Разрешите!
— Пожалуйста, — с некоторым недоумением протянула Зульфия журнал. Вероятно, ей пришло в голову, что не очень-то тактичные люди в милиции: тут вопрос, можно сказать, о жизни и смерти человека идет, а он журнальчик посмотреть просит. Да и Петрову, вероятно, тоже так показалось: серьезный опрос по серьезному заявлению идет, а он неизвестно зачем пришел, а тут еще журнальчик полистать захотелось. Надо же понимать все-таки, что у человека, можно сказать, горе. А тут с журнальчиком...
А Пеночкин даже легкую дрожь почувствовал, перелистывая странички самодельной этой книжицы. Вот она — схема. И число и замысловатая Костина подпись. Он расписывался на своих показаниях, даже сличать не требуется: на эти завитушки еще тогда Пеночкин обратил внимание. Теперь никаких сомнений — это Костин детектив, им собранный, им сшитый, втиснутый под обложку с белым медведем. Но как он попал сюда? Какая связь между исчезнувшим Тенгизом и исчезнувшим Костей? Что все это означает? Тенгиз — похититель сумки? Эти деньги...
— Откуда это у вас? — стараясь не показать своего волнения, спросил Пеночкин.
— Откуда? — переспросила женщина, не сразу поняв смысл вопроса. А поняв, стала соображать. — Да муж и привез вчера. Почитай, говорит, интересно. Я было взяла, да какое там чтение? Весь вечер переживала да нервничала.
— А у него откуда?
— Вот этого я не знаю. Я и не спрашивала. Мало ли откуда взял. Почитать кто-нибудь дал...
— Но кто? Это очень важно. Для поисков вашего мужа.
Пришла очередь изумиться и Петрову. Что за фантастика? Какая связь между заявлением об исчезновении человека и журналами? Откуда у следователя сведения об этом журнале? (Петрову со стороны виделось, что это один журнал).
Зульфия смотрела на Пеночкина во все глаза, ничего не понимая. А тот поглощенный своими мыслями, глубоко задумался. Теперь ему бесспорным казалось одно: исчезновение этих двоих — звено одной цепи. Но как за него ухватиться. И он медленно, словно размышляя вслух, заговорил, обращаясь то к женщине, то к лейтенанту:
— Давайте по порядку. У меня есть веские основания считать исчезновение вашего мужа в определенной степени связанным с этим журналом, точнее выбранной из нескольких журналов детективной повестью. Мне известно, кто собирал эту повесть, но вам я пока ничего сказать не могу. Надо срочно выяснить, каким путем этот детектив попал к Тенгизу. Возможно, что это поможет нам быстрее найти его самого.
— Это что-то опасное? А как вы узнали, что это те самые журналы? А что за человек, у кого они были? Преступник? Ой, я боюсь...
— Не будем терять времени. На ваши вопросы, я, если бы и мог, все равно не имел бы права отвечать. Но мне известно пока не намного больше, чем вам. Пока... А вот вы на мои вопросы отвечайте и, по возможности, точно и подробно. Первый: когда появились эти журналы в поле вашего зрения? Сразу, как приехал муж?
— Да, он их выложил с пачкой других журналов и газет. Свежих, купил, пока домой шел. Но обратил мое внимание на этот. Интересно, говорит.
«Сименон, ясно, что интересно», — подумал Пеночкин, а вслух спросил:
— А где взял, ничего не сказал?
— А зачем? Мне и неинтересно. Принес и принес. Что это событие что ли какое? Ценность какая что ли? Почитали да выбросили...
— Понятно... Может, кто из товарищей по бригаде почитать дал?
— Не думаю. Там, как я поняла, охотников до чтения нет. Им бы выпить только...
— Ну, а что за люди? Где живут, чем занимаются, как зовут, возраст какой.
— Ничего не знаю. Тенгиз ничего о них не рассказывал. Бригадира, вроде, Аликом звать. Корреспондент еще какой-то, с работы за пьянку выгнанный. Но как звать, не знаю. И еще каких-то двое.
Выгнанного за пьянку корреспондента, пожалуй, можно будет найти. Даже в таком большом городе не так-то уж много подобных феноменов. Но ход размышлений следователя прервал лейтенант Петров. Похоже, он включился тоже, заинтригованный:
— Так ведь там, где они работали, им пришлось предъявлять паспорта. А уж денег-то без паспорта точно не выдадут... Наверняка все данные есть в бухгалтерии...
А ведь верно! Пеночкин с благодарностью глянул на Петрова.
— Хорошая мысль! Но где они работали? Это-то вы, думаю, знаете?
Женщина замялась.
— Да говорил Тенгиз, вроде...
— Ну как же, муж на целый отпуск уезжает, а вы даже не знаете куда? — и Пеночкин глянул на женщину с неприязнью: вот бабы, — лишь бы деньги мужик привез, а откуда — неважно. Где он их, каким способом заколачивает, роли не играет. Лишь бы побольше...
Но Зульфия вдруг встрепенулась:
— Ой, совсем забыла. Письмо Тенгиз ждал перед отъездом. Не дождался, велел переслать, как придет. И адрес оставил.
— Вот это дело! — вырвалось у Пеночкина. — И где же этот адрес? Дома поди?
— Сейчас посмотрю. Может, здесь где завалялся.
И она снова стала рыться в своей безразмерной сумке. Извлекла оттуда пачку бумаг, стала перебирать их, приговаривая: «Захватила на всякий случай кой-какие Тенгизовы бумажки...»
Этот поиск увенчался успехом. Что он даст, этот результат, для главного поиска — сказать трудно. Но Пеночкин впился в бумажку глазами с надеждой.
— Ну что ж, — пробормотал он, — сорок километров это не так уж и много...
О расстоянии он знал: ему приходилось бывать в обозначенном на бумажке населенном пункте.
Ничего не поделаешь: чтобы узнать адреса людей, живущих поблизости, которые ходят рядом, придется проделать эти сорок километров туда и обратно. Причем, срочно. Машину для такого дела начальство, конечно, разрешит взять. Надо идти договариваться.
— Решили ехать? — спросил Петров. — Возьмите и меня с собой. Как-никак мне ведь тоже поручено вести этот поиск.
— Согласен, — даже немного обрадовался Пеночкин.
* * *
Алик проснулся от настойчивого стука в дверь. Как-будто кто-то долбил прямо по мозгам. Собирая все печатные и непечатные проклятья, Алик пошел открывать. Интерьер в его комнате не изменился: на столе — пустые бутылки, стаканы, консервные банки, засохший хлеб... Натюрморт, не радующий глаз...
Нарушителем утреннего равновесия оказался Витек. Разноцветные его глаза от многодневного запоя были еще более разноцветными. Под левым, голубым, темнел совершенно безобразный фонарь.
— Ого, — прокомментировал это обстоятельство Алик, — в темноте на чей-то кулак налетел?
— А-а... Пусть не лезут. — Витек вошел в комнату и сел на продавленный стул. — Бугор, поправиться надо. Душа с меня вон...
Он дохнул чем-то мерзким, огненно-зловонным.
— Всем поправляться надо. А ты что же, бабки уже спустил?
— Да бабки есть, только где ж сейчас возьмешь по утрянке?
Алик не стал больше томить гостя и томиться сам. Он пошарил под кроватью и извлек на свет божий бутылку коньяка. После шабашки он перешел исключительно на коньяк, свой любимый напиток. Но, конечно, мог и отступить при случае от этого правила...
У Витька загорелись глаза. Даже лиловый его фонарь, казалось, стал испускать теплые инфракрасные лучи.
— А где наш кент заклятый, старый висельник Фадеич? — поинтересовался Алик, откупоривая бутылку.
— Вчера был жив. Но плох. Дорвался до своего любимого «Цитрусового»...
— Ниче, старпер выдающийся, у него печенка луженая, не то что у нас с тобой. Ну давай, чтобы... стоял, и бабки водились!
Они чокнулись и выпили по полстакана золотисто-рыжего напитка о трех звездочках. Витек залил свою дозу в нутро единым махом и занюхал «мануфактурой» — собственным рукавом. Алик цедил медленными глотками, наслаждаясь вкусом и ароматом.
— Ах... — крякнул он. — Хорошо, падла, пошел...
За стеной заиграл магнитофон.
— А вот и сервис. Музон. В самый кайф. Слышь, Витярик, будь другом, сваргань-ка чифиру по старой памяти.
— А где у тебя чай?
— Возьми в холодильнике. Черт бы все побрал! Чая в продаже не стало. Этот-то в буфете ресторанном у одной лахудры знакомой отцепил. Дожили, твою маму...
Витек извлек из холодильника пачку чая. Пустая кастрюлька стояла на холодильнике. Нашарил в кармане спички, пошел на кухню.
Так пускай же по кругу косяк,
Наполняй же мозги желтым дымом...
Как ты был, так ты будешь босяк,
Не любимый, никем не любимый...
разрывался за стеной магнитофон.
«Чертовы песни у этого придурка. Все про одно и то же, — в размягченном мозгу Алика эта мысль возникла уже в который раз. Думая об этом, он стал не спеша одеваться. Составил в угол пустые бутылки — там уже скопилось изрядно всевозможной разнокалиберной стеклотары. На этом утренний туалет, равно как и уборка комнаты, были завершены.
Возвратился Витек, бережно неся кастрюльку с черным дымящимся пойлом.
— А-ах... Вкусно пахнет, — весь подобрался Алик, принюхиваясь. — Перелей в банку. Вон в ту, литровую.
Они стали пить чифир прямо из банки, крякая и отдуваясь, передавая по очереди банку друг другу.
Так глотай же коричневый яд,
Чтобы сердце сильнее забилось,
Чтобы горе, тоска и печаль
Ну хоть на миг, хоть на время забылись... —
гнусаво выводил неведомый певец.
— Тоже вот, говорят, чиф — наркотик. — Алик глотнул из банки. — А по мне и хрен на него. Хорошо мне идет, нервы успокаивает. Особенно с «кониной».
— Слышь, бугор, а ты ту сумку, в натуре, утопил? Помнишь, с самолетиком?
— Ну, а как же? В натуре. Хошь, по-саратовски забожусь?
— А я вот своим куриным мозгом раскинул, зря ты ее так. Там же этих лекарств всяких,море было. Загнать ее надо было, вот что.
— Ага, молодчик! А ты загони, попробуй! Выйди вон, на проспект, да крикни: граждане хорошие, кому дури по дешевке насыпать? Это ты, Витек, не подумавши. За это знаешь как спрячут? На всю оставшуюся жизнь. Понимать надо.
— Да,я воще-то так... К слову пришлось. Хрен на наркоту на эту. По мне лучше водки и чифиру дури не придумано...
— Верно, Витек, верно. Добрые базары. Мы с тобой честные пьяницы и гидрохлоритов нам всяких не надо.
— Чего, чего?
— Да ничего. Давай лучше, по соточке.
Допив коньяк и чифир, Алик выпроводил захорошевшего гостя и стал собираться на ответственное мероприятие — поездку в деревню. Он взял рюкзак (не светиться же с аэрофлотской сумкой), засунул туда последнюю непочатую бутылку коньяка. На этом, собственно, сборы его и закончились — что еще взять с собой? Придумать на этот счет он ничего больше не мог, поэтому бодро «лег на курс». Коньяк и чифир отлично подняли тонус, хотя походка стала слегка нетвердой. На душе было легко, он бы даже улыбался, если бы не отсутствие зуба. По сторонам он не смотрел, назад не оглядывался.
Впрочем, если бы даже смотрел и оглядывался, то все равно вряд ли заметил бы две фигуры — высокую и пониже, прилепившиеся к нему у подъезда. У того, что пониже, белесого, с иероглифом на груди, через плечо — спортивная сумка. Тот, что повыше, был постарше, с бородой, вполне интеллигентного вида. Как бы невзначай они оказались в том троллейбусе, что и Алик, и на автовокзале сели в тот же, что и он, автобус, который и покатил их к месту бывшей шабашки.
* * *
Поездка Пеночкина и Петрова в деревню отсрочилась на несколько часов из-за обстоятельства чрезвычайного характера. Оно же, правда, побудило к более решительным действиям.
В своем кабинете, куда Пеночкин зашел, собираясь уехать, его ждало сообщение, от которого ему стало немного не по себе: у себя в квартире найден убитым Николай Шариков, последнее время человек без определенных занятий, состоящий на учете как наркоман. Квартира Шарикова находилась под наблюдением, люди ее посещающие, по возможности, тоже. Установить причастность Шарикова к ограблению аптеки № 17 не удалось.
«Сумка начала убивать», — мелькнула мысль. И хотя обстоятельствами смерти Шарикова будут заниматься следователь прокуратуры и другой следователь милиции, Пеночкин решил все же съездить посмотреть: не зацепится ли глаз за что-то, что имеет отношение к расследуемому им делу по ограблению аптеки.
Квартира Коляни, некогда богато обставленная, сейчас являла жалкое зрелище. Разумеется, все здесь будет тщательно обыскано, и у Пеночкина будет возможность ознакомиться со всеми протоколами. Беглый осмотр, конечно, ничего не давал. Он глянул на покойника — все типичные признаки удушения. Налицо была попытка инсценировать самоубийство, но у убийц, видимо, не хватило времени или кто-то помешал. Подробности будут после вскрытия, пока же Пеночкин лишь обменялся с врачом несколькими фразами, тот уже осмотрел труп, составил свое мнение, которым успел поделиться с сотрудниками оперативной бригады, выехавшей на место происшествия. С заключением врача были согласны все. Да, задушили, пользуясь удавкой, а потом приспособили найденную в доме бельевую веревку. Но ни поза покойника, ни вид его не соответствовали представлению о самоубийстве. Следов борьбы не было обнаружено. Убитый, скорее всего, был в состоянии эйфории (шприц и ампулы свидетельствовали об этом), кроме того, своих убийц не опасался. Он их, по-видимому, хорошо знал и тревоги появление «гостей» у него никакой не вызвало. Этим они и воспользовались. Принадлежность наркотиков и «машинок» к украденной партии можно было идентифицировать лишь в лабораторных условиях.
Пеночкин поговорил еще со следователями, выяснил, каким образом было обнаружено убийство. Самый банальный случай: соседка зашла спросить, есть ли в квартире свет (у самой, видимо, пробки сгорели. Просить что-либо в этой квартире давно уже было бесполезно), увидела, что дверь открыта, прошла и увидела... Милиция, скорая помощь приехали быстро. Если бы самоубийство... Но все говорит за то, что тут еще будет морока...
* * *
Алик шел по проселку уже совсем нетвердо. От жары и духоты в автобусе, от тряски его основательно развезло. Кроме того, он почал бутылку коньяка, взятого в дорогу: глотнул из горлышка в туалете, чтобы не было скучно ждать автобус. В будний день народу на автовокзале было немного, так что выполнить такую операцию было несложно.
До леса, что зеленел сразу за совхозными фермами, было не так уж и далеко, но для Алика и два-три километра сейчас были ощутимы. Едва миновав последние строения, он решил сделать привал. Сперва он было прилег на травку, но, словно вспомнив что-то важное, приподнялся и полез в рюкзак. И так, сидя перед рюкзаком на корточках, принялся сосать из горлышка извлеченной оттуда бутылки. «По полям колхозным, по лугам нескошенным...» — вспомнились ему слова из песенного репертуара соседа за стенкой. Он даже попытался намурлыкать мотив, но получалось мало похожее на то, что звучало в магнитофоне. Алика это ничуть не смущало, ему и так было хорошо; с умилением глядел он на золотистые поля, на комбайн, ползущий по пригорку.
Те, что шагали за ним следом, тоже вынуждены были залечь в бурьяне. Будь Алик в ином состоянии, он бы насторожился, но сейчас даже не заметил присутствия непонятно куда бредущих путников. И не только он, но следующие за ним тени не придали значения легковой автомашине, у которой вдруг на выезде из села забарахлил мотор. Шофер лазил зачем-то в багажник, оставил открытым капот, брал что-то из салона, словом делал отчаянные попытки восстановить способность машины везти своих пассажиров. Двое, затаившиеся, в бурьяне, на машину и не смотрели. Они еще в автобусе заметили, в каком состоянии их ведомый, и поэтому совершенно не боялись быть замеченными. Но младший по возрасту невольно ориентировался на поведение старшего, а у того осторожность, видимо, была врожденной. Вкрадчивые его движения напоминали движения хищника из породы кошачьих, из-за полуприкрытых век порой вспыхивал резковатый взгляд.
— Сволочь, — сказал он, понаблюдав за подопечным. — Коньяк жрет в такую жару.
Белесый хмыкнул неопределенно. Он вынул из сумки бутылку «Арзни». Глотнул, поморщившись, — вода успела нагреться. — Похоже, он в лес намылился, — предположил. — Не упустить бы его там.
— Еще хуже, если он подался туда отсыпаться. Будет фокус. Придется и нам по очереди кемарить...
Оба замолчали.
— Будешь? — побалансировал бутылкой с минеральной младший. Старший брезгливо поморщился. — Кто-то коньяк жрет, а ты с этой мочой. — Белесый спрятал бутылку.
— Внимание! — встрепенулся старший, не спускавший глаз с «клиента».
А тот поднялся и, пошатываясь, побрел вперед. Видно, даже лошадиная доза коньяка не могла заставить его забыть о цели.
В лесу стало прохладнее. В траве звенели комары, хотя и не такие злые, как в разгар лета, они давали о себе знать короткими зудящими уколами. Алик шлепал себя по шее, по лицу, по кистям рук, лениво ругаясь. Закуковала кукушка. Звук достиг слуха Алика. «Ну давай, стерва, давай! Сколько ты мне годов отмеришь?» Он даже попытался считать, но сбился со счета, плюнул. Его преследователи тоже лупили ладошками комаров, но без громких шлепков, которыми награждал себя их «клиент». Считать кукушкины стоны им, понятно, и в голову не приходило. Они словно предчувствовали, что события происшедшие вскорости, докажут всю вздорность этой приметы...
Алик по лесу шел довольно уверенно, хотя и не без труда расходился с березами. Деревья надежно скрывали преследователей — они шли уже почти не прячась.
Покружив немного на одном месте, Алик, видимо, нашел, что искал: старую поваленную полусгнившую березу, на которую он и сел. Снова достал бутылку. Глотнул еще чуть-чуть. Потом, встав на четвереньки, стал разгребать сухие листья, ветки, траву. Под березой оказалось углубление: дерево упало на ямку, которую лесной мусор не заполнил до конца. Из этого-то углубления и появилась на свет сумка с эмблемой «Аэрофлота». Кряхтя поднявшись, Алик стал отряхивать с сумки листочки, травинки, грязь. Наконец, выпрямился. И первое, что увидел, был черный глаз пистолета, уставившийся в его физиономию.
— Ага, — промолвил он. — А где мой черный пистолет? На Большой Каретной...
Он еще ничего не понял.
— Не въехал? Дыхало прикрой, и сумку сюда. Махом! — Борода приставил пистолет Алику прямо ко лбу.
Приблизился белесый и молча вырвал сумку из рук. До Алика стал доходить смысл происходящего. Он оглянулся — кругом был лес. Лес. И пистолет, нацеленный в лоб.
— Мужики, — пролепетал он, — забирайте все это. А я пойду. Ладно, мужики?
— Стой смирно, фуфло, — белесый провел ладонями по одежде Алика. Убедившись, что у того не спрятаны под рубашкой ни «шмайссер», ни «АК» или хотя бы «пика», он повернул Алика на сто восемьдесят градусов и поддал коленкой в зад. Алик растянулся на траве.
— Не шелохнись! — грозно прикрикнул бородатый. И они занялись сумкой. Со звуком чиркнула «молния». Из нутра появились завернутые в несколько слоев полиэтилена упаковки с ампулами, конволюты с таблетками.
Бородатый узким носком штиблета легонько постучал Алика по ребрам.
— А ну-ка, перекантуйся фасадом кверху, — Алик повернулся. От выпитого, от неудобства позы, от жуткого положения, в котором он вдруг очутился, он выглядел совершенно нелепо. Классическое сравнение с вытащенной на сушу рыбой, пожалуй, подошло бы, если иметь в виду ту стадию, когда рыба уже перестает трепыхаться. — Значит так. Откуда столь изысканное ассорти?
Борода присел на березу, поиграл пистолетом.
— Убери пугач, я все расскажу. Да дайте хоть сесть, а то у меня голос в нутре застревает.
Голос действительно был хриплый. Борода милостиво разрешил.
— Приблудная это сумка. Случайно ко мне попала...
— Ха! Дуру гонишь!
— Честно, ну, гад буду. Спросите у Фадеича. Он эту сумку случаем замел на автовокзале. Зацепил ненароком, за стариком такой грех водится. Спросите у Витярика, у корреспондента, они подтвердят. — Алик начал трезветь. С протрезвлением пришла дрожь в голос, перекинулась на колени, на руки. Его уже всего колотило.
— Ладно, мы все это проверим. Всех опросим. Как ты их там обозвал?
— Я их всех вам покажу...
— Дай мешок. — Борода встал, спрятал пистолет. Из Аликова рюкзака вынул ополовиненную бутылку и поставил на землю. Затем засунул сумку в рюкзак.
Алик провел языком по пересохшим губам.
— Мужики, дайте глотнуть, — он показал глазами на бутылку.
— Бог подаст, — борода сунул остатки коньяка в рюкзак вместе с сумкой.
Белесый открывал минеральную, когда Алик рванул. Он прыгнул в сторону и пригнувшись метнулся в лес. Все получилось у него непроизвольно, инстинктивно.
— Стоять! — Белесый метнулся за беглецом, выхватив из своей сумки свернутую трубочкой газету. В момент сближения Алик вдруг споткнулся и упал ничком, хватаясь руками за траву. Подскочив, белесый ударил Алика по ноге свернутой в трубочку газетой. По дикой боли, по тому, как вдруг неестественно подвернулась нога, Алик понял, что она сломана. И еще понял: это конец. И страх сменила злость, дикая злость отчаяния и обреченности. Хватаясь за кусты, он поднялся на одной ноге и прыгнул на белесого, пытаясь вцепиться в горло. Но нога подвернулась и он упал, получив ослепляющий удар в лицо той же штуковиной, которая скрывалась под видом «Комсомольской правды». Схватившись за дерево, он подтянулся на руках и выплюнул на траву зубы. Кровь густо текла изо рта, носа, рваных ран на щеках. Вся его одежда была в крови. Он смотрел перед собой диким помутневшим взглядом.
— Суки, — пытался выговорить, но ничего не получалось: слышалось только невнятное бульканье.
Белесый, поигрывая своей рваной газетой, из которой выглядывал стальной заточенный прут арматуры, вопросительно посмотрел на подошедшего к месту избиения бородача. Тот кивнул.
...Последнее, что увидел Алик в этой жизни, была зеленая листва, сквозь которую проглядывало голубое небо и угадывалось пятнами света на листьях солнце...
Алик лежал на траве, неестественно подвернув под себя руку. Один глаз его был открыт. Кровь еще сочилась из ран, но быстро густела и чернела.
— Добить надо, — хрипло проговорил белесый.
— Не надо. — Борода потрогал грудь Алика носком штиблета. — Как экс-врач «скорой помощи» могу констатировать летальный исход. Без вскрытия.
— А если встанет?
— А если встанет, то протянет еще год-два и загнется от цирроза печени. Этот диагноз я тоже могу без вскрытия определить — он у него на роже написан. Но он не встанет. Технично замочен... Жалко, что не дали ему глотнуть коньячку напоследок. А, впрочем, не в коня корм.
— Что будем делать с этой падалью?
— Закидаем листьями, тут через полгода найдут, не раньше. А найдут — в архив спишут. Пойдет дождичек не сегодня завтра. А дождь, как говорится, смывает все следы.
Белесый взял Алика за ноги и затащил в кусты, начал забрасывать валежником.
— Обожди, — остановил его бородатый. — Обшмонай это чучело. Ничего не оставляй в карманах, даже лотерейного билета.
Без особой охоты белесый подчинился. Через минуту он подал голос.
— Ого! Капуста. И немало для такого ханурика.
— Бери, в хозяйстве сгодится.
Белесый не удержался, чтобы не пересчитать деньги.
— Потом, потом, — остановил его Борода. — Сперва дело кончай.
Сунув пачечку зелененьких в карман, тот нагнулся было за очередной веткой, как в глаза ему бросилось подозрительное шевеление ветвей. Без сомнения там кто-то был! Он ринулся к своему напарнику.
— Атас! — выдохнул ему в ухо и грубо увлек за собой. Бородатый до этого сидел на все той же поваленной березке. Рюкзак лежал у его ног. Он уже собирался обсыпать белесого ругательствами, как из кустов раздался голос:
— Рюкзак не трогать, «пушку» на землю! Самим лечь!
Но белесый перекинулся через березу, успев схватить рюкзак и сдернуть туда же бородатого. Хлопки выстрелов заставили его распластаться за деревом, но лишь на долю секунды. Бородатый навалился на него как-то слишком неловко. «Летальный исход, без вскрытия...» — с неуместной иронией мелькнула мысль. Но так ли это — времени определять не было. Выхватив у бородатого из кармана куртки пистолет, он, почти не глядя, выстрелил дважды в сторону прозвучавших выстрелов и откатился в сторону. Затем, петляя, бросился бежать. Вслед ему снова загремели выстрелы. Он опять пальнул на их звук и резко изменил направление. Сделав несколько скачков, затаился, прислонясь к старой, черной у комля березе. Бежать было опасно: он не знал, с какой стороны его могли подстеречь. Тихонько вынул из рукоятки обойму. Три патрона, четвертый в стволе. Это все, на что он мог рассчитывать для собственного спасения и товара, ради которого двое уже ушли в мир иной. О третьем он ничего не знал...
* * *
— Шеф, душа с меня вон, сейчас не могу...
Конопатый состроил кислую рожу и, поканючив таким образом, объяснил причину:
— Заказана на вечер тачка. Дело есть. Ребят надо сегодня в аэропорт забросить.
— Дело есть... Больно вы деловые со своими ребятами. Что они, на автобусе доехать не могут. А что прикажешь с этими чучелами делать? — Усатый колебался, видимо, будучи не совсем уверенным в целесообразности и правомерности им же самим затеянного.
— Да запрем их здесь, а на выходе дядю Пашу поставим.
— А если их хватятся, искать начнут?
— Да кто их хватится за ночь, этих недоделанных? Посидят на цепочке ночку, а я завтра с ранья — как штык. И провернем все, как полагается.
— Ладно, черт с тобой, — усатый сдался. — Умеешь уговаривать. У меня тоже сегодня дела в городе есть. А где твой дядя Паша?
— Счас сгоняю за ним. Туда-сюда.
— Мне нужно домой, — сказал Тенгиз. Лицо его потемнело под почти черным загаром. — Завтра я готов с вами ехать, черт бы вас побрал, а сегодня мне надо домой.
— Приторчи ты, недоумок! Ну-ка, тащи браслеты, надо их стреножить.
Конопатый сбегал к машине и притащил пару милицейских наручников, которыми бандиты сковали рука об руку Тенгиза и Костю.
— Так, уже лучше. А теперь — пошли вниз! — Усатый откинул доски пола, обнаружив квадратный люк и лестницу, уходящую в подземелье. Впрочем, особенно глубоко там не было — обычный деревенский подпол. Косте и Тенгизу пришлось подчиниться, по той хотя бы уже причине, что конопатый, вернувшись от машины, принес кроме наручников еще одну железку — пистолет, которым ненавязчиво поигрывал, переводя с Кости на Тенгиза и в обратном порядке.
В погребе было сыро и темно. Где-то в углу попискивали встревоженные крысы. Тенгиз и Костя, ставшие неразлучными по причине наличия скрепляющего их стального механизма, присели на наваленные у стены грязные доски. Пахло гнилой картошкой и крысиным дерьмом. Совсем неуютно...
— Эй, ну как там устроились? Поворкуйте, познакомьтесь! Ха-ха-ха! — Усатый заглядывал в люк и смеялся довольно ненатурально. Похоже, он был не в восторге от того, что согласился на предложение своего напарника. Идея с погребом была явным перебором.
— Ладно, туши фары, — буркнул Костя. — Когда-нибудь сочтемся...
— Сиди и не вякай. Будешь голос подавать — закрою крышку. Тогда вам будет еще интимней.
По шуму подъехавшей машины пленники поняли, что вернулся конопатый. Послышались голоса входящих, и сверху заглянул некто третий. В квадрате люка нарисовалась толстая харя с маленькими глазками, обрамленная короткими волосами с сильной проседью. Большего из подпола разглядеть было невозможно.
— Во-от они, — изрекла харя, шлепая толстыми губами большого рта. — Сидят миленькие и не трепыхаются. Дети подземелья.
Скованные а-дной цепью.
Связанные а-дной целью... —
слыхали такую песенку, арестанты?
В подвале молчали. Тенгиз, стиснув зубы, смотрел куда-то в темноту подземелья. Костя, вытянув ноги, устроился поудобней и прикрыл глаза. «А ведь как раз сейчас Татьяна ждет меня», — подумал он. Но вряд ли это обстоятельство могло послужить для бандитов уважительной причиной для условно-досрочного освобождения...
* * *
Темно-синяя «жучка» — «шестерка», пылившая по проселочной дороге, была забита до отказа. Сзади сидели Тенгиз с Костей, оставшиеся неразлучными по той же причине — наручники. Тенгиз, сидевший у дверцы, был прикован за правую руку, Костя — он был посредине — за левую. Справа от Кости сидел дядя Паша, туша весом не меньше центнера, но жирной не кажущаяся: вес набирался за счет костей и мышц. Тенгиз был мрачнее тучи. Губы его шевелились, посылая кому-то неслышные, и неизвестно на каком языке произносимые, проклятья. У Кости лицо побледнело и осунулось, бессонная ночь давала о себе знать. Дядя Паша мирно дремал, раскинув огромные ручищи, полуобняв Костю. Конопатый сосредоточенно смотрел на дорогу, крутя баранку, стараясь объезжать многочисленные колдобины и ухабы неухоженного грейдера. К нижней его губе прилипла сигарета. Весь он был настолько поглощен своим занятием, что окружающее для него словно отсутствовало. Усатый, сидевший с ним рядом, был хмур. Сегодня уже сама идея поездки казалась ему нелепой. Он не представлял, с чего начинать поиск, за что зацепиться.
Они обогнали рейсовый автобус, когда Тенгиз вдруг дернулся на своем месте. Задремавший было Костя открыл глаза.
— Смотрите! — воскликнул Тенгиз. — В автобусе наш бугор едет. Алик! — Тенгиз повернулся на автобус, оставшийся позади в клубах пыли. Усатый встрепенулся:
— Точно? Ты его точно узнал?
— Куда еще точней! Он у окна сидит, сзади. Не понимаю, что ему тут понадобилось. Через пять дней только решили собраться сюда снова. Они решили, у меня отпуск кончился...
— Гони на автостанцию, — приказал усатый. Он оживился. Начинало что-то проясняться. — Возьмем еще одного, поглядим, что он запоет.
— Куда ты его возьмешь? — лениво отозвался конопатый, — плацкарта кончилась.
— А мы одного из этих в расход пустим, — усатый подмигнул в зеркале Косте. Пленникам шуточка явно не понравилась.
Мелькнули за стеклом знакомые Тенгизу перелески, вот и шлакоблочный павильон — остановка. Несколько человек стоят, ждут автобус. Синяя «шестерка» остановилась несколько поодаль, там, где еще стояли машины. Чтобы не бросаться в глаза.
Автобус подошел по расписанию. Из него повалил деревенский люд, ездивший в город по делам, садоводы, прибывшие на свои «фазенды» собирать дары природы.
Алик вылез одним из последних. Было заметно, что он уже хорошо опохмелился;
— Тащи его сюда, — сказал усатый Паше. — Будем очную ставку проводить.
Паша уже высунулся было, как вдруг усатый вцепился в его рукав.
— Стой!
— Ты че щиплешься?
— Сядь на место. Смотри, кто у этого ублюдка на хвосте!
С их наблюдательного пункта хорошо было видно, выпрыгнувших из автобуса Белесого и Бороду — сопровождение «бугра». Поразмявши руки-ноги, похрустев костями, они тихонечко пошли в ту же сторону, куда и Алик.
— Знаешь этих вислоухих?
Конопатый кивнул.
— Грязная конкуренция, — подал голос дядя Паша с заднего сиденья.
— Помолчи, — усатый что-то мучительно соображал. — Трогай потихонечку за ними. Только потихонечку... Чтоб ни сном, ни духом... Да, интересный вырисовывается аттракцион...
* * *
Для Бельтикова события этих дней складывались самым приятным образом. Он последовал совету Алевтины и отправился за ней в городок, находившийся в нескольких километрах от дома отдыха, в котором она отдыхала. С гостиницей решилось все так же просто, как и в областном центре: деньги могут все. Правда, размеры «благодарности» были, соответственно, в несколько раз меньше. Как бы то ни было, номер в гостинице, вполне современной, несмотря на периферийность, он заполучил. Все было в том номере — и ванна и душ, и цветной телевизор.
Приходы Алевтины дежурные как бы не замечали. Бельтиков, естественно, проявлял к ним знаки внимания, вполне достаточные для того, чтобы закрывать глаза на то, что у нас считается аморальным. Что-что, а блюсти нравственность у нас умеют...
Вопреки устоявшемуся стереотипу, который утверждает, что деньги тают неимоверно быстро, деньги у Бельтикова почему-то почти не убывали.
Впрочем, и траты были копеечные: что нынче на деньги купишь? Один единственный раз удалось добыть шампанское по случаю. А так за спиртным — огромные очереди. От отсутствия выпивки Алевтина, впрочем, ничуть не страдала, да и Бельтиков, напившись шампанского в дни встречи, тоже начал ощущать преимущества трезвого образа жизни.
События недавних дней как-то отошли, сгладились; временами лишь смутная тревога охватывала Бельтикова и даже общество Алевтины не в состоянии было полностью отвлечь его от сумрачных мыслей, от предчувствия большой беды. О том, что беда эта уже стряслась, что безобидная на вид сумка с эмблемой Аэрофлота вдруг превратилась в убийцу, он не мог пока даже и догадываться.
Всему, как говорится, приходит конец. Кончился отпуск у Алевтины, точнее срок ее пребывания в доме отдыха, а, следовательно, кончились и «каникулы» у Бельтикова. Смутные чувства обуревали его, когда он подходил к подъезду своего дома. Пройти хотелось незамеченным, не встречаться ни с кем из соседей, ни с кем не разговаривать. Почтовый свой ящик открывал не без трепета. Он почти был уверен, что ничего страшного для него там не окажется. Но оказалось...
Бельтиков лишь мельком взглянул на конверт: и без того было ясно, что это казенное послание. Задрожавшими руками он разорвал пакет. Очень небольших размеров бумажка находилась внутри. Повестка... Такого-то числа, в такие-то часы, в такой-то кабинет... Бельтиков взбирался по лестничным ступеням, тупо глядя в бумажку. Что? Как? Почему? Беззаботные «кувыркания» в последние дни утвердили его в мысли, что все прошло бесследно, что неприятный тот инцидент больше ничем никогда о себе не напомнит. А, может, что-то другое совсем, к той истории отношения не имеющее? У быстротекущего времени есть такое свойство, несколько прожитых дней вдруг кажутся по длительности месяцами, а то и годами, и хотя у Бельтикова были самые смутные представления о сроках давности, ему хотелось думать, что в этом случае срок давности уже наступил...
На повестке был поставлен номер телефона. Бельтикова так и тянуло позвонить по нему, чтобы узнать в чем дело, но было страшно убедиться, что именно «в том самом». К тому же он знал: там, откуда прислана повестка, объяснять ничего заранее не любят. Можно только нарваться на грубость, а то и оскорбление.
Хотя повестка лежала в почтовом ящике уже более трех дней, срок обозначенного в ней времени посещения еще не прошел: Бельтиков словно угадал, когда ему возвратиться. Завтра... Он был готов побежать хоть сейчас, чтобы мучительная эта неизвестность кончилась как можно быстрее, чтобы прошла неприятная внутренняя дрожь, охватившая его с того самого момента, когда в руках оказался злополучный конверт. Бельтиков понял, что сегодня он уже ничем заниматься не сможет, кроме поиска средств, способных снять напряжение. У Алевтины, понятно, дел выше головы — столько времени не была дома. Стало быть, сегодня Бельтиков будет предоставлен сам себе. Сегодня. А завтра? Не хотелось даже думать о том, что будет завтра...
...Но «завтра» все же наступило. Физические страдания от «принятого» накануне моральные страдания лишь усугубили. Как и следовало ожидать, все переживания Бельтикова закончились тем, что он хорошо «набрался», домой добравшись «на автопилоте». Окончание приключений было уже как в тумане, а то и вовсе выпало. С кем он общался, с кем пил, о чем говорил — Бельтиков и не помнил. Перед тем, как пуститься в загул, у него была мысль связаться с товарищами по шабашке, полагал не без оснований, что и они получили такие же повестки. Но дело в том, что он не знал, кто где живет, а если и записывал что-то, то конечно потерял по-пьяни. А повидаться надо бы: чтобы хоть согласовать, что говорить и избежать разнобоя. Эти подонки, чего доброго, выгораживая каждый себя, нагородят, черт знает что. Для следствия совсем ведь не важно кто ты — бродяжка ли, люмпен, алкаш без определенного рода занятий или журналист с дипломом о высшем образовании в кармане и приличным опытом работы. Договорятся «заложить» его, Бельтикова, и доказывай, что ты не верблюд. Но какая может быть попытка, если, по сути дела, нет даже настоящих имен, смутное представление о фамилиях, не говоря уже про год рожденья... В справочное с такими данными обращаться не станешь. И Бельтиков махнул рукой: будь что будет!
Голова гудела, но даже помышлять о том, чтобы «подлечиться» пивком, не приходилось. Вчерашнее давало о себе знать не только чугунной головой, но еще и ароматом, для описания которого пока не придумано красноречивых слов. Единственное из них — «перегар» — достаточно универсально, выразительно, но слишком общо. И если про обильный свежий запашок говорят «так дохнул, что закусить захотелось», то к перегару подходит просто выдохнутое с отвращением «Ф-уу»!
Бельтиков глянул на себя в зеркало. Д-аа, портрет... Как говориться, с похмелья не... Хватит ли сил побриться? А надо бы. Цитрамон — вот спасение. Но найдется ли он? Бельтиков пошарил в коробке из-под конфет, в которой обычно хранил лекарства. Нет, излюбленного цитрамона не оказалось. Какой-то новоцефальгин, неизвестно как сюда попавший. И бумажка какая-то поносно-желтая... В составе: фенацетин, кофеин... Черт бы побрал все эти «ины»! Сжалось сердце. Нетвердыми руками разорвал неподатливый целлофан (то ли дело — зарубежные упаковки — пальцем нажал, и таблетка выскочила), отправил в рот сразу три таблетки и пошел в ванную комнату запивать, с трудом преодолевая тошноту. Потом прилег, ожидая действия лекарства. Когда боль поутихла, через силу побрился. Поискал рубашку почище и понейтральней по цвету, посоображал немного, надеть пиджак или нет. Пиджачные карманы удобны для документов, но и в пиджаке жарко. И не столько на улице, сколько в том кабинете, куда ему надлежало сейчас идти...
Милиционер у входа на повестку даже не грянул, он молча кивнул, и Бельтиков пошел отыскивать нужный ему кабинет.
Кабинет оказался на четвертом этаже. У дверей, не в пример кабинетам врачебным, никого не было. Но и время, назначенное в повестке, еще не наступило. Еще пять минут. Лезть раньше времени Бельтиков не решился. Но и не маячить же у дверей кабинета! Бельтиков прошел к окну, которым оканчивался коридор и стал безучастно смотреть во двор.
* * *
Вентилятор-пропеллер, крутившийся на столе управляющего, особой прохлады не прибавлял. В кабинете было нестерпимо жарко и пот пятном проступал на мощной спине Петрова, обтянутой светло-голубой футболкой. Под потолком звенели мухи, добавляя в интерьер кабинета какую-то сонную умиротворенность.
Пеночкин, полуприкрыв глаза, разминал в пальцах сигарету и внимательно слушал, что толковал им управляющий — хозяин кабинета.
— Мужики, как мужики, — гудел тот, — работать могут. Не из тех, что «могу копать. А еще что можешь? Могу и не копать...» Нет, работяги. Ну, тут и система такая: хочешь заработать — паши от зари до зари. Система аккордно-премиальная. Уложились в срок — получай премию. Нет — извиняй. Был у них там один алкаш, так они его приструнили, в общество трезвости можно было записывать... А данные ихние сейчас перепишут, принесут...
Петров зевнул: все это было нестерпимо скучно. Он любил действовать, а не сидеть в душных кабинетах и выслушивать, кто как работает, кто как отдыхает...
— Василий Николаевич! — ворвалась вдруг в кабинет молодая девчонка, — Василий Николаевич, вас срочно на рацию.
— Извиняйте, — управляющий встал с таким видом, что вот, мол, и я тоже работаю... Тоже, мол, дела. — Сводка с полевого стана. Уборка идет. Постараюсь по-быстрому, — и отбыл из кабинета.
— Похоже, что ничего интересного тут не выудить... — снова зевнул Петров.
— Ну, хоть координаты этих шабашничков запишем. Тоже хлеб. Надо же с чего-то начинать.
В кабинет буквально влетел управляющий. На его подвижном загорелом лице были написаны озадаченность и тревога одновременно.
— Вот что, — проговорил он, не садясь, нервно хрустнув пальцами. — Тут с полевого стана передали... Прибежал пацан-грибник из леса. Туда, на стан. Стреляют, говорят, в лесу. Пальба, говорят, на войне будто... И народ там какой-то терся подозрительный. Не наш...
— Так, может, браконьеры? — Петров оживился. Начиналось кое-что более интересное, нежели байки про шабашников.
— Да какие здесь браконьеры! — загорячился управ. — Кого браконьерить? Ворон? Или воробьев? Нет, что-то тут не так...
— Так давайте проедем, чего гадать, — Пеночкин поднялся. Похоже, и ему надоело сидеть в этом раскаленном пекле. — Как туда проехать? Показывайте дорогу.
— Поехали, — согласился управ. — Что еще за стрельба-пальба? Непорядок...
Сине-желтый «уазик» милицейской масти поджидал их у входа в контору. Все расселись — управ рядом с водителем, офицеры сзади, — сержант, дремавший до этого за рулем, включил зажигание.
— Пока прямо, — управ махнул рукой, — потом скажу, куда сворачивать.
«Уазик» запылил по проселку, пугая собак, размякших от жары.
— У тебя есть оружие? — тихо спросил Пеночкин лейтенанта...
— Прихватил на всякий случай.
— А у меня нету, — вздохнул капитан, — не люблю я, знаешь ли, эти страсти-мордасти...
* * *
Милицейскую машину, появившуюся на проселочной дороге, заметили трое в темно-синей «шестерке» одновременно.
— Сидеть смирно, — свистящим голосом приказал конопатый, бросив взгляд на пленников. — Кто подаст голос, сделает это в последний раз. — Он взвел курок старенького нагана, извлеченного из сумки, стоявшей у ноги. По тому, как у него дрожат руки было ясно, что чувствует он себя не лучшим образом. В лесу какая-то пальба, подельники его запропали. А тут еще ментовская машина вдруг объявилась — почему, откуда, зачем? Он бы с удовольствием забился куда-нибудь в пятый угол, знай, где его искать...
Когда «уазик» был уже совсем рядом, у конопатого, видимо, сдали нервы. Не выпуская наган из руки, он врубил скорость, решив, что надо дергать отсюда без оглядки. Но Тенгиз, следивший в зеркало за приближением «уазика» вдруг подался вперед и, схватив левой свободной рукой за волосы конопатого, резко рванул его вниз от себя. Конопатый, не ожидавший такого невежливого обращения, ударился лицом о руль.
— Завалю, падла! — взвыл он. Из разбитого носа и губ потекла кровь. Тенгиз, не давая врагу опомниться, мертвой хваткой зажал его шею, согнутой в локте рукой. Потерявшая управление машина, выскочила на обочину: водитель автоматически давнул на тормоз; движок заглох. Конопатый выбросил руку с револьвером до отказа назад, пытаясь направить ствол на Тенгиза, но руку перехватил Костя своей свободной правой. До бунта Тенгиза он был погружен в свои невеселые мысли и немного опешил от случившегося. Но быстро среагировал, и положение конопатого стало безнадежным.
— А... а... а... дла... — хрипел он, Тенгиз душил его, Костя выкручивал руку с револьвером.
Бац! Хлопнул выстрел. В заднем стекле появилась дырка, окруженная сеточкой трещин.
Когда милицейская машина поравнялась с синей «шестеркой», Петров крикнул водителю «тормози!» и выпрыгнул. Подозрительные вихляния впереди идущей машины он засек сразу и понял, что необходимо их вмешательство. На выстрел среагировал мгновенно: его «Макаров» уже глядел в сторону синих «Жигулей». Левой рукой рванув дверцу с водительской стороны, он застал момент отчаянной борьбы конопатого с Тенгизом и Костей.
— Эт-то что за возня!? — вырвалось у лейтенанта, но ответа он не ждал. Обстановку оценил мгновенно: револьвер в руке — опасность. Руку эту надо немедленно обезвредить. Рука с «Макаровым» молниеносно ударила по руке с наганом и револьвер выпал на сиденье. И поскольку конопатый, зажатый в тисках своих пленников, схватить его не мог, а сами они при виде представителя закона об этом даже и не помышляли, Петров завладел оружием, а вместе с ним и ситуацией.
— Всем руки за голову! — скомандовал он грозно.
Полузадушенный конопатый повиновался сразу. И только тут Петров с изумлением понял, что сидевшие сзади не смогут выполнить его команду по причине чисто физического свойства: рука одного и рука другого были соединены стальным браслетом. А то, что он услышал, повергло его в неменьшее изумление. Подошедший с другой стороны Пеночкин произнес буднично и бесстрастно:
— Костя, я же тебя предупреждал: без самодеятельности. А ты — быстро из машины! — это уже конопатому, имевшему вид уже не вершителя людских судеб и владельца «Жигулей», а, скорее, бомжа, обитателя свалки.
Петров провел руками по одежде конопатого и, убедившись, что оружия у него больше нет, выудил из кармана его брюк ключ от наручников; щелкнул замок и Тенгиз с Костей, столь же неожиданно разлученные, как и соединенные, стали растирать свои онемевшие запястья.
На вопрос Пеночкина Костя буркнул нечто вроде «так уж получилось», но здесь же от сумасшедшей радости брякнул Тенгизу:
— А я уж к тебе вроде бы привык!
Тенгиз не ответил. Он смотрел на конопатого, руки которого были скованы теперь его же кандалами, нехорошим тяжелым взглядом. Ему нелегко было сейчас управлять своими эмоциями. А желание у него было одно: врезать по конопатой роже, чтобы подзасохшая юшка опять хлынула волной. Но он понял, что этому желанию сейчас, во всяком случае, не суждено осуществиться. Отойдя в тень, он тяжело привалился к стволу березы и прикрыл глаза.
«Стреноженного» наручниками конопатого пристроили на траве. Петров искал наган, который обнаружил на полу под сиденьем.
— Так, сообщил он, — вещдок номер три, если первым считать детектив «Мегрэ и его мертвец», а вторым — браслеты.
Управляющий с несколько ошалелым видом наблюдал из милицейской машины всю эту сцену. Никогда еще он не видел, чтобы такие чудеса творились на вверенном ему отделении.
Конопатого усадили за руль: Костя в двух словах обрисовал ситуацию, из чего стало понятно, что следует немедленно восстановить «статус кво». Ведь из леса вот-вот могли показаться остальные члены экипажа. По приказу Петрова сержант-водитель срочно развернул машину с отпугивающим милицейским канареечным «оперением» и отогнал ее за пределы видимости. Костя и Тенгиз снова устроились на заднем сидении, а Пеночкин с Петровым растянулись в бурьяне рядом. В этой ситуации лучшее было — ждать. Если пассажиры «шестерки» ничего не успели увидеть, то они все равно придут к машине и сделают это без опасений.
Пеночкин, оценив все происшедшее, принял решение...
* * *
Бродить дальше не имело смысла. Белесый растворился в чаще и найти его было невозможно. Чтобы прочесать такой лес, надо взвод, а то и роту. Усатый и дядя Паша, матерно ругая Белесого, лес и все на свете, вернулись к полю боя. Бородатый лежал, задрав голову, глядя в небо мертвыми глазами. Казалось, он, оскалившись, усмехался, и Усатого передернуло от этой потусторонней ухмылки.
— Фу-у, черт бы его взял. Накрой чем-нибудь этого кретина. А... черт с ним, — махнул он рукой, видя, что дядя Паша тоже не горит желанием возиться с трупом.
Не сговариваясь, зашагали к просеке, за которой находилась проселочная дорога. Пора было уносить ноги.
Они вышли из сумрачного леса, щурясь от ярких солнечных лучей. Казалось, ничто не изменилось, все было таким же, как и час назад. «Жучка» с выключенным двигателем, стояла там, где ей и положено было стоять, все как сидели, так и сидят на местах. Конопатый вроде бы подремывал, но это тоже в порядке вещей — а что ему еще делать?
— Руки за голову! Живо! Стоять на месте! — слова ударили, словно бич. Но подчиняться команде никто не собирался. Оба метнулись к машине, но тут же прогремел выстрел. Предупредительный.
— Сказал стоять! Следующая пуля ваша!
Усатый и дядя Паша уразумели, что игра проиграна и обхватили собственные затылки
— Оружие на землю! Живо!
Петров поднялся из своей засады, по очереди направляя пистолет то на одного, то на другого. Усатый бросил на землю пистолет, дядя Паша нож. Петрова это не очень убедило. Передав «Макарова» Пеночкину, он все же удостоверился, что больше ни у того, ни у другого ничего нет. Потом, ремнем от их же брюк связал обоих спина к спине, и уложил прямо в пыль.
— Вот так мы в Афгане «духов» вязали, — приговаривал, колдуя с ремнями. Подошел управляющий, не вытерпев сидения в спрятанной машине. Он все еще не пришел в себя, никак не веря в реальность происходящего.
Засада удалась, рыбка клюнула. Но до полной ясности было далеко.
— Давай их в машину, — велел Пеночкин Петрову. — Надо с ними потолковать.
Однако отвечать на вопросы никто из тех, кто перешел теперь в разряд пленников, отвечать не захотел. Но из показаний Тенгиза и Кости можно было заключить, что противниками задержанных были те, кто следил за «бугром» — Аликом. Но где они? Где сам Алик?
— Вам надо, вы и ищите, — презрительно процедил усатый.
Беглый осмотр пистолета говорил о том, что из него только что стреляли. Судя по количеству оставшихся в обойме патронов, не один раз. О том, насколько результативны были выстрелы, судить было трудно. Возможно, есть убитые или раненые. Надо прочесывать, лес, нужна подмога. Пеночкин пошел на рацию: доложить по начальству и запросить указаний. Петров беседовал с управляющим. Его интересовало, какова конфигурация лесного массива, в котором шла перестрелка и в какую сторону могли уйти ее участники, если остались живы.
— Если перестрелка произошла между этими, которых мы задержали и теми, которых видели идущими вслед за бригадиром ваших шабашников, то группы разошлись в противоположных направлениях, разумеется, если все обошлось без жертв. Куда можно выйти, двигаясь все время в том направлении?
Петров показал в сторону, противоположную той, откуда появились бандиты.
— Выйти можно на дорогу. Вполне приличная грейдерная дорога.
— Машины там ходят?
— Бывает. Сейчас, во время уборки, довольно часто.
— Стало быть, можно уехать на попутной?
— Вполне.
— А как отсюда на эту дорогу проехать?
— От этой дороги, на которой мы сейчас находимся, километров через пять есть сверток, ответвление. Вот оно и выводит на ту дорогу.
К моменту, когда Пеночкин завершил переговоры, у Петрова уже созрел план. Поскольку подмога прибудет не скоро, а сложа руки сидеть не резон, он решил проехать на шоссе — возможный путь для другой вооруженной группы. Может быть, удастся заметить, куда направляются предполагаемые противники пойманных бандитов, а при благоприятных условиях и задержать.
— А на чем поедешь? — поинтересовался Пеночкин. Ни разрешать, ни запрещать лейтенанту что-либо предпринимать он не мог, хотя как старший по званию мог порекомендовать воздержаться от неправильных действий. Но в данном случае предложение Петрова было разумным: время упускать нельзя.
— На этой машине поеду. — Петров кивнул головой в сторону синих «Жигулей».
— Рискованно. Особенно одному. И дать в подмогу некого. Разве что водителя нашего.
— Не пойдет. Он в форме, сразу весь камуфляж испортит. Да ничего. В разведке я служил. В Афгане кое-чему научился. Там дела поинтереснее крутили, но шкура, как видите, цела.
— Что ж, давай. Только все-таки про осторожность не забывай.
* * *
На шоссе, куда попал Петров после того как преодолел соединяющий две дороги отрезок, было пустынно. Он остановил машину, вышел. Тихо. Спокойно. Пели, непуганные птицы. «Как на кладбище... Удивительная благодать» — усмехнулся лейтенант. Пожалуй, прокатился он напрасно. Никого здесь нет и, возможно, не должно и быть. Если и есть, кто живой, то мог выйти совсем в другой стороне.
Уезжать однако Петров не торопился. Встречу на определенное время никто не назначал, стало быть, надо и покараулить немного. Кто знает...
Взметнувшаяся над кустами у дороги стайка птиц от внимания Петрова не ускользнула. Интуиция, чувство разведчика, опыт подсказывали: надо быть начеку. Он замер, рука сама легла на ребристую рукоятку пистолета. Через кусты явно продирался кто-то. Минутой позже этот кто-то материализовался в образе молодого человека со светлыми волосами, голого по пояс и с рюкзаком на плече. В правой руке был зажат посошок, которым путник раздвигал высокую траву и кустарник, на левую была накручена майка. Одна из деталей описания, которую сообщили вызволенные Петровым из плена, цепко засела в голове Петрова: светлый, белесый. «Значит, все сходится. Игра продолжается».
На всякий случай он откинул капот двигателя, делая вид, что устраняет какую-то неисправность, в то же время зорко наблюдая за действиями молодого человека. А тот без колебаний направился прямо к машине. Вид его опасений не вызывал, посошок свой он отбросил, оружие если и было, то разве что в рюкзаке.
Когда их разделяло всего несколько метров, белесый, приветливо улыбнувшись, заговорил:
— Что, авария? До города не подбросите? Заплачу...
А глаза бегали, схватывая детали, оценивающе.
«Выясняет, один ли я», — мелькнула у Петрова догадка.
— Отчего же не подвезти, если по пути...
Петров захлопнул капот и выпрямился. Но договорить он не успел. Майка на руке незнакомца вдруг взметнулась к поясу, и Петров ощутил страшный удар-толчок в солнечное сплетение. Мысль зафиксировала природу толчка прежде, чем в уши толкнулся хлопок выстрела.
«Вот так... Там я не дал бы выстрелить первым...»
Он упал на капот не столько от пули, пронзившей его, сколько от автоматической привычки: будучи раненым, не ждать следующей пули. А для слабеющей руки твердая опора пригодилась для ответных выстрелов: «Макаров» почти вырывался из пальцев, когда гашетка была нажата трижды. Нет, не мог лейтенант позволить подонку завладеть оружием и машиной. Поэтому бил наверняка: промахнуться он не имел сейчас права. Ему хватило бы и одной пули для мишени, находящейся даже в пять раз дальше, но сейчас он слишком хорошо знал, что сознание может покинуть его прежде, чем он сумеет прицелиться. Несколько пуль — для полной гарантии, что бандит не уйдет...
Отчетливо увидев, как белесый каждый раз дергался от нового попадания, а потом рухнул, Петров стал сползать на землю. Живот жгло, как раскаленным утюгом. Сознание все еще оставалось ясным, но перед глазами уже плыла какая-то розовая муть. Эх, лейтенант, дырявили тебя уже под Джелалабадом. И пулей, и осколком на войне дырявили, а тут, на родине, под зелеными березками... Терпи, лейтенант, терпи. Он попытался принять такое положение, при котором кровь текла бы меньше, зажал рану рукой, но все равно чувствовал, как под ладонью горячими толчками пульсировало. Он теряет кровь все больше и больше. Но подняться до сиденья машины уже не было сил. А вокруг — никого, только лес. И не было ребят, которые вынесут из-под огня, перевяжут, дадут воды. А так хотелось пить... Он закрыл глаза и перед его внутренним взором поплыли горы, белые вершины вдали, выжженные солнцем подножья. «Подонок, — скрипнул он зубами. — Ах, подонок». Но большой ненависти, как ни странно, он не испытывал. Может, от сознания, что тот тоже лежит, истекающий кровью. Впрочем, тот вряд ли о чем-то думает.
Ему показалось, что закуковала кукушка. А, может, и не показалось. «Странно, откуда тут в горах кукушка? Интересно, сколько она мне посулит лет? Да, а какие горы? Ведь я в России. Надо взять себя в руки. Но дух все равно не ушел. Дух... Какой он, к черту, дух... Подонок, мразь...» Прежде чем потерять сознание, он засунул пистолет поглубже под себя.
* * *
Пеночкин безучастно взирал на кутерьму, которая поднялась по прибытии оперативной группы. Привезли собаку, прибыл врач и крепкие парни из группы захвата. В зарешеченную машину втолкнули задержанных и она тотчас умчалась. Собака взяла след тех, которые вышли из леса, а начальник оперотдела тихо спросил: «Где Петров?»
Вопрос больно резанул Пеночкина. Морщась, словно от боли, он стал объяснять. Майор выслушал все молча, так же молча пошел к своей машине. «Можно, я тоже поеду?» Майор кивнул. Управляющий, который забросил все свои дела, был еще тут же, все понял. Он тоже попросил позволения поехать, чтобы указать дорогу. Предложение было разумным, от него не отказались.
В машине управляющий пытался что-то говорить, но откликались на его разговоры неохотно. Всех охватило мрачное предчувствие. Почему он не вернулся? Имея колеса, он приехал бы уже сто раз...
...То, что они увидели, заставило сжаться сердце даже у них, видавших виды. Белесый лежал в луже крови. Было понятно, что врач тут уже не нужен. А вот Петров... Петров был еще жив. Он даже говорил что-то. Пеночкин и майор, нагнувшись, расслышали:
— Левша... Как я не догадался сразу, что он левша... Он стрелял с левой... Осторожней с ним...
С «ним» уже никто больше осторожничать не станет. Даже при вскрытии. Но лейтенанту этого сейчас не объяснить. Он уже говорил не про левшу, а про горы, про зной и просил пить.
Майор сидел у рации.
— Вышлите вертолет с врачом! Вертолет с врачом, а лучше с реанимационной бригадой! Что?
Майор выругался, грубо, жестко, скрипнув зубами: «Что генерал, при чем тут генерал?»
* * *
Дождавшись, что стрелки часов сомкнулись на двенадцати, Бельтиков постучал в дверь кабинета. Услышав «войдите», открыл дверь.
Человек, сидевший за столом небольшого кабинета, показался Бельтикову знакомым. И точно, тот поднялся навстречу, протянул руку, приветливо улыбнулся.
— Здравствуйте, товарищ Бельтиков! Не узнаете?
Бельтиков силился вспомнить. Пеночкин пришел ему на помощь.
— Помните, я приходил к вам в редакцию? Приглашали меня прочитать нечто вроде лекции по правовым вопросам. С вами мы тогда еще разговорились, и вы мне предлагали выступить в газете, рассказать о каком-нибудь деле поинтересней...
Бельтиков вспомнил: да, был такой разговор. Выходит, не за тем пригласил его этот симпатичный следователь, чтобы допрашивать о краже? Он приободрился и уже хотел было сказать, что в редакции сейчас не работает, но Пеночкин продолжал:
— Дело как раз есть, и весьма любопытное, но я вас пригласил, чтобы выяснить одну деталь. Вы, как нам стало известно, работали нынче в совхозе. Приобщились, так сказать, к осуществлению продовольственной программы непосредственно, путем приложения физических сил. Как и почему — это дело, понятно, сугубо ваше личное. Но есть один момент, который требует объяснения, а объяснить его нам пока никто не может. Вот, может, вы поможете...
Пеночкин вытянул ящик стола, достал оттуда журнал «Огонек». Нет, разумеется, это был не журнал. Что это было, Бельтиков понял сразу. Сколь ни мимолетно было его знакомство с этой подшивочкой сброшюрованных журнальных листочков, он ее узнал. И по изменившемуся лицу Бельтикова понял это и Пеночкин.
— Похоже, что вам это знакомо? — следователь положил ладонь на журнальную обложку.
Бельтиков не ответил. Он просто не знал, что говорить.
— Можно посмотреть? — наконец выдавил он хрипло.
— Пожалуйста. А я вам поясню, почему мы проявляем интерес к этому выбранному из журналов детективу. По свидетельству одного из членов вашей бригады, а именно Тенгиза Мухамедьянова, он взял эту самодельную книжицу на полке в бывшей столовой, где вы жили во время работы в совхозе. Кто ее туда положил — он не знает. Не ответили на этот вопрос и остальные ваши собригадники. Сказали — «нет не знаем». Управляющий заверил, что до вашего появления никто положить не мог.
Бельтикова бросило в жар. Уже не думая о последствиях, он выпалил, словно бросившись в ледяную воду:
— Я положил.
Пеночкин впился в него глазами.
— Это становится интересным, — пробормотал он. И спросил. — Вы положили. А где вы ее взяли?
Бельтиков вздохнул. И заговорил заметно севшим голосом:
— Я бы тоже как и все мог ответить: «не знаю». Но... Не могу...
И Бельтиков рассказал о краже сумок, рюкзака, всех вещей, ничего не утаивая. Сказал и о том, что Тенгиз к этому всему непричастен и о происхождении журналов действительно ничего не знает.
— А что я должен был сделать? Идти заявлять на людей, с которыми собрался вместе работать? Не мог я этого. Ну, а теперь все равно... — устало закончил он.
— Да-а, совесть, совесть... — неопределенно протянул Пеночкин. — А вы знаете, что бригадиру вашему все это стоило жизни.
— Как? — вырвалось у Бельтикова.
— Что вы решили сделать с сумкой, когда поняли, что в ней наркотики?
— Алик сказал, что утопит ее.
— И вы поверили?
— Конечно. Мы приехали с намерением работать и хорошо подзаработать. Наркоманов среди нас не было, о том, чтобы продать, и слова не было...
— Значит было. Бригадир не утопил сумку. Он спрятал ее в лесу, а сам стал искать в городе покупателя. Вот эти-то покупатели его и выследили. Выследили и убили там же в лесу, неподалеку от мест, в которых вы работали. И вы ничего об этом не слышали?
Бельтиков был ошеломлен.
— Меня не было в городе, — выговорил он с трудом. — И ни с кем из бригады я не общался по приезде.
— Стало быть, старик и тот второй, знали о происхождении журнала? А мне солгали, не желая говорить о краже.
— Старик про эти журналы мог ничего и не знать. Он спал, когда вскрывали сумку, а я их прибрал, намереваясь почитать на досуге. Однако досуга не было, и я о журналах этих забыл. А Тенгиз, видимо, на них наткнулся...
— Что и ему едва не стоило жизни. Спасла счастливая случайность. А вот офицера нашего спасти не удалось... Молодой, подающий надежды. В Афганистане уцелел, а тут... И все из-за этой сумки.
Наступила продолжительная пауза. Каждый думал о своем.
— Что ж, — наконец прервал молчание Пеночкин, — доля вашей вины в этой истории, конечно, есть. Не мне решать, какова она. Вам, несомненно, зачтется добровольное признание. Вы действительно могли сказать «не знаю» и мне бы ничего не оставалось делать, как поверить. А тут раскрылись, совершенно неожиданно, еще несколько преступлений, краж, на которые у меня лежат заявления и которые я, честно говоря, уже отложил в сторону нераскрытых. И это благодаря вам. Сейчас я могу «обрадовать» своих заявителей. А ущерб, вероятнее всего, заставят возместить. Вас. Нет, не лично вас, а всех по мере вины. Старику придется с большей частью заработанного распроститься, если он, конечно, не пропил все.
— Он пьет, в основном, одеколон. А на одеколоне пропить такую сумму трудно. На стеклоочистителе — тем более...
— Ну, что ж, тем лучше. При нынешней тенденции как можно меньше наказывать лишением свободы, при полном возмещении ущерба все может ограничиться условным наказанием.
Пеночкину явно не хотелось становиться на официальную ногу с журналистом, хотя и оказавшимся в таком положении. Надо бы составить протокол допроса, но он заговорил, как бы рассуждая про себя.
— Вот смотрите, что получается. Четыре трупа мы имеем в этом деле. Это кроме нашего работника, погибшего, так сказать, на посту. Еще трое арестованы. В сумке, которую украл ваш старик, кроме наркотиков оказались важные сведения, которые помогли нам выйти на организаторов ограбления аптеки. Не зря за ней охотились, не зря убивали друг друга. Арест преступников помог предотвратить еще одно готовящееся преступление. Понимаете, хотели шантажировать девушку и заставить ее принять участие в ограблении. В предыдущем случае им такое удалось...
Это все, что мы имеем в своем, так сказать, активе. Я имею в виду раскрытые преступления. Но ведь это самая верхушка айсберга! Каковы его размеры — даже предположить трудно. Арестованные признают лишь то, что удается доказать. Да и то не всегда. Кто стоит за ними — нам неизвестно. Те двое, которые были убиты, выслеживали вашего бригадира по чьему-то заданию. Они уже никогда не скажут, кто им велел это делать. Сцепились с теми, кто тоже охотился за сумкой, случайно. На кого они работали? Установили, что один — бывший врач «скорой помощи», в настоящее время — не у дел. Чем занимался и на что жил — неизвестно. Второй — студент. Жил с вполне обеспеченными родителями. Об этой его деятельности, понятно, никто из родни и не подозревал. Как, впрочем, и у первого.
Человека, пославшего сумку с наркотиками в другой город через подставного лица, тоже убили. Убили за то, что много знал и раскрыл адреса перекупщиков наркотиков. А потом, когда сумку украли, рассказал об этом, боясь провала. Надеялся этим заслужить прощение. Но разве в этом мире прощают?
Да-а... Старик ваш, наверное, близко бы к этой сумке не подошел, знай, какой это смертельно опасный груз. Пять жизней... Впрочем, она, и доставленная по назначению, все равно бы убивала. Но другим путем, и не тех. Но ваш бригадир и наш лейтенант были бы живы. Впрочем, лейтенанта можно было еще спасти. Если бы не один, извините, дурак-перестраховщик из управления, который не решился выслать вертолет без согласования с генералом. Не захотел брать под свою ответственность. А была дорога каждая секунда. Умер на операционном столе. Слишком поздно он на него попал...
Словом, материала тут не то, что для статьи, для целой повести хватит. Только вот конец этой повести пока не просматривается... И трудно сказать, как скоро мы сумеем его приблизить.
Бельтиков вздохнул. Он думал о том, хватит ли оставшихся у него денег, чтобы рассчитаться за украденные Фадеичем вещи...
Загадка лесного тайника



Тараска и Сережа проснулись рано. Точнее проснулся первый Тараска, хотя ему десятый год всего, а брату уже пятнадцать.
Протерев глаза, зевнув сладко, мальчик оглядел горницу. Все на своих местах — стол, табуретки, скамейка. Заглянул на печь, где обычно спала мама. Но ее уже не было.
«Куда это она в такую рань? Может, опять окопы рыть угнали? Так она бы нас разбудила, что-нибудь наказала бы... Надо разбудить Серьгу. Может, он что придумает. Он всегда что-то придумывает».
Тараска посмотрел на брата. Тот улыбался во сне. Наверное, что-то приснилось.
Запустив ручонку в смолисто-черные волосы Серьги, Тараска задумался: будить или не будить? Сколько бы он еще гадал, глядя на запавшие щеки и курносый братов нос, неизвестно, но все решил Тараскин живот... Он так закурсал, требуя хоть какой-то еды, что мальчик решился. Сперва он потянул брата за волосы, но тот только помычал и сделал неопределенное движение головой. Тогда Тараска пощекотал голую, торчащую из-под тряпья пятку. Серега, двинув ногой, проворчал недовольно:
— Чего спать не даешь?
— В животе сильно урчит, кишка за кишкой гоняются, так есть охота.
— Спал бы, и живота не слышал бы...
— Не спится...
— Тогда дуй в лес, пасись. Сейчас в лесу всякой травы полно. Щавель уже есть. И лук дикий, и чеснок... Заодно и домой щавеля принесешь.
— А ты со мной не пойдешь?
— Мне и в деревне дело есть...
Он осекся на полуслове и внимательно посмотрел на братишку. Рано ему еще такие вещи знать, да и ни к чему. Не скажешь же такой малявке, что партизанский командир просил его Серегу, сходить в соседнюю деревню. Там фашисты, надо разузнать, чем они дышат. Тараска, конечно, пацан не болтливый, но ведь маленький еще. Да и командир предупредил, — никому ни слова.
...Тараска через огород направился к лесу, который темнел неподалеку. Сплошная его стена в свете утренних косых лучей солнца казалась темной.
Тараска много раз бывал в этом лесу и с мальчишками, и один, но идти в такое раннее утро было все же страшновато.
Если издалека лес виднелся сплошной стеной, то вблизи он расступался, распадаясь на отдельные деревья. Мальчик узнавал знакомые дубы, осины, клены.
У самого края искать щавель — нечего было и делать. Место здесь песчаное, а щавель любит луговую землю. Чтобы дойти до щавельного места, нужно пересечь бор, заросший ежевичником, шиповником, бояркой, малиной — всякой колючей порослью.
Неподалеку от березы чернела воронка. Мальчик знал, что таких ям здесь много. Они остались с тех пор, когда фашисты рвались в деревню, а наши их не пускали. Сколько тогда всяких интересных штуковин было в лесу! И патроны, и гильзы, и даже ружья.
И чего тут страшного, в этом лесу? Ночью, может, и жутковато, а сейчас день. И нечего бояться...
Тараска подбадривал себя, храбрился, но для большей уверенности решил все-таки чем-нибудь вооружиться. Он обошел несколько воронок, внимательно вглядываясь: не лежит ли где какая железка? За два года воронки оползли, поросли травой, затянулись, как раны, стали мельче. Может, что в них и было, да теперь надо рыться, чтобы найти... Неожиданно нога зацепилась за что-то, торчавшее у края воронки.
Это «что-то» оказалось штыком. Тонким четырехгранным русским штыком от советской винтовки. Он заржавел, покрылся налетом окаменелой грязи, но был все же острым и крепким.
Тараска воткнул штык несколько раз в песок, и хоть штык от этого заметно не посветлел, мальчику все же показалось, что он стал не такой заскорузлый, как был прежде. Сознание того, что был этот штык наш, не немецкий, тоже как-то подбодрило Тараску. Зажав свое оружие в руке, он пошел в глубину зарослей.
Шел и твердил про себя: пусть только кто сунется, пусть только кто сунется... С размаху вогнал он штык в землю. Штык со скрежетом ударился о что-то железное.
Предвкушение новой находки всколыхнуло мальчика. «А вдруг автомат? Или винтовка?»
Но металлическое препятствие было обширным, крупным. Куда бы ни совал свой штык Тараска, он всюду натыкался на этот металлический скрежет.
Неведомый предмет был неглубоко зарыт. Штык входил лишь чуть больше половины в жухлую прошлогоднюю листву и тонкий слой дерна.
Мальчик руками, помогая себе штыком, стал разгребать землю. Лист железа, которым кроют крыши, — даже краска красноватая просвечивала сквозь разрытую ямку, — оказывается преграждал движение Тараскиного оружия вглубь. Но лист не прогибался и не пружинил, когда мальчик стал бить по нему штыком. Похоже, что он лежал на чем-то твердом, а не просто валялся на земле и был присыпан сверху. Это обстоятельство побудило Тараску расширить границы исследования; он решил разгрести верхний слой и посмотреть на чем все же лист лежит.
Пространство, которое Тараске пришлось расчистить, оказалось довольно большим — около метра, наверное. Порядочная куча нагреблась с одной стороны, куда, увлекшись, мальчик толкал прель листьев и земли. И вдруг край листа обнаружился совершенно неожиданно: он упирался в ровную кирпичную кладку, которая приподнималась на несколько сантиметров, четко обозначая границу. Лихорадочно, забыв про усталость, Тараска заработал ручонками, как щенок, нашедший мышиную нору. Он почувствовал, что здесь что-то есть такое, что заинтересует не только его, пацана.
Кирпичная кладка ограничивала железный лист с четырех сторон, образуя ровный квадрат.
Кирпичи особенно возбудили. Тараскино любопытство. Они были, конечно, притащены с бывшего кирпичного завода, который был построен еще до войны.
Фантазия разыгралась у мальчика. В его воображении замелькали самые заманчивые картины. А, может, там хлеб? Кто-то устроил в лесу погреб, чтобы фашисты не нашли, а там и картошка, и капуста... И хлеб...
Он затолкал штык в зазор между кирпичами и листом. Остатки земли мешали приподнять крышку. Потом маленький следопыт понял, что лист — это вовсе не лист, а доска, обитая жестью: штык уткнулся глубоко в зазор — он никак не мог зацепить края сверху, а поглубже вроде бы за что-то зацепилось.
Он налег на штык, как на рычаг. Крышка приподнялась.
Тараска ухватился обеими ручонками за край и потянул кверху. Запах погреба пахнул в лицо. Отвалив крышку, мальчик с опаской заглянул в открывшуюся темную яму. Ничего невозможно было разглядеть. Ничего не было слышно. Даже непонятно, глубоким был или нет колодец.
Тараска оглянулся по сторонам, ища глазами палку или прут, чтобы им определить глубину ямы.
Уходить далеко за палкой Тараске не хотелось: боязнь, что кто-то сейчас выйдет из леса и обнаружит найденный им тайник, сковывала его движения. Однако любопытство пересилило: в лихорадочной поспешности мальчик обшарил близлежащие кусты, сломав какой-то торчащий из земли сухой прут, самый длинный из тех, что были неподалеку, он кинулся с ним к лазу.
Ему пришлось лечь на землю, и рукой удлинить свой щуп. Но зато он обнаружил, что дно не так далеко: прут уперся во что-то мягкое. Да и присмотревшись хорошенько мальчик увидел неясные очертания чего-то. «А вдруг там мертвяки?» Холодок пробежал по спине у мальчика.
Любопытство было сильнее страха. Спрыгнуть вниз? Прут вместе с рукой был примерно в два Тараскиных роста — это не так много — не расшибешься. А как выбираться? Можно в этой яме остаться навсегда. Кто тут по лесу ходит? Хоть неделю, хоть месяц кричи. Эх, была бы веревка! Сбегать домой? Сказать Сереге?
Разумные эти решения напрашивались сами собой. Но нетерпение пересиливало все эти доводы разума. А что если найти толстую лесину и по ней спуститься?
Уже не думая о том, что кто-то придет и увидит открытый им лаз, Тараска кинулся на поиски лесины.
Нога вдруг зацепилась за что-то. Тараска кинулся шарить руками. Деревянный брусок. Мальчик ухватился за него обеими руками. Найденный предмет подался с трудом: свежая трава держала его цепко. Напрягая силенки, стал тянуть.
Замаскированный травой предмет оказался грубо сколоченной лестницей. Конечно, она была специально сделана для таинственного лаза. Вот только почему ее не оставили там, в колодце? Верно, тот, кто все это изладил, считал, что отсутствие лестницы помешает проникнуть к запрятанным сокровищам...
Установить лестницу было секундным делом. С опаской (а вдруг кто-нибудь за ним наблюдает? Только он спустится, а его закроют крышкой?) и жгучим любопытством, которое перебарывало все остальные чувства, мальчик стал спускаться в таинственный мрак и вскоре почувствовал под ногой мягкое дно. Он чуть было не рванулся с криком назад, но понял, что наткнулся на мешок. В следующий миг с удивлением заметил, что тут, внизу, совсем даже не тесно — за его спиной была не то ниша, не то целая подземная комната.
Сверху струился слабый свет. Однако Тараскины глаза скоро привыкли к темноте. Он начал различать какие-то неясные очертания внутри углубления. На ощупь он установил, что это лежали какие-то мешки, одни — туго набитые, наверное, зерном, другие — вроде бы бумагой. Были даже какие-то ящики, бочонки, тюки, коробки. Но самое интересное, что привлекло внимание маленького кладоискателя, были тускло блестевшие в темноте банки.
«Консервы!» — с восхищением думал Тараска. Он хватал эти банки, совал их за пазуху, в карманы, потом подумал, что, может, лучше взять какой-нибудь мешок.
Но мешки, на
которые он натыкался, шаря в потемках, были все туго набиты, были аккуратно свалены друг на друга.
Так и не найдя ничего подходящего, Тараска решил унести столько банок, сколько уместилось за пазухой.
«Все равно, — подумал он, — придем с Серьгой, мешок захватим, все унесем».
Мальчик стал подниматься. Он осторожно высунул голову из подземного колодца, огляделся, и только тогда решился вылезть.
С самыми радужными мыслями Тараска направился к дому. Предварительно он, конечно, закрыл тайный лаз крышкой, засыпал крышку землей, придвинул зеленой травы, словом, сделал все, чтобы оставалось как было. Заметил деревья и кусты вокруг.
Тараска хорошо отдавал себе отчет в том, что любое путешествие в лес чревато неприятностями. Выходить из деревни запрещалось. Полицаи строго следили за этим. Правда, запрет нарушали все, но тайком, ночью. Начинался бы лес от самой деревни, а то ведь надо преодолевать еще кусочек открытого поля...
Поэтому тушенку надо спрятать до вечера где-нибудь. Однако Тараска передумал. «Если пройти низину, из которой видны только крыши изб, останется совсем немного. Там можно проползти по борозде и никто не увидит, — рассуждал он, — До нашего огорода там рукой подать».
Уж больно не хотелось расставаться мальчику со своей добычей, хотя бы и ненадолго.. И он пополз...
* * *
Полицай Макар грелся на солнышке. Его клонило в дрему после завтрака и выпитого с утра стакана самогона. Дел на сегодня, вроде, особых не предполагалось, к старшому можно и попозже прийти...
И задремал бы Макар на завалинке, если бы не сынишка его, Гриня, который развлекался с отцовским полевым биноклем на крыше сарая.
— Папаня, папаня! — звонко закричал вдруг Гриня.
— Чего гомонишь? — недовольно пробурчал Макар, с трудом встряхиваясь от дремоты. — Чего тебя сбросило?
— А чего он ползет?
— Хто ползет? — никак не хотел взять в толк вздорные выкрики сына Макар: вечно с какой-нибудь глупостью лезет...
— Та Тараска же Яшкин ползет. Из леса.
Макар начал понемногу соображать. Он даже смутно понял, что сообщение сына имеет отношение к соблюдению им служебного долга.
Кряхтя поднялся Макар и, потягиваясь, направился к лестнице сарая. Начал подниматься. Лестница заскрипела под его тяжестью.
— Ну, хто, где ползет?
Он взял бинокль, принялся крутить окуляры по своим подслеповатым глазам.
А Гриня тараторил, захлебываясь:
— Он полз, полз, сейчас отдыхает, а за пазухой у него чего-то натолкано...
Макар, наконец, поймал в окуляры того, на кого указывал сын. Рябое его лицо выразило максимум сосредоточенности.
Тараска в это время уже подкрался к своему огороду. Полицай увидел, как, достав из-за пазухи что-то блестящее, сунул в приметное место, замаскировал и поднялся во весь рост.
— Гильзы, наверно, нашел где-то, — равнодушно вымолвил Макар, но тем не менее стал спускаться вниз.
Серьги дома не оказалось — одна мать хлопотала по хозяйству. Донельзя довольный Тараска выставил на стол банки. Молча и солидно он вытащил из печурки нож.
— Это еще что такое? — не выдержала мать. — Ты чего это принес, откуда?
— Не видишь, тушенка говяжья.
Тараску распирало самодовольство, говорил он с расстановкой, не торопясь, как взрослый.
— А ну брось! — чуть не закричала мать. — Может, это мины какие!
— Ну не видишь что ли, корова нарисована. Какие мины?
Мать осторожно взяла банку в руки. Действительно, на ней была нарисована корова, и по-русски было написано: «Говяжья тушенка».
— Где взял?
— В лесу нашел, где еще...
— А, может, все же обман какой... Начнешь ее потом колупать, а она взорвется. И почему по-нашему написано, не по-немецки? Нашей-то тушенки уж два года не видал никто...
— Да я, знаешь, сколько ее нашел? Всей деревне хватит, — не утерпел Тараска. — Вот посмотри, какая мина.
И он с размаху ударил кулаком по ручке ножа. Нож прорезал жесть, кончик его вошел в содержимое банки.
— Во, понюхай, какая мина, — с торжеством протянул Тараска банку матери. — Вкусно как пахнет!
Но мать только и успела, что понюхать. По двору уже топали два полицая. Рябой Макар и Кутура. Схватив банки, Тараска сунул их в старые валенки.
— День добрый, — миролюбиво произнес Макар.
Мать недоверчиво глянула на непрошеных гостей.
— Может, кому и добрый, а у кого пообедать нечем...
Кутура вертел головой, выглядывая что-то. Макар поманил пальцем Тараску.
— Поди сюда.
— Ну? — Тараска настороженно зыркнул на рябого.
— Попытать хочу тебя...
— Пытайте, я не глухой...
— В лесу был?
— Ну...
— Что принес оттуда?
Недоброе чувствуя, екнуло сердце у матери. Сжался от страха Тараска. Буркнул еле слышно:
— Ничего не принес. За щавелем ходил.
— Ну и где твой щавель?
Это вмешался Кутура. Голос ехидный, насмешливый.
— Сейчас я, — сказал рябой и вышел из избы. Тараска посмотрел ему вслед и чуть было не рванулся вдогонку. Словно поняв его намерение, Кутура цепко ухватил его за руку, придавил к табуретке:
— Сиди.
Вернулся рябой Макар, неся, как чурки дров, банки с тушенкой. Полицай бросил их на стол, одна банка скатилась, стукнулась об пол.
Тараска сидел, опустив глаза вниз. Мать с недоумением оглядывала всех.
— Вот это да... — протянул Кутура насмешливо. — А только плакалась, что пообедать нечего. Такой тушенки у нас и старшой не ест, да и не всем господам немцам перепадает... Советская еще, довоенная. А ну, гаденыш, говори, где взял?! — рявкнул он вдруг, вцепившись в плечо Тараски.
— В лесу нашел, — потупившись выдавил Тараска. — Полез да провалился, а они лежат под кустом...
— А булки, на деревьях там не росли? — скривившись в ухмылке проговорил Кутура. — Может, еще шиколад с какавой там лежали...
— Скажи, тебе же лучше будет. Все равно узнаем, — вмешался рябой.
Мальчик уже не питал никаких надежд на благополучное окончание всей этой истории, понимая только, что кроме возможности оттянуть время, у него никаких способов избавиться от своих мучителей нет.
Кутура поднял упавшую банку, внимательно осмотрел ее со всех сторон, даже понюхал.
— Как только что со склада. Даже смазка сохранилась. Говори, где взял? — вдруг заорал он, замахнувшись на Тараску банкой.
— Не дам бить! — закричала мать и заслонила сына.
— Погодь, Кутура. Погодь... Он и так скажет.
Рябой положил руку на голову мальчика.
— Скажешь ведь, а? Если скажешь, все банки тебе отдадим. Отдадим ведь, а, Кутура?
— Нехай берет, — с мрачной ухмылкой подтвердил Кутура. — Если скажет только...
— Я же сказал, что под кустом нашел! — чуть не плача крикнул Тараска.
— Под кустом, под кустом... Заладил свое...
Рябой сел, забарабанил пальцами по столу. История, конечно, темная. Может, мальчишка и не врет. Конечно, это не сорок первый год — тогда всякого добра было везде набросано, а сейчас каждая корка — подобрана. Может, партизаны какой склад откопали, а все унести не могли, припрятали.
Тогда все равно за этим местом понаблюдать надо, придут, голод не тетка. Надо мальца попытать, чтобы указал тот куст, да сделать у него засаду.
— Вот что, малый. Чтобы мы тебя в комендатуру не водили, покажи нам тот куст, под которым те банки сховал кто-то. Только без обмана. Тогда и банки оставим тебе, жалко нам что ли...
— Чего его, Макар, уговаривать! — Кутура, которому это топтанье на месте надоело, — опять перешел к решительным действиям. — Берем его, да к старшому. Пускай тот решит...
Рябой пропустил мимо ушей высказывание своего напарника.
— Так покажешь нам куст?
— Не помню я, — захныкал Тараска.
— Ну как так «не помню». Доведись до меня, так я бы на всю жизнь то место запомнил. И чего тебе бояться? Покажешь, и гуляй до матки. И тушенку свою ешь.
Матери слова рябого показались убедительными. Она тоже принялась уговаривать сына.
— Так покажи, сынок.
Тараска понимал, что если он покажет первый попавшийся куст, проку от этого будет немного. Полицаи сразу поймут, что он их обдурил... Надо, чтобы хоть трава примята была.
Понимал Тараска отлично однако и то, что поиски несуществующего куста помогут оттянуть время. А там, может, Серьга появится...
Мальчик принял вид сосредоточенно думающего человека, и даже лоб почесал для пущей убедительности.
Кутура не выдержал паузы.
— Ну, вспомнил?
— Не... Я когда в лес зашел, солнце только-только поднималось...
— Ты брось крутить, оголец! Как бы ты в темноте тушенку заприметил?
— Да дуру он гонит! — вмешался опять Кутура. — Нету моего больше терпенья. Тягаем его к старшому.
И Кутура схватил мальчика за ворот рубашки.
— Сыночек, да скажи ты им! — запричитала, мать, но полицаи ее и слушать не стали. Кутура поволок сопротивлявшегося Тараску, а Рябой оттолкнул цеплявшуюся за него мать.
— Я не помню! — сквозь плач кричал мальчик.
— Вспомнишь, как миленький, — злорадно предсказал Кутура. — У нас и не такие язык развязывают!
Мать заплакала, бессильно опустившись на скамейку, потом рванулась снова вслед за сыном, но Кутура отшвырнул ее. Тараска стукнул что было силы полицая головой в живот, хотел вырваться, но получил такой удар по шее, что утратил всякую способность к сопротивлению и уже покорно поплелся за своими врагами.
Старшого дома не оказалось. Кутура и Рябой до его появления, — а он обещался, как сказали домашние, — быть скоро, заперли Тараску в амбар, крепкий, из толстых кругляков, уже не раз выполнявший функции тюрьмы.
В амбаре было темно. Свет проникал только в неширокую отдушину, прорезанную в бревне. Отверстие было так мало, что в него могла пролезть только рука. Тараска влез на бочки и заглянул в отверстие. Кроме веток двух яблонь, ничего не было видно. Потолок в амбаре был сколочен из крепких широких досок, уходящих под углом кверху и сходившихся там наподобие шалаша. Выбраться через потолок нечего было и думать. Мальчик присел на бочку.
И тут он услышал голос брата.
— Тараска, ну что ты, оглох или уснул там?
Тараску словно пружина подбросила.
— Серьга, я здесь! — сдавленным голосом вскрикнул он и в какие-то доли секунды подскочил к отверстию в стене.
Брата однако видно не было. Тараска даже решил разочарованно, что все это ему приснилось. На всякий случай позвал еще:
— Я здесь, Серьга!
— Знаю, — послышался глухой ответ. — Не кричи громко, а то услышат. Рассказывай, что с тобой приключилось. Мама плачет, про какую-то тушенку твердит, я так ничего и не понял...
— А как ты узнал, что я здесь?
— Нюрка бабки Авдотьи видела, как тебя полицаи вели. Она и сказала, когда я из Щербиничей пришел.
— Серьга, слушай! — срывающимся голосом заговорил Тараска. — Я в лесу погреб нашел, в нем столько всякого добра — ужас! И консервы, и ящики какие-то, и одежда. Я взял немножко тушенки, так полицаи меня зацапали. Откуда они узнали что я банки принес?
— А про склад они чего знают?
— Ничего не знают, я не сказал...
— А сам-то запомнил то место?
— А как же!
— Ну, говори где, только тихо...
— Не поймешь ты, Серега. Там ничего приметного нет, хотя и от деревни недалеко. Так запрятано, что и подумать никто не может...
— Ладно, сиди, мы тебя выручим. Я сейчас к партизанам рвану. А ты про погреб как можно дольше не говори. Если в комендатуру поведут, пообещай показать. Да только подольше ищи. Поводи их подольше по лесу.
* * *
Бузу, старшего полицая, Кутура нашел у деда Костерки. Буза встретил его без восторга — знал, что подчиненный без дела искать не станет. Но, увидев извлеченную Кутурой из кармана банку тушенки, сразу переменился.
— Что это? Откуда? — крутя банку в руках, принялся старшой расспрашивать. — Надо же, советская, довоенная...
— Натальин выродок из лесу принес. Говорит, нашел. Ну мы его пока в амбар заперли — похоже врет.
Бузу банка заинтересовала до крайности. Он крутил ее, подбрасывал в руке, без конца рассматривал этикетку, словно что-то вспоминая.
— Говоришь, в амбар заперли? — рассеянно спросил он. — Это хорошо...
Банки воскресили в его памяти день... Возможно, в этой банке ключ к загадке, которая мучит его уже два года...
* * *
Было то осенью сорок первого. В село пришел из Щербиничей Пантелеймон. Все дивились на его чудную одежку: черная форма, белая повязка на рукаве, на груди автомат. Тогда-то все услышали слово «полицай».
— Я есть представитель германской власти, — хвастливо объяснял всем Пантелеймон. — И у вас будем брать самых достойных в полицаи...
Прошлое у Пантелеймона было темным. Но автомат, болтавшийся на его шее, невольно внушал, если не уважение, то страх.
Потом стала ясна цель прихода Пантелеймона. В его задачу входило создание полицейской группы в селе.
Уговорить ему удалось четверых. Пантелеймон соблазнял благами и преимуществами, которые будут у полицаев по сравнению со всеми прочими, а главное — грозил:
— Не видите, как немец прет! Такая силища. Советской власти капут. Кто с немецким командованием соглашаться не будет, того — фьють!
...Выехали поутру на телеге, запряженной двумя лошадьми. Пантелеймон велел вести себя тихо: в лесах полно выходивших из окружения вооруженных советских солдат, а немцы, стремясь на восток, только в крупных населенных пунктах оставляли более или менее многочисленные гарнизоны.
— Жахнут из пулемета — и амба, — поучал Пантелеймон.
Двигались поэтому, по возможности не производя шума, сами чутко ловя ухом каждый посторонний звук. Изредка, правда, фыркали лошади, да поскрипывали колеса телеги.
Выросший в лесу, Буза различал любой шорох. Именно ему почудился в глубине лесной чащи какой-то неясный металлический не то скрежет, не то стук. Остальные однако ничего подозрительного не услышали. Остановили лошадей, долго прислушивались.
— Почудилось, — махнул рукой трусоватый Егор: ему не хотелось углубляться в сторону от дороги ни на шаг.
Но Пантелеймон цыкнул на него. Вполголоса отдавая приказания, он распределил группу так, чтобы двигаться на посторонний звук с разных сторон. Лошадей привязали к дереву у обочины дороги.
Буза оказался в центре вместе с Пантелеймоном. Медленно, бесшумно крались они сквозь чащобу, стараясь не сломать ни сучка. И вдруг Буза, шедший чуть впереди, замер: прямо перед ним виднелись неясные очертания кузова машины. Она не могла быть немецкой: чего фашистам ховаться по лесам? Пантелеймон показал Бузе рукой, чтобы тот затаился. Но Буза и сам боялся шелохнуться.
От машины теперь не доносилось ни звука. Похоже, что она была брошена. Может, пацаны какие по ней лазали?
Бесшумно продвинувшись еще на несколько метров, полицаи снова остановились.
— Эй, кто тут есть, выходи! — вдруг громко выкрикнул Пантелеймон.
Молчание.
Затаились и те, что двигались к машине с боков.
Никто не ответил и на повторный окрик старшого.
Тогда Пантелеймон закричал что было голосу:
— А ну окружай. Гранаты к бою!
И одним броском преодолел расстояние, отделявшее его от машины.
Ломая кусты, подбежали все остальные.
Взглядам их представилась довольно потрепанная полуторка. Обошли машину кругом.
Лобовое стекло кабины было изрешечено пулями. Сиденье залито кровью. Следы пуль имелись и на бортах. Однако ни живых, ни мертвых около машины не было. Заглянули в кузов. И тут возглас восхищения вырвался у всех: машина до бортов была загружена добром, представлявшим по военному времени немалую ценность. Полицаи лезли в кузов, ворошили товары, перебрасывались радостными репликами. Тут была и одежда, и коробки с часами, дамскими украшениями, и консервы, мешки с сахаром, и еще какие-то ящики...
Но Пантелеймон, как самый опытный, первый разглядел мешки и ящики среди меховых шуб. Пока другие определяли, золотые или нет кольца, цепочки и брошки, он распорол ножом один из бумажных мешков с сургучными печатями. Пачки советских денег посыпались из широкого разреза...
— Эй, там! Ничего не трогать, в карманы не совать! — прикрикнул Пантелеймон на своих помощников. — Все подлежит сдаче немецким властям.
— Ну уж ежели по колечку возьмем, да по часикам, немецкие власти, не обедняют, — недовольно пробурчал Басарыга, самый пожилой из труппы.
— Я те покажу! — потряс кулаком в воздухе Пантелеймон. Но сделал он это явно для острастки. Он прикидывал про себя, имеют ли сейчас ценность советские деньги для него лично, и стоит ли их прибрать к рукам. А, может, есть что-нибудь более существенное в этих мешках, кроме бумажек? Деньги, судя по всему, из банка, а ведь там хранятся не только ассигнации. Наверняка, было там кое-что поценнее этих побрякушек из универмага, хотя и они тоже не помешают. Вот только народу слишком много всю эту картину наблюдает...
Пантелеймон, крикнув еще раз своим головорезам, чтобы ничего не пихали по карманам, снова принялся ощупывать мешки с сургучными печатями. Так и есть! Глухое звяканье, которое раздалось в брезентовом мешке, вселило в его душу надежду.
Но монеты оказались медными. «Кой черт их пихал в машину!» — выругался про себя Пантелеймон. В лихорадочной спешке он протыкал мешок за мешком. Серебрушки, медь, серебрушка... Ага! Советские серебряные рубли и полтинники чеканки двадцатых годов наполняли целый мешок. Самый маленький мешочек с самым большим числом печатей, наклеек и шнуров, заставил сердце Пантелеймона радостно дрогнуть. Вот оно!
И тут же ощутил на себе чей-то взгляд. Буза следил за действиями своего старшого. Пантелеймон встретился с его взглядом, отвернулся. Нарочито небрежно сунув заветный мешочек поглубже, он сказал хрипло:
— Ну чего, хлопцы, робить будем? Кто из вас шоферить может?
— А чего тут шоферить, когда баки пробиты и бензин весь вытек, — промолвил молчавший до сих пор хмурый Лысюк. — На этой машине далеко не уедешь...
— Вот что, хлопчики, — заговорил Пантелеймон. — Давайте толканем машину. Нас пятеро, приналяжем, да вытолкаем ее на дорогу.
Расчет у Пантелеймона был прост: надо, чтобы все собрались в кучу, а потом рубануть по ним, безоружным, из автомата...
Когда все слезли и собрались у заднего борта, он тоже выпрыгнул из кузова, поправил на шее «шмайссер».
— Сейчас я дорогу пошукаю.
Буза, стоявший у колеса, проводил старшого настороженным взглядом. И вдруг страшный удар поверг его на землю — больше он ничего не помнил...
...Пантелеймон успел лишь отойти за кусты, росшие впереди машины, как рванули один за другим три взрыва.
Старшой ничком ткнулся в траву, боясь поднять голову. Нет, как будто не ранен. Машина и кусты закрыли его от осколков. Что же это взорвалось? Заминирована была полуторка? Но почему три взрыва? Да и слабоваты для мины. Скорей всего ручные гранаты. Но кто их бросил? Значит, это засада?
Подниматься Пантелеймон не торопился. Выжидал. Он слышал стоны своих сподвижников, но на помощь им не спешил. Гадал: заметили ли его? Потом, стараясь не шуметь, отполз так, чтобы видеть машину сбоку. Какая-то фигура появилась из-за кустов. Так вот кто бросил гранаты!
Пантелеймон взял автомат наизготовку, оттянул затвор. Он видел, как неизвестный подошел к машине, осмотрелся, махнул кому-то рукой. Вышел еще один, остановился, разглядывая убитых. До старшого донеслись обрывки тихого разговора: говорили по-русски. Не раздумывая больше, Пантелеймон нажал на спуск. Автомат его захлебнулся от длинной очереди. Двое пришельцев упали.
Минут сорок лежал, наверное, Пантелеймон, боясь пошевелиться. Было тихо. Стихли и стоны полицаев. Старшой не сомневался, что пули его автомата тоже посодействовали этому... Впрочем, он не опасался, что заденет своих — специально взял пониже — оно даже и лучше, возни меньше... В мозгу стучало: или они видели, как я уходил, или... Да нет, не полезли бы тогда под пули...
Соблюдая все предосторожности, Пантелеймон поднялся. Сменил магазин «шмайссера» и, держа его на боевом взводе, с опаской пошел вперед: а вдруг и в него уже целятся? Но как магнитом его тянуло к мешкам с печатями.
У машины ой увидел изуродованные тела своих бывших подчиненных. Беглого осмотра было достаточно, чтобы убедиться, что все они мертвы. Не подавали признаков жизни и незнакомцы. Он оглядел их: один был в форме лейтенанта НКВД, другой — в штатском. Штатского очередь прошила насквозь, у лейтенанта пулевое отверстие виднелось под глазом. Больше всех уцелел Буза: похоже что ему перебило ноги, да осколки, видимо, довершили дело.
Пантелеймон долго не раздумывал. Убитых здесь оставлять нельзя: надо же доказать начальству, что все они погибли. Да и родственники будут допытываться: где тела? А как скажешь: где? Везти посторонних к машине Пантелеймону вовсе не хотелось: слава богу, от одних нежелательных свидетелей отделался...
Трупы — это потом. Прежде всего, он вытащил заветный мешочек, потом собрал коробки с драгоценностями и часами из универмага, сложил все в мешок и унес в телегу. Замаскировал сеном, потом принялся за неприятную работу.
Прежде всего, оттащил в лесок тела незнакомцев, забросал травой, ветками. Документы их его не интересовали. Точнее, уж очень он торопился: а вдруг кто еще нагрянет?
Не всякий бы смог так хладнокровно возиться с останками своих бывших товарищей, но Пантелеймон был прирожденный мясник. Уголовник в прошлом, он спокойно убивал любым оружием, не испытывая при этом никаких эмоций. А сейчас его волновало только одно: как припрятать от всех машину...
Ничего этого Буза знать, конечно, не мог. Его сразу же оглушило взрывом, осколок перебил сухожилие на ноге. Но если бы Пантелеймон не спешил так, он бы понял, что кровь на одежде Бузы, главным образом, — чужая кровь. Он был в глубоком шоковом состоянии и не очнулся даже, когда его вез старшой по тряской дороге... Причитавшая родня уволокла Бузу домой, тоже почитая за мертвого, и только глубокой ночью жена, припадая с рыданиями к груди кормильца, обнаружила в ней слабое биение жизни.
Пантелеймон, развезя трупы по дворам и объяснив все нападением «красных бандитов», уехал в Щербиничи. Поэтому пришлось бежать за лошадью к старосте. Это, впрочем, было для Бузы и лучше: с Пантелеймоном он вряд ли доехал бы до госпиталя...
Полтора месяца провалялся Буза на больничной койке. Врачи вынули из него с десяток мелких осколков, срастили ногу, хотя она и осталась короче, словом, отремонтировали.
Попытки разузнать что-либо у окружающих ни к чему не привели: о машине никто ничего не слышал. Правда, Буза выяснил все же, что Пантелеймон жив и верой-правдой служит германским властям. Он немедленно навестил своего сподвижника в больнице, как только раненый пришел в себя.
Пантелеймон рассказал Бузе, что у машины была засада, что всех убили, а вот они двое уцелели, что он, Пантелеймон, привез своего бездыханного товарища в село. «Красных бандитов» ему удалось уничтожить, а машину с продуктами и другими ценностями в цельности и сохранности передать германскому командованию.
Не сказал своему подчиненному старшой только о том, что в тот же день он перетаскал все добро из машины в воронку, замаскировал все хвоей, потом почти целый месяц копал колодец в лесу и потихоньку, по ночам, перетаскивал содержимое полуторки в свой тайник. Надежно запрятал он там золото, драгоценности, серебро — ничего не оставил дома, чтобы не обнаружить себя. Потом все пригодится — чем бы ни кончилась война...
Чувствовал Буза, что врет старшой, да не в его положении было сейчас «возникать» против начальства. «Вот выйду, тогда прижму гада, — думал Буза. — Могу ведь у властей справки навести: сдал ценности Пантелеймон германскому командованию или нет?»
Навести справки Бузе не пришлось. Точнее, смысла не было: Пантелеймона поймали и повесили партизаны. А его, Бузу, сделали старшим на селе...
Вот какие воспоминания вызвала у Бузы банка тушенки. Ему не терпелось взять «за зебры» пацана, чтобы узнать, где он что нашел.
До лагеря партизанского отряда от деревни было километров двенадцать. Сережа не шел — бежал почти, да так, что порой перехватывало дыханье, кололо в боку. Но сознание того, что Тараска в опасности, что полицаи могут его сдать в гестапо, подстегивало его.
С партизанами же Тараскиного брата связало одно событие. Еще два года назад, в самом начале войны. В те дни, когда из леса приходили, прокрадываясь, приползли в деревню одетые в советскую военную форму люди. Они стучались по ночам в крестьянские избы, просили хлеба, спрашивали дорогу, наскоро перевязывали раны и уходили в темноту. Задерживаться боялись: кругом враги. Раненые тоже не оставались. Уносили даже тех, кто не мог идти: все предпочитали погибнуть в неравном бою, но не попадаться в плен...
Осенью, перед рассветом, в окошко избушки бабки Авдотьи, стоящей третьей с краю, кто-то робко поскребся.
Увидев бледное, прильнувшее к стеклу лицо, бабка не испугалась: такое ли пришлось повидать в те дни...
— Хлебушка поди надо? — участливо спросила бабка, выйдя в сени. И не услышав ответа, приоткрыла дверь.
Человек, как и ожидала бабка, был в нашенской военной форме, и, сразу видать, не в солдатской, хоть и грязной. Не шибко разбиралась старая в воинских званиях, а то, что начальник это — поняла. Обличьем, и одеждой уж больно напоминал ночной пришелец уполномоченного НКВД из района, который приезжал как-то к ним в деревню.
— Хлебушка вынести? — повторила Авдотья.
— Не надо, мать, — сказал незнакомец. — Я тут у вас бывал до войны, из милиции, из района... Скажи, люди верные у вас в селе остались?
— Как не остаться, — усмехнулась бабка. — Да ведь кто их знает, где они...
— Ну ведь ушел же кто-нибудь из ваших в лес...
Авдотья промолчала.
— Я ведь почему к тебе пришел? Меня, может, ты вспомнишь, я тут у вас выступал как-то раз.
Помнила бабка Авдотья. Но в такие лихие времена как довериться незнакомому человеку? Может, он и в милиции специально подсажен был. Чего вот ему тут надо? Люди воюют, кровь проливают, а он по ночам шастает в деревне, где всякой погани хватает. Или убежать не успел?
— Дело, мать, большой важности, — продолжал настаивать гость. В голосе его не было просительной нотки; он требовал, почти приказывал. — Большие государственные ценности в опасности, а мне без помощи людей ничего не сделать. Все врагу достанется.
Бабка соображала, прикидывала.
— Сховайся пока в сарае, — наконец решилась она. Сняла с гвоздя полушубок. — Промерз поди? Погрейся. А я схожу до одного человека...
Ефим Макарович, председатель сельсовета, уходя из деревни, сказал Авдотье, как бы ненароком:
— Если какая нужда будет — с дедом Лобовым поговори. Он старик мудрый...
Авдотья смекнула тогда, что не случайно так сказал председатель. Видно, советская власть все равно останется и будет хоть тайно, незримо, но существовать на брянской земле.
Дед Лобов пришел скоро. Энкеведешник спал, завернувшись в полушубок и прислонившись к стене сарая. Проснулся он мгновенно.
Говорили они с дедом недолго. Потом дед ушел, и до вечера во дворе бабки Авдотьи никто не появлялся. А как стемнело, пришел Сергей. Энкеведешник уже ждал: дед Лобов пообещал, что пришлет мальчика. Сергей с любопытством разглядывал, насколько позволили сумерки, незнакомого человека. Дерюжка, дарованная бабкой, скрыла гимнастерку и галифе (хромовые сапоги бабка спрятала, выдав разбитые чуни), лоб и чуть не пол-лица скрывал невесть откуда вытащенный грязно-рыжий пыльный треух. Выступившая щетина делала лицо пришельца неузнаваемым. Похож он был на бродягу.
Дед Лобов велел Сергею отвести гостя в Щербиничи, там разыскать Ефима Макаровича (а как разыскать, сказал), но на квартиру гостя не водить, а оставить в леске. Пусть Ефим Макарович сам распорядится, как быть насчет места встречи...
Сергей сделал все как было велено. Шли лесом, дорогой почти не разговаривали. По дедовым указаниям Сергей нашел Ефима Макаровича, передал все, что просил дед. Ефим Макарович расспросил, где, в каком месте оставил Серега неизвестного, и услал мальчика домой.
— Иди, и чтобы ни одна душа тебя не видела. И ни гу-гу. Никому! А мы тут сами разберемся.
Своего ночного спутника Сергей в следующий раз увидел в партизанском лагере уже весной следующего года. Он его было и не узнал: в телогрейке под ремень, в шапке со звездочкой, с кобурой на боку.
Уж после он узнал, что незнакомца звали Иван Фомич, оказалось, родом он с Урала, а вот уже несколько лет — его, Серьгин, земляк. Иван Фомич, как выяснилось, был комиссаром отряда. Он велел Серьге заходить к нему всегда запросто, и мальчик привязался к этому веселому, всегда доброжелательному человеку.
Именно о нем он думал сейчас, стремясь как можно скорее попасть в партизанский лагерь. «Иван Фомич поможет выручить Тараску! Он в беде не оставит...»
— Стой!
Негромкий окрик откуда-то сбоку прервал Сережины размышления. Он даже вздрогнул.
— Куда разбежался? — улыбаясь спросил круглощекий парень, поднявшийся из-за кустов. Автомат болтался у него на шее, на кепке — красная лента.
Парень был знакомый. Сергей знал — его звали Саней.
— Ловко я тебя подловил? — стоял, продолжая улыбаться, довольный Саня. — У нас даже уж не проползет. Вот как!
— Дядя Ваня в отряде?
— Иван Фомич? Вроде бы на месте был. Что за дело у тебя к нему?
— Да есть дело... Ну я пойду? — полуспрашивая, полуутверждая, сказал Сергей.
— Валяй! — махнул рукой Саня. — Чеши живей!
Иван Фомич разговаривал о чем-то с пожилым партизаном. Они стояли у телеги, на которой свалены были вперемешку немецкие мундиры, ящики, чемоданы, сумки.
— Дядя Ваня, Тараску полицаи... забрали, — задыхаясь проговорил Сергей.
И сбивчиво начал рассказывать. Лицо Ивана Фомича враз посуровело.
— Ну-ка не спеши. Давай по порядку, да поподробней.
— Тушенка, говоришь? С советской наклейкой? Интересно... — проговорил Иван Фомич, когда Сережа закончил свой рассказ. Он вдруг крепко взял Серьгу за руку.
— А ну-ка, давай пойдем к командиру.
Командир отряда «Батька Матвей» в своей землянке что-то «химичил» над схемой дорог района.
Он еще был во власти занимавших его мыслей, и не сразу «врубился» в смысл сказанного Иваном Фомичем.
— Какая тушенка? Какой мальчик? При чем тушенка?
— Слушай, Матвей, — заговорил Иван Фомич как-то жестко, — тут дело очень серьезное. — Мальчонку, само собой, надо выручить. Но ты не знаешь, какая тут подоплека. Я тебе как-то не успел обо всем этом рассказать. Тебя тогда еще в отряде не было...
...Немецкие самолеты уже хозяйничали в небе, как у себя дома. Городок содрогался от взрывов, хотя бомбить, собственно было нечего. Капитан НКВД Иван Фомич Олин вошел к начальнику районной милиции майору Кизерову, когда тот что-то горячо говорил в телефонную трубку.
— Как нет машины? Я же послал! И машину, и охрану. Да что они, обалдели?.. У меня нет больше ничего. Свою «эмку» я отдать не могу: нам свои документы надо вывезти...
Он устало смахнул пот с лица.
— Погоди, — сказал он телефонному собеседнику, — сейчас чего-нибудь придумаем.
Прикрыв ладонью микрофон, Кизеров заговорил, глядя в лицо Ивана Фомича.
— Слушай, Иван... Дело такое. Я хотел тебе другое поручение дать, но тут поважней...
Кизеров отвел глаза.
— Понимаешь, я в банк полчаса назад машину послал, чтобы вывезти ценности, а директор звонит, говорит никого не было. Что делать, а? Машин у меня нет. Моя «эмка» мне самому нужна — у нас ценней бумаги, чем их кругляшки. В горкоме и горисполкоме нет уже никого — все выехали. Там Коля сидит, ждет моих распоряжений. Забирай его, берите, что найдете из оружия, там, по-моему штук пять гранат оставалось... Берите любую машину, мандат тебе не нужен, сейчас мандат вот он...
Кизеров похлопал себя по кобуре пистолета. Потом, понизив голос, сказал:
— Там, понимаешь, деньги... И золото...
Олин хотел было как обычно сказать: «Есть!», но Кизеров встал, порывисто обнял его и проговорил хрипло:
— Ну, Ваня, давай! Не знаю, когда еще свидимся. Сам видишь, дела какие... Попытайся спасти банк. А у меня, сам понимаешь, забот еще много... Семью-то отправил? Ну, слава богу.
Он порывисто пожал Олину руку и снова схватился за телефон.
А Иван Фомич разыскал Колю, молодого лейтенанта НКВД, взяли у начхоза, который уже навешивал бесполезный замок на бесполезный теперь склад, пять штук гранат...
— Гляди по сторонам, — сказал Олин. — Любую машину хватаем...
Полуторку они увидели у магазина. Двое людей таскали какие-то ящики, впопыхах забрасывали их в кузов. Олин узнал Григорьева, директора торга.
— Геннадий Поликарпович! — крикнул Олин сходу. — Кончайте самодеятельность...
— Чего? — недовольно уставился тот, утирая пот со лба. — Тут, знаешь, ценностей сколько.
— Есть и поценнее! — проговорил Иван Фомич, и заглянул в кузов. — Тушенка тут... Вот ценность...
И он остро почувствовал, что с утра ничего не ел.
— Да что тушенка! — начал горячиться Григорьев. — Это так, по ошибке начали в продовольственном отделе хватать... А у меня драгоценности, меха...
Олин заговорил решительно и веско:
— Меха мехами, а в банке деньги лежат... и золото...
— У меня тоже ценности, понимаешь! — почти закричал Григорьев.
— Слушай, Геннадий Поликарпович, времени для дискуссий у нас уже не осталось. Я беру машину, и если хочешь, использую для этого власть.
Олин смотрел на директора магазина так, что тот кое-что понял...
— Ну, хоть меха-то вынесем, — сразу сбавил он тон. — Часы, драгоценности мы погрузили, но ведь еще меха...
Он как-то жалобно глянул на капитана.
— Ну давайте, только быстрее...
Директор сел в кабину, Олин и Коля устроились в кузове на ящиках.
— К банку! — коротко приказал Олин шоферу.
И тут, огибая клумбу, они увидели такое, отчего кровь захолодела в жилах. Их милицейский фургон лежал опрокинутый, искореженный. Такое бывает при прямом попадании бомбы...
Помогать тут было некому. Это видно сразу.
«Вот почему никто не приехал к банку», — мелькнуло у Олина...
Ивин, директор банка, уже стоял на крыльце.
— Ну что же вы, — почти простонал он. — Ведь немцы вот-вот будут...
Забросить несколько мешков было минутным делом. Иван запрыгнул в кузов.
И они помчались. Хмурый, испуганный шофер жал на всю железку. Город скоро оказался позади.
Ехали проселочной дорогой. Олин знал, что в одном месте придется пересечь шоссе. И с тревогой думал: а вдруг немцы уже там. Он хотел было остановить машину, и опасный участок проехать с оглядкой. Но не успел. Все получилось внезапно. Когда машина вырвалась на шоссе, откуда-то сбоку вывернулся перед ними фашистский мотоцикл.
Немцы привыкли действовать, не размышляя. Пулеметная очередь ударила в кабину. Полуторка ткнулась в кювет, застыла,урча мотором.
Доли секунды хватило Олину и Коле, чтобы понять, что к чему. Две гранаты, полетевшие из кузова, не только опрокинули мотоцикл, но и навсегда успокоили его хозяев.
Олин выпрыгнул из кузова. И шофер, и Григорьев были мертвы. Мотор машины, захлебываясь, еще урчал: водитель, видимо, падая, держал носок ноги на акселераторе...
Олин, Коля и директор банка быстро перебросили убитых в кузов. Иван Фомич бросился на сиденье, залитое кровью, дал задний ход и вырулил на дорогу, надавил на газ. Радиатор чадил. Через две-три минуты понял: мотор едва тянет, машина получила свое от пулеметной очереди. И круто свернул на поляку. Едва он завернул за кусты, мотор заглох. «Приехали», — невесело подумал Олин.
Осмотр машины показал: ехать больше было нельзя. Кроме пробитого радиатора, изуродованы были передние колеса, пули прошили бензиновые баки.
Починить неисправности нечего было и думать.
Совещание было недолгим. Олин, как старший, велел Григорьеву и Коле тихо подготовить яму, чтобы закопать самое ценное.
— А я в село схожу. Людей я здесь в этом районе знаю, они помогут... Если ничего не выйдет — кое-что унесем, кое-что зароем, остальное — сожжем...
Иван Фомич ушел. Он хорошо продумал, к кому обратиться. Авдотья Тимофеевна была в его представлении самым надежным человеком.
Он не ошибся. Бабка Авдотья свела его с нужным человеком. Мальчик отвел его в Щербиничи, человек, вышедший на встречу, собрал группу, но... было поздно.
Прокравшись на рассвете, Иван Фомич и его помощники обнаружили: машина была пуста, в кустах лежали забросанные хвоей тела Коли и Григорьева...
Все это рассказал Иван Фомич «Батьке Матвею».
— Тут не просто Тараска с его банками, — сказал Иван Фомич, порывисто поднимаясь. — И Тараску, конечно, выручать надо, но тут дело посерьезней. Я понял тогда еще, что кто-то разгрузил машину. Но кто? Не похоже, чтобы это были немцы... Тогда-то я и решил остаться в этих краях: а вдруг удастся напасть на след пропажи? Ведь кто-то все это прибрал к рукам. И вот эти банки... Ясно, что мальчик, обнаружив тайник, взял то, что его больше всего привлекло: консервы.
Полицаи заставят его повести к тайнику. Мальчик долго не выдержит: это же звери! Сергей примерно знает, где это. Вот там и надо устроить засаду...
Через полчаса полтора десятка бойцов во главе с Олиным вышли из лагеря. Серьга повел их по Тараскиным ориентирам. Еще десять человек пошли в деревню — это на случай, если Тараску все еще держат в амбаре.
Буза не собирался вести Тараску ни в какую комендатуру. Он сам был вроде гестапо. Умел не хуже однопогонников в черных мундирах развязывать языки. Тараску он так резанул ремнем по ребрам, что тот взвыл.
— Говори, где взял банки? Не скажешь, весь ваш род изведу.
Тараска твердил слова:
— В лесу, под кустом.
— Под кустом, говоришь? Вот тебе за «подкустом»...
Буза схватил Тараску за волосы и наотмашь принялся хлестать его по лицу.
— Скажешь? Или я тебя за ноги, да об угол головой?
— В лесу... — прошептал мальчик.
— Что в лесу? Говори! Что там? Тайник?
Тараска кивнул.
— Вот так бы давно, — с удовлетворением сказал Буза. — Показывай, где это.
Он отдал приказ запрягать лошадь, взял оружие.
— Да патронов побольше. Лес он и есть лес... Там всякое бывает.
Тараску положили на телегу. Он сопел разбитым в кровь носом и пытался придумать, что ему предпринять. Где сейчас Серьга? Дошел ли он до партизан? Ведь убьют, гады, если не покажешь.
Дорога, по которой можно было ехать, кончилась. Лошадь привязали к дереву, пошли пешком.
Тараска на всякий случай пошел в сторону от запримеченного места. Буза перехватил худенькую талию мальчика узким ремешком, другой конец намотал на руку — еще сбежит, оголец...
Мысли полицая занимал тайник. Он чуял, что нажива будет большой. Так это кстати сейчас, когда немцы бегут, когда Советы давят как никогда. А с золотишком можно везде устроиться. Пантелеймон знал, что делал...
Тараска не торопился: детским своим умишком он понимал все же, что время работает на него. Чем дольше он будет водить полицаев за нос, тем больше шансов выжить...
Буза заподозрил неладное.
— Ты, гаденыш, нас не морочь. Сейчас на этом ремне вздерну на первом же суку.
— Не могу найти, — захныкал Тараска.
— Найдешь! — Буза дал мальчику подзатыльник, от которого тот полетел на землю.
— Или ты покажешь, или тебе домой больше не возвернуться, — пригрозил Буза.
Но Тараска тоже смекнул, что, если полицай его убьет, то тайника им не видать.
И неожиданно для самого себя вдруг выпалил:
— Если будете драться, вовсе ничего не покажу...
Буза попробовал изменить тактику.
— Ну, а ты подумай, — сказал он почти ласково. — Подумай хорошо. Мы ведь себе не все возьмем, тебе тоже ой сколько достанется!
— Мне надо зайти с той стороны, с которой я заходил. Тогда я лучше пойму.
Посоветовавшись, полицаи согласились. Пришлось опять выйти из леса. Потом пошли тем путем, который действительно проделал Тараска утром. Вот и воронка, в которой он нашел штык. Вот и дерево, где первый раз увидел он белку.
Тараска понимал, что риск очень велик: он невольно может выдать свою нелегкую тайну. Но шел, повинуясь неведомому инстинкту: все равно партизаны должны быть где-то поблизости...
До тайника оставалось совсем немного, как лесную тишину разорвала автоматная очередь. Полицаи попадали в траву.
— Бросай оружие! — раздался грозный оклик.
Рябой и Кутура кинули свои автоматы в ту сторону, откуда донеслось приказание. Но Буза, который шел позади, отполз, таща Тараску, а потом метнулся в сторону. Выхватив «Вальтер» и подняв высоко Тараску, он выбежал на поляну и закричал:
— Если вздумаете подойти, пристрелю мальчишку!
* * *
Сергей вел отряд к тому месту, которое описал Тараска. Он снова почти бежал, так что взрослые еле за ним поспевали. То и дело тыкался лицом в паутину, с отвращением сбрасывал ее, но упорно шел и шел...
И тут ему послышалось, что впереди кто-то громко выругался. Серьга вцепился в рукав шедшего за ним Ивана Фомича. Все замерли.
И отчетливо донесся до партизан голос Бузы:
— Ну, вспомнил?
Они шли, не опасаясь, как хозяева: уверены были, что партизан поблизости нет. И как только полицаи показались, Иван Фомич дал очередь из автомата над их головами...
Маневр Бузы привел всех в смятение. Прикрываясь мальчиком, полицай уходил все дальше и дальше. Положение становилось критическим. Любое неосторожное действие могло привести к непоправимым результатам. Все понимали: такие, как Буза, впустую грозить не станут...
Буза, оторвавшись от преследователей, ринулся к тому месту, где оставил лошадь. Мальчика он бросил на плечо и бежал, хромая, не оглядываясь. И хотя партизаны преследовали его по пятам, у Бузы было одно преимущество: угроза лишить ребенка жизни давала ему большой козырь...
Старшой добежал до телеги, бросил мальчика на дно ее, стал лихорадочно прикручивать ремешок к телеге. Он не успел выпрямиться, как страшный удар обрушился ему на затылок...
В лихорадочной спешке Буза не посмотрел хорошо на кустарник у дороги, росший рядом с деревом, к которому была привязана лошадь. Да и если бы посмотрел, то вряд ли бы заметил двух партизан, сховавшихся у самой телеги. Эту засаду оставил на всякий случай «Батька Матвей», который повел вторую группу в деревню. Партизаны наткнулись на подводу, хотели было забрать ее, но решили, что это — неспроста. Тогда командир велел двоим остаться и ждать до возвращения группы из деревни. Предосторожность «Батьки Матвея» оказалась очень кстати...
* * *
...Телега тоже пригодилась. Целый день возили и таскали партизаны добро из тайника. Тараске удалось-таки отведать найденной им тушенки. Но мальчика из лагеря решено было больше не отпускать: фашисты, и новые полицаи, понятно, докопались бы до сути. Да и матери пришлось
уйти из деревни: кое-какие слухи о загадочных консервах все же просочились.
А «Батька Матвей» хоть раз да отозвался с похвалой о полицае: аккуратный был, хозяйственный мужик покойник Пантелеймон: ничего не пропало, все в цельности ,и сохранности сберег...

Лучезар Станчев
Неверный шаг
1
Трифон Йотов сосредоточенно следил за экраном компьютера. Ожидая окончательных результатов вычислений, он настолько увлекся работой, что позабыл обо всем на свете. Меж тем стало темнеть, и он широко распахнул двери балкона. В кабинет ворвались звонкие голоса. Особенно выделялся один, в котором Йотов узнал смеющийся голос младшего сына — четырнадцатилетнего Румена. Веселый мальчишка, его Румен! Трифон любил выходить на балкон и, облокотившись на перила, наблюдать за жаркими баталиями, разворачивавшимися внизу. Но сейчас он сразу же вернулся к столу, где были разбросаны листки с расчетами. Йотов уже давно работал над новой схемой усилителя. Именно поэтому с таким нетерпением он ожидал решение компьютера. Когда на экране засветился результат, Йотов радостно улыбнулся. Наконец-то успех — после двух лет упорнейшего труда!
В дверь трижды позвонили. «Маргарита пришла...» — подумал Йотов и с улыбкой на лице поспешил в коридор. Но вместо Маргариты он увидел в дверях Гешевского. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина. Гешевский, с его черными усами и седой головой, давно вызывал неприязнь у Йотова. Еще с того времени, когда строился их дом. Йотов тогда вызвал мастеров, чтобы они обшили деревянными плоскостями чердачное помещение, предназначавшееся для кабинета его старшего сына Евгения, и проделали на крышу окно. Другие соседи не возражали. И только Гешевский, чье чердачное помещение было рядом с Йотовым, хотя он жил в другом подъезде, принялся строчить жалобу за жалобой, пытаясь доказать, что Йотов-де «портит фасад дома». Служитель отдела архитектуры не дал ход жалобе, так как при осмотре убедился, что окно не может портить фасад, потому что выходит во двор. С тех пор соседи перестали здороваться. А сейчас Гешевский стоял в дверях, улыбаясь, как ни в чем не бывало.
— Товарищ Йотов, вот ваш знакомый разыскивал вас в нашем подъезде...
— Совсем ты меня забыл, Трифон... Это я, Эрих. Помнишь, улицу Чепино, — заговорил незнакомец по-болгарски, но с небольшим акцентом.
— А-а, Эрих! — смутился Йотов. — Ну что ж, заходи!
Эрих переступил через порог, а Гешевский, хотя и сгорал от любопытства, пробормотал что-то вроде «до свидания» и повернул обратно.
Йотов провел гостя в кабинет.
Удобно расположившись в мягком кресле, Эрих достал сигареты.
— У вас можно курить?
— Разумеется! — Йотов поставил перед гостем пепельницу.
— А ты? Насколько я помню, ты тогда не курил.
— И теперь не курю. Не выношу табачного дыма.
...В памяти Йотова всплыло далекое прошлое. Незадолго до событий 9 сентября 1944 года, будучи студентом и страдая от нехватки денег, Йотов купил ротатор, чтобы подрабатывать размножением лекций. Он тогда снимал комнату на улице Чепино в старом двухэтажном доме дачного типа с эркерными окнами. По вечерам обычно допоздна работал. А по соседству расположился отдел картографии немецкой комендатуры. Однажды вечером к нему заглянул молодой немец, который довольно сносно говорил по-болгарски. Нельзя сказать, что его визит был проявлением добрососедских отношений, скорее это можно было назвать обыском. Эрих, так звали немца, довольно бесцеремонно потребовал показать ему лекции и даже взял «на память» несколько готовых страничек...
— Я пришел поздравить тебя с изобретением. Нисколько не сомневаюсь, что оно принадлежит тебе, но ведь у вас все общее — и как всегда указан коллектив.
— Откуда ты знаешь об изобретении? — удивился Йотов.
— Я слежу за новыми разработками в той области, в которой ты работаешь. В настоящий момент представляю одну торговую фирму...
Эрих помолчал и осторожно добавил, что если бы Йотов согласился передать ему это изобретение, его ожидало бы крупное вознаграждение...
— Ну сколько ты получишь?! К тому же ты входишь в коллектив... — выразил сожаление Эрих...
Йотов молча слушал своего гостя и ему вдруг вспомнилось, как вскоре после их первого знакомства они встретились вновь. Объявили воздушную тревогу. Трифон направился к бомбоубежищу и встретил Эриха. Тот предложил ему вместе переждать налет. Грузовик, принадлежащий немецкой комендатуре, отвез их на десяток километров от города, к реке Искыр. Они остановились в селе Петырч и зашли в корчму. Воздушная тревога продолжалась два часа. Поскольку Эрих говорил по-болгарски лучше, чем Трифон по-немецки, разговор шел на болгарском. Как бы между прочим Эрих заметил, что фюрер допустил роковую ошибку, начав войну на Восточном фронте. Трифон не верил в искренность слов своего собеседника. Ему казалось, что Эрих испытывает его. С тех пор немец зачастил к Йотову домой, даже помогал ему перепечатывать лекции на ротаторе. Он все более открыто говорил о том, что с Западной Европой Германия может справиться, но Советский Союз ей не по зубам...
— Ты знаешь, зачем я пришел? — снова спросил Эрих. — Я узнал, Трифон, что ты готовишь нечто грандиозное... Изобретение, которое будет иметь большое значение... Оно стоит больших денег. Ваша власть таких денег тебе не заплатит... — Эрих откинулся назад и снова закурил.
— Я работаю не только за деньги, — сказал нахмурясь Йотов и снова подумал: «Откуда у него эти сведения?»
— Но ведь ты и вправду работаешь над чем-то крупным? Может, у тебя даже уже все готово? Скажи откровенно — ведь мы с тобой друзья!
— Да я над многими вещами работаю — одни более важные, другие менее... Однако ,Эрих, ты кажется забываешь, что я — болгарин...
— Знаю, Трифон, знаю... Мне также известны и кое-какие подробности о твоем положении в институте. И я хочу, чтобы ты помнил: друг познается в беде! В сорок восьмом я тоже хотел тебе помочь... Однако когда я к вам пришел, ты отказался меня принять. Разумеется, тогда нужно было соблюдать осторожность... В настоящий момент я представляю солидную фирму. Так что тебе не о чем беспокоиться. Времена меняются. И, как ты знаешь, связи расширяются! Если твое изобретение, о котором я наслышан, действительно ценно и представляет интерес, в чем я уверен, то ты бы смог получить за него солидную сумму... через меня... А если ты перейдешь к нам на работу, мы обеспечим тебе прекрасную материальную базу и ты сможешь возглавить группу наших лучших специалистов. Подумай хорошенько, Трифон, прежде чем отказаться!
Слово «возглавить» больно кольнуло сердце Йотова... В институте, которым он руководил, у него были неприятности... Внимательно слушая гостя, он вспомнил то утро, когда Эрих, придя в их маленькую старую квартиру, заявил, что не захотел бежать с фашистами, а устроился на работу в какое-то дипломатическое представительство... Тогда Йотов действительно отказался его принять, и Эрих больше не появлялся. Но теперь, спустя столько лет, он объявился снова. Откуда ему известны такие подробности о его работе? Уж не от Златанова ли, с которым он познакомил Эриха тогда, в 1943 году?..
Выдохнув колечко дыма, Эрих закинул ногу на ногу и выжидательно замолчал.
Молчал и Йотов. Глубокое огорчение, которое грызло его душу, заставило не спешить с ответом. Он с болью подумал, как все-таки живучи подхалимаж и клевета, пустившие корни в учреждениях, институтах, на предприятиях... В сущности, Йотов был оптимистом, и все же... Он сказал:
— Я действительно сейчас заканчиваю работу над ценным, смею надеяться, изобретением, но запатентую его в Болгарии.
— Трифон, я желаю тебе только добра. Подумай над моим предложением. Через месяц я снова приду. А пока — до свидания!
— Прощай! Не стоит больше приходить... Впрочем, как хочешь.
Проводив Эриха, Йотов вернулся в свой кабинет и в растерянности опустился на стул. В голове лихорадочно пульсировала мысль: «Зачем я его принял? Почему не выгнал этого «доброжелателя»?!
2
После двух дней утомительной поездки с полковником Чавдар Выгленов вернулся домой. Почтовый ящик был забит газетами и журналами. Среди них оказалось и несколько писем. Оставив почту на журнальном столике, Чавдар прошел в ванную: несмотря на то, что стрелка часов подбиралась к шести, жара не спадала, и он принял холодный душ. Затем надел чистую рубашку с короткими рукавами, подошел к зеркалу и несколько раз прошелся гребнем по еще мокрым волосам, стараясь пригладить непокорные вихры. Довольный своим видом, устроился в кресле, положив вытянутые ноги на табуретку, и только тогда, едва сдерживая волнение, протянул руку к письмам.
Первый конверт весь пестрел красивыми итальянскими марками. «От Виолетты!» Он решил не вскрывать его сразу, оставить на потом.
Почерк на втором конверте был незнаком! И его он отложил в сторону. Третье письмо было от матери. Она писала, что приедет в Софию как делегат съезда организации Отечественного фронта. Чавдар вздохнул. Он любил мать и всегда радовался ее приезду. Только вот третьего дня он подал заявление об отпуске. Ему хотелось провести десять дней у нее, в родном городе, а остаток отпуска он намеревался взять позднее, когда приедет Виолетта. Ничего не поделаешь. Придется остаться в Софии.
Выгленов вскрыл письмо от Виолетты. Вот как! И она приедет раньше, чем обещала Все его планы срывались. Лучше всего вообще отложить отпуск... Наконец настала очередь последнего письма. Оно было без подписи. Чавдару приходилось получать такие анонимные письма. Их было неприятно читать, но он все же придавал им известное значение. Человек мог написать донос из разных побуждений: чтобы направить расследование по ложному следу, разыграть его самого — из ненависти к власти, или оклеветать кого-нибудь из желания отомстить. Но иногда анонимное письмо писалось, так сказать, из «общественных» побуждений — подозрительное поведение какого-нибудь человека не могло не возмутить честного гражданина, даже если он и не отваживался подписаться из страха или по какой-либо иной причине.
«Уважаемый товарищ, — писал неизвестный, — недалеко от вас, буквально через дом, живет инженер Трифон Йотов. Брат его сбежал во Францию. В институте, где Йотов работает, он перессорился с коллегами из-за авторства на одно «изобретение». Йотов желает, чтобы наградили только ЕГО, только ОН якобы способный, а все остальные — тупицы и невежды. (Интересно, откуда такая самоуверенность?) В последнее время Йотова посещают довольно-таки сомнительные лица — в разное время суток. В этом вы сами можете убедиться. Выйдите когда-нибудь во двор после полуночи, и увидите, что из всего дома только его окно светится — зачастую до двух-трех ночи (пятый этаж, слева от балкона). Интересно, кто его гости? В каких темных делах участвует этот враг народной власти?
Ваш знакомый»
Прочитав письмо, Чавдар усмехнулся. Доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным, сообщал, что брат Йотова убежал во Францию. Но когда — об этом умалчивал... И что за лица его посещают? Если это не выдумка, то нужно проверить...
Из того факта, что об отношениях Йотова с коллегами говорится в начале письма, можно сделать заключение, что писал его не сотрудник института. В противном случае, автор письма коснулся бы этой темы как бы «невзначай», где-нибудь в конце письма.
Чавдар задумался. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, но мозг его продолжал усиленно работать. Он протянул было руку к телефону, но не успел снять трубку, потому что телефон резко зазвонил.
— Да, я. Слушаю вас, товарищ полковник!
«Интересно, зачем я ему понадобился? Ведь не прошло и получаса, как мы расстались...»
— Чавдар, — услышал он голос полковника. — Тебе придется отложить отпуск.
— Именно об этом я и собирался вас просить...
— Небось говоришь так, чтобы я не подумал, что приносишь себя в жертву...
— Нет, товарищ полковник, я действительно...
— Ладно. Вопрос не терпит отлагательств. Ты готов? Машина прибудет за тобой через десять минут.
«Зачем он меня вызывает? — думал Чавдар, лихорадочно завязывая шнурки на ботинках. — Наверно, что-то случилось...»
Он вернулся домой только в час ночи, после напряженного изучения материалов о случае в селе Стойки. Вышел на остановке напротив высотных домов и машинально бросил на них взгляд. Дома стояли, погруженные в сон. Светилось лишь одно окно соседнего дома — кабинет инженера Йотова на пятом этаже. «Видно и впрямь придется с ним иметь дело...» — подумал Чавдар.
Имя Йотова тесно переплеталось, с тем, что случилось в Стойках. Инженер сначала отказался, а потом согласился сопровождать двух специалистов исследовательского института к южной границе... Важные документы исчезли именно в то время, когда он был там...
Вернувшись домой, Чавдар решил больше ни о чем не думать. В голове шумело, будто пела свою песню целая армия кузнечиков на свежескошенном лугу. И он представил себя лежащим у копны сена, чуть ли не наяву ощутив запах трав — чабреца, тысячелистника, зверобоя... Подхваченный волной этих запахов, он уснул.
3
В комнате совсем стемнело, но Йотов не зажигал света Его мучила мысль, что он попал в водоворот, из которого ему не выбраться. Убедительно ли было его объяснение относительно расписки о полученной за границей валюте? В прошлом году он и его заместитель Зико Златанов ездили в Париж для участия в международной конференции. Как только стало известно, что он едет в командировку, Йотов написал брату Василу, который после женитьбы на француженке жил в Париже, что хотел бы с ним встретиться. Но Васил как раз в это время должен был ехать на свадьбу шурина в средиземноморский городок Сет. Они виделись всего лишь несколько минут в вестибюле учреждения, где работал Васил. Зико ждал снаружи. Васил позвонил своему сослуживцу немцу Диттеру и попросил его дать Трифону тысячу франков. Трифон в присутствии Зико написал Диттеру расписку. Потом они со Златановым разделили полученную сумму пополам. Непонятно, каким образом, но эта расписка была приложена к материалам следствия. А со Златановым они поссорились еще в дороге. Трифону претили самоуверенность и кичливость Златанова. Из его хвастливой болтовни выходило, что он, Златанов, является фактическим руководителем института, но вынужден уступить этот пост Йотову потому, что тот старше...
Что-что, а говорить Златанов действительно умел. Ему было свойственно четкое логическое мышление, он даже в присутствии трех собеседников витийствовал, будто выступал на собрании. Несколько раз между ними вспыхивал спор. В отличие от Йотова, Златанов любил ночные бары с джазовым оркестром. В Вене, где они провели всего два дня, по настоянию Златанова посетили бар, где каждый заплатил по 25 шиллингов. А теперь в материалах расследования лежало донесение Зико Златанова, где он написал:
«Руководитель делегации Трифон Йотов водил меня в Вене и других городах в ночные заведения...»
На обратном пути они заехали в Берлин.
Наглое поведение Златанова не имело границ. В Пергамоне — музее, где воспроизведен монументальный въезд на городскую площадь древнего города Пергама в Малой Азии с двумя шеренгами каменных львов, посетителям демонстрировали остатки нескольких храмов, перенесенные в музей после раскопок в античном городе. Златанов, довольно прилично говоривший по-немецки, подхватил под руку немку-экскурсовода и быстро повел ее вперед. Йотов не жалел о том, что остался один — тишина позволила ему проникнуться величием старинных храмов, но в глубине души он был огорчен.
В сущности, начало вражде было положено давно, лет пять назад, когда Йотов принял на работу в институт молодого инженера Гылыбова. Златанов был против этого назначения и сразу же настрочил донос на Йотова, что он якобы окружает себя «своими людьми». Он упомянул и о неких «своеволиях» Йотова, которые тот себе позволяет при встрече зарубежных гостей. Йотову пришлось давать устное объяснение. Вопрос казался решенным. Тогда Златанов избрал другую тактику. Он постарался сблизиться с Гылыбовым. Все выдумки Златанова о поведении Йотова за границей жадно впитывались доверчивым и простодушным Гылыбовым, который не сомневался в том, что в один прекрасный день руководство института должно быть вверено ему. Именно Златанов подсказал ему эту идею. У него, Златанова, якобы нет времени заниматься административными делами института, а Гылыбов — молодой специалист, ему и карты в руки, именно он должен навести в институте порядок, добиться во всем экономии, восстановить коллективный метод работы. Все это льстило Гылыбову, видевшему в лице Златанова не соперника, а верного друга.
«Моя вина, — думал Йотов, — что я отдал неопытного Гылыбова в руки Златанову! Скорее бы кончалась эта история! Я должен завершить свою разработку, которая (интересно, как об этом пронюхал Эрих?) поможет создать новую отрасль в нашей промышленности. И я это сделаю! Ведь главные принципы уже определены! Эффект в специальном режиме тоже установлен. Верю, что вскоре будет открыто и неограниченное действие!»
В дверь трижды позвонила «Наконец-то, Маргарита!» — обрадовался Йотов. Он зажег свет и пошел открывать. «Ей ничего не скажу! Зачем ее тревожить! Настоящий мужчина все неприятности должен брать на себя!» — решил он, с улыбкой целуя жену в щеку, а потом вышел на балкон и позвал Румена домой. Румен ворвался в комнату, довольный, что мать вернулась из школы. Вскоре пришел и старший сын, Евгений. Семья Йотовых села ужинать.
4
Чавдар обычно не задергивал на ночь шторы. Он любил, чтобы солнце будило его по утрам. Солнечный луч пробегал по потолку, потихоньку спускаясь по стене прямо к кровати. И если Чавдар еще не проснулся, принимался щекотать ему в носу. Но в этот день Чавдар проснулся еще до восхода, когда небо только чуточку порозовело. В открытое окно доносилось пение синиц и дроздов, пробудившихся в соседнем сквере. Чавдар спал каких-нибудь три-четыре часа, но чувствовал себя бодрым. Он побрился и долго плескал в лицо холодной водой.
Стоя у окна и медленно потягивая кофе, он слушал, как гулко раздаются в тишине спящего города шаги редких прохожих, рассеянно скользил взглядом по еще пустым трамваям и автобусам и, глубоко вдыхая приятную свежесть утра, неторопливо обдумывал все, о чем узнал вчера у полковника.
На коллегу Ганева, которому поручили расследовать случай в Стойках, было совершено нападение. К счастью, нанесенные ножевые раны оказались не смертельными.
...Пришедший в сознание Ганев доложил, что выехал в прошлую ночь, якобы по вызову полковника, который сообщил ему по телефону из Перника, что выслал за ним машину. Шофер машины напал на Ганева и попытался его убить. На вопрос следователя, что он думает о происшедшем, Ганев высказал предложение, что преступникам, очевидно, удалось подменить настоящего шофера своим человеком. Но он нисколько не сомневался в том, что разговаривал именно с полковником, правда потом полковник передал трубку кому-то другому...
Посовещавшись, полковник, Выгленов и следователь выдвинули такую версию: преступнику необходимо было убрать Ганева, потому что тот расследовал случай в селе Стойки. Он знал о том, что полковник уехал по делам в Перник. Кто-то, кому был хорошо известен его голос, воспользовался этим и говорил от его имени, а Ганев — со сна ни в чем не усомнился. Машина, на которой пытались увезти Ганева, была краденой. Ее хозяин еще утром заявил о пропаже. Не исключено, что он связан с преступниками. Его задержали.
Под предлогом того, что барахлит мотор, шофер остановил машину. Затем, улучив момент, нанес Ганеву два удара ножом. Следовало выяснить два момента: почему они отправились в Перник окружной дорогой и почему удар был нанесен у железнодорожного переезда. Ганев объясняет это тем, что, как сказал шофер, на том участке можно было развить большую скорость, что он фактически и сделал, как вдруг обнаружились неполадки в моторе. Необъяснимым также был тот факт, что шофер был один, и что он нанес удары ножом в машине. Может, он и в самом деле действовал без помощников? Однако по телефону говорили двое. Личная месть? Но, как свидетельствует Ганев, такая версия отпадает. У него, по его словам, врагов нет. Нападение явно связано с расследованием случая в селе Стойки.
...Солнце еще не взошло, а бульвар уже выглядел оживленным. Голоса птиц тонули в шуме моторов и трамвайном звоне. По асфальту наперегонки летели грузовики и автобусы. На остановках нетерпеливые пассажиры штурмом брали нужные им средства транспорта София начинала новый трудовой день.
Погруженный в раздумья, Чавдар Выгленов медленно мерял шагами расстояние между окном и дверью. После того, как он сопоставил факты, вырисовывались некоторые подробности. Нападение на Ганева произошло вскоре после его возвращения из Варны. Почему? Наверно, во время поездки ему удалось узнать нечто столь важное, что его немедленно попытались убрать, чтобы он не смог доложить о своем открытии начальству. За ним вели слежку еще в Софии и телефонный разговор был ловко подстроен. Неудача же покушения, наверно, объясняется какими-то особыми обстоятельствами. Значит, необходимо узнать, что это за обстоятельства, и что удалось Ганеву дополнительно обнаружить в Варне, о чем он не успел доложить. Едва ли можно объяснить внезапные действия врага тем, что Ганев установил невиновность сварщика Сухого дока Христо Крачмарова — это во-первых. А во-вторых, действовал ли нападавший один, или у него были соучастники? Скорее, были. И не только потому, что по телефону звонили двое, просто этот случай был тесно связан со случаем в Стойках. Преступники решили убрать Ганева, испугавшись, что в Варне ему удалось напасть на след, который непременно приведет к разоблачению.
Чавдар продолжал свой анализ. Почему же Ганев продолжает утверждать, что лично разговаривал с полковником? Чавдар снова задумался. Слова, произнесенные полковником, показались Ганеву знакомыми. Где он их мог слышать раньше? Когда? Ганев не помнил.
Солнце поднялось над домами, его лучи, отражаясь в крышах, наполнили комнату пронзительным светом.
Чавдар любил запутанные случаи. Трудности только прибавляли ему упорства.
Одеваясь, он продумал план на сегодняшний день И, придя от этого в хорошее расположение духа, бодро зашагал вниз по лестнице.
5
Два трудных года пришлось пережить семье Трифона Йотова. Все началось с двойки по математике, которую получил Евгений в десятом классе. Он увлекся общественной работой, и, будучи секретарем учкома, совсем забросил уроки. Отец попытался было внушить сыну, что общественная работа мешает занятиям, но жена категорически заявила, что в наше время личное должно сочетаться с общественным. Потом Евгений исправил отметки, но в аттестате по математике была выставлена пятерка, а не шестерка. С помощью отца Евгений подготовился к вступительным экзаменам в вуз и, как он считал, подготовился хорошо. Однако не прошел по конкурсу. Евгению предстояла служба в армии. Он постоянно жаловался на головную боль, но к врачам идти категорически отказывался. Во время медосмотра у него установили гипертонию. Дали на месяц отсрочку, провели курс лечения, но давление продолжало оставаться высоким. В результате Евгения освободили от армии на год. Родители решили устроить его на работу чертежником в конструкторское бюро.
Болезнь Евгения беспокоила всю семью. Своевременно принятые меры привели к тому, что зимой его состояние значительно улучшилось, и он решил снова попытаться поступить в университет. Йотов предложил сыну идти на другой факультет, но мать настаивала, да и сам Евгений мечтал о профессии физика. Всех беспокоило, сумеет ли он подготовиться как следует и не отразятся ли занятия на его здоровье.
Зима была нелегкой и для младшего — Румена. Он любил рассматривать содержимое отцовских папок, его все больше интересовали ровные ряды формул на экране микрокомпьютера. Если отец не работал, то, сменив дискету, Румен играл сам с собой в шахматы или составлял программы электронной музыки, мечтая сочинить мелодию, которой он поздравит брата, когда того примут в университет. Однажды, это было в апреле, Румен вернулся из школы раньше, потому что заболел учитель по географии. Он подсел к столу отца. Схемы были незнакомы, а расчеты — непонятны. Внимание мальчика привлек листок с обозначенными десятью пунктами. Может,это план нового изобретения отца? Но еще с первой же строчки Румен понял, что речь тут идет не об изобретении. Не удержавшись, он прочитал все эти десять пунктов, и они его поразили. В них шла речь об отсутствии коллективного метода руководства, о незаконном использовании иностранной валюты во время заграничной командировки, о несоблюдении финансовой дисциплины, о неправильно составленных документах. Наиболее сильное впечатление произвело на Румена обвинение, предъявленное отцу в том, что он якобы присвоил несколько бутылок вина, взяв их с банкета по случаю институтской годовщины, на котором присутствовали и иностранные гости. Неужели такое возможно? Накануне какого-то праздника отец, помнится, действительно принес домой коньяк «Плиску» и шампанское. Он сказал тогда, что это подарок от сотрудников института. А Румен привык считать отца самым честным человеком на свете!
Читая эти пункты, всем своим существом Румен протестовал против нелепого обвинения, и все же он был смущен. Что же делать? Признаться отцу, что он прочел этот листок и потребовать объяснения? Но разве он судья своему отцу?
Сердце его сжалось. Так вот почему отец в последнее время такой замкнутый и постоянно норовит скрыться в кабинете! Сколько уже времени он не усаживается по вечерам вместе с ними перед телевизором и почти ни с кем не разговаривает. Раньше после ужина они всегда рассказывали друг другу веселые истории. А теперь? Румен даже думал, что отец и мать поссорились и поэтому никуда не ходят — ни в кино, ни в театр. А оказывается, вон оно что... Наверно, мама ни о чем не догадывается! Может, поговорить с братом? Посоветоваться с ним? Нет! У него неладно с давлением! Врач говорит, чтобы его не беспокоили.
С этого дня Румен постоянно искал удобный момент, чтобы поговорить с матерью, но каждый раз, когда начинал разговор, голос его срывался от волнения. И к отцу он стал относиться с преувеличенным вниманием. Старался ему не мешать, охотно выполнял всякие мелкие поручения, пытался обрадовать чем-то. Стал каждый день чистить его обувь, а потом убирать пыль в кабинете.
«Не парень, а золото!» — сказала однажды мать.
Когда через несколько дней отец принялся строчить на пишущей машинке, Румен почувствовал себя соучастником — только он один знал, что пишет отец.
И тогда он решился:
— Мам, а почему отец такой хмурый? Не расспрашивает меня о школе и даже вечером не выходит к нам из кабинета... Может, у него неприятности на работе? — сказал и похолодел, ожидая ответа матери.
— Оставь его в покое! Ты ведь знаешь, что он работает над крупным проектом! Не шуми и не дергай его по пустякам! Как только закончит, так сразу повеселеет и будет таким, как прежде...
— Хорошо бы, — неуверенно протянул Румен и хотел еще что-то добавить, но сдержался, сказав только: — Ты бы его спросила, не нужно ли ему помочь. А то ты все о нас печешься, а о нем кто позаботится?
— Это хорошо, что ты беспокоишься об отце, — сказала мать, притянув его к себе, а Румен в ответ расплакался, как маленький.
— Что с тобой?
— Ничего... Просто мне тяжело, что папа стал каким-то таким...
В сердце матери закралась тревога... Кажется, и впрямь дети правильно заметили, что с отцом что-то происходит... Нужно бы поговорить с ним...
6
Когда Чавдар Выгленов прибыл в управление, полковник был уже на месте и ждал его.
Спустя пять минут служебная «Волга» полковника уже неслась в сторону Симеоново, чтобы осмотреть «Ладу», в которой был ранен Ганев. Полковник пригласил Выгленова к себе. В другой машине ехала оперативная группа Чавдара, двадцатилетний Данчо и хозяин украденной «Лады», служащий городского отделения по распространению печати.
— Товарищ полковник, — первым нарушил молчание Чавдар, — после осмотра нужно поговорить с Ганевым. Необходимо кое-что уточнить. Я бы хотел, чтобы вы присутствовали при разговоре.
Они миновали бензоколонку у Дворца пионеров, свернули по шоссе, ведущему в Симеоново, и остановились у железнодорожного переезда, где одиноко стояла «Лада». Чавдар внимательно осмотрел машину. В субботу, когда было совершено покушение, шел дождь. Возле педали акселератора виднелся след от грязной подошвы.
— Данчо, сними отпечаток и установи размер обуви.
Пока Данчо работал, Чавдар и полковник отошли в сторонку.
— Товарищ полковник, должен вам признаться, что сегодня утром я уже был здесь и осмотрел машину. И вот что мне бросилось в глаза: сиденье шофера задвинуто в крайнее положение. То есть шофер создал себе все условия для нападения. Можно также сразу сказать, что это высокий, крупный и сильный человек.
— Но,Чавдар, если ты помнишь, Ганев сообщил совсем иное: среднего роста, натруженные руки рабочего...
— Ганев вообще не мог видеть шофера во весь рост. Когда машина подъехала, он забрался в нее через услужливо открытую дверцу, и они сразу рванули с места. Данчо, ты готов?
— Так точно, товарищ Выгленов! Лапа огромная — обувь 45-го размера.
— А сейчас посмотрим-ка под сиденьем, — сказал Чавдар. — Может, еще что-нибудь обнаружится. Например, сегодня утром я нашел у машины пуговицу, втоптанную в грязь...
Полковник с любопытством принялся рассматривать пуговицу, похожую на солдатскую, а в это время Выгленов заглянул под прорезиненные коврики под сиденьями. Однако усилия оказались тщетными, он ничего не обнаружил.
— Да, действительно больше ничего нет, — заметил недовольно Чавдар. — Данчо, приведи хозяина...
Хозяин машины, человек стеснительный, на допросе у следователя ничего толком не мог сказать. Он снова поздоровался, хотя виделся со всеми перед тем, как отправиться сюда. Ему было сказано, что после осмотра его отпустят, поэтому он несколько осмелел и даже испытывал нечто вроде гордости, что его машина оказалась «в центре событий».
— Заведите мотор! — приказал ему Чавдар. — Данчо, — прошептал он своему помощнику, — следи за тем, как он вернет сиденье в прежнее положение...
Хозяин забрался в машину и уселся на место. Увидев на сиденье кровь, он робко кашлянул, но быстро взял себя в руки. Прежде чем включить зажигание, он потянул вверх рычаг и вместе с сиденьем продвинулся вперед. Теперь ноги его приходились точно на педали.
— Зачем вы передвинули сиденье? — спросил его Чавдар.
— Но оно было сдвинуто! И мне так неудобно...
Полковник улыбнулся Чавдару, довольный его наблюдательностью.
В это время хозяин машины безуспешно пытался ее завести.
— А бензин-то в ней есть? — спросил Чавдар.
— Должен быть! Я заранее наполнил резервуар, потому как в воскресенье мы должны были поехать на свадьбу в мое село. Очень уж хотелось поехать, но я уже не раз замечал, ежели чего-то сильно хочется, никогда не получается...
— Философия неудачников! — засмеялся полковник.
— А другие, наоборот, утверждают, что если человек чего-то сильно желает, он непременно его добьется — самоуверенно заметил Чавдар.
— Лозунг оптимистов! — снова засмеялся полковник.
Хозяин машины еще раз нажал на педаль и повернул ключ, но машина упорно не хотела заводиться.
— Видно, я много газу дал! Нужно подождать, пока бензин выветрится... Может, вы и правы, — обратился он к Чавдару, — только со мной так не бывает. Помню, однажды понравился мне в магазине пиджак, а денег не хватало. Я — скорее домой, но пока бегал, продавщица возьми да и продай пиджак. А помню в другой раз... — он хотел рассказать еще что-то, даже высунул голову из окна, но полковник прервал его...
— Давайте заводите, а то мы спешим!
Незадачливый рассказчик вздрогнул, испугавшись, что разболтался перед большим начальством, и с такой поспешностью исчез внутри, что ударился обо что-то головой, но, даже не охнув, снова взялся за ключ. На этот раз как по заказу мотор завелся, затарахтел, словно трактор. Однако стоило шоферу нажать на педаль, и мотор снова умолк.
— Что случилось? — спросил Чавдар.
— Да она у меня такая... Я ее с тысячью дефектов купил...
— А мотор всегда так тарахтит? — спросил полковник.
— Да нет, раньше не тарахтел, когда заводился. Только иногда на ходу, когда я на педаль нажимаю... Она немного западает. Зато как поддам газу, машина так и рванет вперед...
— А почему вы водите неисправную машину? — сердито спросил полковник.
— Да ведь это не опасно. Нужно просто подхватить педаль ногой снизу — и все в порядке.
Выгленов отозвал полковника в сторонку.
— Значит, преступник двигался в черте города с нормальной скоростью. А как только они выехали за город, попытался прибавить газу, но педаль запала, и он испугался. Потому и остановился тут, у переезда.
— Видимо так... — согласился полковник.
— Отсюда можно сделать вывод, что место встречи с сообщником или сообщниками было где-то неподалеку, — добавил Чавдар.
— Да, над этим стоит подумать... Осмотром я доволен, — сказал полковник, а потом вернулся к машине и с улыбкой обратился к шоферу:
— Можете ехать, вы свободны! Только смотрите, не попадайте в аварию. И чтобы неисправность была устранена!
— Спасибо! Сегодня же навещу знакомого техника. До свидания! — крикнул радостно шофер и, лихо развернув машину, полетел в сторону Софии.
— Данчо, — сказал Чавдар, — в 15.00 жду тебя в управлении. А мы, товарищ полковник, если не возражаете, пойдем к Ганеву.
7
К своему заявлению в паспортном отделе Евгений приложил и приглашение, которое он получил из Парижа, от дяди Васила Ему сказали, что за ответом нужно зайти через месяц. На этот раз уверенный в том, что он непременно поступит в университет (в пятницу он сдал приемный экзамен), а также в том, что ему разрешат поехать во Францию, Евгений чувствовал себя окрыленным. Он ехал в трамвае, вслушиваясь в перестук колес, и с наслаждением вдыхая воздух июльского утра. В трамвае было свободно одно единственное место — на передней скамейке. Евгений сел. На следующей остановке в трамвай вошла стройная девушка в красивом синем платье, перетянутом широким поясом с блестящей пряжкой. Она прошла вперед и, остановилась у его сиденья. Евгений поднялся, приглашая ее сесть. Девушка слегка смутилась — видно, не привыкла, чтобы ей уступали место, однако села. Настроение у Евгения было настолько прекрасным, что он решился заговорить с девушкой.
— Вы где учитесь? — спросил он ее.
— Я закончила школу, — скромно ответила незнакомка и отвернулась к окну. Однако это не обескуражило Евгения. — А где собираетесь учиться дальше? — продолжал он расспрашивать, хотя почувствовал некоторую неловкость из-за собственной прошлогодней неудачи.
— Хочу поступить на химический, — ответила девушка и тоже улыбнулась. — А вы?
Глядя ей прямо в глаза, он сказал заранее приготовленный ответ:
— Я перешел на второй курс физического... — Тут ему стало стыдно, за свою ложь, и он отвел взгляд. Трамвай сворачивал у памятника Василу Левскому, на следующей остановке Евгению нужно было выходить, но расставаться с незнакомкой почему-то не хотелось. Вожатый зазвонил, предупреждая какого-то зазевавшегося пешехода, и остановил трамвай. Девушка быстро поднялась с места.
— А-а, значит, мы соседи! — обрадовался Евгений и пошел за ней следом. Они вышли из трамвая, и только тогда девушка ответила:
— Я живу не здесь. Здесь живет моя подруга. Вон, в том доме!
— А я — в соседнем. Можно я вас провожу? — И, не дожидаясь ответа, он поравнялся с девушкой и они пошли через скверик. — А кто ваша подруга?
— Стефка Огнянова...
— А-а, Стефка...
Евгений хорошо знал Стефку. Их семьи дружили, и Стефка определенно знала, что он провалился в первый раз на приемных экзаменах. И вообще ему уже не хотелось, чтобы знакомство с этой худенькой, скромной девушкой с грустными задумчивыми глазами начиналось со лжи...
— Как вас зовут? — спросил он.
— Ружа Николова... — Лицо девушки залилось краской.
— Давайте познакомимся. Евгений Йотов, — и Евгений осторожно сжал в своей ладони нежную маленькую руку, которая доверчиво легла на его широкую ладонь. В ответ Ружа улыбнулась. На щеках у нее обозначились две ямочки, которые делали ее еще более привлекательной.
— Знаете, Ружа, я должен вам признаться...
«Что-то он слишком торопится с признаниями, — подумала девушка. — Сейчас небось скажет, что я ему нравлюсь и назначит свидание. Но я не приду, ей богу не приду!»
— В трамвае я вам сказал неправду, просто так, из честолюбия... Я не учусь в университете. В прошлом году не прошел по конкурсу... На днях снова сдавал экзамены...
— Ничего, — успокоила его Ружа, у которой отлегло от сердца. — На этот раз вы обязательно поступите!
— Надеюсь. Хоть бы скорее объявили результаты! — вздохнул Евгений. — Я вам тоже желаю поступить. Ну вот, мы и пришли! — сказал он, прощаясь и добавил: — Встретимся в университете, да?
Руже стало немного грустно, что он не спросил у нее адреса. И, желая показать, что ей приятно их знакомство, она на этот раз энергично пожала протянутую ей руку. Рукопожатие их затянулось, еще немного, и это могло бы показаться неприличным, но тут Евгений заметил на балконе младшего брата, который делал ему знаки, высвистывая знакомый сигнал.
Едва Евгений переступил порог, как Румен налетел на него с вопросом:
— Кто эта симпатичная мадемуазель?
— Моя одноклассница, — ответил Евгений.
— Что-то я не встречал ее у нас...
— Я отнес приглашение от Эжена в паспортный отдел, — перевел разговор на другое Евгений. Мысленно он все еще стоял рядом со стройной девушкой, с которой только что познакомился. Он решил завтра же с ней увидеться. Надо спросить у Стефки ее адрес...
8
Поговорив с Ганевым, полковник и Чавдар вернулись в управление. Ганева доставила в больницу машина «скорой помощи». Она возвращалась из Симеоново как раз в тот момент, когда преступник выволакивал из машины раненного Ганева, пытаясь столкнуть его в придорожную канаву. Возможно, он собирался его прикончить, но, испугавшись приближающейся машины, скрылся в лесу. В машине было двое врачей. Они оказали Ганеву первую помощь и увезли в больницу.
Хирург сообщил полковнику и Чавдару, что удары ножа пришлись с правой стороны. Бандит, разумеется, целился в сердце, но Ганев бросился к нему, пытаясь отнять нож, и встретил удар с правой стороны. Рана была неглубокой, потому что нападавший, хотя и обладал недюжинной силой, видимо, не смог как следует размахнуться.
— Может, он левша! — высказал предположение Чавдар.
— Вполне возможно, — согласился врач. — С того места, где он сидел, можно сильно размахнуться только левой рукой.
Сестра ввела посетителей в палату к раненому. Они подошли к койке. Ганев улыбнулся им навстречу и попытался было приподняться, но скривился от боли.
— Лежи спокойно! — почти прикрикнул на него полковник.
— Тебе поручено продолжать следствие? — спросил Ганев у Чавдара.
Чавдар утвердительно кивнул.
— Что ж, расспрашивай...
Выгленов дружески сжал ему руку.
— Послушай, ты сказал следователю, что выехал по телефонному звонку полковника и что якобы он лично говорил с тобой ночью. А мы с ним уехали из Перника в Кюстендил еще в девять вечера.
— Но я слышал ваш голос... — повернул голову к полковнику Ганев. — Я решил, что преступники просто сменили шофера.
— Повтори мне все, что ты слышал по телефону, — несколько раздраженно сказал полковник. — И вообще, расскажи все как было...
— Значит так, — начал свой рассказ Ганев тихим голосом. — Зазвонил телефон... Звонок был сильным, как при междугороднем разговоре. Я снял трубку и сказал: «Слушаю». В трубке сказали: «Говорит начальник Перникского почтамта. Кто у телефона?» Я назвался и услышал в ответ: «Поскольку связь с Софией плохая, полковник попросил меня передать, чтобы вы немедленно выехали в Перник.» Я усомнился и попросил постараться соединить меня с полковником.
— И что же я тебе сказал? — спросил полковник.
— Вы сказали: «Немедленно выезжай. Ты мне срочно нужен по очень важному делу».
Полковник прервал Ганева:
— Ничего подобного! Я вообще с тобой не разговаривал!
— Совершенно верно! — принялся оправдываться Ганев. — Говорил кто-то от вашего имени... Но голос был ваш!
— Значит тебе было сказано: «Немедленно выезжай. Ты мне срочно нужен по очень важному делу!», — переспросил Чавдар и глубоко задумался. — Где-то я слышал эти слова, и то совсем недавно.
— Вот и все. Но и этого было достаточно. Разве я могу не выполнить распоряжения начальства? На моем месте ты как бы поступил?
— Об этом поговорим в другой раз, — уклонился от разговора Выгленов, потому что понял, что раненый устал, а он еще не задал ему самого важного вопроса.
— Посмотри внимательно, Ганев, этот человек похож на шофера? — сказал Чавдар и протянул раненому приложенную к делу фотографию рабочего лет пятидесяти, в кепке.
— Нет... У шофера были усы, шрам над бровью... А этот мне знаком — это Крачмаров, по кличке «Пират», которого я расспрашивал в Варне. Он работает сварщиком в Сухом доке.
— Ты утверждаешь, что этот сварщик непричастен к случаю в Стойках, а между прочим, он два года сидел в тюрьме. А теперь вспомни, могло в разговоре с этим человеком быть нечто такое, что подтолкнуло преступников убрать тебя?
— Да нет, ничего особенного... У него есть алиби Когда произошло похищение документов в Родопах, он был в Тырново. Оставался там двое суток. Это я проверил по телефону: запросил в адресном бюро Тырново... Постой, я у Крачмарова взял записную книжку и забыл ему вернуть. В ней нет ничего такого, что могло бы вызвать сомнение... Записи о каких-то материалах, которые ему необходимы по службе и несколько телефонных номеров. Один из них — номер института, где он работал, прежде чем перевестись на Сухой док.
— Дай мне эту записную книжку, — с видимым интересом сказал полковник.
— Она во внутреннем кармане пиджака...
Чавдар
подошел к вешалке и достал из пиджака Ганева записную книжку в коричневой обложке.
— Да, эта, — кивнул головой Ганев.
Чавдар начал листать, показывая записи полковнику. В конце не хватало двух-трех страничек, которые, явно, были вырваны. Он вопросительно посмотрел на Ганева.
— Но я не вижу здесь телефонных номеров.
— Они были записаны на последней странице.
Полковник и Чавдар переглянулись.
— А ты не мог бы их припомнить?
— 44... вот: 44-25... 28. Точно, 28 — мой телефонный номер тоже оканчивается на 28, а вот в других цифрах я не уверен.
Выгленов записал предполагаемый номер. И он, и полковник инстинктивно почувствовали, что записная книжка может сыграть в следствии важную роль. Они попрощались с Ганевым, велев ему быстрее поправляться, и ушли.
Когда посетители вышли, Ганев вдруг разволновался. Интересно, кому понадобилось вырывать последние странички из этой дурацкой книжки!
Сестра измерила ему температуру — она оказалась повышенной.
Врач недовольно буркнул:
— Эти разговоры утомляют больного, ему еще рано принимать посетителей.
9
Явившись после обеда по вызову полковника, Выгленов застал у него в кабинете следователя из уголовного розыска. Там же находился и Данчо. Следователь также пришел к выводу, что нападение не носило характера личной мести и, вероятно, было непосредственно связано с похищением документов в Стойках. Он поддержал версию Выгленова, что нападавший, возможно, был левша.
Полковник спросил у Чавдара, что тот думает о вырванных страничках в записной книжке. Чавдар высказал предположение, что это сделал нападавший, из чего вытекает, что Крачмаров может оказаться одним из соучастников преступления. То, что он не взял записную книжку, можно объяснить мерой предосторожности, так как в Варне эту книжку видели у Ганева. Пропажа записной книжки из пиджака Ганева может вызвать подозрение. И тогда вся вина падет на Крачмарова. Поэтому решено было вырвать только странички с телефонными номерами. Возможно, это были номера шефов Крачмарова, которые он имел неосторожность записать. Чавдар навел справки о всех телефонах, начинавшихся на 44, а также о тех, которые заканчивались на 28 — всего около ста. Четыре телефонных номера сразу привлекли к себе внимание: один из них принадлежал Трифону Йотову, другой — его заместителю Зико Златанову. Крачмаров мог записать номер телефона Йотова, когда работал в институте. Кстати, не кто иной как Йотов рекомендовал его для работы в Сухом доке.
— Какие будут предложения?
— Прежде всего нужно взять под наблюдение этого Крачмарова, не зря, наверное, он носит кличку «Пират».Я предполагаю,что он находился в Стойках во время совершения там преступления, как утверждает его соседка бабушка Рада. И причину, заставившую преступника вырвать странички из записной книжки, следует, по-моему, искать в Варне.
— Но книжка-то здесь, зачем же в Варне? — удивился Данчо.
— А мы оттуда начнем... А сейчас несколько соображений по поводу вызова Ганева. Товарищ полковник, помните недавно вы давали интервью журналисту Софийского радио?
— Ну было дело. Какое это имеет отношение к следствию?
— Самое прямое. Слова, которые Ганев услышал по телефону, показались мне знакомыми. Я разыскал ваше интервью — оно было напечатано. Пошел в Народную библиотеку, нашел газету и прочитал.
— А почему не обратился ко мне? Эта газета у меня есть.
— Потому что не был уверен, что это связано с похищением...
— А сейчас что, уверен? — чувствовалось, что слова Чавдара задели полковника.
— К сожалению — да! Прочитав интервью, я отправился к Ганеву. Врач не хотел меня пускать, но я упросил его. Ганеву я задал единственный вопрос: «Слушай, Ганев, ты утверждаешь, что по телефону полковник тебе сказал: «Немедленно выезжай. Ты мне срочно нужен по очень важному делу». А может, полковник сказал: «Немедленно выезжай. Ты мне нужен по исключительно важному делу!» Ганев очень удивился: «Разумеется, как это я забыл. Именно эти слова я услышал тогда по телефону». А это из вашего интервью, товарищ полковник.
— Да-а, теперь мне ясна связь, — задумчиво проговорил полковник.
Но следователю и Данчо, казалось, не все еще было понятно.
— Именно так и произошло, — продолжал Чавдар. — Мы с вами, товарищ полковник, около девяти уехали из Перника в Кюстендил. Преступники, знавшие, что мы находимся в Пернике, связались с Ганевым якобы из Перника, хотя на самом деле говорили из Софии. Когда Ганев настоял на том, что он хочет получить приказ лично от вас, они включили магнитофон с записью вашего голоса. И тогда Ганев услышал именно эту фразу из интервью. Когда же он попросил разрешения взять такси или вызвать дежурную машину, у них уже не было подходящей записи, и поэтому ему ответил кто-то из преступников. Ганев как ревностный служитель поспешил выполнить приказание.
— Спасибо за исчерпывающую информацию, — сказал полковник. — Теперь многое стало на свои места. Какие будут выводы?
— Во-первых, мы имеем дело с очень опытным и хитрым врагом. Он действует осторожно и обдуманно. Во-вторых, причиной нападения на Ганева послужило его расследование в Варне, В-третьих, действует не один человек, а целая группа. Нападавший, возможно, тот же, что действовал и в Стойках. Факты подтверждают это. Нам необходимо реагировать быстро и очень внимательно.
— Кого ты подозреваешь? — поинтересовался полковник.
— Есть все основания подозревать Крачмарова, Йотова и Златанова. Но главный в этой цепи, несомненно, кто-то другой. Йотов упоминал о некой Ольге из Кранево, племяннице Златанова. Хорошо бы о ней разузнать...
— Согласен. Возьми людей и, если нужно, технику и действуй. Сколько человек тебе дать?
— Пока мне нужен только Данчо с его «Ладой». Буду поддерживать с вами связь.
— Хорошо. Действуй! — повторил полковник, вставая.
Чавдар и Данчо пошли готовиться к поездке.
10
В зале ожидания аэропорта Бурже за столиком разговаривали трое — очевидно, мать, отец и сын. У ног юноши стоял чемодан, оклеенный цветными этикетками с надписями на разных языках, а через руку был перекинут плащ. У юноши было бледное скуластое лицо с легким пушком над верхней губой и буйная шевелюра. На губах его играла улыбка.
Мать — миниатюрная женщина с тонкими чертами лица, в соломенной шляпке с цветами, как того требовала летняя мода, напутствовала сына:
— Береги себя, Эжен! Не лежи долго на солнце!
— Не беспокойся, мама! Я уже не ребенок!
Отец, который обычно молчал, на этот раз не выдержал:
— Мадлен, не пора ли перестать давать Эжену советы. Он прав — уже не ребенок, посмотри на него.
В произношении его чувствовался акцент. Видимо, он не был французом. Закрытые слоги произносил так же, как и открытые, и не делал разницы между долгими и краткими гласными. А ведь именно эти незначительные на первый взгляд подробности и придают французскому языку особую, характерную для него мелодичность.
— Не очень-то правильно, Базиль, что ты меня не поддерживаешь! Ты тоже должен сказать Эжену напутственное слово. Ведь ты же отец. Мальчик впервые уезжает так далеко от нас! А там столько опасностей — все черное: Черное море, Черная вершина...
Васил Йотов, которого жена называла Базилем, счел за лучшее промолчать.
По радио объявили о посадке на самолет, следующий рейсом Париж-Вена-София. Йотов, взяв сына под руку и ускорив шаги так, чтобы жена не услышала, что он говорит, шепнул ему:
— Письмо, которое я зашил в подкладку пиджака, передай дяде Трифону в руки. Понял?
— Понял, папа, все понял, не беспокойся, — ответил юноша по-французски, потому что болгарские слова давались ему с трудом.
Отец продолжал уже по-французски:
— Попроси дядю, чтобы тебя свозили в мое родное Заножене. Повтори Эжен: Заножене.
— Я запомнил, папа. Ты уже в третий раз мне это повторяешь: За-но-же-не, — ответил улыбаясь Эжен.
— Ну, пора прощаться, — сказал отец, предоставив право жене первой поцеловать сына.
Мать припала к юноше, словно не желая его отпускать. Потом отстранилась и вытерла слезы.
— Сегодня же вечером жду твоего звонка! Иначе не усну, слышишь?
Когда Эжен прошел за барьер паспортного контроля, Мадлен и Васил, не сговариваясь, посмотрели на небо. Над головой голубел безоблачный простор, и это их несколько успокоило.
— Базиль, кажется с погодой ему повезло, а?
— Конечно, не волнуйся!
— Над всей Европой безоблачное небо — так сообщили по телевидению.
— Да, да!
— А вдруг какая-нибудь буря?
— Да нет же, успокойся ты наконец!
— О Базиль! Как ты всегда невозмутим! Мне бы твои нервы! — повторяла Мадлен, с тревогой глядя туда, где скрылся ее сын.
Спустя минуту самолет оторвался от земли и вскоре превратился в маленькую точку, которая растаяла в небе.
Застегивая привязные ремни, Эжен взглянул на свою соседку. Русоволосая, несколько полноватая девушка с голубыми глазами спокойно встретила его взгляд. Она показалась ему венкой. Эжен вежливо спросил:
— Мадемуазель, хотите сесть у окна?
— О нет, благодарю вас. Я не выношу высоты. Сразу начинает кружиться голова.
— Вы летите в Вену?
— Нет, в Софию. Я — болгарка
— Болгарка? — Эжен смутился. В этот миг самолет накренился.
— Смотрите, Эйфелева башня. — Девушка склонилась к Эжену. Ее взметнувшиеся волосы ласково коснулись его лица.
— А вот Сакре-Кер, — указал Эжен на белые купола собора.
— Да, вчера я была там, — ответила девушка и кто знает почему вздохнула.
Эжену захотелось еще раз почувствовать прикосновение ее волос, но самолет уже миновал Париж. Внизу заблестела Сена. Было душно. Девушка сняла синий жакет и осталась в белой кофточке с короткими рукавами.
— Вам не жарко? — Он поднял руку, чтобы включить кондиционер.
— Да. Вот теперь хорошо. Благодарю вас. — Девушка откинулась назад и закрыла глаза.
Эжен снова поглядел в окно, но пейзаж был скучный. Одни зеленые поля да извивающиеся ленты дорог. Кое-где виднелись селения — сверху они походили на протянувших щупальца пауков, от которых как паутинная сеть разбегались нити шоссе. Эжен вздохнул и тоже закрыл глаза... Интересно, как ее зовут? Он забыл ей представиться, и, наверно, поэтому она замолчала. Конечно же, сам виноват: подчеркнув в разговоре, что он — француз, тем самым как бы провел между ними границу. Но ведь он родился в Париже и в паспорте у него написано, что он — француз. Отец его принял французское гражданство, а Эжен — француз по рождению. Поэтому отец может говорить о «двух родинах», а у Эжена она одна — Франция!
Он искоса взглянул на спутницу. Красивое лицо с белой гладкой кожей, обрамленное русыми волосами, напомнило ему о Франсуазе, его приятельнице, заканчивавшей сейчас предпоследний класс лицея. Франсуаза невысокого роста, как его мать. В компании очень любит демонстрировать свою власть над ним, но когда они вдвоем — мягка и уступчива.
Эжен почувствовал приятное волнение, вспомнив о вчерашней прогулке. Они бродили целый час, Франсуаза была как никогда задумчива и молчалива. Он сообщил ей, что собирается держать экзамен в высшую школу. Она поздравила его и спросила:
— Хочешь стать инженером?
О нет, профессия отца не привлекала его. Он станет архитектором. Париж — самый прекрасный город в мире, но как убоги и неприветливы некоторые его старые кварталы. Они жили именно в таком квартале. Окна их квартиры выходили на север, в мрачный, глубокий двор-колодец. Эжен мечтал проектировать просторные, солнечные дома, вокруг которых будут сады и парки.
— Все это хорошо, но смотри вернись, а то возьмешь и останешься в Болгарии...
— Разумеется, вернусь! Ведь я же француз...
— Да, но говорят... болгарки очень красивы... Такие черноокие, с пышными волосами...
Эжен открыл глаза и вновь взглянул на соседку. Франсуаза ошиблась, есть и голубоглазые болгарки. И действительно, они красивы...
Стюардесса стала разносить завтрак. Девушка выпила только кофе и вновь закрыла глаза. Покончив с едой, Эжен принялся приводить в порядок костюм. Рука его неожиданно нащупала что-то плотное. Письмо! Письмо отца, зашитое в подкладку пиджака!
Почему отец не прочитал ему письмо? И вообще, к чему вся эта таинственность!
В голове у него вертелась какая-то неясная мысль, он старался ее прогнать, но она снова и снова возвращалась к нему.
А что если отец посылает какие-то тайные сведения? Ведь все же он болгарин? Сколько раз он подчеркивал, что у него две родины... Нет, это невозможно! Он работает электроинженером на одном из самых крупных заводов Франции... Он не может вредить интересам его страны!
— Просим пристегнуть привязные ремни! Наш самолет прибывает в аэропорт Вены!
Голос стюардессы вернул Эжена к действительности. Он пристегнул ремни и взглянул в окно. Внизу простирался огромный город. Вот они, знаменитые холмы, о которых упоминается в сказках Гофмана... А вот и синяя лента Дуная! В голове зазвучала прекрасная музыка штраусовского вальса. Эжен любил музыку и хорошо играл на фортепьяно... В эту минуту колеса коснулись дорожки, и Эжен тут же забыл о своих тревогах. Пропустив вперед свою спутницу, он вышел из самолета.
— Простите, я забыл вам представиться: Эжен Йото́фф.
— Виолетта Василева Очень приятно!
— Виолетта? Фиалка! Ну конечно же, у вас почти фиолетовые глаза! Вам очень подходит это имя!
Разговор потек более непринужденно. Виолетта сообщила, что живет в Варне, где и собирается провести лето. Так что они могут встретиться, если он решит поехать на Черное море. А учится она в Италии, в Миланской консерватории. Летние каникулы проводит всегда дома, с родителями. Они обменялись адресами, и в эту минуту по радио сообщили, что пассажиры снова должны занять свои места.
Хотя знакомство обоим было приятно, разговор как-то не клеился. Виолетта думала: «Хорошо этому молодому человеку — едет себе отдыхать в Болгарию, побывает и на Черном море... Воспитанный, ничего не скажешь... Было бы неплохо поупражняться с ним во французском... Но о чем это я? До этого ли мне сейчас... А вдруг мое подозрение окажется верным?..
«Хорошо этой болгарке, — думал в свою очередь Эжен. — Возвращается домой, к родителям... Будь я на ее месте, я бы тоже радовался! Но что это я... Ведь сейчас я увижу родину отца. Ах, если бы не это письмо...»
«А вдруг синьора Грациани работает против Болгарии? Тогда получается, что я — их курьер. И уже в третий раз выполняю их поручение...» — Виолетта изо всех сил сжала подлокотники кресла, так, что косточки на пальцах побелели. «Но что же мне делать? Может, сжечь письмо? А подарки?.. » Если она не передаст кому надо подарки синьоры Грациани, как же она вернется в Италию?.. Но с другой стороны, долг обязывает ее... Однако, если сомнения подтвердятся, тогда прощай консерватория, прощайте мечты о большой сцене! И она вспомнила свой последний день в Милане.
...Она быстро шла по бульвару Мандзони, нагруженная пакетами с подарками. Проходя мимо здания «Ла Скалы», несколько замедлила шаги... А вот и знаменитый Дуомский собор в готическом стиле. И в этот раз она не удержалась и отошла в дальний конец площади, чтобы издали полюбоваться величественным зданием. Забыв обо всем на свете, она смотрела на скульптуру мадонны, венчавшую один из куполов этого архитектурного шедевра...
И только свернув в улочку, где находился ее пансион, Виолетта почувствовала, насколько она устала. Но несмотря на это, девушка буквально взлетела на четвертый этаж. Дверь в комнату хозяйки была слегка приоткрыта. Виолетта постучала, но никто не ответил. Тогда она вошла в комнату. На столе лежало письмо, а рядом конверт. Виолетта не была любопытной, но что-то подтолкнуло ее к столу. Конверт был надписан. Письмо предназначалось некоему Ивану Дюлгерову, проживающему на улице... Взгляд Виолетты скользнул по наполовину исписанному листку. Сверху стояла дата и обращение: «Дорогой Иван!». Рядом с недописанным письмом лежал машинописный текст. Адресат был тот же. Явно, хозяйка переписывает письмо, напечатанное на машинке. Виолетта направилась было к двери, но тут ее словно что-то кольнуло: у синьоры Лиляны не было машинки с болгарским шрифтом. Значит, она попросила кого-то напечатать письмо, может быть, продиктовала его, а теперь переписывает от руки. Но зачем? Тем более, что за машинописные услуги нужно платить, а ведь хозяйка дрожит над каждой лирой, торгуется со своими съемщиками из-за каждой мелочи...
Виолетта закрылась у себя в комнате и прилегла отдохнуть на кушетку. Из ума не выходило это письмо...
Синьора Лиляна была по происхождению болгаркой. Много лет назад она вышла замуж за итальянца Грациани, расстрелянного фашистами за то, что он укрыл в своем доме американца. Это случилось незадолго до капитуляции фашистской Италии. У синьоры Лиляны не было детей, но она не жаловалась на судьбу. Не так давно она превратила свой огромный дом в пансион, и жила довольно безбедно.
Из холла донеслись чьи-то шаги. Немного погодя по всему этажу разнесся громкий голос синьоры Грациани, распекавшей экономку за то, что та не заперла входную дверь. Потом снова стало тихо. Наверно, синьора Лиляна села дописывать письмо.
... Виолетта вышла из комнаты и, подойдя к комнате хозяйки, громко постучала
— Синьора Грациани, я иду в кино. Письмо готово? — от взгляда Виолетты не ускользнуло, что хозяйка быстро прикрыла напечатанный на машинке текст газетой.
— Ты извини меня, милая. Совсем я выбилась из сил... Пока накупишь всем подарки... Я его еще не начинала...
— Ну что ж, тогда завтра. Самолет улетает в одиннадцать утра.
— Да, так будет лучше всего. Я приготовлю письмо рано утром. Тебе непременна нужно будет ознакомиться с его содержанием, ведь должна же ты знать, что везешь!
Утром следующего дня синьора Грациани вручила Виолетте письмо и мелкие подарки для знакомых в Болгарии — галстук, носки, манометр, а также часы с кукушкой. В письме ни о чем подозрительном не сообщалось. Интересно, зачем ей понадобилось прикрывать лист газетой?
...По радио сообщили, что самолет летит уже над Болгарией. Виолетта вздрогнула, возвращаясь к действительности. Посмотрела на соседа и даже попыталась улыбнуться. Однако улыбка вышла кривая, как будто девушка выпила горькое лекарство...
11
На станции Кричим, прежде чем свернуть к селу Стойки, они заправились бензином. Шофер и его спутники молчали, думая каждый о своем. Чавдара мучила совесть, что, не успев встретить мать, он оставил ее одну. Данчо старался выглядеть спокойным, даже посвистывал, хотя было видно, что он едва сдерживает нетерпение. Ему, выросшему в равнинной Добрудже, все было внове в этом горном крае. По склонам карабкались широколиственные деревья, стремительно неслась вода в Выче, вспухшей от прошедших дождей.
Дорога свернула на восток. Она вилась у подножья горы Мурсалицы, вдоль Широколыкской реки. Лиственный лес сменился хвойным. Через полчаса они проехали город Широка-Лыку. Чавдар попросил шофера ехать помедленней, чтобы полюбоваться причудливыми миниатюрными мостиками через реку, по которым запрещался проезд на грузовом транспорте, Данчо же не мог оторвать глаз от горных склонов, поросших высокой сосной. Солнце еще не взошло. Глубокая тень лежала в ущелье. Вскоре должно было показаться село Стойки. Они приближались к месту преступления. Чавдара охватило волнение. Именно по этой дороге ехали те трое и Йотов, здесь же проехал и Ганев, чтобы расследовать совершенное преступление... Сумеют ли они добраться до истины?
Въехали в село. Шофер затормозил на площади у сельсовета и остался в машине. Он знал, что Чавдар не любит, когда оставляют машину без присмотра, кроме того хорошему хозяину всегда найдется дело, особенно, если иметь в виду, что машина уже прошла сто пятьдесят тысяч километров...
Вокруг машины тотчас собрались любопытные, главным образом ребятишки из летнего пионерского лагеря, который располагался в школе на холме. Чавдар и Данчо вошли в здание совета, а шофер разговорился с ребятами.
— «Волга» тогда остановилась точно на этом месте, — авторитетно заявил мальчуган с палкой, которой он размахивал, как саблей.
— Вечно ты высовываешься! — прервал его коротышка с корзиной, доверху полной спелыми помидорами.
— А где живет потерпевший? — спросил у них шофер, отвинчивая красные крышечки аккумулятора.
— Васил? Вон на том холме! — показал мальчуган палкой. — А вот видите высокую грушу? Там, в кустах, на него напали...
Шофер, приставив козырьком ладонь к глазам, оглядел рассыпавшиеся на холме домишки с живописными балкончиками.
— Меня послали за ним, потому как больно он задержался, — похвастался коротышка. — Я и говорю тетке Денке, что его ждут, а она испугалась, даже побледнела вся: «Да он же из Софии не приехал!» «Как, — говорю я ей, — не приехал? «Волга» внизу остановилась. Васил вышел и направился к дому, а его приятель куда-то уехал и еще не вернулся...» Тетка Денка побежала со мной в совет. Когда мы мимо кустов бежали, слышим, кто-то стонет. Посмотрели — он, лежит, а из головы кровь течет. Тетя Денка как заголосит, а я — прямо сюда.
В это время в лагере зазвенел школьный звонок.
— А где живет бабушка Рада, которая опознала нападавшего?
— Вон там, у дороги! — в один голос воскликнули ребята, убегая в лагерь.
Чавдар и Данчо провели долгий разговор с председателем и секретарем сельсовета, стараясь узнать как можно больше подробностей. Чавдар имел привычку основательно проверять каждый факт. Они осмотрели и место, где было совершено нападение на шофера «Волги», и лесок, где преступник спрятал машину после того, как похитил ценные документы из сумки одного из специалистов. По мнению председателя, преступник спокойно мог уйти пешком, так как машину нашли через два часа — проверяли только проходящие по дорогам машины, а пешеходов никто не трогал...
— Мне кажется, злоумышленник — местный житель, хорошо знающий здешние места. Ему ничего не стоило заранее высмотреть место для машины... — добавил секретарь. — И вы знаете, я все же думаю, что здесь не обошлось без Пирата...
— Как велся поиск? — спросил Чавдар.
— Все села были подняты по тревоге. Мы блокировали дороги, ведущие в Смолян, Девин и Пловдив. Наши посты проверяли все машины. Сначала мы думали, что преступник угнал машину и решил на ней скрыться... И лишь потом, где-то часов в десять вечера, когда она была обнаружена в кустах, поняли, что он похитил документы и ушел лесом, видно, чтобы отсидеться в каком-нибудь глухом местечке.
Было решено расспросить и бабушку Раду. Старуха поливала во дворе грядки — день обещал быть жарким...
В тот день бабушка Рада вышла к вечеру посидеть на скамеечке у ворот. Мимо прошел Васил и вежливо поздоровался со старой женщиной. Сказал, что приехал из Софии, правда, ненадолго. Они здесь проездом, ночевать будут в Рудоземе...
— А вы не слышали криков? Ведь на него напали в ста метрах отсюда... — нетерпеливо прервал ее Данчо.
— Да мне стало зябко, и я пошла в дом за шалью. А когда воротилась, смотрю — опять кто-то идет, высокий такой, как Васил... «Что-то больно быстро он возвращается», — подумалось мне. К тому времени стемнело уже, однако я поняла, что это не Васил. Присмотрелась получше и вроде бы узнала Ицко, то бишь Христо, его с детства «Пиратом» кличут. Мать его, покойница, все бывало бранилась: «Хватит тебе через чужие плетни перескакивать. Неужто ты и впрямь пиратом стать хочешь?» Это она потому так говорила, что перед Великим постом он, бывало, морским разбойником наряжался и бегал по селу с кинжалом в зубах. Потом, когда мать померла, Ицко исчез из села. Дом продал вместе с землей, а другого у них ничего не было. Люди говорят, что деньги те он все как есть спустил и даже, говорят, в тюрьме сидел... В село наезжает редко. Как-то раз я на кладбище его встретила... Сидит на могиле матери, слезы льет. Тогда мне еще подумалось, что не совсем он пропащий, раз приехал на могилу к матери. Стало быть, помнит ее...
— А когда он мимо шел, вы не окликнули его? — спросил Чавдар.
— Как же не окликнула! Ицко, — говорю ему, — это ты что ль? А он ровно и не слышит — еще быстрее зашагал. Только и успела я заметить, что усы отпустил. Я даже засомневалась, он ли, а потом гляжу, нервно так постукивает по ноге прутиком, а прутик держит в левой руке. Я ведь его с детства знаю — левша он... Стало быть, говорю себе, это Ицко...
— Так он это был, или не он? — нетерпеливо спросил Данчо.
— Что тебе сказать, сынок?.. Вроде бы, он... А может, и другой кто...
— Вы сообщили о своих подозрениях Ганеву... — начал было Чавдар.
— Да как же не сообщить! Пусть бы это мой сын был, я все равно бы сообщила. Он же на человека напал, голову ему проломил — чуть не убил, ирод... Еще вечером все и сообщила!
— Значит, все же вы уверены, что это Ицко? — начал терять терпение Данчо.
— Вроде бы он, а вот милиция говорит, что нет. Дескать, Ицко в то время находился в Тырново... И выходит, что я напраслину на парня возвожу...
Чавдар знал, что Ганев установил алиби Пирата. Однако рассказ бабушки Рады вызвал новые сомнения. Особенно важным Чавдар считал тот факт, что Пират — левша. И напавший на Ганева тоже, судя по всему, был левша...
Распрощавшись с бабушкой Радой, они пошли к машине. Еще издали увидели, что шофер копается в моторе. «Каждый сверчок знай свой шесток», — любил повторять он и никогда даже виду не подавал, что слышит, о чем говорит начальство, лишь тихо посмеивался, если речь шла о чем-то смешном....
Пообедали в селе. За столом секретарь сельсовета спросил Чавдара, как, по его мнению, преступнику удалось скрыться.
— Он просто обвел вас вокруг пальца. Заранее спрятал в кустах мотоцикл. Подъехал к нему на машине, взяв все, что ему было нужно, пересел на мотоцикл и прямиком в Софию...
— Откуда вам известно, что он уехал в Софию на мотоцикле? — удивился секретарь.
Вместо ответа, Выгленов обратился к Данчо:
— Ты заметил в кустах, недалеко от брошенной машины, след от мотоцикла?
— После того, как ты его обнаружил, — смущенно сознался Данчо. — Совсем свежий...
— Но почему именно в Софию? — настаивал секретарь.
— Во-первых, потому, что похищенные документы явно кому-то нужны в Софии, а не здесь, в Родопах... И во-вторых, потому, что этот путь был самым надежным. Кому придет в голову, что преступник может вернуться той же дорогой, по которой приехал в село, да еще на виду у всех...
— Верно! Я теперь припоминаю — такой мотоциклист здесь проезжал, — растерянно сказал председатель.
— Мы еще спросили его, не встретилась ли ему машина с софийским номером, и он ответил, что такую машину он видел, и шла она в Смолян, вроде бы без пассажиров... — добавил секретарь. — Помнится, он медленно выехал на главное шоссе, а потом с бешеной скоростью понесся в сторону Софии.
— Он вас перехитрил... А вы, случайно, не заметили номер этого мотоцикла? — с надеждой спросил Данчо.
— Помню только, что там были две семерки... вроде бы одна за другой...
Данчо принялся тщательно записывать в блокнот показания председателя и секретаря сельсовета.
— А как он выглядел, этот мотоциклист? Усы у него были? — поинтересовался Чавдар.
— Такой широкоплечий, видать, высокого роста, лет сорок пять-пятьдесят... Усов не заметил, а вот бородка — была, такая небольшая... Волосы спрятаны под шлемом...
«Видно, усы он снял после того, как наткнулся на бабку, и наклеил бороду», — решил Чавдар.
Распрощавшись с хозяевами, они сели в машину и выехали на шоссе, ведущее в Смолян. Чавдар оглянулся. Небольшие, веселые домики яркими пятнами выделялись на фоне нескошенных лугов. Картина была настолько живописной, что Чавдар не мог оторвать от нее глаз, пока Стойки не скрылись за поворотом.
12
Они сделали остановку в Смоляне и после краткого разговора в окружном отделении милиции отправились по новому шоссе в сторону Пловдива. Дорога, шедшая в гору, изобиловала крутыми поворотами. Когда глазам открылась плоская седловина Рожена, они решили остановиться. Лучшего места для радиосвязи не сыскать. Но Чавдар не спешил — до назначенного времени связи оставалось несколько минут, да и вид, открывавшийся отсюда, был настолько красивый — прямо дух захватывало. Насколько хватало глаз, голубели в летнем мареве величественные горные хребты, перемежающиеся с глубокими ущельями. По склонам вершин вилась черная лента асфальтового шоссе, обрамленного густым сосновым лесом. Высокие стволы сосен обросли мхом, который раскачивался на ветру будто длинная борода лешего.
Чавдар вернулся к машине и установил дополнительную антенну.
— «Молния», «Молния», я «Облако», я «Облако». Как меня слышите? Прием!
Спустя мгновение он услышал голос полковника.
— Товарищ полковник, докладывает Чавдар Выгленов. Все идет по плану. Сомнения в отношении Пирата подтвердились. Необходимо заехать в Тырново...
— Разрешаю. Только не спеши с выводами, не прибегай к крайним мерам, — ответил полковник.
— Слушаюсь... Мы установим за ним наблюдение.
— Помни: он лишь звено в общей цепи... Жду вашего вызова завтра в одиннадцать ноль-ноль. Конец связи.
— Вас понял.
Через два часа пути они спустились в долину, не останавливаясь, проехали Пловдив и свернули на север. До Велико-Тырново добрались только к вечеру. В местном управлении милиции им дали сведения о Христо Стоянове Крачмарове. Дежурный вспомнил, что такую же справку запрашивали и из Варны.
— Да, такой человек здесь был. Вот вам регистрационный список из гостиницы.
У Чавдара и Данчо вытянулись лица. Выходит, они ошиблись. Крачмаров, по кличке «Пират», которого бабушка Рада называла Ицко, две ночи провел в местной гостинице. Даты совпадали. Не мог же он одновременно быть и в Тырново, и в Стойках. Но вдруг Чавдар оживился.
— Ну-ка, Данчо, читай внимательно до конца...
— Дата рождения — 15 августа 1928 года, место рождения — село Краиште. Прибыл из Варны... Постоянный адрес — село Краиште... Работает в кооперативе...
— Но ведь он же работает в Варне, — вскинулся Данчо. — А тут написано, что в Краиште, в кооперативе..
— Вот именно. Обрати внимание и на другое Помнишь, о чем говорила бабка Рада? Наш общий знакомый родился и вырос в Стойках, а не в Краиште.
— Верно... Значит, это разные люди... Только зовут их одинаково. Я взял из доклада Ганева номер паспорта интересующего нас Христо Крачмарова.
— Отлично! — обрадовался Чавдар. — Ну вот, так я и знал — это совсем другой человек. Но мне почему-то кажется, что они связаны.... И один из них обеспечивает алиби другому. Вы не могли бы нам предоставить машину для поездки в Краиште? — обратился он к начальнику милиции.
— Разумеется, — вскочил с места начальник. — Я поеду с вами.
— Нет, нет! Вас там хорошо знают...
Вскоре Чавдар и Данчо в сопровождении низенького молчаливого работника управления отправились в Краиште. Прибыв в село, они разыскали партийного секретаря кооператива. Из разговора Чавдар узнал, что у этого Ицко золотые руки, но последние два года он здорово пьет. Живет один, неплохо зарабатывает, и все же в селе удивляются. Чтобы пить каждый день, нужны большие деньги. Откуда-их Ицко берет?
Выгленов попросил показать ему, где живет Ицко.
— Сам-то он, наверно, сейчас в корчме, но раз надо...
Машина остановилась на углу, откуда хорошо просматривался дом Ицко. В окнах было темно.
— А теперь — в корчму. Да побыстрее, — приказал Чавдар. И добавил: — Если он там, мы закажем себе ужин. Через пятнадцать минут я незаметно уйду. Ваша задача — любой ценой задержать его.
Секретарь парторганизации указал еще с порога:
— Вот он... за последним столом, в картузе...
Человек в картузе выглядел гораздо старше, чем можно было предположить. Чавдар попросил секретаря коротко описать сидевших за одним столом с Ицко.
— Один работает шофером автобуса, другой — счетовод. Люди вполне порядочные.
Чавдар незаметно вышел на улицу. Зайдя за угол, он ускорил шаг и спустя минуту очутился перед домом Крачмарова. Во дворе под навесом стоял мотоцикл. Так и есть — в номере две семерки. Чавдар ловко взобрался на подоконник открытого окна, спрыгнул вниз и зажег фонарик. Луч света выхватил из темноты аккуратно застеленную кровать возле стены, стол, покрытый пылью, и этажерку с книгами. Типично холостяцкое жилье. На стене — групповой портрет, наверное, родители и он, еще ребенком. На противоположной стене — картина, морской пейзаж. Над столом висела фотография молодого мужчины. Внизу наискосок шла надпись: «Троюродному брату Ицко на добрую память от Христо». В углу фотографии виднелась печать: «Фотоателье Дюлгерова».
«Так. Все ясно. Троюродные братья носят одинаковые имена в честь деда Христо. Их отцы — двоюродные братья, оба Стояны, отсюда одинаковое отечество — Стоянов», — рассуждал Чавдар по дороге к корчме. Ужиная, он прислушивался к громким голосам троих приятелей, доносившимся с последнего стола. У него уже составилось мнение о человеке, лихо заломившем картуз. «Добряк, абсолютно безвольный, покорный и беспринципный. Ни на что не способный — ни на плохой, ни на хороший поступок... Но легко поддается чужому влиянию... Наверно, за небольшую мзду выполнял поручения другого Ицко. Этим можно объяснить его пребывание в Велико-Тырново, где он ночевал в гостинице, чтобы обеспечить алиби своему родственнику... И мотоцикл свой ему дал...»
Вернувшись в окружное управление милиции Велико-Тырново, Выгленов попросил установить непрерывное наблюдение за Христо Стояновым Крачмаровым. Если к нему явится незнакомый человек, выяснить, кто он и проследить за ним.
На Велико-Тырново опустилась ночь, когда Чавдар и Данчо отправились в гостиницу. Древняя столица погружалась в сон. Лишь кое-где еще светились огоньки домов, расположенных амфитеатром, и Данчо показалось, что перед ними огромный небоскреб. Подобно исполинскому стражу высился над городом силуэт Балдуиновой башни. Тихо несла свои воды Янтра, омывая исторический холм Царевец...
Рано утром на шоссе, опоясывающее город широкой лентой, выехала машина с двумя пассажирами и понеслась на восток, где уже появилась алая полоска зари.
13
Прибыв на место, Чавдар и Данчо сразу же отправились в Сухой док. В отделе кадров им сообщили, что Христо Крачмаров вчера должен был выйти на работу после отпуска, но до сих пор не явился. В Варненском окружном управлении милиции они узнали, что Ганев не отдал никаких распоряжений относительно Крачмарова. Хозяйка дома, где он снимал комнату, подтвердила, что с воскресенья ее жилец дома не ночевал.
Оставалось выяснить еще одну подробность. Дело в том, что Крачмаров и Зико Златанов были земляками, а Златанов летом приезжал на дачу своей племянницы Ольги Златановой в курортное местечко Кранево, что недалеко от Варны.
Узнать, где расположена дача и собрать необходимые сведения об Ольге оказалось делом нетрудным. Родители Ольги погибли в автомобильной катастрофе, так что она была единственной владелицей дачи и каждое лето сдавала одну комнату. Один из съемщиков — некий Эрих Брюмберг в свое время не без ее участия был выслан за пределы страны: по свидетельству Златановой немец фотографировал секретные объекты. Златанова получила благодарность за проявленный патриотизм. Ее дядя, Зико Златанов, помогал своей племяннице, ежемесячно посылая ей денежный перевод в размере 50 левов. Известно было также, что Ольга Златанова намеревалась поступить в Театральный институт, но не прошла по конкурсу. Подозревать ее как будто было не в чем.
Около одиннадцати утра Чавдар и Данчо выехали в Кранево. сделав по пути остановку на высоком холме, откуда связались по радиостанции с Софией. В Кранево их ожидала неудача — дом Ольги Златановой оказался запертым на все замки. Соседи сообщили, что хозяйка на полгода уехала в Софию. Между прочим, как выяснил наводящими вопросами Чавдар, перед отъездом она виделась с Крачмаровым. Стало быть, с ним знакома. Чавдар решил воспользоваться этим обстоятельством при осмотре квартиры Крачмарова. Он попросил коллег из Варны выделить ему в помощь молодую сотрудницу управления и после обеда отправился с ней на квартиру Крачмарова. Назвавшись хозяйке братом и сестрой — близкими приятелями Крачмарова и Ольги, они попросили сообщить им софийский адрес Ольги или ее дяди, с которым, как им известно, Крачмаров дружит. В этот момент из глубины сада донесся шум падающих плодов — видно, туда кто-то забрался. Извинившись, хозяйка побежала в сад, где задержалась минут десять. Роль любителя чужих фруктов не без успеха сыграл Данчо, в задачу которого входило отвлечь внимание хозяйки с тем, чтобы Чавдар и его спутница в это время осмотрели комнату Крачмарова.
В глаза сразу же бросилась знакомая деталь — стены комнаты украшало множество фотографий, явно сделанных рукой того же фотографа, фамилию которого они увидели на фотографии в Краиште. На нескольких фотографиях здешний Крачмаров был запечатлен со сварочным аппаратом в левой руке.
К этому времени из сада возвратилась хозяйка. Извинившись перед посетителями за то, что «хулиган» задержал ее так долго, она угостила их инжировым вареньем и дала софийский адрес Златанова.
«Сестра» Чавдара как бы невзначай заметила:
— Какие хорошие фотографии, уж не Дюлгеров ли их делал? Он что, часто наезжает в Варну?.. Хотелось бы у него сняться...
— Часто, милая, часто, — закивала головой хозяйка. — Можно сказать, каждый месяц... В прошлую субботу тоже был. Кажется, они вместе с Христо и уехали, только вот не сказали куда...
«Очень даже возможно, что этот фотограф тоже замешан в деле», — подумал Чавдар.
На стенах управления Сухого дока также висело множество снимков, похожих на снимки Дюлгерова. Им сообщили, что, начиная с прошлой осени, фотограф Дюлгеров не раз приезжал на объект как фоторепортер одной из столичных газет. Выгленов попросил показать ему один из снимков. На обороте его стояла печать: «Фото Дюлгерова».
На расспросы Чавдара, заметил ли кто-нибудь особую связь Дюлгерова со сварщиком Крачмаровым, ему ответили отрицательно. Фотограф и Крачмаров производили впечатление людей малознакомых.
Тогда Чавдар спросил, когда в последний раз Дюлгеров был в Сухом доке. Оказалось, что первого июля.
«Значит, первого июля, — подумал Чавдар. А третьего июля, когда Крачмаров был уже в отпуске, в Стойках были похищены ценные документы. В субботу, седьмого июля, Ганев, закончив расследование, уехал из Варны. Дюлгеров, по свидетельству хозяйки, находился в это время здесь, хотя в Сухом доке его не видели. Он исчез вместе с Крачмаровым, и в ту же ночь было совершено нападение на Ганева близ Софии...»
Задача в Варне была выполнена. Можно было ехать в Софию.
14
Чавдару не терпелось поскорее вернуться домой. Он оставил машину Данчо, а сам с первым же самолетом вылетел в Софию.
На выходе из здания аэропорта его ждала служебная машина, и спустя десять минут он уже входил в кабинет своего начальника.
— Товарищ полковник, откуда вы узнали, что я решил вылететь самолетом?
Дружески улыбнувшись, полковник крепко пожал руку Чавдару:
— Как видишь, разведка работает безупречно. Ну, здравствуй! Докладывай.
Внимательно выслушав Выгленова, полковник согласился с его предположением, что Крачмаров и его троюродный братец — звенья одной цепи. Только вот где он сейчас обретается? Как его найти?
— Думаю, здесь нам помогут Ольга Златанова или некий фотограф Дюлгеров, — сказал Чавдар и сообщил полковнику сведения, собранные им об этом вполне возможном соучастнике расследуемого преступления. Он предложил также установить за Златановым наблюдение, чтобы выяснить, не встречается ли он с Крачмаровым и фотографом.
Выйдя от полковника, Выгленов распорядился узнать домашний адрес фотографа, а также местонахождение фотоателье. Потом позвонил домой и сказал матери, что непременно придет к обеду, только забежит в редакцию повидаться с одним знакомым.
День обещал быть напряженным. Но Чавдар любил такое напряжение, когда необходимо до предела сосредоточить свое внимание и волю, чтобы быстро и точно решать одну за другой возникающие проблемы.
15
Мать, радостно улыбаясь, встретила его на пороге. В доме пахло пирогами.
— Ну зачем ты себя утруждаешь, мама! Ведь не я у тебя в гостях, а ты у меня!
Пока Чавдар мыл руки, она любовалась статной фигурой сына. «Вылитый отец...» — подумалось ей, и ласковая улыбка осветила приятное, округлое лицо, на котором почти не было морщин.
Чавдар очень любил эту улыбку, ему хотелось, чтобы она подольше задержалась на лице матери.
— Такой пирог с брынзой не едал даже римский император! — воскликнул он, усаживаясь за стол. — Только ты умеешь делать его таким сочным и пышным.
И в доказательство своих слов он принялся уплетать пирог. Мать молча следила за ним, радуясь его аппетиту.
— А ты чего не ешь? — удивился сын.
— Ем, ем... не обращай на меня внимания! Лучше расскажи о своей работе? Тяжело?
— Да в общем-то нелегко, но интересно... Правда, иногда приходится по нескольку дней не вылезать из машины. Как, например, третьего дня... Тебя вот пришлось оставить одну...
После обеда Чавдар предложил:
— Хочешь, я сварю кофе, а потом поиграю тебе на пианино?
Слушая музыку, мать вспоминала, как друзья мужа по партизанскому отряду принесли ей губную гармонику, на которой муж любил играть в минуты отдыха. Чавдар быстро освоился с нехитрым инструментом, а теперь вон на какой гармонике играет... Глаза ее наполнились слезами...
Чавдар обернулся.
— Это еще что за слезы? Ты что, хочешь, чтобы инструмент отсырел? — пошутил он, подсаживаясь к матери.
— Да это я от радости, сынок... Разве мне доводилось когда-нибудь слушать такую музыку!
— А помнишь, мы с тобой в прошлом году ходили в оперу? Тогда еще давали «Травиату» Верди. Помнишь Виолетту? Мою девушку тоже зовут Виолетта... Она будет певицей. И на пианино играет куда лучше меня... Она очень красивая...
— Виолетта? Не нравится мне это имя... Из-за оперы...
— Но ведь не она его выбирала. Вот когда вы познакомитесь, верю, она тебе понравится. Мам, ты бы поспала немного... А мне предстоит важная встреча...
— Хорошо, сынок, — ответила мать, а сама подумала: «На какую это встречу он собирается? Небось, с этой Виолеттой... Должно быть какая-нибудь белоручка, раз только поет и играет на пианино... Взял бы лучше соседскую Йонку. И
работящая, и приветливая... и росли вместе. Эх, сынок, сынок...»
16
Самолет авиакомпании «Балкан» совершил посадку в аэропорту Софии.
Отстегивая ремни, Эжен вновь нащупал письмо, зашитое в подкладку пиджака. Он несколько нервно улыбнулся своей спутнице, и с нетерпением стал ждать, когда подадут трап.
«Будь что будет... Только бы скорее...» — думал Эжен.
«Надо было послать Чавдару телеграмму», — переживала Виолетта.
— Вас будут встречать?
— Нет. Я никому не сообщила о своем приезде, — попыталась улыбнуться Виолетта, хотя ей было совсем не весело.
— Мне кажется, за мной приедут на машине. Наверняка там найдется местечко и для вас, — вежливо продолжил Эжен, чувствуя себя неловко от того, что скрыл от девушки, что его отец — болгарин.
— Спасибо, не стоит. В центр идет автобус.
— Ну как хотите — несколько разочарованно вздохнул Эжен.
Когда все формальности были позади и пассажиры вышли в зал ожидания, Виолетта вдруг увидела в толпе встречающих Чавдара.
— Оказывается, меня тоже встречают! — радостно сообщила она и быстро направилась к Чавдару. Рядом с ним стояли высокий широкоплечий юноша и худенький мальчик, по всему видно, школьник. Он озабоченно вглядывался в лица прибывших пассажиров, явно, кого-то разыскивая.
— Евгений, держу пари, что это Эжен! Он похож на тебя, — воскликнул мальчик.
Услышав свое имя, Эжен быстро направился к ним, сконфуженно говоря на ходу Виолетте:
— Это мои двоюродные братья! Я забыл вам сказать, что мой отец родом из Заножене́.
— Зано́жене, — поправила его девушка, подходя к Чавдару и принимая из его рук розы. Чавдар неловко поцеловал ее. Щеки Виолетты залила краска, и она сама стала похожей на розу.
— Румен? Значит, это ты — Румен? — спросил Эжен по-болгарски. — А ты, стало быть, двоюродный мой брат Евгений? — Его почему-то смутил тот факт, что он может быть похожим на болгарина.
— Надо сказать не «двоюродный мой брат», а «мой двоюродный брат», — улыбаясь, вновь поправила его Виолетта.
— А, хорошо, я запомню: мой двоюродный брат.
Его представили Чавдару, и Эжен удивился, как тот хорошо говорит по-французски. На секунду он почувствовал себя среди своих, забыв о том, что прибыл из другой страны, забыв о письме, о своих тревогах. Интересно, кто он такой, этот красивый мужчина по имени Чавдар, которому многие приветливо улыбаются, как доброму знакомому? Эжену почему-то захотелось, чтобы Чавдар был не другом, а братом Виолетты. Легкая зависть кольнул а его. Красивая пара, что и говорить. Черноволосый Чавдар на целую голову выше русой Виолетты. Интересно, что и он, Эжен, на целую голову выше Франсуазы. И волосы у него тоже черные... Ему стало грустно, что Франсуаза сейчас так далеко...
По пути к стоянке такси Чавдар сообщил Виолетте:
— Не хотелось брать служебную машину. Случайно разговорился с соседями, — он кивнул в сторону Евгения и Румена, — и они предложили меня подвезти. Но сейчас мы возьмем такси.
— Какое еще такси? Да в нашей машине помещается как раз пять человек! — воскликнул Румен, которому не хотелось так быстро расставаться с Чавдаром. Он испытывал особое уважение к соседу.
— Да, но у нас много багажа!
— Багажник пустой, но если вы не хотите... — нерешительно промолвил Евгений.
— Пожалуйста, поедемте с нами! Ведь есть же место! — настойчиво подхватил Эжен.
— Ну хорошо... Если чемоданы поместятся, почему бы и не поехать.
— Кроме того, ведь мы же соседи! А соседи должны помогать друг другу! — безапелляционным тоном заявил Румен, подхватывая кожаную сумку Виолетты, и приглашая ее сесть рядом с Евгением. Два чемодана поставили в багажник. — Я же говорил, что мы все поместимся!
В этот миг Виолетта увидела Дюлгерова, человека, которому она должна была передать подарки от синьоры Грациани. Первым желанием Виолетты было остановить Евгения, который уже завел мотор, и передать тут же посылку Дюлгерову. Но странное дело, Дюлгеров, скользнув по ней взглядом, отвернулся и принялся вытирать платком потную лысину. Словно они совсем незнакомы! Виолетта хотела его окликнуть, но что-то остановило ее. Нет! Она должна рассказать все Чавдару, а потом будет видно...
Машина быстро шла по шоссе. Не может быть, чтобы Дюлгеров не узнал ее! Ведь она уже дважды привозила и передавала ему лично подарки от синьоры Грациани. Почему же в таком случае он отвернулся?! Они уже тронулись, как она увидела в боковое зеркало, что Дюлгеров почти бегом направляется к синей «Шкоде». Интересно, идет эта машина за ними или нет? Когда Евгений остановился у дома Чавдара, ей показалось, что синяя «Шкода» завернула за угол.
Попрощавшись со своими спутниками, Чавдар и Виолетта взяли с Евгения слово, что он непременно приведет к ним гостя, и вошли в подъезд.
17
Все время, пока лифт медленно поднимался на четвертый этаж, Чавдар с волнением думал о том, как произойдет встреча Виолетты с матерью. Поэтому прежде чем нажать кнопку звонка, он скороговоркой произнес:
— Знаешь, у меня в гостях мама. Она человек добрый, да и ты тактична... Мне кажется, вы понравитесь друг другу....
Виолетта задержала его руку:
— В таком случае, мне лучше уйти...
— Куда? Да и потом должен же я вас когда-нибудь познакомить!
— Нет, нет... Не сейчас... Я переночую у подруги.
— Но завтра мама уедет. Да и места всем хватит. Ты устроишься в моей комнате, мама — в гостиной, а я — на кухне.
— Да я не об этом... просто... мне нужно поговорить с тобой об очень важных вещах...
— В таком случае, я вас познакомлю, а потом мы пойдем в ресторан.
— Нет, это разговор не для ресторана...
Чавдар внимательно посмотрел ей в глаза. В них читались мольба, страх и неуверенность. Встревоженный ее состоянием, он пожалел о том, что привез ее сюда, но все же позвонил. Дома никого не оказалось. Открыв дверь ключом, Чавдар пропустил Виолетту вперед. Стол в гостиной был накрыт на двоих. Возле приборов белела записка.
«Чавдар, прости, но пришлось уехать, не дождавшись вас. В наш город идет машина, шофер — мой знакомый. Жаль, что не познакомилась с твоей девушкой. Познакомимся в другой раз. Мама».
Внизу была приписка:
«Не забудь вынуть пирог из духовки. Желаю приятного аппетита».
Чавдар протянул записку Виолетте.
— И мне очень жаль, — сказала девушка. — Но по крайней мере, можно не откладывать наш разговор.
— Сначала прими душ, потом мы поужинаем, а затем уже поговорим...
— Нет, нет! Сейчас! — настоятельно потребовала Виолетта и достала из чемодана письмо и подарки, предназначенные Дюлгерову
При первых словах ее рассказа на лице Чавдара появилась легкая улыбка. Ему подумалась, что Виолетта преувеличивает из чувства патриотизма. Однако когда он услышал, что синьора Грациани переписывала от руки текст, напечатанный на машинке, его ирония сменилась живым интересом. Внимательно слушая девушку, Чавдар принялся сосредоточенно рассматривать вещи. Подарки как подарки, ничего особенного: галстук, носки, манометр для легкового автомобиля, часы с кукушкой. Он взял письмо. На конверте значилось имя получателя: Иван Дюлгеров. Какой Дюлгеров? Уж не тот ли фотограф?.. Улица Средна-Гора... Так и есть, это адрес его ателье. Утром Чавдар провел целый час в кафе напротив, наблюдая за низеньким, лысым фотографом. Несмотря на полноту, он двигался очень энергично, и когда улыбался, во рту блестели золотые коронки зубов... Чавдар протянул фотографию Дюлгерова Виолетте.
— Этот?
— Да, это он! — удивленно воскликнула Виолетта.
— Чудесно. Твое сообщение очень кстати.
— Значит вы следите за ним. — Виолетта разволновалась. — Мне кажется, что этот человек был сегодня в аэропорту. Он сделал вид, что мы незнакомы, хотя я отлично видела, что он наблюдает за мной. Потом сел в синюю «Шкоду» и поехал за нами. Когда мы вышли из машины, я заметила, что «Шкода» завернула за угол...
— Надо было мне сказать об этом еще в аэропорту, — с укором заметил Чавдар. Он явно встревожился.
— Но там не было времени... — стала оправдываться Виолетта. — А что сейчас будет?
Ничего не сказав, Чавдар быстро поднялся с места и прошел мимо окна, стараясь, чтобы его было видно снаружи. Потом он выключил свет и пошел в другую комнату. Зажег там свет, вернулся в гостиную и приблизился к окну. Сквозь прозрачную занавеску он увидел человека, одиноко сидящего на скамейке в сквере. Подняв голову вверх, человек смотрел на освещенное окно. Чавдар отступил назад, молча взял Виолетту за руку и подвел ее к окну.
— Он?
— Да, это он, он! Дюлгеров! Теперь я нисколько не сомневаюсь, что видела его в аэропорту.
Чавдар оглядел сквер. На соседней скамейке сидела парочка. Молодой человек, наклонившись к уху девушки, что-то говорил. Эта поза позволяла ему незаметно наблюдать за Дюлгеровым. Выгленов улыбнулся: «Молодцы, ребята!» Он подошел к телефону и набрал нужный номер.
— Это ты, Данчо? Ну как там «наш подопечный»?
— К вечеру он выпроводил всех клиентов, закрыл ателье и сел в синюю «Шкоду». Сначала свернул по Раковского, но сделав круг, вернулся на Русский бульвар и отправился в аэропорт. Я — за ним. Там он, видно, кого-то поджидал. Увидев вашу компанию, постарался остаться незамеченным. Когда вы поехали, пристроился сзади и следовал за вами до самого дома. Свернув в соседнюю улочку, выключил мотор и прошел в сквер. Двое наших не спускают с него глаз.
— Отлично. Сейчас он сидит в сквере. Слушай меня внимательно. Подойди к нашему дому с футбольным мячом. Стань у меня под балконом и крикни: «Васко!» Васко — это парень, который живет под нами. Его сейчас нет дома. Потом скажи: «Оглох, что ли», — войди в подъезд, делая вид, что идешь к Васко. Жду тебя. Действуй!
— Есть действовать!
Тем временем Чавдар занялся «подарками». Виолетта удивленно наблюдала за тем, как он аккуратно разобрал манометр, затем снова его собрал. Отложив манометр в сторону, взялся за часы. Открыл дверцу ниши, откуда появляется кукушка. Кукушка, казалось, насмешливо наблюдала за его действиями.
— Ничего, кукушечка, ничего. Дай срок и ты закукуешь! — проговорил Чавдар и занялся шишечками, что служат на таких часах в качестве гирь. Они показались ему подозрительно тяжелыми. Тогда Чавдар стал их рассматривать в лупу. Ах вот оно что! На одной шишке блеснула точка размером с булавочную головку. И на другой тоже имелась такая же точка. Взяв иглу, Чавдар нажал острием на блестящую точку и, будто после заклинания: «Сезам, откройся!», в шишке что-то щелкнуло, и она раскрылась, словно раковина.
— Золото! — воскликнула Виолетта.
Чавдар взял щипцы и осторожно вынул из шишки кусочек золота.
Золото оказалось и во второй шишке.
— Теперь понятно, почему хозяйка просила меня не беспокоиться насчет пошлины, что мол, если надо, Дюлгеров сам заплатит...
— Да, наверняка Дюлгеров приручил эту кукушечку, вот она и носит ему золотые яйца! — пошутил Чавдар.
— Послушай, Чавдар! Но если вы арестуете этого человека, как же я вернусь в Италию? Мне всего-то год остался, — голос Виолетты дрогнул.
Чавдар нежно обнял ее за плечи.
— Не беспокойся! Мы сделаем это так, что он не узнает, кто его разоблачил.
В этот момент с улицы донесся крик: «Васко, Васко! Оглох что ли!», а спустя минуту в дверь позвонили.
Чавдар пошел открывать. Вернувшись в комнату с Данчо, он представил его Виолетте. Потом протянул ему письмо:
— Отдашь в лабораторию! Пусть побыстрее расшифруют и сразу же доставишь сюда...
Данчо отправился выполнять задание, а Чавдар и Виолетта сели за стол. Ужин проходил в молчании, казалось, Чавдар забыл о девушке. Но вот взгляды их встретились, в глазах его мелькнуло раскаяние:
— Виолетта, милая! Прости меня. Расскажи о себе... И ни о чем не беспокойся... Все будет хорошо...
У Виолетты отлегло от сердца, а когда Чавдар принес из кухни пирог с брынзой, она совсем повеселела
— Жаль, что твоя мама уехала, а то бы я ей сказала, что такого вкусного пирога в жизни не ела. Женщине такая похвала всегда приятна. А завтра я тебя буду кормить. Что захочешь, то и приготовлю. И вообще, я согласна готовить тебе всю жизнь...
Они весело рассмеялись, но улыбка тотчас сбежала с лица девушки, когда она услышала, что говорит ей Чавдар:
— Завтра же утром передашь все Дюлгерову.
— И часы с золотом?
— И часы тоже... В дальнейшем они послужат доказательством. И сразу же отправишься к родителям.
— А ты? Разве ты не поедешь со мной к морю?
— Тебе нужно ехать одной, чтобы он ничего не заподозрил. Ты передала подарки и торопишься к родителям. Что может быть убедительнее? И тогда мы сможем действовать спокойно, не торопясь.
— Но как я посмотрю ему в глаза после того, что сейчас узнала?
— Сделаешь вид, что тебе ничего не известно. И вообще, я не понимаю, почему ты так волнуешься?
— Конечно, ты прав! — ответила Виолетта, успокаиваясь. — Я постараюсь хорошо сыграть свою роль, ты будешь доволен.
— А теперь давай его отпустим... Я думаю, как только мы погасим свет, он уйдет.
Чавдар повернул выключатель, и гостиная погрузилась в мрак. Они осторожно подошли к окну. Дюлгеров продолжал неподвижно сидеть на скамейке.
— Он что, всю ночь сторожить нас собрался? — встревожилась Виолетта.
— Не беспокойся, сейчас он уйдет. Ему надо убедиться, что я никуда не делся.
И действительно, подождав еще немного, Дюлгеров загасил сигарету и, окинув еще раз взглядом темные окна на четвертом этаже, направился к машине. Молодая пара с соседней скамейки, обнявшись, зашла за кусты сирени. Очень скоро оттуда вышел мужчина. Подняв воротник куртки, он, прихрамывая, направился к стоящей за углом машине.
— Вот молодец! Как быстро преобразился! — засмеялся Чавдар. — Теперь он на машине поедет следом за Дюлгеровым...
— А девушка его вышла с другой стороны кустов и пошла на трамвайную остановку... — заметила Виолетта.
— Верно, — усмехнулся Чавдар. — Придется тебя зачислить в штат.
— Я вам не подойду, мне выдержки не хватает.
— А мне ты именно такой нравишься — нежно глядя на девушку, промолвил Чавдар.
Тут зазвонил телефон. Чавдар поднял трубку. На другом конце провода сообщили, что Дюлгеров вернулся к себе домой.
18
Первое, что сделал Эжен, войдя в дом, это попросил тетю дать ему ножницы, назвав их при этом «ножнами», что привело Румена в неописуемый восторг.
Получив ножницы, Эжен закрылся в спальне и вспорол подкладку пиджака. Достав конверт, он переложил его в карман,так как не хотел,чтобы дядя узнал о том, что он прятал письмо. После этого принял душ и вышел к столу. Все уже ждали его. Настроение у Эжена было отличное: он весь ужин шутил, много рассказывал о матери, об отце, о Париже, причем почти не делая ошибок.
Трифон Йотов выглядел мрачным и хмурым. Он почти не слушал рассказ Эжена, редко смеялся его остротам и еще реже задавал вопросы. Но Эжену это не казалось странным, потому что его отец тоже был не из разговорчивых, и он решил, что это фамильная черта Йотовых. Маргарита чувствовала себя усталой. Она поздно вернулась домой — после обеда в школе проводилось заседание педсовета. Ужин не был готов, а ей хотелось приготовить что-нибудь повкуснее. вот и провозилась. Зато ужин удался на славу. Гость ел с удовольствием, нахваливая тетину стряпню.
После ужина Маргарита предложила Эжену идти отдыхать, высказав предположение, что он, должно быть, устал с дороги. Молодой человек решительно воспротивился, тем более, что вспомнил данное матери обещание позвонить. Когда был заказан разговор с Парижем, Эжен подсел к Трифону:
— Мне нужно тебе кое-что сообщить, дядя... Папа просил передать...
Трифон Йотов предложил Эжену пройти в кабинет.
— Может, возьмем Румена переводчиком? — сказал он, улыбаясь.
— Да нет! Я сам расправлюсь...
— Ха-ха-ха! — зашелся смехом Румен. — Кто же так говорит! Нужно сказать не «расправлюсь», а «справлюсь»...
Плотно прикрыв дверь кабинета, Эжен протянул дяде письмо.
— Это тебе. Отец просил прочитать и как можно скорее дать ответ...
Трифон Йотов вынул письмо из конверта. Вначале брат писал о своих делах, о жене, а затем перешел к вопросу об изобретении. Он сообщал Трифону, что согласен на тридцать процентов от общей стоимости патента, а семьдесят процентов будут внесены на имя Йотова в один из парижских банков. «Думаю, этих денег хватит Евгению, чтобы получить образование во Франции», — писал брат. Затем он перешел к практическим советам, как переслать чертежи, используя при этом чемодан Эжена с двойным дном. Причем Эжен не должен знать, что в его чемодане пересылаются документы, потому что может отказаться взять их. В конце брат просил непременно свозить Эжена в Заножене.
Трифон прочитал письмо брата вслух перед всеми членами семьи, старательно избегая тех мест, где говорилось об изобретении.
— Да, да! — оживился Эжен. — Папа очень хотел, чтобы я побывал в Заножене́!
— Да не Заножене́, а Зано́жене! — нетерпеливо поправил его Румен.
Все рассмеялись тому упорству, с которым Румен поправлял ошибки своего парижского двоюродного брата.
— Ты меня исправляй, Румен! Болгарский язык очень трудная...
— Ну вот опять... Не трудная, а трудный, — сказал Румен к всеобщему удовольствию.
В это время зазвонил телефон.
— Париж заказывали? — прозвучал в трубке голос телефонистки.
После разговора с Парижем все пожелали друг другу «спокойной ночи», и вскоре в квартире воцарилась тишина, Только Йотов долго не мог уснуть. Предложение брата вызвало в его душе бурю чувств. Предположим, что его уволят с работы, разве он и в таком случае не сможет распоряжаться собственным изобретением и тем самым обеспечить Евгению необходимые средства? Хотя о чем это он! Разве возможно, чтобы его уволили, чтобы его место занял негодяй!?
Трифон долго ворочался в постели и лишь под утро забылся тяжелым сном.
19
Чтобы не тревожить уставшую с дороги Виолетту, Чавдар перенес телефон в кухню, подсел к столу и принялся внимательно изучать текст письма синьоры Грациани. Совсем обыкновенное письмо. Оно даже свидетельствовало о патриотических чувствах болгарки, вынужденной жить вдали от родины. Но что-то в нем настораживало даже с первого взгляда, и Чавдар перечитал письмо в третий раз. Вот что в нем было написано:
Милан, 3.VI.1980 г.
Дорогой Иван!
Помнишь пианистку, которая привезла тебе весть от меня прошлым летом к Петрову дню?
Ее зовут Виолеттой. Ока отправляется в Софию на летние каникулы. Заедет по пути на несколько дней в Париж. В Софию прибудет, вероятно, после 10-го.
Так вот, с этой Виолеттой посылаю тебе часы-кукушку, манометр для машины, носки и галстук.
Галстук — с 50-процентным содержанием шелка. Знаю, что тебе очень нужно золото для зубов, но, к сожалению, золото пересылать нельзя.
А теперь, открой внимательно коробку с часами, чтобы не сломалась кукушка. Повесь часы на крепкий гвоздь.
Часы заведешь, потянув за обе шишки. Каждый раз, как закукует и покажется кукушка, вспоминай обо мне.
Прошу тебя, сообщи все ли дошло благополучно.
1-го августа поеду в Рим, так что поспеши с ответом.
Увижусь с Симо, который будет там в это время, он расскажет мне о тебе.
В Риме останусь недолго. Собираюсь вернуться числа 12-го.
Или, возможно, 16-го, так как здесь меня некому заменить.
Во всяком случае, останусь там 15 дней, не более, потому что к этому времени ко мне начнут прибывать новые жильцы.
По нескольку часов в день приходится тратить на них, хотя у меня есть помощники. Но везде нужен свой глаз.
Помню, еще мама говорила: трудолюбие — ключ к богатству.
Мне бы 55, а не 5 пальцев иметь на каждой руке, всем бы нашлась работа. Нравится мне, что в Болгарии все трудятся, поэтому и благоденствие у вас возрастает с каждым днем.
Всем, кто обо мне справляется, подробно говори о моем положительном отношении к социализму, я очень хочу хоть на месяц приехать в Болгарию, повидаться с тобой...»
Дальше синьора Лиляна вспоминала о своем погибшем муже и просила Дюлгерова прислать ей его новую фотографию.
Словом, письмо было насквозь фальшивым. Чавдар был почти убежден, что оно написано специальным шифром.
Поздно вечером, когда Виолетта уже спала, а Чавдар продолжал ломать голову над письмом, подыскивая всевозможные комбинации слов, зазвонил телефон.
Данчо сообщал, что попытки обработать письмо специальными препаратами не дали никаких результатов.
— Я и предполагал, что эта синьора не станет употреблять симпатические чернила. В таком случае, нужно подобрать шифр...
— Ребята сейчас над этим работают. Какие будут указания?
— Пусть продолжают работу, если надо — всю ночь. Дело не терпит отлагательства. А ты принеси сюда оригинал и фотокопию письма.
Не прошло и получаса, как Данчо прибыл к Чавдару.
— Уж не хочешь ли ты стать дешифратором? Вот, возьми фотокопию... Я тоже попытаю свои силы...
— Раз так, — улыбнулся Чавдар, принимая из рук Данчо листок, — поломай тогда голову над такой подробностью: почему в письме стоит дата 3 июня? Ведь Виолетта уехала в начале июля. Случайно ли пропущена палочка в римской цифре или нарочно?
— Верно, интересная деталь, — сказал Данчо на прощанье. — Надо будет подумать.
Чавдар вновь взялся за листок, стараясь составить нужную комбинацию слов. Уже давно миновала полночь, а Чавдар все еще бился: над загадкой. Из шифровального отдела тоже не было вестей. Чавдар сварил себе кофе, продолжая лихорадочно думать. А что, если ключ к письму — цифра 3 или, быть может, VI? Но как, в таком случае, им пользоваться? Разгадка была где-то недалеко, и Чавдар почувствовал волнение, как охотник, настигающий добычу.
Сначала он выписал каждое третье слово, потом проделал то же самое с каждым шестым — получалась какая-то бессмыслица. Тогда он принялся чередовать: каждое третье из первого предложения и каждое шестое — из второго и так далее. Но и это не дало никаких результатов. Однако он не отчаивался, помня свое железное правило: если зашел в тупик, вернись обратно и начни искать другой путь.
Внимательно перечитав письмо, Чавдар заметил, что почти каждое предложение начиналось с абзаца, хотя это противоречило правилам грамматики. Это как бы подсказывало, что счет слов должен вестись с каждого абзаца. Первая попытка оказалась неудачной, но, когда он выписал каждое третье слово из каждого второго абзаца, получилось следующее: Виолеттой, 50%, открой, сообщи, Симо, 16-го, часов, 55...
Тогда он выстроил все шестые по счету слова из предложений, начинающихся с абзаца, — считая от первого, через абзац — и получился еще более непонятный набор слов: тебе, посылаю, золото, шишки, так, 15, ключ...
Чавдара охватило отчаяние. У него даже мелькнула мысль, правильно ли он поступает, тратя столько времени на фотографа? Может, синьора Грациани отдает ему какой-то давнишний долг, посылая золото? Или Дюлгеров связан с каким-то зубным врачом, который тайно изготовляет золотые коронки, а шпионажем тут и не пахнет! Чавдар даже тряхнул головой. Нет! Не так все просто! Его связь с Крачмаровым? Тут и не похоже на бескорыстную дружбу. А золото? Наверняка — это плата за шпионскую деятельность! Небось, в каком-нибудь европейском банке и счет открыт на его имя. В письме много цифр... Может, Грациани определяет ему даты встреч... Дает пароль... Но в каком же порядке должны располагаться слова?
20
Над Витошей появилась светлая полоска рассвета, которая постепенно росла и ширилась. Светало. Интересно, почему молчат из отдела? Может, в письме используется незнакомый до сих пор код? Чавдар еще раз внимательно вгляделся в выписанные слова. И тут ему бросилось в глаза, что некоторые из них как бы связываются друг другом. А что если каждое третье и каждое шестое слово сочетаются в определенной комбинации? Хотя бы так: шестое слово из первого предложения связывается с третьим словом из второго. Сразу получилось: «Тебе Виолеттой посылаю 50% золото», «открой шишки»... Спустя несколько минут перед ним лежал следующий текст: «Тебе Виолеттой посылаю 50% золото. Открой шишки. Сообщи так Симо — 16-го, 15 часов, ключ 55.Передавай 13-го 15 часов. 14 августа в обед подробно. Нельзя ли увеличить шесть на шесть? Можно, но останется белая полоска внизу». Явно, разгадка шифра была найдена, хотя оставались непонятные фразы. Тем не менее, принадлежность Дюлгерова к шпионской сети можно было считать почти доказанной. Но кто такой Симо? И что это за ключ 55? Приказано передавать 13-го в 15 часов. Но что? Какие-нибудь сведения или что-то другое?.. Что должен был узнать Дюлгеров 14 августа? Две последние фразы, вероятно, означали пароль — вопрос и ответ. К Дюлгерову должны были прийти с паролем, или наоборот, он должен отправиться куда-то? Наверное, все-таки, к нему, ибо совершенно естественно спросить у фотографа, сможет ли он увеличить фотографию размером 6 × 6. А фотограф должен дать ответ. И если фотография квадратной формы, то, разумеется, внизу останется белый кант. Значит, нужно не спускать глаз с Дюлгерова, и узнать, кто такой таинственный Симо и тот гость, который, несомненно, прибудет из-за рубежа, раз он станет давать подробные объяснения...
Чавдар набрал номер отдела и сообщил шифровальщикам о своем открытии. На другом конце провода сказали, что они тоже близки к такому решению и полностью принимают его вывод.
Часы показывали половину пятого. Чавдар решил хоть немного вздремнуть, хотя от возбуждения спать не хотелось. Он прилег, дав себе команду подняться ровно в шесть,и словно провалился куда-то... Проснулся ровно в шесть, чувствуя себя бодрым и полным сил. Быстро вскочил, умылся, поставил кофе и пошел будить Виолетту. Девушка лежала в постели, но не спала.
— Я думала, ты еще не проснулся, поэтому не хотела шуметь. Ты вчера, наверно, допоздна работал, — сказала она. — Ну что, разгадал?
Желая ее успокоить, чтобы она не выдала себя своим волнением перед Дюлгеровым, Чавдар сказал:
— Думаю, он спекулирует золотом... Продает по баснословной цене какому-нибудь зубному врачу. Все ему отдашь так, как есть. И ни о чем не беспокойся. Вставай, будем пить кофе. Поезд уходит в одиннадцать.
— Неужели ты мне не разрешишь хоть на денек остаться в Софии?
— Нет, пойми меня правильно. Ты должна уехать сегодня же. Это даст тебе основание не задерживаться у него. Подчеркнешь, что сегодня же утром уезжаешь в Варну, к родителям. Он может проследить, действительно ли ты уедешь, так что ты должна это сделать. Перед отходом поезда позвони мне, пожалуйста, чтобы я знал, как прошла встреча. И еще раз повторяю: ни о чем не беспокойся. Наши люди не спустят с тебя глаз.
— Вы что, станете за мной следить? — слегка обиженно удивилась Виолетта.
— Это необходимо для твоей же безопасности.
Выйдя из дома, Чавдар направился к трамвайной остановке. Несколько в стороне от главной аллеи на скамейке сидел человек с сигаретой в руке. Хотя он отвернулся, Чавдар сразу же узнал вчерашнего любителя свежего воздуха. «Дюлгеров уже на посту! Конечно, ему же нужно узнать, куда направится Виолетта».
Ровно в семь Чавдар был у полковника. Туда же вызвали дешифраторов и Данчо.
— Думаю, нам удалось прочесть текст письма, товарищ полковник! — отрапортовал Чавдар. — Вот он!
— Это окончательный вариант? — спросил полковник.
— Да. Теперь предстоит узнать, что скрывается за этим текстом.
Когда они остались с полковником вдвоем, Чавдар сообщил ему о своем предложении, чтобы Виолетта, как ни в чем ни бывало, передала письмо и посылку Дюлгерову. Получив согласие полковника, Чавдар позвонил домой:
— Виолетта, ты готова? Тогда выйдешь из дома в восемь часов.
Потом они принялись обсуждать план действий. В распоряжение Чавдара было предоставлено большое число людей и необходимая техника. Медлить было нельзя.
21
Эжен проснулся рано. Все в доме еще спали. Он сразу вспомнил свой сон... Ему снилась Франсуаза. Удивительным было то, что он разговаривал с ней по-болгарски.
«Не забывай меня, — просила его Франсуаза. — Болгарки такие красивые, у них роскошные черные волосы...»
«Но у Виолетты голубые глаза и русые волосы...» — возразил он.
«Как вы хорошо говорите по-болгарски», — похвалил его невесть откуда взявшийся Румен.
В эту секунду появилась мать Эжена.
«В Болгарии все черное, — строго промолвила она. — Черное море, Черная вершина... Будь осторожен, сынок».
«Но мама, ты ошибаешься! — засмеялся Эжен. — Я не видел здесь ничего черного».
«Письмо! Береги письмо!» — вмешался отец.
«Зачем мне его беречь! Да в нем ничего нет. Дядя Трифон прочитал его вслух. Кстати, он обещал свозить меня в Заножене́...»
«Ты хорошо говоришь по-болгарски, но не Заножене́, а Зано́жене!» — снова сказал Румен.
«Зано́жене! Правильно я говорю, Румен?»
Последние слова он произнес вслух. Румен вскочил:
— Что ты говоришь, Эжен?
— Зано́жене... Правильно?
— Абсолютно правильно, — согласился Румен.
В этот момент их позвали завтракать. Мать попросила не шуметь, так как отец вчера долго не ложился, и Румена вновь охватила тревога. Как, как он может помочь отцу?
Мальчик в задумчивости подошел к окну. И вдруг лицо его оживилось.
— Скорее, скорее! Смотрите, кто идет к остановке, — закричал он так радостно, что Евгений и Эжен тут же бросились к окну.
Через сквер медленно шла Виолетта. Русые волосы золотились в лучах солнца. В руке у нее был пакет. Эжен подумал: «Как она похожа на Франсуазу...» А Евгений вдруг вспомнил о Руже...
Они позавтракали и отправились на машине осматривать город. Поднялись и на Витошу. Эжену показали Боянскую церковь со старинными фресками. Огромное впечатление на него произвела фреска «Тайная вечеря», где неизвестный художник нарисовал на столе хлеб, луковицы, репу — пищу бедняков этого края. Евгений сообщил, что эти фрески датируются периодом, более ранним, чем эпоха итальянского Возрождения. Это привело Эжена в неописуемый восторг, и он что-то быстро промолвил по-французски.
— Он говорит, что ужасно грустно, когда такие таланты остаются неизвестными современникам, — перевел Румену Евгений.
Потом они поднялись на смотровую площадку у ресторана «Копыто». Внизу раскинулся прекрасный город. Сердце Эжена наполнилось гордостью за родину своего отца, которая была не менее красива, чем его Франция...
22
Выйдя из трамвая, Виолетта направилась к улице Средна-Гора. Она шла быстрой, энергичной походкой, стараясь скрыть охватившее ее волнение. Она заметила Дюлгерова еще на трамвайной остановке возле дома Чавдара. Он сел во второй вагон, и сейчас она точно знала, чувствовала, что он идет за ней следом.
Подходя к фотоателье, Виолетта замедлила шаги и стала озираться по сторонам. Сзади, совсем рядом, раздались тяжелые мужские шаги. Виолетта на секунду замерла от страха, но потом решительно тряхнула головой: чего это она! Почему она должна бояться этого негодяя?! Пусть он дрожит от страха!..
Дверь ателье была заперта. Девушка несколько раз нажала кнопку звонка. В этот момент кто-то остановился рядом с ней.
— Простите, вам кого?
— Того, кто мне нужен, я сама найду, — несколько с вызовом ответила Виолетта, не глядя на спрашивающего, и снова позвонила.
— Отодвиньтесь, пожалуйста, чтобы я мог отпереть. Дело в том, что я — фотограф, — любезным тоном сказал Дюлгеров. — Вы хотите сфотографироваться?
Открыв дверь ключом, он широко распахнул ее, подперев табуреткой. Затем обернулся к Виолетте, приглашая ее войти.
— А, так это вы — товарищ Дюлгеров! — улыбнулась Виолетта. — А вы меня разве не помните? В прошлом году я к вам приходила...
— Да, я Дюлгеров, но вас я что-то не припомню...
Виолетте ужасно хотелось бросить ему в лицо: «Не притворяйся, ты прекрасно знаешь, кто я такая», но она сдержалась.
— Я привезла вам письмо и подарки из Милана от вашей знакомой синьоры Грациани. Она посылает вам привет...
— А, вспомнил, — быстро прервал ее Дюлгеров. — Вы учитесь в Милане. Ну, как там моя знакомая? Давненько я не получал от нее вестей... Да вы присядьте, пожалуйста...
— Синьора Грациани посылает вам вот это...
— Очень вам признателен! — сказал Дюлгеров, принимая пакет из рук девушки. — Хотите кофе?
— Нет, спасибо. Я очень спешу. Еду в Варну, к родителям.
— А когда обратно в Италию?
— Не раньше начала ноября.
Тут в ателье вошел молодой человек лет двадцати, в пестрой рубашке, расстегнутый ворот которой открывал волосатую грудь. Виолетта быстро поднялась с места.
— Но постойте, — попытался задержать ее Дюлгеров и недружелюбно обратился к пришельцу: — Что вам угодно?
— Мне срочно нужно фото... На сегодня...
— Но кому вы собираетесь его дарить, молодой человек. Хотя бы галстук повязали, если уж нет белой рубашки!
— Я тороплюсь. Поезд уходит в одиннадцать часов. До свидания! — скороговоркой проговорила Виолетта и протянула фотографу руку.
— До свидания! Заходите снова, когда будете в наших краях.
— Непременно, — ответила Виолетта, изумленно глядя на молодого человека: ей показалось, что он ей подмигнул. «Нахал!» — подумала девушка, выходя на улицу.
— Наверное, вы правы: неловко как-то без галстука, — согласился молодой человек и, распрощавшись, вышел вслед за девушкой. Дойдя до угла он оглянулся: никто за ним не следил. Тогда он догнав Виолетту и тихо сказал: — Я от товарища Выгленова, он выслал за вами машину... Она здесь, за углом...
В ожидании Виолетты Чавдар перечитал доклад начальника оперативной группы, которая вела наблюдение за Дюлгеровым. На первый взгляд ничего особенного за ним не замечалось. Ведет довольно замкнутый образ жизни, почти не принимает гостей, встречается только с сотрудниками газеты, в которой подрабатывает. В редакции обычно бывает во второй половине дня и долго там не задерживается. Сдав фотоматериал — снимки какого-нибудь строящегося завода или пускового объекта, и получив новый заказ, уходит. В прошлом месяце дважды заказ был связан с поездкой в провинцию. Его фотографии высоко ценятся специалистами. В институте, где работает Йотов, бывал лишь однажды. Именно тогда и произошла их встреча... «Интересно, зачем они встречались? — подумал Чавдар. — Видимо, в связи со снимками. И все же, нужно проверить...»
Чавдар еще раз прочитал письмо синьоры Грациани, обращая особое внимание на даты. До четырнадцатого августа, когда скорее всего к Дюлгерову должен явиться некий иностранец, времени было еще достаточно. Но он все же подчеркнул строчки: «Сообщи Симо 16-го, 15 часов, ключ 55. Передай 13-го 15 часов.»
Нужно самому заняться этим вопросом. Наверняка Дюлгеров попытается сообщить Симо, что сегодня в 15 часов нужно пустить в ход ключ 55. Не может быть, чтобы Дюлгеров не встретился сегодня с этим самым Симо!»
В кабинет вошла Виолетта. Она была счастлива, что успешно справилась с поставленной перед ней задачей,и ожидала, что Чавдар похвалит ее. Кроме того, она надеялась, что они смогут спокойно поговорить у него в кабинете, не боясь, что им кто-то помешает, так как до поезда оставалось целых полтора часа.
— Извини меня, дорогая, — с сожалением сказал Чавдар, — но нам придется попрощаться. Мне нужно срочно заняться одним вопросом. Ты должна меня понять...
— Понимаю, — ответила девушка с обидой в голосе. — Но если у тебя всю жизнь не будет хватать получаса, чтобы поговорить с женой, стоит ли вообще жениться?
— Ах, женщины, женщины! — попытался пошутить Чавдар, вспомнив, что и мать тоже уехала, обидевшись на него, хотя и по другому поводу. — Ну представь себе, что у тебя концерт, а я предлагаю тебе отправиться на Витошу. Поедешь? Конечно же нет! Так вот сегодня у меня концерт, при чем ответственнейший!
Он притянул ее к себе и крепко обнял. Постояв так некоторое время, вздохнул и нажал кнопку звонка, вызывая шофера.
— Твои концерты всегда проходят в темпе «престо»... Но знаешь, я тоже люблю динамичную музыку. В общем, желаю тебе успеха и жду в Варне. А машину вызывать не надо, чемодан легкий и я отлично доеду на трамвае.
— Зачем ты так? Я поеду с тобой, а уже с вокзала отправлюсь по делам.
— Ну, это другой вопрос! — радостно засмеялась Виолетта: ей очень хотелось подольше побыть с ним.
Чавдар проводил девушку до поезда. Попрощавшись, он помог ей подняться в вагон и повернул обратно.
Спустя минуту машина уже летела к улице Средна-Гора. «Хоть бы не упустить его, — волновался Чавдар. — Не может быть, чтобы прочитав письмо, Дюлгеров не отправился к этому таинственному Симо».
— Побыстрей, пожалуйста, Пенчо, прошу тебя!
— Да мы и так мчимся, как на пожар!
Свернув на нужную им улицу, Чавдар приказал:
— А теперь максимально уменьши ход, самым тихим, но как только дам знак, сразу рванешь!
Они медленно ехали по улице. Приблизившись к ателье Дюлгерова, шофер дал газ и машина промчалась мимо. Но Чавдар успел заметить, что жалюзи были спущены наполовину.
«Эх, опоздали!» — с досадой подумал он. Машина остановилась на соседней улочке. К ним подошел Данчо.
— Где Дюлгеров? — с тревогой спросил Чавдар.
— У себя... Спустил жалюзи и закрылся на ключ. Под звонком повесил записку: «Буду в одиннадцать часов».
Чавдар перевел дух.
— А когда он закрылся в ателье?
— Как только Виолетта ушла. Вот уже целый час... Может, фотографии проявляет...
— Фотографии он после обеда проявляет... Не спускайте с него глаз, он может выйти в любой момент.
— Да ведь откроет в одиннадцать... Чего паниковать?
— Сейчас он дешифрирует полученное письмо. Как только закончит, сразу пойдет к этому Симо... Ясно?
— Ясно! — кивнул Данчо. И сразу отступил в сторону: — Вот он! Идет к своей машине...
— Не беспокойся, мы проследим! — Чавдар быстро уселся в машину.
Попетляв немного по софийским улицам, «Шкода» Дюлгерова свернула у Орлиного моста на широкое шоссе.
— Кажется, он держит путь в Пловдив, — заметил шофер.
— Не уверен. Я скорее готов предположить, что едет в новый микрорайон.
«Шкода» продолжала лететь по шоссе. Потом она свернула к автосервису и остановилась.
— Высади меня здесь. А сам подожди в боковой улочке.
Чавдар быстро вышел из машины. На нем были очки и соломенная шляпа. Узнать его было трудно. С сигаретой в руке он медленным шагом направился к мастерской. Ни дать, ни взять клиент, оставивший машину для небольшого ремонта и ожидающий, пока она будет готова.
«Шкода» стояла в стороне, а Дюлгеров раздраженным тоном просил сторожа:
— Вызови Симо! Я не могу долго ждать!
Сторож невозмутимо продолжал сидеть на маленьком стульчике, лениво глядя на разъяренного клиента:
— Я тебе уже сказал: он сейчас придет! Подожди! Все спешат, у всех срочные дела.
Дюлгеров явно нервничал. А когда сторож отвернулся, он попытался прошмыгнуть мимо.
— Стой! Посторонним вход запрещен!
— Ведь так я прожду до обеда!
Сторож опять замолчал. Лениво вытянув ноги, он грелся на солнышке, покуривая сигарету. Дюлгеров попытался было сменить тактику и задобрить сторожа. Он раскрыл перед ним пачку дорогих сигарет. Сторож взял две: одну сунул за ухо, а другую прикурил от услужливо поднесенной Дюлгеровым зажигалки.
— А теперь мне можно войти? — с вызовом спросил Дюлгеров, сделав упор на слове «теперь». И именно это задело сторожа.
— Что? — взревел он возмущенно. — Будешь ждать, как все. Вон они ждут, и ты подождешь!
— Ну ладно, чего шумишь! Раз ты ему сказал... — примирительно пробормотал Дюлгеров, отходя в сторону.
В этот момент дверь распахнулась и вышел высокий мужчина в рабочем халате. Горделивая осанка, тонкое, продолговатое лицо и ухоженные волосы, длинные чувствительные пальцы, которые больше подошли бы пианисту или скрипачу, выдавали в нем человека явно не рабочего происхождения. Он шел легкой походкой, как будто пританцовывая. Подойдя к покорно ждавшей его в стороне паре, он одарил женщину обворожительной улыбкой и протянул ее спутнику крышечку для резервуара.
— Вот, еле нашел.
«Интересно, с какой чужой машины отвинчена эта крышка?» — подумал Чавдар и в этот момент заметил, что Дюлгеров делает вышедшему человеку знаки. Тот — очевидно, это был Симо — явно видел Дюлгерова, однако, не обращая на него внимания, вновь повернулся к женщине, которая его спросила:
— Сколько мы вам должны?
— Ну что вы, пустяки! В другой раз...
Он попрощался с ними за руку, подождал, пока они удалятся, и лишь тогда подошел к Дюлгерову.
«Значит, это и есть Симо!» — решил Чавдар.
Меж тем Дюлгеров поднял крышку и завел мотор. Тут же к машине подошли трое болтавшихся рядом шоферов и вместе с ними Чавдар. Симо досадливо поморщился:
— Как же я смогу работать? Прошу не мешать!
Шоферы отошли в сторонку, но Чавдар постарался встать как можно ближе к машине.
— Барахлит что-то... Может быть, придется сменить вал...
— Мне кажется, что и сцепление не в порядке. Может, вы прокатитесь на ней, чтобы послушать, как работает мотор? — предложил Дюлгеров.
— Разумеется! Дайте мне ключ. Да и вы садитесь рядом...
Машина рванула с места и вырулила на шоссе. Это произошло так быстро, что Чавдар еле успел отскочить в сторонку. Однако он невозмутимо докурил сигарету и пошел к своей машине, где его с нетерпением ждал Данчо. Сев на заднее сиденье рядом с Данчо, Чавдар приказал шоферу:
— Не упускай из виду синюю «Шкоду».
Спустя какое-то время они увидели «Шкоду» в боковой улочке нового квартала. Крышка капота была поднята. Симо и Дюлгеров, склонившись над мотором, о чем-то тихо беседовали.
Чавдар приказал доехать до перекрестка, повернуть обратно и остановиться поодаль.
— Вернетесь за мной, как только наши подопечные сядут в машину, — сказал он и занял удобный наблюдательный пост за кустом роз. Он увидел, как Дюлгеров, оглядевшись по сторонам, вынул из кармана небольшой пакетик и положил его на воздушный фильтр. Симо неторопливо вытер руки ветошью, взял пакетик и сунул его в карман. Потом Дюлгеров достал из кошелька два банкнота и протянул их Симо. Тот взял их с каким-то аристократическим презрением, будто делал большую услугу Дюлгерову, и небрежно запихнул в верхний кармашек халата. Затем, с шумом захлопнув крышку, сел за руль, подождал немного, пока Дюлгеров усядется рядом, и выжал до отказа газ. «Шкода» рванула с места и понеслась стрелой к мастерской, почти сразу скрывшись из виду.
Запрыгивая почти на ходу в свою машину,
Чавдар приказал шоферу:
— Постарайся их опередить...
Шофер молча прибавил газу.
Когда Симо и Дюлгеров вернулись к мастерской, на скамейке сидел все тот же молодой мужчина в темных очках и соломенной шляпе.
— Ну вот, вы теперь сами уверились в том, какие у моей машины неполадки! Может, вы ее прямо сейчас и примете? — спросил Дюлгеров.
— Мы скоро закрываем. Привезите ее завтра, часиков в шесть утра. Придется порядочно поломать над ней голову... — ответил громко Симо и вошел в мастерскую, а Дюлгеров завел мотор и поехал в сторону центра.
Немного погодя к мужчине в соломенной шляпе подошел высокий молодой человек с живыми глазами. Оба направились к директору автосервиса. Представившись, Чавдар попросил директора разрешить Данчо поработать у них несколько дней.
— Только нужно устроить так, чтобы он мог побольше находиться во дворе...
— Понимаю, — закивал головой низенький, похожий на футбольный мяч директор. — В таком случае, ему лучше всего встать на мойку машин. Как раз один из мойщиков заболел... Подождите немного, сейчас я все устрою...
— Имейте в виду, для всех — это ваш земляк, — предупредил его Чавдар.
Уходя, Чавдар тихонько сказал Данчо:
— Постарайся сделать так, чтобы к трем часам ты был свободен. Я к этому времени буду здесь...
Данчо встал к мойке, а Чавдар отправился к машине. Ему показалось, что за ним кто-то следит. Скосив глаза, он заметил в дверях высокого красавца с высокомерным взглядом.
Чавдар был на месте еще в два часа. Он заплатил в кассу за мойку машины и пристроился в хвост очереди ожидающих автомобилей. Сидя в машине, Чавдар зорко наблюдал за всем происходящим вокруг. Симо нигде не было видно. Пропустив вперед стоящую за ним машину, Чавдар отъехал в сторонку и сделал вид, что наблюдает за Данчо, который работал как заправский мойщик. Стрелка часов приближалась к трем.
А вот и Симо. Вышел во двор и украдкой осмотрелся. Чавдар воспроизвел в уме сведения о нем, полученные им сегодня:
«Симо Димов Газибаров. Родился в 1925 г. в селе Богдановцы. Воспитывался в семье дяди по материнской линии. Окончил в Софии гимназию с преподаванием на итальянском языке. В старших классах принимал активное участие в реакционной организации молодых легионеров, был членом руководства этой организации, за что в 1945 году исключен из университета. Работал шофером государственного предприятия, с 1960 года — монтер министерского гаража. В автосервисе работает с 1972 года. Поведение безупречное, руководство его ценит...»
Чавдар взглянул на часы — без пяти три.
В мойку въехал «Форд-таунус». Симо не проявлял никаких признаков беспокойства.
Три без одной минуты. С ведром в руках во двор вышел Данчо. Симо куда-то исчез.
«Что-то здесь не так, — подумал Чавдар и нервно закурил. — И все же, мы не могли ошибиться. Ведь не успел Дюлгеров прочитать письмо, как сразу же помчался к этому Симо. И отдал ему что-то... А еще эти банкноты... Я же сам видел...»
Часы в канцелярии пробили три. Чавдар едва скрывал разочарование. Но вот через широко распахнутые ворота во двор въехал «Москвич». За рулем сидел Симо в своем коричневом халате. Он подогнал машину к выходу, передал ее хозяину и направился к одиноко стоявшей «Шкоде», не забыв при этом бросить вокруг осторожный взгляд. В это время у мастерской остановился «Фиат» с иностранным номером, Симо резко обернулся к нему, но Данчо его опередил, подбежав к машине с другой стороны со щеткой в руках. Из «Фиата» вышел мужчина и на чистейшем болгарском языке попросил:
— Товарищи, я возвращаюсь из-за границы. Нельзя ли обслужить мою машину вне очереди, я очень тороплюсь в Варну.
Симо выслушал его с явным интересом и протянул было руку за ключом. Но Данчо, находившийся ближе, услужливо выхватил ключ из рук хозяина «Фиата» и, взглянув на номер, быстро протянул ключ Симо.
— Пожалуйста, шеф!
— А тебе что тут надо? — зло накинулся на него Симо, повертел ключ в руках и с безразличным видом вернул его хозяину: — Извините, но это невозможно. Смотрите, сколько здесь машин, — он обвел двор театральным жестом, при этом зорко оглядев все вокруг, — и все ждут меня...
«Наверно, на ключе другой номер, поэтому он и отказал ему», — подумал Чавдар. Догнал Данчо и нарочито громко спросил:
— Моя очередь подошла?
— Номер без пятерок! — едва шевеля губами сказал Данчо и тут же что есть силы заорал:
— Спокойно, хозяин! Через десять минут и твою машину возьму!
Меж тем Симо завел «Шкоду» внутрь помещения и снова вышел во двор. Остановившись в дверях, он спокойно и даже с некоторым безразличием стал смотреть в сторону широкого проспекта, по которому неслась в два потока бесконечная вереница автомобилей... И ни один из них не сворачивал к автосервису...
«Наверное, мы ошиблись в дате, — подумал Чавдар — А скорее всего речь идет о той же дате, но другого месяца... Что ж, подождем еще...»
Симо стоял так до половины четвертого, потом вошел внутрь. Встреча не состоялась...
Чавдар подогнал вымытый «Москвич» к выходу, но цепь была спущена. Подождав немного, он высунул голову из окна.
— Может, вы меня выпустите? — с насмешкой спросил он.
— Квитанцию! — отрезал сторож, не вставая с места.
— В чем дело? — спросил Чавдар.
— Квитанцию!
— Ах, значит квитанцию! — Чавдар протянул бумажку.
— Она — для вас, — спокойно сказал сторож и, не вставая, опустил цепь до земли.
«Черт знает что! — подумал Чавдар, трогаясь с места. — Прямо артисты какие-то!»
23
Чавдар заехал в управление, доложил полковнику о том, как прошел день, и отправился домой.
Он только успел принять душ, как раздался звонок. Чавдар открыл дверь — на пороге стояли Евгений и Румен.
— Рад вас видеть! Проходите...
— Мы несколько раз вам звонили, но никто не отвечал. Тогда мы подумали, может, телефон не в порядке и решили зайти без приглашения.
— Отлично! Присаживайтесь. Я только что вернулся. А Виолетта уехала...
— А-а! Вот почему никто не отвечал! — протянул Румен.
— Мы хотели пригласить вас поехать завтра за город. Но раз Виолетты нет... Может, вы все-таки поедете с нами? — предложил Евгений.
— Да, Виолетта с радостью приняла бы ваше приглашение, а я, к сожалению, занят... Вот на следующей неделе — с удовольствием!
— Но на следующей неделе, в среду, мы с Эженом и мамой уезжаем на Золотые Пески. — Румен был явно разочарован. — И пробудем там две недели.
— Ничего. Как только вернетесь, позвоните мне... Тогда и встретимся. А с Виолеттой вы можете увидеться на Золотых Песках. Вот ее адрес в Варне.
— У Эжена есть ее адрес! — выпалил Румен и удивленно взглянул на брата, который больно наступил ему на ногу.
— А отец не собирается с вами? Ведь в машине места хватит.
— Места-то хватит, да у отца срочная работа, и он не хочет сейчас брать отпуск... — сказал Евгений.
— Он кончает работу над одним проектом, — пояснил Румен и скороговоркой добавил: — Товарищ Выгленов, вы в уголовном розыске работаете? Знаете, в нашей школе произошла очень странная история...
— Не морочь человеку голову, Румен! Вечно ты со своими глупостями! — недовольно подтолкнул его Евгений.
— Почему же, мне очень интересно. Вот когда вы вернетесь, Румен, приходи ко мне,и мы с тобой все обсудим...
— Конечно, приду. Речь идет о чести пионерской организации. Нужно узнать правду!
— Ну и отлично, договорились! — Чавдар обнял его за плечи.
Гости распрощались и ушли.
24
Симо Газибаров умел извлекать пользу из всего. Незадолго до победы революции Девятого сентября 1944 года в их доме провел несколько ночей друг отца Дарев. Сейчас этот Дарев был генеральным директором одного предприятия. Симо никогда не забывал упомянуть в своей автобиографии, что во время войны у них скрывался от преследования фашистской власти член БЗНС и Отечественного фронта Дарев.
И все же из университета его исключили за принадлежность к профашистской организации. Свидетельство о том, что он помогал укрывать антифашиста, не помогло, ибо скрывавшийся состоял с Симо в родстве — попросту говоря, был его тестем. Прилично зная итальянский, Симо давал частные уроки, в том числе и дочери Дарева. Он был старше девушки всего на три года, и уроки завершились свадьбой. Своей молодой женой Симо был доволен. Умная и практичная, она к тому же была хорошо обеспечена материально. Они жили в квартире, которая принадлежала жене, тесть помогал им деньгами, а позднее сумел подыскать ему хорошую работу. Но Симо снедала мысль, что народная власть несправедливо обошлась с ним — «борцом-антифашистом». Ему нравилось разыгрывать из себя «безвинно пострадавшего». Свое участие в профашистской организации он объяснял тем, что ему это было нужно для конспирации. С помощью Дарева он устроился монтером в гараже одного министерства. Там Симо познакомился с Дюлгеровым. Разговорившись за стаканом вина, они вскоре почувствовали необыкновенную симпатию друг к другу, и Симо с радостью согласился передать от Дюлгерова кое-какие фотографии иностранцу, пришедшему в гараж и назвавшему пароль. При повторной передаче фотографий Симо получил солидное вознаграждение. Тут-то он и смекнул, что, видимо, эти фотографии за границей кое-что значат... И когда его уволили, разумеется, опять «несправедливо», он сразу дал согласие поступить на работу в ремонтную мастерскую по рекомендации Дюлгерова. Это было началом «крупной карьеры» Симо. От Дюлгерова он получил и «аванс» — ни много, ни мало — две тысячи левов. И в дальнейшем, после каждой удачной операции с «посылкой» за границу,Симо получал сумму, равнявшуюся его зарплате.
...Вернувшись в мастерскую после разговора с Дюлгеровым, Симо украдкой пересчитал полученные деньги. Ровно двести! Он усмехнулся — уж очень они приятны, эти без труда заработанные денежки! Какой же он умница, что точно оговорил вопрос об оплате услуг подобного рода. Раньше он передавал очередному иностранцу микропленку и после этого приходилось ждать — иногда довольно долго — ответ, подтверждающий, что товар доставлен по назначению. Приходилось напоминать о себе Дюлгерову, тот каждый раз ссылался на то, что ответа еще нет, и задерживал деньги. Однажды, набравшись смелости, Симо явился в ателье к Дюлгерову. Тот всполошился:
— Зачем пришел? Я ведь велел тебе не приходить ко мне без надобности!
— Нужно решить очень важный для меня вопрос! — сказал ему Симо. — На работе об этом говорить неудобно.
— Ну хорошо! Что случилось?
— Я не согласен ждать, пока ты получишь ответ. Ведь ты уже смог убедиться — я аккуратно все пересылаю.
— И все же тебе придется терпеть! — отрезал Дюлгеров.
— Больше терпеть я не намерен, — решительно заявил Симо. — Или плати, или я перестану на тебя работать...
— И на кого же ты будешь работать? — с сарказмом спросил Дюлгеров. Однако было видно, что слова Симо встревожили его.
У Симо давно возникли подозрения, что Дюлгеров работает не на одну фирму. Однажды, передавая Симо кассету, он, взглянув на нее, вдруг спохватился и быстро сунул ее в карман. Потом вытащил другую, объяснив что спутал ее с новой, еще не отснятой пленкой. Однако Симо успел заметить, что кассета уже была в употреблении. Дюлгеров явно врал, что-что, а глаз у Симо был острый. Поэтому и ответ его сейчас прозвучал двусмысленно:
— Возможно, переключусь целиком на вторую фирму, как делают некоторые...
Дюлгеров сменил гнев на милость.
— Перестань валять дурака. Кто откажется каждый месяц получать еще одну зарплату? Но раз ты настаиваешь, вот тебе деньги за прошлый раз...
— Вот это другой разговор! С тобой приятно работать — понятлив. А на дальнейшее договоримся так: пленку мне даешь вместе с деньгами!
Таким было начало «нового курса», как любил шутить Симо. О «совместительстве» Дюлгерова он приказал себе больше не думать. В конце концов, какое ему дело, на кого тот работает, лишь бы исправно платил, а все остальное — дело его совести... Себя Симо считал по-своему «честным»...
Симо снял пиджак и спрятал кассету в специальный тайник на левом плече. Сегодня после обеда за кассетой должен был прийти человек, Симо ждал его, но он так и не появился. Не хотелось нести пленку домой, да видно ничего не поделаешь. Не оставлять же ее здесь?
Он докурил сигарету, надел пиджак и вышел из мастерской. Домой он обычно ходил пешком — жил неподалеку, да к тому же презирал весь этот «сброд», который набивается в автобусы.
На тихой улочке перед ним затормозила машина. Из нее вышли двое. Один из мужчин — широкоплечий здоровяк, показав Симо служебное удостоверение, пригласил его поехать с ними.
— Но по какому праву? — возмутился Симо.
— Мы хотели бы получить от вас кое-какие сведения. И должен вас предупредить, чем эти сведения будут правдивее, тем меньше мы вас задержим.
25
Машину вел Евгений. Эжен сидел рядом с ним, с большим интересом разглядывая в окно меняющийся пейзаж. Оказывается, родина его отца очень красива! Огромные деревья, обрамляющие Пловдивское шоссе, образовывали нечто вроде тоннеля. Сквозь ветви мелькало солнце, казалось, оно бежит наперегонки с машиной. Но вот тоннель оборвался и солнце, словно сделав огромный прыжок, уселось на вершину Вакарельских высот, щедро осыпая все вокруг своими лучами.
Когда они миновали Пазарджик, слева от шоссе потянулись нескончаемые ряды оранжерей.
— Знаете, в Париже папа заставляет маму покупать только болгарские помидоры!
— О,Эжен! Ты уже совсем правильно говоришь по-болгарски!
— Правда, тетя? — обрадовался Эжен. — Конечно, ведь я же половинка болгарин!
— Ха-ха-ха! — залился смехом Румен. — Половинка! Говорится «наполовину болгарин». Ничего, Эжен, сейчас ты — половинка, а когда мы приедем на море, станешь целым болгарином!
— Что-то не верится ! Скорее ты, Румен, станешь французом, чем я болгарином!
— Я не могу стать французом, потому что я — полный болгарин. Вот ты другое дело — ни рыба, ни мясо! — засмеялся Румен.
— Что ты сказал ? — заинтересовался Эжен. — Я что-то не понял...
— Ничего, ничего... Это я так, просто шучу...
— Румен, перестань задирать Эжена! — строго одернула его мать.
— Больше не буду, — примирительно протянул Румен.
После Пазарджика по новому, более широкому шоссе машина прибавила скорости. Румен запел «Гордая Стара-Планина». Евгений и мать тихонько подпевали, к ним несмело присоединился и Эжен, подхватывая слова припева...
Вскоре они прибыли в Пловдив. Город, широко раскинувшийся по обоим берегам Марицы, сразу понравился Эжену. Они погуляли по узким улочкам старинного квартала, зашли в Археологический музей, полюбовались знаменитым фракийским золотым кладом. Эжен попросил показать ему дом, в котором останавливался французский ученый и поэт Ламартин, совершавший поездку по Балканскому полуострову — об этом ему рассказывал его отец.
Затем они пообедали в ресторане на одном из семи живописных холмов Пловдива и отправились дальше.
Болгария, родина его отца, все больше пленяла воображение Эжена.
26
Зная, что Йотов остался дома один, Чавдар решил посетить его. Тем более был вполне объяснимый повод — Йотова уже вызывали по делу, связанному с кражей документов в селе Стойки.
Йотов не стал скрывать своего удивления.
— Пожалуйста, проходите. Чем могу служить?
На миг в душу Чавдара закралось сомнение:
«Не поспешил ли я с этим визитом? Может, только спугну его...
— Я вообще-то не располагаю временем, поэтому буду краток. У меня к вам несколько вопросов, связанных со случаем в Стойках. Вы ведь ехали на машине, из которой были похищены секретные документы...
— Кража произошла в самом селе...
— Да, но сейчас речь о другом. Скажите, почему вы сначала отказались от поездки, а потом согласились?
— Об этом вам лучше справиться у моего заместителя, Зико Златанова. Отказался, потому что у меня была масса незаконченных дел в институте, да и дома тоже. Я и предложил Златанову поехать вместо меня. Кроме того, как я понимаю, он пользуется бо́льшим, чем я доверием... — Йотов нахмурился, было видно, что последняя фраза причинила ему боль. Он взял себя в руки и продолжил:
— Сначала Златанов с удовольствием принял мое предложение. А в самый последний момент вдруг сказался больным и попросил, чтобы поехал я... Вообще-то мы с ним почти не разговариваем... По его доносу на меня в институте заведено дело... Почему Златанов отказался, не знаю. На следующий день, когда я, чтобы спасти положение, уехал, его видели гуляющим в парке. Мой сын его встретил. Может, он что-то знал и хотел меня просто скомпрометировать?
— Вы хотите сказать, что он знал о готовящемся преступлении?
— Нет, такое я не могу утверждать. Однако, разве не странно, что стремясь во всем и везде быть первым, он отказывается, и то в мою пользу, от приглашения министерства... Должен заметить, что к нему в институт иногда заходят неизвестные личности, и он старается побыстрее остаться с ними наедине...
«Интересно, — подумал Чавдар, — автор анонимного письма подчеркивает, что Йотова посещают сомнительные лица. Уж не хочет ли Йотов отвести от себя подозрение?»
Йотов, будто угадав мысли Чавдара, неожиданно заметил:
— Надеюсь, вы не подумаете, что я сваливаю свою вину на Златанова. Просто я хочу быть вам хоть в чем-то полезным... если смогу, конечно.
— Ну что вы! Мы ни в чем вас не подозреваем. Просто в этом случае много неясного.
Выгленов задал еще несколько вопросов, а потом вдруг спросил:
— А вы не могли бы мне сказать, как давно вы знакомы со Златановым?
— О, это длинная история... Но если у вас есть время, я могу рассказать.
Трифон Йотов начал свой рассказ со студенческих лет. Потом он поведал о поездке Златанова в Берлин, старательно избегая при этом упоминать имя их общего знакомого Эриха. «Это к делу не относится», — думал он. Рассказал и о недавней командировке в Париж, где они со Златановым поровну поделили деньги, которые дал ему брат Васил...
— Кто председатель комиссии, занимающейся расследованием в институте? — спросил его Чавдар.
Услышав в ответ, что комиссию возглавляет административный секретарь, он успокоил Йотова, сказав, что ему не о чем волноваться.
— Как же не о чем! — возразил Йотов. — Административный секретарь и Златанов — друзья. Во время войны они жили на одной квартире в Берлине. Ничего хорошего от этой комиссии я не жду. Вы только подумайте, Златанов обвиняет меня в том, что я-де присваиваю спиртные напитки, предназначенные для проведения банкетов. И комиссия считает это возможным. А мои попытки оправдаться считает необоснованными, классифицируя их как «уловки»...
— Вот вы говорите, что к нему приходят незнакомые люди. А к вам никогда не приходил кто-нибудь, кто бы мог вызвать подозрение?
— Никогда! — твердо ответил Йотов, однако Чавдар заметил, что он слегка покраснел.
Под конец Чавдар спросил Йотова, почему он рекомендовал Крачмарова для работы в Сухом доке.
— Да опять же по просьбе Златанова — они с Крачмаровым земляки.
Уходя, Чавдар поблагодарил Йотова за исчерпывающую информацию. Однако сомнение, закравшееся в душу, не исчезло. «Почему он покраснел, когда я спросил его о посещениях подозрительных лиц? И только ли земляцкие — связи Златанова с Крачмаровым? Нужно будет проверить результаты расследования комиссии, занимающейся делом Йотова в институте...»
27
Йотов еще раз проверил все расчеты новой схемы и остался доволен. Работу можно считать законченной. Документация готова, все пояснительные заметки — переписаны набело. Именно об этой разработке шла речь в письме брата. Надо было еще в прошлом году в Париже отказать ему, чтобы он не питал напрасно иллюзий. Но тогда его угнетало поведение Златанова по отношению к нему, и тот факт, что Евгений не прошел по конкурсу в университет... Йотов чувствовал себя в тупике и некому было ему помочь... Однако отдать брату новое изобретение...
Все произошло так быстро. Мадлен и Эжен уехали вечерним поездом, а Васил должен был лететь самолетом. В их распоряжении было всего несколько часов. Они встретились в вестибюле учреждения, где работал Васил. Златанов остался снаружи. Когда Трифон пожаловался, что Евгений провалился на приемных экзаменах, брат, недолго думая, предложил ему прислать сына на учебу в Париж. Он будет вносить оплату за обучение, а Трифон возместит расходы, отдав ему какое-нибудь новое изобретение с тем, чтобы запатентовать его во Франции на имя Васила. Вот тогда-то Трифон и обронил это коварное «подумаю»...
Йотов со вздохом убрал папку с расчетами в ящик стола, решив пойти в институт. Сейчас положение дел несколько изменилось. Здоровье Евгения улучшилось, он был освобожден от военной службы, работал, сумел подготовиться к экзамену и сдал его... Хоть бы результат был успешным! Тогда никаких сомнений — новое изобретение получит прописку в Болгарии! Если кто-то желает, может его купить!
Выходя из дому, он встретил дочку Гешевского.
— Дяденька Трифон, — спросила девочка, — а ваш Евгений принят в университет?
— Результатов еще нет, но я думаю, его примут, — ответил Йотов.
— А наш Златко принят! Такого компьютера,как у Евгения, у него нет, зато у папы есть связи и в университет брата приняли.
У Йотова перехватило дыхание. Он знал, что сын Гешевского поступал на тот же факультет, что и Евгений. И вот тебе на́! Уже принят... А ведь этот Златко стоял на учете в детской комнате милиции... Воистину, связи — великое дело... Теперь он будет учиться в университете, а его Евгений — еще неизвестно... Как расстроится Маргарита, когда узнает! Пошел дождь, но Йотов не замечал капель, стекающих по лицу. Глубокая обида переполняла его душу, он чувствовал себя подавленным, бессильным что-либо предпринять...
Домой он тоже возвращался пешком. Дождь все еще продолжался — тихий, мелкий — абсолютно невероятный для этого времени года. Витоша была окутана туманом. Из-за продолжительной суши листва с некоторых каштановых деревьев почти совсем облетела. Подхваченные легким дуновением ветерка, сухие листья с тихим шелестом падали на землю. Трифон ступал на них с безразличием, ощущая в сердце тупую боль. Первые осенние листья — как его надежда, сорванная ветром неправды и несправедливости.
Надо сказать, что Йотов с самого начала ничего особенного не ждал от этой встречи с административным секретарем, но глубоко в душе все-таки верил в справедливость. И хотя ему хорошо были известны старые связи Златанова с председателем комиссии, он питал надежду, что к нему отнесутся с должным вниманием и уважением.
Перед тем как отправиться в институт, он зашел на физический факультет университета чтобы справиться об Евгении. Секретарша любезно согласилась проверить списки принятых. Фамилии Евгения в них не оказалось. Надежды на то, что будут отпущены дополнительные места, не было никакой. С горечью в сердце Йотов переступил порог института и направился прямо к двери с табличкой «административный секретарь». С первой же минуты Джамбазский постарался продемонстрировать свое негативное отношение к нему. Не улыбнулся, не протянул ему руку для приветствия, не пригласил сесть, а лишь взглянул вопросительно, как будто не зная, зачем Йотов пришел. На вопрос Йотова, почему комиссия медлит с решением, Джамбазский резко ответил, что каким бы ни было решение комиссии, оно все равно не будет в пользу Йотова. И добавил: «Не лучше ли вам уйти по собственному желанию, не дожидаясь решения комиссии?» «Если кто-то и должен уйти по собственному желанию, так это Зико Златанов, — взорвался Йотов. — Я готов опровергнуть все его беспочвенные обвинения!» «Вы готовы опровергнуть на словах, но кроме слов, нужны еще и документы, которые доказали бы вашу невиновность, а их у вас нет. А Златанов представил документы, подтверждающие вашу вину». «Почему же вы прячете эти документы, почему не показываете их мне?» «Они рассмотрены комиссией, на их основе вам заданы вопросы, предстоит проверка ваших ответов. Чего вы еще хотите?» «Я хочу знать мнение комиссии, чтобы обратиться, если понадобится, в более высокую инстанцию». «Так вы еще и угрожаете? Хотите оказать нажим на председателя комиссии?» — поднялся с места Джамбазский. «Это вы мне угрожаете, заставляете уйти из института, не дожидаясь решения комиссии». «Ну хорошо же, слушайте: комиссия считает, что в создавшейся в институте неколлегиальной атмосфере виноваты обе стороны, но первопричина — все-таки вы. Против вас выдвинуто множество обвинений, правда, явных доказательств нет, но это и не нужно, так как эти обвинения выдвинуты несколькими лицами. Именно поэтому я по-товарищески и посоветовал вам уйти, чтобы не давать делу огласку. Но раз вы не понимаете доброго к вам отношения, делайте, что хотите», — театрально, с пафосом закончил Джамбазский.
Уже направляясь к двери, Йотов сказал: «Я все же постараюсь, товарищ Джамбазский, сделать все от меня зависящее, чтобы дело получило широкую огласку!»
Теперь Йотов раскаивался в сказанном. Кажется, он переборщил. Ведь в конце концов административный секретарь был председателем комиссии. Нужно было его спокойно выслушать. Просто, у него плохо с нервами. Да и как тут будешь спокойным, когда Златанов целыми днями строчит донос за доносом, жалобу за жалобой!
Йотов почувствовал, что насквозь промок. Казалось, с каплями дождя в сердце его просачивалось горькое озлобление против недоверия, против нежелания некоторых людей увидеть, кто прав, а кто виноват, дать отпор клевете и подхалимству. Йотова охватило чувство безысходности. Что ему делать? Уйти из гордости и обиды? А что будет с его работой? Именно он вывел отстающий сектор в передовые, он сделал столько изобретений на благо общества, которое ныне его отвергало. Может быть, пора подумать о себе и своих близких, раз ты не нужен обществу! В конце концов, у него есть право на самозащиту. И он отошлет свое изобретение в Париж, чтобы обеспечить своему сыну возможность учиться, получить высшее образование! Йотов сам не верил тому, что он сейчас надумал, но испытывал болезненное удовлетворение от того, что хотя бы в мыслях он готов противопоставить себя этому несовершенному миру.
28
Они устроились недалеко от Золотых Песков. Румен поднимался первым и всех будил. Эжену нравилось абсолютно все.
— Ах, какой чистый и красивый песок! — восклицал он на пляже.
— Значит, по-французски «ах» и «ох» произносятся так же, как и по-болгарски, — поддразнивал его Румен. — Признайся, что у вас нет такого моря!
— У нас повеличее море и океан, но такого песка нет!
— Не «повеличее», а «побольше», — поправлял его Румен, и они наперегонки неслись к воде.
— И все-таки ты не боишься, что наше море — Черное? — принимался за свое Румен. — Ведь по-вашему, у нас все черное — и море, и вершина, и социализм...
— Да оставь ты его в покое! Прямо передохнуть парню не даешь, — возмутилась мать. — И вообще, на сегодня хватит, а то простудитесь.
— Ну что ты, мама! Вода, как кипяток. Я еще не видел, как Эжен плавает. Ну вот, так я и знал: «по-собачьи». А «кролем» ты можешь? А «брассом»?
В этот миг волна накрыла его с головой. Румен долго отплевывался, но чтобы никто не подумал, что он испугался, поспешил сказать:
— А я могу доплыть вон до того маяка!
— Эй ты, хвастунишка, — крикнула мать. — Если вы сейчас же не выйдете на берег, я тебя за уши вытащу.
Они выбрались на песок.
— Мама сказала, чтобы я долго не лежал на солнце, а то вспыхну.
— Ну вот, снова. Надо сказать не «вспыхну», а «обгорю», — засмеялся Румен. — С тобой, Эжен, не соскучишься!
Все чувствовали себя великолепно, лишь Евгению было грустно. Перед отъездом из Софии он увиделся с Ружей, и они договорились встретиться в Варне. Ружа дала ему адрес родственницы, у которой она намеревалась остановиться. Евгений уже дважды ездил по адресу, но ему грубо отвечали: «Нет ее. И не трудись приходить. Не приедет она этим летом!» Евгений не знал, как быть: они решили последние дни ездить на пляж курорта «Албена» или «Русалка», архитектура которых пришлась по душе Эжену и Румену. Как сообщить об этом девушке?
Во время поездки в Варну они случайно встретили Виолетту. Эжен очень обрадовался. Ему было неловко ей звонить, но видно судьбе было угодно, чтобы они встретились снова. Виолетта с удовольствием присоединилась к веселой компании. Однажды после обеда, когда Эжен и Виолетта затеяли игру в пинг-понг, а Румен взял на себя роль судьи, Евгений, никому ничего не сказав, поехал в Варну, решил еще раз проверить. Оставив машину на соседней улочке, он подошел к дому Ружиной тетки. Казалось, дом вымер, и вдруг в одном из окон мелькнуло девичье лицо. Может, это Ружа? Евгений подождал еще немного. Окно вдруг распахнулось, и в нем показалась черноволосая девушка, грызущая яблоко. Нет, это была не Ружа. Но лицо девушки было Евгению знакомым. Ах да, ведь это дочь дворничихи, что живет во дворе у Ружи! Имя ее он запамятовал, но отлично помнил, как нахально она себя вела, когда Стефка впервые привела его к Руже.
«Надо же, какой красавчик!» — бросила она дерзко и так и впилась глазами в Евгения.
Хорошо еще, что Стефке палец в рот не клади. «Красавчик, да не для тебя! — сказала она и подхватила девчонку под руку. Отойдем-ка в сторонку, пусть они поговорят».
Девушка меж тем начала грызть второе яблоко. Евгений терпеливо ждал, не теряя надежды на то, что сейчас появится и Ружа, но окно захлопнулось. Спустя секунду на пороге появилась дочь дворничихи.
— Добрый день! — поздоровался Евгений. — А Ружа здесь?
— А, рыцарь! Привет! Значит, все-таки явился... Ружа на пляже.
Мир сразу стал прекрасным, солнце засияло ярче, а небо еще больше поголубело.
— На каком пляже? Ты сейчас туда идешь? Пожалуйста, отведи меня к ней!
— Не торопись, рыцарь! Дело в том, что Ружа не хочет с тобой встречаться. Мы здесь десять дней. Она ждала тебя, а ты все не приходил...
— Я приходил... Несколько раз. Тетка ее сказала, что она вообще не приедет...
— Она ей не тетка. Знаешь что, пойдем в кафе и там спокойно обо всем поговорим. Все так запутано, что вовек не распутаешь...
Сердце Евгения сжалось. Может, Руже кто-нибудь другой понравился, поэтому она не хочет его видеть?..
Они зашли в кафе, уселись за столик и девушка начала рассказывать:
— После смерти отца Ружи ее мать вторично вышла замуж за зубного врача по фамилии Койчев. Девочке тогда было десять лет. А спустя два года умерла и мать, оставив мужу и квартиру, и дачу. Все записано на его имя, но он боится, что Ружа поднимет вопрос о наследстве, и тогда он всего лишится. И фамилия Ружи не Койчева, а Николова. Я ей говорю, чтобы она подала в суд, а она не решается. А Койчев — истинный зверь, вечно ее ругает, кричит, разве что только не бьет. И благо денег бы не было, а то ведь гребет лопатой...
Только теперь, выслушав этот печальный рассказ, Евгений понял, почему Ружины глаза напоминали ему испуганные глаза лани, которой грозит смертельная опасность. Он вдруг вспомнил, как однажды, когда он был у нее в гостях, снаружи кто-то позвонил.
— Извините, Евгений, я пойду открою, — сказала она, направляясь в переднюю.
— Я сам открою, — послышался грубый голос.
— Но, отец... — попробовала было возразить Ружа. Ей стало неудобно перед Евгением.
— Иди к себе и не лезь не в свое дело!
Ружа вернулась в комнату, взяла альбом с фотографиями, и они молча принялись его рассматривать. Из передней донесся недовольный голос отца:
«Зачем ты пришел? Я же тебе сказал, чтобы ты не смел приходить ко мне, пока не вызову!»
«Мне нужна колючая проволока для забора и еще нужно сказать тебе кое-что очень важное...»
«Какое мне дело до твоей проволоки!» — выругался Койчев.
А Ружа пояснила:
— Это наш новый садовник. У нас есть небольшая дача, вот он там и живет постоянно. Ты не обращай внимания на отца, он у меня такой — все любит ворчать... Знаешь, пошли куда-нибудь, а то попадемся ему под горячую руку... — Она поднялась с места и они, крадучись, на цыпочках пошли к выходу. А в кабинете раздраженный голос бубнил:
«Накличешь ты беду на мою голову. Вечно поступаешь так, как тебе вздумается...»
Евгению показалось тогда странным, что садовник может накликать беду на голову Койчева из-за какой-то колючей проволоки, но девушка была так напугана, что он не посмел ее ни о чем спросить. Если бы он мог, то тотчас же, не медля, увел бы ее навсегда из этого дома, от грубияна-отчима...
— Я тебе рассказываю все это, — вернул его к действительности голос дворничихиной дочки, — чтобы ты понял, почему она велела тебе не приходить к ней. Она тебя любит. Но когда отчим об этом узнал, он пришел в ярость, раскричался и велел ей тут же порвать с тобой. Даже пригрозил, что прибьет ее. Он и родственникам написал, чтобы отвечали тебе, что Ружа не приедет. Мы из-за этого задержались на несколько дней в Софии. Ружа не хочет, чтобы и ты пострадал из-за нее... А сама ходит, как в воду опущенная...
— А где она сейчас? Где? — Евгений вскочил, готовый бежать хоть на край света.
— Она на центральном пляже. Мы обычно туда ходим. Располагаемся недалеко от моста... Эй, погоди, куда же ты?
Но Евгений уже мчался по улице. Скорее, скорее его любимой грозит опасность! А вот и пляж. Он купил билет, чуть ли не на ходу разделся и начал искать глазами Ружу. — Вот она, под зонтиком, с раскрытой книгой в руках. Евгений тихо приблизился сзади и закрыл ей глаза руками.
— Это ты, Цанка?
Он отпустил руки и уселся рядом с ней на подстилке. Ружа вскрикнула от неожиданности.
— Молчи, молчи, я все знаю, — прошептал он, порывисто обняв ее и покрывая ее лицо поцелуями. Она не сопротивлялась, полностью покорившись ласке его сильных рук. Потом, обнявшись как дети, они побежали к воде.
Огромное и ласковое, море тихо плескалось у ног, волны с шелестом набегали на берег, и вновь откатывались вглубь. Евгений глаз не мог отвести от милого лица, по которому он так соскучился... На телефонный звонок Евгения ответил Румен.
— Скажи маме, что я встретил друзей и останусь тут до вечера.
— А можно нам с Эженом тоже приехать?
— В другой раз, а то пока доедете, уже будет поздно...
В этот день Евгений почувствовал себя по-настоящему счастливым. Они пообедали с Ружей в маленьком ресторанчике, а потом долго гуляли по берегу моря... Говорили обо всем: о друзьях, о планах на будущее... Евгений был уверен, что ничто не в состоянии их разлучить...
А на следующий день пришло письмо от отца, в котором тот писал, что заходил в университет. Результаты конкурса должны быть объявлены официально через неделю, но ему удалось узнать, что в списке принятых Евгения нет.
— Надо немедленно ехать! — объявила о своем решении мать. Дети попросили разрешения остаться хотя бы до вечера. Таким образом Евгений смог бы обо всем рассказать Руже. Он не хотел иметь от нее тайн и не стал скрывать случившееся.
— Мне в таком случае здесь тоже делать нечего. Я поеду в Софию утренним поездом, — решительно заявила она.
Они договорились встретиться в Софии.
29
Распорядившись принести в кабинет кофе, полковник сказал:
— Садись, Чавдар, рассказывай!
— В ходе разговора с Йотовым я задал ему вопрос, кто ему ставил коронки. Ответ последовал без промедления: «Стоматолог Койчев». На мой вопрос, не мог бы этот самый Койчев принять и меня, и как он думает, есть ли у него золото, Йотов пожал плечами: «Думаю, что есть. И он вас примет. Только не говорите, где вы работаете. Знаете, частная практика ведь запрещена...» «А он хороший специалист, и кто вам его рекомендовал?» «Меня отвел к нему Златанов. Они еще по Берлину знакомы. Он хорошо работает, не беспокойтесь.»
— Ты хочешь сказать, что сомневаешься в Йотове?.. Наши люди доложили, что за последнюю неделю у Койчева побывало шестьдесят два человека. Почти каждый из них приходил два-три раза. Ты ведь знаешь, зуб за одно посещение не вылечишь. И только фотограф Дюлгеров приходил к нему всего один раз. Интересно, зачем?
— Нет, я думаю, что Йотов не связан с Койчевым, иначе с какой стати он с готовностью стал бы мне давать его адрес. К тому же он подчеркнул, что перестал бывать у Койчева с тех пор, как они со Златановым в конфликте. Вы знаете, я почти убежден, что Йотов — честный человек, а в отношении зубного врача он просто ничего не подозревает. Я внимательно ознакомился со всей работой — все говорит в пользу Йотова, а Златанов — мошенник большого класса. И председатель комиссии — его человек, поэтому так и старается. Доказательств против Йотова собственно никаких нет, одни голословные утверждения...
— Не могу с тобой полностью согласиться, — медленно проговорил полковник. — То, что Златанов — клеветник, это более чем ясно. Но и у Йотова как руководителя много ошибок. Когда человек о себе большого мнения, он часто может ошибиться. Говорят, что Йотов якобы ведет себя с подчиненными как диктатор. Это — ложь, Йотов со своими подчиненными даже слишком либерален, но вот по отношению к Златанову его поведение можно квалифицировать как откровенно грубое. Йотов пытался вынудить его покинуть институт, чтобы тот не мешал ему работать... Ясно, что Златанов вставляет ему палки в колеса...
— Все это так, товарищ полковник. Но я убежден, что Златанов ведет крупную игру. И он нарочно оклеветал Йотова, чтобы прикрыть свою сущность.
— Но раньше ты был иного мнения о Йотове?
— Да, но сейчас я убежден, что Йотов — честный человек — и по отношению к людям, и к родине.
— Не торопись с выводами, Чавдар. Неровен час — промахнешься. Честный человек, попав в затруднительное положение, тоже может ошибиться: оставаясь честным в мелких поступках, он под влиянием роковых обстоятельств станет участвовать в преступной игре.
— Мне кажется, чаще как раз бывает наоборот: раз совершив крупный бесчестный поступок, человек, сам того не желая, продолжает совершать тысячи мелких бесчестных деяний по отношению к обществу и родине...
— Запомни, Чавдар, идеальных людей нет. Лишь идеалисты могут утверждать обратное... Ну да ладно. Мы с тобой увлеклись. Вызови ко мне этого председателя институтской комиссии. Хорошо было бы и тебе присутствовать при разговоре.
— Я сам хотел вас попросить об этом...
— Вот и прекрасно. Может оказаться, что эта возня в институте гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд и действительно имеет отношение к случаю в Стойках...
— Треугольник Симо — Дюлгеров — Койчев не вызывает у меня никаких сомнений...
— Не будем торопиться с выводами... Итак, до завтра.
30
Несмотря на жаркий августовский день в кабинете было прохладно. Глядя в открытое окно, откуда открывался вид на новые кварталы, полковник внимательно слушал Выгленова, излагавшего свое мнение по поводу только что окончившейся встречи с Джамбазским.
— Честно говоря, товарищ полковник, меня удивила ваша позиция. В течение всего разговора вы словно подталкивали его к принятию окончательного решения против Йотова. Вы что, убеждены в виновности Йотова?.. На ваш вопрос, с каких пор Джамбазский знаком со Златановым, он ответил, что они познакомились пять лет назад, когда он поступил в институт. А Йотов говорил, да и в отделе кадров мне дали сведения, что Джамбазский, находясь в 1943—1944 гг. в Берлине, жил вместе со Златановым на одной квартире. Стало быть, Джамбазский лжет. Дальше. Вы подчеркнули, что Йотов дал правдивый ответ на все вопросы анкеты, и, следовательно, его не в чем винить. И что же? Когда Джамбазский перед лицом фактов вынужден был с этим согласиться, вы говорите, что находите решение об увольнении Йотова абсолютно правильным и что необходимо как можно быстрее издать соответствующий приказ... Признаться, не понимаю вашей логики.
— Прекрасно! Поздравляю тебя, Чавдар! Все подмечено точно. А теперь слушай: деле в том, что если Джамбазский искренне верит в виновность Йотова, то своими наводящими вопросами я должен был поколебать в нем эту уверенность. И, следовательно, ему не остается ничего иного, как вынести Йотову оправдательный приговор. Если же все это преднамеренно и он попался на мою удочку, значит следует ожидать, что он поспешит с увольнением Йотова. Тут-то мы и поймем, кто он — сознательный руководитель, до конца заинтересованный в истине, или же человек, ведущий нечестную игру. Это во-первых. Во-вторых, я спросил его — хорошо ли он знает Йотова и Златанова, а не с каких пор он с ними знаком. Я так же, как и ты, подозреваю Златанова в неискренности, но это совсем не означает, что он служит чужим интересам. В таком контексте ответ административного секретаря особенно важен: если он знает, что Златанов играет нечестно, то не настолько же он наивен, чтобы скрывать свое знакомство с ним еще по Берлину — ведь это, в конце концов, легко доказать. Джамбазский это скрыл. Одно из двух: или он не связан со Златановым, или же просто не знает всей истины о нем, а посему и мысли не допускает, что мы можем им заинтересоваться. Он скрыл, что они знакомы еще с Берлина, очевидно, желая подчеркнуть свою объективность, и тем самым выдал заинтересованность в том, чтобы оправдать Златанова и осудить Йотова. Однако это заинтересованность совсем иного толка. Просто, Златанов держит его в руках. И здесь я с тобой согласен: административный секретарь солгал, как ты позволил себе выразиться, в силу личных интересов. И в-третьих, об этом я сообщил свое мнение вчера: Йотов все-таки далеко не совсем прав в сложившихся со Златановым взаимоотношениях. Поэтому, выдвигая на передний план эту второстепенную вину Йотова, я тем самым развязываю руки Джамбазскому, но, что самое важное, тем самым мы успокаиваем Златанова — дескать он нас не интересует. Джамбазский наверняка сообщит ему о нашей встрече. И та версия, что ты по-соседски хочешь защитить Йотова... Ну, насчет того несчастного вина... (кстати, в то, что он присвоил его, не верит и Джамбазский) прозвучит для них убедительно. Очень хорошо, что нас приняли за сотрудников уголовного отдела. Иначе Златанов почует опасность. Словом, пусть будет издан приказ об увольнении Йотова, потом мы вмешаемся и поставим все на свои места, а тем временем, пока Златанов чувствует себя свободным, постараемся замкнуть вокруг него кольцо. Прав я или нет?
— Безусловно. Но Йотову это доставит страдания.
— Только на некоторое время. Но от этого зависит многое. Я думаю, что Йотов в конце концов сможет забыть о своей обиде, когда узнает всю
истину...
— Если я вас правильно понял, товарищ полковник, мне необходимо включить Джамбазского в круг наших наблюдений?
— Именно. Но весь вопрос в том, как это сделать?
— Должен признаться, что пока он был здесь, я попросил ребят установить у него в кабинете аппаратуру, чтобы зафиксировать разговор, который наверняка произойдет сегодня между ним и Златановым. Златанов непременно придет к Джамбазскому, как только Йотов покинет здание института. Впрочем, уже 18.00. Обычно Йотов не задерживается по окончании рабочего дня.
— Вот и прекрасно!
— Хотите, устроим небольшую проверку?
Чавдар набрал номер института: «Попросите, пожалуйста, товарища Златанова». «Он у Джамбазского. Что-нибудь ему передать?» «Нет, спасибо. Я перезвоню попозже!»
— Значит, все в порядке... Буду ждать от тебя сведений, Чавдар!
31
— Слушаю вас, — сказал Чавдар двум сотрудникам, приглаживая рукой волосы.
— Как известно, — начал молодой человек с чуть прищуренным взглядом, — в настоящий момент Койчев проживает один. Выходит из дому обычно к вечеру, чтобы выпить рюмочку ракии в соседней корчме. Потом не спеша обходит сквер и, немного посидев на скамейке, возвращается домой. Утром к нему обычно приходит женщина — делает уборку и готовит обед. Это все.
— Значит, ничего особенного, — спокойно заметил Чавдар, отлично зная привычку Герчо самое интересное приберегать к концу.
— Да, ничего особенного. Кроме того, что сегодня, как всегда выйдя из дому в 19.00 и побывав в корчме, он после обычного обхода по скверу, сел на излюбленную скамейку и, оглядевшись по сторонам, вытащил из щели небольшую записку. Пробежал ее глазами, сунул в карман и достал блокнот. Что-то написав, вырвал из блокнота лист и аккуратно свернул его. Все это время я старательно делал вид, что читаю газету на соседней скамейке. Койчев же вынул из лацкана пиджака булавочку, знаете, такую, с головкой, и принялся ковырять в зубах — будто не кислыми огурцами закусывал свою ракию, а ростбифом. Затем быстро сунул записку в щель и тут же поднялся с места. Когда он скрылся из виду, я огляделся и достал записку.
— Ну и что же в ней было? — поинтересовался Чавдар.
— Там было написано следующее: «Не сегодня. Приходи завтра — в четверг». И больше ничего. Собственно, это не все. Я решил немного задержаться, дочитать до конца свою газету. И очень хорошо сделал. Потому что вскоре к скамейке приблизился невысокий, лысый мужчина лет пятидесяти с фотоаппаратом через плечо. Уселся на скамейку, точно на то место, где до этого сидел Койчев, и принялся шарить по ней. Вынул записку, сунул ее в карман, но не удержался, тут же на аллее прочитал ее, поглядел в сторону койчевского дома, недовольно сплюнул и ушел. Тут я заметил Рангела. «Ага, подумал я, ты мне его привел, ты его и до дома проводишь». Забежал ненадолго к себе и явился на доклад.
— Теперь ты продолжай, — обратился Чавдар к Рангелу.
Рангел важно кашлянул, разгладил усы, словно хотел придать большей значительности своему рассказу:
— Это был фотограф Дюлгеров. Я давно за ним хожу, и все безрезультатно. Наконец он отправился в известный вам сквер. Погулял немного, выпил в будке сельтерской воды и присел на скамейку отдохнуть, значит. Я заметил, что он достал из щели записку, спрятал ее в карман, но не удержался и прочел на ходу... Я проводил его до самого подъезда. Там на мое место уже заступала ночная смена. Но по мне, так после такой прогулки он действительно пошел спать.
— Отлично, ребята! Хорошие сведения принесли. А вот кто мне скажет, кто из этих двоих — главнее? И почему Дюлгеров сплюнул?
Рангел, не долго думая, заявил:
— Для меня, главнее Дюлгеров. А сплюнул он потому, что сельтерская вода была слишком теплая. К тому же привычка у него такая — я это уже успел приметить.
— А мне кажется, — возразил Герчо еще больше прищурившись, — что Койчев — более важная птица. Это ведь из-за него Дюлгеров проделал такой длинный путь — аж с улицы Средна-Гора. А помню, еще бабка моя любила повторять, что коли гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе.
— Да, Герчо. Мне тоже кажется, что Койчев — здесь более важная птица, раз он преспокойно переназначил Дюлгерову встречу на четверг. Тот небось и сплюнул от этого с досады: проделал такой длинный путь, а Койчев, как хороший бюрократ, приглашает его на следующий день. Ну, а теперь хочу вам дать новое задание. Сегодня ночью спать не придется. — Он взял из рук вошедшего сотрудника магнитофонную пленку. — Придется продолжить наблюдение за объектами. До утра.
— Есть продолжить наблюдение! — сказали в один голос Герчо и Рангел и вышли из кабинета.
32
Оставшись один, Чавдар нетерпеливо установил пленку на магнитофон и включил его. Сначала слышались какие-то незначительные разговоры, хлопанье дверей, потом все затихло. Тишину прервал робкой стук в дверь, громкий голос Джамбазского произнес: «Войдите!» Спустя секунду раздался испуганный голос уборщицы, которую обвиняли в том, что она присвоила заграничную авторучку.
«Как ты могла! — загремел голос Джамбазского. — Знаешь, сколько полагается за кражу — шесть месяцев тюрьмы!»
«Умоляю вас, товарищ Джамбазский! Ручка упала на ковер и никто не обращал на нее внимания. Я взяла ее, потому что дочка накануне потеряла свою ручку, а на другой день должна была писать контрольную... Прошу вас, товарищ Джамбазский, не выдавайте меня милиции. Я на все готова, — убирать у вас, стирать белье, только пощадите!»
«Но что я могу сделать! Я — всего лишь административный секретарь».
«Можете, вы все можете! Хотите, я упаду вам в ноги?»
«Ну хорошо! Я постараюсь что-нибудь для тебя сделать! Приходи завтра ко мне домой. Адрес знаешь... Я постараюсь все уладить, но знай, что это нелегко...»
«Я понимаю, я все понимаю. Я приду к вам домой. Спасибо вам большое, век не забуду!»
— Ах, негодяй! — прошептал Чавдар.
Но вот снова послышался стук и голос Златанова спросил:
«Вы заняты, товарищ административный секретарь?»
«А, Златанов, заходи. В общем, все как я предполагал...»
Диалог обещал быть интересным. Чавдар насторожился.
«И что? Подаст заявление об уходе?»
«Нет, отказывается. Категорически».
«Отказывается, потому что ты мямля. И всегда был таким. Даже в Берлине. Мямля и бабник!»
«Ладно, давай не будем! Сейчас не время».
«Если бы не я, задал бы тебе тот диктатор по первое число...»
«Слушай, не употребляй ты это слово где надо и не надо. Вот и в докладе своем на каждом шагу его упоминаешь...»
«Да ради тебя же, дурака! Чтобы не забыл о Берлине! Знать ничего не хочу — ты должен заставить его подать заявление об уходе!»
«Я же тебе уже сказал — категорически отказывается! Мы даже сцепились с ним из-за этого».
«В таком случае — пусть его уволят! Кстати, зачем вызывали тебя в милицию?»
«Много будешь знать — скоро состаришься!»
«Ах вот как! Ну ладно... Только знай — я ведь тоже могу развязать язык...»
«Погоди, что ты сразу злишься. Йотов подал жалобу на клевету. Но ты тоже, скажу тебе! Как ты только мог придумать эту глупую историю с вином? Какой дурак в это поверит?»
«А пусть милиция проверяет. Это ведь по ее части. Ну и что же?»
«Они попытались убедить меня, что ты переборщил. Но я их разубедил. Причем подчеркнул, что мы не потерпим диктаторских замашек в государственном учреждении...»
«Вот видишь, это слово необходимо!»
«Еще я сказал, что Йотов все время давит на тебя, не пускает в командировки, мешает заниматься общественной работой, не позволяет, к примеру, пользоваться пишущей машинкой для переписки докладов и речей, словно это его собственность, а не институтская...»
«Правильно, именно так...»
«Да не совсем оно так, ну да ладно... Все-таки общественной работой ты занимаешься в рабочее время... А на машинке пишешь против него доносы...»
«Чего, чего?»
«Да это его слова, как ты не понимаешь!»
«Ладно. Ну, и что дальше?»
«Ничего. Они согласились, что вместе вы работать не можете и порекомендовали перевести его на другую работу с такой же зарплатой...»
«Вышвырнуть его, как паршивую собаку... И никакой ему работы!»
«Извини, Зико, но кто это позволит сделать! Все-таки должна же быть во всем мера. Тебе мало, что я все переиначиваю из уважения к тебе. Не забывай, он может подать жалобу в более высокую инстанцию и тогда мы вылетим отсюда оба...»
«Ладно... Подписывай увольнение, то есть, я хотел сказать, переход на другую работу».
«Это не в моей власти, ты же знаешь. Нужно созвать комиссию. Все равно, будет принято мое предложение, так что не волнуйся».
«Если получится, за мною не станет. Отгуляем в Японском ресторане».
«Успеется...»
Послышался телефонный звонок.
«Да, Джамбазский слушает».
«Товарищ административный секретарь, Златанов у вас?»
«Минуточку... Златанов, это тебя...»
«Алло! Кто? Ганс? Когда ты приехал? Передай трубку вахтеру...»
«Пригласи его сюда, здесь спокойнее. Я должен уйти...»
«Добро. Алло, дядя Дим о, будь добр, проводи его в комнату административного секретаря. Да, я буду ждать его здесь...»
Последовала пауза. Затем послышался стук в дверь.
«Войдите. Битте. Познакомьтесь: Джамбазский» (Выгленов насторожился).
«Шульце».
«Добро пожаловать, Ганс! Небось, привез новые проекты?»
«На этот раз нет. Но я хотел бы, чтобы мы договорились о встрече...»
«Вы меня извините, но мне нужно идти. Здесь вы сможете поговорить спокойно! До свидания!»
«До свидания, товарищ Джамбазский!»
Пауза.
«Почему ты ему не сказал, откуда я? Как бы потом чего-нибудь не вышло».
«Не беспокойся, это мой человек».
«Что нового на культурном фронте?»
«Скоро я стану шефом института. С большими связями! Но у меня и сейчас кое-что есть... «Дружок» твой уходит в отпуск... В родное село собирается... Помнишь, я тебе говорил, что он работает над очень важным проектом? Так вот, этот проект он держит у себя в письменном столе... Дальше — твое дело...»
«Когда ты собираешься в Вену?»
«Еще документы не готовы. Но откуда ты знаешь?»
«Мне все положено знать. Но и тебе не мешает помнить, что разрешение нужно получить не только в милиции, но и у меня. Сколько времени ты собираешься там пробыть?»
«Мы с женой думаем — с месяц».
«Когда ты подал документы?»
«Месяца четыре назад... Что-то задерживают...»
«Именно это мне и не нравится. Проверь — почему задерживают... Пусть административный секретарь поинтересуется, он же твой человек...»
«Верно... Как это я сразу не догадался! А ты поможешь мне с валютой?»
«Поторопись с визой. Если мы успеем переснять проект, ты провезешь через границу пленку и получишь за это приличное вознаграждение... А вот тебе небольшой аванс...Тысячи хватит?»
«Маловато... За те документы! И за проект! — прямо скажем, мало!»
«Но ведь это только аванс. И потом, кто тебе разрешил устраивать такое грубое нападение на сотрудника милиции?»
«Но откуда мне знать! Твои люди... Я послал Йотова специально, чтобы скомпрометировать его. А что получилось? Ты бы проверил своих людей! Чуть было не раскрыли нас. Меня дважды вызывали на допрос...»
«Мог бы сам заняться операцией. Но ты же у нас витаешь в высоких сферах, а грязную работу пусть другие делают! Ну ладно, слишком долго я у тебя задержался. Вот тебе карточка гостиницы, где я остановился, и телефон...»
«Договорились. Как только получу повестку явиться за документами, сразу же тебе сообщу. Пойдем, я провожу тебя. Такой видный гость не может уйти один, без провожатого...»
Чавдар довольно улыбнулся. Эта запись послужит ключом ко многим тайнам. Предстоит самое трудное.
33
Йотов всю ночь не сомкнул глаз. Мысли его метались словно птицы, запертые в темной комнате и напрасно пытающиеся вырваться на свободу. Вновь и вновь возвращался он к событиям вчерашнего дня...
Ему позвонили по телефону и сообщили, что комиссия вынесла решение и что он может с ним ознакомиться. Он тут же оделся и отправился в институт. Никого не замечая, почти бегом проследовал мимо своей комнаты и постучался в дверь кабинета административного секретаря.
«Вот, ознакомьтесь с решением комиссии», — протянул ему листок административный секретарь, пряча глаза.
Йотов стал читать. С первых же строк буквы запрыгали у него перед глазами, но суть он все же сумел уловить. Ему ставилось в вину то, что он как руководитель института не сумел создать коллегиальную, творческую атмосферу, а посему должен уйти. Ему будет предоставлена другая работа с сохранением такой же заработной платы. Временно исполнять обязанности директора будет его заместитель Зико Златанов. Строгий выговор получает Гылыбов за беспринципный отказ от своих первоначальных показаний. «Значит, Гылыбов отказался от показаний против меня!»
«Вам предоставляется месяц оплачиваемого отпуска, пока вам подыщут новое место, согласно штатному расписанию».
«Все ясно... До свидания», — глухо вымолвил Йотов и вышел.
И теперь он тщетно пытался уснуть, ворочаясь в постели. Этот институт был создан по его предложению. Он долго не соглашался его возглавить, но вышестоящие органы распорядились, чтобы именно он, Йотов, занял место руководителя института. А ныне представитель этих органов принял сторону некомпетентной комиссии, во главе которой стоял закадычный друг Златанова, административный секретарь Джамбазский.
...Словно в калейдоскопе, в голове Йотова мелькали картины, связанные с институтской жизнью на протяжении последнего года: бесконечные заседания, протоколы, обсуждения работы института, решения... Он отлично помнил решение, принятое в связи с работой Златанова, которая тогда была признана слабой. Йотову вменялось навести порядок в институте. Первое, что он сделал, попытался наладить дисциплину. Обычно его помощники приходили на работу через час-другой после него. Не успев раздеться, они спешили заявить, что у них дела в районном комитете, или что необходимо поработать в библиотеке, и исчезали. Два-три дня в неделю они вообще не появлялись в институте, не считая должным даже объяснить свое отсутствие. Гылыбов, так тот во всех случаях жизни довольствовался лишь одним объяснением: «Мне необходимо выехать в район по делу».
Общественной работой занимались в рабочее время, а текущими делами предоставили заниматься Йотову. Причем и Златанов, и Голубов объясняли запрет Йотова выполнять общественные обязанности в часы работы тем, что он-де был аполитичен.
Однажды Йотову понадобилось прийти на работу на два часа раньше — нужно было написать доклад об институтском плане и новых рекомендациях по поводу материальной базы института. К его удивлению, вахтер сказал, что ключ от кабинета наверху, потому что в свободное время приходит печатать на машинке друг Златанова — научный работник, так сказать, использует «пустое помещение».
«Какое же вы имеете право давать ключ посторонним лицам?»
«А я и не даю посторонним лицам. С ним обычно приходит Златанов. Отпирает комнату и, оставив приятеля одного, удаляется. А незадолго до вашего прихода этот человек возвращает мне ключ, предварительно заперев кабинет».
Йотов вспыхнул от гнева. Поднимаясь по лестнице, он чувствовал, как внутри у него бушует пожар. Еще издали он услышал стрекот машинки. «Нечего сказать, он хорошо использует «пустое помещение». Постучав, Йотов вошел в кабинет. За его письменным столом расположился молодой человек с бакенбардами и буйной шевелюрой на круглой, словно футбольный мяч, голове.
«Тс-с-с... Тихо, — поднес палец к губам незнакомец. — Не разбудите ребенка, — и он кивнул в сторону дивана, на котором спал прямо в обуви десятилетний мальчик с такой же круглой головой, — Что вам угодно? Рабочее время в институте начинается через два часа...»
«Но позвольте, я — директор института...» — смущаясь неизвестно почему, сказал Йотов, в замешательстве снимая плащ и вешая на вешалку шляпу.
«Ах вот как! А почему вы так рано пришли? Знаете, у меня срочная работа. Вы ведь разрешите мне докончить?» — И, не дожидаясь ответа, он продолжал строчить.
Йотов стоял у стола, не зная, что делать. Незнакомец поднял голову от машинки:
«Извините, кажется, это ваш стол... Да вы садитесь, садитесь, а я перейду на другой. Понимаете, он как раз у парня в изголовье, поэтому я сел за ваш...» — Он взял машинку и бумаги и перенес их на другой стол.
Йотов сделал было шаг к столу, но остановился.
«Видите ли, — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно мягче, — дело в том, что мне необходима машинка... Понимаете, нужно писать доклад...»
«А разве эта машинка не Златанова? Он мне разрешил ею пользоваться!»
«Он вам разрешил, однако я запрещаю!»
«Ах вот как! У меня горит статья, я должен представить ее в редакцию через три часа, а вы, значит, мне запрещаете! Хорошо! Впрочем, я что-то не совсем понимаю... Почему это вы мне запрещаете, разве здесь не Златанов распоряжается?»
«Директор тут все еще я, и категорически запрещаю вам приходить сюда!»
«Ах вот оно что, — протянул молодой человек, принимаясь неохотно собирать свои бумаги, — я-то считал директором Златанова поскольку вы здесь так, для проформы!..»
«Вон! — не сдержавшись крикнул Йотов и вдруг вспомнил: однажды на приеме, на котором присутствовали и иностранные гости, Златанов вроде бы в шутку сказал: «Фактически, директор тут — я!»
Мальчик проснулся. Он вскочил с кушетки и, подобрав упавшую шапку, ринулся к двери, как бы приглашая отца последовать его примеру. Непрошенный посетитель устремился было за ним, но в дверях остановился и, перейдя на «ты», медленно, с угрозой в голосе сказал:
— Институт что, твоя вотчина, что ли? И институт, и машинка — собственность го-су-дар-ствен-ная! Понял? И вообще, подобных тебе на таком посту никто держать не станет! — Выпалив это, молодой человек исчез, изо всей силы хлопнув дверью.
Йотов весь дрожал от обиды и гнева. Если кто и смотрит на институт, как на личную собственность, так это Златанов. Он не гнушается тащить домой отсюда даже копировальную бумагу...
Все это проносилось сейчас в голове Йотова — весь кошмар прожитых за последний год дней. Ему надо было действовать активно, чтобы своевременно преградить путь беспринципности и разгильдяйству, а он позволил им одержать верх. Атмосфера в институте создалась поистине невозможная. Йотов оказался в одиночестве. И вот результат — вместо награды за двадцать лет самоотверженной работы — несправедливое увольнение. «Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем черная неблагодарность», — горько думал он.
Йотов так и не сомкнул глаз и весь день чувствовал себя разбитым. Болела голова. Все валилось из рук. Казалось, дальнейшая жизнь потеряла всякий смысл. Раз даже у нас возможны карьеризм, раболепие и клевета, тогда как же жить дальше? «Борьба, беспрерывная борьба за совершенство и справедливость, — думал он. — Но эта борьба будет продолжаться вечно, а справедливость так никогда и не восторжествует...» Человек одинок в этом мире. Конечно, стоило жить ради семьи. Но как, как помочь сыну? И разве совершенна такая система приема в высшее учебное заведение, при которой поступают слабые, случайные кандидаты, вынужденные в первом же семестре забирать документы из-за того, что не справляются с учебной программой! А те, кто годами безуспешно пытается поступить, потом на поверку оказываются отличными студентами!
Евгений должен поступить, должен учиться! Он считает так не потому, что Евгений его сын — нет! Он уверен, что у мальчика есть для этого все данные! Но как, как этого добиться?
За окном стемнело. Когда же приедет из Варны Маргарита с детьми? Впрочем, стоит ли ее волновать? Во всяком случае о себе он рассказывать не станет. Скажет, что взял отпуск. Будет молчать, пока не узнает, какое ему собираются предложить место. А вот об Евгении придется рассказать. Конечно, Маргарита сразу побежит по инстанциям, будет стучаться во все двери, подавать заявления, записываться на прием — в общем, будет искать справедливости. Он не может ей это запретить. Но он как отец должен реально оценить события. И единственная возможность дать сыну образование — это послать его учиться в Париж, разумеется, предварительно переслав туда свое изобретение. Хорошо бы, чтобы Евгений уехал вместе с Эженом. Если документы задержатся, он уедет позднее. Но базу нужно подготовить...
Йотов пошел в чулан и достал оттуда чемодан Эжена: так как в багажнике не было достаточно места, Эжен переложил свои вещи в сумку. Йотов внимательно осмотрел подкладку чемодана. Тонкой коричневой ниткой к ней было подшито второе дно. Йотов аккуратно уложил схемы и пояснительный текст, и с помощью иглы осторожно продел нитку в прежние дырочки. «Ко мне жизнь отнеслась несправедливо, так постараюсь хотя бы детей уберечь от этого,» — подумал он, успокаиваясь. Он почувствовал озлобление не только против сотрудников института, но и против существующего порядка и законности В голове даже мелькнула мысль о том, что будь у него готова последняя разработка, он бы продал и ее. Он уже и сам не знал, отказал бы он Эриху, приди он сейчас. Может, пошел бы на сделку и даже взял бы «аванс» в иностранной валюте? Йотов тряхнул головой, прогоняя эту мысль, и отнес чемодан в чулан.
Уже совсем стемнело. В дверь позвонила
— Это ты? — вздрогнул Йотов, открыв дверь.
— Да, я. Можно мне войти?
— Приходи лучше завтра... Сегодня я занят...
— Но завтра твоя семья возвращается из Варны...
«Интересно, откуда ему известно?» — подумал Йотов и нехотя сказал:
— Хорошо... Заходи.
— Надеюсь, на этот раз мы договоримся, — уверенно заявил Эрих. — Я знаю, тебя уволили из института, а сын твой провалился на экзаменах в университет... Но не тревожься, все образуется... Не забывай, у тебя есть друзья...
Йотов подавленно молчал. У него не было сил сопротивляться. Он чувствовал себя, как поверженный боксер на ринге, над которым неумолимый судья отсчитывает роковые секунды. Сейчас он скажет «десять», и рука победителя взметнется вверх. Пока Эрих закуривал, Йотов немного успокоился. Он был готов слушать...
А в сквере напротив дома Йотова усатый молодой человек быстро набирал в телефонной будке нужный ему номер:
— Товарищ Выгленов? Это Рангел. Сейчас в дом вошел незнакомый мужчина По виду иностранец. Ждать?.. Хорошо, я прослежу за ним... Слушаюсь!
Город постепенно погружался в сон.
34
Как и предполагал Чавдар, Койчев отказался принять Дюлгерова потому, что у него была важная встреча. В назначенный час к его дому подошел некто Ганс — высокий, стройный мужчина в хорошо сшитом костюме из дорогой ткани и в серой шляпе. Остановившись, он сделал вид, что закуривает сигарету, незаметно огляделся по сторонам и быстро вошел в подъезд. Поднялся на третий этаж, взглянул на часы и, подождав пока погаснет автоматическое освещение на лестнице, почти бегом спустился на второй. Одна из дверей бесшумно отворилась, и ночной гость шагнул в темную прихожую.
Не зажигая света, Койчев принял из рук гостя шляпу. Сказав, что в доме никого нет, дочь в Варне, он провел его в свою комнату. Без предисловий, гость сообщил, что Йотов отказался продать изобретение и спросил, нет ли у Койчева знакомого фотографа, который мог бы переснять схемы. Нужен еще один человек, чтобы стоять на страже. Оба должны быть верными людьми.
— Почему же нет, есть! Да ты, Ганс, с ними знаком — Дюлгеров и Крачмаров.
— Только не Дюлгеров! — покачал головой Ганс. — Это грязный мошенник! Мы имеем достоверные сведения, что копию всех материалов, которые он нам пересылает, Дюлгеров отправляет своей знакомой в Милан.
— Не может быть! А я считал его честным...
— Может, может! Как видишь, и среди нас попадаются бесчестные люди.
Койчева не смутила эта тирада о честности и бесчестности. Как человек «порядочный», он бурно прореагировал на услышанную «новость»:
— Но если это действительно так, он должен понести наказание!
— Абсолютно проверенные факты! И наказание не замедлит — он должен умереть! — тихо произнес Ганс, внимательно следя за выражением лица собеседника.
— Что ж, он этого заслуживает! — твердо сказал Койчев. — А кто выполнит приговор?
— Ты!
— Ну что ж, раз так решено, я готов!
— Вот тебе пистолет с глушителем. Когда ты убедишься, что он мертв, глушитель сними, а пистолет вложи ему в руку. Пусть думают, что это самоубийство. Но перед этим нужно заставить его написать предсмертное письмо.
И Ганс подробно объяснил, каким должен быть текст письма.
Койчева не особенно смутило несколько необычное задание. На его совести уже была организация одного убийства, а также покушения на Ганева...
— Кто же тогда переснимет схемы? У меня есть на примете другой фотограф, но боюсь, что дело может затянуться...
— Тогда ликвидируй Дюлгерова сразу же после того, как он выполнит задание, чтобы он не успел передать копию пленки другому...
Койчеву стало немного не по себе, что придется возлагать работу на человека, осужденного на смерть. Но решения Ганса не подлежали обсуждению. Завтра Дюлгеров будет у него. Кроме того, он вызовет и Крачмарова...
Ганс ознакомил Койчева с планом операции. Семья, в доме которой хранятся нужные бумаги, в субботу уедет в провинцию. Следует действовать быстро, но осторожно. Он указал Койчеву адрес дома изобретателя. Под конец сказал:
— Скоро один верный нам человек поедет за границу. Я привезу его к тебе на дачу, чтобы вы познакомились. Ему ты и передашь пленку. Раньше он подчинялся непосредственно мне, но с сегодняшнего дня переходит в твое распоряжение. Будь с ним поделикатнее, он привык к вежливому обращению. К тому же он — человек полезный и с перспективой... Мы надеемся, что вскоре при помощи другого лица с большими связями, которое находится у нас в руках, он сможет добраться до сверх секретных документов. Зико Златанов...
— Так это Зико Златанов? — изумился Койчев. — Но я его знаю!
— Очень хорошо. А сейчас я тебе представлю еще одного верного нам человека...
— Не слишком ли много для одного дня, — попытался пошутить Койчев, хотя это было совсем не в его стиле.
— У меня для тебя припасен еще один сюрприз. Но о нем — потом.
В этот миг в дверь позвонили. Койчев открыл дверь: на пороге стояла племянница Златанова — Ольга. Ни слова не говоря, она вошла в прихожую.
— А вот и наша красавица! — Ганс галантно поцеловал руку молодой женщине.
Койчев знал Ольгу как приятельницу Ганса.
— Вы ведь знакомы, не правда ли, поэтому не будем терять время, а сразу приступим к делу. Тебе известно, Койчев, что Ольга — моя приятельница, я никогда этого не скрывал. Но она должна узаконить свое пребывание в Софии: предстоит много работы. Словом, ей необходимо найти себе мужа в Софии...
— Кого ты имеешь в виду?
— Тебя.
— Меня?! — ошарашенно переспросил Койчев.
— А что в этом удивительного?
— Но я полагал, что она... как твоя приятельница...
— Давай договоримся: официально она будет твоей женой, но остается моей приятельницей. И ты ни в чем не должен ей мешать! Хочу, чтобы ты знал, ей удалось вскружить голову одному генеральному директору по фамилии Дарев. Он часто ездит за границу. Возвращается обычно с двумя чемоданами подарков. Один предназначен его жене, а другой он оставляет в багажном отделении вокзала на имя Ольги. А насчет вашего с Ольгой брака — так он будет, так сказать, сугубо дипломатическим, как в лучших титулованных семействах, хотя твое благородное происхождение более чем сомнительно...
— Ладно, — прервал его Койчев. — А дама согласна на такую комбинацию? — Он взглянул в сторону Ольги.
Та невозмутимо сидела в глубоком кресле, скрестив длинные красивые ноги, и с глубоким безразличием курила, будто все, что здесь говорилось, ее не касается. Услышав вопрос, она стряхнула пепел с сигареты и сказала:
— Не вижу, почему бы за соответствующее материальное вознаграждение не сыграть роль добропорядочной супруги?
Слова ее предназначались в первую очередь Гансу, которого она, к величайшему удовольствию Койчева, видно хотела задеть.
— Но мы же обо всем с тобой договорились, Ольга! — несколько театрально воскликнул Ганс. — Ты мне очень дорога, я никогда это и не скрывал, но в нашем деле сентиментальность недопустима.
— Конечно! — нетерпеливо прервала Ольга его тираду. — Но ты забыл о совсем маленькой помехе — генеральном директоре! А он ведь любит меня, и я не сомневаюсь, искренне. Сказал даже, что собирается купить мне квартиру... Кстати, завтра он должен вернуться из Варны...
— Ну и что? Мне ли тебя учить. Встретишься с ним, как обычно, и скажешь, что выходишь замуж. Время-де подошло. Что Койчев обеспечивает тебе не только квартиру и прописку, но и общественное положение. Подчеркнешь, что мера эта вынужденная, что тебе просто некуда деваться, но что ты любишь только его, Дарева, и готова в дальнейшем с ним встречаться... Койчев, дай чего-нибудь выпить, покрепче...
Койчев налил три бокала виски.
— Должен вас предупредить, — сказал он, — что полностью мне принадлежит только дача. Половиной квартиры владеет по документам падчерица...
— Ну, будем здоровы! Свату полагается произнести коротенькую речь, не правда ли? Так вот, желаю, чтобы будущий союз был крепким и способствовал созданию полезных связей. Пусть он послужит, как говорится, фундаментом для упрочения нашего дела, способствующего тому, чтобы эта прекрасная, богатая — ваша и моя — страна наконец обрела то, чего ей всегда не хватало, — свободу! Прозит!
Разнесся звон бокалов.
— Койчев, что же ты не поцелуешь свою невесту? — поинтересовался Ганс, выпив свое виски.
Койчев несмело приблизился к Ольге, она слегка наклонилась, чтобы не обидеть его, и он расцеловал ее в обе щеки.
— Что ж, Ольга, будем считать, что обручение состоялось. Прими мои поздравления! Должен тебе сказать, ты — превосходная актриса! Те, в Театральном институте, ничего не понимают, раз тебя не приняли, — сказал Ганс. — Я сейчас уйду, а Ольга пусть останется ненадолго, чтобы вы могли решить кое-какие практические вопросы. Если можно, устройте свадьбу в ближайшее воскресенье.
— Нет, я к этому не готова, — возразила Ольга. — Не раньше следующего четверга!
— Я согласен. Пусть будет в четверг... Ну, будьте здоровы!
Ганс вышел из квартиры и, не зажигая на лестнице света, отправился вверх, на четвертый этаж. Там он нажал на кнопку выключателя, площадку залил яркий свет. Дежуривший на улице молодой человек заметил, что кто-то спускается с четвертого этажа, но не обратил на него внимания. Он ему был неинтересен. Вот если бы со второго — тогда другое дело...
35
В десять утра в кабинете Чавдара собралась оперативная группа. Напомнив, что сегодня, согласно записке, Дюлгеров должен пойти к Койчеву, Рангел спросил, не пора ли их задержать, тем более, что они будут вместе
Герчо доложил, что к Койчеву никто не приходил, кроме красивой черноволосой женщины. Высокая, стройная, волосы длинные, одна прядь переброшена на грудь.
— Уж не эта ли? — показал ему фотографию Ольги Чавдар.
— Да, она! И точно так же одета. Пробыла у Койчева почти до полуночи...
— Значит, все-таки племянница Златанова, — в задумчивости протянул Чавдар. — А ты не проследил за ней?
— Я послал за ней Пройчо, но он ее упустил. У Дворца пионеров она села в трамвай, и он успел вскочить на ходу на заднюю площадку. Она стояла на передней и на первой же остановке вышла К сожалению, задняя дверь не открылась. Вот он и упустил ее...
— Значит, Ольга связана с Койчевым... Это любопытно... Ну а еще что у тебя интересного?
— Да пожалуй, ничего. Никто к нему больше не приходил и никто от него не выходил. Правда, с четвертого этажа спустился незнакомый франт в таком хорошем настроении, что даже что-то напевал. Поскольку он спустился сверху, а не вышел от Койчева, мы не стали за ним следить. У меня все.
— Этот франт мог оказаться именно тем, кого мы ищем. Нужно было проследить за ним, раз он вышел из того же дома. Сегодня же вечером установить там пост. Меня интересуют все лица, не проживающие в доме. А Пройчо скажи, что непростительно упускать такую красивую женщину...
Герчо и Рангел переглянулись. Кажется, вышла осечка!
Проводив ребят, Чавдар задумался, к кому, кроме Койчева, из живущих в подъезде жильцов, мог прийти «франт» и что он за птица? Уж не Ганс ли Шульце? Ведь именно он должен организовать переснятие схем! И Ольга... Чего бы это Койчеву, неприметном, пятидесятилетнему вдовцу, принимать у себя приятельницу Ганса? А может, все трое действуют заодно? Но почему в таком случае Ганс ушел раньше, если, допустим, и он был у Койчева? Треугольник, кажется, не треугольник, а пятиугольник, или же...
Чавдар вернулся домой поздно. Не успел он раздеться, как по телефону ему сообщили, что в настоящее время у Койчева находится Дюлгеров и тот человек, которого упустили при слежке десять дней назад. Тогда он тоже приходил к Койчеву. «Уж не Крачмаров ли? — подумал Чавдар. — По описанию — очень похож. Значит, Койчев связан со случаем в Стойках. Это показывает, что они даже не подозревают об установленной за ними слежке. Видимо, разрабатывают план той самой операции, о которой упоминалось в разговоре Златанова с Шульце... Значит, исполнитель — Койчев...»
Чавдар дал указание непременно проследить, куда направился Крачмаров, и у кого останется ночевать.
Около девяти вечера Чавдару позвонил Йотов. По голосу чувствовалось, что он встревожен. Йотов попросил Чавдара принять его...
— Я вам должен кое-что сообщить, — едва переводя дух вымолвил Йотов... — Дело в том, что ко мне приходил мой давешний знакомый Эрих...
— Почему вы не рассказали мне о нем раньше, или хотя бы вчера не позвонили? — резко прервал его Чавдар.
— Да, он приходил вчера, — машинально согласился Йотов. — Вы, разумеется, правы... Однако, понимаете, вчера мне как раз сообщили об увольнении... («Значит, Джамбазский не теряет зря времени,» — подумал Чавдар). А сына моего снова не приняли в университет... Это для меня такой удар... Но Эрих мне такого наговорил, что я, кажется, начинаю кое-что понимать...
И Трифон Йотов начал свой рассказ с 1943 года — с бомбардировок, со своего знакомства с Эрихом Брюмбергом. Он поведал Чавдару, что это он, Йотов, познакомил Эриха с Зико Златановым, и они настолько сблизились, что Эрих помог Златанову выехать из Болгарии. В 1948 году Эрих вдруг снова появился в Софии, но потом исчез, и он, Йотов, подумал было, что навсегда. Но вот в минувшем месяце тот явился к нему домой и завел речь об изобретении Йотова, а вчера... вчера сделал ему конкретное предложение...
— Он предложил мне первоначальную сумму в двадцать тысяч с условием, что в дальнейшем я стану сообщать ему обо всех крупных изобретениях в Болгарии, о планируемых посещениях нашей страны зарубежными учеными, о приезде иностранных делегаций... Понимаете, я с ним разговаривал таким неуверенным тоном, попросту говоря так мялся и мямлил, что Эрих, должно быть, подумал, что я у него в руках. Кстати, он сообщил мне, в какой гостинице остановился, что приезжает в Болгарию совершенно легально как представитель солидной западной фирмы, что мне нечего опасаться встреч с ним и такое прочее... Я не ответил ему ни да, ни нет... Чтобы выиграть время. Но потом, когда я поразмыслил, понял, что чуть было не дал втянуть себя в грязную игру, и что вообще вел себя ужасно глупо, не сообщив вам обо всем во время нашего первого разговора...
Выгленов набрал номер управления и попросил своих сотрудников проверить, остановился ли, в данной гостинице представитель западной фирмы Эрих Брюмберг. Спустя некоторое время ему сообщили, что такое лицо там не проживает, и дали список гостей — представителей западных фирм. В списке Чавдару бросилось в глаза имя Ганса Шульце.
— Товарищ Йотов! Мне необходима ваша помощь. Завтра попрошу вас быть готовым в семь утра — мы вместе поедем в управление.
Пообещав быть готовым к назначенному часу, Йотов распрощался и ушел. На лестнице он столкнулся с Евгением.
— Отец, здравствуй. Мы только что вернулись. Мне нужно повидать товарища Выгленова по очень важному делу. Ты иди, я скоро вернусь...
Увидев на пороге Евгения, Чавдар удивился: его посещения он никак не ожидал.
— Товарищ Выгленов, — сбивчиво заговорил Евгений, — мне очень нужно вам рассказать... Понимаете, дело в том, что я встречаюсь с девушкой, отчим которой — зубной врач... И у них происходят странные вещи... — И Евгений рассказал о взаимоотношениях Койчева с Ружей, о том, как ужасно он ее третирует, хотя все имущество получил благодаря ее матери... А теперь и на дачу не дает даже шагу ступить.
— Подожди, подожди, давай все по порядку, — прервал его Чавдар. — Как его зовут?
— Койчев. Понимаете, он не разрешает дочери приезжать на дачу, потому что там якобы живет его садовник.
И Евгений поведал о том, что он невольно услышал в квартире Койчева.
— Так и сказал: «Накличешь ты беду на мою голову»? — в задумчивости спросил Чавдар.
— Да, именно эти слова... Его дочь возвращается в Софию сегодня вечером. Наши о ней ничего не знают... Товарищ Выгленов, вы не могли бы поговорить моим с отцом о Руже? Я ведь нашел себе работу... Проектировщиком в бюро...
Чавдар помолчал, думая о чем-то, потом вдруг сказал:
— Знаешь что, ты бы мог встретить свою девушку? Попроси ее взять вторые ключи от дачи. Мне они понадобятся не больше, чем на два часа. Но никому ни слова!
— В таком случае, мне пора: поезд прибывает через полчаса...
После ухода Евгения Чавдару сообщили по телефону, что посетители Койчева вышли из его квартиры. Фотограф вышел первым и сразу отправился домой, а второй уехал за город...
Выгленов распорядился не спускать глаз с обоих всю ночь...
36
Вернувшись домой, Маргарита начала действовать, не теряя ни минуты. Она потребовала, чтобы Трифон перенес пишущую машинку в спальню, и села писать заявление в университет с просьбой пересмотреть экзаменационную работу Евгения. Напрасно Йотов убеждал ее, что все это бесполезно.
— Ах, Трифон, ты тоже виноват! Сколько раз тебе говорила, что мальчику необходим репетитор, который подготовил бы его в университет...
— Как будто ты не знаешь, что он ни в какую не соглашался заниматься с репетитором! Говорил, что может сам подготовиться...
— Но ты — отец, и ты должен был настоять...
— После драки кулаками не машут. Давай лучше решим, что нам теперь делать...
— Напишем заявление и в министерство. Как это так — Златко принят, а Евгений нет? На каком основании?..
Поздно вечером заявления были готовы. Трифон переписал их набело, а потом они долго не могли уснуть, погруженные в невеселые мысли...
Утром Йотов отправился к Чавдару. Затем от него он пошел в министерство и университет, чтобы отнести заявления. Теперь оставалось только ждать...
На следующий день в полдень всей семьей выехали в Заножене. Машину вел Евгений. Трифон Йотов молча сидел на переднем сиденье рядом с сыном.
Маргарита тоже думала о чем-то своем. Зато Румен и Эжен болтали без умолку: несмотря на разницу в возрасте, они очень быстро нашли общий язык.
Проехав половину пути, решили остановиться у придорожного ресторанчика, чтобы перекусить. Заказали жареные колбаски — это блюдо очень нравилось Эжену. Немного отдохнув, тронулись дальше.
После Петроханского водохранилища начался спуск. Дорога вилась по северному склону Стара-Планины. Кругом стеной стояли вековые деревья. Румен пошутил:
— Эжен, мы почти достигли департамента де Заножене́!
Маргарита строго одернула его, велев не паясничать, а лучше достать карту и показать местонахождение Заножене.
— Расскажи лучше о Сентябрьском восстании 1923 года. Эжену это будет интересно...
— Хорошо, мам, ты только не сердись... Я же шучу.
И Румен с жаром принялся описывать героическую эпопею первого в мире антифашистского восстания.
— Значит, ваша, то есть наша Болгария славится не только своими курортами на Черном море!
— Да, не только! И вообще, мы скоро обгоним Францию!
Румен явно задирался, но Эжен не обиделся.
— А почему бы и нет. Раз у вас так много красивых курортов, и индустрия развивается такими быстрыми темпами — В следующий раз я возьму с собой маму... Пусть она убедится в том, что социализм не «черный», а «золотой»!
— Молодец! Ты — прирожденный агитатор! — засмеялся Румен. — Надо порекомендовать тебя в комсомол!
В Берковице все вышли немного поразмяться. Городок так понравился Эжену, что все решили остановиться здесь на обратном пути. Поднялись на холм, откуда открывался очень красивый вид. Эжену вдруг захотелось, чтобы Франсуаза стояла рядом с ним... Осмотрели остатки крепости. Трифон Йотов рассказал, как в 1923 году восставшие захватили солдатские казармы.
— Я читал поэму Гео Милева «Сентябрь»... на французском... Теперь смогу прочесть ее в оригинале, — заметил Эжен. — Мне ее подарил Румен...
Йотов давно не бывал в родных краях. За последние годы все вокруг несказанно изменилось, похорошело. К селу теперь вело широкое асфальтовое шоссе. Они выехали в Заножене и остановились у Старой реки, напротив водяной мельницы. Мельница была давно заброшена, но выглядела живописно на фоне гористого пейзажа. Отчий дом Трифона Йотова был совсем рядом. Сердце его сильно забилось. На миг он позабыл обо всех обидах и огорчениях, будто снова вернулся в далекое детство: вот, прыгая с камня на камень, он перебирается через бурную речку, ему очень весело и одновременно страшно смотреть вниз... А вот он шарит руками под камнями, пытаясь поймать рака... Как давно все это было! Интересно, дома ли отец? В молодости он работал писарем в Берковице, но после Сентябрьского восстания фашисты вышвырнули его на улицу как неблагонадежного. Он вернулся в село, женился, вырастил двоих сыновей... После смерти жены дедушка Йото жил бобылем. Сколько Трифон ни звал его в Софию, он так и не решился приехать — не хотел беспокоить сына и невестку... Хорошо хоть Трифон иногда наезжает с семьей проведать старика, второй, Васил, как уехал, так и пропал в своем Париже.
Толкнув калитку, они очутились в ухоженном саду. К дому вела вымощенная плитами дорожка. Эта романтическая сельская обстановка привела Эжена в неописуемый восторг. Он в упоении слушал шум бурной речки, щебетанье ласточек, любовался начавшим уже желтеть буковым лесом, что стоял за рекой подобно прекрасной декорации..
Дедушки Йото в доме не оказалось. Они отыскали его в огороде. Старик сидел на
низенькой трехногой скамеечке и окучивал кусты помидоров, увешанные красными сочными плодами. Увидев гостей, дедушки Йото разволновался.
— Трифон, что же так, неожиданно... А это кто с вами?
Когда старику сказали, что привезли к нему парижского внука, он чуть не заплакал.
— Значит, и ты тоже — Евгений... Писал мне твой отец, да я уж, внучек, и не чаял тебя увидеть. Ты передай отцу, что негоже так... Скоро уж сорок лет минует, как он уехал в эту вашу Францию, чтоб ей пусто было, и ни разу не побывал на родной земле... Женился, сына растит... Неужто ему не хочется повидать родные места, неужто не жаль родины?!
— Дедушка, я непременно ему все передам...
— Хорошо хоть болгарскому языку тебя выучил... А я уж было подумал, что он там совсем офранцузился. Видно и впрямь, кровь-то людская — не водица, завсегда в человеке говорит...
— Дедушка, ты знаешь, я здесь впервые почувствовал, что во мне тоже течет болгарская кровь...
— Значит так, Эжен, французский паспорт мы у тебя изымем, а взамен получишь болгарский, понял? — подскочил со смехом Румен.
— Понял и говорю: согласен! — сказал Эжен ко всеобщему удовольствию.
— Что же мы стоим, пошлине дом... — спохватился дедушка Йото.
В домике все сияло чистотой. Деревянные полы были застланы пестрыми домоткаными дорожками. На полке у очага выстроились кастрюли да котелки, начищенные так, что солнце отражалось в их блестящих боках. Как оказалось, младшая сестра дедушки Йото присматривает за ним — прибирается в доме, готовит и стирает. Пока гости рассаживались за столом, старик принес из огорода корзину, доверху наполненную спелыми помидорами. Он развел огонь в очаге, велел Румену принести из сеней лукошко с яйцами и принялся готовить огромную яичницу.
— Дед, что ты делаешь! — ужаснулся Румен. — Можно подумать, что целая рота солдат собирается обедать.
— Яички свеженькие, а я еще и немного брынзы добавлю, так что пальчики оближете, — ласково приговаривал старик. — Кушайте на здоровье...
После обеда Трифон предложил осмотреть водопад за околицей села, известный еще тем, что им любовался Димитр Благоев, основатель социализма в Болгарии.
Когда гости уехали, к дому дедушки Йото подошел рассыльный из общинного совета:
— Дед, ты сказал профессору, чтобы он зашел в общину?
— Ах, я старый осел! — принялся сокрушаться старик. — Совсем из головы вылетело. — А что? Что-нибудь случилось?
— Да нет, ничего особенного, — успокоил его рассыльный, решив не тревожить старика понапрасну вестью о случившемся в квартире его сына...
А гости тем временем осмотрели скромные памятники погибшим во время Сентябрьского восстания. Из тридцати шести участников восстания, уроженцев этого края, одиннадцать было родом из Заножене.
Потом решили побывать в курортном городке Вершец, который был совсем рядом. И вскоре они уже гуляли по аллеям небольшого парка, что раскинулся на берегу реки. Когда-то здесь были густые заросли орешника. Трифон Йотов в детстве приходил сюда с мальчишками лакомиться орехами. Теперь же осталось всего лишь несколько жалких кустов. Маргарита постлала одеяло у самой воды, но никто не захотел к ней присоединиться. Румен увлек за собой Эжена к реке, журчавшей меж округлых, словно пасхальные яйца, камней. Евгений с отцом решили прогуляться по берегу. Каждый из них молчал, думая о своем. Евгений с благодарностью вспомнил о Чавдаре, выразившем готовность помочь Руже. Чавдар попросил ее нарисовать план дачи, а также указать на фотографиях людей, приходивших к ее отчиму, и вкратце охарактеризовать каждого. О Дюлгерове она с уверенностью сказала, что с отчимом его связывают какие-то сделки. А взглянув на фотографию Эриха, заявила: «Это Ганс, приятель отчима еще со времени, когда он жил в Германии. Он часто бывает в Болгарии». Отец же при виде этой фотографии, воскликнул: «Это Эрих!» «Интересно, что бы все это могло означать?» — думал теперь Евгений, вышагивая рядом с отцом. «И откуда отец знает этого Эриха — Ганса?» По обоюдному молчаливому согласию они не стали обсуждать случившееся... «Бедная Ружа! С каким ужасным человеком ей приходится жить под одной крышей! Ничего, скоро я заберу ее от так называемого «отца» и она будет со мной, только со мной!..»
А Трифон Йотов, находясь в плену детских воспоминаний, с тихой грустью думал о родных местах. Как изменилось все вокруг, как постарел его отец... хотя дух его по-прежнему бодр... И все такой же неунывающий...
37
Двое мужчин проводили взглядом машину Йотовых. Потом зашли за угол и выждали еще около получаса. Все было спокойно. Посовещавшись, мужчины разошлись в разные стороны. Каждый из них сделал круг возле дома. Спустя некоторое время они вновь сошлись у подъезда. Было ровно четырнадцать часов.
Издали за ними незаметно наблюдал высокий юноша, прятавшийся за стволом дерева. К нему подошел другой. Они немного поговорили, и высокий не спеша направился к ближайшей кабине телефона-автомата.
— Товарищ Выгленов! Только что они вошли в подъезд дома Йотовых.
— Один из них фотограф, верно? А другой?
— Герчо сказал, что это садовник с дачи...
— Постарайтесь их не вспугнуть, пусть сделают свое дело. Рангелу и Герчо непременно потом проследить за ними... Обе машины держать наготове. Я скоро буду. Ты непременно дождись меня...
Высокий вернулся к Герчо. Там уже был и Рангел.
— Приказано проследить до конца. Глаз с них не спускать... А я останусь ждать тут...
— Я, стало быть, беру на себя фотографа, — сказал Рангел. — А ты, Герчо, другого. Смотри, он прыткий...
— Ладно, нечего меня учить...
Спустя некоторое время в подъезд дома вошел один из жильцов и стал подниматься по лестнице. У квартиры Йотовых он остановился — видимо, что-то привлекло его внимание. Присмотревшись, он позвонил и, выждав минуту, заторопился вниз, нажимая подряд на все кнопки звонков. В дверях стали появляться соседи:
— Что случилось? — тревожно спрашивали они.
— У Йотовых дверь не заперта! — возбужденно крикнул мужчина. — Я позвонил, но никто не вышел...
— Йотовы уехали в село! — удивился управдом.
В это время из подъезда вышли двое. Один из них авторитетно втолковывал другому, что телевизоры лучше всего чинить в мастерской. Ремонт на дому — дело ненадежное. Никто из жильцов не обратил на них внимание.
Собравшиеся у двери Йотовых соседи боязливо открыли дверь — замок был испорчен.
— Видно, здесь недавно были воры, — заметил управдом. — Нужно вызвать милицию. Никому в квартиру не входить...
В этот момент у подъезда остановилась машина, из нее поспешно вышли трое. Показав удостоверение, они попросили расступиться и вошли в квартиру Йотовых.
Осмотрев испорченный замок, один из прибывших сказал:
— Это дело рук Неуловимого. Его почерк. Он как правило взламывает квартиры артистов, врачей, ученых — в общем, людей зажиточных...
— Но ведь его же задержали несколько лет тому назад... Наверно, бежал из тюрьмы...
— Интересно, почему ты думаешь, что это он?
— Особый тип зубила. Видишь, ширина взлома — двадцать сантиметров. Он всегда работает таким зубилом.
В квартире царил беспорядок. Ящики из гардероба и буфета были выдвинуты, повсюду валялись книги, одежда — воры явно что-то искали. На кровати были разбросаны монеты из коллекции Йотова. Но в его кабинете на первый взгляд все оставалось нетронутым. Прибывшие взяли отпечатки пальцев. Допросили понятых и составили протокол. Потом квартиру опечатали и попросили людей разойтись. К сожалению, никто не знал адреса Йотовых в Заножене.
— Ничего, — сказал один из оперативников. — Мы затребуем Вершец, и там в совете нам скажут.
Машина с оперативниками уехала, жильцы, все еще возбужденные случившимся, постепенно разошлись по своим квартирам.
38
В воскресенье, в десять утра, Йотовы узнали, что их квартира в Софии ограблена. Это подействовало на них как шок. После всех неприятностей только этого не хватало!
Один только Румен как всегда не унывал, стараясь шутками приободрить остальных.
— Хватит, Румен! — строго одернула его мать. — Ничего смешного нет.
Они стали прощаться с дедушкой Йото, успокаивая его, что ничего особенного не произошло — ценных вещей у них дома не было. Дед выказал готовность помочь им. Мол, у него на сберкнижке куча денег, из тех сумм, которые Трифон высылал ему каждый месяц. Он признался, что не потратил из них ни гроша, мечтая когда-нибудь обрадовать своих внуков. Йотов принялся сердито выговаривать за это отцу.
— Зачем они мне, сынок! — примирительно сказал старик. — Пенсии мне вполне хватает. Бог с ними, с деньгами. Они все равно — ваши... А вот этой книжечке, сынок, я думаю, мы вместе порадуемся.
И дед показал удостоверение о том, что в годы Сопротивления укрывал подпольщиков...
— Если раньше кое-кто и верил злым наветам, то теперь все знают — дедушка Йото чист перед людьми и перед своей совестью! Перед смертью бывший наш полевой сторож признался председателю, что, это он выдал тех двоих нелегальных, которых я укрывал. Представляешь, признался, что выдал! Сказал, что тогда счел своим долгом выдать, потому как был представителем государственной власти. Всю жизнь потом мучился, а перед смертью не выдержал и признался...
Старик расплакался, как ребенок. Трифон крепко обнял его:
— Я очень рад, отец!
— Отец, а ты не мог бы дать этот документ мне? Ненадолго, — неожиданно сказала Маргарита.
— Возьми, дочка, раз тебе нужно.
Затем старик подозвал внуков, вынул из кармана кошелек и достал оттуда двести пятьдесят левов.
— Это вам, ребятки, — по пятьдесят левов каждому. А тебе, Эжен, даю еще сто левов, купишь на них подарок отцу с матерью. Скажешь — от меня. И еще передай, что перед смертью дедушка Йото хочет их повидать. Поблагодари их от меня за подарок, который они мне прислали. Хороший свитер, теплый. Буду его зимой носить и их вспоминать.
Старик явно был расстроен. Он не ожидал, что гости так быстро уедут. Ему, видно, хотелось поговорить с ними, посидеть за столом, подробнее расспросить обо всем Эжена, но ничего не поделаешь.
Машина выехала на асфальтовое шоссе и вскоре исчезла из виду.
39
Йотовы вернулись в Софию в полдень. Квартира их была опечатана. Они позвонили к соседям. Добрая, веселая Радка, которая обычно знала все новости, пригласила их к себе и с озабоченным видом рассказала им о случившемся. Позвонили участковому, но он сказал, что снять пломбы должен тот, кто их поставил...
Лишь только к вечеру Йотовы смогли наконец попасть к себе домой. С бьющимся сердцем переходили они из комнаты в комнату, стараясь установить, что исчезло, Румен постоянно озирался — ему в каждом углу мерещился вор...
После осмотра стало ясно, что исчезла английская золотая лира с образом королевы Викторий — подарок покойной матери Маргариты. Пропали также несколько дорогих авторучек, которые Йотов привез из Парижа, пара часов, кое-какие мелочи, а также небольшая сумма денег, которая оставалась дома. Двое оперативников, которые присутствовали при осмотре, составили протокол с подробной описью пропавших вещей.
— И все-таки это дело рук Неуловимого! — снова выказал свое предположение один из них. — Он берет деньги и драгоценности, одежду — никогда!
— Если этот твой Неуловимый думает, что он неуловим, так мы очень скоро убедим его в обратном! — уверенно заявил другой.
В кабинете Йотова все осталось нетронутым, и все же Трифон чувствовал себя прескверно. Ему казалось, что кто-то грязной рукой залез ему в душу...
Как только двое из управления ушли, пришел Чавдар Выгленов со своим помощником Данчо. Чавдар еще вчера распорядился, чтобы ему сразу сообщили, как только Йотовы вернутся. Он попросил разрешения провести дополнительный осмотр, причем подчеркнул, что хотел бы, чтобы при этом присутствовал только глава семьи. Румен был страшно разочарован — ему так хотелось стать действующим лицом криминальной истории.
Оставшись наедине с Йотовым, Чавдар сразу же приступил к делу.
— Товарищ Йотов, у меня такое чувство, что преступников интересовали не столько ценности и деньги, сколько нечто совсем иное. Проверьте, пожалуйста, не исчезло ли что-нибудь из ваших научных разработок.
Йотов открыл дверцу письменного стола. Обе полки были завалены папками с бумагами. Йотов вынул их и аккуратно сложил на столешницу. Потом откуда-то из глубины достал небольшой шпенек, напоминавший по виду толстый карандаш. После этого выдвинул ящик стола.
— Позади ящика я устроил тайник, — объяснил Йотов. — Обычно храню в нем самые важные документы, кое-какие личные вещи и главные результаты научных разработок...
Вызвав Данчо в кабинет, Чавдар протянул ему шпенек:
— Пусть в лаборатории проверят, не осталось ли на нем отпечатков пальцев. Мне кажется, этот брусок вынимали... Товарищ Йотов, а вы посмотрите внимательно все ли на месте.
Йотов сосредоточенно перелистывал страницы. Вдруг что-то его насторожило. Он перелистал еще раз и с тревогой сказал:
— Товарищ Выгленов, все на месте, только вот бумаги лежат не в той последовательности, как я их оставил: на месте первой — сейчас последняя страница...
— Наверно, страницы не переворачивали, а клали стопкой в обратном порядке, — заметил Данчо.
— Вот именно, — подтвердил Чавдар. — Тот, кто их фотографировал...
— Значит, вы считаете, что моя работа переснята?
— К сожалению, да. И если мы не сумеем обнаружить пленку, кто-то другой, а не вы, к тому же в чужой стране, будет числиться изобретателем...
— Это Эрих, только он. Просто больше некому, — твердо сказал Йотов.
— Неужели вы открывали перед ним тайник? — с упреком в голосе спросил Чавдар.
— Нет, но понимаете, он дружит со Златановым. А письменный стол мне делал знакомый столяр Златанова. Он и ему установил такой же тайник.
— А почему столь важные расчеты хранились дома? — удивился Чавдар.
— Все дело в том, — принялся оправдываться Йотов, — что я еще не закончил работу. Необходимо было опробовать действие изобретения в специальных условиях. И тем не менее, для человека сведущего суть разработки абсолютно ясна из схем и расчетов...
— Что ж, я думаю, мы можем вам гарантировать, что преступники будут задержаны...
В этот миг, постучавшись, вошел Герчо.
— Товарищ Выгленов, разрешите доложить: Дюлгеров покончил жизнь самоубийством, — выпалил он.
— Дюлгеров? — переспросил Чавдар и подумал: «Жаль, он был важным звеном цепи», а вслух сказал:
— Сообщив уголовный розыск, чтобы послали на место происшествия бригаду с фотографом и врачом. Я еду туда. А ты позаботься о том, чтобы под любым предлогом задержали вылет из Болгарии Ганса Шульце, или Эриха Брюмберга — смотря какие документы он попытается представить. Его следует задержать и препроводить для справки в наше управление. Кроме того, позвони начальнику паспортного стола и скажи, что документы Зико Златанова для поездки в Вену, которые он задержал по моему требованию, могут быть выданы. Давай, действуй!
40
Выйдя из дома Йотова, Крачмаров и Дюлгеров быстро направились за угол, где их ждала синяя «Шкода», и спустя минуту машина уже летела по направлению к Симеоново. За ней на значительном расстоянии следовали две машины. Недалеко от железнодорожного переезда «Шкода»остановилась, Крачмаров вышел из нее и направился к лесу. А синяя «Шкода» свернула на шоссе, ведущее к автосервису: у Дюлгерова на этот день была назначена встреча для передачи одной из пленок...
Незадолго до шестнадцати часов Дюлгеров вернулся к себе в ателье и поспешил проявить вторую пленку, чтобы приготовить ее к приходу Койчева... О провале Симо ему, разумеется, и в голову не могло прийти.
...Симо же несколько дней тому назад перед лицом неопровержимых улик во всем признался. При обыске у него была найдена пленка, спрятанная в тайнике в левом рукаве. Опасаясь за свою судьбу, Симо согласился выполнить все распоряжения Выгленова. Стреляный воробей, он хорошо знал, что теперь с него не спустят глаз. Он тут же отдал пленку, полученную от Дюлгерова, как и двести левов вознаграждения за «честный» труд, получив взамен другую пленку, которую ему надлежало переправить за границу...
Согласно уговору, Койчев появился у Дюлгерова в четыре часа пополудни. В это время на улице обычно было мало народу. Однако Койчев решил сначала «прогуляться». Со скучающим видом он прошел мимо ателье и, дойдя до угла, огляделся по сторонам. Не заметив ничего обеспокоительного, вернулся к дому и позвонил в дверь. Дюлгеров вышел.
— Что вам угодно?
— Мне срочно нужны снимки. Не могли бы вы меня сфотографировать? Собственно, может вы заняты, или вас ждут другие клиенты?
— Заходите, вы будете первым.
Койчев вошел в дом и, пройдя в рабочую комнату, уселся на стул перед установленным на треножнике фотоаппаратом.
А Дюлгеров тем временем вышел на улицу и с помощью клейкой ленты прикрепил на двери записку, текст которой продиктовал ему «клиент». «Ателье закрыто на десять дней».
— А куда я должен буду уехать? — вернувшись, спросил он у Койчева.
— Я тебе все подробно объясню. Сейчас давай пленку. Ты проявил ее? Сколько кадров вышло?
— Всего двадцать семь кадров — схемы и пояснительный текст.
Койчев удовлетворенно спрятал пленку в карман:
— Чистая работа. Шеф тобою доволен. Он решил, что пора тебе перебираться в свободную страну. Ты согласен уехать отсюда?
— Еще бы! У меня есть кое-какие сбережения. Мне и пожить хочется спокойно, и мир посмотреть... А паспорт?
— Мы обо всем побеспокоимся. Однако шеф просит, чтобы ты написал нечто вроде просьбы: тебе-де больше невмоготу так жить, и ты хотел бы лично изложить свои идеи насчет расширения поля деятельности... Это нужно для того, чтобы там... ты знаешь, где, не сомневались, что ты сам, по собственному желанию, уезжаешь...
— Хорошо, завтра же у тебя будет такая бумага!
— Зачем же завтра, когда можно и сегодня... Прямо сейчас садись и пиши... Ну, хотя бы так:
«Я не могу так больше жить...» Ну-ка, покажи, что ты написал? Гм... Нет, лучше напиши так (Койчев быстро подсунул фотографу другой листок): «Прошу разрешить мне и в будущем, как и ныне, пересылать пленки в Милан... Пиши, пиши, чего остановился?.. алчным миланским торгашам...»
Ручка выпала у Дюлгерова из рук, он вскочил, но пути к бегству были отрезаны: дверь заперта, а
Койчев держит руку в кармане, готовый при малейшей попытке убежать пустить ему пулю в лоб.
— Не понимаю, кто просит об этом, я, что ли? — попытался было выиграть время Дюлгеров.
— Ты, а кто же еще? Откуда у тебя столько золота, которое ты мне перепродаешь для зубных коронок? Нечего сказать, здорово работает наш человек в Италии! Ну-ка, дай сюда вторую пленку!
— Да нет никакой другой пленки, Койчев! Меня оклеветали... Я готов поклясться...
— Ни с места!
— Койчев, послушай... У меня есть сбережения... Почти десять тысяч... Все отдам, только не губи!..
— Давай, они тебе все равно без пользы!
Поеживаясь под направленным на него оружием, Дюлгеров прошел в заднюю комнату и дрожащими руками начал выгребать из подушки банкноты, но вдруг изловчился и выхватил откуда-то из-под матраса пистолет. Однако раздался сухой щелчок, словно кто-то раздавил орех, и Дюлгеров упал на кровать. Койчев хладнокровно вынул из его руки пистолет, а вместо него сунул другой, из которого только что выстрелил, предварительно убрав при этом глушитель. Рассовав деньги по карманам, он пробормотал: «Подлец, купить меня вздумал!» Затем аккуратно положил на стол листок, где рукой Дюлгерова было выведено: «Я не могу так больше жить», и направился к выходу. Немного послушав, нет ли чего подозрительного, он быстро открыл дверь и выглянул наружу. Мирная картина: дети возятся в песочнице, бабушки на скамейке вяжут, тихо беседуя. Койчев захлопнул за собой дверь и быстро пошел прочь.
Из дома напротив вышел молодой человек и приблизился к ателье. Прочитав записку, остановился в нерешительности, но потом побежал догонять Койчева: его задачей было не спускать с него глаз.
41
Пока машина приближалась к месту происшествия, Чавдар лихорадочно думал: «Что-то мы, видно, недоглядели. Невозможно, чтобы Дюлгеров покончил с собой сразу же после того, как передал пленки с отснятым материалом! Его попросту убрали! Разумеется, в этом замешан Койчев — его посещение не было случайным... Не слишком ли много для одного дня — и кража со взломом, и убийство? Во всяком случае, причины происшедшего пока еще. неясны... Завтра — четырнадцатое августа, и кто-то должен прийти к Дюлгерову заказать себе фото размером 6 × 6... Дюлгеров наверняка был подчиненным Койчева и, конечно же, кое-что о нем знал... Интересно, какова же связь между Дюлгеровым и Златановым, между Дюлгеровым и Гансом? Связь Койчева с Крачмаровым тоже неясна...»
Машина Чавдара прибыла на место одновременно с машиной уголовного розыска. Врач констатировал, что смерть наступила мгновенно. Налицо все признаки самоубийства. Сотрудники угрозыска сняли отпечатки пальцев с рукоятки пистолета, с авторучки.
— Снимите отпечатки и с ключа, — распорядился Чавдар. — Самоубийца не может отпереть дверь, покончив с собой...
— Но по всему видно, что эта скрюченная рука держала пистолет... А вот и гильза от патрона, который отсутствует в обойме... Так что, товарищ Выгленов, все свидетельствует о том, что это самоубийство, — мягко, стараясь не задеть Чавдара, сказал один из сотрудников угрозыска.
— Возможно, вы правы, — согласился Чавдар, незаметно пряча в карман небольшой микрофон, который до этого Данчо прикрепил к оконной раме с внешней стороны. В голове его уже созревал план...
42
На следующий день на месте Дюлгерова в ателье сидел... Чавдар. Смелый план, который он задумал вчера, заключался в следующем: заменить фотографа (наверняка, гость не знает его в лицо) и выяснить, кто выйдет на связь, а, возможно, и кто резидент.
Сидя за столом, Чавдар обдумывал сообщение Ружи о том, что Койчев задумал жениться. Он даже познакомил ее с будущей мачехой. Высокая, черноволосая красавица, волосы небрежно переброшены на грудь... Зовут Ольга Златанова! Свадьба назначена на четверг... «Красивая, но, знаете, злая. Смотрит на тебя так, что мороз по коже пробирает... Сразу почувствовала, что не лежит у меня к ней душа, и говорит: «Ты ненавидишь меня, маленький зверек, но ничего не поделаешь — жить нам вместе. Поэтому постарайся полюбить меня, иначе придется тебе подыскивать себе квартиру!» И Ружа сокрушенно добавила, что в качестве свадебного подарка отчим решил преподнести молодой жене дачу...
«Зачем такой интересной женщине выходить за урода, если не из материальных соображений?» — усмехнулся Чавдар. Ганев тоже высказал кое-какие предположения по этому поводу. Сегодня утром Чавдар навестил Ганева, который совсем недавно вышел из больницы. Рассказал ему о ходе следствия. На вопрос, что он думает насчет предстоящей женитьбы Койчева, Ганев заметил: «Я не знаю Ольгу, но мне кажется, что все это неспроста. Ты говоришь, что ей нет и тридцати, в таком случае он — старик по сравнению с нею...»
«Ладно, бог с ней, с Ольгой. Мы с этим делом разберемся. Вообще-то мы довольно далеко продвинулись, думаю, скоро узнаем, что за птица этот Койчев».
«А что с Крачмаровым?»
«Только в двух словах, а то ты уже устал. В общем, это он тогда на тебя напал. Ребята задержали его, когда он покупал продукты в Бояне. Крачмаров было подумал, что его арестовали за кражу, и что ему удастся вывернуться, но я ему предъявил факты, и он во всем признался. Кража в Стойках — тоже его рук дело. Мы отвезли его после допроса на дачу, чтобы Койчев ничего не заподозрил, но предупредили, что будем следить за каждым его шагом, чтобы он не вздумал самовольничать...»
«Смотри, Чавдар, как бы он не обвел тебя вокруг пальца!»
«Я абсолютно уверен, что теперь он нам станет помогать — деваться-то ему некуда. К тому же, рядом с ним неотлучно наш человек. И Крачмаров знает это».
«Очень рад, что все идет успешно!» — сказал Ганев и велел матери приготовить ему костюм.
«Никуда ты не пойдешь! — воспротивился Чавдар. — И думать нечего. Ты еще не окреп!»
Словом, насилу уговорил Ганева остаться дома, пообещав держать его в курсе всех событий...
В этом месте мысли его оборвались — Чавдар почувствовал на себе чей-то взгляд и осторожно повернул голову: с порога его пытливо изучали глаза долгожданного гостя Вынув из кармана квадратное фото, на котором были изображены двое влюбленных в лодке, молодой человек спросил:
— Не могли бы вы сделать мне копию с этой фотографии размером 6 × 6?
Выгленов не торопился с ответом. Он взял фотографию, повертел ее в руке, улыбнулся и медленно проговорил:
— Можно, но получится с белой каемкой внизу!
43
Златанов ликовал. Прекрасный подарок получил он к своему юбилею: решение комиссии о переводе Йотова на другую работу было подписано! Златанов временно назначался исполняющим обязанности директора института. Более двадцати лет ждал он этого часа, и вот, наконец, он настал! Теперь-то его жена Кера — шумная толстуха — перестанет его пилить: «Как ты можешь позволить, чтобы какой-то там Йотов командовал тобой как хотел. Ты и образованнее его, и культурнее — четыре года в Германии, два года во Франции, ты и Кента знаешь, и Ницше читал...»
«Да не Кент, а Кант», — в который раз поправлял ее Златанов, но она твердила свое: «Так мне легче запомнить — по картам, и по сигаретам... А Йотов кто? Подумаешь, изобретатель!»
Златанову нравилось, когда Кера принималась строить всевозможные планы, как им «вышибить» этого негодяя Йотова, за которого ее муж вынужден работать! В таких случаях он молча покуривал, вспоминая о годах, проведенных в Берлине, о веселых «гейдельбергских ночах», о Париже, где он познакомился с очаровательной венкой Кети... Тогда Зико поклялся Гансу, которого в то время звали Эрих, что, вернувшись в Болгарию, он все силы отдаст борьбе с «проклятыми коммунистами». Однако события в мире развивались отнюдь не в пользу Златанова. С помощью того же Эриха ему удалось перебраться в западную зону Берлина, а оттуда он уехал в Париж. Экзамены провалил, оправдываясь тем, что не знает как следует языка, но на самом деле причиной было его знакомство с Кети...
В один прекрасный день в Париже появился Эрих. По его словам, он возвращался из Лондона, где находился на «специализации». Златанов в то время бедствовал. Появление Эриха на горизонте оказалось той спасительной соломинкой, за которую Златанов сразу же поспешил ухватиться. Эрих предложил ему много денег, но при одном-единственном условии: Златанов должен покинуть Париж и поселиться в Восточном Берлине. За два года ему надлежало закончить университет и вернуться в Болгарию, откуда ему надлежало пересылать Эриху необходимую информацию.
Что оставалось делать Зико Златанову — голодному, без гроша в кармане, в чужом Париже? На деньги, которые дал ему Эрих, он нанял такси, чтобы отвезти Кети на Лионский вокзал... Кети уехала в Вену, ему же в утешение Эрих организовал посещение всех увеселительных заведений, кабаре и других злачных местечек... Ни Лувр, ни Гранд-опера, разумеется, не входили в число увиденных достопримечательностей... Поэтому когда жена разглагольствовала об европейском уровне его культуры, он тихонько улыбался...
Правда, незадолго до конца войны ему довелось присутствовать на студенческих спорах по поводу теорий Ницше, Канта и марксистов. Но никогда в жизни Зико Златанов всерьез философией не увлекался. «Да и времени не было этим заниматься!» — оправдывался перед собой Зико. «Эх, молодость, молодость! Как же быстро ты минула!» — сокрушался он, подвыпив...
В Берлине его дела пошли хорошо. И через два года он вернулся в Болгарию с дипломом в кармане. Казалось, все складывается удачно. Но однажды в дверь позвонили... Он открыл — на пороге стоял Эрих...
— Как, ты в Софии? — воскликнул Зико не слишком радостно, ибо сразу вспомнил об обязательстве, которое, как ему сейчас казалось, он дал тогда в шутку.
— Меня теперь зовут Ганс, — улыбаясь сообщил гость. — Да, я в Софии, и для тебя отныне начнется настоящая жизнь.
Златанов не был убежден, что можно считать настоящей жизнью его нынешнее существование, вечное напряжение, тревожный сон из-за боязни, что рано или поздно тебя разоблачат. Но Ганс хорошо платил ему, а деньги Зико всегда были нужны. Отец Златанова к тому времени уже умер, оставив сыну в наследство прекрасную квартиру. С помощью друзей отца Зико сумел уберечь ее от «подселенцев» — время было тяжелое, жилья не хватало, а у Златанова был огромный излишек жилплощади. Он устроился на работу в государственное предприятие. Умея складно говорить, разъезжал по всей стране, выступал о докладами... И потихоньку, лет через десять, дослужился до поста заместителя директора института. Тут уже развернулась серьезная борьба... И вот сегодня она увенчалась успехом...
Так рассуждал он, лежа на диване и глядя, как Кера украшает торт, который она испекла по случаю его дня рождения и победы над Йотовым.
Он женился на Кере без любви — просто ему нужно было, чтобы кто-нибудь ухаживал за его матерью, которую разбил паралич. Сам он был занят... очень занят... А Кера привязалась к нему, была ему верна... К тому же умела необыкновенно вкусно готовить. И хотя иногда в сигаретном дыму всплывал образ той, которая была и умна, и хороша собой, и вообще намного больше ему подходила, Златанов был привязан к дому и ничто не могло нарушить этой привязанности.
— Интересно, где это Ольга задерживается? — спросила Кера, расставляя на столе бокалы.
— Да, пора бы ей уже быть, — подтвердил Златанов, взглянув на большие золотые часы-луковицу, доставшиеся ему в наследство от отца.
Вчера Ольга приходила к нему посоветоваться. Койчев сделал ей предложение, и она не знала, принять ли его. Да, он знаком с Койчевым еще по Берлину. По возвращении в Болгарию у Койчева возникли неприятности с новой властью, и он попросил Златанова «замолвить за него словечко о патриотическом поведении в Берлине». С Гансом Ольгу познакомил Златанов, тайно надеявшийся на то, что они узаконят свои отношения, и Ольга уедет за границу. Поэтому когда Ольга рассказала ему о Койчеве, первым вопросом Златанова было: «А что скажет Ганс? Неужели из-за софийской прописки ты откажешься от Европы?» Ольга ответила, что вопрос с Гансом улажен, и что он благословляет ее на этот брак и желает им счастья. Кера раскричалась: «Что? Замуж за этого скупердяя? Да он дрожит над каждой копейкой... Всегда молчит, за вечер двух слов из него не вытянешь...» Ольга похвасталась, что Койчев обещал переписать дачу на ее имя. Кера даже перекрестилась: «Не может быть! Да у него вчерашнего снега не выпросишь, у этой крысиной морды с длинным носом!»
Размышления Златанова прервал звонок. Вошла Ольга и протянула ему конверт, который дала ей на площадке соседка. Зико в нетерпении вскрыл конверт и радостно вскрикнул:
— Кера, собирай чемоданы! Едем! Молодец, девочка, хороший подарок ты принесла дяде в день рождения! — И он поцеловал Ольгу в щеку.
Из кухни прибежала Кера, на ходу вытирая полотенцем мокрые руки:
— Что случилось, зачем ты меня зовешь?
— Нам разрешена поездка в Вену! Завтра же утром и выедем. С билетами я улажу!
— Как же так, — недовольно надула губы Ольга. — В четверг моя свадьба. Разве вы не приедете? Обед будет дан на м о е й даче, которую дарит мне Койчев!
Фамилию своего будущего мужа она произнесла с торжеством и вместе с тем — пренебрежительно. Кера молитвенно сложила руки:
— Боже милостивый! Много радости сразу — не к добру! Ольга, ради тебя остаемся до пятницы. Кроме того, пока возьмем паспорта и обменяем деньги... Нам же полагается хоть какая что валюта, мизер, конечно, но все же!
Они уселись за стол. Когда был подан торт, Златанов, вытирая губы салфеткой, будто случайно спросил:
— А кто же будет свидетелями?
— Да мы сначала думали вас пригласить, но потом Койчев решил воспользоваться случаем, как он сказал, для установления контактов с высокопоставленными лицами.
— И кто же это такие?
— Генеральный директор Дарев с супругой...
— У-у-у, та уродина, — протянула Кера, считавшая себя неотразимой красавицей.
Златанов подозрительно взглянул на племянницу. Ганс как-то намекнул, что не прочь сойтись поближе с этим генеральным директором и даже заставил Ольгу пригласить его с женой на обед в загородный ресторан. Даревы не остались в долгу — Ганс с Ольгой были приглашены к ним домой на ужин. Помнится, еще Ольга хвасталась, что генеральный директор весь вечер не отходил от нее, вызвав неудовольствие ревнивой супруги. Ганс обещал Даревым выхлопотать через своего друга в Гамбурге заграничную служебную командировку.
— И что, Дарев согласен быть свидетелем на вашей свадьбе?
— А то как же! — не без гордости заявила Ольга.
— И его жена? — не удержалась Кера.
— Конечно, а почему бы и нет...
— Ну ладно, мне пора! — прервал ее Златанов, взглянув на часы.
— Я выйду с тобой, дядя! Мне еще надо в магазин зайти, платье примерить. Дарев сказал, что оплатит его стоимость, только надо принести ему чек... У тебя, дядя, хороший вкус, может, сходишь со мной, посмотришь?
И они ушли. Кера принялась убирать со стола, напевая веселую мелодию.
44
— Мы одни? — спросил гость у Чавдара, озираясь по сторонам.
— А что вы думали — я приглашу свидетелей? — с вызовом спросил в свою очередь Чавдар. Но гостя, казалось, это не задело.
— Вам привет от синьоры Грациани! Рад, что вы живы и здоровы...
— Как себя чувствует госпожа? Она чем-то встревожена? Во всяком случае, так мне показалось из последнего письма. Почему она сменила даты передачи материалов?
— Я все объясню... Собственно, поэтому я здесь. Но должен вам сначала сказать, что вы родились под счастливой звездой.
— Я не совсем вас понимаю... Вы хотите сказать...
— Конечно... Послушайте, Дюлгеров, когда восемь лет назад вы приезжали с группой в Италию, через вашу знакомую синьору Грациани вам было передано триста тысяч лир...
— Точнее, двести семьдесят, — скромно поправил его Чавдар.
— Как? Неужели она себе позволила удержать десять процентов?!
— Нет, просто я сам дал ей тридцать тысяч в качестве вознаграждения, понимаете?
— А, ну тогда другое дело! Так о чем мы говорили?.. Впрочем, я вам еще не представился: синьор Марчелли... Экспорт-импорт винограда... Живу в Милане. В Болгарии нахожусь по приглашению экспортной организации...
И он рассказал, что в Милане стало известно, что Дюлгеров работает не только на них, но поскольку другого человека у них не было, закрыли на это глаза. Однако другой контрагент Дюлгерова оказался не столь сговорчивым — как только стало известно об итальянских связях Дюлгерова, его было решено убрать. Но миланская фирма очень высоко ценит работу Дюлгерова, поэтому синьора Грациани получила задание: дать откуп за его жизнь.
— Поэтому я очень рад, что вижу вас живым и невредимым! — закончил синьор Марчелли.
— А вы уверены, что я жив? Что я — не дух умершего?
— Ха-ха-ха! А вы, оказывается, шутник, синьор Дюлгеров! Ну разумеется, это вы! Ведь синьора Грациани дала мне вашу фотографию, правда, старую... Но все совпадает — и бородавка с тремя волосками на щеке, и, простите, лысина... — все точно совпадает. Но синьора очень вас просит прислать ей вашу последнюю фотографию.
Перейдя к деловой части посещения, синьор Марчелли сообщил, что, согласно новому договору, Дюлгеров должен отныне работать только на миланскую фирму. Он назначается резидентом в Болгарии.
— Я по-прежнему могу работать с Симо?
— Конечно, он и впредь будет выполнять роль почтового ящика!
— Если я вас правильно понял, то опускать «новости» в этот «почтовый ящик» буду я? В таком случае, хотел бы вас попросить распорядиться относительно того, чтобы материалы передавал я сам. Мне бы не хотелось, чтобы меня посещали... Это относится и к Симо. В интересах нас обоих, понимаете?
— Понимаю. А теперь записывайте.
И синьор Марчелли продиктовал имена, адреса и пароль, которым должен был пользоваться Дюлгеров.
Чавдар внутренне ликовал: теперь вся миланская сеть у него в руках.
— Кстати, синьор Марчелли, где вы так хорошо выучили болгарский?
— А я наполовину болгарин. Моя мать — уроженка Пловдива.
Штора за спиной у синьора Марчелли чуть заметно колыхнулась.
— И часто вы бываете в Болгарии?
— Пять лет назад я снова приезжал сюда, но вас тогда не было в Софии. Начиная с этого года, я регулярно буду сюда наезжать... сами понимаете, бизнес — покупка больших партий винограда... К тому же я люблю Болгарию, синьор Дюлгеров!
— Смотрите, как бы вам случайно не попалась слишком кислая партия винограда, синьор Марчелли!
— Что вы сказали?
— А то, что ваш нынешний вояж — последний...
Синьор Марчелли сунул было руку в карман, но Чавдар, не обращая на это внимания, спокойно продолжал:
— Болгария — суверенная страна, и вы не имеете права подкупать честных граждан грязными деньгами...
У синьора Марчелли отвисла челюсть, он не мог вымолвить ни слова. Спохватившись, он вынул из кармана пистолет, но в этот миг ему в спину уперлось что-то холодно-многозначительное:
— Ни с места!
— Но это произвол! Я буду жаловаться! Я — болгарин! — заикаясь произнес синьор Марчелли, пока Чавдар надевал ему наручники.
— Вы такой же болгарин, как я — синьор, как вы изволили меня величать... Данчо, подгони машину!..
— Но я честный торговец!
— Вся ваша честность зафиксирована здесь! — И Чавдар вынул из ящика стола магнитофон.
Снаружи собралась толпа зевак. Всем хотелось посмотреть, как «воскресший» Дюлгеров выводит из ателье черноволосого коротышку, по виду явно иностранца, который, горячо жестикулируя, что-то ему доказывает.
На этот раз ателье было закрыто на неопределенный срок.
45
На доклад к полковнику пришла вся оперативная группа Чавдара. Выгленов подробно рассказал об успешно проведенной операции по поимке синьора Марчелли. Он подчеркнул, что располагает достаточным количеством фактов, свидетельствующих о преступной деятельности Ганса Шульце — Эриха Брюмберга, и что это дает право на его арест. Кроме того, особого внимания заслуживает Койчев, которого Крачмаров называет убийцей и похитителем ценных документов. Следствие располагает магнитофонной записью последнего разговора Дюлгерова с Койчевым, из которого становится ясно: Дюлгеров убит, а не покончил с собой. По мнению Чавдара, пора действовать. Он предложил задержать преступников в четверг, когда все соберутся на даче у Койчева, чтобы отпраздновать свадьбу хозяина с красавицей Ольгой.
Кроме того, Чавдар напомнил, что при помощи записывающих устройств, установленных в каждой комнате при молчаливом содействии Крачмарова, который теперь всячески старался загладить свою вину, и из подслушанного телефонного разговора между Златановым и Шульце-Брюмбергом стало ясно, что гости начнут съезжаться на дачу где-то к пяти часам, кроме Дарева с супругой, которых будут ждать к семи часам... Вероятно, на этот период назначено какое-то совещание.
Выслушав разные доводы «за» и «против» предложения Чавдара, полковник сделал следующее заключение:
— Обычно мы стараемся не нарушать традиционные торжества. Но если это необходимо, конечно, приходится «принимать участие» в свадьбе. Однако мне кажется, что в данном случае в этом нет никакой необходимости» Лучше продолжить за всеми наблюдение и, особенно, за Златановым, тем более, что ему сейчас позволен выезд в Вену. Нужно попытаться поймать его с поличным, когда он повезет материалы, связанные с изобретением Йотова, за границу. А я думаю, даже глубоко убежден, что он возьмет материалы с собой... Так что, товарищ Выгленов, будем действовать, однако, не торопясь. Всем категорически запрещаю принимать какие бы то ни было решения без Выгленова. Он назначается ответственным за операцию под кодовым названием «Стойки». С него же и будем спрашивать в случае неудачи. Хотя я уверен, что все пройдет успешно!
Приказав Чавдару остаться, полковник отпустил людей.
— Откуда ты знаешь, что на даче будет присутствовать и генеральный директор с супругой?
— Мне намекнул на это Крачмаров. Он сказал, что посаженными отцом и матерью на свадьбе будут генеральный директор Дарев и его супруга...
— Значит, договорились. Лишнего шума не поднимать, Златанова пока не трогать. Ну, Чавдар, желаю успеха!
46
Трифон Йотов вернулся мрачнее тучи. Только что ему вручили решение комиссии об увольнении. Маргарита видела, что муж не находит себе места, но Трифон упорно отмалчивался. Потом он не выдержал и рассказал жене все, утаив только то, что было связано с Эрихом и его, Йотова, изобретением.
В первую минуту Маргарита от возмущения не знала, что и сказать. Немного успокоившись, она посоветовала Трифону подать на пересмотр решение комиссии. Он наотрез отказался.
— Какой толк во всех этих докладах? По твоему требованию я написал заявление с просьбой пересмотреть работу Евгения. И что? До сих пор никакого ответа из министерства. К тому же, и в Париж со своим двоюродным братом он не может поехать.
— Я глубоко уверена, что и на нашей улице будет праздник, даже если это случится и не очень скоро... Ты просто не должен сдаваться. Твой случай нуждается в выяснении...
— У меня уже нет сил бороться. Единственно, на что я не согласился, хотя они меня и вынуждали, так это уйти по собственному желанию. Теперь они обязаны подыскать мне другую работу...
Сказав это, Трифон замкнулся в тревожном раздумье. Надо было раньше рассказать обо всем жене — и о своем знакомстве с Эрихом Брюмбергом, и о его предложении продать патент на изобретение... Теперь уже поздно!
И Трифон представил себе, что он — обвиняемый на процессе, устроенном специально для его разоблачения. Все его объяснения заведомо объявлены уловками, а молчание — соучастием в каких-то темных делах. «Господи, — вздохнул Трифон. — Хоть бы сыну повезло! Новое поколение — совсем иное. Наши дети во многом лучше, они не знают сомнений, которые гложут нас, они намного честнее и чище... Но это только увеличивает мою вину... Вот, например, схемы и чертежи уже давно в чемодане Эжена. Сколько раз я собирался забрать их оттуда, но все не
решаюсь исправить роковую ошибку... Разве забота о сыне может оправдать в глазах общества мой поступок? А вдруг он первый осудит отцовский грех?!»
Раньше у него по крайней мере была надежда на то, что он сможет компенсировать свой неблаговидный поступок тем, что предоставит обществу большое, как он считал, изобретение. Но и его у Трифона украли, пересняли и, наверное, в скором времени переправят за границу. Нет! Только не это!
Подобные мысли превращали короткие летние ночи в бездонное море бессонницы, из которого Йотов безуспешно пытался выбраться. Его нервная система была окончательно расстроена. И вот наступил день, когда Трифон утром не смог подняться с постели. Вызвали врача. Врач диагностировал острейший невроз, предписал сильное снотворное, покой и положительные эмоции. Маргарита не могла безотлучно сидеть у постели мужа, но ребята установили дежурство. Если один из них отправлялся с Эженом гулять по городу, то другой оставался дома, чтобы находиться рядом с отцом. Состояние Трифона будило тревогу. Он то впадал в полную апатию, на все смотрел с тупым безразличием, то, наоборот, был крайне возбужден, метался в постели, бредил, навязчиво повторяя одно и то же: «Чемодан! Евгений, открой чемодан! Посмотри, они там, посмотри внимательно!» Однажды, когда дежурил Евгений, ему показалось, что отец зовет его. Он подошел к больному, но тот бредил, повторяя его имя и упорно твердя о каком-то чемодане. Евгений положил на лоб отцу холодный компресс, и это успокоило больного. Когда тот забылся сном, Евгений достал все чемоданы и внимательно их осмотрел. Ничего подозрительного он не обнаружил, и, хотя и чувствовал себя неловко, заглянул в чемодан Эжена... Кроме одежды и купленных подарков, там ничего другого не было... Евгений провел рукой по дну чемодана: оно показалось ему утолщенным...
В это время очнулся Трифон и подозвал Евгения к себе. «Посиди со мной, сынок... Вот так, — сказал он и, взяв его руку в свою, тихо обронил: — Молодые сильнее нас, но не всегда нас понимают...»
47
Дача Койчева, которую он переписал на имя своей молодой жены, находилась недалеко от кольцевой дороги в весьма уединенном месте — между Драгалевцами и Самоковской магистралью. Слева, совсем близко, темнел лес. Соседняя дача, еще нежилая, отстояла от дачи Койчева метров на двести. Именно там и устроили свой наблюдательный пункт члены оперативной группы, участвующие в операции под кодовым названием «Стойки». В лесу также были установлены посты.
Чавдар Выгленов и Данчо с биноклями в руках видели через широко распахнутую дверь, как Ольга и Ружа накрывают на стол. Ольга была в прекрасном настроении. Еще бы, без всякого труда получила софийскую прописку и стала владелицей такой прекрасной дачи!
В начале пятого у ворот остановилось такси. Из него вышел Койчев с множеством пакетов в руках и огромной коробкой с тортом. Он уже был почти в дверях, когда у дачи остановилась машина. Из нее вышел элегантно одетый мужчина с огромным букетом цветов в руках. Он догнал Койчева на лестнице, поцеловал руку вышедшей на крыльцо Ольге и вошел вместе со всеми в дом.
— Кто это? — спросил Данчо.
— Ганс Шульце, он же Эрих Брюмберг. Тот самый, который некогда квартировал у Ольги в Кранево.
— Вся компания в сборе! — усмехнулся Данчо. — Вот сейчас бы их накрыть!
— Не суетись, Данчо! Товарищ полковник прав: поспешишь — людей насмешишь! Должен еще приехать Ольгин дядя с женой и посаженные мать и отец — генеральный директор Дарев с супругой... Словом, пусть все соберутся, и, в зависимости от обстоятельств, решим, что делать...
Спустя некоторое время прибыли Златановы. Немного погодя из дома вышла Ружа и направилась к автобусной остановке...
«Услали девушку под каким-нибудь предлогом, — подумал Чавдар. — Чтобы не мешала..»
А события на даче продолжали развиваться своим чередом. Новоприбывшие обменялись рукопожатиями с другими гостями, потом Ольга, обняв тетю за плечи, повела ее в другую комнату.
«Верно, тетка не в курсе дел!» — подумал Чавдар.
Трое мужчин расселись в плетеных креслах за низеньким столом.
Первым заговорил хозяин. Потом несколько слов сказал Ганс. После этого Златанов приподнялся с места и крепко пожал Койчеву руку.
— Небось, поздравляет «молодожена», — хмыкнул Данчо.
— Вряд ли, — возразил Чавдар. — Рукопожатие — это скорее знак признания новой фазы их взаимоотношений.
В комнату вернулась Ольга. Она присела к столу. Ганс что-то сказал — она поклонилась. Златанов и ей пожал руку. Это не было тостом, потому что никто не поднял бокалы.
— Интересно, за что ее Златанов приветствует?..
— Как ни странно, но они, работая на одних и тех же хозяев, могли об этом и не знать. А сейчас Ганс им разъяснил, что к чему. Во всяком случае, я так думаю...
— А тетка?
— Полагаю, она вне игры... А вот и она сама.
В комнату вошла Кера. Ольга тотчас вскочила с места и куда-то ее повела. Было видно, как они вышли в сад, и там Ольга представила ее садовнику.
— Ясно, тетеньку стараются держать в стороне...
Больше пока ничего интересного не было. На даче пили, ели, двигались, разговаривали... Время текло медленно... И только где-то к семи часам зазвонил телефон. Чавдар поднял трубку: с поста на восьмом километре сообщили, что только что проехала мимо «Волга» с указанным Чавдаром номером...
— Ну вот, и посаженные мать с отцом едут. Да-а! Дарев — это их неосуществленная мечта. Крупная рыба, ничего не скажешь! Послушай, Данчо! Если Златановы захотят уйти пораньше, не будем им мешать, пусть уходят... Завтра им лететь в Вену... Видел, как Койчев что-то сунул Златанову в руку? Я думаю, это пленка с переснятыми чертежами Йотова.
К дому подкатила зеленая «Волга». Из нее вышли супруги Даревы. Ольга сбежала с крыльца им навстречу. За ней показался Койчев. Даревы расцеловались с «молодыми» и вошли в дом. Лампы уже зажгли, и в комнате стало очень светло. Койчев представил собравшимся Дарева и его супругу. Теперь все гости были в сборе. Можно было начинать торжественный ужин. Ольга распахнула окно и крикнула в сад:
— Крачмаров, ты где там? Иди сюда немедленно.
— Я же сказал, что не хочу, — крикнул глухим голосом Крачмаров откуда-то из глубины сада.
— Как это — не хочешь? А кто мясо разделает? Немедленно переоденься и иди!
Спустя какое-то время в дом вошел Крачмаров. Ольга была в ударе. Она придвигала гостям многочисленные закуски, следила, чтобы их бокалы были полны. Дарев поднял первый тост...
Через некоторое время в комнату вошел Крачмаров. неся перед собой блюдо с жареным поросенком. Даже в бинокль было заметно, что лицо его покрывает мертвенная бледность. Поставив блюдо на стол, Крачмаров поторопился выйти. Его все больше охватывала паника. Ему было страшно и очень хотелось убежать подальше и надежно спрятаться. Но куда? Он давно заметил, что за дачей следят. Все пути к бегству были отрезаны. Остается положиться на судьбу... Крачмаров уселся на кухне и стал ждать, как разовьются события.
Подали десерт. Койчев чувствовал себя скверно. И зачем ему понадобилось жениться? Этот Ганс просто хочет отвязаться от Ольги. «На́ тебе боже...» — И Койчев яростно принялся разрезать торт, совсем позабыв о сидящей рядом даме — супруге Дарева.
О чем-то своем задумался и Златанов. В кармане у него была желанная пленка. О том, как перевезти ее через границу, он старался не думать. Страха не испытывал — уже не впервые ему предстояло переправлять тайные сведения за кордон... В свою последнюю поездку в Париж он тоже «захватил» с собой тайную информацию и фотографии...
Оживление в званый ужин вносила главным образом Ольга. Сидевший рядом с ней Дарев не сводил с нее восхищенных глаз...
В разговор вступил Гана Видимо, он рассказал собравшимся что-то смешное, потому что все рассмеялись. Но вот Златановы переглянулись и поднялись с места Кера поцеловала Ольгу и попрощалась со всем и остальным а Ганс тоже было приподнялся с места, как бы намереваясь уйти вместе с ними, но Койчев и Ольга бурно запротестовали, и он снова сел.
— Когда же мы начнем действовать? — сгорая от нетерпения, спросил Данчо.
— Пусть Златановы уйдут.
Вместе со Златановыми к выходу направился Дарев. Данчо вскочил.
— Спокойно, ничего страшного. Просто сейчас он скажет своему шоферу, чтобы отвез Златановых.
И действительно, Златановы уселись в «Волгу», попрощавшись с ее хозяином. Вскоре машина затерялась на шоссе, а Дарев вернулся к гостям.
Тем временем разговор в доме принимал опасный оборот. Заговорили о любви.
«Пусть Ганс выскажется об этом высоком чувстве, — с вызовом сказала Ольга. — Как он считает, есть на свете любовь?»
«Не понял вопроса, — поднялся с места Ганс. — Я не такой уж тонкий знаток болгарского языка...»
Все засмеялись.
«Я думаю, что только мужчина способен на возвышенную любовь! — заявил подвыпивший Койчев, опрокидывая очередную рюмку в рот. — У женщины любовь уживается с расчетом!» Он явно намекал на дачу, которую Ольга потребовала переписать на ее имя.
«Ты забываешь о Ромео и Джульетте!» — прервала его Ольга. Она поднялась с места и с пафосом продекламировала отрывок из пьесы Шекспира, который читала на вступительных экзаменах в Театральный институт. Все зааплодировали.
«Что ж, бывает, что и женщина тоже... но только пока ей не исполнилось двадцати лет!» — продолжал стоять на своем Койчев.
Ганс поднялся с места:
«Мне пора. Провожать не надо. Я прекрасно доберусь на общественном транспорте».
Данчо снова забеспокоился:
— Ганс-Эрих уходит!
— Сказал тебе — не суетись. Приказ полковника — Эриха на даче не брать, чтобы не спугнуть остальных. Его задержат прежде чем он доберется до гостиницы...
Койчев проводил гостя до двери. На пороге они остановились и что-то тихо сказали друг другу...
— А Койчев и Ольга?
— Понаблюдаем пока за ними. Никуда они не денутся!
— А Крачмаров? — Данчо нахмурился. — Как бы он не сбежал!
— И о нем позаботятся!
Данчо недовольно нахмурился. По молодости лет ему бы хотелось с пистолетом в руке ворваться к врагам и заставить их сдаться без сопротивления! А такой бесшумный, неспешный ход операции явно был ему не по душе.
Чавдар посмотрел на часы — пора идти. На шоссе их ждет служебная машина, которую Чавдар вызвал до этого по телефону. В 22.00 они должны быть с докладом у полковника. Чавдар и Данчо уселись в машину, и она понесла их к городу.
48
Два дня Йотов находился в тяжелом состоянии. Лишь на третий день почувствовал себя лучше и с помощью Евгения даже прошелся по комнате. Но силы вновь оставили его, и он лег.
— Сынок, я, видимо, не смогу проводить Эжена.
— Не волнуйся, папа! Мы с Руменом его проводим, а мама останется с тобой.
— Нет, нет. Пусть мама тоже поедет в аэропорт. Я уже хорошо себя чувствую.
Самолет улетал в 15.30. Было решено выехать из дома за полтора часа. Маргарита до последней минуты порывалась остаться, но Трифон настоял, чтобы она сопровождала ребят. Когда все уже были в дверях Трифон слабо крикнул:
— Евгений!
— Да, папа?
— Нет, нет, ничего... Поезжайте, чтобы не опоздать!
Йотов услышал шум отъезжающей машины, и его охватило отчаяние «Что же я наделал, что наделал!» — повторял он.
Тут раздался звонок. Йотов открыл дверь: на пороге стояла улыбающаяся почтальонша.
— Заказное, распишитесь, — почти пропела она.
С бьющимся сердцем Йотов распечатал конверт. Он так волновался, что до него не сразу дошел смысл написанного. «Принят, принят! — застучало в висках. — Евгений принят в университет!»
И тут же чувство вины, боль за содеянное с новой силой обрушились на него. Теперь уже нет ни малейшего оправдания его поступку. Евгений принят, будет учиться здесь...
Йотов бросился к телефону и лихорадочно набрал номер Выгленова. Никто не ответил. Тогда он набрал номер коммутатора и спросил телефонистку, не сообщал ли товарищ Выгленов, где его можно разыскать. Она дала ему другой телефон. Там ответили, чтобы Йотов позвонил через час.
— Через час будет поздно, слишком поздно! — в отчаянии прошептал Йотов.
Он попытался было вызвать такси. Ему ответили, что машина придет в течении часа. До отлета самолета оставалось всего пять минут.
Йотов ничком бросился на кровать. Жизнь казалось конченной... Столько времени он отдал своему изобретению... Столько бессонных ночей, столько сил... И вот теперь все, все пошло прахом...
Он взглянул на часы. Маргарите с мальчиками уже пора бы вернуться. Интересно, почему они так задержались? Йотов позвонил в справочное бюро аэропорта. Ему ответили, что самолет немного задержался с вылетом и только что взлетел. Значит, он мог бы успеть! Ах, почему, почему он не поехал хотя бы автобусом! Остановил бы любую машину... Перед глазами у Йотова все поплыло, и он рухнул на кровать...
49
Он очнулся от того, что в дверь кто-то звонил. Звонил весело, нетерпеливо... Так умел звонить только Румен. Прежде чем Йотов поднялся, дверь распахнулась, и смеющиеся Маргарита, Румен и Евгений ворвались в квартиру. Но улыбка тут же сбежала с их лица.
— Трифон, тебе плохо? — кинулась к нему Маргарита.
Румен порывисто обнял отца:
— Папа, ты победил! Знаешь, что мы сейчас видели? В аэропорту товарищ Выгленов с помощниками задержали Зико Златанова!
Йотов ничего не понимал.
— Румен поосторожнее, так ты задушишь отца! — вмешалась Маргарита. — Мы действительно стали свидетелями того, как Выгленов и его люди задержали в аэропорту Зико Златанова с женой. Они должны были лететь в Вену на том же самолете, что и Эжен. Между прочим, Выгленов, проходя мимо нас, подчеркнул, что теперь тебе не о чем беспокоиться. Он так и сказал: все уладится!
— А это значит, что все дурацкие обвинения против папы лопнут, как мыльные пузыри! — торжествующе добавил Румен.
— А ты откуда знаешь? — удивилась мать.
— В общем, это не имеет значения. Главное, чтобы папа поправился. — И Румен крепко обнял отца
Но у Трифона Йотова стало еще тяжелее на душе. Он медленно пошел к себе в кабинет. Конечно, в глазах общества он будет оправдан, хотя клевету никогда не смоешь до конца. Но перед собственной совестью ему не оправдаться никогда. Никогда!
В кабинет осторожно заглянула Маргарита.
— Трифон, ты что, не рад?
Йотов не выдержал:
— Мне необходимо срочно повидать Чавдара Выгленова!
— Да что с тобой? — испугалась Маргарита. — Зачем тебе понадобился Выгленов?
Трифон Йотов коротко рассказал обо всем жене. Она долго молчала. Потом с трудом проговорила:
— Что же, сделанного не воротишь! Разумеется, я не одобряю твой поступок, но считаю твои действия вынужденным, хотя и неверным шагом. К тому же я уверена, что вопрос с поступлением Евгения в университет решится положительно... Говорят, что число мест на этом факультете в нынешнем году будет увеличено...
Только теперь Йотов вспомнил о письме. Он протянул его жене.
Пробежав сообщение глазами, Маргарита бросилась было к Евгению, чтобы обрадовать его, но остановилась в дверях и приложила палец к губам:
— О том, что ты мне тут говорил, детям ни слова.
Она вышла, и почти сразу же из гостиной донеслись веселые звуки электронной музыки. Это Румен, включив компьютер, поздравлял брата с поступлением в университет музыкальным произведением, которое он сочинил специально для этого случая.
50
Самолет летел на очень большой высоте, но видимость была прекрасной: где-то далеко внизу расстилались зеленые луга и тянулись голубые ниточки рек. Но Евгения сейчас не волновала вся эта красота. В голове проносились обрывки мыслей, подобно белым облачкам, изредка проплывавшим под самолетом.
Накануне он зашел к Руже, и они вместе отправились в университет, чтобы еще раз убедиться в зачислении Евгения на физический факультет. После того, как Ольгу и Койчева задержали, Ружа осталась совсем одна, у нее не было ни родных, ни близких. Евгений поддержал ее в трудную минуту, он все время находился рядом, и Ружа постепенно пришла в себя, а, успокоившись, даже почувствовала себя счастливой.
А потом пришло сообщение, что документы для поездки в Париж, которые он подал два месяца назад, готовы. Евгений сказал Руже, что он непременно должен лететь в Париж, потому как речь идет о спасении чести их семьи. Девушка не стала его ни о чем расспрашивать...
Родители рассказали Евгению о том, что отец спрятал разработки своего изобретения в чемодан Эжена с тем, чтобы тот, ничего не подозревая, переправил их в Париж. Евгений должен был во что бы то ни стало вернуть их в Болгарию... Однако вдруг пришел повторный отказ в визе...
И тогда Евгений решился поговорить с Чавдаром Выгленовым!..
Самолет нырнул в огромное серое облако, похожее на снежный сугроб. Евгений поежился, вспомнив, как больно стало отцу, когда он понял, что сын осуждает его.
«Я это сделал ради тебя!» — с обидой в голосе сказал отец.
«Мне не нужно такой жертвы!»
«Ты говоришь так потому, что знаешь о зачислении в университет. Посмотрел бы я на тебя, если бы ты снова не прошел по конкурсу! Вы, молодые, всегда готовы осудить нас. Но где вам понять те жертвы, на которые мы готовы пойти ради детей!»
«А меня ты почему не спросил? Так знай, если бы меня не приняли, я никогда бы не согласился учиться так далеко от Софии. К тому же на деньги, полученные ценою компромисса с совестью! И если хочешь знать, я давно вынул из чемодана Эжена твои схемы, еще до того, как узнал, что меня приняли! На тебе твои чертежи...»
Йотов не мог поверить своим глазам. Он порывисто обнял сына, крепко прижав его к себе, и со слезами в голосе прошептал: «Ты меня спас! Удержал от неверного шага!»
Облака становились все гуще, все темнее. Самолет накренился влево, потом еще более резко перевалился на правый бок. Надвигалась буря...
«Пойми, мое положение казалось мне безвыходным... Я сознавал, что делаю огромную, непоправимую ошибку, и все ровно не мог остановиться... Но теперь я смогу открыто смотреть людям в глаза, а главное — вам...»
«Разумеется, Трифон. И все же Евгений должен побывать в Париже и объяснить дяде, что отец его не мог поступить иначе, что все его изобретения принадлежат родной стране. А ты, Евгений, поговори с товарищем Выгленовым. Пусть он посодействует в выдаче визы. Поезжай и возвращайся скорее... Тебя здесь все ждут... и не только дома...» Евгений улыбнулся, вспомнив как удивился отец, узнав о Руже.
«Что это за Ружа? — спросил он. — Никогда прежде я о ней не слышал...»
«Думаю, что скоро ты с ней познакомишься, и, надеюсь, очень близко, — улыбаясь сказала Маргарита. — Хорошая девочка... Студентка химического факультета...»
Мать, оказывается, уже все знала...
Милая Ружа! Как ей, наверно, одиноко сейчас. Ничего, это их последняя разлука Он вернется, и они больше никогда не расстанутся... И сколько прекрасных вещей им предстоит открыть в жизни!..
Самолет вышел из облаков. Ветер стих. С вершин Альп сползали вниз лохматые хлопья тумана На сердце стало неспокойно: Евгений впервые отправлялся за границу. Интересно, получили ли его телеграмму, встретят ли? А если не встретят? И потом... как воспримет дядя его объяснения по поводу отцовского изобретения?..
Он должен, должен оправдать доверие Чавдара Выгленова, своих родителей...
51
При встрече Эжен и Евгений обнялись, словно братья после долгой разлуки. Евгений познакомился с парижскими дядей и тетей, и все направились к машине.
Пока усаживались, Мадлен сказала:
— Наконец-то тебя отпустили. Теперь ты будешь учиться в Париже!
— Нет, тетя! После отъезда Эжена я получил извещение, что зачислен в университет. Я приехал всего дней на десять...
— На десять дней? Но это невозможно! За такой срок ты и малой части Парижа не увидишь! Раньше чем через месяц мы тебя не отпустим! — заявил Эжен по-болгарски.
— Если бы Румен был здесь, он непременно похвалил бы тебя за правильное произношение! — засмеялся Евгений.
Эжен тоже рассмеялся, и они оживленно заговорили о чем-то своем, совершенно непонятном Мадлен, так что она и не пыталась вмешиваться в их разговор. Васил весь ушел в свои мысли: что случилось, почему племянник останется всего на десять дней?.. Может, Трифон решил прислать разработки с Евгением? Наверняка, так оно и есть, и скоро он обо всем узнает...
52
Пока Мадлен готовила ужин, Евгений решил поговорить с дядей. Они закрылись у него в комнате.
— Отец ничего с тобой не присылал для меня? — нетерпеливо спросил Васил.
— Дядя Васил, отец просил передать, что передумал...
Васил ошеломленно молчал. Он уже намекнул жене, что готовит «рационализаторское предложение», которое обеспечит им довольно солидную сумму денег. Поэтому он и предложил Трифону прислать Евгения учиться в Париж. Что же он скажет ей теперь?
— Но ведь он же обещал! Я так на него рассчитывал...
— Он не обещал тебе твердо, только сказал: «я подумаю».
Однако дядя его не слушал:
— Как же он мог так со мной поступить... я ведь так на него надеялся...
Разговор принимал неожиданный оборот. Евгений и мысли не мог допустить, что дядя захочет присвоить труд его отца. Как же быть?
В этот момент в комнату вошел Эжен. Услышав последние слова отца, он живо заинтересовался:
— О чем это вы говорите? Что-нибудь интересное?
Евгений вдруг решился:
— Эжен, принеси сюда чемодан! Тот, с которым ты приезжал в Болгарию!
Удивленный Эжен, ни слова не говоря, принес чемодан.
Евгений раскрыл его и дернул за едва заметную нитку:
— Вот он, тайник! Но ты нашел его пустым, не правда ли? Ты рассчитывал, что в нем отец переправит чертежи своего изобретения, да?
Васил бросил на племянника хмурый взгляд. Ему нечего было возразить. Потом он поднялся и с неприкрытым раздражением сказал:
— Видишь ли, мне кажется, тебе лучше уйти! Раз ты приехал к нам с камнем за пазухой — уходи! Вот тебе деньги, Эжен проводит тебя в гостиницу!
— Значит, ты мог вот так запросто присвоить результаты чужого труда? Не ожидал от тебя этого, дядя! — гневно сказал Евгений. — Мой отец — болгарин, и его изобретение будет служить болгарскому народу. Иначе и быть не может!
— Прошу к столу! — входя в комнату пропела улыбающаяся Мадлен. Но улыбка тут же сбежала у нее с лица, когда она увидела нахмуренные лица мужчин.
— Оставь нас, Мадлен! У нас серьезный разговор! — глухо сказал Васил. И добавил: — Тебе, Эжен, тоже лучше уйти!
— Нет, папа! Раз разговор мужской, я должен остаться! И потом я хочу знать, какую роль во всей этой истории должен был сыграть мой чемодан?
Вместо ответа Евгений достал из портмоне небольшой листок и протянул его Эжену. Тот, запинаясь, прочел:
«Васил, я передумал. Извини, что создал тебе столько неприятностей, прости и за напрасные иллюзии. В будущем году приезжай с женой и Эженом в гости. Отец тоже просит тебя об этом. Твой брат Трифон».
Дочитав до конца, Эжен протянул записку отцу и вопросительно взглянул на Евгения.
— Я хочу, чтоб ты знал. Эжен... В этом чемодане ты должен был провезти схемы одного изобретения — усилителя нового типа. Эти схемы твой отец должен был продать от своего имени, обеспечив тем самым и средства для моей учебы в Париже.
Васил неоднократно порывался прервать Евгения, но у него не было сил... Наконец, он не выдержал:
— Хватит! Что тут плохого, что я собирался продать? Я ведь не отказываюсь выплатить договоренную сумму. Пожалуйста, приезжайте сюда все, и я передам целиком все деньги твоему отцу.
— Дядя, в состоянии минутной слабости отец допустил ошибку. Но очень скоро он осознал ее. Изобретение принадлежит болгарскому инженеру, и оно должно, понимаешь, должно остаться в Болгарии. Отец даже заболел от переживаний. Потому что он — болгарин. А ты?
— Болгария, Франция... Ну какая разница! У науки нет границ... Важно быть первым... Я бы смог выгодно продать изобретение твоего отца, а деньги мы бы поделили между собой! Разве это плохо? Ну что тут особенного? — сказал Васил.
— Очень сожалею о случившемся, дядя!
— Отец, но ведь ты тоже болгарин! А Франция как-нибудь проживет без чужих изобретений! И знаешь, давай закончим этот разговор! А маме ничего не скажем, а то она станет переживать!
— Хорошо, если ты обещаешь молчать, я ей тоже ничего не скажу, — с усилием проговорил Васил. — И все ж, разрази меня гром, если я понял, что у вас происходит. Видно, в Болгарии и впрямь многое изменилось, если деньги перестали быть для людей самым главным. Просто трудно поверить! Хотелось бы увидеть своими глазами...
— Ну так в чем же дело, дядя, приезжайте. Мы все вас приглашаем! И дедушка Йото вас ждет!
— Ладно, мы об этом еще поговорим! А теперь — ужинать!
Сердце Евгения сильно билось. Он испытывал гордость от того, что сумел одержать победу. Спасибо Эжену, он очень ему помог. Евгений с благодарностью посмотрел на брата, обнял его за плечи и с чувством сказал:
— Знал бы ты, как я тебе благодарен!
Эжен улыбнулся, взял его за руку и повел в столовую. Перед тем, как сесть за стол, они заказали разговор с Софией.
Мадлен была счастлива, что дети снова улыбаются, да и Васил уже не смотрит сердито. Она приветливо защебетала:
— Ешьте, дети, ешьте, а на отца не обращайте внимания! Он у нас всегда такой молчун...
Эжен заговорщицки взглянул на Евгения и подтвердил:
— Да, папа всегда молчит. Но, в сущности, он добрый. И в воскресенье мы все поедем в Версаль... Правда, папа?
— Да, конечно! Мадлен, я пойду к себе, мне что-то не хочется есть. — Василу было над чем подумать наедине с собой.
Мадлен с сочувствием посмотрела на Васила и сказала, обращаясь к Евгению:
— Базиль работает над одним изобретением. Это даст ему возможность перейти на лучшую работу. Он больше не будет обыкновенным чиновником на заводах «Рено». Переведи, Эжен!
— Мама говорит, что отец в последнее время слишком много работает...
— Да, да, я понял! — улыбнулся Евгений, который все же знал французский настолько, чтобы понять неточность перевода.
Дали Софию. Услышав тревожный голос отца, Евгений почувствовал гордость: он оправдал его доверие, справился с первым в своей жизни, по-настоящему взрослым поручением! В нескольких словах он дал отцу понять, что все в порядке, и что дядя Васил принял приглашение приехать на будущий год в Болгарию.
Евгений чувствовал себя легко и свободно. Перед ним была жизнь — сложная, исполненная борьбы и напряжения, жизнь, в которой самые высокие чувства рождены доверием, а самую большую гордость вызывает сознание честно выполненного долга.
Стоянов Л.
На крыше мира



САРЫТАШ
Чернову вздумалось пойти домой через пустырь. Обогнув двор детского сада и перепрыгнув через ров, он не спеша шел по уже увядшей траве.
За пустырем начиналась Алайская долина. Ее окружали бесконечные горные цепи. Горы громоздились то в виде сказочных замков, то и виде остроконечных башен в шапках, сверкающих голубоватой белизной вечных снегов.
В самом центре Заалая в сизой дымке возвышался над облаками пик Ленина, весь залитый золотыми лучами солнца. Склоны Алая казались бурыми. Только кое-где узенькими полосками зеленела трава, — это ручьи поили ее своей ледяной влагой. Зато в долине, у самых берегов реки Кизыл-су еще пестрели огромные ковры зелени.
Осень в горах стояла в этом году необыкновенно теплая, однако в порывах ветра уже чувствовался холодок приближающейся зимы. Не сегодня-завтра мог повалить снег.
«Да. Зима не за горами, а продуктов всех мы завезти и не успели, — озабоченно думал Чернов. — Трудно будет…» Он вздохнул полной грудью и повернул голову в сторону склада. Там стоял ЗИС, возле которого деловито сновали кладовщик и трое рабочих, сгружая только что привезенные ящики.
«Ну вот, я и дома…» Чернов удовлетворенно потянулся всем телом. Это был человек богатырского роста, с крупным, мужественным лицом, которое так загорело и обветрилось, что кожа на щеках, большом лбу и кончике носа покраснела и облезла. Рабочие с уважением отзывались о нем. «Этот — свой, даром что начальник, а ни солнышка, ни работы не боится!»
Дома. Всего лет десять-двенадцать назад по горным тропам, через снежные перевалы, глубокие ущелья и долины, здесь проходил торговый караванный путь. Теперь вместо него пролегала прекрасная гравийная дорога. Начинаясь в областном городе Оше, она протянулась через весь Памир почти на тысячу километров, заканчиваясь в Хороге — самой южной точке нашей страны на границе с Афганистаном. Тридцать пять суток караванного пути уступили место тридцати пяти часам езды на автомобиле. В шутку об этой дороге отзывались так: «От Оша и до Хорога — тяжелая дорога, а от Хорога до Оша, эх! — дорога хороша!» Легко было вести машины, спускаясь все ниже и ниже с гор величественного Памира.
Сарыташ, один из участков, обслуживающих дорогу, расположился среди трех ущелий, которые, соединяясь вместе, образовали здесь небольшую котловину. Бурно вырываясь из среднего, узкого ущелья, по котловине бежала горная речка. Красиво огибая селение дугой, кое-где петляя, она мчалась вниз и впадала в бурые воды Кизыл-су, протекающей вдоль всей Алайской долины.
В Сарыташе шесть-семь фундаментальных домов и десятка полтора глинобитных построек. Электростанция, гараж, ремонтная мастерская, небольшая радиостанция, пекарня — составляли гордость Сарыташа. Население участка превышало двести человек. В большом кирпичном бараке жили постоянные квалифицированные рабочие. Вторую половину барака занимал клуб. Ближе к долине расположился жилой дом администрации и рядом с ним-детский сад. В общем, в условиях Памира — это был целый городок.
Обслуживать горную дорогу было нелегко. В суровую и продолжительную на Памире зиму едва успевали расчищать ее от снежных заносов. Весной — другая беда: оползни, бурные паводки, размывающие дорогу. Стремительные потоки подчас сносили мосты, как щепки, увлекали с собой все, что попадалось на пути. Страшно было смотреть, как громыхая катились с гор огромные каменные глыбы. Это были опасные дни, когда жизнь людей иной раз висела на волоске.
Поглядывая в сторону гор, где клубились густые, отяжеленные влагой облака, сползавшие с вершин по крутым склонам, Чернов направлялся к своему дому. За углом он столкнулся с электриком — смуглым кареглазым юношей в замасленной до блеска тужурке.
— А, Усманбаев! Что это ты вроде в масле выкупался?
Электрик смущенно заулыбался.
— С приездом, товарищ начальник! Дизель вот смотрел, масло уходит, прокладка новый ставил. Потом мотор главный баловаться стал. Механик крепко ругался, к чорту послал, сам пошел к Джабару буза пить. Я подумал, нельзя так. Свет хуже коптилка стал. Не утерпел, стал немножко смотреть… потихоньку работает теперь!
Теплое чувство всегда овладевало Черновым при встрече с этим трудолюбивым и умным парнем. Он крепко пожал Усманбаеву руку.
— Молодец, Исмаил! Ну, а учеба движется?
— Книжки? Читаю, Владимир Константинович… Механика вот, задачки, трудная наука. Через Алай легче перейти. Да ничего, потихоньку учимся, товарищ начальник!
«Если бы у всех было столько энергии, — думал Чернов, подходя к крыльцу, — горы можно было бы свернуть!»
Еще с порога он заметил, что у жены недовольное лицо. Настроение у него сразу испортилось.
Обед прошел натянуто. Лидия демонстративно молчала. Мельком бросая взгляды на жену, Чернов видел, что она еле сдерживает себя. В прищуре! ее глаз затаилась готовая вот-вот вспыхнуть злость. Однако, тарелки она принимала и ставила на стол с подчеркнутым вниманием и спокойствием.
— Что же ты ничего не спросишь о дочери?
Чернов проголодался с дороги и с аппетитом ел. Прядь черных волос свесилась над густой, углом очерченной бровью. Покрасневшее от солнца лицо его еще больше разгорелось от горячей пищи.
Лидия пожала плечами.
— Мне кажется, о дочери нужно рассказать, не дожидаясь вопросов. Надеюсь, дома всё благополучно?
— Дома? Да… Все живы и здоровы. Талочку еле успокоил: так ей хотелось поехать со мной…
В голосе Владимира Константиновича прозвучала грустная нотка.
— Ты всегда её расстроишь! — вспыхнула Лидия. — Никуда она из Оша но поедет. Мне вообще всё это надоело. Дочери по целым месяцам не вижу, мужа никогда не бывает дома, а ты сиди… в четырех стенах! Выйти даже некуда в твоем Сарыташе!
Чернов видел — ссоры не миновать. Лидии нужен только предлог.
— Но почему же — некуда? — спокойно возразил он, развязывая галстук и удобно усаживаясь на диване. — Природа у нас замечательная, воздух чудесный…
— Не издевайся. Можешь сам любоваться этими голыми скалами. Сидишь вечно одна…
Лидия вынула носовой платок и поднесла его к глазам. Чернов хмуро смотрел на отвернувшуюся к окну жену. Косой луч солнца озарял ее пышные чуть рыжеватые волосы. Тень от ее точеного профиля падала на стену. Ему стало жаль жену,
— Ты неправа, Лида. И напрасно льешь слезы. Занятие при желании найти можно, — мягко, но делая ударение на слове «желание», сказал он.
— Что ты меня агитируешь! — резко повернулась к нему Лидия. — Хватит уже, наслушалась от Вари Савченко. Та тоже всё уговаривает меня. Может быть, в судомойки пойти в вашу столовую?
— Зачем же в судомойки! Помогла бы заведующей детским садом. Елена Николаевна с ног сбилась, с утра до ночи одна с ребятишками…
— Ах, вот оно что! В няньки к вашей Елене Николаевне!
— Потом, — не слушая ее, продолжал Владимир Константинович, — у нас неплохая библиотека, ты историчка, с высшим образованием, могла бы руководить кружком, читать лекции…
— Что это за жизнь! Господи, что за жизнь! Месяцами не видишь даже своего ребенка!
— А кто виноват в этом? Почему же ты не хочешь забрать Талочку из города?
— Талочка будет жить у мамы. Я не хочу привозить ее в эту глушь. И вообще я намерена уехать туда на зиму. Хватит! — расплакалась Лидия, сморкаясь в носовой платок.
— Знаешь, что я тебе скажу, Лида? — не выдержал Чернов. — Никогда я не мог подумать, что ты такая…
— Какая? — перебив его повысила голос Лидия Львовна, — Договаривай! Лучшую нашел? Да? — уже чуть не в истерике кричала она. — Завтра же уеду! Ни одного часа больше не останусь в этой дыре!..
Чтобы не наговорить лишнего и успокоиться, Чернов наскоро оделся и вышел во двор. Расстроенный ссорой с женой, он постоял некоторое время на крыльце, машинально достал из кармана папиросу, закурил. Потом тяжело, устало побрел в сторону конторы.
На дворе уже было темно, а Чернов всё сидел в кабинете, не зажигая огня. Докладная записка, которую надо было приготовить на завтра для управления, так и лежала перед ним только начатая…
Памир! Его суровая, величественная красота поразила Чернова еще когда он студентом приезжал сюда с группой туристов. Окончив институт, он решил уехать из Ташкента в горы, на «крышу мира».
Мать и сестра таили надежду, что он устроится в их родном городе и будет жить вместе с ними. Сколько было разговоров, когда они узнали о его назначении на работу в город Ош, в управление Памирской дороги!
Чернову представились сборы, прощание, станция… Это было четыре года назад. Его назначили помощником начальника технического отдела управления дороги. Однако, кабинетная работа не нравилась Владимиру Константиновичу, и месяцев через пять он попросил о переводе на участок.
Помнится, почему-то особенно уговаривал его не забираться в горы заместитель начальника управления Казаков, давнишний знакомый жены. Просьбу Чернова всё же удовлетворили. Он получил назначение в Сарыташ. У многих тогда это вызвало недоумение: «Областной город променять на какую-то глушь в горах!..»
Очень неприятный разговор из-за переезда в горы произошел с родителями Лидии да и с пей самой. К тому времени он был уже женат.
Дочь местного врача Лидия Львовна Рогова давно нравилась ему — ее стройная фигура с гордо откинутой назад головой, большие голубые, с холодком, как он шутя говорил, глаза, красивый рот, обнажавший при улыбке мелкие зубы…
У Лидии оказался вспыльчивый, себялюбивый характер. Она была капризна и неуравновешенна. Иногда он думал, что Лида не любит его… Через год после женитьбы у них родилась дочь. Ее оставили у родителей жены в Оше. Лидия часто ездила в город навещать ее, но взять в Сарыташ ни за что не соглашалась Много было по этому поводу разговоров, всевозможных доводов, просьб, наконец, споров, но сломить упорство жены ему так и не удалось. Отсутствие ребенка создавало какую-то пустоту в доме и на душе всегда было немного тоскливо.
Однажды, когда Лидия была у родных, его неожиданно вызвали в Ош на совещание. Предупредить жену о своем приезде Чернов не успел и появился на квартире Роговых, как незванный гость, угодив прямо на вечеринку.
Лидия сидела за столом в центре шумной компании и весело смеялась. Двое слегка подвыпивших военных смешно спорили, стараясь отвоевать друг у друга ее рюмку, из которой каждому из них хотелось непременно выпить первому.
Растерянность жены, ее смущение больно отозвались в его сердце…
Эти воспоминания еще больше испортили настроение Чернова. Он зажег лампу, швырнул в ящик стола папку с неоконченной докладной и, потушив папиросу, впервые обратил внимание на пепельницу. Бронзовый медвежонок вызвал в памяти другую картину. Когда он вошел в дом Роговых и вытащил из портфеля игрушечного коричневого Мишку, как Талочка обрадовалась подарку! Она прыгала вокруг и лепетала: «Я хочу с папой в горы!». И как на нее прикрикнула теща, эта женщина с манерами старой барыни, калечащая ребенка…
С тяжелым сердцем Владимир Константинович вышел из конторы и остановился на углу.
Тишина, окутавшая участок, была такой глубокой, что Чернову на миг показалось, будто он один живой человек в горах, совсем один. Он стоял неподвижно, смотрел на светящиеся маленькие четырехугольники окон и думал: «Неужели Лида уедет на всю зиму?..»
КАПИТАН МОРОЗ ПЫТАЕТСЯ РАЗГАДАТЬ ЗАГАДКУ
Капитан Мороз ехал шагом на вороном коне. Он ловко сидел в седле. На загорелом, обветренном лице светились темно-карие глаза. Их взгляд из-под черных, с изломом, бровей, казался строгим. Зато яркие пухлые губы выдавали его добродушную натуру, а когда капитан улыбался, всё лицо его приобретало мальчишески-задорное выражение.
Ординарец Лукаш ехал шагах в пяти сзади. Лукаш видел, что капитан сосредоточен и чем-то расстроен. Значит случилось что-то серьезное, Лукаш хорошо знал характер своего командира. Недаром они служат вместе на Памире вот уже три года. Во всех операциях, объездах границы Лукаш неотступно находился при капитане. За эти три года всякое случалось здесь, в горах.
Когда Лукаш уезжал на Памир, в погранвойска, товарищи шутили:
— И выпадет же человеку счастье! Дыши свежим воздухом, стреляй диких баранов и набирай жирок от безделья!..
Воздух-то действительно свежий. Но и ухо здесь держи востро! На той неделе такая перепалка завязалась в горах-настоящий бой! Капитану пулей фуражку сбило. Чуть ниже п — поминай как звали! А «тех» всё же забрали…
— Лукаш! Огонек есть?
Закурили.
Пересекли Алайскую долину и теперь до Кордобы было недалеко.

Капитан вытащил из кармана стеклянные трубочки с отбитыми верхушками, посмотрел на них против солнца, понюхал, покачал головой и спрятал их обратно. Он был недоволен вчерашним днем. Чернова в Сарыташе не застал. А надо бы… Колхозная ферма на обширнейшем высокогорном пастбище Алая была по соседству с участком. Чернов шефствовал над ней, помогал автомашинами, электрифицировал ферму, хорошо знал люден. С ним не мешало посоветоваться…
Случай с падежом на ферме был необычным. За короткий срок, неделю, не больше, погибло несколько сот овец. Это произошло как раз перед тем, когда с фермы уже собирались перегонять скот на зимние пастбища в долины. Потом, так же неожиданно, как и начался, падеж сразу прекратился.
Капитан Мороз узнал об этом поздно. Почти двое суток он расспрашивал, осматривал, лазил по выпасам. И нигде никаких следов. Однако капитан настойчиво искал. Долгие годы службы в погранвойсках научили его безошибочно разбираться в событиях, замечать то, чего не замечали другие, и давать ему правильную оценку. Снова и снова ходил он по увядшей, объеденной овцами траве, лазил по обрывам, осматривал ручьи и загоны. Каждый оброненный пастухом предмет, каждая вмятина в трапе — всё тщательно рассматривалось им. И всё это было не то, чего он искал.
Но в последние минуты, когда он уже потерял надежду на удачное расследование, неподалеку от старого полуразрушенного склада, километрах в двух от фермы, у самого обрыва, он нашел эти две разбитые ампулы. Капитан внимательно осмотрел это место и установил, что кто-то поспешно бежал и при падении (очевидно, споткнулся о камни») выронил их. Дело было, по всем признакам, ночью. Гнались овчарки. Собачьи следы отчетливо сохранились. Бежать над таким крутым обрывом да еще ночью — опасно, нужно прекрасно знать дорогу, чтобы не свернуть шею. Значит, враг ее знал!
— Товарищ капитан! Кажется, наши по Алаю скачут! — прервал его размышления голос Лукаша.
Вдали полным карьером скакали всадники.
— Молодцы, ребята! — сказал капитан, посмотрев на ручные часы. — Поезжай, Лукаш, вперед и скажи старшине Соколову: остановки в Бордобе делать не будем, чтобы готовы были. Заночуем на Кизыларте. По дороге, пока светло, заглянем в ущелье.
Лукаш ускакал.
Капитан смотрел в бинокль на приближающихся пограничников, на черные, движущиеся но склону Алая пятна отар, на цепи гор, сверкающих в лучах солнца своими болоснежными шапками, на вершину пика Ленина, всю розовую и блестящую, и его охватило неизъяснимое ощущение простора, слияния с природой.
Па площадку, возле огромной остроконечной каменной глыбы, влетели двое пограничником, круто осадив взмыленных коней.
Задание выполнено, товарищ капитан! — взяв под козырек, доложил младший сержант Джумаев.
Ну, что там в Акбосаге? — спросил Мороз.
— Всё в порядке, товарищ капитан! С пакетом Федорчук приезжал. Газеты привез, последние сводки… В Сталинграде дерутся, в самом городе, товарищ капитан! Как же это? Эх! Туда бы… Руки чешутся фашистов бить!.. А под Киевом, говорит, партизан
Ковпак здорово немецкие части почистил!
— Нам и здесь хватает кого… чистить, Джумаев.
Когда капитан Мороз с двумя пограничниками подъезжал к Бордобе, у шоссе его уже ждали Лукаш и старшина Соколов с бойцами. Вокруг колодца стояли автомашины, возвращавшиеся в Ош. Шоферы наливали воду в разогретые радиаторы, поправляли серые брезенты, которыми был накрыт груз, и перебрасывались шутками с пограничниками.
Один шофер рассказывал:
— Еду я как-то ночью. Фары, будто прожекторы — далеко светят. А впереди по дороге два зайца бегут. Подержал я их на свету минут пять, налетел ну и… готовы. Встал с машины, одного за уши поднял, в кузов бросил. Подхожу, второго беру, поднял, а он, стервец, видно очухался, да как ахнет меня в ухо лапой, ну, братцы, так все звезды с неба и посыпались… Залепил мне да и был таков! Всю ночь в голове звенело. Вот заяц, братцы, так заяц!
— Ох, и врет же! — смеялись пограничники.
— Мое дело врать, а ваше — слушать, — невозмутимо отвечал шофер.
— Что, прямо на станцию? — спросил Мороз, показывая на машины.
Так точно, товарищ капитан! Груз по маршруту на Сталинград пойдет. Второй рейс делаем…
По нашей дороге сейчас много грузов идет туда, — с гордостью сказал кто-то из рабочих.
Капитан Мороз козырнул на прощанье веселым шоферам и отряд умчался в горы.
Шоссе серой змеей уползло вверх по ущелью. Слева стояли неприступные скалы, справа — глубокая пропасть, на дне которой, между камней, шумел мутный Кизыларт. Оттуда тянуло пронизывающей сыростью. Возле громадного, нависшего над дорогой выступа шоссе постепенно стало снижаться, подходить ближе к реке и теперь ее шум беспрерывно звенел и ушах.
Отряд свернул в ущелье, проскакал до поворота и остановился. В этом месте горы были словно расколоты множеством расщелин. Одна из них вела в довольно широкую впадину, в конце которой возвышалось плато с еще зеленой травой. Косые лучи заходящего солнца, пробиваясь меж гребней гор, ярко освещали его.
Это была уже граница с Китаем. Здесь по еле проходимым и неприметным тропкам когда-то пробирались контрабандисты. В советское время им пришлось отказаться от этого и изведанного. хотя и рискованного пути. Близко проходил Памирский тракт, по нему шло беспрерывное движение, а пограничники зорко следили за рубежом своей земли.
Капитан огляделся. По склонам всё выше взбирались тени, как будто кто-то закрывал горы темным занавесом. Только белоснежные вершины еще горели в огне заходящего солнца.
Получив распоряжение, отряд разделился. Старшина Соколов с тремя пограничникам» поскакал по дуге ущелья, ужа окутанного густыми сумерками. Младший сержант Джумаев с бойцами направился в узкую расщелину, с высоты которой падал ручей красивым, звенящим каскадом. Капитан двинулся в сторону плато, где любили пастись архары. Теперь, напуганные людьми, они появлялись здесь редко. Лукаш немного поотстал и, ослабив повода, медленно ехал поодаль. Тропка шла над самым обрывом, внизу которого журчал ручей.
Было очень тихо. Силуэты скал стали черными и зловещими. И в это время раздался выстрел. В тишине он был таким резким и неожиданным, что конь под капитаном шарахнулся в сторону и встал на дыбы. Грянули еще два выстрела и пули просвистели близко над головой Мороза. Конь сделал несколько сильных скачков вверх по склону, замотал головой и что-то теплое, липкое брызнуло на руку капитана. Резко дернув за повод, он заставил коня сделать прыжок за уступ скалы, где было безопаснее осмотреться. Сверху, на противоположной стороне обрыва, откуда стреляли, сорвался и с грохотом скатился камень. Было ясно, что кто-то уходит, стараясь скрыть следы после неудачного покушения.
— Товарищ капитан! Вы не ранены? — подскакал сзади испуганный Лукаш.
..Всю ночь отряд во главе с капитаном безуспешно рыскал по скалам. Тот, кто стрелял, видно, очень хорошо знал эти места.
Было уже совсем светло, когда отряд возвращался на заставу. Капитан молча ехал впереди, стараясь разобраться в событиях последних дней. Пало несколько сот овец. Заведующий фермой никого не подозревает. Судя по всему — отравление. Найдены только две ампулы. Если их больше не было — какой же это сильный яд! Конечно, это «оттуда»! В каком месте «он» сумел пробраться? Кто стрелял в горах? Тот самый или другой? Где он сейчас? Один, двое? Вот задача… Задача, которую надо решить как можно скорее.
ДОРОГА
Фатима заглушила мотор. Каток остановился.
— Ну, вот и закончили! — с облегчением вздохнув, сказала она самой себе и оглянулась.
Позади катка, теряясь где-то далеко за невысоким выступом горы, тянулось отремонтированное шоссе. Отсюда оно казалось сначала разноцветным от свежеукатанного гравия, потом постепенно переходило в темно-серую, извивающуюся ленту.
Фатима улыбнулась, сняла платок с головы и стала поправлять толстые косы, упавшие ей на плечи.
Было раннее утро. Солнце еще только подымалось где-то за горными вершинами, а небо уже горело, озаренное его сияньем. Далеко, в глубине долины сверкало, как зеркало, большое озеро Кара-куль, отражая в сине-зеленых водах и горы, окружившие его тесным кольцом, и небо, и все тона красок разгорающегося восхода. У подножья скал, темнеющих вдали, края озера терялись в сиреневом тумане повисшем в воздухе, как легкая вуаль. Фатима вспомнила, что такое же озеро она видела на картине в квартире начальника.
— Пула-ат! Вы скоро-о? Ехать пора-аа!..
— Сейчас-ас! — донеслось в ответ и вскоре двое рабочих, нагруженных лопатами, кирками, сумками с едой, подошли к катку. Фатима сидела на пожелтевшей траве у края дороги, опустив в кювет ноги. В руках она держала кусок хлеба с брынзой, рядом стояла бутылка с холодным кофе. В черном комбинезоне, туго перетянутом в талии ремнем, Фатима казалась выше своего роста. У нее были строгие, с восточным разрезом, глаза, маленькие руки, измазанные маслом, и лицо, черное от солнца.
Позавтракав, они тронулись в путь. Медленно двигался каток по шоссе к перевалу. Гул его мотора оглушительным эхом отзывался в горах и мешал разговаривать. Рабочие, пристроившись у сиденья Фатимы, дремали. Один из них, Пулат, время от времени приоткрывал глаза и мечтательно смотрел на уползавшую из-под широких, тяжелых колес дорогу. Его крутой затылок напомнил Фатиме Исмаила. «Что он сейчас делает? Может быть, дежурит на электростанции. А может быть, дежурил ночью и, как всегда, сидел над книжкой? Упорный он, учится…» Как она соскучилась по нем! Ведь они не виделись больше недели!
..Когда каток подъехал к мосту, был уже поздний вечер. По ту сторону реки Маркан-су, почти у самой воды, белела палатка. К Фатиме подошел бригадир Савченко. Это был высокий худощавый человек лет сорока, с умными волевыми чертами лица. Недавно коммунисты избрали его парторгом участка.
— Как добрались? — спросил он. — Всё закончили? Это хорошо, что вы приехали. Завтра у нас горячий денек будет. Ваша помощь понадобится, Фатима! Задул нехороший ветер с песком… снег может пойти!
Большинство людей, утомленных за день работой, уже спали. Фатима, свернувшись калачиком, тоже примостилась на свободной половине матраца. За тонкими стенками палатки бушевал ветер и забрасывал ее песком. Мигающее пламя в керосиновой лампе на крохотном столике гоняло с места на место черные тени — они пугливо метались по брезентовому потолку.
Опасения бригадира оправдались. К утру искр не только не утих, но разбушевался с ноной силой. Песок больно ударял в лицо, слепил глаза. Рабочим пришлось надеть защитные очки. А тут как на зло пошли одна за другой неприятности. Не успел Савченко распределить бригаду по участкам работ, как к нему подошел шофер. Оказалось, сел аккумулятор, машина вышла из строя.
— Как не во-время! Скажите, пусть Абибулаев прицепит повозку к трактору и отправляется за камнем вместо вас. А что там со вторым катком, почему не выезжает?
— Не знаю, тракторист там… Никак не заведет мотор.
— Этого еще недоставало!
Отплевываясь и то и дело вытирая рот от песка, Савченко подошел к катку и увидел красное, потное лицо тракториста Абибулаева, тщетно пытавшегося завести мотор.
— Что случилось, Ахмет?
— Не пойму, товарищ бригадир! Разбирать надо… Только сейчас разве что-нибудь увидишь! Метет…
— А без этого обойтись нельзя?
— Ничего не выходит…
Выругавшись про себя, Савченко свернул на шоссе и пошел вверх по подъему. Недосыпание, тяжелые условия и обязательно какие-нибудь срывы в работе сделали его раздражительным. То задержка с горючим, то нет запчастей, то ломается и выбывает из строя поношенное оборудование, то, наконец, извольте, погода преподнесет чорт-те что! Хорошо, хоть люди добросовестно относятся к своим обязанностям, иначе, пойди-ка, поработай!
Савченко шел, поминутно заслоняя лицо рукой от бешеного напора ветра. Песок тучей носился над долиной, врывался в ущелье, засыпал людей, больно врезался в кожу, забивал уши, нос, забирался даже под прокладку очков. От него не было никакого спасения. В таких условиях работать почти немыслимо. По работать надо. Мог повалить снег и тогда весь этот участок в весенний паводок будет размыт. А это значит приостановить всякое движение на тракте. Нет! Этого допустить нельзя. Надо преодолеть все трудности и ремонт на спуске закончить.
Внимание Савченко привлек еле слышный шум мотора. За поворотом медленно двигался каток Фатимы. Дорожники готовили для обкатки полотно шоссе, заполняя выбоины и разравнивая гравий. Ветер срывал с лопат песок, мелкие камни. Адская работа! Дышать было трудно, люди чертыхались, сплевывали песок, который забивался в рот, скрипел на зубах.
— Товарищ бригадир! — донесся сквозь ветер голос одного из рабочих.
Савченко направился к нему.
— Что будем дальше делать? — стараясь, чтобы его услышали, фальцетом кричал тот. — Камень кончается! Подвозка нужна.
Перед Савченко стоял пожилой, небольшого роста каменщик. Его потное, с грязными потеками, лицо горело, как огонь. Шапка сдвинулась на затылок. Над розовым и облупленным носом, как два чудовищных рыбьих глаза, торчали защитные очки. Жиденькая рыжеватая бородка казалась пепельной от набившейся в нее пыли. Он то и дело хватался руками за шапку, чтобы ее не сорвало ветром.
— Машина стала, Прокопыч! Абибулаев трактором доставит.
— Как трактором! — воскликнул Прокопыч. — Он же нам тут всю дорогу испакостит!..
— А что делать? — кричал в ответ Савченко. — Другого транспорта нет. Не могу же я остановить работы.
Прокопыч хотел еще что-то возразить, как вдруг подбежал запыхавшийся Пулат.
— Товарищ бригадир! Абибулаев камень отказался возить!
— То есть как это отказался? Что ты мелешь!
— Зачем мелешь, правду говорю. Сказал, в такой погода пускай ишак работает! Сам в палатка ушел, спать завалился…
В душе у Савченко все так и закипело, но он сдержал себя. Отпустив Пулата и не глядя на Прокопыча, а только крикнув ему сразу охрипшим голосом: «Камень будет!..», он пошел навстречу приближающейся Фатиме.
Пронесшийся неделю назад ливень вконец вывел из строя и без того испорченную в этом месте дорогу. Образовалась «пробка». Вереницы грузовых машин застряли в пути. Пятые сутки люди ремонтировали шоссе, старались изо всех сил открыть проход, а тут, как на зло, этот песчаный смерч… С утра срывался снег. А если разойдется? Тогда — пиши пропало! Завалит все сугробами…
«А теперь еще этот Абибулаев. со своим гонором»… — гневно думал Савченко.
В облаках песка и пыли навстречу двигался силуэт машины. Фатима, наклонив вперед туго повязанную платком голову, сосредоточенно вела каток. Ветер расплетал и рвал выбившуюся из-под платка косу. Девушке некогда было ее поправлять. Казалось, вот-вот её, тоненькую, гибкую, в черном комбинезоне, снесет с сиденья ураганный напор ветра.
Савченко, не останавливая каток, зашагал рядом, рассказывая Фатиме о поступке Абибулаева.

— Вот как! Абибулаев не поехал за камнем! — воскликнула возмущенная девушка. — Хорошо, я привезу камень…
— Нельзя, Фатима, этот участок надо закончить обязательно.
— Я ночью буду работать. Факел зажгу…
Савченко недоверчиво посмотрел на Фатиму, будто впервые увидел девушку. В полумраке блестели ее сосредоточенно-напряженные глаза, билась на ветру шелковая прядь растрепавшихся волос. Маленькие, но сильные руки уверенно держали руль. «Стоящая дивчина! Не ошибся парень…» — подумал Савченко, вспомнив об Исмаиле.
— Факел, — вскричал он, — зажечь факел!.. А ведь это — дело! Ты, девка, молодец! Хорошо придумала. Ну, я пойду погляжу на этого барина.
В палатке, кроме Абибулаева, который лежал на животе, уткнувшись носом в тюфяк, он застал Пулата. Стены палатки трепетали под напором ветра. Пулат, возбужденный, стоял над трактористом. Очевидно, они только что горячо поспорили.
— Ты что здесь делаешь, Пулат? — спросил Савченко. — Иди…
— Зачем — иди? — закричал тот. — Все работают, а он отлеживается…
— Помолчи, — глухо отозвался Абибулаев. — В такой погода хозяин собака жалеет, а ты гонишь…
Савченко вспыхнул.
— На фронте труднее приходится, да не сдаются, стоят насмерть. Ну, что ж, отлеживайся. Как-нибудь обойдемся и без тебя. Пошли, Пулат! — У порога Савченко остановился. — Посмотрел бы ты на Фатиму. Девушка, разве сравнить по силе с тобой, а как работает! Впрочем, тебе и не угнаться за ней. Я бы сгорел от стыда!
Больнее уязвить горячего, самолюбивого Абибулаева было невозможно. Он подскочил на тюфяке, словно его снизу шилом кольнули.
— Что ты меня стыдишь!..
Савченко не дослушал и вышел. Когда-то давно, в молодости ему случалось водить трактор и теперь он решился испытать свое умение. Но едва Савченко успел подойти к трактору, на него сзади налетел Абибулаев.
— Уходи! — закричал он еще издали, весь красный и взъерошенный. — Уходи! — задыхаясь от бега, снова выкрикнул Абибулаев, на ходу вскакивая на трактор. — Здесь мое место!..
— Ты же сказал, что не будешь работать?
— Иди по свой дело. Куда камень доставить?
— Ну, ладно… герой! На крутой поворот. Прокопычу подвезешь.
К ночи ураган немного утих. Дорожники успели укрепить размытый кусок кювета и залатать выбоины. В глубокой темноте, раздираемой ветром, факел на катке Фатимы озарял причудливые выступы скал и усталые, почерневшие лица людей.
Приехал Чернов. Узнав о случае с Абибулаевым, он гневно подумал: «Попробовал бы у меня отказаться! Зимой у Савченко двое каменщиков на лопату перейти не захотели… Д-да… Мягковат наш парторг. Этак он мне всех рабочих распустит». Когда все собрались в палатку, он так отчитал Абибулаева, что тот, чуть не плача, стал просить:
— Не буду, товарищ начальник! Клянусь алла… — запнулся он и загорелся, как кумач.-
Старый привычка, товарищ начальник, — начал он оправдываться под смех товарищей. — Честное комсомольское слово даю… — и, повернувшись в сторону Фатимы, встретил ее насмешливую улыбку и взгляд, от которого готов был сквозь землю провалиться.
Фатима стояла возле столика, улыбаясь каким-то своим мыслям. Большая, колеблющаяся тень от ее тонкой маленькой фигуры падала на стену палатки.
Владимир Константинович взглянул на девушку и ему вспомнилось с каким сомнением отнеслись в управлении к его ходатайству о приеме Фатимы на курсы трактористов, и с каким трудом еще так недавно он отстаивал ее, когда Фатиму хотели забрать у него и перевести на Гульчинский участок. Фатима была не только трактористкой. Она была прекрасным токарем, не раз выручая участок скоростной обточкой деталей.
— Фатима! Почему вы не ложитесь спать? Вы же устали. Завтра рано выезжаем.
— Разве я не остаюсь? Я еще не закончила работу.
— Абибулаев останется вместо вас, а вы поможете в мастерской. Вечером, кстати, побудете на собрании.
От Чернова не ускользнуло выражение радости, вспыхнувшее в глазах у Фатимы. «Ишь, как обрадовалась! — подумал он. — С Исмаилом увидится, соскучилась…» И эта радость чистой девичьей любви коснулась своей теплотой и его сердца.
НА ФЕРМЕ
Несколько часов кряду северный ветер косился над Алайской долиной, свистел и завывал в печных трубах, бился и метался по ущельям, пока, наконец, не принес за собой густую метель. Снег напомнил животноводам, что пора уходить с гор. Скот стали перегонять на зимние пастбища. Целый день раздавалось мычание коров, блеяние овец, которые нескончаемым потоком двигались по шоссе.
Неделю назад, когда овцы стали гибнуть десятками в день, все растерялись. Непонятная эпидемия почему-то свирепствовала только на первом выпасе. На дальних — всё было благополучно.
Заведующий фермой Сарыков был в страшном горе. До сих пор на ферме всё шло хорошо. Прирост молодняка был немного большим, чем в прошлом году. И вдруг всё пошло насмарку. Несколько сот отборных овец погибло. Какая причина? Старик ходил сам не свой. Еще бы! За плечами семьдесят лет! Всё было рассчитано и подготовлено, как всегда, вовремя, а вот не уберег!
Сторож фермы, Джабар Салиев, был чрезвычайно доволен выпавшим снегом. На ферме, наконец, стало непривычно тихо. Скот ушел. С ним ушло и бесчисленное множество забот.
Падеж овец переполошил весь район: приезжал председатель колхоза, комиссия, капитан Мороз… С капитаном Джабар прямо замучился. Всюду ему надо было заглянуть, всё узнать. Под вечер Джабар весь мокрый, вспотевший, уже не в состоянии был двигать ногами. Мыслимо ли, обойти чуть не все пастбища! Пришлось поневоле отстать. Капитан ходил один, без него. Эти военные! До чего же они неутомимы! И сказать им ничего нельзя. Что капитан хотел, зачем всё осматривал? Видать, что-то подозревает…
Теперь Джабар останется на всю долгую зиму полным хозяином фермы. Имущество нм уже принято. Рано утром уйдут и две колхозные машины, ночующие сегодня у них. Машины заберут с фермы оставшуюся часть рабочих, двух студенток-практиканток и последнюю партию масла со склада. Уедет и заведующий фермой.
Главное, Джабар на всю зиму хорошо обеспечен. Хворосту и дров достаточно еще осталось от прошлой зимы. Жена, Саида, заготовила топливо. Корм для кутасов и коз есть. Неприхотливые животные эти кутасы. Их совсем и кормить не нужно. Чуть на дворе забрезжит рассвет, как они уходят далеко в горы, разрывают ногами снег и находят траву. К ночи возвращаются домой.
Есть у Джабара и сено. Колхоз доставил. Не возвращается Джабар с пустой кошелкой и после разноски молока своим покупателям. Корки хлеба, картофельная шелуха, остатки от еды — всё идет на корм скоту. Деньги от продажи молока складываются. Но что молоко! Буза в три раза больше прибыли дает. А Саида умеет варить бузу. Впрочем, тратить деньги некуда да и незачем. У Джабара есть всё, чтобы прожить вдвоем с женой без заботы^ о насущном куске хлеба.
Он, Джабар Салиев, — колхозник, пользуется уважением и доверием. У него есть в самом богатом колхозе свой дом с усадьбой, замужняя дочь, зять-тракторист…
Прошлое?
Э, что о нем вспоминать! О прошлом Джабара знает только Мирза Байбеков, приятель и земляк из кишлака Куги-лель, расположившегося в горах на самой границе с Афганистаном. А Мирза Байбеков теперь большой человек. Он работает председателем кооперации в городе Мургабе. И никому неизвестно, кроме него, Джабара, что Мирза родом из Куги-леля был предводителем басмачевского отряда. А в этом маленьком кишлаке, кроме оставшихся в живых двух-трех старых женщин больше никто не помнит ни о Мирзе Байбекове, ни о Джабаре Салиев. Время, что вода в реке, — всё уносит с собой в море…
Правда, знает кое-что мастер Быков, которого управление дороги перевело недавно с Мургабсксго участка сюда, в Сарыташ. Он теперь на Хатынарте. Но Быков свой человек!
С тех пор, как Мирза Байбеков стал работать в Мургабской кооперации, он зачастил на ферму. Проездом почти всегда ночует. Вот и сегодня пришлось уложить гостя соснуть с дороги на своей кровати, тут же в сторожке за деревянной перегородкой.
— Джабар! Тебя зовут, — оглядываясь на перегородку, тихо сказала жена, входя в сторожку.
— Сейчас иду, Саида. Ты приготовь молоко. Да смотри, чтобы опять голос не попал. Знай, кому молоко приходится носить. Да, вот еще- проснется Мирза, накормишь.
— Что это он привез? Тяжелое такое…
— Цыц! Много будешь знать — последние волосы вылезут. Не женского ума это дело!
Саида укоризненно посмотрела вслед уходившему мужу, поправила платок. «Эти мне мужские дела, одно беспокойство с ними!..»
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Впервые за всё время заведующая детским садом Елена Николаевна освободилась раньше обычного. Хотелось поскорее, управиться с домашними делами, чтобы вечером не опоздать на собрание и после него посмотреть кинокартину.
Детский сад опустел. Едва Елена Николаевна вошла в свою комнату, как постучались. Пришел Джабар, принес молоко.
— Спасибо, Джабар. Поставьте кувшин на окно.
— Разве заведующая не идет в кино? Очень интересное, говорят, кино… Наверно, все там будут?
— Как же, пойду попозже. У нас давно не было кино, — сказала Елена Николаевна.
— Сам начальник участка, наверно, пойдет. Говорят, он очень любит кино.
— Возможно, и он будет…
— И партийный начальник тоже ходит в кино? — не унимался Джабар. — Он, кажется, вернулся с Кизыларта?
— Савченко? Да, вернулся. — Елена Николаевна взглянула на любопытного сторожа.
Поймав на себе пристальный взгляд, Джабар наклонился и поднял с пола кошелку. «Белая, полная, волосы светлые, как созревший ячмень. Не такая, как моя Саида, сухая… А глаза, ах, глаза!..» И Джабару представилось его лоскутное одеяло на вате, шитое руками Саиды. Как раз посредине красовались два кружочка в чёрных обводах. Они были необыкновенно красивого зеленого цвета. Джабар всегда любуется ими перед тем, как заснуть. Вот такие глаза у заведующей…
— Сам хотел пойти в кино. Нельзя ферму оставить.
И низко поклонившись, Джабар ушел.
«Странный человек и странные расспросы», — подумала Елена Николаевна, но через минуту она уже забыла о стороже и с удовольствием пила свежее молоко, забравшись на диван и по-детски поджав под себя ноги.
Она любила свой уголок — маленькую комнатку при детском саде, привыкла к этому шкафу с книгами, и к своей узенькой беленькой кровати, и к чахлому кактусу в глиняном горшке, стоявшему в углу возле стола.
Год назад она вошла сюда с одним чемоданом в руках. В нем было всё ее имущество, которое удалось увезти с собой. Среди вещей в чемодане хранились сберегаемые, как святыня, детское платьице дочери, погибшей во время бомбардировки, и последнее письмо мужа, пересланное ей уже его товарищем. Это всё, что осталось у нее от разрушенной войной семьи, самое дорогое…
Теперь, через год, острота горя уже притупилась. Работа в детском садике отбирала много времени. Размышлять особенно было некогда. И только оставаясь одна, она доставала из чемодана дорогие ей вещи и, глядя на них, уносилась мыслями туда, где когда-то было ее счастье…
— Елена Николаевна! — послышалось за дверью. — Где же вы?
В комнату быстро вошла врач участка Елизавета Хобта, молодая женщина в беличьей шубке. На лице вошедшей бросалась в глаза беззаботная улыбка. Нос с горбинкой тонкого рисунка и черные волосы делали ее похожей па цыганку. Смеющиеся глаза под цвет волос, казалось, не умели быть грустными.
— Что же вы сидите? Мы опоздаем! — напустилась она на Елену Николаевну.
— Не знаю, идти или нет… Я так устала.
— Вот еще глупости! Голова болит? Порошок дать? Надо пойти хоть людей посмотреть. Скучища адская. Вы знаете, Чернова уезжает в Ош, на всю зиму… Давайте проучим ее, поухаживаем за Владимиром Константиновичем!
— Не понимаю я эту женщину… Увезла ребенка, теперь уезжает сама, — пожала плечами Елена Николаевна.
— И вдобавок кокетничает со всеми мужчинами, — прибавила Хобта. — На днях я видела ее с капитаном Морозом. Интересный мужчина, правда?
— С капитаном Морозом? — спросила Елена Николаевна и, чтобы скрыть свое смущение, поднялась с дивана, подошла к настольной лампе и не торопясь стала распутывать шнур.
Капитан Мороз был с Лидией Львовной?
— Что вы там возитесь с лампой? Этак мы точно опоздаем!
Елена Николаевна подошла к вешалке и машинально начала одеваться.
Капитан Мороз! Почему, услышав его имя, она не может оставаться равнодушной? Почему даже мимолетная встреча с ним ее волнует? Это началось чуть ли не со дня ее приезда в Сарыташ. Хоть поначалу она ничего не замечала.
Тогда тоже была зима. Сугробов нагромоздило- горы! Машина спускалась в Сарыташ, а по обе стороны шоссе стеной лежал снег. Она так перемерзла, что когда машина остановилась, не в состоянии была шевельнуть ногой. И вдруг… чьи-то сильные руки подхватили ее и поставили на землю. Подняв глаза, она увидела перед собой военного. Застывшими от холода губами она еле прошептала: «Спасибо!»
Потом… потом это было летним утром. Проезжая мимо детского сада, капитан придержал коня. Вся детвора хлынула к калитке. Ребята половчее взобрались на забор, кричали, наперебой звали дядю капитана» и, еле доставая руками, пытались погладить коня. Капитан подхватил одного мальчугана и посадил к себе в седло. «И меня, и меня!»-закричали все в один голос. Она, чувствуя, как забилось ее сердце, снимала озорников с забора, с трудом скрывая свое смущение и не глядя на него. А когда Мороз, склонившись, передавал ей мальчика — их глаза встретились и Елене Николаевне показалось, что он особенно крепко пожал ее руку…
С тех пор она не может не думать о нем.
ПОЖАР
Возле дома Черновых стояла легковая машина. Лидия принимала гостя.
Дорогой японский халат сиреневого цвета, в больших темно-желтых разводах, изящно облегал ее стройную фигуру. Пышная прическа открывала красивую шею.
Заместитель начальника управления дороги Казаков, сухой, с чуть горбатым удлиненным носом и тонкими губами, придававшими его лицу хитрое выражение, сидел напротив хозяйки дома за столом и небрежно мешал ложечкой чай в стакана И словно не собственные, а с чужого лица были его темные, с поволокой глаза, немного навыкате, бычьи, как определил их Чернов: «Такие нравятся женщинам»…
Гость не спускал с хозяйки восторженных глаз, говорил комплименты и Лидия Львовна, польщенная вниманием, разрумянилась, повеселела и оживленно поддерживала разговор.
— Что вы, что вы, Алексей Иванович! Наоборот, мне кажется, что я похудела. Здесь от тоски можно известись…
— Я говорю это совершенно серьезно: с тех пор, как мы не виделись, вы удивительно похорошели, Лидия Львовна! Это сколько же? Наверно, месяца полтора прошло?
— Да. Помнится, мы виделись последний раз в театре, — Лидия Львовна вздохнула.
— Я вас понимаю… Скучаете по городу? А у вас нет возможности чаще навещать его?
— Ах, Алексей Иванович, вы не знаете Володю! Ему не нравится, когда я уезжаю.
— М… да, конечно, мужья не любят отпускать из дому своих жен, — засмеялся Казаков. — Это народ ревнивый…
Лидия Львовна поправила коротенькие крылышки рукава на плече.
Казаков скользнул взглядом по ее фигуре. «Хороша, да, хороша»… — подумал он.
— Нет, мне кажется не потому, — отвечала Лидия на его шутку. — Он просто привык сознавать, что жена ждет его, что жена встретит его, что ей некуда выйти…
— Как боярыня в терему, — снова засмеялся Казаков и, став вдруг серьезным, спросил:
— А скажите, Лидия Львовна, вы бы переехали в город?
— Не понимаю…
— Совсем, жить в городе. Если бы мы предложили Владимиру Константиновичу…
Лидия поняла. Смутная надежда на возможность переезда в Ош радостно взволновала ее.
— Я была бы счастлива… Право…
Он смотрел на нее в упор. Эта женщина ему чертовски нравилась! Еще до ее замужества он пытался ухаживать за Лидией и она была довольно благосклонна к нему. Во время ее поездок в Ош они почти всегда виделись. Ее родители были хорошими его знакомыми. Он бывал в доме Роговых. Но планы его шли дальше. Вакантная должность начальника техотдела управления при его, Казакова, усилии была уже предназначена Владимиру Константиновичу. А начальнику техотдела частенько приходилось бывать в длительных разъездах, это тоже неплохо.
Казаков сообщил о возможном назначении Чернова.
Это было бы замечательно! — воскликнула Лидия, но тут же помрачнела. — Только согласится ли Владимир…
— Но почему же? Это ведь повышение по должности, и оклад гораздо больше, — говорил своим мягким, вкрадчивым голосом Казаков. — Жить в городе, работать начальником техотдела… Какой смысл сидеть в этой дыре?
— Я поговорю с ним! Мне так надоели эти бесконечные поездки… Мы даже поссорились. Видите ли, Владимир советует мне найти работу в Сарыташе! А что я буду тут делать? — пожала она плечами.
— Полноте, Лидия Львовна! Владимир Константинович, конечно, пошутил. В самом деле, что вам здесь делать? А вы знаете, в городе у нас сейчас на гастролях оперный театр из Фрунзе. Прекрасно играют! Да, вот еще… виделся с вашей мамашей, соскучилась, повидаться хочет…
— Я, очевидно, завтра, в крайнем случае, послезавтра поеду.
— Завтра? — встрепенулся Казаков. — Так позвольте, Лидия Львовна, чего же лучше! К вашим услугам легковая машина и ваш покорный слуга! — приложил он руку к сердцу. — Возвращаюсь в Ош, подвезу.
— В самом деле…
— Владимир Константинович в конторе?
— В клубе. Там сегодня собрание, потом, кажется, кино…
— Собрание? Вот и хорошо, — поднялся Казаков из-за стола. — Я пойду, поговорю с Владимиром Константиновичем по делам, а заодно и насчет места, которое ему предлагает Управление. А вы уж, Лидия Львовна, — подходя к ней и целуя руку, прибавил он, — со своей стороны…
И, многозначительно улыбнувшись, Казаков ушел.
Лидия Львовна тяжело опустилась в качалку. Закинув руки за голову, она задумалась над предложением, сделанным Казаковым.
Вернуться в город, где у ее родных такая большая квартира, все удобства. Место для Владимира не ново, он уже там работал; там — общество, театр… а, главное, не будет этих упреков и неприятностей из-за дочери.
— Ах, как я от всего этого устала! Как мне всё это надоело!
Она лениво потянулась, взяла в руки подушечку, провела пальцами по вышивке, отбросила ее в сторону и, не зная, чем заняться, встала и подошла к окну.
Из глубины двора, где- возле клуба горели огни, доносился глухой шум людских голосов и обрывки песни:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек…
Это киномеханик завел радиолу.
Клуб постепенно наполнялся людьми. Весть в том, что сегодня состоится собрание, а после него — кино, быстро облетела весь участок. Женщины, освободившись от домашних дел, пришли с детьми. Дети бегали по всему залу. От их звонкого смеха и криков нельзя было разобрать слов. В стороне, сдвинув два стола вместе, разместились болельщики домино.
Фатима волновалась. Ведь сегодня секретарь парторганизации Савченко будет говорить, как они работали. Потом придется выступить ей. А сказать есть о чем.
До начала собрания оставалось немного времени и Фатима решила забежать на минутку к Исмаилу. Он сейчас дежурит па электростанции.
Возле склада она столкнулась с отцом.
Ты куда так торопишься, дочь моя? Разве тебе на собрании не нужно быть?
— Книжечку и карандаш забыла, отец! Наверно, выступать буду, а сейчас…
— Так-так, — проговорил старик. — Беги, беги… А про себя подумал: «Ишь ты, карандаш! Ишь, за карандашами так прытко не бегают».
Сторож Бакир Кулатов, высокий, худощавый старик лет шестидесяти пяти, отец Фатимы, в теплом полушубке и мохнатой овечьей шапке, обходил участок.
Бакиру очень хотелось пойти на собрание и послушать, как будет выступать его дочь. Но с поста ведь не уйдешь. И, с сожалением покачав головой, старик пошел дальше.
Невдалеке на пригорке раздавалось мерное чоханье дизеля электростанции.
«Молодец Исмаил, сам мотор исправил, — механик не сумел, а он исправил, — рассуждал Бакир. — Всё книжки читает, учится. Умная голова. Зятем видно будет, хе-хе! Скрывают, думают, отец не видит. Отец всё видит! Вот только в армию ему скоро. Какая свадьба — одни слезы».
Обходя большой камень, черной глыбой торчащий посреди двора, Бакир остановился. Этот камень всегда вызывал в его памяти одно и то же воспоминание.
Полвека назад богатый бай, у которого отец Бакира и он сам служили пастухами, до полусмерти захлестал плетью его отца вот здесь, у этого несуразного камня.
Но Бакир отомстил баю. Однажды, собрав всё стадо со склонов Алая, он с тремя другими пастухами погнал его далеко в горы. Полторы недели гнали огромное стадо бая. О! Бакир знает дороги, знает трудно проходимые тропы в горах. Там, на чужой земле; в Кашгарии, они бросили стадо на произвол судьбы, а сами после месяца скитаний добрались до города Верного и поступили на кожевенный завод. Там Бакир женился, там и застала его революция. Много воды утекло с тех пор. Многое переменилось в его краю…
…На невысокой сцене за столом президиума сидел Чернов, рядом с ним — Савченко. Настроение Владимира Константиновича было вконец испорчено разговором с Казаковым. «И чорт его принес как раз к такому собранию!». Поглядывая на Казакова, сидевшего в первом ряду в непринужденной позе, Чернов еще больше раздражался самодовольным, развязным видом этого человека. «Расселся, как у себя дома! Рисуется… Что это им вздумалось перетаскивать меня в техотдел?..»
Вступительное слово сделал Чернов. Сообщение о том, что за хорошую работу дорожников переходящее красное знамя и в этом квартале остается за участком Сарыташ, было встречено шумными рукоплесканиями.
С докладом о работе и подготовке участка к зиме выступил Савченко.
Фатима немного опоздала и примостилась в задних рядах, близко около дверей. Уж этот Исмаил, от наго так скоро не уйдешь. И не держит, а уходить не хочется. Возле мастерской почти налетела на мастера Быкова, который разговаривал с каким-то незнакомым ей человеком.
— Вы разве не идете на собрание? — спросила Фатима.
У Быкова сначала было почему-то злое выражение лица, но потом он очень мило улыбнулся и торопливо сказал:
— Как же, как же, конечно пойду!..
Отсыревшая входная дверь была плохо прикрыта, оттуда дуло. Фатима тихонько встала и подошла, чтобы ее закрыть, и вдруг в ужасе посмотрела на небо. Оно было освещено красным заревом. Не успела девушка сообразить, что случилось, как из глубины двора донеслись крики. Кто-то размеренными, методичными ударами бил по рельсу и в воздухе плыли тревожные дребезжащие звуки.
— Пожар!.. — в одно дыхание пронеслось по залу.
В дверях мгновенно образовалась давка. Савченко старался перекричать шум:
— Спокойствие, товарищи, спокойствие!..
Скирды сена горели, как свечки. Огромные языки пламени со свистом и треском взметывались к небу и угрожали переброситься на коровник и стоявший чуть поодаль продовольственный склад.
— Тащите ведра! — крикнул Чернов. — Воду из речки, живее!
Рабочие кинулись оттаскивать уже начавшие тлеть дрова. Бревна были горячие, шипели и обжигали руки.
Елена Николаевна задыхалась. От дыма першило в горле. Она уже несколько раз бегала на речку и оттуда с ведром воды к огню. Ноги не держали ее. Она прислонилась к коровнику передохнуть. Деревянные стены были горячие и могли воспламениться. А ведь там коровы.
В суматохе Бакир потерял ключ и теперь безуспешно пытался сбить булыжником огромный замок.
Елена Николаевна выплеснула ведро воды на угол крыши. Животные истошно мычали и метались внутри коровника. Ах, если бы огонь был ближе к реке, оттащить его!
Мгновенно вспомнилось детство, пожар… и она, бросив ведро, кинулась туда, где распоряжался Чернов.
— Владимир Константинович! — закричала Елена Николаевна. — Трос, понимаете, трос! Взяться за два конца, перерезать скирды, оттянуть к реке, понимаете?
Да. Он понял. Трос, к счастью, разыскали быстро. Несколько человек взялись за оба конца. В середине троса укрепили три лома. Опоясали крайний стог, стоявший ближе всех к коровнику. Верхняя половина пылающего стога сдвинулась и свалилась по уклону вниз, к речке. Десятки ведер выплеснули на нее воду. Горячее сено зашипело, задымилось.
Огонь утихал, неохотно уступая людям свои позиции.
Елена Николаевна вместе с Варей Савченко продолжали работать. От намокшей одежды поднимался пар. К ним подошел Чернов. Крепко сжав руку Елены Николаевны, он горячо поблагодари ее.
— Не знаю, что и сказать вам. Утерли вы нос нам, мужчинам.
И в эту минуту увидел жену. Лидия стояла неподалеку в накинутой на плечи шубке, испуганная и возбужденная- Ома быстро подошла.
— Какой ужас! Володя, отчего оно загорелось!
— Этого я пока не знаю, — сухо ответил Чернов. — Ты иди… Уже потушили, — добавил он с раздражением.
Ему неприятно было смотреть на чистенькую жену в длинном японском халате под шубкой рядом с измученными Варей Савченко и Еленой Николаевной.
Лидия постояла в нерешительности. Она видела, что делать ей здесь нечего, но желание узнать, что скажет Владимир по поводу предложения Казакова, взяло верх и, уже шагнув назад, она спросила:
— С тобой Казаков говорил?
Владимир Константинович грубо крикнул, не в силах сдержать себя:
— Что говорил?! О чем говорил?!. Никуда и не собираюсь уходить из Сарыташа, так и знай…
— И, круто повернувшись, пошел к группе рабочих.
— Ты думаешь только о себе! — сорвавшимся голосом воскликнула вслед ему Лидия.
Врач Елизавета Хобта перевязывала обожженные руки Исмаилу.
Примчалась Фатима. На глазах у нее стояли слезы.
— Исмаил!
Она потянулась к нему, забыв, что кругом люди.
— Ай, ай, ай! Как буду работать? Как буду помогать тебе завтра точить части? — сокрушенно мотал головой Исмаил.
— Тебе больно, Исмаил?!
— Тебя не было — больно было. Ты пришла — не стало больно, — смеялся Исмаил.
Он взглянул на расстроенное лицо девушки и в самом деле перестал чувствовать боль…
С той минуты, как Байбеков впервые переступил порог сторожки, Джабар потерял покой. Разговоры за шипучей бузой всколыхнули воспоминания о давно минувшем, о родном кишлаке, в котором Джабар не был много, много лет. Потом Байбеков намекнул на их тесную, кровную связь и напомнил, что Джабар должен быть во всем послушен ему, Мирзе, как в те славные, боевые времена…
Теперь каждый приезд Байбекова вызывал тревогу и беспокойство. Джабар старался поменьше попадаться Саиде на глаза, но разве можно скрыть что-нибудь от собственной жены? Она сразу разобралась в его переживаниях.
— Джабар, — сказала она. — Чего нам недостает? Побереги свою старость. Не думай о том, чего у нас больше нет…
Джабар ничего ей не ответил и отошел прочь. Слова жены только сильнее смутили его душу. Прошлое властно напоминало о себе Не всё у Джабара покончено с этим прошлым, и он слепо пошел по опасному пути вслед за Байбековым.
Перед вечером Мирза пошел на участок поговорить о делах. Так он сказал…
Когда Джабар услышал звуки набата, а окно сторожки озарилось светом пожара, он вскочил и выбежал во двор. От страха у него дрожали и подгибались ноги. Но не пожара испугался Джабар… Он направился было туда, где полыхало зарево, но его догнала и остановила перепуганная Саида.
— Куда ты, Джабар? — удержала она его за рукав. — Там и так полно народу. Чем ты там поможешь?
Джабар покорился. Они стояли на краю каменного выступа и молча наблюдали за пожаром, пока огонь не стал утихать.
На тропинке показались возвращающиеся на ферму люди. Байбеков подошел, тяжело дыша.
— Несчастье, Джабар! — громко сказал он, переводя дыхание. — На участке сгорели чуть ли не все запасы кормов. Трудно будет им теперь в зиму…
Потом они сидели вдвоем за столом и пили вкусное теплое молоко. Байбеков поставил пустую кружку, вытер рукавом губы и сказал:
— Как я ни устал, а отнести это надо. Я всё сам сделаю, а тебе, Джабар, останется немного: послезавтра обязательно увидишься с Быковым. Ты понял меня? Послезавтра…
Мирза вытащил из-под кровати небольшой, но тяжелый чемодан.
— Вернусь, может быть, поздно, — предупредил он и ушел.
Джабар сидел, понурив голову.
Вот оно, уже началось, самое страшное! Теперь отступать невозможно. Когда они с Мирзой скакали на горячих конях по кишлакам, то там, в горах, они были полные хозяева. Сейчас — совсем другое время. Нужно быть осторожным. Как было хорошо и спокойно все эти годы. Теперь каждую минуту будь начеку, бойся людей, не смотри им в глаза… Когда-то было легко скрывать свои следы, а теперь — ох, как трудно…
Джабар схватился за ворот стеганого халата, ему стало вдруг душно. «Шайтан побрал бы этого Мирзу. Откуда он взялся на мою голову!..»
ПОСЛЕ ПОЖАРА
Савченко видел, как отброшенное кем-то в сторону бревно ударило по ноге его жену. Он подбежал, когда ее подняли с земли. Варя не могла ступить на ногу. Осторожно поддерживая жену, Савченко повел ее на пригорок, где возле глухой стены склада Елизавета Карповна бинтовала Исмаилу руки.
— Эх! Как же это тебя, Варюша, угораздило! Очень больно?
— Нет, нет, ничего!..
— Опирайся крепче.
Серьезного ничего не оказалось. Савченко помог жене дойти до квартиры, уложил в кровать и, нежно прикоснувшись рукой к ее волосам, сказал:
— Ну, Варя, я должен вернуться туда. Ты уж извини. Постарайся уснуть.
Варю всегда трогало заботливое отношение мужа. Они были уже немолоды. Отечественная война застала их в Донбассе. В первых же боях Савченко был ранен и направлен в тыл. Не успели обосноваться в Харькове, как пришлось эвакуироваться дальше. Почти три месяца мытарств — и вот они на Памире. За всю совместную жизнь они не знали, что такое ссора. Савченко всегда был чутким, отзывчивым, нежным…
Варя открыла глаза. Нога болела меньше. Со двора долетал еще шум голосов и в окно были видны отсветы утихающего пожара.
Варя хотела было встать, чтобы приготовить ужин, но почувствовала, что смертельно устала.
«Отчего случился пожар? Отчего так тревожно стало в последние дни?» — уже засыпая, думала она.
На месте пожарища осталась большая груда золы, среди которой то тут, то там вспыхивали и мгновенно гасли искры. Несколько рабочих были оставлены на дежурство. Они заливали водой кое-где тлеющие угли. После пожара ночь казалась особенно темной. Усталые от необычного напряжения люди разошлись.
Исмаил шел, и сердце его ликовало. Несмотря на сильную боль в руках,
несмотря ка пожар, который он воспринял, как большое несчастье, сердце его готово было выскочить из груди. С той минуты, как Фатима, увидев его с забинтованными руками, кинулась и обняла его, это сердце положительно не давало ему покоя. Руки его были забинтованы, он ничем уже не мог помочь, однако метался вокруг пожарища, стараясь быть поближе к Фатиме. Не зная, куда девать свою энергию, он раз десять забегал на электростанцию, внимательно следил за приборами, прикасался забинтованной рукой к дизелю, выслушивал мотор и удовлетворенный снова мчался туда, где боролись с огнем люди.
Теперь, когда всё кончилось и ночь поглотила последние искры огня, Исмаил вернулся к себе на электростанцию и, хотя путь к ней можно было избрать более короткий, он всё же решил пройти мимо дома Бакира Кулатова.
В доме горел свет и в окно было видно большую часть комнаты.
Угрюмый Бакир сидел на деревянном топчане, служившем ему постелью, — Фатима на низенькой скамеечке. Они о чем-то разговаривали. Бакир погрозил дочери пальцем, а Фатима вдруг в смущении закрыла косынкой лицо.
Если бы эта ночь длилась вечно и не надо было идти на электростанцию, Исмаил не шелохнулся бы, так он был счастлив. «О ком это они говорят? — думал он. — Уж не обо мне ли?»
«Ах, как нехорошо подглядывать в чужие окна, — спохватился вдруг Исмаил и сделал шаг в сторону. — Даже если там сидит любимая девушка?» — нерешительно прибавил он.
А в это время Фатима вспоминала случай в Оше. Она тогда училась на курсах трактористов. Исмаил временно работал в мастерских при Управлении. В воскресенье они пошли в сад. Гуляя, вышли к реке Ак-буре и пошли вдоль берега. Это было солнечным утром в начале лета. Город утопал в яркой зелени. Река шумела среди камней, неся с гор мутные ледяные воды талых снегов.
Они поднялись по крутой насыпи на мост и услышали крики. Большая, тяжело груженная арба, на которой сидела старуха с двумя детьми, на спуске к реке зацепилась за столб и накренилась, готовая вот-вот свалиться. Исмаил подбежал к ней, подставил свое могучее плечо под арбу и выровнял ее. Сильный он!
— Я, Бакир Кулагов, плохо сторожил эту ночь, — прерывая ее мысли, произнес удрученно старик.
— Зачем так говоришь, отец! Все знают, что ты честный работник.
— Нет, Фатима! Плохо твой отец сторожил, о другом думал, — сокрушался старик. — Как смотреть завтра в глаза людям буду?!
— Успокойся, отец! Завтра всё расследуют, найдут виновного.
— Так-так, — поднимаясь, грустным голосом проговорил старик. — Пойду, обойду еще раз участок.
Чернов не спал. Нервное возбуждение после пережитых событий этой ночи мешало уснуть. Приезд Казакова, разговор с ним, собрание, пожар — всё это с новой силой вставало перед ним.
Почему место начальника техотдела предложили именно ему? Ведь все в Управлении знают, что он не любит кабинетной работы и сам попросился на участок. Работать непосредственно с людьми на производстве для него дороже всякого повышения. И потом этот Казаков, неприятный какой-то человек…
А тут еще пожар. С каким трудом заготовляли сено… В своих людях он уверен. Однако, не мешало бы разобраться, что это: неосторожность или умышленный поджог? Жалко старика Кулатова, а придется наказать.
Проснулся Владимир Константинович с тяжелой головой и когда вышел во двор, солнце уже поднялось над гребнем гор. С крыш капало. У стен домов на солнечной стороне с оттаявшей земли поднимался пар.
К Чернову подошел доктор Крымов, солидный, полный мужчина в больших роговых очках. В разговоре Владимир Константинович узнал, что тот вызван из Оша на заставу к капитану Морозу.
Они подошли к складу, возле которого стояли Казаков и Савченко. Чернов сдержанно поздоровался.
Савченко раскраснелся и расстегнул ворот ватной куртки — так припекало.
— Что, пригревает? — спросил доктор. — Здесь и зимой можно загореть, как на курорте. Удивительный край! Вы в Джилянде бывали?
— Проездом. Ведь я здесь недавно.
— Советую побывать и искупаться зимой на открытом воздухе в речке. Получите большое удовольствие!
— То есть, как это в речке, зимой? — удивился Савченко.
Казаков и доктор рассмеялись. Савченко смотрел на них непонимающе.
— Вы вот послушайте, как это было в первый раз со мной, начал доктор. — Как-то мне пришлось выехать зимой в кишлак Ак-тай-ляк,
Только мы спустились с уклона, вблизи Джилянды, как что-то случилось с машиной. Не то в карбюраторе, не то с зажиганием что-то разладилось — не помню, но, как это бывает у шоферов, стоп, остановились! Ну, ничего не поделаешь, встал я и пошел к начальнику участка. Тогда там Викторов был, помните, Владимир Константинович? Ярый охотник. Конечно, с радостью принял, в горах всегда рады свежему человеку, затащил к себе. А я, знаете, в горах уже больше недели пробыл, помыться захотелось. «Тазик бы мне да воды теплой, хоть лицо, шею, руки освежить», — говорю ему. Он молча снимает мохнатое полотенце, подает мне мыло и приглашает во двор. «Вот видите, дорожка пошла через речку Токуз-булак? Перейдете мостик и потом по той же стороне шагов через двести можете выкупаться, мое почтение!» Я так и вытаращил на него глаза. Смеется он надо мной, что ли? А он:-«Только осторожно-воду попробуйте, не обожгитесь!». Пошел я. Подхожу к этой самой речке. Вид, знаете ли, как на картине Судковского: горы, вокруг снег, над речкой пар стелется… Серой запахло. А солнце — так и жжет! Из трещин в скале ручейки выбегают, собираются в лужицы, из них — в речку. Я ткнул пальцем, интересно же! Да как вскрикну — кипяток! Вот так попробовал! Чуть палец не обварил. Ну-ка, батенька, думаю себе, это ты подшутить изволил! Даже рассердился было, что время потратил. Смотрю, чуть ниже бережок сухой. Пошел. Песок теплый, даже горячий. Присел. Жарко стало. Сбросил я с плеч полотенце, шапку, потом и пальто снял. Тепло. Что ж сидеть! Дай хоть лицо вымою. И знаете, что получилось? Вода — как шелк! Горячая, чистая, что слеза. Стал я снимать с себя барахлишко, остался в чем мать родила и полез в эту самую «ванну»! Выкупался, носки освежил, платок носовой, на песке погрелся. Над горой тучка проходила, снежок пошел редкий, крупный. То на плечо упадет снежинка, то на спину. Изумительно! Курорт! Просто от души советую побывать там., Вот какие тут, на крыше мира, чудеса бывают! Экзотика.
Словоохотливый доктор закончил свой рассказ как раз в ту минуту, когда Чернов уже начал терять терпение. Его ждали дела.
— Ну, что же, пойдемте, Владимир Константинович! — сказал Казаков. Мне пора ехать. Лидия Львовна, наверно, уже готова.
Они молча пошли рядом и у каждого из них не было никакого желания начать разговор первым.
У дома уже стояла легковая машина. Лидия суетилась, заполняя ее свертками, узелками, какими-то банками. Она как раз вышла на крыльцо с тяжелой корзиной, которую еле удерживала в руках.
«Опять — посылки. И когда она успела все это приготовить!» — с досадой подумал Чернов.
— Лида! Зачем ты так загрузила машину? — недовольным тоном спросил он. И только хотел помочь ей, как его опередил Казаков.
— Нет, нет! Ничего, услужливо подхватил он корзинку: — Это мне нисколько не помешает.

Чернов вошел в дом. Внешне безучастно он наблюдал, как деятельно Казаков помогает собираться в дорогу его жене.
С горечью смотрел Владимир Константинович на возбужденное веселое лицо Лидии. Она была уже не здесь…
— Как ты думаешь, Володя, надеть мне боты? — беззаботно спросила она мимоходом и это было всё, о чем она нашла нужным посоветоваться с ним.
От глаз Чернова не ускользнуло, каким взглядом окидывает Казаков его жену. «Ишь, каким фертом вертится!» — неприязненно подумал он. Ему было противно смотреть на самодовольную, предупредительную улыбку этого человека, на его приторную вежливость, смотреть, как он надевает перчатки, обтягивая каждый палец; неприятно, как он всё время касается Лидии, принимая от нее свертки. Когда Лидия на минуту оставила их одних, Казаков изучающе глянул на Чернова.
— Владимир Константинович! Кроме докладной о пожаре, вы больше ничего не передаете начальнику дороги? — любезным тоном спросил он.
— Я просил бы подбросить нам сена.
— А может быть, вы всё-таки подумаете о предложении…
— Я уже сказал вам: мое нынешнее место меня удовлетворяет, — сухо ответил Чернов.
— Что ж дело ваше, растягивая слова, проговорил Казаков. — Смотрите, не прогадайте…
Чернов не ответил, вынул папиросу, закурил. Отсюда, где он сидел на диване, была видна часть спальни, туалетный столик, лицо Лидии, разгоревшееся, оживленное… Да, она красива. Ей радостно сейчас, что она уезжает. Уезжает на всю зиму. В своей белой пушистой шубке она кажется совсем юной. И Владимир Константинович на мгновение увидел в ней прежнюю Лиду…
Тогда был осенний прохладный вечер. Они вдвоем сидели на маленьком деревянном крылечке. На ней была накинута белая шубка и Лида зябко поводила плечами. И, как всегда, чуть насмешливо, но с какой-то неловкой улыбкой ома тогда сказала:
— Ты, может быть, не поверишь, по я еще никогда не любила.
— А меня? — спросил он, привлекая ее к себе.
Она высвободилась, положила руки ему на плечи и посмотрела прищуренными, смеющимися глазами.
Тебя? Тебя я люблю, как сумасшедшая! — И, засмеявшись, спрятала лицо у него на груди и долго не хотела поднять его.
А когда ом, с ласковой настойчивостью, откинул ее голову и заглянул ей в глаза, Лида была по-девичьи смущенная и счастливая! Да, тогда они были очень счастливы на том деревянном расшатанном крылечке. С тех пор это ощущение не повторялось никогда. Никогда больше Лидия не говорила, что она любит его, как сумасшедшая, и никогда больше не было у нее такого лица…
Может быть, он сам в этом виноват? Очерствел, привык к их сдержанным, холодноватым отношениям, сам никогда больше не говорил жене нежных слов?..
Лидия вышла из спальни. От нее пахло духами. Все втроем они сошли с крыльца к машине. Чернов снял с шубки прицепившуюся черную нитку и посмотрел на жену долгим, грустным взглядом.
— Тебе не будет холодно? Надела бы пуховый платок.
— Нет! Мне жарко, — возбужденно воскликнула она.
— Не беспокойтесь, Владимир Константинович. Я полностью отвечаю за доставку вашей супруги в целости и сохранности. Можете положиться, — расшаркался Казаков.
Чернов не взглянул в его сторону.
— Садитесь, Лидия Львовна! — раскрыл дверцу Казаков.
— Лида, ты, может быть, забыла что-нибудь в комнатах? — спросил Чернов, посмотрел жене в глаза.
— Нет, всё здесь, — сказала она, усаживаясь в машину.
Он думал, что Лидия догадается, войдет с ним на минуту в дом, чтобы попрощаться наедине. «Уезжает, с таким легким сердцем… Нет. Не любит она…» — горько усмехнулся про себя Чернов.
Лидия подала руку. А когда он, задержал ее, заглянул в глаза, она потянулась к нему, подставляя щеку. Владимир Константинович поцеловал ее и, выпрямившись, сказал:
— Ну… вот, значит.
— Что же ты привета не передаешь папе и маме?
— А? Да, да, конечно. Талочку крепко поцелуй за меня… — с оттенком грусти проговорил он.
А когда машина тронулась, он быстро сделал несколько шагов ей вслед и остановился, опустив голову.
«Ну, вот ты один теперь, как старый бобыль…» И, не заходя в свою квартиру, Владимир Константинович побрел к конторе.
САВЧЕНКО СТАНОВИТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
Утром Бакир решил убрать следы пожара. Он чувствовал себя виноватым в случившемся и потому хотелось поскорее навести во дворе порядок. Попробовал было вытащить одно обгоревшее полено, но не смог-верхние крепко прижали его к ряду. Бакир стал тащить другое, оно подалось, но где-то зацепилось сучком.
Наконец старик его вытащил. И вдруг, на куче осыпавшейся с бревен корыте тронутой пожаром, он увидел выкрашенные в красный цвет спички. Их было две штуки, одна из них сломанная.
Как будто кто ударил по голове, так зазвенело и застучало в висках Бакира. Наклонился, поднял… Уж не злоумышленник ли уронил в темноте?
Старик держал найденные спички на ладони так, будто они жгли кожу. Вытащил из кармана старенький цветной платок, бережно завернул в него находку и чуть не бегом поспешил в контору.
В дверях он столкнулся с Савченко.
— Товарищ парторг! — взволнованно сказал Бакир. — Вернитесь-ка на минутку. Важное дело есть.
Они вошли в контору и Бакир осторожно развернул свои платок. Савченко увидел две ярко-красные спички.
— Что это? — не понимая еще, что за ценность могут представлять эти две спички, спросил он.
— Нашел, товарищ парторг.
— Где нашел?
— Там, — кивнул головой Бакир в сторону пожарища.
Лицо у Савченко сразу стало озабоченным.
— Вот как! На участок, кажется, таких спичек не привозили-
— Нет, товарищ парторг.
— Так, так… Спасибо, Бакир. Это очень важно, но пока об этом никому говорить не надо.
Выйдя из конторы, Савченко быстро прошел к складу.
— Послушай, Мухтар? — спросил он кладовщика. — Мы получали когда-нибудь крашеные спички?
— Крашеные спички? — удивленно переспросил Мухтар. — Получали. Желтые. Прошлой зимой, кажется.
— А теперь, недавно?
— Нет. У нас только простые. Но когда я был с начальником в Оше, на базе отпускали красные…
— Красные?
— Ну да, красные, У начальника прикурить нечем было, ему одну такую коробку завскладом дал.
«И у начальника такие. Фу ты, чорт! Дело запутывается», — с досадой подумал Савченко.
— А ты не знаешь, кто тогда получал на базе такие спички?
— Постой. Савченко, что ты меня всё про спички спрашиваешь? — Кто получал, кто не получал! — заартачился Мухтар, недовольный тем, что его оторвали от дола.
— Погоди… Не горячись. Припомни, кто получал такие спички. Раз спрашиваю — значит надо.
— Такие спички? Управлению отпустили, Мургабский участок получил… Потом, кажется, Хорог. Да вот шофера приезжали, останавливались на ферме, тоже такие спички видал!..
— Ну, хорошо, Мухтар. Я тебя вот о чем попрошу: ты о нашем разговоре не болтай!..
Кладовщик от удивления открыл рот да так и застыл, глядя вслед удаляющемуся Савченко.
«Я, кажется, превращаюсь в незадачливого следователя. Может, лучше просто сообщить куда следует? Да, чорт его знает, вдруг всё эго окажется безосновательным: две обыкновенные спички. Еще засмеют…» — так думал Савченко, поднимаясь по косогору на ферму. В сторожке он застал только жену сторожа.
Саида в первую минуту растерялась, когда дверь неожиданно открылась и на пороге появился парторг участка, но потом, смахнув с табуретки пыль, предложила сесть.
— Джабара нет дома?
— Он на складе. Убирает. Позвать?
— Пожалуй, позовите!
У Савченко мелькнула было мысль поговорить с женой сторожа. Женщины более разговорчивы, могут иногда сболтнуть лишнее. Но тут же раздумал — хотелось без свидетелей осмотреться в комнате. Как только за Саидой закрылась дверь, Савченко быстро окинул взглядом комнату. Он сразу увидел на столе коробку спичек Открыл ее и разочарованно бросил обратно. Там были простые белые спички. На плите лежала еще коробка. Но и там тоже оказалось несколько обыкновенных спичек.
За дверью послышались шаги и через минуту в сторожку вошел Джабар.
— Приятный день! — поздоровался сторож.
— Здравствуй. Ну как, тихо стало на ферме?
— Тихо, товарищ Савченко! Вот только ночь беспокойная была. Несчастье у нас!..
— Да… Несчастье большое! Ваши люди тоже были на пожаре. Спасибо, помогли тушить.
— Все пошли. Только мы со старухой не могли оставить ферму… Саида! Налей гостю молока!
Саида достала с полки кувшин молока, налила полный граненый стакан. Савченко с удовольствием отпил несколько глотков.
— Кажется, к го-то из ваших даже руку обжег? — спросил он у Саиды.
— А это Сайдали, шофер из колхоза «Заря востока». У пас председатель кооперации из Мургаба, Мирза Байбеков, с двумя машинами останавливался, — охотно пояснила жена сторожа. — Утром уехали.
Джабар бросил быстрый, свирепый взгляд на жену. Та сразу осеклась.
Савченко пил молоко. Он заметил заминку в разговоре, но ничего не сказал.
— А у вас очень вкусное молоко, Джабар! Спасибо.
Обтерев губы платком, Савченко вытащил папиросу. Потом стал щупать свои карманы.
— Вот досада, кажется, спички забыл! У вас можно курить?
— Пожалуйста! Спички? Да вот они, на столе, — Саида услужливо подвинула коробку спичек.
— Постойте, вот беспамятный! Я же свою в боковой карман спрятал. — И, достав коробку,
Савченко вынул одну из найденных Бакиром красных спичек… — Я от своей прикурю, моя красивее!
— У нас тоже такие есть, — похвалилась Саида. — Мирза три коробки дал.
— Саида! Иди принеси дров. Печку пора топить, — хмуро приказал жене Джабар.
Возвращаясь на участок, Савченко с досадой думал о том, что узнал он очень мало. Одно ясно: красные спички были и у Байбекова. Что это за человек?
БЫКОВ ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
В ущелье Хатынарт люди расчищали дорогу от снежных сугробов, работая группами на некотором расстоянии одна от другой.
Молодежная бригада во главе с Пулатом закончила расчистку на своем участке и взяла «на буксир» соседнюю группу «старичков».
Прокопыч молча глянул на подошедших, а работавший в нескольких шагах его подручный Савелий запыхтел еще сильнее. Сгребая снег лопатой, как снегоочистителем, к краю шоссе и потом перебрасывая его могучим взмахом по другую сторону кювета, он нажимал, чтобы не отстать от товарищей.
Работа подходила к концу. Кое-кто из соседней группы, воткнув лопаты в снег, стал раскуривать цыгарки. Вдруг оттуда послышалось:
— Эй, каменщики! Поднажать надо, не задерживать! Может и нас в подмогу возьмете?
Прокопыч повернул голову и молча пожевал губами, продолжая свое дело. Он сразу узнал насмешливый голос старшего рабочего Ивана Рябцева. Еще осенью тот посмеялся над ним. Прокопыч тогда доказывал, что дорожник из него никудышный. «Где же мне да на лопатку! Молоток — вот это мой инструмент. Тут давай посоревнуемся, а лопатой я не мастак!» Но на лопату всё же пойти пришлось и Рябцев не упускал случая подтрунить над каменщиками.
Прокопыч хотел было сказать в ответ Рябцеву что-нибудь язвительное, но передумал и только усиленней заработал лопатой. Сзади уже подпирали подошедшие машины.
Слегка прихрамывая, по дороге прошел мастер Быков. Он осматривал сделанную работу и отдавал распоряжения на следующий дань. За плечами у Быкова было охотничье ружье. Как видно, прямо отсюда он собирался на охоту.
Прокопыч со скрытым восхищением поглядывал на первоклассное ружье Быкова. Давно уже мечтал купить такое.
— Эх, и ружьецо!.. — Он даже причмокнул языком.
Савелий толкнул Прокопыча локтем под бок.
— Голодной куме хлеб на уме. Ты обрати внимание на другое. На пожаре не был. дескать, ногу натер, а на охоту отправляется. Не нравится мне почему-то этот Быков.
Но Савелий ошибся. В этот день Быков не охотился. Вечером он сидел за столом в сторожке Джабара и потягивал из кружки хмельную бузу. Саида, стоя у плиты, жарила солонину.
— Что сегодня так долго возишься, Саида? Товарищу мастеру пора уходить, — поторопил Джабар.
— Сейчас подаю.
— Парторгу не нравится новый радист, — пристально взглянув на Быкова, сказал Джабар. — Не доверяет парторг новому радисту. Я разношу молоко, кое-что слышу.
— Это интересно, — оживился Быков. — Надо будет зайти к нему на радиостанцию, познакомиться. Он мог бы здорово пригодиться!
Саида подала мясо. Они молча принялись за еду.
— Ты почему до сих пор не покормишь коз? Не слышишь — голодные кричат!
Сердито взглянув на мужа, Саида вышла во двор. Когда она возвращалась, Быков уже уходил, а Джабар собрался его провожать.
Саида с сердцем закрыла за ними дверь. Она невзлюбила этого молчаливого мастера с сердитыми черными, как ночь, глазами. Когда он приходит со своим ружьем, Джабар постоянно идет провожать его на охоту и часто подолгу не является домой. «Подумаешь! Товарища нашел. Охотник! За всё время ни одного убитого зайца не подарил. Видно — скупой! Впрочем, из него и охотник!.. Бузу только пить… Сколько всегда выпивает, а Джабар с него денег не берет!..»
— Так значит Савченко приходил? — говорил тем временем Быков, близко наклоняясь к Джабару.

— Да, мастер, приходил. И кажется мне, подозревает он что-то…
— Ты так думаешь? Придется мне познакомиться с ним ближе…
На участке уже зажглись огни, когда Быков, возвращаясь с охоты, подошел к домику радиостанции. Дверь оказалась запертой изнутри. Быков постучал. Радист Пальцев открыл дверь и остановился на пороге, закашлявшись глухим, отрывистым кашлем. Его бросающуюся в глаза худобу дополняли впалые щеки с нездоровым румянцем и взгляд мрачно поблескивающих из глубоких орбит глаз Прежнего радиста призвали в армию и Пальцев только недавно заменил его. Неприветливого и молчаливого Пальцева чуждались в Сарыташе и, не зная его прошлого, относились с некоторым подозрением. Оборудование на радиостанции было старое, потрепанное, запчасти доставали с большими трудностями. Бесконечные неполадки тормозили работу, приходилось самому изобретать, сидеть по ночам. Пальцев никак не мог наладить регулярные передачи. «Чорт его знает, сапожника какого-то прислали, а не радиста, — ворчали рабочие. — Последних известий, и тех не послушаешь». Пальцев это слышал и еще больше замыкался в себе.
— Вы стучали? — посмотрел он на неожиданного гостя.
— Я.
— Что вам угодно?
— Гм… Мне ничего не угодно, — замялся Быков. — Я просто познакомиться зашел. Слышу, новый человек появился, вот и зашел.
— Сюда вход запрещен.
— Ну, что за формальности! — засмеялся гость и шагнул через порог.
— Позвольте…
— Видите ли, я радиолюбитель, тоже увлекаюсь… Зашел, как товарищ к товарищу, посмотреть, как у вас тут, послушать, — сказал Быков, усаживаясь на табуретку возле стола с приемником. — Вы, кажется, усилитель ремонтируете? О, да вы тут новшества вводите! Интересно…
— Руками нельзя трогать.
— Послушайте, Пальцев! Я вижу, вы нездоровы. На кой чорт, спрашивается, вы над этой петрушкой здоровье свое гробите? Просиживаете ночи напролет! Наладьте трансляцию — и хорошо. Пока здоров-ты всем нужен, а как заболел, никто не вспомнит!
— У вас есть ко мне какое-нибудь дело? — сухо спросил Пальцев.
— Да нет же! Говорю, так просто зашел.
Скучища тут. Каждому новому человеку радуешься.
Минуту они изучающие смотрели друг на друга.
— Курите? — прервав молчание, спросил Быков и протянул радисту коробку папирос.
— Нет. Здесь курить нельзя. И потом… вы меня отрываете от работы.
— Сейчас уйду. Не ожидал, что вы встретите так нелюбезно… Я же к вам по-хорошему! Зашел с охоты, посидеть, поговорить, радио послушать. А вы…
— Я нахожусь на службе, — хмуро буркнул Пальцев.
Быков поднялся. Радист поймал на себе его колючий, испытующий взгляд.
— Ну, что ж. Я ухожу.
«Строит из себя службиста, или в самом деле! такой? — раздумывал Быков, выходя на шоссе. — Ладно, разберемся». Не заходя на участок, он направился обратно к себе на перевал.
ИРИНА
В холодное зимнее утро к зданию конторы участка подкатила грузовая машина, в кузове которой сидели пассажиры.
— Ну, вот и приехали, — весело сказал шофер, вылезая из кабины. — Это и есть Сарыташ.
Люди в кузове зашевелились, отряхивая густо осевший на одежду иней. Кто-то стал вытаскивать из-под лавки узлы. К машине подошли рабочие.
— Эй. дорожники! Принимайте новых поселенцев, — обратился к ним шофер.
Все с интересом посмотрели на вновь прибывших. Это были: пожилая, но еще крепкая женщина, ширина которой почти не уступала высоте, еще одна женщина, молодая, худенькая, с грустным усталым лицом, и мальчик лет десяти.
Толстуха не изъявляла никакого желания слезать на землю, а, воинственно подбоченившись, принялась отчитывать шофера:
— И куда это ты, ирод, завез нас, несчастных. Батюшки! Ничего не видать-одни горы. Ну и заехали. Прямо к самым небесам, в самое царство небесное попали!
Все вокруг дружелюбно рассмеялись.
— Ничего, ничего, мамаша, отсюда ближе в рай!
Рабочие кинулись стаскивать с машины вещи. Кто-то снял мальчика. Шофер захлопотал возле женщин.
— Осторожно! Осторожно, мамаша! Вот так, сюда, обопритесь ногой на колесо, так… — и он, подхватив «мамашу» подмышки, надсадно крякнул, опуская ее на землю.
— О-ох! Господи! Да полегче ты, верста коломенская! По воздуху кидаешь, прямо дух захватило! — рассердилась та.
— Мама! — укоризненно воскликнула молодая.
— Что — мама! Тут и так дышать нечем, воздуху не хватает… и куда ты нас завез, я тебя спрашиваю? — накинулась она снова на шофера, — А коли уже приехали, то куда идти? Где начальник?
Чернов видел всю эту сцену в окно и невольно улыбнулся. «Энергичная женщина!»
— Я — начальник участка, — сказал он, выходя на крыльцо. — Давайте знакомиться.
Неожиданное появление начальника вызвало растерянность у приезжих и они некоторое время молча рассматривали Чернова. Первая нашлась «мамаша».
— Ирина, ну что же ты стоишь! Подай начальнику бумаги.
— Потом посмотрим, успеется. Вы устали, замерзли, — мягко сказал Владимир Константинович, заметив, как дрожала от холода молодая женщина. — Сейчас мы вас устроим временно в комнате для приезжих. Мухтар! — окликнул он кладовщика. — Проводи товарищей…
— Мы — Дорошенки, — поспешила отрекомендоваться «мамаша». — Я — Аксинья Ивановна, а это невестка Ирина и внук Сережа.
— Очень приятно. Значит, полная семья!
— Полная да не совсем… Сын погиб на фронте, старший лейтенант, под Сталинградом…
Владимир Константинович не нашелся что ответить. Он встретился взглядом с грустными глазами Ирины, заметил ее усталое, бледное лицо. Она опустила голову, прижала к себе сына.
— Идите, отдыхайте, — сказал Чернов, с сочувствием поглядывая на молодую женщину. — Завтра поговорим о делах…
Ирина шла, еле передвигая ноги от усталости. Она тяжело дышала, с тревогой поглядывала на сына. Сказывалась высокогорность. Ей, жительнице степной Украины, с непривычки была непонятна странная скованность во всем теле, мешающая свободно двигаться. Это пугало. Как же они будут здесь жить? Крохотный кусочек долины, где сиротливо приютилось несколько домов, а вокруг-горы, горы… Она привыкла к бескрайним просторам полей, где так волнующе ощущается необъятность. А здесь всё замкнуто в тесном кольце оголенных скал. Они будто наваливаются на тебя… И почти не видно людей. Сколько их тут? Наверно очень мало. И найдется ли здесь для нее работа. Ведь она — педагог. А какая же тут школа?
Ирина с трудом сделала глубокий вдох и взглянула на своих. Им, как и ей, по видимому, было тоже не по себе. Аксинья Ивановна шла не торопясь, внешне строгая и спокойная. Только ее поджатые губы да изучающий взгляд, который она незаметно бросала по сторонам, говорили о волнении. Кто знает, что принесет им это новое место?
Комната для приезжих оказалась просторной и светлой. Здесь не было ничего лишнего. Четыре койки, заправленные чистым бельем, у стены — узенькая плита. Ирина окинула глазами комнату и, поставив чемодан, в изнеможении опустилась на стул.
«Измаялась! — подумала Аксинья Ивановна, внимательно посмотрев на невестку. — Похудела-то как, побледнела… Одни глазищи и остались!»-И шумно принялась хлопотать возле вещей.
Безучастная сейчас ко всему, Ирина сидела, закрыв глаза. После большого нервного напряжения, в котором она находилась всё время их утомительного трехмесячного путешествия, она почувствовала упадок сил. От сознания, что они, наконец, достигли цели, что их мытарства и лишения остались где-то позади, — не хотелось больше думать ни о чем.
Стук в дверь заставил Ирину вздрогнуть. В комнату вошла Елена Николаевна. Обе женщины с интересом посмотрели друг на друга.
— Что тебе, матушка? — спросила Аксинья Ивановна, отрываясь от распаковывания вещей.
— Простите, я только что узнала, что к нам приехали новые поселенцы, и вот пришла… познакомиться.
— Ну, проходи, будь гостем, садись, — доброжелательно пригласила Аксинья Ивановна, снимая со стула ворох всевозможных вещей и подвигая его Елене Николаевне. — А кто же ты будешь?
— Я работаю здесь заведующей детским садом.
— Детским садом? Откуда ж тут дети взялись, в горах этих?
— В Сарыташе живет почти половина дорожников с семьями. Дети у нас дошкольного возраста. А старшие — учатся в Оше.
— Вот как.
— А я думала, что здесь совсем нет людей, — сказала Ирина. — Мне показалось это место таким глухим и неприветливым.
— Мне тоже так вначале казалось, — улыбнулась Елена Николаевна. — Но здесь не так уж глухо и люди хорошие…
— Звать-то тебя как? — поинтересовалась Аксинья Ивановна.
Елена Николаевна снова улыбнулась и назвала себя. Ирине понравилась заведующая детским садом. Они разговорились и как-то сразу почувствовали взаимную симпатию.
— У меня так тяжело на душе, — призналась Ирина. — Что я буду здесь делать? Хоть бы какую-нибудь работу, только…
— А вы не согласились бы пойти воспитательницей в детский сад?
— Воспитательницей?.. — растерялась Ирина. — Но я не работала с маленькими детьми. Справлюсь ли?
— Будем работать вместе, я вам помогу…
— А начальник не будет возражать?
— Нет, что вы. Мне давно нужна помощница, а Владимир Константинович… он у нас очень душевный человек…
Ирина заметно оживилась.
— Это замечательно… Много у вас детей?
— Вот и определилась! — сказала Аксинья Ивановна. — А ты говоришь ничего и никого нет, одни горы да воздух…
— Да ведь ты то же самое говорила! — отпарировала Ирина.
Все рассмеялись.
Проводив новую приятельницу со двора, Ирина задержалась на крыльце.
День клонился к вечеру. Полыхали под солнцем снежные шапки вершин. От этого всё небо над Алайской долиной и над участком горело ярко-розовым заревом. Тени у подножий гор сгущались, меняя на глазах тона красок: из темно-голубых переходили в сизые, потом постепенно синели, становились темно-фиолетовыми и уходили в сумерки, окутанные дымкой тумана.
«А ведь тут красиво, — подумала Ирина. — Хоть и очень сурово». Она с восхищением и тревогой смотрела на это великолепие угасающего дня и думала, уживутся ли они здесь, в такой необычной для них обстановке. Ее радовала и тревожила предстоящая новая работа Маленькие дети. С ними, наверно, труднее, чем в школе. Справится ли она? Начальник — душевный человек, — сказала заведующая детским садом. Это хорошо. Он в самом деле приветливый человек. У него очень грустные глаза. Отчего бы?
Ирина долго стояла на крыльце со смутными, тревожными мыслями. Всё было ново и необычно для нее.

ЦОЙ
Капитан Мороз, мрачный, сидел за столом в своем рабочем кабинете на заставе и курил.
Во время его отсутствия на заставе случилось одно событие, которое, как ему казалось, имело связь с двумя пустыми ампулами, найденными при обследовании фермы в Сарыташе.
Шедшие из Сарыташа мургабские машины догнали невдалеке от моста через реку Маркан-су рабочего, который попросил подвезти его в Мургаб. На вопрос, зачем он туда едет, путник объяснил, что у них заминка с запчастями для тракторов и ему поручено получить недостающие детали в Мургабе. У рабочего был узелок, откуда он достал кусок хлеба и начал есть.
Возле высокой скалы, у ручья, как всегда, остановились на привал. Запаслись водой для радиаторов и питья, завтракали и обменивались новостями.
Оставив узелок в кузове, незнакомец тоже слез с машины. Опытному шоферу, подобравшему путника, личность нового пассажира показалась подозрительной и он решил, как только подъедут к заставе, мимо которой проходило шоссе, сказать о нём пограничникам.
Но едва машина остановилась, как шофер обнаружил, что незнакомый рабочий с узелком исчез. Бросившиеся по его следам пограничники до поздней ночи вели поиски в горах, но сбежавшего не обнаружили.
Капитан еще раз перечитал лежавшее перед ним заключение медицинской экспертизы, привезенное сегодня утром доктором Крымовым. Догадка Подтвердилась. В небольшом водоеме, из которого поили овец, обнаружен сильный яд. То же показало исследование крови животных. Действовать нужно немедленно. Враг ведет себя нагло, видимо, не боясь, что его обнаружат. Надо как можно скорее схватить преступников, иначе можно ожидать какой-нибудь новой беды.
В дверь постучали. Вошел ординарец Лукаш. Его веселое, румяное лицо дышало молодостью и здоровьем.
— Товарищ капитан, Цой пришел.
— Цой? Где он?
— Тут, товарищ капитан. Говорит, срочно надо. Сердится, что я не пустил к вам.
— Ну, зови, зови.
Цой! Давно его не было. В старике Цое пограничники нашли верного помощника и друга в опасной борьбе с контрабандистами. Он стал незаменимым проводником в горах. Родом из Северного Китая, Цой сорок лет промышлял охотой в горах, исходил все тропы, излазил все ущелья и перевалы от хребтов Маньчжурии до Тянь-Шаня. Нет такого места в горах, где бы он не смог пройти. Цой знал горные тропы так же хорошо, как знал свой маленький дворик с крохотным рисовым полем, затопленный в одну ужасную ночь наводнением. Тогда погибла вся его семья: мать, отец, младший брат, утонула невеста. Много горя причинило наводнение его родному селению. Мало кому удалось спастись. Молодой, еще полный сил Цой чудом уцелел, вплавь добравшись через бурную, разлившуюся реку до берега, С тех пор началась его кочевая жизнь. Был Цой и тигроловом, и искателем жень-шеня, и проводником научных экспедиций. Но в конце концов жизненные тропы привели его к профессии охотника. Сорок лет!.. Немало горя пришлось хлебнуть ему за свою жизнь, ох, немало… Но года четыре назад он перешел границу и сказал задержавшим его пограничникам: «Моя назад не ходи. Моя назад нет дорога…».
За всю свою бродяжническую жизнь Цой никогда не видел такого теплого, дружеского обращения, какое он встретил на советской земле. И теперь он всем сердцем полюбил свою новую Родину, людей. Поселили его недалеко от заставы, в кишлаке. Охота по прежнему осталась его главным занятием. Вот только нет-нет да и потянет его в Китай… Но нарушить закон Цой не решается. Он может часами смотреть куда-то в горную даль, вспоминая свою невеселую, полную приключений жизнь… Он ждет, когда Китай станет свободным…
Дверь открылась и Лукаш пропустил в нее Цоя. Это был высокий жилистый старик с худым безбородым лицом. Стеганый темно-синий, потерявший свой первоначальный цвет костюм был туго перетянут кушаком на очень тонкой талии, отчего и без того широкие его плечи казались непомерно раскинутыми в стороны. Чувствовалось, что этот человек обладает очень большой физической силой.

Низко кланяясь, Цой поздоровался.
— Здравствуй, капитана! В гости к тебе пришел. Мало, мало месяц не приходил. Далеко возле Китая ходи Цой.
Ты опять за свое! — протягивая ему руку, укоризненно сказал капитан. — Смотри, Цой: границу переходить нельзя, раз живешь теперь у нас. Ты ведь это знаешь?
— Я в Китай не ходи, на охоте был…
— Ладно. Садись. Будем пить чай, расскажешь. Лукаш! Организуй-ка!..
Это был уже давно заведенный порядок. Когда Цой приходил к ним в гости, они садились на низенький мягкий диван за невысоким круглым столиком у внутренней стены кабинета. Лукаш приносил чай в фарфоровом чайнике, две расписные пиалы, кусковой сахар, лепешки. Крепкий, душистый чай освежает голову, делает мысли светлыми, ясными. Начинался «большой» разговор, в котором каждый раз Цой признавался капитану в своем проступке: «Я мало, мало граница не переходи! За архарами бегал». Просил прощения и тут же рассказывал о каком-нибудь случае с ним.
Цой снял шапку и положил ее на пол под стенку. Мягко ступая, он подошел вместе с капитаном к дивану и, усаживаясь, вполголоса сообщил:
— Капитана! Люди ходи в нашу сторону… Плохие люди. Мало, мало один день будут близко…
— Лукаш! — крикнул капитан Мороз в приоткрытую дверь. — Ко мне никого не пускать. Рассказывай, Цой, — обернулся он к старику.
И Цой рассказал вот что.
Возвращаясь с охоты домой только ему известными горными тропами, он наткнулся на группу людей. Среди них Цой узнал одного иностранца, которого часто встречал в городе Кашгаре, будучи еще проводником. У этого господина была своя машина и слуги. Важный начальник. К его дому часто приезжали большие китайские правители, гоминдановцы. Цой притаился в камнях, подполз совсем близко. Их было пять человек. Немного в стороне сидели два проводника-китайца. Цой их тоже хорошо знает. За деньги они могут спокойно убить человека. Разговор шел на русском и еще одном языке, который Цой понимает не хуже, чем русский. Из их слов он понял, что эти люди прибыли откуда-то из Маньчжурии Некоторые из них уже бывали здесь. Они вели разговор о какой-то экспедиции.
Лежа среди камней, Цой слышал всё от слова до слова. Долго пришлось лежать несколько часов… Потом иностранец с одним проводником вернулся обратно, а четыре остальных с другим проводником спустились в ущелье. Цою пришлось быть очень осторожным. Только ночью он смог продолжать свой путь. И время, и дорогу, по которой они будут идти, Цой хорошо знает.
— Шибко ходи, прямо бежал… Всех лови надо. Очень опасный люди!..
Цой неторопливо прожевал кусок лепешки и с наслаждении отхлебнул глоток чаю.
— Спасибо, Цой! Ты настоящий друг. Это очень важное сообщение- А теперь отдыхай… погости у нас. Лукаш!
— Подожди, капитана! Я тебе еще не всё сказал. Один русськи перешел раньше тех. Дорогу хорошо знает. В горах встретил его. Стрелял меня. Мало, мало в плечо не попал. Одет совсем как рабочий, с узелком.
— Рабочий? С узелком?
— Да, капитана.
— Хорошо. Спасибо, Цой. Большое спасибо!
Быстрыми шагами Мороз ходил по комната, напряженно обдумывал всё услышанное.
«Нет, «рабочий с узелком» не мог непосредственно участвовать в отравлении водоема. Цой встретил его всего два дня тому назад в горах, недалеко от границы. Кто-то из врагов уже раньше находился здесь. Надо тщательно присмотреться к людям на участке. И на ферме. Особенно на ферме…».
Капитан Мороз мрачно уставился в окно, на громоздившиеся горы. Плохо. Очень плохо. Враги переходят границу, а он, Мороз, оказался неспособным предотвратить это. До сих пор не пойман отравитель.
Оставив Цоя, Мороз быстро вышел из комнаты. Минут через десять отряд пограничников направился в горы, по дороге, указанной Цоем.
Капитан Мороз, одетый, тоже приготовившийся в путь, опять зашел в комнату, отпустил Цоя и позвонил в Сарыташ. Его соединили с Черновым.
— Владимир Константинович! Здравствуйте! Говорит Мороз. У вас на участке Кизыларт-Маркан-су ремонтируют дорогу? Заканчивают? Бригада Савченко? Открыли проезд машинам? Уже? Очень хорошо! Поздравляю! Да ничего… Что? Пожар? Каким образом?! Вот как? Хорошо, расскажете, при встрече… Я буду у вас.
Резким движением Мороз положил телефонную трубку. Нет! Он обшарит каждую щель в горах! Он не может спокойно дышать, жить, пока распоясавшиеся враги ходят на свободе! Сейчас много их ринулось на советскую землю! Но там, на фронте, бой идет в открытую, а здесь, в горах, каждый камень, каждый уступ может скрывать врага. Нужно искать, искать и — находить!..
Неужели они не перехватят «экспедицию», встреченную Цоем?
Мороз задумался, потом, вынув из ящика бумагу, стал торопливо писать письмо. «Если бригада Савченко еще на этом отрезке дороги, значит надо, чтобы он помог нам… Пусть начнет завтра работы как можно раньше. Так…» — соображал капитан, быстро записывая.
Запечатав письмо, он вызвал Джумаева.
— Вот, товарищ младший сержант, это письмо надо немедленно доставить в Сарыташ и вручить начальнику участка Чернову лично в руки. Седлай мотоцикл и… в дорогу. Понял?
— Так точно, товарищ капитан! — лихо щелкнул Джумаев каблуками. — Будет исполнено.
У ОРЛИНОГО ГНЕЗДА
Когда машина, в которой ехала бригада Савченко, подошла к мосту через реку Маркан-су, был уже поздний вечер. Свернув с дороги, машина осторожно спустилась к реке и остановилась на том месте, где обычно разбивалась палатка. Ее сейчас тут не было. Рассчитывая, что на ремонт моста будет затрачено не больше суток, рабочие палатки с собой не взяли. Они пристроились невдалеке под горой, в небольшом гроте. У входа горел костер, вокруг которого мелькали фигуры рабочих.
Новоприбывшие были шумно встречены; над костром появился второй чайник и начались расспросы.
— Как успехи, Пулат? — спросил Савченко, растирая над пламенем окоченевшие руки. — Что сделали на мосту?
— Все, сделали. Стропила заменили. В настиле новые доски положили. Мелочи остались…
— Завтра ребята, выйдем на работу с рассветом, — сказал Савченко, думая о просьбе капитана Мороза.
— Зачем так рано? — удивился Пулат.
— Так нужно. Начальник просил срочно закончить этот поворот.
Ночь была холодная. Кипяток приятно согревал. Из темноты доносился монотонный шум реки. Укладывались поближе друг к другу, чтобы было теплее.
— Ничего, в тесноте да не в обиде. Как-нибудь переспим. А завтра я договорюсь — переночуем на посту у пограничников, — сказал Савченко, примостившись рядом с Пула-том.
Но спать не хотелось. Лежали молча, каждый был занят своими мыслями.
— Пулат! А, Пулат!
— Ну, чего тебе?
— Договори про свою сестру. Что дальше было?
— Люди спят. Мешать буду…
— А ты негромко рассказывай.
— Что дальше было? — начал тихим голосом Пулат. — Когда басмачей прогнали, с ними ушли в Афганистан баи. Много добра увезли, много девушек угнали с собой. Из нашего кишлака мулла ушел, бай Айяк-Заде ушел… Жестокий человек был. Отец никак ему отработать долгов не мог. Старшая сестра Суракан к тому времени впервые! черное покрывало надела. Приглянулась баю сестра, стал свататься. «Не дашь дочь — силой возьму!» — говорил он отцу. Что делать было. Согласился отец, да не соглашалась Суракан. Плакала мать, жалко было отцу. Суракан грозилась со скалы броситься. Стала Красная Армия басмачей бить, гнать их. Пришел бай к отцу, забрал сестру и пошел с караваном к границе Афганистана. Сколько слез тогда в доме было! Отец одумался, решил спасти сестру. Кому же знать горы, как не ему! Подполз ночью и увел Суракан. Месяц пряталась в пещере, пока Советская власть не пришла. Стала сестра учиться,
кончила школу, сбросила покрывало. Сначала старые женщины стыдили ее, а когда Суракан стала трактористкой- перестали. Теперь в колхозе «Светлый путь» работаегг… Знатная трактористка.
Под негромкий голос Пулата многие уснули. Усталость брала свое. Не договорив, уснул и рассказчик. Только река в тишине беспокойно шумела среди камней да в темном небе проглядывали сквозь редкие облака звезды.
Едва только стало светать, разошлись по своим участкам работ. Каменщики направились к большому повороту на подъеме заканчивать ремонт кюветов. Абибулаев и Пулат остались у трактора и катка.
Савченко слегка волновался. Всматривался в теряющуюся за поворотом дорогу. Каких людей думает задержать Мороз? Сколько их? Пройдут ли здесь? Да, другого пути тут нет, кругом пропасти и отвесные скалы.
Размышляя о поручении капитана, бригадир одновременно осматривал дорогу. Он остался недоволен. Работы еще было много. Не прокатан большой кусок полотна на крутом повороте. Машины там прыгают на ухабах* шоферы бранятся. Кюветы по правой стороне поворота во многих местах не выложены камнем. Все это будет размыто весенним паводком, если не укрепить сейчас.
Еще с утра начал срываться небольшой снег. Кое-где его сдувало с дороги ветром, но в кюветах уже собирались небольшие сугробы. А если повалит настоящий снег?
За выступом мелькнула река. У моста неподвижно стояли трактор и каток. Абибулаев усердно ворочал ключом. Пулат молча помогал ему. По их красным лицам можно было судить, что дела идут далеко не блестяще.
— Что, заедает? — безнадежно спросил Савченко.
— Сейчас, товарищ бригадир, сейчас! Еще немножко. Он у меня уже чихать начинает на доброе здоровье! — заверил Абибулаев.
После неприятного инцидента в бурю, Абибулаев стал очень расторопен; время от времени он все еще виновато поглядывал на Савченко.
— Похоже, что катку и трактору замерзать придется в Маркан-су! — сказал Савченко.
— Зачем замерзать! — воскликнул Абибулаев. — Каток уже готовый стоит. Сейчас Пулат сядет, погонять будет.
— Так что же ты молчишь. Ахмет! — Обрадованный Савченко шутливо сгреб тракториста в свои могучие объятия. — Ведь мы теперь много дела успеем сделать!
— Вай-вай! — рассмеялся Абибулаев, потирая замасленной рукой щеку и размазывая по ней грязь. — Что если б я девушка был! Поколол своим борода, как железный щетка!
— Не теряй времени, Пулат. Поезжай на подъем и постарайся прокатать крутой поворот.
Повеселевший Савченко ушел.
Пулат завел каток, взобрался на сиденье и медленно стал подниматься в горы. У него сейчас было, как никогда, хорошо на душе. Работа спорилась.
Проезжавшие вчера через мост пограничники сообщили такую весть: наши войска стоят насмерть под Сталинградом. Немцам не удается пробиться к Волге. Где-то там сражается брат… Может, теперь фашистов погонят?..
Пулат почувствовал в себе такую силу, что, казалось, мускулы железными стали. Он крепко сжал баранку руля. Захотелось петь. Пулат очень любил музыку и пение. Но однажды. когда он в компании затянул песню, на него замахали руками, заткнули уши и умоляюще попросили: «Замолчи, замолчи, Пулат! Наш козел — и тот лучше поет!» С тех пор самолюбивый Пулат никогда не пробовал петь при людях. И другая беда — слова песни всегда путались: начало из одной, конец из другой, середина самим придумана. Поэтому, когда близко никого не было, Пулат пел что взбредет на ум. Слуха не было, зато голос громкий, высокий — далеко слышно.
Вот и сейчас Пулату захотелось петь. Он все оглядывался — далеко ли отъехал? Позади скрылся мост, потом река, за поворотом — горы замкнулись, спрятав за собой всю долину. Он был один на дороге, уползавшей куда-то вверх за скалы. И Пулат запел:
…Ай-яя, ай-яя!
На работу еду я.
По шоссе каток идет, —
Пулат едет и поет!
Ай-яя, ай-ай-яя!..
Стоголосым эхом звенела его песня, на высоких нотах уносясь далеко в горы. Каток шел, как по шнурку, вдоль правого края, над самым кюветом, обкатывая полотно дороги.
Налетал ветер, принося с собой снежную пыль. Из нависшей тучи вырвался вдруг стремительный поток мелких снежинок и помчался по скалам, по дороге. Пулат глянул в небо. «Метет. Постой, постой! Поработать надо! Зачем метешь? — нараспев проговорил он. — Подожди немножко».
И, словно согласившись с его просьбой, снег поредел и скоро совсем прекратился. Разрывы между тучами стали появляться чаще, чаще выглядывало солнце, озаряя золотым потоком дорогу.
Пулат довольно заулыбался. Затерянный в горах уголок казался ему сейчас необыкновенно уютным.
…Ай-яя. ай-яя!
Солнце светит на меня.
Жить на свете — хорошо!
И работать — хорошо!
Ай-яя. ай-ай-яя!..
Вдруг Пулат оборвал пение на полуслове. Его зоркий глаз заметил, как из-за выступа скалы вышли четыре человека. Появление людей в этих местах было редкой случайностью. «Кто такие? Откуда? Почему здесь?» — удивился Пулат.
Заметив его, незнакомцы остановились. Но один из них, с виду старший, что-то сказал своим спутникам и все четверо направились навстречу Пулату.
Пулат посмотрел в сторону спуска. Савченко не было видно. «Что им надо? Зачем идут сюда?» — соображал он, инстинктивно нащупывая под собой на сиденьи гаечный ключ.
Незнакомцы приближались. Теперь Пулат уже различал их хорошо. Шедший впереди был высокий, плотный, с небольшой бородкой, одетый в ватный костюм. Трое других были небритые, заросшие. На ногах у всех специальные горные ботинки на шипах. У бородатого в руках только толстая горная палка с железным наконечииком. У остальных кроме палок, — за плечами рюкзаки и охотничьи ружья. Пулат смотрел на них во все глаза.
— Слушай, малый! Как нам лучше пройти к перевалу Кашал-аяк? Только самым коротким путем. Мы отбились от экспедиции и теперь очень торопимся.
Экспедиция? Перевал Кашал-аяк? Он знает это место. Туда действительно недавно выехала экспедиция. Они ночевали в Сарыташе. Так значит эти ищут экспедицию? Что им сказать? Парторг Савченко всегда говорит: «Присматривайся, Пулат, к незнакомым людям!»
Пулат мялся, перекладывал ключ с места на место, с надеждой посматривая вниз, на спуск, и облегченно вздохнул: из-за поворота показалась крупная фигура Савченко.
— Товарищ бригадир! — закричал и замахал рукою Пулат. — Вот тут люди экспедицию ищут! От своих отстали. Ходи сюда! Помогать надо. Дорогу показать надо людям!
Савченко неторопливо подошел, поздоровался с незнакомцами. Лоб у него был потный, куртка нараспашку, кашне съехало на сторону. До поворота он бежал. Незнакомых путников он увидел еще за выступом скалы. Вытирая концом кашне пот, Савченко сердито сказал Пулату:
— Чортова работа! Снегу полные кюветы насыпало!
И лишь тогда повернулся к незнакомцам.
— Куда путь держите? — как бы без особого интереса спросил он.
— Нам нужно пройти к кишлаку Алтын-Мазар, — сказал высокий. — Мы отбились от своей партии. Поднялась метель и мы сбились с дороги.
— А что за экспедиция? — поинтересовался Савченко.
— Мы проводили метеоролого-глациологические изыскания.
— Как же вы попали сюда? Здесь ледников нет.
— Нам было поручено произвести наблюдение снежного покрова вон на той вершине, — показал высокий рукой. — И вот метель…
Ответ, казалось, вполне удовлетворил Савченко. Он повернулся и, указывая на едва видневшуюся тропу, стал подробно объяснять, как пройти к кишлаку Алтын-Мазар. В то же время он напряженно думал: «Как поступить? Не те ли это, кого ищет капитан Мороз? Надо немедленно сообщить на заставу».
— Вон той тропой спуститесь в долину, пересечете ее и выйдете к левому склону плато. От него по высохшему руслу ручья идите на юг. Это кратчайшая дорога к Алтын-Мазару.
— Очень вам признательны! — обрадовались члены экспедиции, поочередно пожимая руку Савченко.
Едва они скрылись за выступом горы, как Савченко преобразился:
— Пулат! Беги к ущелью! У самой реки найдешь капитана Мороза с его людьми. Пусть скачут сюда и подождут меня.
— Капитан Мороз в ущелье?! — раскрыл широко глаза Пулат. — Значит, эти люди…
— Некогда рассуждать, понял?
— Понял, бригадир.
Пулата как ветром сдуло с катка и он помчался вниз по дороге. Савченко взглянул ему вслед, свернул с дороги и большими шагами быстро пошел вдоль горы, за выступом которой начиналась тропа, круто спускающаяся в долину. Он торопился. Как бы не упустить их из виду!..
Шагах в двадцати справа — зияла глубокая пропасть. Тропка, обогнув выступ, сползала вниз, теряясь среди камней. Отсюда была видна вся долина. Савченко взглянул, и сердце у него забилось гулкими ударами. Нигде, сколько он ни смотрел, не было видно незнакомцев. Долина лежала, как на ладони, отсюда видны были даже отдельные камни, разбросанные то тут, то там. Неужели они успели перейти долину? Не может быть! Прошло всего минут пятнадцать, как они вышли.
Савченко растерянно оглянулся. И вдруг вполголоса выругался. Какой же он глупец! Поверил, что они пойдут по пути, который он укачал! Только время потерял. Но куда же они пошли? Конечно, в обход долины, по дну высохшего ручья. А потом вдоль склона под горой, где много выступов и больших камней. Там можно пробраться незаметно.
Савченко быстро спустился вниз. Теперь он уже не сомневался, что эти четверо никакого отношения к экспедиции не имеют. Продвигаясь осторожно вперед, он, наконец, увидел их. Они шли быстро. Савченко так обрадовался, как будто это были не враги, а его самые дорогие друзья. «Теперь вы от меня не уйдете, нет!».
Но чем дальше, тем труднее становилось идти следом. Место было почти открытое. Приходилось припадать к земле и переползать, используя малейшие укрытия. Но вот один из путников стал прихрамывать, вынуждая и остальных идти медленнее. Это дало возможность Савченко подобраться настолько близко, что, когда они переговаривались, до него долетали даже отдельные слова.
Внезапно от неосторожного движения из-под его ног сорвался камень. Схватившись за оружие, все четверо настороженно повернулись в его сторону. Затаив дыхание, Савченко притаился за невысоким валуном Эти короткие минуты показались ему вечностью. Осторожно выглянув, Савченко похолодел: «члены экспедиции» повернули назад и шли прямо на него. Бригадир почувствовал, как кровь ударила ему в голову и защемило сердце. Он был безоружен. Взгляд упал на увесистый, острый камень. Осторожно подобрал его, крепко сжимая в руке, и… облегченно вздохнул. Шагах в десяти от валуна враги остановились.
По обрывкам фраз Савченко понял, что тот, захромавший, идти дальше не может.
— Здесь мы прикрыты с трех сторон. Немного отдохнем. До Орлиного осталось не так уж много.
Савченко отметил это про себя.
— На сей раз мы легко отделались, — сказал кто-то из них.
— Мне не нравится этот бригадир… — донесся в ответ голос бородатого.
Они расположились у подножья нависшей козырьком скалы. Минут десять молча отдыхали, затем двинулись дальше.
Оставаясь в укрытии за валуном, Савченко соображал — как ему быть дальше… Идти за ними? Нет! Скорее назад! Рассказать капитану, где их можно настигнуть. И выждав, пока «члены экспедиции» скрылись за поворотом, он повернул назад.
Капитана Мороза с группой пограничников встретил Савченко уже в долине, у спуска к руслу высохшего ручья.
— Хорошо. Спасибо, Василий Иванович, — поблагодарил Мороз, выслушав бригадира. — Вы оставайтесь, теперь слово за нами.
Маскируясь среди камней, незаметно переходя от выступа к выступу, отряд пробирался по следам вперед.
«Орлиное гнездо, — рассуждал тем временем капитан, — в трех километрах от круглого плато- Этим трудно доступным путем почти никто не пользуется. Нужно хорошо знать дорогу; там на каждом шагу можно свернуть себе шею! Если они действительно остановятся там на привал — дело дрянь! Как подступиться? С трех сторон это место огорожено скалами, с четвертой — пропасть. Обороняясь, преступники могут уйти и скрыться в горах по единственной тропинке, проходящей у самого края пропасти. Площадка может стать хорошим укрытием для обороны и в их распоряжении останется выход. Тропинка, правда, хорошо простреливается, но в том-то и дело, что нарушителей надо взять во что бы то ни стало живыми!..»
С большой предосторожностью отряд приблизился к последнему выступу, метрах в пятидесяти от площадки, которая и называлась Орлиным гнездом. Дальше тропинка, теряясь в расщелинах, делала крутой поворот над обрывом. Отсюда хорошо была видна часть площадки. Наблюдая из-за укрытия, капитан Мороз заметил на ней рюкзак и чьи-то ноги, обутые в горные ботинки. Остальные скрывались за выступом скалы. Как видно, «путешественники» чувствовали себя здесь в безопасности.
Товарищ капитан! Давайте мы их… гранатами… — шепотом предложил один из молодых бойцов.
— Экий ты горячий, Джанашвили, — сдержанно улыбнулся капитан Мороз. — Тебе бы всё гранатами. Это дело несложное, да их живыми надо взять. Понятно?
Начальник заставы взглянул на часы. Скоро начнет темнеть. А тогда задача осложнится.
— Вот что, товарищи, — решительно сказал он. — Взять в лоб мы их не можем. Они перестреляют нас прежде, чем мы доберемся до площадки. Их надо отвлечь с той стороны входа. Эту задачу берусь выполнить я.
— Товарищ капитан! — вырвалось сразу у нескольких бойцов.
— Слушайте, — продолжал он. — Когда-то я был неплохим туристом. Знаю эти места. Над Орлиным гнездом есть еще одна тропа. Вот по ней-то я и думаю пробраться… Только мне надо помочь.
Лукаш с готовностью сорвался с места.
— Отставить, товарищ Лукаш. Со мной пойдет Джумаев. Он природный горец и лучше выполнит задание, чем ты.
— Эх! — только и нашел что сказать огорченный ординарец.
Капитан Мороз отдал распоряжение о дальнейших действиях и, взяв с собой всё необходимое для того, чтобы взобраться на почти отвесную скалу, вместе с Джумаевым скрылся в расщелине.
Потянулись мучительные минуты. Стояла гнетущая тишина. Бойцы, задирая головы, с тревогой поглядывали наверх. Но там ничего не было видно.
Прошло с полчаса.
На площадке зашевелились. Ноги исчезли, кто-то потащил к себе рюкзак и вскоре в пропасть полетела консервная банка. «Члены экспедиции» подкреплялись.
И вдруг взгляды пограничников устремились вверх. Высоко над их головами, цепляясь за выступы гранита, передвигались две фигуры. Капитан впереди, шагах в десяти за ним Джумаев. Они находились как раз над Орлиным гнездом, но оттуда их увидеть не могли: мешал нависший над площадкой выступ. На это и рассчитывал капитан.
Соединенные друг с другом крепкой веревкой, они. казалось, плыли по воздуху вдоль скалы. Сердца бойцов учащенно забились. А вдруг сорвутся! Затаив дыхание, они смотрели туда, где жизнь двух их товарищей зависела сейчас от личной воли, мужества и умения. Цель была ясна — капитан и Джумаев намеревались закрыть единственный выход из Орлиного гнезда в горы.

Всё ниже и ниже смельчаки. Капитан повис на руках и ищет ногой опору. Но что это! Зачем они спускаются по эту сторону выступа? Ведь их заметят! «Куда же вы?!» — чуть было не закричал Лукаш. Он не знал, что другого пути не было. Об этом капитан не сказал. Он сознательно шел на риск. «Кто не рискует, тот не побеждает!» — говорят военные. Бойцы замерли, следя глазами за каждым движением своих товарищей.
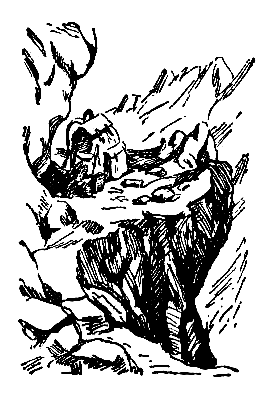
В это время на площадке послышались голоса, гулко стукнулась о камни консервная банка и в воздухе хлопнули один за другим три выстрела. Забыв об осторожности, пограничники бросились по тропинке к площадке. Никто из них не увидел, как капитан Мороз покачнулся и стал сползать вниз по крутому склону. Веревка натянулась, — Джумаев с трудом удерживал ее, боясь выпустить раненого капитана, и сам цеплялся за камни. Между бойцами и засевшими в укрытии врагами завязалась ожесточенная перестрелка.
…Расстреляв все патроны и увидев, очевидно, что деваться некуда, нарушители вышли с поднятыми руками на тропинку. Но их было… трое. Видимо, раненый капитан и Джумаев слишком поздно перекрыли выход из Орлиного гнезда и бородатый предводитель успел проскочить и скрыться в горах.
Капитан спешно послал двух человек в погоню. Но сумерки в горах сгущаются необычайно быстро. И вряд ли можно было в такой темноте рассчитывать на успех.
Начальник заставы был легко ранен в плечо. Лукаш очень искусно перевязал рану, повозился так долго и так жалостно причмокивал при этом языком, что капитану пришлось на него прикрикнуть.
На мосту пограничников встретили с нетерпением ожидавшие дорожники. Капитан пригласил их переночевать к себе на пост.
В Маркан-су добрались поздно. Но, несмотря на усталость после трудового дня и неожиданных волнений, многим не спалось. В большой просторной комнате люди лежали вповалку. Места на койках и скамьях хватило не всем. Расположились на полу, на постланных в ряд матрацах.
Пулат чувствовал себя героем. Он привел отряд, он помогал ловить диверсантов, он сразу догадался, что это люди подозрительные! Возбужденным шопотом Пулат делился с товарищами своими впечатлениями.
— Так бежал! Чуть мимо отряда не пробежал — такой разгон взял! Думал, остановиться не смогу!
Всю ночь шел снег. Утром, после горячего завтрака, приготовленного гостеприимными пограничниками, вся бригада во главе с Савченко приготовилась в обратный путь. Подвезти людей к месту вызвался на своей машине начальник заставы.
Перед тем, как ехать, капитан отвел Савченко в сторону.
— Так что вы думаете, Василий Иванович, о пожаре? — спросил он. — Что удалось установить?
Савченко замялся было, боясь показаться смешным в глазах капитана, и неохотно рассказал:
— Занялся было расследованием, да, видно, плохой из меня следователь. Эти крашеные спички имелись у многих людей. У приезжих.
— А в своих вы уверены?
Вопрос немного смутил Савченко.
В старых кадровых работниках — да, уверен. Новые… тоже как будто вполне надежные люди…
Он помолчал, перебирая в уме всех людей, работавших на участке. Ни о ком нельзя было подумать ничего дурного. А хорошо ли он знает всех людей своего участка?
— Вот что, Василий Иванович, — прервал молчание капитан. — Мы просим вас помочь нам. Понаблюдайте за фермой. Кто там останавливается, кто ходит туда из ваших людей, в какое время бывает. Только сделать это нужно, сами понимаете, осторожно…
Прощаясь, Мороз крепко пожал руку бригадиру дорожников.
НА НОВОМ МЕСТЕ
Установилась настоящая зима. Кругом навалило такие сугробы, что пришлось расчищать дорожки. А снег всё сыпал густыми, крупными хлопьями. Снежинки падали медленно, как бы нехотя. В белом мелькании скрылись горы, очертания домов.
Сережа чуть не сшиб с ног мать. Он влетел в комнату красный, как кумач, весь в снегу. Ирина даже испугалась: не случилось ли чего-нибудь?
Мама! Ух и снег идет красивый! И, знаешь, и уже могу бегать!
— Побегаешь тут. Прямо за сердце тебя хватает, — буркнула Аксинья Ивановна.
— Это только сначала, бабушка! А потом ничего!
Первые два дня Сережа чуть не плакал: только попробуешь бежать — что-то сжимает грудь и мешает дышать — как в противогазе, когда он пробовал его надевать. Сережа знал, что это вызывается высокогорностью, мама объяснила, — в горах высоко, воздух разрежен. Но хоть и знаешь, от того не становится легче. Постепенно Сережа немного привык к высокогорным условиям и вот сегодня даже пробежался по-настоящему, как дома, на Украине, почти не запыхавшись.
Он уже успел побывать везде. Всё рассмотрел, обо всем расспросил. Кладовщик Мухтар обещал ему дать лыжи. У бригадира Савченко есть собака, Нерон. Она совсем не злая.
Ирина одевалась и с ласковой улыбкой слушала оживленную болтовню сына.
— Ну, что ж, пошли, что ли? — скомандовала Аксинья Ивановна. — Коль начальство вызывает, опаздывать не годится.
Секретарша в приемной Чернова попросила подождать.
Владимир Константинович занят.
Аксинья Ивановна поджала губы. «То приди сейчас, то ожидай! Показывает, что начальник!»
И хотя ждать пришлось совсем недолго, и как только из кабинета Чернова вышли посетители, начальник сразу же пригласил их к себе, Аксинья Ивановна настроилась воинственно.
— Ну, как устроились, товарищи? — приглашая женщин садиться, спросил Владимир Константинович.
— А чего же, устроились… не на курорт приехали. Потеснимся, — сдержанно ответила Аксинья Ивановна.
— Комната для приезжих — дело временное. Мы вам дадим квартиру, небольшую, правда. Как раз окнами против детского сада.
Чернов взглянул на Ирину. — Сейчас ее ремонтируют.
«Гм, а он, как будто, и ничего, заботливый», — уже теплее подумала Аксинья Ивановна.
— Понимаем, где уж тут в горах аппартаменты разводить… Мы — люди простые. И на том спасибо! — вслух сказала она.
Ирина поправила едва заметную прядку волос, выбившуюся из-под аккуратно завязанного платка. Ее словно вычерченные губы, чуть опущенные в уголках, дрогнули в улыбке.
Чернов спросил ее:
— Ну, как ваше впечатление о Сарыташе?
— Еще не разобралась. Я ведь украинка, привыкла к степным просторам… А в таких горах — впервые. Мне кажется, что я не смогу полюбить их!
— Почему же? Разве наши горы не красивы?
— Красивы, — согласилась Ирина. — Но в них есть что-то холодное… Как у некоторых людей: и красив человек, а сердце холодное…
Да, есть такие люди, — с неожиданно прорвавшейся горечью проговорил Чернов.
Ирина удивленно посмотрела на него.
— Есть люди, которые любят только себя, — жестко продолжал он и, усмехнувшись, невесело пошутил. — Должно быть, все женщины любят только себя.
— О, нет, что вы? — покачала головой Ирина.
И вдруг страстно сказала:
— Только женщины и умеют любить, забывая себя, жертвуя всем… Если бы мне сейчас сказали, что надо отдать жизнь, отказаться от всего… ради любимого человека, то я, не раздумывая… — Она вдруг замолчала и заметно смутилась.
Владимир Константинович невольно залюбовался ею. Ирина раскраснелась, ее большие глаза оживились. Поймав на себе его пристальный взгляд, она еще больше зарделась.
«Что это я разболталась о любви?»-подумала Ирина. Спокойное, открытое лицо Чернова, голос, весь его вид привлекали ее и внушали доверие. Он казался ей простым и сердечным. Может быть, это и вызвало ее на такой откровенный разговор. Ирина, испытывая неловкость, посмотрела на свекровь.
Аксинья Ивановна сидела по прежнему спокойная, но по слегка приподнятой брови и по глазам ее Ирина прочла немой вопрос: «Что это ты, голубушка, так разворковалась?»
Чернову понравилась непосредственность молодой женщины, но, заметив ее смущение, он перевел разговор на другую тему:
— Елена Николаевна уже с вами говорила о работе? Не возражаете?
— О, нет, конечно! Я так рада. Я думала, что здесь мне нечем будет заняться, и уже пришла в уныние.
— Что ж, товарищ начальник, только невестка работу получила? А я как же? — вмешалась Аксинья Ивановна.
— А может вы еще отдохнете с дороги?
— Время сейчас такое, что нечего сложа руки сидеть. Совесть не позволит. Не на горы же ваши я приехала любоваться.
Чернов с уважением склонил голову, подумал.
— В столовую заведующей пойдете?
«Ты смотри! Как по мыслям читает!» — изумилась Аксинья Ивановна.
— Пойду. Или сказал кто, что я столовой заведывала?
— Нет А вы, значит, работали в столовой? Очень хорошо, Аксинья Ивановна Как говорится, вам и тарелки в руки.
Только ведь вот чего… Требовать я буду.
— Требуйте.
— И от тебя в случае чего.
— И от меня требуйте.
Ну, значит, договорились, — сказала Аксинья Ивановна, поднимаясь. — Пойдем, доченька.
«Хорошая семья», — решил Чернов, оставшись один. Он надел шапку, меховую куртку и, сунув в карман коробку папирос, вышел из кабинета.
Не обиделась бы только Варя Савченко, что на ее место назначил нового человека. Впрочем, Варе трудно сразу и столовой заведывать, и в клубе работать. Она сама об этом поговаривала.
Снег продолжал падать. «Вот и зима», — подумал Владимир Константинович. Он посмотрел на мальчика, возившегося во дворе с собакой. Сын новой воспитательницы. Какие хорошие у него глаза, грустные, серьезные и светлые… Приятно смотреть, как барахтается в снегу мальчишка. Дочку бы сюда, Талочку. Взять бы ее и покатать на санках по этому пушистому снегу…
А Лидия не пишет…
АКСИНЬЯ ИВАНОВНА
Аксинья Ивановна поднялась чуть свет. Тихонько, чтобы никого не разбудить, особенно Сережу («Постреленок, так чутко спит») затопила плиту, поставила греть воду для умывания.
Вот они и пристроились, наконец. Окончились мытарства. Правда, забрались на самый край света, где кругом одни горы прямо в небеса упираются, ну, да ничего, зато тихо. Натерпелись от бомбежек и переездов достаточно. Аксинья Ивановна вынула из чемодана черное шерстяное платье, единственное, которое удалось захватить впопыхах.
Уже одетая, она присела у стола. Долго сидела, шелестя бумажками, — перебирала свои документы, справки с места работы, приказ о премировании в день восьмого марта, какие-то письма…
Из дому вышла она, когда невестка и внук уже поднялись.
Только на рассвете перестал идти снег. Всё было закутано в пушистую, белую пелену. Солнце старалось пробить толщу низких серых туч, и они кое-где уступали, бледнели и открывали маленькие оконца голубого неба, в которые мгновенно устремлялись яркие солнечные лучи Тогда на снег было больно смотреть, так ослепительно сверкал он.
Возле столовой Аксинья Ивановна встретила Варю Савченко. Они познакомились уже накануне. Аксинья Ивановна поздоровалась за руку, внимательно разглядывая Варю. Заметила, что та хромает.
— Ушибла ногу, что ли?
— На пожаре обожгла…
— А-а… слыхала.
На крыльце столовой лежал снег. Его притоптали ногами. Было скользко. Аксинья Ивановна поджала губы, смолчала. В столовой у порога было мокро и грязно от нанесенного снега.
За одним из столиков сидели несколько рабочих. Аксинья Ивановна подошла к ним, поздоровалась и строго спросила молодого парня в ушанке:
— Ты поел уже?
— Поел, — от неожиданности вскочив с места, ответил тот.
— А чего сидишь в шапке? Работы нету?
— Сейчас завтрак, — в замешательстве пробурчал парень, стащив с головы шапку. Остальные тоже сняли.
— А ты голову сегодня не разбил?
— Не-ет… — опешил парень.
Варя, удерживая смех, низко нагнула голову. Подошли девушка-официантка и повариха.
— Ну, остерегайся, а то разобьешь. Надевай-ка свою шапку, дружок, и вон там, видишь, веничек в углу, а если поискать — и лопата найдется. Возьми да пойди крылечко пообчисть хорошенько. Оно, гляди, и голова целая останется. Да быстренько! Небось, не старик, вроде меня.
Оторопелый парень подхватился и через минуту па крыльце застучала лопата.
— У вас лопаты при кухне есть? — спросила Аксинья Ивановна повариху.
Девушка сбегала, принесла.
— Вот. Как раз на троих. Ну-ка, молодые люди, немного физкультурой займитесь. Перед крыльцом площадку очистить надо, да как следует.
Рабочие переглянулись, взяли лопаты и вышли во двор. На крыльце раздался дружный хохот. В столовую донеслось:
— Вот так мамаша! Выполняй, ребята, команду!
— А ты кем здесь, голубушка, работаешь? — спросила Аксинья Ивановна девушку.
— Я подаю на стол и убираю посуду, — ответила та, смущаясь.
— Очень хорошо. А халаты у вас есть?
— Есть.
— А почему не надеваешь?
Грязные. Постирать некому.
Тут уж покраснела Варя.
Некому? — удивилась Аксинья Ивановна. — Ах, бедные! А ты что же, стирать не умеешь?
— Умею… — потупилась девушка.
Аксинья Ивановна повернулась к Варе.
— Пойдем посмотрим еще кухню.
Кто это? — шопотом спросила у Вари повариха.
— Новая заведующая столовой.
— А-а, — уважительно протянула девушка.
Аксинья Ивановна не пропустила ничего
Заглянула во все уголки, борщ попробовала, котлеты. Когда они возвратились в зал и уселись за чистый стол, вошел Чернов.
— Ну, как дела?
Аксинья Ивановна категорически заявила:
— Столовой принимать не буду!
— Что случилось, Аксинья Ивановна?
— Принимать нечего. Инвентарь никуда не годится. Бак проржавел, посуда — смотреть стыдно, вешалок нет, крыша протекает.
— Крышу починим, вешалки сделаем…
— Посуду, железки эти, надо заменить на фаянсовую.
— Фаянсовая посуда у нас есть, только мы ее на склад сдали, на хранение. — пояснила повариха, — по праздникам берем.
— Видали такое! — возмутилась Аксинья Ивановна. — Да человеку каждый день должен быть что праздник! Ишь, выдумали — по праздникам. Завтра же снести посуду сюда!
В столовую шумно вошли четверо рабочих с лопатами и вениками.
— Всё выполнено, товарищ… — они запнулись.
— Заведующая, — спокойно помогла нм Аксинья Ивановна-
— Натянули вы нам нос, Аксинья Ивановна — засмеялся Чернов. — Я считал, что столовая в порядке.
— Хорош порядок!
Аксинья Ивановна осталась в столовой, а Чернов и Варя вышли. Варя была очень смущена.
Ну, что? Нагнала жару? — дружески сжал её руку у кисти Чернов. — Вы не смущайтесь, Варя. Видать, хорошая старуха, энергичная.
— У меня было так мало времени…
Я знаю. Займетесь теперь целиком клубными делами.
Вернувшись к себе в общежитие, Варя всё еще переживала неприятности со столовой. Она не слышала, как постучали в дверь. Снимая с обожженной ноги валенок, она поморщилась. Нога всё еще болела. Стук раздался снова, более настойчивый и громкий. Решив, что это стучит соседка, Варя крикнула, не поворачивая головы:
— Войдите!
В комнату вошел мастер Быков с двустволкой за плечами и убитым зайцем, подвязанным к поясу.
Здравствуйте, — поздоровался он.
С валенком в руке, Варя недоуменно посмотрела на неожиданного посетителя.
— Простите, я, кажется, не вовремя… Я» собственно, по поручению вашего мужа…
— Что-нибудь случилось? — вскочила испуганная Варя. — Что с ним?
— Да с ним ничего, не волнуйтесь. Я насчет политучебы.
— Политучебы?
— Перед отъездом в Маркан-су товарищ Савченко сказал, что мы можем обратиться к вам за помощью. У нас в кружке прорабатывают сейчас диалектический материализм. Может быть, у вас есть что-нибудь популярное. Все-таки трудно изучать эту философию.
— Ах, вот в чем дело, садитесь, — предложила Варя.
— У вас перевязана нога. Я слышал, вы пострадали на пожаре? — усаживаясь, спросил Быков.
— Уже почти прошло, — ответила Варя, снова надевая валенок. — У меня есть хороший конспект. Могу дать на некоторое время.
— Большое спасибо. Скажите, я прошлый раз слушал ваш доклад о международном положении. Откуда у вас такой материал?
— Как откуда? Из газет, из последних известий по радио.
— Но ведь Сталинград почти взят. Это ужасно. Я понимаю, для успокоения людей…
— То есть, что значит — для успокоения? Известия по радио — это официальные правительственные сообщения. Еще позавчера муж сам слушал на радиостанции: идут бои на улицах, за каждый дом, но город не сдают.
— Да, изумительный героизм! Ваш муж бывает на радиостанции? Наверно, радиолюбитель. Я вижу у вас и радиожурналы. Ваш муж дружит с радистом?
— Нет, так… увлекается радио.
— Я тоже очень люблю радио. Но здесь в горах иметь приемник запрещено… Товарищ Савченко надолго уехал?
Не сказал. На неделю, может быть.
Вы, наверно, скучаете в одиночестве?
— Некогда скучать.
Хотя, ведь верно! Вы же наша единственная общественница. Наш духовный пастырь! И Быков засмеялся мягким, негромким смехом.
Варя начинала чувствовать себя неловко. Пришел за конспектом, расселся, уставился своими черными глазищами и завел какие-то непонятные разговоры. Не найдясь, что ему ответить, и еще больше оттого смущаясь, Варя встала и прошла в конец комнаты. Быков поднялся.
До свидания, — протянул он руку.
Варя почувствовала сильное пожатие и хотела выдернуть зажатые пальцы, но он не отпустил Кровь бросилась ей в лицо. Колючие глаза Быкова без стеснения разглядывали ее.
Я вас очень уважаю, — сказал он. — Возьмите от меня в подарок зайца.
— Что вы… — растерянно пробормотала Варя. — Зачем это?
Отвязав зайца и положив его на стол, Быков пошел к дверям.
— Конспект я принесу завтра, в конце рабочего дня, вечером. Вы будете дома? — И, не дожидаясь ответа, ушел.
Варя опустилась на стул. «Какой тяжелый человек!» — подумала она. — Неприятный…»
Со злостью посмотрела на подарок. «Отдам Елене Николаевне в детский сад. Будет детям на обед…».
ЧЕН
Выполнив очередное задание, отряд пограничников возвращался на заставу. Придерживая коней, всадники осторожно спускались по узкой и крутой тропе в ущелье.
В горах Памира наступала зима 1942 года. Накануне разыгралась метель и завалила снегом ущелья и проходы. Путь преграждали сугробы. Они висели над пропастью, прицепившись к гранитным уступам, как комья ваты на новогодней елке. Бойцам приходилось спешиваться, браться за малые саперные лопатки и расчищать себе дорогу.
Минуя опасные места, пограничники спустились в долину. Сразу стало очень холодно. Сюда не проникали лучи заходящего солнца. Высоко, в безоблачной синеве, ослепительно блестели белоснежные вершины. Дорога стала широкой, до заставы оставалось немного, кони сами перешли в рысь.
Вдруг конь старшины, ехавшего впереди отряда, шарахнулся в сторону, заплясал на месте и скосил испуганные глаза на огромный придорожный камень.
Там, в углублении между скалой и камнем, притаился мальчик. Лохмотья изодранной одежды едва прикрывали его худенькое тело. Темные настороженные глаза искрились, как у зверька.
— Вот так находка! — произнес удивленный старшина. — Ну-ка, Джумаев, посмотри, что это там за человек?
Ловко спрыгнув с седла, боец подошел к камню.
— Мальчишка, товарищ старшина! Посинел весь, замерзает…
— Забирай его с собой! Да заверни хорошенько в полушубок.
Но едва Джумаев подошел ближе, мальчик, испуганно вскрикнув, бросился бежать.
— Ух, ты, какой дикий! — Боец от неожиданности отпрянул в сторону.
Однако мальчик, пробежав несколько шагов, со стоном упал на дорогу.
Джумаев подошел и, ласково мешая с русскими таджикские и китайские слова, какие только знал, стал поднимать его.
— Видно, китайский мальчик, — сказал подошедший старшина.
— Так точно, товарищ старшина, китаец, — подтвердил Джумаев.
Он усадил мальчика к себе в седло, завернул полами полушубка и отряд продолжал свой путь.
Согретый полушубком, убаюканный цокотом копыт, мальчик заснул, прислонившись головой к груди бойца.
Было далеко за полдень, когда отряд подъезжал к погранзаставе.
Маленького китайчонка встретили удивленными возгласами.
— Это что за новобранец к нам прибыл?
— Где ты его взял, Джумаев?
Капитан Мороз подошел к группе бойцов, окруживших мальчика. Необычайная обстановка, вид военных, громкие их голоса так напугали мальчишку, что он прижался к стене, как застигнутый врасплох мышонок.
— Отставить разговоры! — полушутливо сказал капитан. — Накормить ребенка и уложить спать.
Мальчика повели в столовую, но накормить его оказалось не так просто. Один из бойцов присел перед ним на корточки с тарелкой каши.
— Ну-ка, отведай нашей, солдатской!
Мальчик заслонился ладонью, как от удара.
Поен протянул руку, желая погладить его по голове. Мальчик отпрянул. Глаза его сверкнули, как два уголька.
— Ишь какой! Еще нос откусит, — поднялся пограничник с тарелкой. — Не гожусь, видно, в няньки.
Как ни пробовали бойцы накормить мальчугана — ничего не получалось. Он упорно заслонял лицо ладонью.
В столовую вошел капитан Мороз.
Ну, что, накормили гостя?
Не ест, товарищ капитан!
— Гм… Что ж это ты, брат? — Капитан положил руку на голову мальчика. Тот сжался, но не отстранился.
— Вас он признает, товарищ капитан!
— Дайте ему чаю, — сказал Мороз, испытывая щемящую жалость при взгляде на измученное лицо ребенка.
Джумаев, лукаво поглядывая на мальчика, уселся напротив него и с аппетитом стал пить чан из расписанной узорами пиалы. Он громко откусывал сахар и с наслаждением жевал румяную лепешку. Бойцы поняли уловку Джумаева и с интересом наблюдали, что будет дальше.
Причмокнув, Джумаев взял кусок сахару и протянул его мальчику.
— Возьми. Ли, хороший, сладкий. Якши!
Черные, как смородинки, глаза ребенка с восхищением уставились на сахар. Вдруг он быстро протянул руку, схватил сахар и зажал его в кулаке.
Ешь, ешь, малец, — послышались растроганные голоса.
Мальчик, метнув недоверчивый взгляд вокруг. поднес сахар к губам, не решаясь попробовать, и, внезапно сунув в рот весь кусок, стал с таким хрустом грызть, что все испугались за целость его зубов.
Минут через пять он уже сидел на скамье против Джумаева, пил чай и с жадностью уплетал лепешку. Знакомство продолжалось.
— Тебя как зовут? — спрашивал Джумаев. — Я, моя, Керим, Керим! — тыкал он себя в грудь, — Твоя — Ким? Ши-Ен? Ли-Цян?
— Чен, — послышался тихий ответ.
— Чен, ишь ты! — заговорили бойцы.
— Откуда же ты, Чен? Оттуда? — показывали они в сторону востока. — Из Китая?
— Сньцзянь, — прошептал мальчик.
После обеда Чена помыли в бане, одели и привели к капитану. Самый маленький размер обмундирования, который с трудом разыскали на складе, всё же был очень велик для мальчика. В своем новом наряде Чен выглядел так комично, что капитан Мороз не мог сдержать улыбки. Он опустился на корточки перед мальчиком и заглянул ему в глаза. Взгляд Чена, доверчивый и умоляющий, остановился на лице начальника заставы. Морозу захотелось подарить что-нибудь мальчику, порадовать его. Но ничего не было подходящего. Подойдя к полке с книгами, капитан начал перебирать их, искать какую-нибудь книгу с картинками и неожиданно обнаружил тонкую детскую книжку — «Пионерский лагерь». Как она сюда попала, он сам не знал. Обрадованный удачей, Мороз дал книжку мальчику.
— Вот тебе, Чен, подарок от меня.
Мальчик протянул руку, глаза его засветились благодарностью, на лице появилась застенчивая улыбка. Книжка так ему понравилась, что он целыми часами простаивал где-нибудь возле окна, положив книжку на подоконник и рассматривая картинки.
Скоро к мальчику все привыкли. Особенно крепкая дружба завязалась между ним и начальником заставы. В свободные минуты капитан учил Чена русскому языку, объяснял значение картинок. Через две недели Чен уже знал много русских слов. Он произносил слова певуче, с китайским акцентом, смешно их коверкая.
Как-то перед обедом пограничники вышли на учебные занятия по стрельбе. У глухой стены была установлена деревянная мишень. Стреляли на расстоянии двадцати шагов из нагана. Чен стоял в стороне и с интересом следил за результатами стрельбы.
Подошла очередь стрелять Джумаеву. Пока тот целился, на глазах у всех в воздухе мелькнул какой-то блестящий предмет и со свистом вонзился в самую середину мишени, в черную точку. Раздосадованный Джумаев бросился к мишени. В центре круга торчал нож с простой деревянной ручкой. Эта шутка была неслыханным нарушением воинского распорядка.
— Кто это сделал? — строго спросил старшина.
Бойцы, не чувствуя за собой вины, недоумевающе переглядывались. Старшина повторил вопрос.
— Нет виноватых? Хорошо. Всем двенадцати человекам — наряд вне очереди: чистить конюшню.
На лицах бойцов отразилась обида.
И только старшина хотел подать команду: «Кругом марш», как к нему подбежал Чен и со слезами на глазах, запинаясь, проговорил:
— Товарищ старшина. Моя нож кидай.
— Так это ты бросил? — удивился старшина.
Бойцы окружили Чена.
— Ай, ловкач!
— Здорово! В самую точку попал!
— А ну, давай еще разок!
Старшина сердито посмотрел на Чена, хотел прикрикнуть на бойцов, потом брови у него разошлись и он задорно подмигнул оробевшему мальчику.
— Попадешь еще раз в цель?
— Попадешь, попадешь! — так и загорелся Чен.
Он стал бросать нож. И каждый раз без промаха попадал в центр мишени.
Бойцы рассказали начальнику заставы о ловкости Чена.
— Где же ты научился? — спросил капитан, усаживая Чена рядом с собой.
Мальчик низко опустил голову, плечи его дрогнули и, вместо ответа, расплакавшись, он уткнулся лицом в колени капитана.
В один из морозных дней наступившей уже зимы на заставе появился Цой. Застигнутый в горах метелью, он несколько дней с трудом пробирался среди глубоких снегов, таща на плечах убитого им архара. Начинали сказываться годы. Решив переждать метель на за-ставе, старик отдал барана на красноармейскую кухню.
Цой сидел с капитаном Морозом за неизменным чаепитием, когда на пороге кабинета появился Чен с книжкой в руках. Старый охотник порывисто вскочил.
— Чем! Ты…
От неожиданности мальчик отступил назад, потом глаза его расширились, губы задрожали и он бросился навстречу старику.
— Дедушка Цой!..
Капитан, взволнованный, молча наблюдал за встречей. А мальчик, стоя перед Цоем, о чем-то быстро-быстро заговорил на родном китайском языке. По мере того, как рассказывал мальчик, лицо старика мрачнело, голова опускалась всё ниже на грудь, и когда Чен, вдруг всхлипнув, расплакался, Цой обнял его и, прижимая к себе, проговорил по-русски:
Плакать не надо, Чен! Твоя хорошо делал. Ночь кончается рассветом, горе-радостью…
…Когда Цой бывал еще в Кашгаре, он останавливался в доме своего приятеля, старого башмачника Ван Мина. Там он встречал его племянника Чена, забегавшего частенько подкормиться. Семья Чена ютилась в крохотной хижине у речки. Отец его работал на кожеконном заводе. Завод вдруг стал и отец остался без работы. Мальчика отдали на обучение балаганному фокуснику и жонглеру. Чен учился у него опасному искусству — метать ножи. Старый пройдоха фокусник водил мальчика по людным улицам Кашгара. Все собранные деньги балаганщик брал себе, — Чену доставались две-три мелкие монеты, которые он, зажав в кулаке, приносил отцу.
В одно морозное утро в поселок нагрянули солдаты. Они выгнали жителей из хижин, окружили место, где стоял поселок, колючей проволокой и стали ломать ветхие хижины.
На месте поселка образовалось огромное голое поле — аэродром.
Люди решили просить защиты у городских властей. Пошел с ними в город и отец
Чена. Их
встретили солдаты и полиция. Мальчик видел, как повесили его отца и жестоко избили мать. В ту же ночь она умерла. Рано утром дядюшка Ван Мин вдвоем с соседом похоронили ее.
Чен часто слушал рассказы дяди Ван Мина, приютившего его, о советской стране. Для мальчика это была сказочная страна. В ней- ни богатых, ни бедных, а особенно хорошо живут там дети. Так говорил дядя Ван Мин. И Чен решил уйти в эту страну…
Капитан задумчиво смотрел на маленького китайчонка.
Цой потянулся к пиале, отхлебнул глоток остывшего чая. Потом сказал несколько слов по-китайски и ласково погладил мальчика по голове.
— Моя уходить надо, капитана, — сказал он, поднимаясь.
— Куда же ты пойдешь, Цой, в такую темень? Переночуешь у нас и мальчику будет приятно побыть с тобой…
Капитан позвал ординарца.
— Лукаш! Отведи Цоя и мальчика в столовую. Скажи, чтобы их хорошо накормили.
Когда они ушли, капитан задумался. Какая же должна быть воля у ребенка, чтобы пережить такое горе и преодолеть трудный и тяжелый путь через горы? «Ночь кончается рассветом, горе — радостью», — сказал Цой. Мальчик заслужил эту радость. Надо как-то устроить его. Для начала, может быть, отвезти в Сарыташ, в детский сад?
Рано утром, ни с кем не попрощавшись, Цой ушел к себе к кишлак.
— Что-то наш старик сильно расстроенный ушел, — доложил Лукаш начальнику заставы. — Такой хмурый стал прямо-весь черный!
— Не натворил бы чего, — озабоченно сказал тот. — Мальчик сильно растревожил его. Надо было бы не отпускать его так скоро с заставы.
Капитан стоял у окна и смотрел во двор Пограничники чистили лошадей. Трое бойцов переносили в конюшню вязанки сена. Чен старался помогать им. Он то и дело подтягивал длинные рукава гимнастерки или подвязывал громоздкие солдатские ботинки-
— Надо одеть мальчика, как следует. Куда это годится! — сказал капитан Лукашу.
Чен увидел в окне начальника заставы и глаза его заискрились радостью.
— Любит вас мальчонка, товарищ капитан, — сказал Лукаш.
— Ты думаешь? — спросил Мороз, довольно улыбаясь.
И какое-то новое чувство, радующее своей теплотой и горячей нежностью, шевельнулось у него к этому чужому черноглазому мальчику.
НА ТОЙ СТОРОНЕ
Комфортабельный пассажирский самолет на большой высоте шел курсом на запад. Под ним простирались горы Куэнь-луня. Самолет сильно качало, он то и дело проваливался в воздушные ямы.
Бланк, с побледневшим от беспрерывной качки лицом, плотнее прижимался к креслу и, чертыхаясь, поглядывал вниз за окно. Под крыльями самолета, где-то далеко внизу, сквозь обрывки клубящихся облаков, вырисовывались цепи гор. Они казались отсюда бесконечным полем, по которому только что прошелся гигантский плуг, оставив после себя глыбы вспаханной земли.
По этой трассе Бланк летал уже дважды и каждый раз путь над горами тянулся для него томительно долго, его укачивало, и он грыз спасительные лимоны.
Первый раз, незадолго до второй мировой войны, Бланк летел в провинцию Китая — Синьцзянь, главным образом, из-за коммерческой операции, сулившей ему большие барыши. Во время остановки в Шанхае он побывал на банкете в узком кругу высокопоставленных лиц. При участии военного представителя иностранной державы, занимавшего тогда в Китае ответственный пост, состоялась встреча с главой одного из «четырех семейств», крупнейшим китайским монополистом, благодаря которому он, Бланк, получил разрешение на закупку шерсти и вольфрама. Перед отъездом в Синьцзянь он нанес неофициальный визит влиятельному военному представителю и, заручившись письмом и кое-какими инструкциями, отбыл по месту назначения, в город Кашгар.
Первая поездка принесла удовлетворительные результаты. Были организованы изыскательские отряды вдоль границы Памира, куда не раз пришлось выезжать ему самому в компании с господином Таунсеном, консулом другой иностранной державы, не совсем приветливым человеком. Как ни недолюбливал его Бланк, но Таунсен был большим знатоком по восточным и, особенно, по русским делам, поэтому с ним приходилось считаться.
Откровенно говоря, Бланк нисколько не протестовал против таких поездок, где приятное сочеталось с полезным, хотя лететь над горами Куэнь-луня и не доставляло особого удовольствия и больших удобств. Однако эта провинция тянула к себе, как магнит, еще вот почему.
Немецкие армии вторгались всё дальше вглубь Советского Союза. Они заняли огромные территории и сейчас судьба страны решалась у стен Сталинграда. Очень похоже, что советским войскам не устоять, а тогда… Памир, а за ним вся Южно-Азиатская часть Советского Союза, эта богатейшая область страны, этот особенно лакомый кусок, может быть отторгнута!..
Бланка, как человека делового, очень привлекали такие перспективы. Памир — золотое дно. Времени терять нельзя. Не сегодня — завтра война может совсем плохо обернуться для русских…
К полудню Бланк прибыл в Кашгар.
На одной из центральных улиц этого города, за высокой каменной оградой расположился богатый особняк — резиденция Таунсена.
Чьи интересы представлялись им в этой части китайской провинции, в чем заключаются его дипломатические функции, пожалуй, сам верховный правитель Синьцзяна, генерал Ляо-Цай точно определить не мог. Хорошо было известно только одно: Таунсен связан особыми взаимоотношениями с гоминдановским правительством и пользуется полной свободой действий.
Генералу Ляо-Цаю не раз приходилось бывать в особняке Таунсена. Он любил здесь послушать хорошую музыку. В комнате, обставленной низкой мягкой мебелью в восточном вкусе, с персидскими коврами и диванами, стоял в углу мощный радиоприемник.
Частенько, проходя мимо особняка иностранного представителя, рабочие поглядывали на генеральскую машину и, кивая головой в сторону окон, откуда доносились приглушенные звуки модного фокстрота, шопотом говорили между собой: «Старая собака! Музыку слушает… Продает он нас оптом и в розницу…»-
В эту снежную зиму у генерала Ляо-Цая было много забот и неприятностей. Не давали покоя партизаны.
Сегодня впервые выдался тихий день и генерал в приподнятом настроении собирался в гости. Преклонный возраст сказался на его и без того щуплой, невзрачной фигуре. Проходя мимо высокого трюмо, генерал бодрился, выпрямлял сухую, сутулую спину, мельком бросая взгляды на свое отражение. Лицо его. изрезанное морщинами, без единого признака растительности, выражало удовлетворение.
Сквозь большие роговые очки поблескивали узенькие, бесцветные глаза.
Ляо-Цай собирался нанести визит иностранному консулу, к которому прибыл на самолете важный гость. Генерал уже был знаком с ним. В прошлом году он продал Бланку большую партию шерсти. Сейчас наклевывалось не менее удачное дельце.
Генерал остановился возле окна и посмотрел во двор. К парадному крыльцу подошла легковая машина. Ляо-Цай подсел к письменному столу и снял телефонную трубку.
…В глубоком обитом красным сафьяном кресле, у большого письменного стола сидел тучный Бланк с сигарой во рту. На его гладко выбритом лице отражалось самодовольство. Откинув слегка назад, на спинку кресла, голову, он пускал колечки дыма, искоса поглядывая на хозяина.
Чопорный, сухой, как осенний лист, Таунсен сидел с бесстрастным лицом, плотно сжав губы. Уже более получаса они перебрасывались репликами, которые служили скорее упражнениями для ума, чем деловым разговором. Вошедший слуга-китаец, мягко ступая по ковру, молча поставил перед ними на подносе бутылку виски, коньяк и содовую воду. Ловко обтерев салфеткой рюмки, он так же молча и неслышно удалился.
Бланк налил себе рюмку виски и одним глотком ее выпил.
— Я надеюсь, уважаемый Таунсен, вы поможете мне организовать небольшую экспедицию в горы?
— Да, конечно. Местное управление полиции обещало мне подыскать надежного проводника… К часу дня должны сообщить.
— Отлично… А как наши изыскательные отряды? Какие успехи?
— В том смысле, в каком имеете в виду вы, Бланк, — плохо.
— Не хватило средств?
— Не то… Почти во всех случаях — провалы.
Бланк, хмуро пододвигая пустую рюмку, иронически спросил:
— За что же мы тогда платим деньги?
Таунсен налил себе рюмку коньяка и, не спеша, выцедил ее сквозь зубы.
— А это, я полагаю, надо спросить у советских пограничников, — пожевав губами, произнес он.
— Милая шутка! — совсем невесело рассмеялся Бланк. — Просто были подобраны неучи, профаны… Надо организовать новую группу. Я попрошу вас помочь мне вызвать этого, как его, с бородой, Зарецкого и отобрать из числа опытных русских белоэмигрантов, знающих Памир, человек пять…
— Зарецкого уже нет. Он удачно сумел уйти во время операции, но был задержан, когда пробирался обратно… С ледником Федченко ничего не получилось.
— Как! Такой опытный офицер! Надеюсь, вы сами понимаете, как нам необходимо знать, ради наших общих интересов, результаты их исследований…
— Представляю.
— Надо набрать новых людей, лучше заплатить- Я не думаю, чтобы граница сейчас хорошо охранялась. Советам сегодня очень нужны люди в другом месте, на фронте…
— Попробуем, — прищурившись, ответил Таунсен. — Людей мы подобрали. Нужны опытные проводники.
Позвонил телефон.
— «Рахиму» передайте, что я недоволен им. Велико дело — отправить на тот свет какую-нибудь сотню овец и сжечь стог сена.
— Я с вами не согласен, Бланк. Вы забываете о панике! Нам важно посеять среди тамошних жителей панику…
— Наивный вы человек, Таунсен. Чтобы создать панику, надо провести целую серию больших и малых диверсий… Кажется, именно такое указание и было дано «Рахиму»?
Позвонил телефон.
— Да, — ответил Таунсен, прикладывая трубку к уху, — добрый день, генерал. Гость у меня Приезжайте.
Он повесил трубку.
— Через час пожалует генерал Ляо-Цай. Он питает к вам особое расположение, Бланк.
Генерал! — фыркнул тот. — Бросаем деньги на ветер! Сколько получают вооружения! До сих пор эти генералы вместе со своим Чан Кай-ши ничего не сумели сделать для мало-мальски организованного наступления на коммунистические районы.
Неслышно распахнулась портьера в дверях и слуга доложил:
— Пришел начальник полиции Ли Ван с проводником.
— Очень хорошо. Зови их сюда.
Минуты через две в кабинет вошел начальник полиции Ли Ван. На его скуластом, изрытом оспой лице застыла улыбка. Подобострастно склонившись, он часто кивал головой и растягивал слова:
— Добрый день, здравствуйте, господа! Нашел опытного человека. Знает горы, как моя теща свою печку! Кланяйся господам, Цой! Кланяйся! Проводник Цой, господа, рекомендую, старый охотник и вполне…
СЕРЕЖА
Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как семья Дорошенко поселилась па участке. Ирине Васильевне казалось, что она живет уже очень давно в этом маленьком поселке, затерявшемся в горах. Война отодвинулась куда-то далеко, далеко и, казалось началась она тоже очень давно, — так давно, что позабылась уже прежняя жизнь. Порою Ирина с недоумением вспоминала, что она иногда бывала чем-то недовольна в той, прежней жизни.
Так, она месяца два переживала из-за того, что ей дали «трудный класс» и считала, что завуч сделал это нарочно, потому что он ее недолюбливал. Где теперь ее «трудный класс», ее славные ребята? Ей не нравилась тогда их квартира, большая, светлая, но казавшаяся" ей неуютной. Какими незначительными выглядели теперь все эти маленькие житейские огорчения!
Теперь они всей семьей жили в небольшой комнате с крохотной кухонькой, в которой полная Аксинья Ивановна еле могла повернуться. Ирина спала со свекровью на одной койке; было очень тесно и неудобно. Она часто оставалась ночевать в детском саду. В комнате еще не поставили печь, было холодно, но теперь Ирина о всех этих неудобствах не думала. Наоборот, ей казалось, что они устроились неплохо, живут спокойно, не голодны, все здоровы, — чего же еще надо? И если на лице у Ирины частенько появлялось выражение грусти, то не ее нынешнее положение было тому причиной.
Она всё еще не могла свыкнуться с мыслью, что муж погиб. Скрывала свои переживания от свекрови и особенно от сына. Сережа был впечатлительный мальчик и очень любил отца. Известие о его смерти пережил крайне болезненно. Он убежал из дому и долго его не могли разыскать. Потом Сережа больше месяца пролежал в постели.
Ирина старалась поменьше напоминать ему об отце. И так живется нелегко. Незачем лишний раз травмировать сердце мальчика.
Но сын рос. наблюдательным и всё замечал.
Мама! Что с тобой? Отчего ты такая?
— Какая?
— Ну, такая, грустная…
— Ничего, Сереженька! Садись поешь и займись уроками, — как можно веселее отвечала она.
Сережа подружился с Черновым.
Любя детей и тоскуя по дочери, Владимир
Константинович привязался к мальчику. Сережа часто попадался ему во дворе. Они разговаривали, как взрослые,
— Ну, что ж, давай, заходи, — приглашал Владимир Константинович мальчика, когда тот, бывало, провожал его до самого дома.
Сережа, немного помедлив из вежливости, заходил. Они играли в шахматы. Тетя Саша, уборщица конторы, принявшая на себя заботу о домашнем хозяйстве Чернова, подсовывала мальчику что-нибудь вкусное.
Не дождавшись сына, Ирина заглядывала к Чернову. Иногда присаживалась и следила за игрой. Если сын выигрывал, она, не скрывая удовольствия, говорила:
— Вы невнимательно наблюдали за его конем.
Таких вечеров было немного. Они доставляли Чернову неизъяснимое удовольствие. Неожиданно для себя, он однажды понял, что ждет прихода Ирины с волнением.
Тетя Саша заключила:
Очень милая женщина.
Она приглашала всех к ужину. Владимир Константинович шутил с Сережей, смеялся; Ирина говорила мало, останавливала расшумевшегося мальчика.
Научившись ходить на лыжах, Сережа очень часто уходил далеко от Сарыташа, взбирался на горные склоны и скользил оттуда в долину. Было что-то упоительное в этом стремительном скольжении по ослепительной глади снега.
Даже трудный подъем «ёлочкой» наверх, чтобы снова повторить всё сначала, тоже доставлял немало удовольствия мальчику.
Но однажды Сережа попал в метель и заблудился! Его после долгих поисков разыскали в соседнем горном ущелье на рассвете. Чернов, лично принимавший участие в поисках, вместе с Мухтаром принес мальчика к себе домой.
Его встретила Ирина, еще более похудевшая за этот день, с опухшими от слез глазами.
— Он жив, он жив, мой мальчик… — шептала она. — Как я вам благодарна, Владимир Константинович…
Чернов вызвал врача и, пошатываясь от усталости, пошел в контору. Там ждали срочные дела.
Савченко встретил его сообщением, что пять человек в том числе Исмаил, призываются в армию.
— Придется готовить машину пораньше утром, чтобы отвезти призывников. Снова начался снегопад, как бы не застрять!
— Люди предупреждены? — спросил Чернов.
— Да. Эх, Исмаила жалко отпускать… — проговорил Савченко.
— Поубавится у нас людей. Трудновато будет. — Владимир Константинович вскрыл письмо из Управления. — Так, Василий Иванович… Еще новость. Письмо от начальника Управления. Предлагают нам принять все меры, чтобы в ближайшие две недели наша дорога была в проезжем состоянии. Предполагается пропустить без задержки большую автоколонну с грузом в Хорог…
— Автоколонну в Хорог?! — удивился Савченко.
— Да, в Хорог.
Савченко озабоченно присвистнул.
Чернов пошарил по столу нашел коробку, вытащил папиросу и принялся обминать ее пальцами.
— Колонна по правительственному заданию. Туговато нам, придется Василий Иванович. В такую суровую зиму… беспрерывные снегопады, метели! И потом… от Аличура дорога совершенно закрылась.
— Не представляю, товарищ начальник, как колонна сможет пройти? Для этого потребуется, я и не знаю, сколько людей! Не говорю уже о технических средствах!
— Трудное дело, бесспорно. Но в Управлении об этом знают. Им хорошо известно состояние дороги. Значит, задание настолько важное, что возражать не приходится. Колонну нужно пропустить.
Пропустить, но как? Когда?
Это другой вопрос. А пока что нам надо пересмотреть, как расставлены силы… Где сейчас мастер Аничкин? — спросил Чернов, закурив наконец.
На Алае. С бригадой. Там настоящее светопреставление! Аничкин звонил, что снегу намело в долине — местами телефонных столбов не видно! Слышимость отвратительная, еле разобрал!
— Надо вызвать его и сообща хорошенько посоветоваться…
В дверь постучали. Вошел Абибулаев.
— Ну, как? Малый снегоочиститель готов? — спросил Чернов.
— Шов заклепали. Можно погонять. Станок с Исмаилом закончили. Пробовали точить, работает… как часы. Исмаил, ай, радуется станком! Насилу из мастерской вытащили…
— Да, Абибулаев… Не придется ему работать больше на станке!
— Как так? Почему не придется?
— В армию уходит Исмаил, призывают…
— Ай-ай! Жалко парня! Золотой парень…
Чернов поднялся и заходил по кабинету. Ему и самому жаль было расставаться с Исмаилом.
Армии тоже хорошие люди нужны, Абибуласв, — садясь снова за стол, ответил Чернов. — Пожалуй, даже больше, чем нам.
— Это правда, нужны… — мял шапку в руках Абибулаев. — Эх, проклятые фашисты!..
Он никак не мог примириться с мыслью, что придется расстаться с приятелем.
Чернов снова закурил.
— Тяжелый выпал день, — сказал он. — Теперь у Фатимы будет целое море слез. Вы когда думаете направить ее в долину?
— Завтра с утра. Сегодня уже поздно. Снегоочиститель задержал.
— Да… Не хотелось бы расставаться с Исмаилом. Хороший он работник, напористый, дельный! — задумчиво продолжал Чернов.
— Растущий парень.
Чернов надел шапку.
— Я пошел домой — Сережа ведь у меня лежит. У них холодно да и тесновато. Надо выбрать время и поставить им печь… Если приедет капитан Мороз, вызовете меня.
ЦОЙ ВЕДЕТ
Впервые Цой не сдержал слова которые дал капитану Морозу. Цой перешел границу. Уходя в Китай, он понимал, что поступает нехорошо, что это грозит ему большими неприятностями, может быть, даже судом, но изменить решение у старика не хватило сил.
Услышав от Чена рассказ о кровавом злодеянии в Кашгаре, Цой почувствовал, что, переполнен гневом. Он хотел действовать! Невыносимая тоска по родным местам измучила старика.
В морозную февральскую ночь сидел он под низким деревянным навесом на опустевшем дворе кожевенного завода. С ним было еще несколько мужчин. Говорили вполголоса.
— Так-так — вздохнул один из них- Хорошую сказку ты нам рассказываешь, Цой! Хотел бы я хоть одним глазом взглянуть, как горит электричество в кишлаках! Так, говоришь, и Хороге для народа дома большие поставили? И в них простые люди живут?
— Такие как мы с тобой.
— А мы последней чашки риса лишились. Дома па слом пошли. Аэродром для иностранцев строить понадобилось, — объяснил другой собеседник. — Счастливый ты человек, Цой. Дом нашел, друзей нашел, голодать не будешь!..
— Одно осталось — идти в партизаны. Семьи жалко, детишек… Что делать будут? С голоду погибнут…
— Денег немного я дам, остались припасенные… Зачем мне — я один.
— Спасибо, Цой. Да хранит тебя добрый дух от всяких несчастий и на много лет жизни! Помогаешь ты нам…
Когда идти собираетесь?
— Через два дня на рассвете. Нас поведет человек Ши Чена.
— Ши Чена?
— Да. Он пополняет запасы питания для отряда. Пойдет далеко в горы…
Ши Чен! Озорник-мальчишка, родной брат невесты Цоя, погибшей во время наводнения. Как давно это было! Ши Чен-командир партизанского отряда! Он здесь где-то близко. Как Цою хотелось бы поговорить с ним, повидаться. Ши Чен, наверно, видел Мао Цзе-дуна!..
От нахлынувших мыслей Цой не слышал, что ему говорили его друзья под навесом. Он сидел на корточках рядом с ними, склонив голову на грудь, унесясь в далекое, далекое прошлое.
— Ну, Цой! — вдруг услышал он, как сквозь сон. — Через два дня встретимся. Попрощаемся здесь. Отсюда безопаснее идти в горы… Ты где ночуешь?
— Пойду к старику Ван Мину. Если к сроку не буду — передайте привет Ши Чену. Скажите, Цой тоже не даром живет на этом свете! Прощайте, друзья! Деньги твоей жене, Чжу, передам…
Легкой походкой шел Цой по теневой стороне улицы, часто сворачивал в переулки. Новости, какие он узнал сегодня, сильно взволновали его. Картины далекой юности, вызванные упоминанием имени Ши Чена, рассказы его друзей крестьян, бедственное положение их семей, — всё это, как никогда, поразило Цоя. Живя на советской стороне, он уже привык быть свободным человеком.
Охваченный тревожными мыслями, Цой пробирался к центральной части города, где в небольшом домике жил его приятель, башмачник Ван Мин. Цой решил у него заночевать.
Полумесяц уже цеплялся рогом за выступы высоких гор, покидая потемневшее ночное небо Далекие звезды загорались еще ярче-
Неожиданно из-за угла, навстречу старику, вышла группа полицейских.
Стой! резко скомандовал один из них. Кто такой? Куда идешь?
Темноту ночи прорезал узкий пучок света карманного фонарика и застыл ярким пятном на лице Цоя.
— Ба! Да ведь это же старый наш знакомый Цой. Откуда ты взялся, старый хрыч? А мы шли и горевали, кто бы нас угостил стаканчиком рисовой. Где ты пропадал, старина?
— Далеко был. В Маньчжурии…
Цой мрачно смотрел па полицейских. Это были действительно его «знакомые». Лет пять назад, когда Цой еще жил в Кашгаре, они не давали ему прохода. Стоило старику вернуться с охоты, как эта свора начинала ходить за ним по пятам, выпрашивая угощение на заработанные им деньги. Потому-то они так и обрадовались, увидев Цоя.
А тут еще — приказ начальника полиции подыскать хорошего проводника.
— А-я-яй, как во время ты пришел, старина. Мы поведем тебя к самому Ли Вану, но сначала ты поднеси нам по стаканчику рисовой… А-я-яй!..
И подхватив старика под руки, полицейские весело потащили его за собой.
..Склонив слегка голову, Цой с достоинством поздоровался. Глазами, привыкшими оценивать человека с первого взгляда, Цой молча рассматривал этих двух, так непохожих друг на друга, иностранцев.
Таким же оценивающим взглядом смотрел на него Бланк.
— Хорошо! — удовлетворенно произнес он наконец. Я человек дела. Сколько возьмешь, чтобы провести людей через горы?
«Ага, вот зачем меня притащили сюда», — подумал Цой.
— Ну, чего же ты молчишь? — недовольно поторопил его Бланк.
Цой сделал вид, что взвешивает. «Отказаться? Пристрелят, только и разговора. Хорошо, я поведу их, я поведу…»
— Пять тысяч долларов, — спокойно сказал он.
— Ты с ума сошел, старик! — даже привстал с кресла Бланк.
— Нет, господин! Пять тысяч долларов, наличными.
— Две тысячи китайскими-и хватит с тебя на неделю пьянствовать! А потом ты не забывай, что мы можем просто заставить тебя вести людей!..
Цой чуть-чуть усмехнулся.
— Важный господин наверно плохо знает Цоя. Кто же будет вести меня силой в горы?
— Оставьте, Бланк, — вмешался Таунсен. — Мне говорили об этом старике. Лучше его никто не знает гор… Завтра явишься сюда утром. Будь готов в путь, — обратился он к Цою.
Цой поклонился и вышел. Сопровождавший его начальник полиции, который только что помыкал стариком, как хотел, теперь вел себя с ним чрезвычайно предупредительно.
За окнами послышалась сирена легковой машины. В комнату вошел слуга.
— Генерал Ляо-Цай!
Проси.
С еле заметной улыбкой Таунсен посмотрел на своего гостя.
— Вот и «верховный владыка» Синьцзяна прибыл. Вам предстоит удовольствие договориться с ним. Когда подойдет момент коммерческой сделки, я выйду, чтобы не смущать вас.
— Вы чрезвычайно любезны, Таунсен.
На другой день в кабинете Таунсена, кроме него самого и Бланка, сидел лысый человек с отечным лицом, в полувоенной форме, которого хозяин называл князем Мещеряковым.
Все трое стояли у стены, на которой висела большая карта юго-западного Китая и граничащих с ним Непала, Индии и советского Памира.
Мещеряков говорил:
Группа должна разделиться, как только она пройдет опасные места. При необходимости старика-проводника можно будет убрать… Вот эти наши люди, — он достал из бокового кармана список и зачитал фамилии, — должны снова попытаться пробраться к перевалу Кашал-аяк, на высокогорную станцию. Другая группа… Я не знаю, осведомлен ли об этом господин Бланк? — Лысый взглянул на Таунсена. Тот кивнул головой. — Другая группа будет ориентироваться на Мургаб и повторит попытку Васильева… «Рахиму» дано задание организовать операцию «три». Он передает, что там должна пройти большая автоколонна. «Рахиму» не трудно будет выполнить задание, он сам из тех мест, на ферме его приятель…
Мещерякова прервал телефонный звонок. Звонил генерал Ляо-Цай- Таунсен недовольно, коротко ответил и положил трубку.
— Надоел! Хочет приехать с каким-то сообщением … Продолжайте, князь!
— Я уже закончил.
Таунсен позвонил и велел слуге привести проводника. Когда Цой вошел, Мещеряков некоторое время молча разглядывая его, потом подошел вплотную.
Вот что, старик. Я хочу тебя предупредить. Ты отвечаешь своей жизнью за людей. Перейти должны все, понятно? Случись что-нибудь и… — выразительным жестом он махнул перед лицом Цоя.
Цой стоял спокойно, лицо у него было усталое и бесстрастное. Редкие, выцветшие ресницы слабо шевельнулись в ответ на угрозу…
К вечеру того же дня грузовая машина шла по дороге в горы. Люди, сидевшие в машине, выглядели простыми рабочими, дорожниками. Горные палки, кирки, лопаты, рюкзаки за плечами, кое у кого охотничьи ружья.
Сидя у борта машины, Цой смотрел из-под нависших густых бровей в сторону далеких, синеющих гор, где скрывался в легкой дымке Кашгар, его родная земля. С каждым поворотом всё больше удалялся дорогой его сердцу город.
Вчера Цой повидал партизанского посланца и передал ему на нужды отряда полученные от Бланка деньги. Партизан был изумлен.
— Молчи, — сказал ему Цой. — Я знаю, что делаю.
Всё ближе надвигались горы, его родная стихия, где Цой знал каждый камень, каждую тропку, каждую пещеру, десятки лет служившие ему и домом, и укрытием. Приближалась страна, где он нашел друзей, свою вторую родину, страна, где он впервые почувствовал себя настоящим человеком, равным со всеми.
Может быть, это будет последний путь в его долгой жизни?.. Надо было все-таки пойти с друзьями в горы и повидаться с командиром отряда Ши Ченом. Интересно, какой он стал? Узнали бы они друг друга?
Цой очнулся, когда машина вдруг затормозила и остановилась на небольшом перевале. Это были уже горы. Ни города, ни долины отсюда не было видно. Вокруг лежал лишь снег, да висело над головой низкое, серое небо. Стояла такая тишина, что звенело в ушах.
Люди прыгали с машины. Цой слез вслед за ними. Отойдя чуть в сторону, он терпеливо наблюдал, как они готовились к походу.
Скорее бы идти, лишь бы не стоять здесь в томительном ожидании.
…Несколько часов подряд группа людей шла гуськом за проводником. Нужно было обладать хорошим опытом и сноровкой, чтобы совершить такой путь, какой остался уже далеко позади. Но, по видимому, люди были натренированы и им уже не раз приходилось бывать в таких походах. Только один раз в течение дня сделали короткий привал.
К ночи мороз стал крепчать. Кто-то захотел было разжечь костер погреться, но Цой запретил.
— Нельзя, — коротко отрезал он.
К утру группа находилась вблизи границы. Шли еще осторожнее, маскируясь, стараясь лишним шорохом не выдать себя. Цой волновался. Он чувствовал, что на этот раз ему дышится в горах тяжело, не так, как всегда. Провести незаметно людей… О, кто же это сможет сделать лучше, чем он! Цой знает, хорошо знает, куда надо идти, чтобы попасть… в руки советским пограничникам…
Уже настолько рассвело что было хорошо видно небольшую, окруженную кольцом высоких гор котловину, куда осторожно стали спускаться по указанию Цоя люди. Это уже была советская земля.
Стоя чуть в стороне от тропы, Цой руководил спуском, время от времени осматривая окрестность. Едва последний из путников спустился по узкой крутой тропе в долину, как неожиданно со всех сторон раздались выстрелы. Люди в первую минуту растерянно заметались на открытом месте, позабыв о проводнике.
Цой, на этот раз замыкавший группу, спускался последним. При первом же выстреле он стал карабкаться обратно, вверх, цепляясь за обледенелые камни руками. Боковыми, одному ому известными тропами он взобрался на выступ скалы и глянул вниз. Нет! Отсюда никому не уйти. Ни одному человеку! Цой привел чужих людей, врагов прямо в руки советских пограничников.
Старый охотник смотрел вниз и на его черном от загара, заросшем лице отразилось суровое удовлетворение. О, нет! Он не даром живет на атом свете! Капитан Мороз может теперь наказывать его, как хочет, зато Цой сделал свое дело.
Старик понимал, что помог избавиться от шайки грязных диверсантов, но он и не догадывался, какой удар он нанес замыслам господ Таунсен а и Бланка.
Цой хотел уже было спускаться вниз, как вдруг услышал хриплый приглушенный окрик:
— А-а, старая собака! Вот где я тебя нашел!..
Не успел Цой оглянуться — грянул выстрел, второй, и что-то обожгло старику спину.
У Цоя потемнело в глазах. Он сделал усилие, чтобы не упасть. В нескольких шагах стоял начальник отряда с искаженным от злобы лицом, с пистолетом в руках.
Цой чувствовал, что быстро слабеет. Неужели это конец? Как глупо… в последнюю минуту он позабыл об осторожности.
Собрав всю свою волю, с быстротой, какую позволили ему слабеющие силы, старик выхватил из-за пазухи нож и, целясь врагу прямо в шею, метнул его. Дикий крик ударился о скалы…

Шатаясь, истекая кровью, Цой подошел к упавшему диверсанту, вырвал у него из рук пистолет, шагнул к краю выступа и, расстреляв в воздух все оставшиеся патроны, в надежде, что его услышат пограничники, упал без сознания…
В САРЫТАШЕ
Машина, разрезая светом фар темноту, пересекала Алайскую долину. Она осторожно пробиралась по узкому снежному коридору, который образовался после расчистки дороги.
Капитан Мороз сидел в кабине, придерживая Чена у себя между коленями. Машина часто буксовала. Приходилось делать остановки, пограничники брались за лопаты, расчищали снег. Вдали светились огоньки Сарыташа, всё приближаясь и радуя перемерзших людей предстоящим теплом.
Склонившись к мальчику, Мороз спрашивал: «Тебе не холодно, Чен?». И плотнее кутал его шубой.
Сделав короткий поворот, машина легко пошла под гору по хорошо расчищенному широкому шоссе. Они въезжали на территорию участка Сарыташ.
У ворот детского сада машина остановилась. Капитан взял мальчика за руку и повел. Он слегка волновался. За два месяца очень привязался к Чену. Хорошо ли ему здесь будет? Кажется, заведующая славная.
На пороге их встретила Елена Николаевна.
— Заходите же, скоренько, не напускайте нам холода… — проговорила она, закрывая за гостями дверь на крючок.
— Ну, покажись, какой ты? — обхватила Елена Николаевна Чена за плечи, заглядывая ему в лицо. — Ух, какой черноглазый! Вы перемерзли, наверное, пойдемте ко мне. Сейчас я вас напою горячим чаем, согреетесь, — хлопотала она, стараясь скрыть свою радость.
Они вошли в соседнюю, теплую, хорошо натопленною комнату- Пахло молоком.
— Ой, молоко сбежит! — кинулась она к печке.
Открыв дверцу маленькой духовки, Елена Николаевна вытащила оттуда кастрюлю.
— Видите, как у меня удобно: и греет, и варит. Это всё Прокопыч. Есть у нас такой каменщик… Что же вы не раздеваетесь, Дмитрий Михайлович? — спросила она всё еще стоявшего в нерешительности капитана и, подойдя к мальчику, стала помогать ему расстегивать ватную куртку.
— Теперь полезай на диван, поближе к печке. и грейся. Вот так!
Капитан снял полушубок, ушанку и, сложив одежду на стул, остановился посреди комнаты. Он смотрел, как Елена Николаевна хлопотала возле Чена.
— Я, кажется, и не поздоровался с вами, — сказал капитан, улыбаясь, когда к нему подошла Елена Николаевна.
Он несколько дольше задержал в своей руке мягкую, горячую руку хозяйки, разглядывая ее глаза с большими зеленоватыми зрачками.
Елена Николаевна вся вспыхнула.
— Ух, какие у вас холодные руки! — шутливо вскрикнула она и потащила его к дивану. — Сейчас будем пить горячее молоко. Я совсем забыла!
Поставила перед диваном табуретку, накрыла ее салфеткой, расставила стаканы, нарезала хлеб.
— Будем ужинать по-походному! — засмеялась она, усаживая мальчика рядом с капитаном. — Ты понимаешь по-русски? Как тебя зовут?
Мальчик посмотрел ей в глаза и заулыбался
Мороз с грубоватой нежностью погладил Чена по голове и пододвинул ему стакан молока.
— Пей, Чен, пей!
Елена Николаевна заметно волновалась. Она уже давно их ждала. Еще месяц назад Чернов сказал ей, что капитан хочет привезти к ним китайского мальчика.
Она обратила внимание на то, с какой доверчивостью Чен прильнул к капитану. Славный мальчуган! Видно, он уже крепко привязался к Дмитрию Михайловичу.

Эта мысль была приятна Елене Николаевне. Ощущение какой-то необычайной теплоты охватило ее. Они сидели втроем, пили молоко, болтали о пустяках. Потом Чена уложили на диван, н он, свернувшись в комочек, крепко уснул.
— Устал с дороги, — сказала Елена Николаевна, заботливо прикрывая его пуховым платком. — Мальчик, наверно, доставил вам много хлопот. Ведь на заставе за ним некому было смотреть?
— Как некому? А я?
— Вы?
— О, мы очень подружились! Мне даже грустно с ним расставаться… Я и не думал что так привяжусь к нему.
Капитан стал рассказывать о мальчике. Елена Николаевна налила по стакану крепкого чая. поставила варенье. Было уже поздно, но они не замечали этого. Впервые за всю свою холостяцкую жизнь Мороз испытывал сейчас какое-то особое, еще незнакомое ему чувство. Приятно было смотреть на эту женщину, следить за ее движениями, слушать се голос, ловить на себе взгляд ее зеленоватых глаз. Мороз сам себе удивлялся, что так долго засиделся, хотя ему нужно было еще повидаться с Черновым. Но он медлил, оттягивал расставанье.
— Скажите, Елена Николаевна, а как же Чей у вас всё же будет? Ведь в детском саду только дошкольники! И потом как у вас с питанием?
— Не беспокойтесь, Дмитрий Михайлович! Продуктами мы обеспечены.
А что касается Чена, то у моей помощницы тоже мальчик, Сережа, такого же возраста, как и Чен. Только он сейчас болен. Я уверена, что они подружат и не будут скучать.
— Да? Вот и хорошо. Я вас прошу, вы уж присмотрите за моим Ченом?
— За вашим? Он теперь и мой тоже… — глаза Елены Николаевны заискрились. — Мне кажется, что я его уже полюбила…
— Ну, спасибо. — Капитан задержался на минутку. Он почувствовал вдруг желание попрощаться как-то теплее с этой женщиной, но вместо того сказал:-А архарьего мяса мы вам всё же доставим для подкрепления! — И, засмеявшись, он сбежал с крыльца.
Шагая через двор к конторе, Мороз улыбался: как никогда, ему было легко и радостно.
Уже поздно вечером начальник заставы сидел в конторе участка с Черновым и Савченко.
— Красные спички, Василий Иванович, не дают нам в руки никаких доказательств, — говорил капитан.
— Но все-таки… Нам удалось установить, что такие спички были только у приезжих, — возразил Савченко.
До сих пор он немножко гордился тем, что установил это именно он, а теперь, оказывается, его усилия ни к чему.
— Приезжих у вас на участке было в тот день человек двадцать пять, не так ли? Не будем же мы ставить под подозрение всех этих людей?
— Конечно, всех подозревать не станешь… — разочарованно пробормотал Савченко.
— Странно, — задумчиво продолжал капитан Мороз, — на ферме отравили овец, здесь же обнаружены ампулы и здесь же спички… Странно. Я вас как-то просил установить наблюдение за фермой. Как там?..
— На ферму мы послали двух каменщиков, сказал Чернов. — Там надо исправить печи и выложить перегородку в помещении склада. Работы им хватит недели на две.
Что за люди? Можно на них положиться? — спросил капитан.
— Вполне. Это неразлучные друзья: Савелии Шутов и старик Прокопыч.
— А-а, знаю их, — кивнул Мороз. — Ну, что ж, узнали они что-нибудь интересное?
— И ничего особенного, — сказал Савченко, — На ферме останавливаются иногда колхозники-животноводы, руководители колхозов, приезжал зоотехник из Оша, один раз ночевал председатель Мургабского райпотребсоюза Байбеков… У Салиева останавливался
— Байбеков? Он, кажется, был здесь и в день пожара… — вспомнил Чернов. — Тоже помогал тушить.
— Да, он был, — подтвердил Савченко.
Насколько я понимаю, у Байбекова никаких дел на ферме нет. Что он, в гости ездит к сторожу? — спросил Мороз.
Чернов и Савченко признались, что не интересовались, в каких он отношениях со сторожем фермы.
Надо поинтересоваться, — заметил Моим роз. — Скажите, пожалуй, вашим каменщикам, пусть понаблюдают. Только как бы они там не выдали себя!
— Нет, Прокопыч — хитрый старик
Начальник заставы поднялся.
— Как ваше плечо, Дмитрий Михайлович? — спросил Чернов.
— Пустяки. Зажило. — Капитан помрачнел. — А вот старика мы подобрали в плохом состоянии, Цоя… Умер вчера…
— Умер? М-да-а… Таким молодцом оказался старик! В его годы!
— Да, он помог нам поймать крупную дичь. Это была его месть, так он мне сказал… Жалко старика.
Не отдыхая, капитан Мороз этой же ночью уехал на заставу.
ОБВАЛ
Было еще совсем темно, а возле конторы уже раздавались голоса людей. Призывники собирались выехать пораньше: с ночи стал срываться снег, может забить дорогу. Надо прискочить два опасных места: в ущелье и на Тал-дыке. С этого перевала, высотой почти в три с половиной тысячи метров над уровнем моря, дорога сползает в долину, извиваясь по склону замысловатыми зигзагами. Серпантины-крутые повороты дорог-всегда доставляли много хлопот. Зимой малейший ветер заносил их снежными сугробами. Рабочие из Акбосаги уже вторые сутки расчищали здесь шоссе. В помощь им высылались люди из Сарыташа.
Подвезти их на перевал решили в машине, на которой уезжали в Ош призывники.
Трое призывников с вещевыми мешками стояли уже возле машины. Исмаил задержался прощаясь с матерью. Сидя по-восточному, на корточках, и обхватив голову руками, она тихо причитала.
— Мама! Перестань горевать. — Исмаил подошел к матери и опустился рядом, — Тебе будут помогать. Молодых коз продай, а старую с козленком обменяй у Мухтара на дойную. Я вернусь, свадьбу сыграем… Ты еще внучат няньчить будешь!..
Он отнял ее руки от лица, прижал к груди и так постоял мгновение с закрытыми глазами
— Пора…
Возле машины стояло много народу. Кто-то из женщин всхлипывал. Исмаил искал глазами Фатиму. Она стояла рядом с Варей Савченко. Исмаил бросился к ней и остановился в нерешительности. Варя подтолкнула Фатиму навстречу ему. Исмаил, позабыв об окружающих, торопливо целовал девушку, ощущая на своих губах слегка солоноватый привкус ее слез. Он чувствовал теплоту и дрожь ее тела. Наконец, он оторвался, взглянул на Фатиму заблестевшими глазами.
— Ты будешь ждать меня, Фатима?
Фатима рыдала, не в силах выговорить ни слова.
Не надо, дорогая! Не надо. Я вернусь…
Вот и уменьшилась наша семья на пять человек хороших ребят, — грустно сказал Чернов, когда машина с призывниками скрылась за поворотом.
Начинался обычный трудовой день. Некогда было задумываться и грустить. Погода портилась. Дорога была в плохом состоянии, а из Управления каждый день звонили: «не сорвите продвижения колонны…».
Еще на рассвете группа рабочих во главе с Пулатом ушла в ущелье расчищать шоссе от выпавшего за ночь снега. Остальных рабочих мастер Быков направил на перевал.
Ветер гнал сплошную череду темных, низко, почти над самой головой проносившихся туч. Они цеплялись за острые вершины гор, беспорядочно сползала со склонов, клубились, внезапно обрушивались густым снегопадом и уносились дальше. Мгла рассеивалась, становилось ненадолго светлее, появлялись смутные очертания оголенных, чернеющих скал, и снова налетал снежный вихрь, оставляя на шоссе горбатые сугробы. Работать было трудно. Ветер забивал дыхание, слепил снегом глаза, леденил тело.
В ущелье находилось девятнадцать человек. Люди работали, не разгибая спины. Никто не знал, который час. Часы были только у мастера Быкова. Принявший на себя обязанности бригадира Пулат чертыхался. Куда запропастился мастер? Чего он торчит вверху на перевале? Люди голодные, давно пора обедать. И табак вышел.
Пулат посмотрел на небо. Солнца не было видно. Окутанные серыми тучами, по обе стороны ущелья высились почти отвесные скалы.
Справа повис над ущельем наметенный ветрами огромный сугроб. Не раз на него с опаской поглядывал бригадир. «Как бы его убрать оттуда?».-
Пулат! Ты бы сходил на перевал, поторопил мастера, — окликнул его Абибулаев.
— Пожалуй, надо сходить, — согласился Пулат. — Вы, ребята, делайте привал. Вон там и костер можно разжечь, — показал он на небольшой грот в скале, метрах в ста от того места, где они работали.
Рабочие повеселели; с размаху втыкая в снег лопаты, они гурьбой двинулись вниз по шоссе.
— Попроси там повариху, пусть побольше картошки напечет! Аппетит сильно большой! — крикнул Абибулаев вслед уходившему бригадиру. Рябцев, помоги мотор завести. Снегоочиститель подальше от этой ямки поставлю, — сказал он, показывая рукой на глубокую расщелину, которая вплотную подступала к узкой ленточке дороги.
— Эх ты, насмешливо ответил Рябцев. — Тракторист, а ручки крутнуть не умеешь, как следует. Пока мы с тобой будем тут возиться- и перерыв кончится. Ну, давай уж, помогу.
Рябцев направился к Абибулаеву, на ходу поплевывая в ладони. И никто из них не мог знать, что эта задержка будет стоить им жизни.
Не успел Пулат дойти до Хатынарта, как его остановил глухой гул, похожий на отдаленный гром. Пулат побледнел. Сознание подсказало ему причину этого необычного грохота, но он не хотел верить страшной догадке. Обвал! Неужели в ущелье?!
От Хатынарга приближалась грузовая машина Пулат стоял бледный, растерянный. В глазах его застыл ужас Машина круто остановилась. Из кабины вышел Чернов.
Ты слышал? — не здороваясь, крикнул он.
— Обвал, товарищ начальник, — задыхаясь, проговорил Пулат.
— Как ты думаешь — где? — Чернов тоже был бледен и
напряженно всматривался в горы.
— Не знаю… Боюсь, что в ущелье.
— Едем туда!
Они бросились к машине.
Пулат ехал, стоя в кузове. Тесемки от шапки развязались. Ветер рвал меховые наушники, свистел в ушах. Пулат не чувствовал холода. Глаза его, не отрываясь, смотрели вперед. Он хотел как можно скорее увидеть и боялся.
Они приближались к ущелью. Дорога сделала поворот и Пулат вскрикнул. Это был крик ужаса… и облегчения.
Там, где работала его бригада, лежала гора снега. Да, это была настоящая гора высотой с трехэтажный дом! Она заполнила зиявшую прежде рядом с дорогой расщелину и всю узкую часть ущелья. Но рабочие… рабочие стояли у ее подножья, опершись на лопаты, и был у них сейчас вид людей, только что избежавших смертельной опасности.
Машина резко остановилась. Пулат больно ударился грудью о кабину, спрыгнул в сугроб и имеете с Черновым и шофером побежал к рабочим.

Стояла мертвая тишина.
Ветер срывал мелкие снежинки и кружил их над ущельем. Все молча глядели на чудовищную массу снега и каждый боялся сказать первое слово.
— Спасибо, товарищ бригадир, — сказал, наконец, Пулату пожилой рабочий, — во-время ты нас отпустил отдохнуть, а то бы крышка! Как чувствовал. А вот Абибулаев с Рябцевым… не успели.
Раскапывать надо, а мы стоим, — горячо вскричал кто-то из молодых рабочих. — Может, они живы еще!
— Раскапывать, — горько повторил Пулат, — Да тут работы на месяц нашими силами.
— А где Быков? — спросил Чернов. — В Хатынарте сказали, что он ушел сюда. Разве он не приходил?
— Быков? Нет, не приходил.
— Не попал ли и мастер под эту шапку?
Все снова заволновались.
Чернов наконец овладел собой и собрался с мыслями. Распорядившись на всякий случай рыть тоннели в снегу, он вернулся с шофером к машине.
Люди дружно взялись за лопаты, хотя никто не верил, что можно остаться в живых под этой тысячетонной громадой.
Чернов приехал в Сарыташ поздно ночью. Там уже знали о несчастье. Савченко поднимал все население на расчистку обвала. Он молча посмотрел в осунувшееся лицо начальника участка.
— Я людей посылаю на подмогу, — сказал он. — Надо?
— Да, посылайте, — хмуро приказал Чернов. — Работы там… Ущелье засыпано почти на треть. Своими силами никак не обойтись.
— Абибулаев… там? — тихо спросил Савченко.
— Там… И Рябцев гоже.
— Вот как странно устроена жизнь, — с горечью продолжал Чернов. — Там погибли люди, а я сейчас думаю о другом: как бы дорогу открыть автоколонне. Не жестоко ли, Василий Иванович?
— Людей жаль, Владимир Константинович. Но и правительственное задание выполнить надо, — мягко отвечал Савченко. — Война…
Всю ночь сидели в маленьком кабинете Чернова. Думали, советовались, искали выход.
— Ну. гак что вы предлагаете, товарищи? — в который раз повторял Чернов, едва воцарялось молчание.
Бригадиры отводили в сторону уставшие, воспаленные глаза. Что можно предложить? Организовать расчистку ущелья собственными силами немыслимо — транспорта мало; рассчитывать на помощь машинами почти не приходится-ни погранзастава, ни Мургаб такой помощи предоставить не могут. К тому же много машин не удалось бы бросить сейчас в ущелье, они только загромоздили бы дорогу Нужны люди. Много людей! Без них ничего сделать нельзя. А где их взять?
— Все-таки надо послать машину на заставу, — предложил Савченко.
— Туда и обратно она проездит неделю, — угрюмо заметила Фатима.
При такой погоде — не меньше, — подтвердил мастер Аничкин.
Чернов рассуждал вслух.
Масса снега заняла по длине, примерно, метров двести и в высоту двадцать. Это тысяч шестьдесят кубических метров. Нужно не меньше пятисот человек, чтобы…
Пятьсот человек! — в отчаянии вскрикнула Фатима.
— Мы сможем мобилизовать человек семьдесят, — сказал Савченко.
— Да, пятьсот человек… — продолжал размышлять Чернов, — И работать им придется дней двадцать…
Чернов отложил карандаш и встал,
— Надо попытаться установить связь с Акбосагой, с мастером Розамамаевым.
— Но как же свяжешься? — недоумевал Аничкин. — Телефон не работает, очевидно, повредило обвалом, а пройти сейчас на ту сторону совершенно невозможно!
— Я это знаю. Надо поговорить с местными людьми, со стариками. Может быть, кто-нибудь знает дорогу в обход. Надо найти такую дорогу. И найти человека, который смог бы добраться до Розамамаева.
— Это очень трудная задача, — проговорил Савченко. — Но может быть, в самом деле…
— Всё, что нам сейчас предстоит сделать, — очень трудно. Но мы должны делать. Медлить нельзя ни минуты.
Вошел усталый, запорошенный снегом Пулат. Он только что пришел из ущелья. Все бросились к нему.
— Ну что?
Пулат безнадежно махнул рукой.
— Бесполезно. Еще копают, совесть велит…
Помолчав, Чернов спросил:
— Быкова до сих пор нет?
— Нет, — ответил Пулат. Когда рабочие садились в машину на перевале, он сказал им:
Вы поезжайте, а я через два часа тоже приеду к вам». Но он так и не приходил в ущелье.
— А на Хатынарте вы не спрашивали о нем?
— Спрашивал. Повариха говорит: был, взял узелок с едой и на лыжах пошел в ущелье.
— Странно. Может быть, вы разминулись с ним?
— Не могли мы разминуться… Дорога одна.
— Одна-то одна, а видать, всё-таки разминулись. Должно быть. тоже…
Савченко нахмурился и нервно зашагал по комнате.
— С рассветом — всем быть в ущелье, — приказал Чернов.
— Уже рассвет, Владимир Константинович, — заметил Аничкин.
Савченко сейчас был в таком состоянии, когда каждый нерв, каждый мускул были напряжены до предела. Ни спать, ни есть не хотелось. Он вышел во двор, вдохнул чистый морозный воздух. После прокуренной комнаты слегка кружилась голова. Было еще темно, хотя небо на востоке начинало бледнеть. Нигде не видно было огней, только в домике радиоузла сквозь ставни пробивался свет. «Что он там делает… этот тип? — с внезапно вспыхнувшим подозрением подумал Савченко. — Почему сидит ночами?»
Новый радист с первых же дней его приезда в Сарыташ не понравился ему. Молчаливый, угрюмый Пальцев почти ни с кем не общался. Он долго не мог наладить трансляцию последних известий и это многих злило.
ПАЛЬЦЕВ
Примостившись на табуретке возле приемника, Пальцев повернул ручку настройки. Всю ночь он провозился с трансляционной сетью и теперь, закончив работу, был как нельзя более доволен. Кажется, теперь уже не придется рабочим нарекать на него. Спать, собственно, уже было некогда и радист решил «пройтись» разок-другой по эфиру.
Среди хаоса звуков он улавливал станции разных стран. Вот говорит Москва… Плохо слышно. Забивают. А это Будапешт, Вена, София. Обрывки музыки. Чей-то низкий голос, подозрительно четко выговаривая русские слова, передает об окружении Москвы… Очередная утка немецкого командования, рассчитанная на то, чтобы сбить с толку людей. А вот выстукивает телеграф…
Пальцев повернул ручку настройки на более короткие волны. Приемник засвистел, послышались позывные. Шла перекличка шифрами, передача важных сообщений, неведомых никому, кроме людей, посвященных в особую, секретную азбуку. В этих звуках скрывался целый мир тайных взаимоотношений.
Но что это?
В комнате раздалась четкая, громкая передачи цифрового шифра. Для горных условий слышимость была настолько ясной и громкой, как будто передача проводилась где-то совсем рядом, не дальше семи — десяти километров от участка…
Да. Радист больше не сомневался. Где-то недалеко работал передатчик. А что, если это враг?
Пальцев схватил тетрадку и стал быстро записывать цифры, словно нанизывая их одну на другую… Долго сидел потом в раздумье, выключив приемник. Стало нестерпимо тихо, так тихо, что слышно было, как стучало и висках.
«Нервы, нервы, дружище! — успокаивал он сам себя. — Надо всё же об этом рассказать».
Ему вдруг стало душно в аппаратной, захотелось выйти на свежий воздух.
Савченко увидел появившуюся в дверях высокую и худую фигуру радиста.
Что это вы так налегке вышли, товарищ Пальцев, без шапки? — спросил Савченко, подходя ближе. Почему сидите так поздно? Или, вернее, рано…
Радист повернул голову в сторону приближающегося парторга и ничего не ответил на вопрос. «Странный тип…»-подумал Савченко, останавливаясь возле него, и тут только увидел действительно странное выражение его лица. При слабом свете электрической лампочки глаза на усталом лице радиста казались испуганными.
Вы нездоровы, товарищ Пяльцев?
Нездоров? Да. Впрочем, нет. Я-здоров. Вот только… зайдите-ка лучше в аппаратную.
Недоумевая, Савченко переступил порог вслед за ним.
То, что рассказал, сбиваясь и волнуясь, радист, вставило Савченко крепко задуматься… Да… В горах неблагополучно. Вряд-ли вблизи работала наша станция. Кажется, некому. Где-то затаились враги. Здесь, в глубоком тылу, тоже идет война. Надо быть настороже каждую минуту. Но кто? Кто? Неужели кто-то ходит среди них, может быть, разговаривает с ним, с Савченко, здоровается, шутит… Руки Савченко сжались в кулаки.
Он смотрел на цифровые записи в тетради. Сообщение врага. Как важно было бы расшифровать его. Надо немедленно сообщить Морозу.
Радист мучительно закашлялся, на лице его выступили багровые пятна. Савченко участливо посмотрел на него и словно почувствовал себя виноватым. Да ведь радист — совсем больной человек! Поневоле будешь хмурым и неразговорчивым.
— Вот что, товарищ Пальцев, — мягко сказал он, — перепишите мне эту шифровку и идите отдыхать. Нехорошо вы кашляете…
Радист махнул рукой.
— Я давно кашляю. Пойду в ущелье, немного поработаю. На воздухе мне легче.
— Э-э, нет. Лопатой вы не работник. Сделайте то, что я вас прошу, и идите домой.
— Нечего мне дома делать, — раздраженно пробормотал Пальцев.
В его словах Савченко неожиданно услышал прорвавшуюся тоску одинокого человека.
«Эх, не умею я еще распознавать людей! — сердито подумал Савченко. — Вот подозревал этого неприветливого человека, не расспросил, не узнал, что у него на душе… А он просто больной и, может быть, несчастливый человек. А кто-то другой, приветливый и добрый, творит у меня за спиной свои черные дела…»
— А еще скажу — думал я хуже о вас, Пальцев, признаюсь — ошибся. Как хорошо, что ошибся, — сказал он, пряча в карман листок с аккуратно переписанными радистом цифрами.
Савченко ушел, а удивленный Пальцев еще долго смотрел ему вслед и, может быть, впервые за свое пребывание в Сарыташе по-хорошему улыбнулся, как человек, вдруг почувствовавший, что он больше не одинок.
БАКИР ОТПРАВЛЯЕТСЯ К РОЗАМАМАЕВУ, А САВЧЕНКО — НА ФЕРМУ
На другой день после обвала Пулат поехал в Мургаб за людьми. Владимир Константинович понимал, что, посылая в Мургаб машину, причем ненадежную, он рискует остаться без транспорта. Но другого выхода не было. Привезти хотя бы человек тридцать — уже большая помощь. Люди в ущелье работали сутки, а расчистка, казалось, совсем не подвигалась, гора снега высилась по прежнему. Конечно, это только казалось — были выброшены уже сотни кубометров снега. Пока не удалось обнаружить никого из погибших-
Аксинья Ивановна перебралась со столовой на Хатынарт, поближе к ущелью. Тут было устроено временное жилье для прибывших людей. Ночевали на перевале, чтобы не терять времени на ходьбу.
Вечером, когда Чернов появился на участке, к нему подошел Бакир. Владимир Константинович завел его в контору, усадил, сам рухнул на стул, на мгновение закрыв глаза от усталости.
— Вот что, аксакал… Я. хотел тебя видеть. Ты старый человек — хорошо знаешь горы. Скажи, можно ли сейчас перебраться на ту сторону ущелья?
Бакир приподнял брови, внимательно посмотрел на Чернова.
— Об одном думаем, товарищ начальник. Затем и шел к тебе… Надо людей звать. С той стороны ущелья, людей Розамамаева.
— Но как звать? Связи нет.
— Знаю, товарищ начальник.
Бакир помял шапку, пожевал губами, не громко сказал:
Я пойду за людьми.
Владимир Константинович с сомнением посмотрел на него.
— Я пойду за людьми, — повторил спокойно старик.
— Трудная дорога, Бакир. Пройдешь ли?
— Товарищ начальник! Послушай, что тебе скажет старый Бакир. Я знаю горы. Полвека назад, еще мальчиком пас я отары богатого бая Каждую тропку, каждый камень знает Бакир. Я на лыжах коротким путем пройду перевалы, вон в ту сторону, знаешь, куда ходят искать себе корм кутасы Джабара. В три раза это будет короче. Я расскажу Розамамаеву про обвал. Он поедет в Суфи-курган, приведет людей.
— Ты сделаешь большое дело, Бакир, очень важное дело!.. — воскликнул Чернов. — Но хватит ли у тебя сил? Ты ведь немолод.
— Не бойся за меня, товарищ начальник. У Бакира есть еще силы. Пиши бумагу Розамамаеву. До первого перевала, по тропке, где ходят кутасы, дорога не опасная. Можно спокойно идти. Пока я доберусь до вершины, наступит и минет ночь, а тогда будет светло. Пока спустится снова ночь, я буду уже у Розамамаева.
Чернов обнял за плечи старика, крепко потряс ему руку.
Проводив Бакира в путь, Чернов забежал домой. После того, как он принес полузамерзшего Сережу к себе в дом, события так завертелись, что ему некогда было и подумать о мальчике. Тихонько, на цыпочках, вошел он в спальню, где на его кровати лежал Сережа. Мальчик тяжело и часто дышал. Рядом, сидя на стуле и склонив голову на подушку, спала Ирина, освещенная слабым светом лампы. Нежные, чуть припухшие губы; по щеке разлился румянец; пышные, светлые волосы немного растрепались…
Чернов остановился, задержал дыхание. На мгновение ему показалось, что так будет всегда, что это грустная светловолосая женщина не уйдет из его дома и что удивительное чувство теплоты, которое захлестнуло его сейчас целиком, тоже будет продолжаться всегда.
И он сразу вспомнил о жене. Нет, не такая она. У Лидии на первом плане ее собственная личность. Ей нравится, — ей не нравится, она хочет — она не хочет, а как другие — ее не касается. И всё же Чернов любил жену. Как она теперь? Наверное там веселее, чем в Сарыташе. Да… было грустно и перед глазами вставала маленькая Талочка, которую он так редко видит…
Владимир Константинович, осторожно повернувшись, тихо вышел в столовую. Здесь он снял валенки и, не раздеваясь, повалился на диван.
А в это время Савченко сидел у себя Дома и смотрел на маленький листок бумага, на котором были записаны два ряда цифр. Лицо его выражало крайнее напряжение и досаду: Как прочесть эту шифровку?
Савченко прикидывал, пробовал подставлять различные буквы, но ничего не получалось. Наконец, он в сердцах свернул листок и сунул его в карман. Видно, только в приключенческих романах легко расшифровывают послания врага! Нет, тут нужен специалист.
Парторг посмотрел на свою опустевшую, истопленную комнату, поежился от. холода. Варя, как и все, ночевала на Хатынарте. Он достал из кармана бумажку и просидел над пей до рассвета.
Наскоро протерев снегом лицо и руки, Савченко решил проведать Пальцева. Радиста он застал в постели. Голова его была обвязана мокрым полотенцем, лицо горело, глаза казались большими и блестели, как покрытые лаком. У изголовья стояла табуретка, на ней стакан остывшего чаю.
— Вы что. заболели, товарищ Пальцев?
— Да нет, так, немножко… Грипп, по всей вероятности. — Радист закашлялся.
— К врачу обращались?
— Нет.
— Почему? Вот это уже нехорошо… Хотите совсем свалиться?
— Я принимал аспирин. Да вы не беспокойтесь. У меня это бывает, Пройдет. Что же вы стоите? Садитесь. Я, собственно, не так давно и пришел…
— Работали?
— Да. Но сегодня позывных не слышал. Как видно, те передачи только в определенные дни.
— Вы не пробовали расшифровать передачу.
— Пробовал. Ничего не вышло.
Плохие мы с вами следователи, товарищ Пальцев.
— Мне никогда еще не приходилось этим заниматься.
Пальцев снял с головы полотенце, намочил его в тарелке и снова закашлялся. На его бледных и худых щеках выступили слабые пятна румянца. Савченко пощупал его лоб, нахмурился.
— Вот что. Я вам сейчас пришлю врача.
— Э, бросьте! — досадливо отодвинулся Пальцев. — Что он мне поможет, врач.
— Человеку надоела жизнь… — с добродушной насмешкой сказал Савченко, — Напрасно. Сейчас только жить да драться. Врача я вам всё-же пришлю.
Савченко вышел.
Послав к Пальцеву Елизавету Карповну, он опять вернулся к себе в комнату и лег на кровать, пододвинув под ноги табуретку, чтобы не испачкать валенками одеяло. Однако, сна не было. Вечером, возвращаясь с перевала он думал, что заснет на ходу. А сейчас нахлынувшие мысли отогнали сон. В ущелье уже двое суток работали люди. Те, кому еще не приходилось так тяжело и много работать лопатой, выбивались из сил. Они проваливались по пояс в снег, натирали на ладонях мозоли, обмораживали пальцы и лица. Был брошен лозунг: «На фронте трудней!». Бригады сменялись каждые шесть часов. И всё же работа продвигалась медленно. Дорога по прежнему закрыта. Как они пропустят колонну? Никого из засыпанных уже, конечно, не удастся спасти… Дойдет ли Бакир до Розамамаева? Долго-ли оступиться, свалиться в пропасть. Стар он для такого пути. Савченко ворочался с боку на бок. Постепенно мысли смешались, стали теряться. Радист… Байбеков… Бакир… Лица появлялись и уплывали, а потом всё словно куда-то провалилось.
Савченко проспал всего часа два. Его разбудил Чернов, с которым он уговорился идти вместе на перевал.
Они вышли на лыжах.
Снегопад прекратился. Под лыжами приятно поскрипывало. Очертания гор, выступы скал — всё потеряло свою первоначальную форму под плотной, белоснежной пеленой.
— Я очень тревожусь за Бакира, — сказал Владимир Константинович.
— Надо было не отпускать его одного. Годы не те…
Дальше скользили молча.
Впереди за поворотом показался домик на перевале. Чернов и Савченко зашли на кухню. Повариха вся красная от жаркой плиты, с засученными рукавами, стряпала. Черноглазая девушка, та, которую в первый день знакомства Аксинья Ивановна пристыдила за грязные халаты, сидела на скамеечке и чистила картофель. Сама Аксинья Ивановна наводила порядок в кладовой, расставляя ящики с табаком, спичками, макаронами.
Савченко помог ей перетащить мешки.
— Как вам тут, Аксинья Ивановна? Не тяжело?
— Что ты, милый! Тяжело! А кому тут легко? Вон бабы с работы на рассвете пришли. Повалились, как мертвые.
Савченко заглянул в соседнюю комнату.
— Это чья же женская бригада — спросил он.
— Да твоей же! Варина!
Керосиновая лампа слабо освещала комнату. Восемь женщин, как были одетые в тулупах, платках, валенках уснули в самых разнообразных позах. Варя лежала на топчане, свернувшись калачиком.
Савченко с нежностью посмотрел на усталое лицо жены. Тяжело тут.
Они осмотрели все помещения, проверили запас продуктов.
Я наверно, вернусь обратно, Владимир Константинович! — сказал Савченко. — Надо
заглянуть на ферму. Посмотреть, что там поделывают наши каменщики. Не дают мне покоя все эти загадочные события. Кажется, что сам в чем-то виноват.
— Подожди, сейчас подойдет трактор. Фатима подвезет.
— С уклона на лыжах я скорее доберусь.
Савченко быстро спустился с перевала. Ферма… он почти забыл о ней. Каменщики находились там уже третьи сутки. А он ни разу не явился к ним. Тоже мне — следователь.
Поднимаясь по тропинке к ферме, он заметил, как из трубы над крышей сторожки поднимался тонкой струйкой сизый дымок.
Проходя мимо длинного общежития и склада, Савченко обратил внимание на кучи кирпича и остатки смерзшегося на морозе цементного раствора. Кирпичная труба над опустевшим общежитием была разобрана, кирпич аккуратно сложен в стопки.
«Работают ребята…» — усмехнулся он и от-крыл дверь сторожки. Его обдало горячим воздухом хорошо натопленной комнаты и запахом кислого молока. За столом сидели Прокопыч и Савелий, на кровати — Джабар. Каменщики завтракали.
— Ну, как тут наши работники, Джабар? Чем занимаются? — поздоровавшись, спросил Савченко.
Сторож степенно поднялся с кровати.
— Работают. Печи переложили. Завтра начнут класть перегородку в складе…
— В материале нехватка, — сказал Прокопыч. — Кирпича маловато.
— Садись завтракать, товарищ парторг, за компанию! — учтиво пригласил сторож.
— Не откажусь. Проголодался.
Савченко присел к столу, налил стакан молока, отломил кусок лепешки. Жена сторожа поставила на стол сковороду с дымящейся солониной. Некоторое время в сторожке царило молчание. Савченко видел по лицам каменщиков, с каким трудом они сдержали желание поскорее расспросить про обвал. Толком они еще ничего не знали. Прокопыч не выдержал.
— Василь Иванович! Как же это случилось?
Лицо Савченко помрачнело. Тяжело было говорить. Савелий уставился немигающим взглядом, у Прокопыча вздрагивала нижняя губа, щетина бородки встопорщилась. Каменщики низко опустили головы.
— Рябцев и Абибулаев… какие ребята… — голос у Прокопыча дрогнул и он проглотил последние слова.
Савелий тоже покривился. Было видно, как этот неуклюжий, огромный человек борется сам с собой, чтобы скрыть свое волнение.
Савченко наклонил голову.
— Вероятно, также и Быков, вторые сутки не появляется, — медленно произнес он. От его глаз не укрылось, что сторож слегка дернулся, когда он назвал фамилию мастера.
— Ай-ай! Какое несчастье… — сочувственно проговорил Джабар.
— Ну, так что же с кирпичом? — резко перебил его Савченко.
— Кирпич надо бы подвезти, — заметил Прокопыч.
— Подвода занята. Обходитесь без нее.
— Значит — точка, — сморщил нос Савелий, — больше работы нету.
Джабар оживился.
— Куда торопиться? Весной закончите. Тогда машины будут. Транспорт будет…
Савченко взглянул сторожу в глаза.
— Тогда каменщиков не будет, Джабар. Надо сейчас закончить работу. Разве на ферме нет кирпича?
— Кирпич есть, — ответил за сторожа Прокопыч, — да только дело это больно затяжное будет. Километрах в трех отсюда старый полуразрушенный подвал есть. Я его еще летом высмотрел. Но снегу возле него намело, — во — сколько! — Каменщик показал себе по грудь
— Возьмем носилки, натаскаем как-нибудь… — охотно согласился Савелий.
— Зачем таскать носилками, — угодливо поглядывая на Савченко, заспешил сторож. — За кубовой стоит стена старого сарая. Мы оттуда кирпич брали на летнюю кухню. Можно разобрать…
— Разобрать… — недовольно пробурчал, умело ведя свою роль, Прокопыч. — Попробуй сам на морозе стену разбирать. Это сколько времени потребуется!
— Ладно, — поднялся Савченко- Разбирайте стену, работайте! Раз надо — так надо.
— Вот правильно, товарищ парторг! — суетился возле Савченко сторож, подавая ему шапку.
Поговорить с каменщиками наедине не удавалось. Сторож увязался за ними по пятам. Савченко начинал уже злиться.
— У тебя, Джабар, брынза хороша! Продай с килограмчик. Жена сейчас на Хатынарте, дома готовить некому…
Сторож ушел.
— Ну? Какие новости? — тихо спросил Савченко.
— Ничего, Василь Иванович. Тихо, спокойно. Дежурим с Савелием. Собаку тут одну, вроде невзначай, прибили. Тявкала по ночам, ходу не давала. Всё привыкнуть к нам не могла. Теперь порядок. Пока ничего не слыхать…
— С кладкой перегородки не спишите. Сейчас там дозарезу нужны люди, а всё же вас не снимем. Важно…
— Это мы понимаем…
С Байбекова, если он появится, не спускайте глаз.
— Это уж не беспокойся!
На тропинке показался сторож с завернутым в цветную тряпицу куском брынзы. Расплатившись с ним, Савченко приладил лыжи и широким шагом направился к спуску.
«Отчего Джабар вроде вздрогнул, когда я упомянул о Быкове? — раздумывал он. — Или мне только показалось?».
ЧЕРЕЗ ГОРЫ. НАХОДКА
На рассвете, едва начало сереть небо. Бакир, провожаемый мастером Розамамаевым, покидал его гостеприимный дом. Надо было собираться в обратный путь.
Здесь, в долине, еще стояла темная ночь, но очертания окружающих гор уже стали вырисовываться отчетливее-
— Счастливый путь, аксакал! — крепко пожимая руку Бакиру, прощался дорожный мастер. — Сто лет жизни тебе, смелый ты человек! Будь осторожен и осмотрителен. Как бы метель не налетела. Тучи что-то закрыли вершины…
— Спасибо на добром слове, Розамамаев! Прощай! Будешь в Сарыташе — в гости заходи! — И старик, поправив лыжу, заскользил по дороге в горы.
Километра два Бакир шел по тракту, потом свернул влево, на нетронутый снежный покров долины.
Он шел с чувством большой радости. Сегодня на серпантинах Талдыка зашумят машины с людьми. Много людей… Обвал будет расчищен вовремя. И этому помог он, Бакир.
Старик взглянул направо, туда, где в бледном свете наступающего утра четко выделялся на фоне гор заснеженный, напоминающий гигантскую сахарную голову — Талдык. Над вершиной его клубились тяжелые тучи и ветер гнал им навстречу снежную пыль.
«Большая работа, — думал Бакир. — Трудная. Дорожный мастер говорил, что его рабочие уже до седьмой серпантины добрались. Нели сегодня с людьми из Оша дружно возьмутся за расчистку-завтра до обвала дойдут.
Долина кончилась. Перед Бакиром выросло подножье крутой горы. Он стал с силой опираться на палки. Начинался подъем.
Утро застало Бакира на перевале. Ветер рвал полы его тулупа. Старые, выезженные лыжи скользили легко. Днем снег таял под горячими лучами солнца, а ночью застывал твердой коркой от сильного мороза. Местами такая корка гудела под лыжами Бакира, выдавая пустоту под собой. Свежего снега здесь выпало немного и его легко сдувало ветром. Старик зорко смотрел перед собой, выбирая удобную дорогу.
Давно Бакир не был в этих местах. Лег тридцать наверно. Не забыл ли пути? Нет, не забыл. Вон за тем горбатым валуном начинается спуск. Потом пойдет подъем еще на один перевал, а там снова спуск, опасный, крутой…
Память сохранила каждый поворот у обрыва в пропасть, узкую тропку над ней, где надо пройти шагов пятьдесят, сняв лыжи. Неосторожное движение — и можно сорваться в бездну. Там стоит острый и черный выступ скалы. Снег не держится на нем. Выступ стоит один среди облаков и снежного простора, как верный страж, охраняя пропасть, уходящую с правой стороны в глубокое, черное ущелье.
Бакир устал. Да не те уже годы! Вспомнил он Красную Армию, опасные задания в тыл врага, участие в борьбе с басмачами. Он помнит, как однажды встретился один на один с сыном бая, у которого пас когда-то овец. Встреча была короткая. Бакир был сильнее своего врага… Давно это было! А сейчас вот снова война. Исмаил ушел в армию. Тоскует Фатима по нем, ох, тоскует.
Бакир взглянул на небо. Оно было серое, плотное, как платок старухи Усманбаевой. Солнца сегодня не будет. Время? Часа два, наверно…
Он задумался и не заметил присыпанной снегом расщелины. Правая нога его куда-то провалилась. Бакир ударился коленом о что-то острое и упал в сухой и колючий снег.
Первое, о чем подумал он, — это лыжи! Старик облегченно вздохнул — лыжи были целы. Но палки, палки одной не было. Вероятно, она ускользнула куда-нибудь по склону горы. Это было неприятно. Шаря рукой вокруг себя, Бакир вдруг наткнулся на какой-то мягкий предмет. Стряхнул с него снег и удивленно раскрыл глаза. Это была рукавица. Обыкновенная рукавица, мехом внутрь, с краями, обшитыми синим сукном. Рукавицы Бакира были у него на руках.
«Вот чудеса, — подумал Бакир. — Откуда она тут взялась? Совсем новенькая рукавица. Кто-то потерял. Потерял человек, который недавно прошел этим глухим и опасным путем! Кто этот смельчак?»
Прикрепляя к ногам лыжи, Бакир ощутил сильную боль в колене. Остаток пути был по менее тяжел и опасен, чем уже пройденный. На уцелевшую палку пришлось больше опираться, чем отталкиваться ею, так как боль в ноге не унималась.
Много времени прошло, пока Бакир наконец подошел к пропасти, над которой повисла опасная, узкая тропа. Здесь надо было пройти без лыж. Старик присел передохнуть.
Да… В молодые годы много раз приходилось здесь проходить. И каждый раз Бакир ощущал, будто за спиной у него вырастают крылья и он летит над бездной: захватывало дух, еле различимое глазом, виднелось дно пропасти.
Бакир поднялся, привязал за спину лыжи. Он старался не смотреть вниз, выискивая в присыпанной снегом скале уступы, малейшие трещинку, куда можно было бы поставить ногу, чтобы лучше удержаться. Вперед подвигался медленно, пробуя, куда ступить, и опасаясь поскользнуться.
Порыв ветра взметнул облачко снежинок и обдал ими Бакира, засыпая лицо, забивая дыхание. Он остановился, закрыл глаза, прижался к скале. Так хотелось постоять с закрытыми глазами, отдохнуть, но отдыхать нельзя было, чуть ослабнут мышцы и… тогда неминуемо сорвешься.
Как прошел он эти пятьдесят метров над пропастью, которая уходила из-под его ног куда-то вниз бесконечной белой пеленой, сливающейся с облаками, как добрался до последнего перевала, Бакир потом вспомнить не мог. Какая-то неведомая сила перенесла его через весь остаток пути. Далеко внизу замелькали огоньки Сарыташа. Теперь пойдет спуск по знакомой тропке, по которой взбираются на гору кутасы Джабара искать себе под снегом корм, и… он дома!
«Что-то очень тихо и тучи жмутся к горе. Как бы и в самом деле не застигла метель!..» — подумал старик.
Он нащупал привязанный к поясу узелок с хлебом и куском жареного мяса, которые Розамамаев дал ему на дорогу. Захотелось есть. Воткнул палку в снег, присел рядом и принялся за еду. Понемногу к нему возвращались силы.
Как быстро пробежала жизнь! И как всё переменилось! В долинах выросли города, а в них школы, театры, красивые дома с большими окнами. А когда-то в кибитке отца было одно крохотное оконце и то не застекленное… На машинах стали ездить люди. Вспомнил, как давным-давно он сопровождал караван бая. Больше месяца шли верблюды к границе Афганистана, к тому месту, где сейчас стоит город Хорог. А теперь машиной туда можно доехать за четыре дня. Ай-ай! Чего не придумают умные люди!..
Вдруг будто кто-то вздохнул в горах, старика обдало мельчайшими снежинками, острыми и твердыми, как песок. От густых облаков стали отделяться длинные, извивающиеся клочья. Они заплясали перед одиноким пут-ником, сильный порыв ветра подхватил их, завыл, бросился на человека, стараясь сорвать с него одежду, сбить с ног…
Как всегда в горах, метель началась внезапно.
Бакир торопливо собрал узелок, привязал к поясу, укрепил на ногах лыжи.
— Нехорошо, — сказал он себе. — У самого дома быть застигнутым злой метелью-обидно.
А ветер крепчал и скоро забесновался. Словно издеваясь над одиноким, беззащитным человеком, он то закидывал его снегом, то силился свалить в пропасть, то кружил вокруг с присвистом и завыванием, то затихал на миг, чтобы с новой силой наброситься на свою жертву…
Бакир изнемогал. Но жажда жизни не покидала его. Он вдруг почувствовал, что умирать совсем не хочет, рано еще! Зачем умирать, когда жить стало так хорошо. Столько нового появилось в родных горах. И сам Бакир новый, другой человек стал, со всеми равный. А Фатима… Нет, он не должен погибнуть так рано…
Эта мысль прибавляла ему сил.

Было два часа ночи, когда Савченко возвращался с Хатынарта. Метель улеглась. Сквозь просветы между тучами пробивалась глубокая синева с крупными, мигающими звездами. Снег искрился, отсвечивая тысячами маленьких. зеленоватых звездочек. Казалось, нет конца пути в этой молчаливой ночи, укрывшей громады гор. Савченко любил такие минуты, когда можно побыть одному. Но сегодня он шел на лыжах с невеселыми мыслями. Работа в ущелье, как ни трудились люди, была совсем незначительная по сравнению с тем, что еще предстояло сделать. Пулат уехал в Мургаб и сквозь землю провалился, сколько дней ничего о нем не слышно. Бакир до сих пор не возвратился. Вдруг погиб старик! Что предпринять, если Бакир не добрался до Розамамаева? Какие бы трудности ни были, а колонне нужно очистить путь.
Савченко с маху ударил палками по насту и заскользил быстрее, подставляя ветру разгоряченное лицо. Еще издали он увидел в конторе, в кабинете Чернова свет. Не отдыхает начальник. Кажется, все за последние дни разучились спать.
Савченко вошел к Чернову с самыми невеселыми мыслями и от неожиданности застыл на пороге. За столом, напротив Владимира Константиновича сидел Бакир… В руке старика дымилась чашка чаю, оп жадно отхлебывал из нее и в промежутках о чем-то с трудом говорил. Лицо у него было изможденное, крайне усталое.
— Бакир! Ты вернулся? — Савченко подбежал, схватил старика за плечи.
— Вернулся, товарищ парторг. — Слабая улыбка сморщила лицо Бакира.
— Подожди, Василий Иванович, не тряси человека, — остановил Чернов. — Дай отдохнуть ему. Он только-что пришел, еле на ногах держится.
Савченко сел, не отрывая глаз от Бакира, с трудом удерживаясь от расспросов.
— Дошел ведь! Дошел до Розамамаева! — весело крикнул Чернов-
— Дошел?!
— На второй день был у Розамамаева, — слабым голосом пояснил Бакир. — Письмо в руки отдал. Мастер сразу по телефону звонить стал. В Суфи-курган. Ночью сам начальник из Оша с Розамамаевым говорил. Людей обещал утром машинами доставить. Прямо на Талдык.
— Ну, спасибо, отец. — Владимир Константинович крепко пожал руку старику. — А теперь, иди, отдохни! Ты сделал большое дело, Бакир! Постой! У меня тут, кажется, завтрак остался.
Чернов достал из кармана куртки сверток, развернул его и положил на стол два ломтика хлеба с маслом и кусок жареного мяса.
— Ешь, Бакир! Ешь, пожалуйста! — Владимир Константинович не знал как отблагодарить старика.
Бакир не стал отказываться. За эти двое суток он мало ел, больше глотал снег. Но теперь всё позади. Он дома.
И Бакир не спеша прихлебывал чай.
— Ну, товарищи, — сказал Чернов, — а теперь по домам- Уже третий час. Завтра с новыми силами за работу. А тебе, Бакир, мой приказ: отдыхать, пока не почувствуешь себя хорошо.
Они вышли из конторы.
Савченко помог Бакиру дойти до сторожки. Старик сильно хромал.
В сторожке было холодно. С того дня, как Бакир ушел в горы, сторожка оставалась не-топленной. Фатима неотрывно находилась в ущелье.
— Ты, Бакир, устраивайся, ложись! Я сам затоплю печь.
Старик лег на топчан и укрылся тулупом. Савченко разжег дрова — огонь весело заметался по сухой сосновой коре.
— Скажи, Бакир, ты сильно расшиб ногу? Может быть, позвать врача? Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, спасибо, бригадир. Нога пройдет. Не надо врача. Метель на вершине сильная была. Очень устал…
Савченко подбросил в печь дров. Ему очень хотелось еще раз услышать радостные вести.
— Значит, Розамамаев разговаривал по телефону с Ошем?
— Разговаривал.
И там обещали выслать утром людей?
Обещали. Обещали много людей.
Значит, в четверг или пятницу они могут быть п ущелье… — вслух размышлял Савченко.
— Да, вот еще. Совсем забыл. — Старик достал и подал ему рукавицу, — Нашел на склонах Талдыка, Зачем ей там быть? Где шел Бакир — там проходимой дороги нет-.. Кто-то торопился на лыжах, потерял.
— Савченко взял в руки рукавицу и вдруг до хруста в пальцах сжал кулаки.
— Где ты ее нашел? — глухо спросил он.
— Говорю же, на Талдыке. Может, не заметил бы, да как раз там упал, палку потерял, стал искать…
Но Савченко уже не слушал его. Он выбежал из сторожки и через несколько минут уже стучался в дом к Чернову. Тот еще не. успел улечься в кровать.
— Что, что случилось, Василий Иванович? — настороженно спросил он.
— А то, Владимир Константинович, что мои подозрения оправдываются. Вот Бакир нашел на Талдыке. — И он подал Чернову рукавицу.
— Извини, Василь Иваныч, но я что-то не понимаю тебя.
Рукавица-то Быкова, начальник. Я знаю это абсолютно точно. Не раз видел у него на руках. И в последний раз, когда на Хатынарг он отправлялся, стояли рядом, прикуривали. Тоже видел. У меня-то паршивенькие, еще, помню, позавидовал малость. А теперь она оказалась на Талдыке.
— Значит?
— Значит, Быков не погиб во время обвала!..
ПУТЬ ОТКРЫТ!
Сережа поправлялся. Он еще не мог сидеть в постели, но часто просил есть и с удовольствием измерял себе температуру, которая с каждым днем снижалась.
Ирина при малейшей возможности бежала из детского сада к больному сыну. Елена Николаевна прикрикнула на нее: «Оставайтесь с мальчиком сколько нужно! Справимся с ребятами и без вас». После этого Ирина стала дольше оставаться возле Сережи. Она сидела и что-нибудь вязала или помогала тете Саше убирать комнаты.
Заметив однажды, что у Чернова порванные перчатки, Ирина распустила свою старую кофточку и связала новые перчатки. Предложить их Владимиру Константиновичу она постеснялась. Улучив минутку, когда его не было, она сунула перчатки в карман его куртки взамен старых.
Чернов вернулся с работы поздно, тихо разделся и вошел в спальню. Сережа спал. Ирина сидела возле сына с журналом на коленях. Темно-зеленый абажур настольной лампы бросал тень на ее лицо. Владимир Константинович подошел, стал близко возле нее и какое-то мгновение молчал. Она смущенно приподнялась.
— Ирина Васильевна! Хорошая вы женщина… я вам очень благодарен!
Она увидела в его больших, темных глазах много невысказанных слов. Яркий румянец залил ее лицо.
— Пустяки, Владимир Константинович! Я… у меня есть свободное время… И право же… — путаясь и отчего-то волнуясь, отвечала она.
— Я не только за перчатки, а… за всё. За ваше внимание ко мне.
Он ничего не мог придумать, кроме этой обычной, стереотипной фразы. «Я благодарен вам за то, что вы живете и приносите мне радость. Ведь я так несчастлив». Вот, пожалуй, что ему хотелось сказать. Но он этого не сказал.
— Вы так устаете… — проговорила Ирина, поспешно закрывая журнал и принимаясь наводить порядок на столе.
Видимо то, чего не сказал Чернов, она прочла в его взгляде. Вдруг заторопилась, взяла со стола чашку и быстро вышла из комнаты.
Владимир Константинович долго лежал на диване и смотрел на полуоткрытую дверь соседней комнаты, где спал Сережа. Скоро он выздоровеет, и они уйдут. Уйдет женщина, к которой он так привязался за это короткое время. Приедет Лидия… Чернов честно признался себе, что мысли о жене всякий раз вызывали у него горечь…
На следующий день, еще раз осмотрев место обвала, Чернов подозвал одного из рабочих.
— Надевай-ка лыжи, дружище, и отправляйся на Алай. Скажешь Фатиме, чтобы она привела трактор в ущелье. Надо расширить дорогу и помочь людям. Вернешься вместе с ней на тракторе…
Не успел он договорить, как подбежал запыхавшийся рабочий и сообщил, что с противоположного конца ущелья появились люди. Впервые за эту неделю Владимир Константинович почувствовал, как страшная тяжесть, всё время давившая ему грудь, — отпустила его. Идут люди! Теперь они быстро расчистят дорогу. Колонна машин с военным грузом пройдет в Хорог!
В эту ночь Владимир Константинович дома не ночевал. Вдвоем с Савченко они допоздна лазили по склонам ущелья, расставляя людей, сумевших проложить тропинку над краем обвала. Сразу ожившее ущелье наполнилось шумом сотен голосов, стуком лопат. По ту сторону обвала работами руководил Розамамаев. Савченко еще с утра взялся вместе с кладовщиком Мухтаром за организацию временного общежития в клубе для вновь прибывших людей. Разместили всех.
Повеселевший Владимир Константинович подъехал утром к ущелью на тракторе Фатимы. Там было полно народу. Толстый слой снега на склоне смялся, утоптался под ногами. Мелькали сотни лопат. Над ущельем легким облаком стояла белесая пыль. Снежная толща убывала на глазах
Приезжие уже знали, что под обвалом погребены рабочие, но никто об этом не говорил. У каждого содрогалось сердце при мысли, что вот-вот одна из лопат обнаружит погибших. Работали молча, сосредоточенно…
Погода была тихая. Стоял небольшой мороз. В этой тишине, хоть в ущелье работало несколько сот человек, выдавая себя только приглушенным кашлем да редкими окриками, было что-то напряженное и печальное. Слышался непрестанный шорох отбрасываемого снега, словно учащенно дышала сама земля.
Через два дня вернулся Пулат. В общем, он съездил впустую. Все свободные бойцы заставы были заняты на расчистке тракта и выделить для Сарыташа капитан не мог ни одного человека. Дальше Ак-байтала Пулату добраться не удалось. Перевал был забит снегом. Там работали дорожники из Мургаба. Пулату удалось связаться по телефону с начальником Мургабского участка, но и тот тоже отказал в людях: все на аварийных работах- На эту поездку в оба конца ушло семь дней. И время затрачено даром, и людей не получили.
Что ж, этого нужно было ожидать. Зима нынче капризна и сурова. Владимир Константинович утешал себя тем, что хоть машина вернулась обратно, а она сейчас нужна дозарезу.
К тому времени работы в ущелье близились к концу. С противоположной стороны обвала расчистка шла, гораздо быстрее, там было много машин, а здесь снежный пласт лежал еще метра в три высотою.
…Абибулаева и Рябцева нашли лежащими навзничь возле трактора. Никто не вскрикнул, не заплакал. Молча обнажили головы и стояли так вокруг погибших товарищей, пока подошла машина.
Слишком велико было горе…
На месте обвала оставались последние кубометры и никто не собирался делать перерыва. Люди прилагали все силы, чтобы к утру открыть дорогу. Сообщение о том, что автоколонна уже пришла в Суфи-курган, быстро облетело ущелье.
Чернов всё еще смутно надеялся, что Бы коз обнаружится где-то здесь. Хотелось верить, что обвал- дело несчастного случая.
— Ну что? — спрашивал он Савченко. Хорошо просмотрели дорогу? Нет его?
— Нет, Владимир Константинович. Да и не могло быть, я в этом убежден…
— Не торопись с выводами, — не соглашался Чернов. — Ведь могло же его засыпать где-то в стороне?
— А рукавица?
— Что рукавица? Мало ли на свете рукавиц!
Чернов помолчал.
— Ты, Василь Иванович, не отправлял еще Морозу той шифрограммы, которую принял Пальцев? Нет? Передай, на всякий случай, и рукавицу…
В тихое безоблачное утро погибших похоронили.
Фатима подбирала снегоочистителем последние кучи кое-где обсыпавшегося со склонов снега. На мгновение ей представилось лицо Абибулаева.
Кто знает, если бы Исмаил не встретился на ее пути, может быть, судьба соединила бы ее с Абибулаевым. Она знала его давно, почти с детских лет. Ей нравился этот смуглый, стройный, немного порывистый парень. Она догадывалась о чувствах Абибулаева. Но он был горд. Он
ничего не говорил ей о своей любви. Никогда. Только при встрече с ним Фатима замечала, с какой нежностью обращались к ней его глаза. А с тех пор, как Абибулаев узнал, что она невеста Исмаила, он стал избегать ее.
Так было… А теперь, теперь Исмаил далеко, может быть уже на фронте, а Абибулаева больше нет…
Девушка поправила косы, уложенные венком вокруг головы, глубже надвинула шапку.
На перевале Фатиму нагнали машины. Это шла по расчищенной дороге автоколонна. От рокота ее моторов гремело в горах. Машины растянулись по шоссе больше чем на километр. Они были доверху нагружены и плотно затянуты брезентом.
В головной машине ехал начальник Управления дороги. Выслушав Чернова о ходе работ на обвале, он расспросил о состоянии дальнейшего пути.
— Семьям погибших окажите помощь, — сказал начальник Управления. — Помогите продуктами и всем, чем только сможете. Мы со своей стороны тоже кое-что сделаем,
Машины одна за другой проследовали дальше.
Чернов стоял, пока они проходили и только потом спохватился, что забыл сказать начальнику о Быкове. Он вздохнул.
Обвал расчищен, колонна прошла…
Оставив уснувшего сына, Ирина пошла к себе. Дома было как-то пусто и неуютно. С того дня, как заболел Сережа, а Аксинья Ивановна перебралась на Хатынарт, квартира так и оставалась не топленной. По углам под по-толком появился иней. Вода в ведре замерзла.
Быстро сняв с себя платок, шубку, Ирина внесла из кухни дрова, затопила печь, убрала комнату. Надо забрать Сережу домой. Вообще получилось как-то неловко — они почти поселились у Чернова. Первое время, испуганная болезнью сына, она не обратила на это внимания. Но, кажется, есть люди, которые истолковывают это по-своему. Врач, Елизавета Карповна, недавно сделала ей какой-то игривый намек. Зачем это ей! И Чернов… как он странно смотрел на нее последний раз… Ах, как необдуманно она воспользовалась его гостеприимством!
В комнате становилось теплее, уютнее.
Ирина сняла с кровати ватное одеяло, достала Сережины новые валенки и, вытащив из коридора санки, пошла за сыном.
Вечером, вернувшись с перевала, Чернов первым долгом спросил тетю Сашу:
— Как Сережа? Спит?
— Мальчика уже нет.
— Как нет! А где же он? — даже испугался Владимир Константинович.
Он быстро вошел в спальню и зажег свет. Постель была аккуратно застлана. Книги и журналы на этажерке сложены в ровную стоику. Комната была тщательно прибрана.
Чернов еще раз посмотрел на пустую кровать и, подойдя к письменному столу, молча сел в кресло. Тетя Саша постояла на пороге, посмотрела на него и пошла готовить ужин.
«Вот и всё», — подумал он.
Неужели это конец? Конец душевному покою, который он обрел с появлением этой женщины. Те короткие вечера, когда они были вместе, доставляли ему тихую спокойную радость. Сейчас же он испытывал тоскливое одиночество. В квартире стало пусто и всё как-то потеряло свою значимость.
Тишина в комнате и во всем доме действовала угнетающе. Тиканье больших настенных часов мерно отдавалось в ушах Чернова.
Он долго сидел без движения, уставившись в одну точку, не слышал, как тетя Саша звала его ужинать.
— Владимир Константинович! Остынет ведь.
Поднялся и пошел к столу.
— Тетя Саша! У нас водка есть? Налейте мне.
Старуха посмотрела на него с удивлением. Владимир Константинович не пил. Водка хранилась для гостей. Ничего не сказав, она налила в стакан водки и поставила на стол. Чернов выпил двумя большими глотками и принялся за еду. Тетя Саша стояла, прислонившись спиной к двери, и молча наблюдала, как он ест.
— Когда они ушли? — немного охрипшим голосом спросил Чернов.
— С полчаса назад. Сережа не хотел уходить — вас подождать хотел. Но Ирина Васильевна закутала его в ватное одеяло и увезла на санках.
Владимир Константинович встал, прошелся по комнате.
— Скучно как-то стало? Правда? Без мальчика. Славный мальчуган Сережа…
— Что и говорить, милые люди! Я привыкла к ним прямо как к родным.
Наскоро поужинав, Чернов оделся и вышел во двор. С электростанции доносился мерный, чохающий звук дизеля. Где-то на противоположном конце участка залаяла собака. Изредка пробивался сквозь тучи слабый свет молодого месяца.
Сунув руку в карман за папиросами, Владимир Константинович нащупал мягкие шерстяные перчатки, недавно связанные для него Ириной, и клочок бумажки. Это было письмо от Лидии. Коротенькое, ничего не говорящее письмо в несколько строк. Небрежная записка…
Достав из кармана и перчатки, и письмо, Чернов долго в раздумьи смотрел на них. «Странно все-таки устроена жизнь».
Он горько усмехнулся.
СЛУЧАЙ НА ФЕРМЕ
Перегородку в складе можно было бы сделать уже давно, но работу нужно было растянуть Все же, как ни тянул Прокопыч, дело подходило к концу. А то, ради чего они сюда были посланы, так и не узнали.
Прокопыч ходил злой. Несколько раз наведывался Савченко, а они до сих пор ничего не могли ему сказать. Сторож посматривал на работу каменщиков и довольно потирал руки.
— Якши, хорошо! Еще денек — и стенка готова.
Прокопыч еле сдерживался, чтобы не обругать Джабара, кричал на подручного:
— Что за кирпич ты мне тычешь? Молоток разучился в руках держать? Обработай-ка!..
Савелий терпеливо сносил придирки своего друга. Он понимал, чем вызвано его раздражение, молча забирал из рук Прокопыча бракованный кирпич и подавал новый. Как ни верти, а придется кончать работу.
— Значит, завтра сворачиваем удочки, Прокопыч, а?
Старый каменщик не ответил, с ожесточением колотя молотком.
Если бы им предложили сейчас строить дом и носить за километр по кирпичику, они, пожалуй, охотно согласились бы. Провозиться столько времени на ферме — и бестолку! Парторг доверил им такое важное дело, даже на расчистку обвала не послал, а они… Впрочем, причем они, если на ферме было тихо, ничего подозрительного не случалось.
— Понапрасну только пса прикончили! — сплюнул Прокопыч, слезая с козел.
— Невзначай вышло…
— Лучше бы тому кооператору вместо пса невзначай голову открутить. Больше было бы. пользы.
Каменщики обтерли руки, сняли брезентовые фартуки и отправились в сторожку на обед.
Первое время они и ночевали там. Потом перебрались в маленькое помещение кубовой.
Так было удобнее и для них, и для сторожа. Шли молча, не спеша. Торопиться было некуда. Возле сторожки Прокопыч остановился, постоял немного и прошелся к противоположному углу дома. Узкая тропинка, тщательно расчищенная, вела от дверей сторожки вниз, в расщелину, на дне которой, скрытый подо льдом, журчал ручей. Но водой из ручья Джабар не пользовался, употреблял растопленный снег. Каменщики видели не раз. Прокопычу только сейчас пришло это в голову. Он толкнул подручного в бок.
— Видал?
Савелий сморщил нос, стараясь сообразить, на что намекает Прокопыч.
— Чего?
— Чего! — передразнил Прокопыч. — До рожка-то, в каком порядке. Куда он по ней ходит?
— Известно куда — по воду.
— По воду, по воду. И долго же до тебя доходит. Как до этого самого, как его, африканского животного.
Обидевшись, Савелий насупился.
Когда каменщики, пообедав, вышли во двор, стояли уже сумерки. Вдали, где-то внизу за горбатым выступом, светились огоньки участка. Над вершинами гор медленно выплывал серп месяца.
— Ишь, рога выставил. Словно бодаться собирается. На мороз!
Прокопычу хотелось поговорить. Его угнетало безлюдье в этом уголке фермы. Идти спать в тесную и душную кубовую не хотелось. Да было еще и рано.
— Эх! Забыли мы с тобой, Савелий, газету попросить у парторга. Почитать бы, что там на войне. А то тут такая глушь, одни собаки тявкают.
— Это да…
— Парторг говорил, что Курск давно в наших руках- Вот, брат, немцу-то жару какого задали! Думали, как техника, — значит, всё. Выходит, не так. У нас народ крепкий. Нет, брат, наш народ не сломишь.
Медлительный в суждениях Савелий только поддакивал. Впрочем, Прокопычу именно такой и нужен был собеседник. Когда хочется поговорить — главное, чтобы тебя слушали. Про обвал Прокопыч не поминал. Слишком тяжело было говорить о погибших товарищах.
Разговаривая, они прошли склад и остановились возле своего временного жилища.
Кубовая, пристроенная к летней кухне, стояла на пригорке. Отсюда были хорошо видны, Алайская долина, часть построек участка и, главное, из-за чего они сюда перебрались, — сторожка. Последняя была вся как на ладони, со своей тропинкой и сарайчиком для коз.
— Сходи за хворостом, Савелий. Чайку согреем, — попросил Прокопыч.
Он вошел в каморку, снял овчинный полушубок и посмотрел в маленькое оконце. При слабом лунном свете был виден удаляющийся Савелий. «Ну и плечи! Богатырь!», — полюбовался Прокопыч- Как все люди небольшого роста, старый каменщик немного завидовал могучему телосложению своего подручного и восхищался им.
Внимание Прокопыча привлекли далекие огоньки Сарыташа. Каменщик вздохнул. Соскучился он по настоящей работе, по товарищам. Надоело сидеть тут, по существу, не у дел. Прокопыч отошел от окна и улегся на широкий топчан, служивший им обоим постелью. Со двора послышалось рычание и визг подравшихся из-за кости собак. И снова наступила гнетущая тишина.
Старый каменщик лежал и думал о погибших под обвалом. Еще так недавно он работал с ними вместе. Рябцев, Рябцев… любил все пошутить. Веселый был человек. Абибулаев красивый парень… Когда остановился на мастере Быкове, почувствовал только неприязнь. Если погиб, то этого не так жалко, как тех двух. То были стоящие ребята.
Старик долго, лежал, раздумывая, и вдруг спохватился. Где же Савелий? Почему его так долго нет? Накинув полушубок, он вышел во двор. Савелий должен быть здесь где-то недалеко. Хворост, за которым он пошел, лежит за сараем. Почему же не слышно ни шагов, ни малейшего шороха? Уж не заметил ли он чего-нибудь? Взволнованный каменщик огляделся по сторонам и негромко позвал подручного. Никто не откликнулся. Тогда Прокопыч, минуту постояв в нерешительности, стал спускаться к расщелине.
…Когда Савелий подошел к куче хвороста, он обратил внимание, как по тропинке из темноты расщелины медленно поднимался наверх какой-то человек.
Едва этот человек шагнул в полосу лунного света, Савелий сразу же узнал его. Мургабский кооператор!
Прижавшись к хворосту, Савелий замер, не спуская глаз с пришельца.
Настороженно оглянувшись, Байбеков быстро вошел в сторожку.
Выждав некоторое время, стараясь, чтобы не скрипел под ногами снег, Савелий подкрался к закрытому окну и осторожно прильнул к щели, в которую пробивалась полоска света.
Байбеков сидел за столом и пил из кружки молоко. Сторож — напротив, на скамье. Они о чем-то говорили по-таджикски.
Но вот сторож стал возбужденно говорить, усиленно жестикулируя руками. Они заспорили, Подошла Саида и тоже вступила в разговор. Она что-то; сказала и взглядом показала на окно, отчего все трое умолкли. Джабар тоже посмотрел на окно и поднялся. Савелий отпрянул, быстро отошел к сараю и притаился за кучей хвороста. На углу показалась фигура сторожа.
К нему подбежали две собаки.
«Вот история! Как бы собаки не кинулись сюда!» Савелий напряженно следил, что будет дальше.
Месяц клонился к вершинам гор. Снег искрился в его мягком, зеленоватом свете и слегка поскрипывал под лапами собак. Джзабар прошел за угол, постоял несколько минут и вернулся в сторожку. Савелий снова пристроился у щели. Сердце громко стучало. Он услышал, как они снова заговорили, но теперь гораздо тише. Бай-беков вытащил из бокового кармана записную книжку и. раскрыв ее, стал пощелкивать по листку пальцем. Потом, спрятав книжечку обратно, поднялся из-за стола и на правился к дверям Савелий едва успел отбежать к сараю Выйдя из сторожки, Байбеков осмотрелся. Спросив о чем-то Джабара, он показал в сторону кубовой. Тот кивнул головой. Тогда они вдвоем подошли к тропинке и стала спускаться в расщелину. «Уходит куда-то! И Джабар с ним. Бежать к Прокопычу? Нет — можно упустить!».

Савелий незаметно подошел к углу сторожки. У спуска в расщелину сидели две собаки и поглядывали вслед хозяину. Нащупав в кармане кусок черствой лепешки, Савелий далеко отшвырнул его в сторону. Собаки набросились на приманку. Савелий осторожно стал спускаться по тропинке в расщелину, всматриваясь в темноту. Расщелина была узкая и извилистая. Добравшись до первого поворота, Савелий увидел Джабара и Байбекова шагах в десяти впереди себя. Они были так близко, что молодой каменщик от неожиданности отпрянул назад. Лед замерзшего ручья громко треснул у него под ногой и Байбеков с Джабаром резко повернулись. Деваться было некуда. Растерянный, весь на виду, стоял перед ними Савелий.
— Тебе что здесь надо? — заорал, бросаясь к нему, взбешенный Байбеков.
Еще ничего не успев сообразить, Савелий стоял и оторопело смотрел на искаженное злобой лицо Байбекова. Тот вплотную придвинулся к каменщику, схватив его за плечо. Опомнившись, Савелий с силой оттолкнул Байбекова и в ту же минуту в руке мургабского кооператора сверкнул нож.
— Мирза! Остановись! — вскрикнул Джабар.
Сторож подбежал, но было уже поздно.
Раскинув руки, Савелий без движения лежал на снегу.
— Чего стал?! — свирепо крикнул Байбеков. — Помоги тащить! В снег закопать надо…
Мысли запрыгали в голове Джабара. «Всё кончено… Значит я, Джабар тоже буду замешан в это дело. И если даже Мирзе удастся уйти, что я тогда скажу? Как оправдаюсь?!».
— Чего стоишь, как ишак?! — крикнул Байбеков.
Джабара била лихорадка. «Что. будет?! Ай-ай! Что будет? Пропал… Возьмут Байбекова… А меня, Джабара, разве помилуют?!»
Мирза наклонился к телу Савелия.
— Помоги…
Сторож быстро оглянулся. Неподалеку послышались шаги. «Каменщик! Старик…»
Ужас охватил Джабара…
Еще на тропинке Прокопыч услышал громкие, странные причитания Джабара. Предчувствуя что-то недоброе, старик поспешил к расщелине на голос сторожа.
Джабар шел навстречу, обхватив голову руками, раскачиваясь на ходу.
— Ай-вай, вай!..
— Ты чего воешь? Что случилось? Где Савелий? Да говори ты!.. Душу из тебя вытрясу! — схватил запыхавшийся Прокопыч сторожа.
Ай-вай, вай! Ай, беда! Подрался Савелий, там лежит… Ай, несчастье!..
Оттолкнув Джабара, Прокопыч кинулся вдоль расщелины. Не различая дороги, проваливаясь сквозь тонкий лед в ручей, он побежал изо всех сил, неестественно согнувшись и зачем-то сорвав с головы шапку.
На примятом снегу вытянулось огромное тело Савелия. В сведенных его пальцах был зажат тяжелый железный прут. Рядом с каменщиком, лицом вниз, с разможженной головой лежал Байбеков. Под его рукой виднелся окровавленный нож.
Прокопыч, весь дрожа, бросился к своему подручному, не веря себе, стал ощупывать тело, тормошить его.
— Савелий!! Савелюшка! Да как же это? Да что же ты!.. — шептал он.
И вдруг хриплый крик вырвался из груди старого каменщика.
— А-а!.. Тварюки проклятые! Убили!! Убили!!
Потеряв шапку, задыхаясь, Прокопыч бросился бежать к Сарыташу.
ДОПРОС
Спешно прибыв по звонку Чернова, капитан Мороз принял участие в допросе Джабара. В комнате уже был следователь — молодой человек в очках, с живыми глазами и темным пушком на верхней губе, немного мрачнова тын судебный врач и Савченко. Очевидно, шел горячий спор, следователь доказывал:
— С таким богатырским здоровьем каменщик, конечно, нашел еще силы нанести удар по голове этому Байбекову- Вы обратили внимание? Ведь затылочная кость совершенно раздроблена!
— Это всё так, но… — вяло возражал судебный врач.
С капитаном все радушно поздоровались, следователь долго тряс ему руку.
— Пришлось немного поморочиться на Алае? — улыбнулся Савченко. — Благополучно добрались?
— Застрял было на полпути да, спасибо, Фатима выручила, подцепила своим «вездеходом». Энергичная девушка… Ну, что у вас тут?
— Да вот доктор сомневается, — оживился следователь. — Говорит, обстоятельства довольно странные; как мог каменщик убить Байбекова!
— А может — наоборот?
— Это так, однако…
— Вы уже допрашивали свидетелей?
— Нет. Вчера мы занимались следствием. Снимали показания, делали снимки. Вы во время подоспели…
— Вы мне разрешите познакомиться с обстоятельствами дела? — попросил капитан.
— Как же, как же, прошу вас! — любезно пододвинул ему папку следователь.
Пока он распоряжался в соседней комнате и звонил по телефону, капитан просмотрел мелко исписанные листы дела и расспросил судебного врача и Савченко о происшествии.
Ну что, товарищ капитан? Каково ваше мнение? спросил вернувшийся в комнату следователь.
— А вот посмотрим, что скажут свидетели, — уклонился капитан.
— Что ж, давайте допрашивать, Введите сторожа, — сказал следователь стоявшему у дверей милиционеру.
Вошел Джабар. Он был бледен. На заросшем лице беспокойно поблескивали воспаленные глаза. Видно, не спалось ему ночью. После обычных вопросов, необходимых для протокола, следователь задал вопрос.
— Скажите, Джабар Салиев, часто ли к вам приезжал на ферму Байбеков? И зачем?
— Я таджик, товарищ начальник, он таджик. Мы — знакомые. Чай пил у нас, на моей кровати спал. Гость ведь! Раза три был.
— А где вы с Байбековым познакомились? С кем он еще, кроме вас, встречался на ферме?
Джабар замялся-
— Далекий вопрос капитан задает! Много лет назад я в Сталииабаде был, колхоз посылал. Там в лавке с ним познакомился… А на ферму мастер Быков заходил, бузу пил.
— А что, Байбеков был знаком с мастером Быковым?
— Да. Он же работал на участке в Мургабе. Они знали друг друга.
— О чем же они разговаривали, когда встречались у вас?
— Разное говорили, — пожал плечами Джабар. — О работе говорили, тяжелая работа на дороге. Про войну… При мне больше ни о чем не говорили.
— Где вы работали до того, как переехали сюда? — спросил капитан.
— В Араване. Колхозные отары водил.
— У вас там семья?
— Дочь замужем, зять — тракторист-
— А до Аравана вы еще где-нибудь жили?
— В колхозе «Красная заря» под Андижаном. Чабаном был. Пять лет там был.
— Так Байбеков у вас был всего три раза?
— Два или три раза. Не помню…
— Пригласите сюда жену Салиева, — обратился следователь к милиционеру.
Через минуту вошла заплаканная Саида и сразу же тревожно спросила о чем-то мужа по-таджикски.
— Не переговариваться. Ничего вашему мужу пока не угрожает. Скажите лучше, Салиева, — Байбеков часто бывал на ферме? Только без слез и говорите правду.
Саида испуганно посмотрела на следователя. Вот уж сколько раз говорила Джабару, что эта дружба с Байбековым до добра не доведет. Торопливо заговорила.
— Бывал. Как едет в Ош, так и ночует у нас.
— Что же он у вас делал? И мастер Быков в эго время приходил? — спросил капитан.
— Приходил. Часто приходил: ел, бузу пил, денег никогда не платил. Всё на охоту ходил. И Мирза с ним на охоту ходил. Джабар провожал… Только мастер никогда ничего не убивал. Плохой охотник.
Джабар терзал на месте, бросая на жену свирепые взгляды.
Не успели голубчики сговориться, — шепнул Савченко капитану. — Забрали его сразу.
— О чем же они разговаривали? Наверно всё о тяжелой работе на дороге? — снова спросил Мороз, поглядывая па Савченко.
— Зачем о дороге! Про радио говорили, о
больном радисте, о пожаре… Много о чем говорили. Только они больше без меня разговаривали. Джабар не любит, когда я вмешиваюсь в мужские дела…
— Ну, а как же, все-таки, произошло убийство?
Оба, и Джабар, и Саида, клялись, уверяли, что ничего не знают, никого и ничего не видели.
— Собаки залаяли, я вышел во двор, услышал громкий разговор внизу у ручья, где мы воду берем… По голосу узнал — каменщик спорит с кем-то. Пока подбежал, по дорожке спустился, они дальше ушли. Потом крикнул кто-то. Подошел — оба лежат… Очень испугался я!
— Что же вы после этого сделали? — спросил следователь.
— Сюда на участок бежать хотел. Старый каменщик меня встретил, сам на участок побежал. Очень испугался я!..
— Попросим старого каменщика? — предложил следователь.
— Я хочу задать еще один вопрос сторожу, — сказал капитан. — Скажите, Джабар, почему у Савелия оказался железный прут в руке? Где он его взял?
Железный прут? Не знаю- Наверно от собак взял. Где-нибудь на ферме нашел.
— Хорошо… — кивнул капитан, что-то отмечая в своем блокноте. — Уведите…
Через порог шагнул Прокопыч. Его трудно было узнать, так он переменился. Волосы, заметно поседевшие, сбились на одну сторону.
Нечесаная бородка будто свалялась. Покрасневшие глаза слезились. Он вошел, остановился посреди комнаты, нервно обминая руками свою шапку.
— Расскажите, Иван Прокопыч, по порядку. Как всё произошло?
Запинаясь, глотая от волнения слова, старый каменщик стал рассказывать, как они поужинали, как он послал Савелия за хворостом и как его долго не было.
— О чем мог спорить Савелий с Байбековым? Ваш товарищ вспыльчивый был?
— Смирный он, товарищ капитан! Чего ему лезть на рожон. Мы же знали, зачем посланы. Савелий, даром что большой да неловкий, осторожность соблюдал. Человек он сознательный. Убили они его, ироды!.. Помешал им…
Прокопыч закашлялся, засморкался в старенький цветной платок.
— А зачем Савелий железный прут с собой взял?
— Какой там еще прут! — сердито возразил Прокопыч. — На кой шут он ему сдался! Савелия собаки знали. Не нужен ему никакой прут. Откудова он у него очутился — не понимаю. Вы не верьте этому сторожу. Хитрая лиса, прикидывается!..
— В тот день на ферме никого не было посторонних?
— Никого. Мы с Савелием да сторож.
Когда каменщик вышел, в комнате наступило молчание. Капитан, нахмурившись, смотрел в окно, что-то соображая. Следователь, склонив немного набок голову, быстро писал.
— Что вы на всё это скажите, товарищ капитан? — спросил он через некоторое время. — Путаное дельце!.. — Шумно положив на стол ручку, следователь снял запотевшие очки и принялся протирать их углом скатерти.
— Что скажу? С Байбековым покончил Джабар.
Молодой следователь даже привскочил.
— Сторож? Убил своего приятеля? Как-то трудно допустить. Он выглядит трусливым.
— И все-таки — Байбекова убил Джабар, чтобы скрыть следы, выгородить себя. Очень хитро сделано.
— Да? Вы так думаете? — неуверенно переспросил следователь.
— Давайте так рассудим. Первым ударил каменщик, Согласно медицинскому заключению, смерть Байбекова наступила сразу- Как же тогда он мог еще свалить с ног такого детину, как Савелий! Если предположить наоборот, что первым ударил Байбеков, — что скорее всего и было, то от прямого ранения в сердце смерть наступила тоже мгновенно. Вот и посудите, как могли они одновременно убить друг друга.
— Вы совершенно правы, товарищ капитан. Это мог сделать только сторож, — подал голос до сих пор молчавший судебный врач.
— В таком случае сторожа придется арестовать, — заключил следователь.
— Мне кажется, что не следует этого делать, — сказал Мороз.
— Он может скрыться!
— Надо дать ему понять, что его ни в чем не обвиняют. Этого человека необходимо оставить на свободе. Он еще может нам пригодиться. Конечно, это мой совет, — поспешно добавил капитан. — Вы вольны поступать, как считаете нужным.
— Посмотрим… Я доложу о ходе следствия подполковнику Шестакову, — неохотно сказал следователь. Он был человек самолюбивый и вмешательство Мороза ему не совсем нравилось.
— Зеленый еше следователь, — сказал Савченко капитану, когда они остались одни. Тут дело яснее ясного, а он — «убили друг друга»
После обеда у Чернова капитан Мороз пошел в детский сад навестить Чена. Незнакомое до сих пор состояние испытывал он, приближаясь к серому каменному зданию. Не то волнение, не то робость… Робость? Этого еще не хватало! Капитан даже приостановился от этой мысли и крепче надвинул па лоб фуражку
Вечерело. Над Заалаем бледнели отблески заката. По склонам в долину сползала сиреневая, всё темнеющая мгла. И только величавый пик Ленина сверкал своей позолоченной вершиной. Капитан ничего этого не замечал, мысли его были сейчас полны другим.
Знает ли Чен о его приезде? Обрадуется, должно быть, мальчишка. И он, Мороз, очень рад будет его видеть. Никогда еще он не испытывал такой радости. От свидания с Ченом? Нет, не только, — что уж обманывать себя. Он хочет видеть Елену Николаевну. Глаза против воли перебегали от окна к окну — не мелькнет ли там ее лицо…
— Вы!.. — увидев на пороге капитана, воскликнула приятно пораженная Елена Николаевна. — Я не знала, что вы приехали…
— Как видите, приехал… А где же Чен?
— Он у Дорошенко, с Сережей, сыном моей помощницы. Пойдемте в комнату, я сейчас скажу, чтобы позвали его.
Капитан остался в комнате один. Он разделся, подошел к настольному зеркалу, осмотрел себя, поправил волосы. Рядом с зеркалом в тоненькой рамочке стояла фотография военного. Мороз взял ее в руки- «Погиб в 1941 году 25 июня, город Минск», — прочел он на обороте карточки. «Муж… тоже капитан, артиллерист. Хорошее лицо». Неожиданно Мороз почувствовал, как в нем шевельнулось что-то похожее на ревность или боль: она любила его, думает о нем…
В коридоре послышались торопливые шаги. Капитан поставил фотографию на место. Вошла раскрасневшаяся Елена Николаевна.
— Вот и я…
Они стояли некоторое время, молча рассматривая друг друга. Оба чувствовали легкое волнение.
— Чен всё время вас ждал… Он к вам очень привязан! Я так полюбила этого мальчика…
— Славный мальчишка! Как он тут ведет себя!
— Очень хорошо; ласковый, послушный. Он уже почти свободно говорит по-русски.
В коридоре хлопнула дверь, послышался топот бегущих ног и в комнату ворвался Чен.
— Капитана! — воскликнул он, широко раскрывая глаза и бросаясь к Морозу.
Тот обнял мальчика, погладил его колючую стриженую голову.
— О! Да тебя, брат не узнать! Кто же это сшил тебе такой костюм?
Чен быстро взглянул на Елену Николаевну и порывисто обхватил ее руками за талию.
— Эге, быстро вы сумели покорить хлопца, товарищ начальник детсада!
— Мы с ним друзья.
Она усадила Чена рядом с собой. Мальчик оживленно болтал, путая китайские и русские слова. Мороз и Елена Николаевна, улыбаясь, поглядывали на него и между ними шел свой, немой разговор. Оба испытывали радость оттого, что видят друг друга, и не умели ее скрыть.
«Мне очень хорошо и радостно, и я не знаю отчего это» — говорил ее взгляд, немного растерянный и смущенный.
«Я счастлив. Разве вы не знаете отчего?» — спрашивали его глаза. И всё же им казалось, что чувство, которое наполняет их, относится к мальчику, сидящему между ними, и они наклонил ни, к Чему, смеясь, переспрашивали его, хоть и не слышали ни одного слова.
Когда Чен убежал во двор, они замолчали и сразу стали серьезными.
— Вас вчера застала метель? — нашлась, наконец, Елена Николаевна.
Мороз рассказал, как их застигла метель, потом долго и подробно говорил о различных вещах и событиях, которые сейчас его очень мало интересовали. Ему было скучно говорить о них, но остановиться он не мог. Остановиться — значит, надо попрощаться и уйти или заговорить о том, что так волнует и радует его сейчас. Но это и совсем невозможно- Сказать о том, что он ее любит — женщину, которую видит всего второй или третий раз! Что она подумает о нем? Сочтет за ловеласа, одного из тех, кто может объясняться в любви первой встречной хорошенькой женщине. Нет, она не поверит ни одному его слову! Не поверит, что он сам вот сейчас только, когда она молча слушала его, чуть склонив голову, — он понял, что любит ее.
А Елена Николаевна думала о том дне, когда она впервые увидела Мороза. Странная мысль явилась у нее тогда. Вот человек, который пройдет мимо нее и никогда их пути не встретятся. И ей стало грустно оттого, что этот мужественный, с виду немного суровый человек пройдет мимо. Какие странные бывают мысли и желания! Но еще более странно, что желания эти могут осуществиться…
«НЕ ВСЕГДА ИДИ НАВСТРЕЧУ СЧАСТЬЮ»
Чернов, не раз хваставший своим железным здоровьем, неожиданно заболел жесточайшим гриппом и пролежал в постели добрую неделю. Жене о своей болезни он не написал, со смутным беспокойством подумав о том, что
Лидия может приехать и тогда разрушится что-то бережно им хранимое, дорогое, то, что связано было с мыслями об Ирине и короткими встречами с ней.
Лидия прислала телеграмму: «Здорова. Деньги получила. Талочка тебя целует».
Владимир Константинович невесело усмехнулся. Даже письма ласкового не может написать. Хотелось равнодушно махнуть рукой, по, несмотря на все старания, равнодушия не было, а была обида и глухая, притаившаяся глубоко внутри боль.
Несколько раз его навещала Ирина. И всегда приходила не одна. Однажды он сказал ей:
— Я хотел бы поговорить с вами… Мне нужно так много сказать вам…
Она растерянно посмотрела на него, оглянулась на сидевшую поодаль с тетей Сашей свекровь, которая пришла вместе с ней. И сейчас же встала, собираясь уйти.
— Мне так хочется побыть с вами вдвоем… — тихо сказал Чернов. — Вы придете?
Владимир Константинович… Вам не надо ни о чем говорить… — беспомощно сказала она.
Обещайте, что вы придете… Без провожатых, настойчиво твердил Чернов.
Аксинья Ивановна, закончив разговор с тетей Сашей, направилась к ним.
— Перестаньте… Хорошо, я приду, — прошептала Ирина. Она сама не знала, как это получилось, что она ответила согласием на его просьбу.
Аксинья Ивановна, внимательно посмотрев на них, заговорила о делах своей столовой.
Через день Ирина зашла. Но не одна, а с Сережей- Чернов с легкой укоризной посмотрел на нее.
Разговаривать пришлось, главным образом, с Сережей, так как у мальчика всегда было о чем поговорить. Улучив минуту, когда он занялся журналом, Чернов сказал:
— Вы стали мне необходимы. Ирина… Я просто не могу без вас…
Она испуганно откинулась на спинку стула,
— Нет! Нет! Это невозможно, Владимир Константинович. Не надо, очень вас прошу, не надо говорить, об этом! Я очень ценю ваше… ваши чувства, но я ничего не могу сказать вам… И не должна…
Владимир Константинович долго смотрел на нее и молчал.
— Я понимаю вас… Ирина Васильевна, — грустно сказал он наконец.
Но Чернов не понял ее. Она сама не понимала себя. Вернувшись домой, Ирина в смятении долго сидела на скамеечке у печки — единственном месте, где можно было согреться в их комнате. Мало-помалу определилось решение. К Чернову она больше не пойдет. Ей не нужно ходить туда, потому что… потому что он любит ее, а она-., она тоже может… Нет, это неправда! Она просто испытывает сочувствие к этому одинокому, грустному человеку. Какая у него жена? Говорят, красивая. Но она, кажется, не любит его. Об этом тоже говорят здесь. Поэтому он так одинок. Но всё равно. У него есть семья, дочь. Вернется жена и они опять будут вместе. Мало ли чего не бывает в семье. И зачем ей думать о человеке, которого она знает всего четыре месяца?
Ирина никак не могла согреться, куталась в платок и подбрасывала дрова в печку.
Разве после того горя, которое ей принесла гибель мужа, она может думать о ком-нибудь другом? Она любила Николая. «И разве так бывает, что после одной любви приходит другая? Разве так бывает?» — шептала Ирина, глядя в озаренную красным пламенем дверцу. И ей вспомнились стихи одного поэта:
«Не всегда иди навстречу счастью…»
Дня через три после посещения Ирины Владимир Константинович сделал попытку выйти из дому, но почувствовал в коленях страшную слабость. Досадуя, он сел перечитывать старые газеты. Потом подошел к окну. Из окна было хорошо видно дорогу, которая терялась за крутым и высоким выступом горы. Дальше, над безмолвным простором долины, белели остроконечные пики Заалайского хребта. Над ними проносились легкие перистые облака.
«Эх, и красив же наш Памир! Суровый и величественный горный край…» — с восхищением подумал Чернов.
Перед окном появился Сережа на лыжах, с палкой в руке, за конец которой ухватился зубами пес Нерон, таща мальчика за собой. Следом за Сережей на лыжах шагал Чен. Они оба громко смеялись.
Владимир Константинович постучал в окно. Сережа подбежал, прижался лицом к стеклу, смешно приплюснул нос.
— Сережа! Может, в шахматы сыграем, а?
Сережа мигом отпрянул от окна и через минуту оба мальчика уже возились в прихожей, ставя в угол палки и лыжи. Нерон прыгал на крыльце и царапал лапами дверь.
— Что же ты, брат, так долго не приходил? — полушутя упрекнул Владимир Константинович Сережу.
— А мы же с мамой недавно были у вас.
— А как твои дела, Чен?
Мальчик посмотрел на Сережу и застенчиво улыбнулся.
— Хорошо, — ответил он.
Они втроем вошли в спальню и устроились за письменным столом. Сережа и Чернов играли в шахматы. Чен, приоткрыв рот, с увлечением следил за каждым ходом. Он еще только постигал эту сложную игру.
— А сегодня по радио передавали, что наши здорово фашистов бьют! Под Новороссийском, — передвигая пешку, сообщил Сережа. — Скоро Кубань освободят и мы уедем.
Чернов взялся за фигуру да так и застыл.
— Как это — уедем?
— Так, уедем. Поездом. Потом — пароходом!
— Это кто же сказал? Что ты выдумываешь?
— Мама бабушке говорила. В Пятигорск, к тете Дуне поедем.
Мама говорила?
— Ага.
Владимир Константинович сделал неверный ход.
— Шах королю, — услышал он голос Сережи.
Шах? Погоди… мы сейчас вот сюда его…
Куда? Вам же мат! — торжествующе воскликнул Сережа.
Да, брат, выходит, мат… — грустно согласился Владимир Константинович, думая совсем о другом.
— Если хотите, можете переходить, — великодушно предложил Сережа.
— Нет уж. Не всякую ошибку исправишь…
«Не всякую ошибку исправишь», — повторял он, расхаживая по комнате, когда мальчики ушли.
Как он сразу не понял, что глубоко безразличен ей? Просто, она была по-женски мягка и ласкова с ним. Пожалела заброшенного мужа, связала перчатки… А теперь собирается уезжать. Ну, что ж… Довольно об этом думать.
Но он ходил и ходил по комнате и, забыв о своем решении — не думать, всё думал о женщине, которая принесла в его жизнь то, чего он страстно всегда желал и чего так не-хватало ему до сих пор…
КОЗЫРЬ ДЖАБАРА
По предложению капитана Мороза Чернов предоставил Прокопычу отпуск. И без того не находя себе места от гнетущей тоски по своем погибшем друге, тот теперь не знал, как убить время. Целыми днями старик стал пропадать в горах, на охоте. Стрелок он был не ахти какой и долго никакой дичи не приносил. В общежитии, где он ночевал, подшучивали: «Где же добыча, Прокопыч? Или пасется еще?»
В один из таких охотничьих дней за Прокопычем увязался Пулат.
— Возьми с собой. Побродить охота.
Каменщик, скрепя сердце, согласился. Почти полдороги молчал. Но разве с Пулатом будешь молчать, когда он, как девушка, раскрасневшись от мороза, блестя глазами, без умолку говорит, смеется, пристает с вопросами.
Мало-помалу Прокопыч отошел, разговорился и к концу дня был даже доволен своим спутником. Сверх ожидания, старик нашел в Пулате внимательного слушателя, веселого собеседника, хорошего товарища, и на следующий день сам предложил ему идти вместе охотиться.
Теперь объектом для шуток стал Пулат, но он не обижался, наоборот, сам смеялся вместе с товарищами.
— Ладно, ладно, подождите, подстрелим зверя…
Так они несколько раз вдвоем ходили в горы.
Пулат обратил внимание на то, что Прокопыч всегда ходит одним путем и кружил почти в одних и тех же местах. С крутого склона, на который они поднимались, была видна ферма и дорога, идущая к ней. Пулат спросил об этом Прокопыча и своим вопросом страшно рассердил старика.
— Это не твоего ума дело! Природа мне здесь нравится. Хочешь со мной ходить — помалкивай. Пустых вопросов не терплю.
Пулат прикусил язык. Ему полюбились эти прогулки. В горах было столько интересного. Под одной скалой обнаружили глубокую пещеру, собрали там черепки, старинные изделия из камня. В другом месте натолкнулись на горячий источник. Над оттаявшим снегом клубился густой пар, тут же оседавший мельчавшими кристалликами, которые сверкали на солнце, переливаясь тысячами огоньков. Оголившаяся глыба камня была влажная, словно вспотела от душных сероводородных испарений. Из еле заметных трещинок вытекали струйки горячей воды. Несмотря на мороз, от источника тянуло теплом.
— Прямо, как в бане, хоть купаться полезай! — говорил Прокопыч. — Только веничка березового не хватает!
Когда шли на лыжах против солнца, в этом безлюдном уголке среди гор, снег так ослепительно сверкал, что приходилось прибегать к защитным очкам. Останавливаясь, они прислушивались. Пулат ловко щелкал языком, и горы откликались, унося звуки всё дальше, всё выше. пока они не замирали где-то в ущельях.
В один из таких морозных солнечных дней Прокопыч и Пулат отправились на охоту.
Едва они приблизились к краю выступа, за которым, виднелась часть плато с фермой, как оба заметили внизу человека, идущего им почти навстречу. Это был Джабар. Пулат хотел было уже окликнуть сторожа, как вдруг почувствовал, что ему кто-то сильно зажал рот рукой. Прокопыч проделал это настолько быстро и неловко, что потерял равновесие и чуть не упал.
— Ложись и не дыши! — прошипел он Пулату.
Старый каменщик проворно подполз к краю выступа и замер. Пулат улегся рядом с ним. Отсюда им было видно, как сторож остановился, осмотрелся и стал медленно взбираться на плато.
— Ах, леший тебя забери! К старому складу пошел. Что ему там надо? Туда уже лет десять никто не ходит.
Пулат молчал, не понимая толком, что всё это означает.
Тем временем сторож подошел к сооружению, которое Прокопыч назвал старым складом, и исчез.
— Видал? За каким бесом он туда пошел?
Они долго ждали, пока снова появится Джабар. Лежать без движения в снегу было холодно. Прокопыч отполз, стал за выступ, потоптался на месте, постукивая ногой об ногу.
— Идет!.. — услышал он шепот.
Каменщик второпях, как мешок свалился рядом с Пулатом. Сторож тем же путем спустился в расщелину и пошел обратно на ферму. Выждав, пока он скроется из глаз, Прокопыч и Пулат поспешили туда, откуда Джабар только что вышел.
— Вишь, как придумал! И следов не видать никаких! — проговорил старик взглянув на неглубокий овраг, сползавший с плато по уклону. Каменистое дно оврага было черно и бесснежно.
Не говоря ни слова, они поднялись наверх. Из-под глубокого сугроба торчал остов полуразрушенного склада. Земляная крыша почти вся провалилась. Но дверь уцелела и на ней висел заржавевший замок.
— Закрыто. Ну-ка, друг, поорудуй. Это по твоей части.
Пулат залез в карман, вынул пустой патрон, перевернул замок вниз дужкой и постучал патроном несколько раз по замку в одном месте, в другом… Замок сам собой открылся.
— Здорово! Это ты где же научился?
Пулат улыбнулся:
— Слесарное дело.
Они вошли в склад. Прокопыч чиркнул спичкой. На них глянули из темноты серые, заиндевевшие стены. В углу стояла вверх дном старая бочка. Чуть поодаль — два пустых ящика. Спичка погасла. Прокопыч зажег новую.
В стене над бочкой, одна над другой были устроены две ниши, заваленные кусками старой фанеры, кирпичами мусором.
— Что ж ему тут было нужно? Не пойму. А, Пулат? — разочарованно спросил Прокопыч и снова чиркнул спичкой. — А ну, смотри под бочкой, под ящиками.
Там ничего пе оказалось. Пулат порылся в нишах, но и в них ничего, кроме мусора, не нашел.
— Ну, врешь! Ни за что не поверю, чтобы он сюда просто так приходил — прогуляться!
Ползая на коленях, они обшарили всё помещение, но так ничего и не нашли. Запыхавшийся Пулат поднялся с колен, плюнул с досады.
— Вот что, парень, — упрямо сказал Прокопыч, — завтра возьмем лопаты и раненько — сюда. Перероем всё, до последнего вершка.
Голодные и усталые, они добрались до общежития только поздно вечером.
А Джабар эту ночь провел без сна. Когда он вернулся со склада домой, жена встретила его таким вопросом, от которого по спине сторожа забегали мурашки.
— Ты не знаешь, Джабар, зачем это в старый склад ходили двое рабочих?
— Какие рабочие? Это я ходил.
— Нет, после тебя. Я козам корм носила, своими глазами видела.
— Путаешь ты что-то, Саида!
— Зачем путаю! Что я, того старого каменщика с рыжей бородкой не знаю, который у нас на ферме работал? Я сразу узнала его. А кто с ним был — не разобрала.
Джабара бросило в пот. Он не стал даже обедать, всю ночь думал, что же сделать, а рано утром, с виду совершенно спокойный, стучал в дверь к Савченко.
— Здравствуй, парторг! — поздоровался Джабар, почтительно поклонившись. — Я пришел сообщить об одном нехорошем деле…
— Говори, я слушаю.
— Вечером на старом складе был. Туда кто-то ходит. Радиоаппарат нашел…
— Радиоаппарат? — удивленно вскрикнул Савченко.
Еще более поразило его то, что с таким известием пришел Джабар.
— А ты зачем туда ходил?
— Жена сказала — человека видела. Сам знаешь, склад старый, никому не нужен… Я подумал, какой человек? Что ему в складе делать?..
— И что же?
— Проверить пошел. Сторож я. Вот пришел к тебе сказать.
— Хорошо, что сказал. Что за человек ходил в склад?
— Этого не знаю. Жена сказала — человек ходил, а какой — она не рассмотрела. Далеко, плохо видно было…
— Где же ты нашел радиоаппарат?
— В яме был. Досками заложен. Сверху земля насыпана.
— Хорошо. Подожди пока здесь.
Савченко вышел. Он хотел найти Прокопыча и послать его вместе с Джабаром в старый склад. Но не успел он отойти и нескольких шагов, как Прокопыч сам нагнал его.
— Василий Иваныч! Разговор есть…
Вид у Прокопыча был несколько таинственный, но Савченко прервал его:
— Погоди, старина. Тут дела поважнее. Пойдешь сейчас в старый склад, что за большим плато… Там какой-то радиооппарат нашли.
— Кто нашел?! — Прокопыч в изумлении остановился и широко открытыми глазами уставился на парторга.
— Джабар…
— Джабар? Ах-х-ты… Ну, пес!
— Чего же ты ругаешься? Человек полезное дело сделал, бдительность проявил… — приподнял бровь Савченко.
Это он-то — бдительность?!
Прокопыч, торопясь и сбиваясь, рассказал о вчерашнем посещении Джабаром старого склада и о своих поисках.
— Ага, вот теперь дело яснее, — удовлетворенно проговорил Савченко. — Всё же, Прокопыч, надо показать, что мы относимся к Джабару с доверием.
Понятно?
— Эх, жаль, не опередили мы его, хитрую лису! — воскликнул старый каменщик. — Всё обыскали, а оно, видать, в земле было закопано. Теперь у него козырь!
— Битый козырь, Прокопыч, — коротко отрезал Савченко.
ВЕСНА НАСТУПИЛА
Весна наступила сразу, неожиданно. Небо стало чистым, голубым, без единого облачка. На склонах гор и в долинах снег оседал, прижимался к земле, чернел. Только вершины гор по прежнему сияли нетронутой белизной. Невидимые ручьи журчали, прячась под хрупкой ледяной корой. Соединяясь, они устремлялись бурными потоками в долины. В горах начались частые обвалы.
Громадные массивы обледенелых сугробов, подмытые талыми водами, со страшным грохотом обрушивались вниз, засыпая ущелья и дороги. А наверху оголившиеся острогорбые выступы скал обсушивали и грели на солнце свои каменные спины. Горный ландшафт становился по-весеннему пестрым, разнообразным. Ребятишки приносили первые цветы: букеты памирских подснежников.
В долинах, где шумели пенящиеся реки, клубами поднимался пар. Недавняя мертвая тишина зимы была нарушена — всё вокруг на полнилось шумом и звоном наступающей весны. У подножья гор зазеленела первая трава.
Все рабочие Сарыташа были заняты борьбой с паводком.
Мастер Аничкин сообщил Чернову, что река Кизыларт прямо взбесилась. С гор несет такие камни, что страшно смотреть. В ущелье стоит грохот, как от канонады.
Автомашины, находившиеся в это время в пути, застряли в дороге. Проезд загородили оползни и такие стремительные потоки, что через них опасно было переезжать. Крупные камни, целые сосны, вырванные с корнем, неслись с такой легкостью, будто это были соломинки.
Борьба за горную дорогу через Памир с наступлением весны приобретала новые формы.
Как только пришла с Талдыка машина, Чернов немедленно поехал в Алайскую долину проверить, в каком состоянии находится мост.
Машина мчалась, разбрызгивая во все стороны лужи воды, врезалась в бурлящие ручьи, бежавшие через дорогу. У моста раскинулось целое море. Кто бы мог подумать, что небольшая речка, которую летом можно было перейти вброд, станет такой бурной и широкой!
По обе стороны моста возвышалась высокая насыпь, выложенная камнем, выгнутая против течения и служившая дамбой. Мутные, с красноватым оттенком воды реки доходили до самого ее края, выплескивая на мокрый гравий дороги грязную пену.
Навстречу Чернову шли Савченко и двое рабочих с лопатами и кирками. Мост поскрипывал вздрагивал под бешеным напором воды. Чернов услышал стук камней о стропила.
— Воды много прибавилось с утра? — громко, стараясь перекричать шум реки, спросил Чернов бригадира.
— Сантиметров на двадцать, — кричал в ответ тот.
— Плохо дело. Надо укреплять мост столбами.
— Я как раз хотел предложить то же самое. Укрепить с двух сторон. По шесть столбов, не меньше.
— Так не откладывайте. Надо спасать мост. Я сейчас вернусь на участок и пришлю машину с материалами, — распорядился Чернов.
Он уехал обратно в Сарыташ и немедленно отправил к Савченко машину со столбами, скобами и разным инструментом. Подумав немного, он зашел в контору.
С тех пор, как Лидия вернулась из Оша, он старался поменьше бывать дома.
На другой день после приезда Лидия насмешливо сказала:
— Ты, оказывается, здесь не скучал.
Владимир Константинович молча взглянул на нее.
— Удивляюсь, какое нужно иметь нахальство, чтобы поселиться в доме женатого человека! При живой жене.
— Что ты хочешь сказать? — сухо спросил он.
— Я хочу сказать, что мне противно жить в доме после того, как ты приводил сюда всяких…
— Лидия!! Как тебе не стыдно повторять сплетни! Мальчик тяжело болел. У Дорошенко очень холодная комната.
— Почему же ты не отправил его в больницу?
— Ты прекрасно знаешь, что у нас тут было… До больницы разве доберешься в таких условиях…
Лидия вдруг упала на стул и разрыдалась.
— Так дальше… продолжаться не может… — сквозь рыдания выговорила она.
— Ты права. Так дальше продолжаться не может, — холодно подтвердил он.
— Мне говорили… эта женщина хочет разрушить нашу семью…
— Не смей!.. Эта женщина…
Чернов направился к дверям.
Тревога овладела Лидией.
— Владимир! — испуганно крикнула она вслед мужу.
Он ушел, не оглянувшись.
Потом между ними состоялось молчаливое полупримирение. Они говорили мало, спокойно и только о самом необходимом.
Однажды из Оша Лидии пришло письмо. Владимир Константинович был дома. Он принял письмо из рук тети Саши и, не глянув, передал Лидии. Она посмотрела на адрес снизу, вспыхнула и разорвала письмо на клочки.
— Он еще осмеливается писать, этот пошляк!
— Кто? — равнодушно поинтересовался Чернов.
— Этот… Казаков!
Кажется, Лидия ждала вопросов мужа и волновалась, но Владимир Константинович ни о чем не спросил. Его вызвали к телефону.
Придя в контору, Чернов с трудом расслышал в трубку голос начальника дороги. А когда расслышал, тяжело вздохнул. Восемь человек призывают в армию. Сейчас отпустить восемь человек, когда на дороге такое тяжелое положение, — прямо несчастье! Он спросил начальника дороги; может быть, окажется возможным оставить хотя бы Пулата Ибрагимова, он сейчас комсорг, много работы с молодежью. «Нет, оставить никого нельзя». Чернов положил трубку и задумался.
Вот и еще уйдут люди на войну… полные сил и здоровья… вернутся ли? Он вызвал секретаршу и попросил написать приказ об освобождении призывников.
…Бригада Савченко замучилась с укреплением моста. Тяжелый, громоздкий столб, еле удерживая в руках, раскачали и погрузили в воду. Он коснулся дна и мгновенно всплыл, чуть не вырвавшись из рук. Одежда людей пропиталась ледяной водой, мокрые руки коченели. Наконец, при помощи каната и крючьев удалось вогнать первый столб в дно реки. Несколько человек, поднимая тяжелую чугунную «бабу», стали вколачивать столб глубже в грунт.
К вечеру пять столбов были вбиты в дно реки и укреплены. Мост всё еще вздрагивал и поскрипывал. Поднявшийся ветер гнал по воде грязные, пенистые барашки. Люди устали. Одежда вымокла, по лицам струился пот.
Когда возились с последним столбом, никто не заметил, как течение принесло огромную корягу. Нырнув под мост, она со страшной силой ударилась о столб. Плотника Григория, который поддерживал его, сбросило в реку, как пушинку.
Это произошло так неожиданно, что все замерли, глядя на то место, где исчез в воде плотник. Первым опомнился Савченко. Он рванул с себя ватную куртку и, перемахнув через перила, бросился вслед за Григорием. Сдавленный крик вырвался у людей. Все бросились к берегу, за шестами и веревками.
— Погибли! — в отчаянии закричал один из молодых рабочих.
В первое мгновение ледяная вода сковала тело Савченко. Захватило дух, голова налилась тяжестью и зазвенело в ушах. Но Савченко был неплохим пловцом. Когда-то, поспорив, он переплыл в самом широком месте Днепр. Он вынырнул и сразу же увидел далеко впереди барахтавшегося Григория.
Сильными взмахами рук Савченко стал приближаться к нему. Намокшая одежда и особенно тяжелые сапоги мешали движениям.
Течение было таким быстрым, что люди, бежавшие вдоль берега, не поспевали за Савченко.
Но вот на поверхности воды снова показалась голова Григория и вслед за нею, почти рядом, встопорщилась всё та же коряга.
— Григо-орий, берегись! — кричали с берега.
Видно было, что Григорий не расслышал, но испуганно метнулся в сторону. На берегу облегченно вздохнули. Расстояние между Савченко и Григорием сокращалось…
Варя чуть не заболела от испуга, когда муж весь мокрый, с израненными руками и лицом, появился на пороге.
— Вася!! Что случилось?
— Ничего… Ты не волнуйся. Дай мне переодеться и, пожалуй… стопку водки, — сказал Савченко.
Отогревшись и пообедав, он рассказал жене о случае на реке. Варя всплеснула руками.
— Вечно ты оказываешься в самом опасном месте!
— Ну-ну… А кто же должен оказываться в самом опасном месте? — примирительно улыбнулся жене Савченко.
— То ты гонялся за диверсантами, то ходил па эту ферму… Могли убить, подстрелить где-нибудь из-за угла… Теперь чуть не утонул!
— Ладно, Варюша… Человека надо же было спасать. А потом — я каждый раз вспоминаю: а как же на фронте?
— Да разве я говорю, что не надо! — воскликнула Варя, прильнув к мужу. — Просто боюсь я за тебя, Вася…
— Живем в таком краю, Варенька, где опасность может встретиться каждый день. Природа тут немилостивая.
Признаться, сначала Памир несколько испугал Савченко, потом поразил своим величием, потом покорил. Тяжелая борьба, которую вели тут люди с суровой природой, захватила и восхитила его. У него было крепкое здоровье, большие рабочие руки и поэтому он скоро перестал ощущать трудности жизни в этом заоблачном горном краю. Чуть не утонув в бешеной ледяной реке, он даже не простудился и теперь благодушно подшучивал над женой.
За стеной, в соседней комнате общежития раздавались шумные голоса и громкий смех.
— Что это там такое? — спросил Савченко.
— Это Пулату ребята проводы устроили. Разве не знаешь, — он уходит в армию?
— Как не знать — знаю. Уезжают ребятки помаленьку. Родина требует…
В дверь постучали. Вошел Пулаг.
— Василь Иванович, зайди, пожалуйста, посидим немного! На прощание, — попросил он.
В коридоре, освещенном тусклой электрической лампочкой, Пулат подхватил Савченко под руку и неожиданно потащил его в темный угол.
— Савченко, что тебе сказать хочу на прощание… — шепотом проговорил он. — Ущелье ходил я смотреть!..
— Ущелье? Зачем?
— Понимаешь, на склоны и в пропасть лазил, как кошка, каждый камень смотрел, чуть не сорвался…
— Что же ты там искал, золотой камушек?
— Какой там камушек. Быкова искал. Душа не на месте была. Кто его знает, думаю, может лежит где в стороне… Такой разговор ведь был. Вот и ходил проверить. Нет Быкова. Только кости зайца нашел да вот это. — Пулат вынул из кармана кусачки.
Кусачки? Ты где их нашел?
— На правом склоне, высоко на выступе, откуда обвал случился…
— Та-ак… Ну, ладно, Пулат. Авось не провалился он сквозь землю. Найдем. Спасибо, что сказал.
Савченко пощелкал кусачками.
— Что это у тебя за шум?
— Выпивают ребята немножко на прощание. Призывники собрались.
— Ну, пойдем.
Когда Савченко вернулся домой, Варя еще не спала. Она сочувственно посмотрела на усталое лицо мужа, улыбнулась.
— Что, «разводящим» был?
— Да нет… Всё в полном порядке.
Когда он улегся, Варя подсела, погладила мужа по руке.
— Вася! Что я хотела сказать тебе… Ты замечаешь, что в семье Черновых очень неладно?
— Да? Ссорятся, что ли?
— Нет, не ссорятся, но как чужие. И мне кажется, что Владимир Константинович тоже немного виноват.
— Не люблю я этой взбалмошной барыньки!
— Мне она тоже не особенно нравится. Но в последнее время Лидия Львовна как-то изменилась. Стала серьезнее. И грустная такая.
Все-таки она образованная женщина, закончила институт — не может быть, чтобы она была совсем пустышкой. Надо ее как-то втянуть в общественную работу, что ли? А, Вася?
— Попробуй…
— Погоди, что значит «попробуй». Ты скажи: «попробуем».
— Я, Варюша, не умею вести разговоры с такими деликатными дамами. А ты попробуй. Ты же у меня умница. А я агитирую больше киркой, лопатой… Станешь рядом — ану, давай, ребята!
— И ворочаешь за троих ребят, — ласково усмехнулась Варя.
— Ну, другой раз и приходится, зато убедительно получается.
Савченко засмеялся и, обняв жену за плечи, поцеловал в пушистые волосы.
В ОШЕ
Зной стоял нестерпимый. В кабине было душно, пахло нагретой резиной и бензином. Капитан опустил стекло и лицо его обдало горячим ветром. Машина неслась на повороте, спускаясь в ущелье. В кузове сидели Лукаш и двое пограничников.
Повстречалась группа рабочих, ремонтировавших ограждения. Донесся четкий перестук молотков о камни. Этот перестук вызвал в памяти Мороза осень прошлого года, каменщиков Прокопыча и Савелия. Капитан ехал впереди своего отряда на коне. Они возвращались на пост в Маркан-су. Было очень тихо. Горы в этом месте немного отступили от шоссе, раскинувшись широким амфитеатром. Каменщики сидели в кювете и работали. Мороза поразили звуки ударов их молотков о камни. Это была словно игра на каком-то особенном музыкальном инструменте. От ударов молотков о камни, то низких тонов, то высоких, — звук многократно отдавался в горах, создавая впечатление какой-то мелодии. Мороз даже улавливал ее обрывки: та-та, та-та-та… Он улыбнулся от этих воспоминаний, вполголоса пропев: та-та, та-та-та…
И, словно в ответ ему, по кабине что-то сильно стукнуло. Не успел шофер затормозить, как машину отбросило в сторону, передние колеса приподнялись и уперлись в скалу.
Капитана швырнуло в угол кабины, а шофер больно ударился грудью о руль. Первое мгновение никто не мог сообразить, что случилось. Мороз первый пришел в себя.
— Зинько, ты жив? — закричал он на ухо шоферу и потащил его к себе.
Тот повел глазами, ухватившись за грудь, и, пытаясь сделать глубокий вдох, широко раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег.
— Жив — наконец выдохнул он.
А кругом грохотало, словно палили из орудий.
— Выключай мотор! — крикнул капитан и выскочил из машины.
С горы катились огромные каменные глыбы, щебень. Пыль, сбиваясь в облако, потянулась вниз, вслед за обвалом в пропасть.
Один из пограничников лежал рядом с машиной, другой у края пропасти. Он силился приподняться. Капитан бросился к нему и оттащил в сторону.
— Куликов! Что с тобой? — прокричал Мороз.
— Бок, о-ох!..
Капитан еле разобрал, что он ответил, такой шум стоял кругом, и бросился на помощь к другому. Тот уже поднимался сам, потирая лоб и щупая плечо.
— Где Лукаш?
При мысли, что с ординарцем случилось несчастье, у капитана похолодело в душе.
— Лука-аш! — закричал он.
Шагах в пяти, посреди дороги сидел Лукаш и очумело покачивал головой.
— Фу-у! — подбегая к нему, вздохнул с облегчением капитан. — Я уже подумал, что ты- там! — закричал он на ухо ординарцу и показал вниз.
— Чорта с два! Я умею падать только сюда! — постучал рукой по земле Лукаш.
Гул от падающих камней ослабел. С горы еще сыпались мелкие камни, щебень, летела пыль, но опасность миновала.
— Вот чортова сторонка! Никогда не знаешь — доедешь живым или нет, — ворчал шофер.
Подшучивая друг над другом, все с опасением посматривали на скалу, откуда свалилась на них такая напасть.
Мороз спросил шофера:
— Ну, что? Поедем, Зинько? Может быть, я сяду за руль?
— Никак нет, товарищ капитан! Справлюсь сам. Уже легче. А сначала думал — дух вышибло!
Миновав глубокую извилистую выемку, машина вырвалась на простор небольшой долины — Ольгина луга.
Мороз с восхищением смотрел на чудесно изменившуюся картину. Ярко-красные, желтые и белые маки заполнили собой всё до самого подножья гор. Казалось, вся долина вспыхнула разноцветным огнем. У края дороги словно кто-то рассыпал золото — сплошное поле желтых маков. Потом — раскинулись, как огненное пламя, красные… Машина мчалась среди этого моря цветов.
— Нет, Зинько, — сторонка чудесная! — воскликнул Мороз, поворачиваясь к шоферу.
— Да уж это что говорить! Только будто в аду побывали, а теперь прямо в рай — красота какая!
Машина вынеслась на чудесную Кзыл-Белесскую дамбу. Вокруг, как пять братьев, возвышались караулившие ее горы Беш-ака.
Оставив в стороне городок Суфи-курган, дорога спускалась к горбатому каменному мосту. Это место особенно нравилось капитану своей исключительной величавостью и красотой. Перед глазами открылись два глубоких ущелья, на дне которых клокотали два бурных потока. Один был ярко-коричневого цвета от растворившихся в его водах горных пород. Другой- прозрачный, как слеза, цвета голубой лазури. Пена в нем белела, будто снег. У моста оба потока, с бешеным ревом вырываясь из ущелья, соединялись вместе, каждый сохраняя свой цвет. Так они неслись рядом, сверкая на солнце, один — словно разбавленный кровью, другой — прозрачный, голубой, как небо.
«Так и в жизни бывает, — подумал Мороз. — Живут люди, встречаются, а что у них в душе? У одного: светлые стремления, как в этом голубом потоке; идет человек к своей цели с ясным сознанием высокого долга… Другой, как вот этот мутный поток. Да только не распознаешь его сразу, как поток, — одежку-то он носит такую же, как и все. Задача нелегкая…»
Миновав мост, машина нырнула в Бель-Аулинское ущелье. Не так давно здесь совсем не было дороги. Сейчас она вилась по узкому карнизу, вырубленному в отвесных скалах. Тесно прижимаясь к ним, шоссе шло над самой пропастью, огражденное от нее только каменной стеной. Высокие, крутые скалы, слегка одетые зеленью арчи, повисли над ущельем. Внизу, среди камней, шумела река. На каменистом берегу зеленел кустарник, цвели облепиха, барбарис.
…Давно Мороз не был в Оше. И если бы не дела в штабе погранвойск, нескоро, пожалуй, пришлось бы попасть в город. Граница не пускает.
За мыслями Мороз не заметил, как машина въехала в предместье Оша, промчалась по центральным улицам, и только когда переезжали мост через реку Ак-буру, капитан очнулся от громкого шума воды и вспомнил, что его просил зайти подполковник Шестаков.
Шестаков радушно поднялся из-за стола, протягивая руку капитану.
— Садитесь, Дмитрий Михайлович.
— Вы хотели меня видеть? Что-нибудь новое по Сарыташскому делу?
— Есть и новое. Но, к сожалению, не всё еще стало ясным. Мы навели подробные сведения о Джабаре Салиеве.
— Да?
— Всё, что он сказал о себе на допросе, — подтвердилось… Кроме одного странного обстоятельства…
Мороз заинтересованно посмотрел на подполковника.
— Джабар Салиев действительно проживал пять лет в Киргизии. Был членом колхоза «Красная Заря», работал чабаном. Его хорошо там помнят. Салиев работал честно. Как лучшего чабана, его даже раза два премировали. И вот, посмотрите… — подполковник порылся в ящике и вынул пожелтевший газетный листок. — Портрет Салиева даже поместили в районной газете. Узнаете?
Капитан Мороз, не скрывая любопытства, потянулся к газете. Фотография была плохая, но Мороз без груда узнал Джабара.
— Любопытно.
— Любопытно другое… Дело в том, что чабан Джабар Салиев заболел и лет шесть назад умер…
Мороз в изумлении откинулся на спинку стула.
— Чорт… Это уже какая-то мистика!
— По видимому, документы были украдены, а сходство случайное.
— Значит, Джабар — не Джабар?
— Думаю, что так.
— Вы отдали приказ о его аресте?
— Пусть немного еще погуляет. Его «бдительность» принесла нам уже немалую пользу. — усмехнулся подполковник. — Мы без мороки получили радиопередатчик и узнали о связи Быкова с Байбековым. Кстати, спасибо вам за то, что приняли участие в расследовании дела на ферме. Следователь там был молодой неопытный и мог преждевременно спугнуть врага.
— У нас с сарыташцами крепкая дружба. Мы им помогаем — они нам.
— Савченко там у них молодец! Этого не проведешь.
— Скажите, удалось расшифровать перехваченную радиограмму?
— Вот, пожалуйста. — Шестаков вынул из папки листок бумаги.
Мороз прочитал:
«Операция № 3 поручена Быкову. Колонна отправляется двадцать седьмого. На квартире чужие. Жду ваших распоряжений. Рахим».
— Так… Рахим? Кто же это? Байбеков или Джабар?
— Джабар очень труслив. Думаю, что это Байбеков.
— Мерзавцы! — не сдержался капитан Мороз. — Теперь нет сомнения, что обвал — дело их рук! Быков исчез в день обвала.
— Вот по поводу Быкова я и хотел поговорить с вами, капитан. Два дня тому назад я получил сведения, что Быкова видели в Араване. Наш сотрудник, который немедленно выехал туда, уже не застал его там. Поиски продолжаем. По видимому, Быков собирается уйти за границу.
— А-а, — иронически протянул капитан Мороз, — в таком случае нам придется еще встретиться…
— Его узнал один из рабочих сарыташского участка, который приехал туда в отпуск к родным. Рабочий поступил очень неосторожно. Он так удивился, увидев пропавшего мастера в маленькой чайхане, что бросился к нему с расспросами. Быков ответил ему что-то невнятное и тотчас же скрылся. Тогда рабочий, что-то сообразив, пошел и сказал об этом участковому милиционеру.
— Досадная история! Вы правы. Теперь он будет стараться как можно скорее убраться.
— Вот я и хотел просить вас — усилить надзор. Я сообщил уже об этом другим заставам на Алае.
Капитан Мороз быстро шагал по направлению к штабу погранвойск, думая о Быкове.
Конечно, по широкому и открытому месту долины он не пойдет. Разную ширину имеет Алан: в ином месте и двадцать пять километров, а кое-где и не больше пяти. Такие узкие переходы есть в районе дороги на Иркештам. Там ближе к границе. Там ближе и к истокам реки Кизыл-су; много зарослей. Преступник попытается выйти где-то вблизи перевалов: или Кизыл-бель, или Тау-мурун. Самое удобное место. Вот там его и надо искать. Перейдет долину — в горах уже не найти… Нужно действовать, не откладывая.
Придя в штаб, Мороз сейчас же сообщил на заставу, чтобы, не дожидаясь его, старшина Соколов с нарядом пограничников немедленно выехал в район перевалов Кизыл-бель — Тау-мурун.
С делами в штабе Мороз покончил довольно быстро и вышел на улицу выпить кружку пива.
Жара не спадала. Тротуар, выложенный красным кирпичом, казалось, плавился от зноя. Улица была шумная. Спешили многочисленные прохожие, то и дело проносились машины. Витрины магазинов, вывески учреждений тянулись по обеим сторонам. Удивительно, как быстро вырос этот город! Давно ли здесь стояли кибитки, обнесенные глухими глиняными стенами?
В густой листве деревьев трещали цикады. Вдоль тротуаров журчали арыки, ярко зеленели пышные акации и тополи.
Акации цвели. В их белоснежных кронах стоял сплошной пчелиный гул. Знойный воздух был до того насыщен сладковато-пряным ароматом, что слегка кружилась голова.
Всё живое пряталось в тень. Ослепительное солнце освещало каждый уголок, каждую щелочку.
На углу улицы Мороза рассмешило одно маленькое происшествие. Небольшой ослик тащил чудовищный груз: мало того, что по бокам его болтались узлы с овощами, в мягком седле его важно восседала толстая старуха; впереди, почти на шее ослика, примостилась девочка, а сзади мальчик, уцепившийся за старуху. Видны были только длинные уши да мелькающие тоненькие ноги терпеливого животного. Вдруг ослик остановился и уперся мордой в спину идущей впереди женщины. Женщина испуганно. отпрянула в сторону, смешно взмахнув руками.
Мороз засмеялся. И сейчас же от радости учащенно забилось сердце. В женщине, испугавшейся ослика, он узнал Елену Николаевну. Толкая прохожих он с сияющим лицом догнал ее.
— Елена Николаевна! Вы? Каким образом вы очутились здесь?
— Ох! А вы? — Она протянула руку, от волнения чуть не задохнувшись. — Я — я привезла троих детей в школу, в интернат…
— Но это же чудесно!
Елена Николаевна смеялась счастливым, тихим смехом. Они остановились на дороге, прохожие толкали их.
— Пойдемте. Нас здесь затолкают, — засмеялась она. — На меня только что наехал осел.
— Я видел! Вы так смешно испугались…
— Я не испугалась. Я немного замечталась.
— О чем?
— Здесь так хорошо! Эти акации, эта буйная зелень кругом, река, арыки… Прямо не верится, что где-то идет война… И потом — шум города. Всё-таки я соскучилась в горах…
Боюсь, что после Оша я захандрю в Сарыташе, как Лидия Львовна…
— А она всё еще капризничает?
— Нет, знаете, что-то такое с ней сталось. Я ее видела несколько раз в библиотеке. Набирает помногу книг, что-то записывает…
— Вы так хорошо выглядите в своем чудесном платье! — восторженно глядя на Елену Николаевну в скромном, слегка вылинявшем платье, проговорил Мороз.
— Что вы! Эго совсем старое платье! Я так устала за последнее время…
У края тротуара, под густолистым каштаном. сидела группа детей, одетых в разноцветные, пестрые халаты. Дети продавали фрукты и наперебой кричали, зазывая покупателей. Черноголовый мальчуган с корзиной персиков преградил дорогу Морозу.
— Персик! Купи персик! Такой сладкий — сахар не захочешь.
— Давай твои персики! — сказал Мороз, потрепав по плечу мальчугана.
Они ели персики прямо на ходу, смеясь, когда сок брызгал в лицо, почти не обращая внимания ни на что вокруг.
Побродив часа два по городу, капитан и Елена Николаевна расстались, условившись встретиться вечером.
Нагретый за день знойный воздух был еще горяч, но со стороны реки уже тянуло прохладой. Справа, над городом высилась одинокая голая скала, черная тень, бросаемая ею, медленно надвигалась на город.
Они встретились в небольшом городском саду и пошли к реке. Косые лучи заходящего солнца, прорвавшись сквозь гущу ветвей, золотили дорожку аллеи, усыпанную песком. Цветы на клумбах распространяли тонкий запах. Река, вся в пене, билась и шумела неугомонно среди поросших мхом камней. На противоположном берегу зажигались в окнах домов огни.
Елена Николаевна и Мороз уселись на большой пень.
Они сидели близко касаясь друг друга, испытывая волнующее наслаждение от этих прикосновений.
— Если бы я верил в судьбу, я бы сказал, что она принесла мне в Оше самое большое счастье, — тихо сказал Дмитрий Михайлович. Он сейчас чувствовал себя робким юношей.
— Я думала, что никогда уже не смогу быть счастливой, после того… после того, как…
Мороз взял руку Елены Николаевны, мягко сжал в своей.
— Теперь вы не так думаете? Не правда ли?
Она склонила голову, перевела дыхание.
— Я люблю вас, Дмитрий Михайлович, — просто сказала она, — Я не знаю, как это случилось…
— Главное — что это случилось! — воскликнул он. — Я так боялся сказать вам…
— Видите, я сама объяснилась вам в любви… — смущенно засмеялась она.
Капитан молча привлек ее к себе.
Они сидели долго, обмениваясь изредка фразами — о реке, о ночи, о крике совы. Но о чем бы они ни говорили — они говорили о своей любви.
ЛИДИЯ
Лидия страдала. До сих пор ей никогда еще не приходило в голову, что Владимир может ее не любить. Правда, в их отношениях не было теплоты и нежности первых лет совместной жизни, но она объясняла это постоянной занятостью мужа. Ей нравилось ухаживания мужчин, нравилось слушать восторженные слова, признания. Она хохотала, слегка кокетничала. Так приятно, когда в тебя кто-нибудь влюблен, когда говорят о твоих глазах, когда вздыхают от немилостивого взгляда… Ее забавляла эта игра. Случалось, что Лидия даже забывала в такие минуты о муже. Но только потому, что знала — он всегда будет с ней, они всегда будут вместе. Впрочем, очень скоро поклонники, ничего не добившись, начинали скучать и отставали. Но шло время и Лидия чувствовала, что всё это начинает ей на доедать. А когда Казаков недвусмысленно намекнул ей, что о переводе Чернова в Ош он хлопотал ради встреч с ней, Лидией, — ей стало противно. Как он смеет так пренебрежительно говорить о ее муже? И она вовсе не хочет встречаться с Казаковым!
Но, поразмыслив, она поняла, что сама виновата. Ей нравились комплименты Казакова, его влюбленные взгляды, предупредительность. И вот всё, что тогда так нравилось ей, теперь сделалось противным. Она уехала из Оша, наговорив дерзостей Казакову и ругая себя. Нежность к мужу переполняла ее. А Владимир встретил ее, как чужой…
Неужели он в самом деле увлекся этой приезжей?
Лидия наблюдала за Ириной с острым, неприязненным любопытством. Она верила мужу: между ним и этой женщиной ничего не было. Он бы сказал прямо — таков его характер. Но он думает о ней и уже одно это — ужасно!
Теперь безделье угнетало Лидию. Она заметила, что люди на участке относятся к ней с вежливой холодностью. Женщины останавливались на минуту поболтать с нею о новом фасоне платья, о ценах на продукты, а между собой (Лидия слышала это не раз) они подолгу беседовали о событиях на фронте, о делах на участке, о книгах.
Стыд жег Лидию. «Вот как! Им не о чем со мной говорить! Фатима, эта девочка, окончившая семь классов, думает, что со мной можно говорить только об сборках на юбке! А ведь я закончила университет — могла бы учить таких девчонок!».
И понемногу Лидию охватила обида на мужа. Ему хорошо. У него здесь дело. А что делать ей? Чем заняться? Пойти в самом деле, официанткой в столовую или няньчить детей… с этой… его Ириной!
Лидия лежала на диване, заложив руки под голову. Раскрытая книга валялась рядом.
В дверь постучали.
Лидия лениво откликнулась и нехотя поднялась навстречу вошедшей Варе. При виде этой женщины у нее всегда вспыхивала зависть. Действительно хорошая семья, настоящая. Пожилые люди, а посмотришь со стороны — как молодожены. Вот только детей у них нет. Лидия не раз замечала, как Варя с тоской поглядывает на чужих малышей… Но к ее приходу отнеслась настороженно.
— Як вам за помощью, Лидия Львовна…
— Странно… — пожала плечами Лидия. — Кому и чем я могу помочь?
— Видите ли… — Варя опустила глаза. — Мне поручили провести беседу о Памире. Я тут набросала конспект и не знаю… Что-то не получается. — Она вполне натурально изобразила смущение.
Лидия всё еще недоумевающе смотрела на нее.
— Я хотела попросить вас, Лидия Львовна, помочь мне составить конспект. Литературы много, а на чем остановиться — не знаю. Вот тут интересное описание экспедиций на лед-пик Федченко…
— На леднике Федченко мечтала побывать и я… — оживилась Лидия. — Мой дядя, добираясь туда, погиб в реке. Научный работник Рогов.
— Рогов — ваш дядя?
— Да. Он участвовал в экспедиции в 1930 году.
— Ну как же! О Рогове упоминается в брошюре.
Лидия полистала брошюру, взглянула на стопку книг, принесенных Варей.
— Но… многого не читала о Памире. Что же я вам посоветую? — нерешительно сказала она, просматривая Варину тетрадку. — Мне кажется, что вступление длинновато.
— Я тоже это заметила, — охотно согласилась Варя. — И сократила, но всё равно — длинно.
— На сколько минут рассчитана беседа?
— Минут на тридцать…
— У вас здесь материала часа на полтора, — усмехнулась Лидия.
— Ах, ничего у меня не получится с этой беседой! — огорченно воскликнула Варя. — Я не умею ни писать, ни говорить коротко! Как начну, да как развезу… Лидия Львовна! Возьмитесь вы! Ну, право же…
— Я? — Лидия даже испугалась. Ну, что вы, Варя… Я же никогда еще…
— Вот и прекрасно! Новый человек. Все будут страшно заинтересованы. Вот увидите- весь поселок придет! А Владимир Константинович… Вы ему ничего не говорите, — как сюрприз! Вот удивится!
— Ох, и хитрая вы, Варя!
Лидия засмеялась, щеки ее порозовели. Она слегка взволновалась. В самом деле, Владимир очень удивился бы… да и остальные… А что, разве она не могла бы провести эту беседу? На практических занятиях в школе у нее неплохо получалось. Да нет, не стоит. Как-то неловко и неожиданно.
— Я, право, не знаю… — колеблясь, проговорила она.
Но Варя уже сунула ей в руки книги, потом сообщила, что беседу намечено провести в субботу, и поспешно убежала.
СОБЫТИЯ НА БОЛОТЕ
Пограничные посты на дороге Ош — Гульча — Суфи-курган — Сарыташ получили задание тщательно проверять документы у всех проезжающих лиц, безразлично, кто бы они ни были. Всех подозрительных задерживать.
Вернувшись из Оша на заставу, капитан Мороз взял с собой восемь человек бойцов и, ни минуты не задерживаясь, выехал в район перевалов Кизыл-бель и Тау-мурун.
Путь был немалый. От быстрой езды по горам кони были все в мыле. Добравшись до Бордобы, сделали небольшой привал и тронулись дальше.
Теперь дорога шла по ровной, как стол, Алайской долине. Справа, почти над головами, возвышались неприступные горы Заалайского хребта. Слева — раскинулась зеленая долина, окруженная на противоположной стороне кольцом пологих склонов Алая. Сюда доносился еле слышный шум протекающей вдоль долины реки Кизыл-су. К ее истокам, к диким болотистым зарослям пробирался отряд.
То и дело, чуть не из-под копыт лошадей выскакивали и быстро разбегались по норам сурки. Красивые зверьки с пушистым, ярко-желтым, как яичный желток, мехом были очень любопытны. Едва отряд удалялся от них на несколько шагов, как они вылезали на поверхность земли, становились на задние лапки и, словно подразнивая, свистели: фьиу, фьиу, фьиу…
Вдали, там, где терялся серой лентой тракт, виднелись красноватые черепичные крыши Сарыташа. Это было далеко, километрах в двадцати, но в чистом, как кристалл, воздухе, крыши были хорошо видны. Мороз подумал о Елене Николаевне и счастливо улыбнулся: она — там. Вспомнился Ош, вечер у реки, шум воды в прибрежных камнях…
Бойцы вполголоса разговаривали и вдруг умолкли. Необычайная тишина прервала мысли Мороза. Он оглянулся. Пограничники, все, как один, подняв кверху головы, смотрели в небо.
— Что там такое? — спросил капитан и тоже взглянул вверх.
Высоко, выделяясь черным пятном на фоне голубого неба, летел орел. Он что-то держал в лапах.
— Овцу тащит! Ну и бандит! — воскликнул Лукаш.
Медленно помахивая огромными крыльями, летела могучая птица, унося свою жертву к высокой и острой скале. Кто-то из бойцов вскинул на руку винтовку.
— Отставить, — сказал капитан. — Пусть попирует, если уж сумел раздобыть себе пищу.
Отряд галопом помчался вперед.

В кишлак Кокташ, крохотное селение, прижатое топью и дикими зарослями к подножью голых скал, добрались уже в густые сумерки. Над болотом стелился туман, его душные пары подползали к самому кишлаку. У крайней кибитки мелькали огоньки.
Капитана с отрядом встретил старшина Соколов.
— Ну, как дела? Докладывайте, Соколов, — с казал Мороз, когда они вошли в кибитку.
У очага на треноге висел котелок с кок-чаем. Капитан уселся по восточному обычаю на кошму, скрестив ноги.
— Всё спокойно, товарищ капитан. Диких кабанов попугали немного вчера…
— Неужели стрельбу подняли? — с досадой, строго спросил Мороз.
— Никак нет, товарищ капитан, всё тихо обошлось. Есть тут один бедовый парнишка, местность знает, что надо; так он их из лука пуганул. Здорово стреляет! На полета шагов, кабана ранил. В зарослях готового нашли. Ужинать будем — отведаете.
Капитан Мороз успокоился. Собственно, появиться здесь Быков еще не мог, если даже он и решил проскользнуть именно через эти места. В Араване видели его четверо суток назад.
За такой срок преодолеть такое расстояние, пробираясь малодоступными и опасными для жизни тропами, — невозможно.
Но если предположить, что ему удалось обмануть бдительность пограничников и в каком-то месте подъехать немного машиной, то в этом случае Быков мог быть и где-то неподалеку. Оставалось — смотреть в оба. Самое неприятное в этом было то, что капитан даже приблизительно не мог определить, когда Быкову вздумается переходить границу.
Время тянулось напряженно и нудно. Днем и ночью бойцы бродили по болоту, с трудом продираясь сквозь густой и высокий, почти в два человеческих роста, тростник. Ноги проваливались в вязкую топь, жесткие листья тростника больно хлестали по лицу.
Так прошло несколько дней. Мороз думал: неужели Быков решил пробраться где-то в другом месте? А вдруг он сумел каким-то тайным путем проскочить у них под самым носом?
В один из таких дней капитан Мороз и Лукаш, обутые в высокие болотные сапоги, набродились досыта по топи и вышли на каменистый островок отдохнуть.
Сбросив на землю плащи и поснимав фуражки, они принялись вытирать красные, вспотевшие лица. Огромная овчарка Джильда улеглась рядом.
Солнце жгло немилосердно. В зарослях тростника было до одури душно от затхлых испарений. Ноги ныли от усталости. Внимательно осматривая берег островка, Мороз вдруг заметил возле одного из камней неглубокую вмятину, будто кто-то в этом месте вдавил землю толстой палкой. В двух шагах дальше виднелась еще такая же вмятина.
— Джильда, сюда! — внутренне напрягаясь, негромко подозвал он собаку.
Подбежал Лукаш.
— Что за следы?
Собака вела себя спокойно. Следы были странные. Они проходили через весь островок и были расположены на расстоянии почти двух метров друг от друга.
— Что это такое? — спросил снова Лукаш.
Мороз взглянул на ординарца и ничего не сказал. Он сразу догадался, что это следы ходуль, но молодому бойцу еще не приходилось сталкиваться с такими вещами.
Они безуспешно пытались напустить на них Джильду. Собака равнодушно нюхала землю и особенного интереса к следам не проявляла.
Мороз еще раз осмотрелся. В другом конце островка лежал высокий камень. Капитан взобрался на него и осмотрелся вокруг. Отсюда была хорошо видна большая часть зарослей.
— Там дальше — тоже островок, — послышался сзади голос Лукаша.
— Да, есть. Попробуем к нему добраться, — сказал капитан.
С трудом пробираясь по топи, они вышли на берег островка, очень похожего на предыдущий. Следы пересекали и его, снова теряясь в воде.
Целый день капитан Мороз и Лукаш пробродили по болоту, утопая в мутной, вязкой топи, но ничего больше не нашли. Капитан нервничал. Он уже начал опасаться, что Быков успел проскочить через болото. А Соколов, прождав до вечера, забеспокоился, куда исчез начальник заставы с ординарцем, и выслал на розыски двух пограничников. Мороз передал им Джильду и приказ Соколову идти в обход, чтобы окружить все выходы из болота.
К ночи стало холодно. Сырость пробирала до костей. Сквозь испарения едва пробивался бледный свет луны.
Капитан Мороз и Лукаш притаились в засаде. Надо идти по следу. Но напрасно было бы искать его в такую темень, да еще в болоте. Теперь главная надежда была на слух.
Прошло часа три, как они вдвоем сидели без движения. Становилось совсем невмоготу. Одежда промокла. Хотелось курить и хоть немного расправить мышцы.
Руки сами собой крепко сжимали оружие.
— Ох, не могу больше, товарищ капитан, — прошептал Лукаш. — Хоть чуточку б поразмяться.
Мороз недовольно покосился на него, но ответить не успел, так как в эту самую минуту неподалеку в зарослях раздались выстрелы и крики.
Они оба мгновенно вскочили на ноги.
— Ну, вот теперь и разминайтесь, товарищ сержант, — резко сказал капитан.
Уже не скрываясь и не разбирая дороги, они побежали в ту сторону, откуда послышались выстрелы.
Их встретил старшина Соколов.
— Врага обнаружили, товарищ капитан! Двое их… Отстреливаться стали. В зарослях скрылись…
Старшина на ходу рассказал, что чуть повыше островка, где они впервые увидели следы, над самой речкой бойцы обнаружили в скале небольшой грот. Войти в него можно было только перейдя глубокую воду. Застигнутые врасплох, враги стали отстреливаться и ушли в заросли. Сейчас весь этот участок, куда они скрылись, окружен. В гроте нашли ходули, пустые консервные банки.
Капитан слушал и думал о том, что теперь осталось одно — терпеливо ждать.
Поднялся легкий ветер. Закачался, зашуршал тростник. Болото наполнилось таинственными ночными звуками. Чудились вздохи, какие-то надрывные, еле слышные стоны: это из почвы выходили на поверхность газы. Терся стеблем о стебель тростник.
До рассвета было еще далеко, но пограничники с удивлением заметили, что вокруг начинает быстро светлеть.
Запахло гарью. Заросли, окруженные бойцами, вдруг осветились бледно-розовым светом. Потом где-то. озарив водное пространство, в темное ночное небо вырвалось длинным высоким языком пламя.
— Пожар! Ах, мерзавцы! Тростник подожгли… — вскрикнул капитан — Следовать за мной!
Подгоняемый ветром огонь быстро распространялся. Густой дым стал застилать весь каменистый берег до самого подножья гор. Скорее туда! Пограничники задыхались. Сильно слезились глаза. Стало жарко. Позади слышался зловещий треск. Эго, настигая их, огонь пожирал заросли.
Приложив к лицу мокрые платки, по пояс в воде, брели они изо всех сил напрямик к берегу. Лукаш вдруг провалился в яму и ему с трудом помогли из нее выкарабкаться.
Джильда внезапно насторожилась и, резко рванувшись в сторону, бросилась в сплошную завесу дыма. Пограничники побежали за ней и увидели человека, отчаянно обороняющегося от собаки.
Но это был не Быков.
Оставив его под охраной старшины Соколова, Мороз, Лукаш и Джумаев быстро скрылись в дыму за Джильдой, рвавшейся по следу вперед. Они едва успевали за собакой.
Позади осталось озаренное пожаром болото.
Медленно наступал рассвет.
Идти становилось все труднее. Они были уже в горах, поднимались выше и выше по узкой извилистой тропе. За одним из поворотов они сразу попали в полосу света — над вершинами всплывала луна. Она висела в небе, круглая и красная, как фонарь. Тени под выступами скал стали еще чернее.
Неожиданно тропа оборвалась в пропасть. Идти дальше было некуда. Джильда заскулила и с остервенением принялась царапать лапами скалу, задирая морду.
Капитан взглянул наверх. Неожиданно оттуда с грохотом скатился камень, ударил собаку, и она, взвизгнув, исчезла в черноте пропасти. Мороз едва успел прижаться к скале, как еще несколько огромных камней, увлекая за собой целое облако щебня и пыли, пролетели мимо него.
Немного переждав, капитан обошел скалу с другой стороны. Ему было жаль Джильду, но сейчас надо было думать о другом.
— Ну, что ж, Джумаев, — сказал он. — Придется, брат, повторить нам «Орлиное гнездо». Держи конец… — И капитан принялся разматывать веревку.
Лукаш с замиранием сердца следил за двумя смельчаками. Они очень медленно продвигались к гранитной глыбе, за которой черным пятачком виднелась выемка в скале. Тень скрывала ее от глаз. Лукаш держал винтовку в руках, готовый послать меткую пулю, чуть только враг посягнет па жизнь его товарищей. Но скоро и капитан, и Джумаев скрылись за скалой и Лукаш потерял их из виду.
Было очень тихо, так тихо, что звенело в ушах. Только откуда-то снизу, из глубины пропасти, время от времени доносился глухой шум срывавшихся туда камней.
Крик, выстрел, другой… Лукаш сжал винтовку руками и чуть не заплакал от отчаяния. Он ничем не мог сейчас помочь. Он даже не знал, кто стрелял — там, наверху…
ИНОГДА ПРИЯТНО ОШИБИТЬСЯ
В субботу Владимир Константинович, не заходя домой, заглянул в клуб. Варя настойчиво приглашала его послушать лекцию. На вопрос Чернова — кто читает, она загадочно сказала: «Там увидите».
В клубе собралось много народу. Варя
поманила Чернова и усадила его рядом с мужем.
— Садитесь, Владимир Константинович, мне надо на сцену. Я думаю, можно начинать?
К своему изумлению Чернов увидел и первом ряду Лидию. Вот как, она стала посещать клуб! Владимир Константинович посматривал па жену и ничего не понимал. Она сейчас была совсем другой, нисколько не похожей на ту, какой он привык видеть ее дома. Рыжеватые волосы Лидии были аккуратно подобраны и сколоты на затылке, отчего лицо приняло строгое выражение. Губы не подкрашены, даже пудры, кажется, не было,
Лидия взглянула на него, улыбнувшись одними уголками рта. В ее глазах он прочел: «Что, не ожидал увидеть меня здесь?». Он улыбнулся и кивнул ей. И сейчас же возле себя увидел Ирину. Словно почувствовав его взгляд, она повернула голову в его сторону.
Варя вышла к маленькой трибуне и сказала.
— Товарищи! Сегодня у нас небольшая лекция — беседа о Памире. Слово имеет товарищ Чернова.
Лидия поднялась. Лицо ее залила краска. Склонив голову, она быстро прошла на сцену.
Владимир Константинович откинулся на спинку скамьи, не отрываясь смотрел вслед жене. Что такое? Лидия будет читать лекцию? Как это случилось? Поймал лукавый, смеющийся взгляд Вари. Ага, — это Варя!
Владимир Константинович вдруг испугался за жену, заволновался. Как бы она не сплоховала!
Все взоры с удивлением устремились на сцену. Лидию Львовну привыкли считать барынькой, «женой начальника», капризной и своевольной. Никогда ее не видели в клубе, на собрании или даже во дворе участка. Поэтому сейчас все смотрели на Лидию Львовну настороженно, воспринимая ее появление в качестве лектора как каприз или какую-нибудь причуду. Кое-где зашептались.
Лидия справилась с волнением и стала говорить. Но голос ее все же дрожал. Неприязненную настороженность зала, которую почувствовали и Варя, и Владимир Константинович, увидела и сама Лидия. Она понимала, что в нее не верят. Но это как раз и придало ей сил. Лидия решила во что бы то ни стало провести беседу интересно.
Чернов сидел сам не свой. Он уже предчувствовал провал лекции. Ему заранее было стыдно и больно за Лидию, за всю эту затею. Что это дело Вариных рук, он нисколько не сомневался. «И как это их угораздило не сказать мне ни слова!».
Но вдруг Владимир Константинович с удивлением услышал, что голос Лидии стал крепнуть. Она просто, приветливо обратилась в зал:
— Хотите, я прочитаю вам одно стихотворение о Памире?
Из зала одобрительно откликнулось несколько голосов.
Лидия раскрыла томик и прочитала короткое стихотворение о горных вершинах, о бурных реках, суровой красоте Памира. Потом заговорила о прошлом «Крыши мира». Ее слушали. Сначала больше от удивления, потом с пробудившимся интересом.
Варя изредка поглядывала на мужа с довольным, торжествующим видом. Савченко усмехался и с недоумением рассматривал Лидию. «Плохо же я знаю людей, — думал он. — Эх, парторг, парторг, а ведь ты был уверен, что из этой барыньки толку не будет. Впрочем, иногда приятно ошибиться».
Когда Лидия закончила, ей дружно хлопали, задавали вопросы. Она отыскала глазами мужа и увидела, что он смотрит на нее с ласковой улыбкой. И впервые с тех пор, как она вернулась из Оша, Лидия почувствовала себя хорошо и легко.
Выступали старожилы, рассказывали о прежнем караванном пути, который проходил тут, о сыпучих барханах Маркан-су, где погребены сотни людей и верблюдов. Бакир с места окликал выступавших.
— А ты помнишь, Мирзаев, как погиб большой караван? — и, покачивая головой, приговаривал: — Ай-ай, кто бы мог подумать, что будут такие дороги! Столько машин!..
В конце вечера, когда молодежь затеяла танцы, Варя с мужем ушли домой.
— Ну, как, Вася?
— Ничего. Ты, жонка, молодец. Вот только боюсь я, что выступила она ради красивого жеста.
— Даже если и так! Важно, что сделано начало, — горячо возразила Варя.
Ирина шла домой с Еленой Николаевной, молча слушала, о чем та говорила. На вопросы отвечала невпопад. Не надо было ходить в клуб. Не надо было сидеть там и смотреть… как он ей улыбается, как жадно слушает, боясь пропустить слово. У нее красивые волосы и нежное, свежее лицо.
«Ах, к чему мне все это? — горько усмехнулась Ирина. — Вот придет письмо из Пятигорска и мы уедем… Скорее бы уехать!». Она почувствовала вдруг такую усталость, что еле подняла руку, чтобы постучать в дверь.
ПОЙМАННЫЙ ВОЛК
Когда в кабинет ввели Быкова, капитан Мороз некоторое время молча, с интересом разглядывал бывшего мастера. Тогда, на Тау-Муруне, он не успел это сделать, — его срочно вызвали на заставу.
Быков сильно изменился. Отращенная им рыжая борода делала его неузнаваемым: «Но ведь он же был черным! — вспомнил Мороз. — Выкрасил бороду. В самом деле, не узнать: мохнатая шапка, киргизский халат!».
Плотный, коренастый, с живыми черными, как уголь проницательными глазами, Быков производил впечатление умного и сильного врага.
— Скажите, Быков, почему вы скрылись и пытались перейти границу? — наконец спросил Мороз.
— Испугался ответственности, — выдерживая взгляд начальника заставы, ответил тот. — Я считал, что меня обвинят в гибели людей…
А почему вы это принимаете на себя? На участке ведь есть начальник?
— Содержание дороги в ущелье входило в мои обязанности. Я видел, что нависший над шоссе сугроб угрожал обвалом…
— Ну и что же?
— Я собирался предупредить об этом начальника участка.
— Почему же не предупредили?
— За работой все забывалось… А тут случился обвал…
— И вы, испугавшись, решили скрыться?
— Да.
— А как вам удалось уйти? Ведь обвал закрыл дорогу?
Быков замялся. Очевидно, ему не хотелось отвечать на этот вопрос.
— Я знал тропы… — нехотя ответил он.
— Вы хорошо знаете горы?
— Да. Знаю.
— Откуда же.
— Я тридцать лет работаю на Памире.
— Вы местный житель?
— Нет.
— А как вы сюда попали? Откуда?
— По семейным обстоятельствам… Из Крыма.
— Жили там, работали?
— Да, работал в порту?
— Откуда вы знаете Байбекова?
Быков взглянул на Мороза, чуть-чуть задержался на его лице. Спокойно ответил:
— Я работал в Мургабе. Байбеков был председателем райпотребсоюза.
— А что у вас за дела были с ним на ферме?
— Никаких дел. Встречались просто, как знакомые. Он мне иногда помогал продуктами…
— Имя Байбекова — Рахим?
Веки Быкова слегка дрогнули, но ответил он все так же спокойно.
— Его зовут Мирзой. Разве это вам неизвестно.
— А откуда вы знаете вашего второго компаньона, Али-бека, чайханщика из Аравана? Он что, тоже хотел уйти за границу?
— Нет. Он меня должен был провести.
— Али-бек добровольно согласился быть проводником?
— Да. Я ему хорошо заплатил.
— У вас много денег?
— Сбережения. Я ведь один…
Капитан не сказал Быкову, что об Али-беке ему известно многое. Это был опытный шпион и контрабандист, уже много лет находившийся на службе у господина Бланка. Пограничники долгое время безуспешно разыскивали «рабочего с узелком», которого однажды встретил в горах Цой. Все следы его были потеряны. И вот шофер, с машины которого так неожиданно тогда исчез путник с узелком, теперь опознал своего пассажира в Али беке.
— Скажите, Быков, зачем вы всё зто сочиняете? Джабар Салиев рассказал нам совсем другое. Он во всем признался. Очень переживает, что помогал таким преступникам, как Байбеков и вы, — пошел на уловку Мороз.
— Не знаю, в чем признался Салиев, я с ним не имел никаких дел, — зло отрубил Быков.
— А вам не знакомы вот эти предметы? — Капитан вынул из ящика кусачки и найденную Бакиром рукавицу и положил их на стол. Они вам ничего не напоминают?
Быков пожал плечами.
— Тогда, может быть, вы знакомы с содержанием одной шифрованной радиограммы: «Операция № 3 поручена Быкову. Колонна отправляется двадцать седьмого. На квартире чужие. Жду ваших распоряжений. Рахим», — зачитал Мороз.
Быков молчал.
— Вы только усугубляете свою вину, — сухо сказал капитан Мороз.
Быков молчал еще минут пять. Потом начал говорить. Хорошо, он расскажет всё как было. Он действительно встречался с Байбековым на ферме и тот уговаривал его произвести обвал. Но он, Быков, отказался. Обвал- дело рук Байбекова или Джабара Салиева. Капитан не знает Джабара. Это старый контрабандист, укрывшийся на ферме. Он активный помощник Байбекова. Их было два брата Салиевых и оба Джабары. Старший работал чабаном в колхозе «Красная заря», потом заболел, уехал в больницу и больше в колхоз не возвращался. Наверное умер. А младший
Джабар выдает себя за брата. Тот был честный человек.
— Почему же вы не сообщили о преступной деятельности Байбекова и Джабара?
— Байбеков угрожал мне. Он узнал откуда-то о моем прошлом.
— О каком прошлом?
Быков хмуро сообщил. Он служил в белой армии офицером.
Дальнейший допрос не дал ничего нового. Быков продолжал утверждать, будто сказал всё. Капитан Мороз позвонил в Ош и отправил его к подполковнику Шестакову.
ПУТИ-ДОРОГИ
Ирина и Елена Николаевна сидели на скамейке возле детского сада.
День угасал.
Солнце всё ниже опускалось над вершинами Алайского хребта. Узкая, как стрелка, тучка зарделась пламенем, ее прозрачные края вспыхнули и загорелись. Травы по склонам и в долине стали фиолетовыми. На темнеющем небе всплывал холодный серп молодого месяца.
Женщины тихо беседовали, очарованные картиной наступающего вечера. Ирина подняла голову, прислушалась.
— Что это?
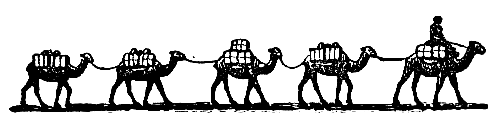
Воздух еле слышно стал наполняться мелодичными звуками. Словно волшебная музыка доносилась с гор. Казалось, будто кто-то неторопливо перебирал струны арфы. Скоро явственно стало слышно, что эти нежные серебристые звуки издают колокольчики, сотни колокольчиков и бубенцов.
— Караван! Мама! Караван! — крикнул Сережа, бросаясь с ватагой ребят к шоссе.
Женщины направились вслед за детьми.
Далеко наверху, из-за поворота показался маленький ослик, а за ним верблюды — один, другой, третий…
Они шли не торопясь, мерно покачивая горбатыми спинами, нагруженные мешками, тюками, ящиками. Вызванивали привязанные к шее колокольчики и бубенцы.
— Прямо сказочное зрелище! — воскликнула Елена Николаевна.
Действительно, застывшие в бледнеющих красках горы, серебряный рог месяца, первые звезды на глубоком, темно-синем, как бархат, небе, чистый, прозрачный воздух, тишина, и в этой тишине — непередаваемая музыка колокольчиков и бубенцов!
Караван казался бесконечным.

Верблюды шли по десятку, соединенные вместе длинными поводьями. Впереди на маленьком осле восседал погонщик.
Первая группа верблюдов остановилась на зеленой лужайке сразу за Сарыташем. Животные осторожно опускались на землю, погонщики стали разбивать палатки, а караван всё тянулся по горной дороге и всё звенели колокольчики, нежно и грустно.
Ирина задумчиво смотрела туда, где, подернутые дымкой сумерек, шли верблюды. Ей было тяжело. Она думала о том, что пройдет немного времени и всё это станет воспоминанием. И этот чарующий вечер, и горы, и тишина, обволакивающая всё вокруг… Жизнь потечет по новому руслу В который уж раз?
Вероятно только что закончив работу, одетая в темно-синий комбинезон, из мастерских шла Фатима. В руках она держала письмо и на ходу читала его. Лицо девушки сияло такой нескрываемой радостью, что Елена Николаевна не удержалась от вопроса:
— Добрые вести, Фатима?
Девушка оторвалась от чтения, смущенно заулыбалась.
— Исмаил пишет, на фронте он. Жди, пишет, обязательно вернусь…
Ирина заметила, что Фатима говорит, а сама всем сердцем где-то далеко, возле милого.
— Счастливая, — прошептала она.
У поворота шоссе женщин нагнал Чернов. Елена Николаевна, как видно, не без умысла, заторопилась в детский сад и оставила Ирину вдвоем с Черновым.
— Мы не виделись целую вечность, — тихо проговорил он. — Мне сказали, что вы уезжаете? Это правда?
— Да… Я жду письма.
— Но ведь в Полтаве еще бои.
— Мы поедем пока в Пятигорск, к родственникам… Харьков уже освободили.
— Вы так торопитесь… Зачем? — голос Чернова прозвучал умоляюще.
— Я должна уехать, — наклонив голову, невнятно ответила Ирина.
— А если бы я попросил вас…
Ирина молча отвернулась. Но Чернов успел увидеть на ее лице выражение отчаяния и боли.
— Ирина Васильевна!.. Ведь вы не хотите уезжать. Скажите?! И потом… я так одинок…
— Вы не поняли себя… Не поняли ее… вашу жену… — слегка задыхаясь, сказала Ирина.
Чернов грустно покачал головой.
— У вас есть дочь, семья… и я должна уехать, потому что… вы видите почему?
Ирина порывисто прошептала последние слова и быстро пошла вперед, почти побежала.
— Ирина Васильевна! Ирина… — крикнул Чернов, бросаясь за ней.
Но она не оглянулась.
Аксинья Ивановна давно уже заметила, что с ее невесткой происходит что-то неладное. Она догадывалась об отношениях Ирины с Черновым еще с того времени как заболел Сережа. Аксинья Ивановна не подавала виду, что тайна невестки ей известна. Чернов нравился Аксинье Ивановне. Но о чем-то серьезном между ним и невесткой она не допускала мысли. Женатый человек, ребенок…
Заметив на глазах вошедшей Ирины слезы, Аксинья Ивановна вздохнула и тихо сказала:
— Дочка! Иди-ка сюда. Присядь.
— Что такое, мама?
— Скажи, милая, как перед попом, начальника любишь?
Краска залила всё лицо Ирины. Покраснели даже шея и кончики ушей. Она низко нагнула голову.
— Ну, что уж тут. Не чужая ведь! Не враг я тебе. А только, Ира, я так думаю, ничего из этого не выйдет. Он человек хороший, да ведь — женатый! Чего скрывать, жизни у него нету настоящей. А всё же муж да жена… Встретила это я его на днях, а он и спрашивает: «Были вы, мол, Аксинья Ивановна, в клубе? Жена выступала». Гордится ею. Вот то-то и оно. А пока узелочки не завязались крепко, давай уезжать…
Ирина Васильевна сидела и тихо плакала. Под конец, не в силах сдержаться, — разрыдалась.
— Ну, перестань, дочка. Не надо, милая! Сама молодая была, понимаю всё. Да только лучше сразу отрубить, чем мучиться…
Аксинья Ивановна гладила невестку по вздрагивающим плечам, голове и ласково приговаривала:
— Успокойся, милая! Поедем в родные края, еще счастье найдешь себе. Охо-хо!..
Как только пришло письмо от родственницы из Пятигорска, семья Дорошенко стала собираться в дорогу.
Радио приносило всё новые и новые радостные сообщения. Сережа влетал в столовую с ликующим криком:
— Бабушка! Таганрог освободили! Трофеев — ужас!! Скоро Полтаву освободим! — и убегал весь сияющий.
Наконец наступил день отъезда.
Аксинья Ивановна искоса поглядывала на невестку. Руки ее плохо слушались, она без надобности перекладывала вещи с места на место.
— Иди-ка лучше, милая, пройдись по воздуху или в детский сад ступай! Сама справлюсь. Посмотри-ка на себя! Сердце только надрываешь мне!..
Машина, нагруженная вещами, стояла во дворе. Аксинья Ивановна, расцеловавшись со всеми работниками столовой, подошла к Чернову.
— Ну, прощай, Константиныч! Спасибо за всё! — сказала она, целуясь и обнимаясь с ним по русскому обычаю троекратно и вытирая мокрые от слез глаза. — Жалко мне расставаться с тобой. Хороший ты человек, отзывчивый!
Аксинья Ивановна уселась в машине рядом с Сережей. Ирина, бледная, осунувшаяся, подошла к Чернову. У нее замерло сердце, перехватило дыхание.
— Прощайте… Владимир Константинович… — голос ее дрогнул. — Вспоминайте иногда…
Чернов с силой сжал ее руку, с тоской по-смотрел на нее… Чуть охрипшим голосом проговорил:
— Желаю вам счастья…
Ирина отошла. Но, садясь в машину, опять обернулась и уже не могла оторвать глаз от удрученного, постаревшего лица Чернова, от его слегка сгорбившейся высокой фигуры… Чернов поймал ее взгляд и грустно улыбнулся.
Машина тронулась и Сарыташ стал удаляться, опускаясь всё ниже и ниже.
Владимир Константинович круто повернулся и пошел в контору. Ему не хотелось сейчас никого видеть. По следом за ним вошел Савченко и возбужденно стал рассказывать.
Звонил подполковник Шестаков! Быкова таки приперли к стенке! Обвал устроил он. Хотел свалить всё на Байбекова, воспользоваться тем, что его уже нет в живых. Но Джабар всё выболтал. Отравление на ферме — дело рук Байбекова. Связь с «хозяевами» держал он. Он же давал задания своим подчиненным.
— Следствие закончено? — спросил Чернов.
— Нет, еще продолжается. Надо нам, Владимир Константинович, очень тщательно проверять наши кадры. Война, на дорогу идут всякие люди.
Савченко уселся, собираясь продолжать разговор, но, заметив, что Чернов расстроен, неловко замолчал.
— Привезли лес? — прервал молчание Владимир Константинович.
— Привезли. Хороший лес. Сухостой.
Савченко поднялся, нерешительно посмотрел на начальника. Что-то он не в себе, курит не переставая, молчит. Видно, в самом деле не ладится в семье. Только что встретил Лидию, та тоже заплаканная, встревоженная, спросила: уехали ли Дорошенки и где муж? Савченко подумал — не расспросить ли Чернова, но тут же отказался от своей мысли. Не умеет он распутывать эти семейные дела! Тут нужен тонкий подход. Пусть уж Варя действует.
Василий Иванович не рассказал, что, как выяснилось на следствии, Быков намеревался «убрать» и его, Савченко, потому что, сам того не зная, парторг больше всех мешал ему выполнять задания Байбекова. Но не успел.
— Ну, я пойду Пальцева проведаю, — поднялся он. — Уезжает он в санаторий.
— Я рад за него, — вышел из оцепенения Чернов. — Хороший человек. Пожелайте ему от моего имени здоровья… Окрепнет — пускай возвращается, рады будем…
Когда часа через три Савченко проходил мимо конторы, он увидел в окне Чернова. Тот стоял неподвижно и смотрел в окно на дорогу, убегающую в горы.
Осень стояла тихая и теплая, как и в прошлом году. Бакир говорит, что и нынче зима будет лютая, снежная. Старики-старожилы умеют точно определять погоду по приметам, только им одним известным.
В один из таких солнечных осенних дней Чернов добрался до перевала, остановился и посмотрел вниз. Вдоль наклонного плато вилась дорога. Сарыташ скрывался за поворотом в долине. Торжественно тихо было в горах. Чутким Слухом Владимир Константинович улавливал шорохи потревоженного ветерком щебня где-то далеко наверху.
Горы, горы. Суровые, недоступные, величественно прекрасные, манящие ввысь своими белоснежными вершинами. Вот он — Памир. Крыша мира! Можно часами стоять, смотреть, слушать нерушимое, завораживающее безмолвие.
В последнее время Чернов полюбил одинокие прогулки. Как только выдавалось свободное время, он уходил в горы.
Лидия опять уехала в Ош. Сказала — на три дня и посмотрела на него с загадочной улыбкой. Что ж, он уже привык быть один. Владимир Константинович пытался уверить себя, что отъезд Лидии ему безразличен, но это не удавалось. Он думал о жене. Считал дни. Сегодня был четвертый день. Конечно, она не приедет.
И, словно для того, чтобы опровергнуть это, из-за поворота совсем близко вынырнула машина. Чернов пошел навстречу, и вдруг сердце его радостно забилось. Сквозь запыленное стекло кабины он увидел улыбающееся лицо Лидии и на руках у нее Талочку.
Дрожащими от волнения руками он помог жене открыть дверцу кабины. Девочка обхватила его за шею и сразу выпалила новость:
— Папа! Я буду тут жить. Совсем! Мама сказала.
Чернов целовал раскрасневшееся, возбужденное личико дочери, подбрасывал ее в воздух. Они хохотали и перебивали друг друга.
— Вот я тебя сейчас заброшу вон на ту снежную гору! Ага, попалась! Держись!
Лидия со смущенной, чуть грустной улыбкой стояла в стороне.
— Осторожнее, Володя!
Чернов поставил дочь на землю и обернулся к жене.
— Я ждал тебя, Лида… — тихо сказал он.
г. Днепродзержинск.

Владимир Сергеевич Сысоев
Первое задание
Приключенческая повесть
Художник Н. Горбунов
Полицаи
Всё было то же, что и год назад, когда Виктор попал в запасной полк: подъём, физзарядка, утренний осмотр, работы, наряды, занятия. Те же команды, те же приёмы с оружием, та же родная русская речь… Только вместо красноармейской гимнастёрки носил он теперь немецкий мундир полицая. Жизнь казалась кошмарным сном. Как это могло случиться?
Ведь позади было светлое детство, комсомольская юность, жаркие споры с друзьями о будущем, о призвании, о героизме… Мечты, розовые, прекрасные! А что получилось? Как смотреть теперь людям в глаза? Отец — красный партизан, герой гражданской войны. А мать… Милая, ласковая, маленькая мама… Виктору почудилось, как нежные дрожащие руки гладят его лицо, шею… Сердце тоскливо сжалось, больна сдавило грудь.
— Витька, опять?
— Что — «опять»?
— Стонешь опять.
— Не буду…
Тихо. В другом конце казармы у тумбочки стоит дневальный.
— Серёжа, не могу больше, — еле слышно шепчет Виктор, — не могу, понимаешь?
— Я всё понимаю.
Виктор умолк. Серёжа — друг, настоящий, проверенный. Вместе были в страшном последнем бою, вместе оказались в лагере для военнопленных. Готовили побег, но сорвалось. И теперь они уже несколько дней — полицейские отдельной особой карательной роты.
Навсегда запомнил Виктор ночь в лагере военнопленных, когда они стояли возле умирающего командира. Командир говорил прерывающимся голосом, торопливо, — боялся, что не успеет сказать всего:
— Я умираю… Жаль… Не успел рассчитаться с этими гадами. А вы… Вы наши честные ребята. Только горячие очень. Не спешите, не ищите смерти… Это всегда успеется. Глупость, она врагу на пользу… Нужно мстить. Бейте их, бейте любой ценой… Идите хотя бы в полицейскую роту… Послужите им. Это мой последний приказ. Получите оружие из рук врага… И ещё. Ни на миг не сомневайтесь в нашей победе. Не сломить им нашего народа! Ищите связи с патриотами. Они есть везде…
И они пошли. И надели ненавистную форму. Получили оружие…
Виктор прислушивается. Серёжа тихо посапывает, но не спит. А казарма наполнена звуками. Полторы сотни людей храпят, разговаривают во сне, вскрикивают, стонут… Кто они, эти люди? Какие обстоятельства привели их сюда, в полицейскую роту? Какие сердца бьются под фашистской личиной? С Ивановым, например, сыном раскулаченного богатея, всё ясно. Злой, ненасытный, жадный, он сам лезет туда, где можно запачкать руки в крови, поживиться на дармовщинку. Мишка-Козырь не лучше. Этому бандиту-налётчику нравится такая жизнь, когда можно безнаказанно убивать, грабить, насиловать. Но не все же здесь такие! Виктор был твёрдо уверен в этом, однако попытки сблизиться с товарищами неизменно натыкались на недоверие. Глухой, неодолимой стеной разделяло оно людей. Как пройти через эту стену, как разрушить? Вот только Серёжа… А где-то совсем рядом — свои, советские люди, ни на минуту не склонившие головы перед врагом, борются с оружием в руках, но их ещё надо найти, надо, чтобы они поверили человеку в форме врага. Виктор и Сергей, на свой страх и риск, предприняли кое-какие шаги, но об этом никто не знает. Говорят, правду не утопишь, она всё равно всплывёт. Может быть, и так, но всплывать-то, по существу, нечему. Что ими сделано? Почти ничего. Группы не создали, с партизанами и подпольщиками не связались. Убрали одного полицая, который добровольно вызвался участвовать в арестах советских патриотов. Но разве этого достаточно, чтобы считать себя честным человеком? Разве это борьба? Нет, конечно. Да и то, спасибо командиру взвода, Коновалову. Странный он какой-то, Коновалов. То зол и даже свиреп, а то вдруг становится мягким, податливым. Тоже, видно, тоскует и мучается, но держит Сергея и Виктора на расстоянии. Хоть, чувствуется по всему, симпатизирует им, бережёт. Что у Коновалова на душе — кто знает? Сергей говорит Виктору: «Не спеши». Он выдержанный, ему хорошо! А Виктор так больше не может!
Вчера стояли на посту возле городской управы. Бургомистр, старый, жалкий интеллигентик, вечно улыбающийся и дрожащий, сразу видно — типичный изменник, проходя мимо, поздоровался за руку. Так хотелось залепить оплеуху этому сладенькому хлюсту! Потом приехал военный комендант города майор Шварц с переводчицей. Шустрая такая, прыгает, как школьница, по ступенькам, смехом заливается, глаз не сводит со своего Гансика. И эта девчонка посмотрела так пристально и колюче, столько презрения было в её взгляде, что Виктор поёжился. Подумаешь, дрянь! Таскается с таким чучелом, виснет на нём, а туда же — презирает! Сергей смеётся: «Это тебе показалось. Надоел ей Гансик, тебя рассматривает, парень ты видный». Сколько же можно терпеть? Залезть бы на крышу с «максимом» и, как Чапаев, поливать пулями по всем этим тварям.
Выдался недавно случай, когда можно было связаться с настоящими людьми, но пока надежда эта не оправдалась.
Под вечер в городке шла очередная облава. Виктор с Сергеем охраняли вход в глухой, заросший акацией переулок. Пронизывал холод, над городом стоял редкий промозглый туман. То с одной, то с другой стороны раздавались глухие выстрелы, вспыхивали выкрики резких команд. Друзья стояли молча, каждый думал о своём. Высоко в небе, в белой дымке тумана, показался большой косяк диких гусей. Он шёл по прямой, раздвигая острой грудью прохладу осеннего неба, величественный и непоколебимый. Зачастили выстрелы, но косяк как ни в чём не бывало продолжал свой путь. И вот одна птица нарушила строй, быстро замахала крыльями, стала спускаться всё ниже и ниже, пронеслась над крышами домов и упала за речкой, в лесу. Виктор до конца проводил её взглядом, помрачнел.
— Попал всё-таки, — равнодушно промолвил Сергей.
— Как ты можешь об этом так спокойно? — с укором спросил Виктор.
— Давай поплачем, — невесело усмехнулся Сергей.
— Шутишь, а мне жаль птицу, она напомнила мне…
— Брось, Витька, — перебил Сергей, — я знаю, ты скажешь, что мы тоже хотим лететь.
— Да!
— Напрасно! Не так уж это важно. Смотри! — Сергей показал вверх. Косяк, строгий и неудержимый, не меняя направления, не снижая скорости, шёл к своей цели…
Подбежал Коновалов с тремя полицейскими. Оглянувшись по сторонам, быстро спросил:
— Как у вас?
— Тихо, — ответил Сергей, и тут же рядом хлопнули подряд несколько винтовочных выстрелов, затрещал забор, и через него перемахнул крепкий парень, запыхавшийся, со следами крови на лице. На него набросились сразу трое, потом подоспели ещё. Но парень попался ловкий и упорный. Его чёрные с раскосинкой глаза горели ненавистью и азартом. Пока ему крутили руки, он успел поставить громадный синяк вокруг глаза Иванову, в кровь разбил нос Мишке-Козырю и уже со стянутыми за спиной руками так боднул головой в живот зазевавшегося полицая, что тот, корчась, покатился по земле. Но силы были неравны. Парня повалили на землю, начали избивать.

— Отставить! — громко скомандовал Коновалов и загородил собой арестованного. — Орлы! Семеро одного не боитесь! Обыскать!
Под телогрейкой у задержанного обнаружили пачку свежих советских листовок.
Коновалов не сильно толкнул парня в плечо и, обращаясь к Сергею и Виктору, которые всю эту сцену простояли без движения, строго сказал:
— Этого чемпиона по прыжкам и бегу — в гестапо! Пусть он там почитает свои листовки!
По дороге Виктор многозначительно поглядывал на Сергея, но тот делал вид, что не замечает этого. Тогда Виктор сильно толкнул его в бок, кивнув в сторону арестованного. Сергей не успел оглянуться, как неожиданно заговорил незнакомец:
— Что, иуды, много вам платят за измену?
— Ещё что спросишь? — зло, не своим голосом сказал Сергей. — Поумнее можешь?
— Смотри-ка, ещё обижаются, — удивлённо протянул парень. — Ястребы из курятника! Сколько вас таких на фунт сушёных?
— Дурень ты! Подпольщик липовый! Листовки мог выбросить в саду… Лезет на рожон! Балда!
Послышались торопливые шаги, и впереди показалась тёмная фигура. Но тут же она метнулась в сторону и скрылась за углом.
— Упустили, — насмешливо сказал арестованный.
— Нам одного хватит, — ответил Сергей.
Ещё немного прошли молча. Сгустилась темнота. Тишиной дышала улица.
Сергей подтолкнул парня в спину:
— Иди!
— Куда это — «иди»? — не оборачиваясь и неуверенно спросил он.
— На кудыкино поле, чемпион! И не думай, что один ты на свете человек!
Парень обернулся и с недоверием посмотрел на полицейских.
— Иди, иди, — подтвердил Виктор, оглядываясь по сторонам. В его руках тускло блеснул нож, и обрывки верёвки неслышно упали на дорогу.
Ошеломлённый парень медленно растирал вспухшие кисти рук.
— Ну, иди. — Виктор радостно и широко улыбнулся.
Даже в полумраке парень разглядел эту открытую, добрую улыбку и окончательно поверил в своё освобождение. Он внимательно посмотрел на конвоиров.
— Что, запоминаешь?
— А как же, без этого нельзя! Начальство и хороших людей нужно знать в лицо! — И быстро пошёл вдоль улицы. Но через несколько шагов остановился, оглянулся и тихо, восторженно выпалил: — А что я дурак — это точно! До встречи!
И таинственным призраком растаял в темноте.
Ждали они день за днём — подойдут, дадут знать о себе подпольщики. Ругали себя последними словами на чём свет стоит — растерялись, не договорились тогда же о связи…
Две недели прошло с того вечера. Виктор нервничал, а Сергей рассудительно успокаивал:
— Не бесись, не всё сразу. Не разрешают ему, не доверяют нам. Подумаешь — отпустили! Ну и что? Может, мы задание имеем от гестапо втереться к ним в доверие? Там не дураки сидят. Чудо какое — отпустили! Скажи спасибо, если они нас хоть на заметку возьмут, проверят как следует, а уж потом…
Виктор понимал, что его друг прав. Подвига они не совершили. Даже риска почти не было. В таких облавах всегда понатаскают сотни людей и сразу же больше половины отпустят. Командир взвода на другой же день как-то нехотя спросил Виктора:
— Отвели?
— Так точно!
— Вот и молодцы.
Виктору показалось, что они поняли друг друга. Может быть, только показалось.
Долго Виктор не мог заснуть — тревожили воспоминания. То виделась падающая, судорожно взмахивающая большими крыльями, обречённая птица, то появилось разбитое лицо парня с листовками, то слышался тихий, торопливый голос умирающего командира полка: «Не будьте простачками, не ждите у моря погоды — под лежачий камень вода не течёт. Сейчас в мире заварилась такая каша, что человек в нём, как крупинка в полковом котле: убери одну — каши меньше не станет. Но и без копейки рубля не будет. Короче говоря, каждый должен сделать для победы всё, что в его силах».
Ещё вспоминались дом, школа и черноглазая озорная девчонка… Где-то ты теперь, что думаешь обо мне? Люба — Любушка, Любушка-голубушка…
И почему-то вслед за Любой возникла юная переводчица из комендатуры, но не прыгающая и смеющаяся, а серьёзная, со строгим взглядом тёмных, пронизывающих глаз… Легко перехватило дыхание, слеза покатилась по щеке. «Кисель вишнёвый», — глубоко вздохнув, тихо прошептал Виктор и, зябко вздрогнув, решил при первой же возможности убежать в лес, к партизанам. Это решение немного успокоило, и он наконец уснул.
Покушение
— Осмысли, Володя, — сказал командир. — У Тихона отобрали наши листовки, он оказывал сопротивление, а его отпустили. Это могло произойти только в том случае…
— Если Тихона конвоировали честные люди, — продолжил комиссар.
— Не только честные, но смелые и решительные.
— Ваня, кончай меня агитировать. Переходи к делу, — улыбаясь проговорил комиссар. — Этот интересный разговор у нас уже был. Сорвалось у Ерёмина?
— Да, подполью связь с полицейской ротой пока установить не удалось. А дело нужное.
— Надо попробовать самим.
— Володя, как с тобой легко! Всё ты понимаешь, на лету схватываешь.
— Не ухмыляйся и не хитри, — без обиды сказал комиссар.
— Что поделаешь?
— Тихон один знает в лицо ребят, которые его отпустили.
— Ну, и что же предпринять?
— Послать Тихона.
— Этого шалопая?
— Не такой уж он шалопай. Горячий — верно, но других грехов за ним нет.
— Ну, хорошо. А как он их найдёт?
— Подключим тётю Дашу. С Иваном Фёдоровичем я уже договорился.
…И вновь Тихона встретили пустынные, почти безлюдные улицы, мрачные лица горожан с потухшими глазами. Вечером он пришёл на явочную квартиру, в дом тёти Даши — пожилой, но ещё достаточно бойкой женщины, которая работала уборщицей в городской управе. Тихон отдохнул с дороги, подкрепился скудным ужином, и, когда стемнело, вышел в сад подышать воздухом. Полная луна еле-еле просматривалась сквозь высокую облачную завесу. Чистый, прохладный воздух, напоённый запахом заснувших садов и убранных огородов, врывался в грудь, наполнял лёгкие и, казалось, проникал в каждую клетку. В стоявшем неподалёку доме бургомистра вспыхнул яркий электрический свет. Раздался еле слышный металлический скрип — кто-то открыл форточку.
«Тоже кому-то жарко», — подумал Тихон и, сам не зная зачем, пошёл на огонёк по устланному листвой саду.
На фоне мрачного неба два светящихся окна казались сказочными. И вдруг зазвучал рояль. Тихон замер, зачарованный. А звуки крепли, росли, потом затихали и, побеждая слабость, возникали вновь — резкие и тревожные.
Подчиняясь какой-то неодолимой силе, Тихон оказался возле окон. Быстро забравшись на толстый сук яблони, он увидел всю комнату. Играла девушка. Взор её был устремлён вперёд, плечи вздрагивали в такт музыке, и казалось, что она плачет. Бледная и хрупкая, девушка почудилась Тихону воздушной и по-неземному прекрасной. «Ангел небесный», — восхищённо прошептал он и, не отрывая глаз от окна, крепко прижался щекой к гладкому стволу яблони. Девушка перестала играть и, лёгким движением руки убрав упавшие на глаза волосы, подошла к окну.
У Тихона перехватило дыхание, он отрешённо смотрел на это чудо.
Большие, печальные глаза задумчиво устремились через стекло в темноту, прямо на Тихона.
Что-то дрогнуло в нём, сердце сладко сжалось, потом стало жарко и приятно закружилась голова.
Девушка ушла в глубь комнаты, погас свет. А Тихон долго всматривался в окно, надеясь ещё, хоть на миг, увидеть незнакомку…
В дом он вернулся с радостным чувством, будто приобрёл для себя что-то очень редкое и дорогое.
А на другой день тётя Даша уселась с корзиной жареных семечек на скамейку у своих ворот. Торговля шла бойко. За забором, переминаясь с ноги на ногу, стоял Тихон и посматривал в щель. Ему хорошо было видно всех проходящих по дороге. Казармы карательной роты располагались в конце этой улицы, и мимо дома тёти Даши всё время сновали полицейские. Расчёт был прост: Тихон увидит знакомых ребят, подаст сигнал тёте Даше, она подзовёт их к себе и проводит во двор. План этот не был надёжным, но ничего лучшего они придумать не могли.
Медленно и тоскливо тянулось время, с великим трудом день перешагнул через свою середину.
«Так здесь целую неделю проторчишь без толку. Может, они в наряд заступили или уехали куда», — подумал Тихон, нетерпеливо прохаживаясь вдоль забора, и вдруг замер: по улице рядом со своей переводчицей шёл военный комендант города майор Шварц. Он вышагивал медленно, как гусак, задрав кверху нос, олицетворяя силу нового порядка. Его самодовольное лицо выражало снисходительность и презрение ко всему окружающему.
Тихона перекосило от злобы. Кровь ударила в голову. Он схватился за пистолет, а мысли, противореча друг другу, били в голову: «Нельзя рисковать! Но можно ли упустить такой случай? Ярый фашист, жестокий палач, гроза города — собственной персоной! Вот он, почти рядом…»
Понимая, что совершает глупость, Тихон перескочил через несколько заборов и оказался во дворе незнакомого дома…
Ганс Шварц не мог пожаловаться на свою судьбу. В то время, когда его товарищи на переднем крае гибли за процветание третьего рейха и величие фюрера, он, хотя и считал себя истинным патриотом Германии, употребил родственные связи для того, чтобы быть подальше от фронта. В делах житейских он был начисто лишён предрассудков, совесть его не мучила — он имел довольно-таки призрачное понятие об этой коварной разновидности человеческих чувств. Был приказ — значит, всё правильно. Душевные смятения не посещали его. Нужно работать аккуратно, чётко там, где тебя поставили, а не умничать и не мудрить. Да ещё неизвестно, где Ганс принесёт больше пользы — на фронте или здесь, на должности коменданта, превращая этот дикий народ в людей, нужных фюреру. Правда, поприще военного коменданта оказалось не таким уж спокойным.
В городе Шварца тревожила подпольная организация, в лесу — партизанский отряд. Попытки ликвидировать подполье и партизан успеха пока не принесли, славы хозяевам нового порядка не создали.
Казалось, русские, эти фанатики, не боятся смерти, презирают её. На смену расстрелянным и повешенным приходят новые люди, и их становится всё больше и больше.
Совсем недавно партизанский отряд был окружён и уничтожен карателями. Более двухсот человек, своих родных и знакомых, похоронили тогда жители окрестных деревень. Из кольца смерти удалось вырваться лишь небольшой группе партизан. И что же? Буквально через несколько дней после этого разгрома, будто по взмаху волшебной палочки, этот отряд вновь во весь голос заявил о себе. По-прежнему активны подпольщики. На улицах города появляются советские листовки, совершаются нападения на полицейских, солдат и офицеров. Партизаны ведут себя ещё бесцеремоннее: по деревням и сёлам вешают преданных фюреру людей, перехватили несколько обозов с продовольствием. А вчера нахально, среди бела дня, убили гестаповского лейтенанта, двух солдат и сожгли машину. Но он, майор Шварц — военный комендант города Лесное, — не вешал носа. Он был уверен в скором конце подпольщиков и партизан. Солдаты великой армии уже пьют воду из знаменитой русской реки Волги. Сталинград пал. Через Кавказские горы завершается исторический бросок к берегам Чёрного моря. Уже древний величественный Эльбрус склоняет перед победителями свою вечно заснеженную двуглавую вершину. Успешно осуществляется гениальный план фюрера о захвате основных, жизненно важных районов огромной страны. Ещё немного, совсем немного усилий — и с Россией будет покончено. Интересно, что тогда запоют партизаны и подпольщики? Сколько они продержатся? Вернее всего, разбегутся кто куда! Скоро это будет. А пока они, нужно признать, представляют определённую силу. Хитрые, упорные, дотошные…
Не случайно капитан Келлер, так удачно проникший к партизанам с хорошими русскими документами, просит разрешения покинуть отряд — считает, что его подозревают, возможен провал…
Где-то далеко на востоке идёт кровопролитная война. Ночи сменяются днями, проносятся над планетой страшные бури и ураганы, волнуются океаны и моря, рождаются и умирают звёзды.
А здесь, в городе Лесное, сегодня тихо. Поздняя золотая осень. Медленно кружатся поблёкшие листья. Приятно пахнет горелой хвоей и берёзовой корой.
Время за полдень, на улицах пусто.
Вдоль домов в сопровождении своей хорошенькой переводчицы Наташи мерно вышагивает майор Шварц. На некотором удалении от коменданта, явно не вписываясь в общий пейзаж тишины и покоя, тихо разговаривая, идут четыре солдата с автоматами. Это охрана. Так, на всякий случай.
Переводчицу Ганс вежливо держит под руку. Девушка идёт, испытывая наслаждение от свежего воздуха, сознания своей молодости и обаяния.
— Господин майор, — кокетливо улыбнулась Наташа, — не пора ли нам повернуть обратно?
Ответить комендант не успел, любезная улыбка застыла на его лице. Сухо прозвучали подряд два выстрела. Первое мгновение Шварц ничего не понял и поэтому не испугался. Наташа вздрогнула и схватилась за плечо, и только тогда до коменданта дошёл смысл происходящего. Стреляли в него, в майора Шварца. Его хотят убить! В ожидании следующего выстрела он замер, весь похолодел, лоб мгновенно покрылся испариной.
Солдаты, грохоча сапогами по булыжной мостовой, быстро пробежали мимо сомлевшего коменданта и скрылись за маленькой калиткой. Раздались длинные автоматные очереди и громкие выкрики. В комендатуре заревела сирена, и по команде капитана Фогеля дежурный взвод был поднят по тревоге.
Тишина отступила.
Погоня продолжалась недолго. Тихон не отстреливался, и его взяли живым. Пистолет подобрали в саду без единого патрона.
У переводчицы пуля слегка обожгла руку выше локтя.
Вскоре ошеломлённый Шварц сидел за столом в своём кабинете. Перед ним, без шапки, с растрёпанными волосами и исцарапанным лицом, стоял партизан.
Взволнованная Наташа устало опустилась в кресло.
Капитан Фогель и солдат-автоматчик замерли у дверей.
Комендант негодовал:
— Как ты посмел, мерзавец, стрелять в немецкого офицера?
— Что? — не понял Тихон.
— Как у тебя рука поднялась, я спрашиваю!
— Во, видали, гусь лапчатый. Что же мне на тебя богу молиться? — Тихон старался говорить спокойно, но подводил голос: то срывался, то дрожал.
— Как фамилия? — неожиданно для себя и для присутствующих громко крикнул комендант.
— Грива кобылья, — в тон ему ответил Тихон.
Переводчица промолчала.
— Что он сказал? — спросил Шварц.
— Что-то про лошадь, — угодливо вставил капитан Фогель, он немного понимал русский язык.
— Какая лошадь? — брезгливо поморщился Шварц и опять закричал: — Фамилия? Я жду ответа!
— А какая тебе разница? — опять дерзко ответил задержанный и смешно, по-мальчишески подмигнул переводчице, так, чтобы не заметили немцы. Ей показалось, что улыбка была смущённой, но Наташа ошибалась. Погладив пальцем разбитую губу, парень с какой-то радостной лукавинкой и вызовом сказал:
— Ты растолкуй, кралечка, этому чучелу огородному: он от меня ничего не добьётся. И ещё скажи, что другие умеют стрелять лучше меня, не промажут. Есть у нас ребятки! — И с сожалением, без зла продолжал: — А как это ты, такая ладная девушка, продалась этим недоноскам?
Всё, что касалось коменданта, Наташа перевела дословно, выбросив только «огородное чучело». Капитан Фогель утвердительно закивал головой.
Шварц взорвался. Грозно приподнятая бровь, которая должна была выражать непреодолимую силу, исказила его лицо.
— Угрожаешь, свинья! А знаешь ли ты, что тебя ожидает?
— Знаю. Хорошего не жду.
— Сам виноват!
— Интересно! — протянул партизан и опять подмигнул переводчице. — Шутник твой начальник! Можно подумать, что это я к нему в гости пришёл! Скажи ему: незваный гость что на глазу ячмень, плюнуть на него нужно — иначе не избавишься!
— Грубишь, — угрожающе произнёс Шварц.
— А что мне, целоваться с вами?
— Храбрый! Ничего, мы тебе спесь собьём!
— Это вы умеете…
— Что посеешь, то и пожнёшь.
— Но не всегда жнёт тот, кто сеял, господин хороший, — произнёс партизан улыбаясь.
— Я тебя заставлю говорить! — в ярости закричал Шварц.
— А вот уж — дудки! Не заставишь! Слаб ты в коленках, господин комендант.
Стало очень тихо. Шварц взглянул на часы, но циферблата не увидел — так был взвинчен. Чтобы избавиться от неловкой паузы, переводчица по своей инициативе обратилась к арестованному:
— Комендант не желает вам ничего плохого. Вы должны отвечать на вопросы, а не грубить. Дерзость ни к чему хорошему не приведёт.
Парень усмехнулся как-то криво, неловко и доверительно сказал:
— Взял винтовку — стреляй! А попался — не кисни!
Наташе сделалось нехорошо. Она молчала, лишь кровь медленно оставляла её лицо, появилось головокружение, ослабели руки, ноги перестали повиноваться.
Майор Шварц заметил состояние переводчицы, сам подал ей стакан с водой, а арестованного приказал немедленно отправить в подвал.
У самых дверей парень обернулся. Его взгляд встретился со взглядом Наташи. Она не выдержала — опустила глаза.
— Ничего, милая Наташа, — сказал Шварц, — этот бандит получит по заслугам. Он ответит за свой ужасный поступок по закону военного времени.
Это заявление, по мнению коменданта, должно было восстановить утраченное Наташей хорошее настроение и успокоить её.
— Спасибо. Вы очень добры ко мне, — тихо ответила Наташа и благодарно посмотрела на коменданта.
Привычная обстановка, часовые в коридоре и у подъезда постепенно приводили самочувствие коменданта в норму. Присутствие Наташи тоже способствовало этому. Но Ганс, со свойственным ему великодушием, вызвал машину и отправил раненую переводчицу в госпиталь.
Наташа
Тихо звякнув щеколдой, Наташа закрыла за собой калитку и медленно пошла по дорожке к небольшому светлому дому. Вечерело, солнце уже скрылось за горизонтом. Полумрак постепенно перекрашивал всё вокруг в унылые тона.
Наташа коснулась руками ствола яблони и долго стояла, глядя на уходящий день. Вдруг прямо перед собой она увидела светло-сизую птицу, название которой, как ни силилась, припомнить не могла. Казалось, птичка эта пришла сюда из детства, из большого подмосковного села… Вот зелёная широкая поляна — это выгон. С одной его стороны стоит одноэтажная, будто вросшая в землю, большая школа. Вокруг школы заросший сад. Невдалеке приютилась старенькая кирпичная церквушка. Двор вокруг неё покрылся одичавшей вишней. До сей поры помнит Наташа терпкий, неповторимо сладкий вкус маленьких переспелых чёрных вишен-поклёвок и прозрачного липкого клея, застывшего на хрупких вишнёвых веточках. Церковь давно заброшена и постепенно разрушается, паперть проросла подорожником и буйной крапивой. За садами, внизу, блестит большой пруд, покрытый осокой, кугой и жёлтыми пахучими кувшинками. А дальше опять сады, поля и лес. Подмосковный лес — самый красивый лес на свете!..
Иван Фёдорович встретил Наташу доброй отцовской улыбкой и неизменным вопросом:
— Ну как?
— Всё в порядке, — устало ответила она.
— Не могу больше, противно всё, боюсь сорвусь!
— Ну, ну, Наташенька, что с тобой?
— Нет больше сил…
— Вот так здорово. Да ты сама не знаешь, какая ты сильная!
— Нет, я слабая и так их всех ненавижу! Особенно этого самодовольного Ганса.
— Вот и попалась: ненавидеть может только сильный человек.
Иван Фёдорович старческими, негнущимися руками обнял Наташу и поцеловал её в затылок. Хорошо Наташе рядом с Иваном Фёдоровичем. Проходят страхи, появляется вера в свои силы, надежда на будущее. И сразу же рождается мысль, что там, в комендатуре, среди своих смертельных врагов она испытывает чувства человека, который стоит на голом каменном утёсе у всех на виду. Со всех сторон пронизывает ветер, но укрыться от него и от злых людских глаз нельзя.
— О чём задумалась?
— Правду?
— Ага.
— Что бы я делала без вас?
— То же самое, — задумчиво ответил Иван Фёдорович. — Боролась.
— Но как?
— Обыкновенно. Ты — русская женщина, а она, когда нужно, умеет быть твёрже камня, крепче стали… — И вдруг Иван Фёдорович с тревогой спросил:
— А почему от тебя пахнет лекарствами?
— Пустяки… Перевязали в госпитале.
— Как это?
— Стреляли в коменданта, но, к сожалению, промахнулись.
— Что же ты молчишь? Куда ты ранена? Кто стрелял?
— Да не ранена я, — бодро ответила Наташа, — обожгло немного, пуля рядом прошла. Вот — у руки. Пустяки сущие.
Иван Фёдорович осторожно ощупал повязку на предплечье и, глядя в улыбающееся лицо Наташи, успокоился.
После ужина, как всегда, начался серьёзный разговор.
Подперев ладонью щёку, втянув голову в плечи, Наташа сидит в старом мягком кресле, спокойная, умиротворённая. Не упуская ни малейшей подробности, она шаг за шагом рассказывает о событиях прошедшего дня — о майоре Шварце, о странном, стрелявшем в него пареньке, о его безрассудной, дерзкой храбрости. Повествование печальное, но Иван Фёдорович видит жизнь и радость, которые наполняют Наташу.
— Наташенька, ты, пожалуйста, будь осторожней, пусть не обезоруживают тебя комплименты и разные там нежные слова. Твой Ганс далеко не глуп и хитёр. Он способен на всё.
— Это я хорошо знаю.
— Ты уж не сердись на меня, старого. Старый человек, как ребёнок, — ему всё нужно сказать. Иногда получается не к месту.
Наташа весело смеётся. Иван Фёдорович улыбается тоже, потом заставляет себя отвести взгляд от лица Наташи и продолжает:
— Главное, не будь назойливой, смотри не перепутай, где он верит тебе, а где провоцирует.
— Пока всё идёт нормально. Я играю влюблённую, дарю улыбки, от которых у него должна сладко кружиться голова. По-моему, он верит.
— Смотри, не переиграй. Бывает иногда с плохими актёрами. Но если проваливается актёр, его в самом худшем случае освистывают — и всё. Твоя ставка намного выше. Не спеши, внимательно проверяй каждый ход. И поспокойнее — частые тревоги тоже вредны, они притупляют бдительность.
— Это я понимаю, — задумчиво говорит Наташа. — Я стараюсь быть внимательной, войти в роль. Внушаю себе, что люблю, и мне иногда кажется, будто я его действительно люблю.
Сверкающие глаза Наташи удивлённо расширены. Иван Фёдорович смотрит на неё, не скрывая восхищения.
— Наташа, — взволнованно говорит он, — я верю в тебя и в твоё счастье! Впереди у тебя большая, интересная жизнь. Много, много хорошего!..
А Наташе кажется, что всё хорошее уже было. Светлое детство, школа, красный пионерский галстук и песни у костра. Были тихие летние вечера, лыжные прогулки по заснеженному лесу, тихое журчание ручья, запах и красота весенней яблони…
С Николаем Наташа познакомилась на курсах по изучению немецкого языка. Вскоре пришла любовь. Николай стал её мужем. Она была счастлива. А потом в жизнь ворвалось жестокое, неумолимое слово «война», и всё, что делалось после, было намертво связано с этим страшным словом. Хорошее знание немецкого языка — особенно хорошо его знала Наташа — определило их дальнейшую судьбу. Николая, командира Красной Армии, направили в специальную диверсионно-разведывательную школу, а Наташа, вопреки желанию мужа, ни с кем не советуясь, добилась, чтобы её приняли туда же.
Воспоминания Наташи прервал Иван Фёдорович:
— Я получил указание обеспечить проникновение нашего товарища в полицейскую карательную роту. Человек этот из Москвы. Его задача — создать в роте боевую группу патриотов.
— Задача трудная, — тихо проговорила Наташа, — условия для подпольной работы там, видимо, невыносимые.
— Не совсем так, в роте много хороших ребят, — возразил Иван Фёдорович. — Мы не сидим сложа руки. Там уже есть наши люди. Кроме того, фашисты при формировании роты проявляют явную поспешность. Не от хорошей жизни, конечно. «Добровольцы», которых они под страхом смерти загоняют в казармы, очень просто, при первом же удобном случае, могут повернуть оружие против своих хозяев. Я имею точные сведения.
— Наверное, так, — согласилась Наташа, — они ведь русские.
— Да. Но нужно создать такие условия. — Помочь им принять смелое решение… Представляешь, Наташенька, — увлечённо продолжал Иван Фёдорович, — боевые подразделения подпольщиков в нашем городе, — а их немало, — вооружённая группа рабочих на лесопильном заводе, партизанский отряд — это огромная сила! Огромная по количеству. А если эту силу ещё помножить на настроение наших людей! Представляешь?
— Очень хорошо, — серьёзно ответила Наташа.
— Ну, а если ещё взбунтовать полицейскую роту!
— Тогда можно захватить город.
— Конечно! Вот как раз этот план и предложен Москвой, утверждён подпольным обкомом, — продолжал Иван Фёдорович. — Всё это, конечно, непросто. А труднее всех будет тебе. Твоя роль самая большая и почётная. Ты сама знаешь, как тяжело войти в доверие к гитлеровцам. Они очень опытны и осторожны. И наибольшую опасность здесь представляет майор Демель, он ещё хитрее твоего Ганса.
— Вы оскорбляете мои чувства, — кокетливо вставила Наташа, но Иван Фёдорович не обратил на это внимания.
— Тебе нужно поближе познакомиться с руководителями гестапо, особенно с Демелем. Шварц и Демель давние друзья. Это обстоятельство необходимо использовать.
— Они не только друзья, — заметила Наташа, — но и родственники. Ганс женат на родной сестре Демеля.
— Тем лучше.
— Демель действительно не прост, — серьёзно сказала Наташа.
— И ты у нас не дурочка, — задорно проговорил Иван Фёдорович. — А в соревновании талантов побеждает тот, кто крепче духом. Поэтому — победишь ты!
— Перехвалите!
— Такого риска нет! Я уверен, что ты найдёшь себя в любой обстановке. Теперь же в твоём поведении пока ничего не меняется. Ты «любишь» Ганса, «любишь» по-серьёзному. Никакого лёгкого флирта! Но будь внимательна. И если хочешь быть всегда на высоте, то научись перевоплощаться не только в своего героя, но и в своего врага. И никогда не считай его глупым. Смотри на себя с его позиций. И ещё одно. Бытует мнение, что если хочешь скрыть свои мысли, то нужно стараться задавать вопросы, а не отвечать на них. Так вот, это не всегда верно. Всё зависит от обстоятельств. Если враг верит, тогда предпочтительнее роль отвечающего на вопросы. Ты будешь знать, что его интересует, имея полную возможность не сообщить ничего из того, что он не должен знать. Подумай над этим.
— Обязательно, Иван Фёдорович, — ответила Наташа и медленно провела рукой по лицу.
— Я знаю, тебе трудно, — сказал Иван Фёдорович, — но человек не птица, не всегда ему летать только со стаей. Иногда он остаётся один. И птицы не всегда со стаей. Чаще всего в одиночку летают соколы и орлы. Так и люди.
Он медленно распрямил плечи, сдвинул стакан с недопитым, остывшим чаем и положил руки на стол.
— Запомнила?
— Запомнила. Как не запомнить?
И вдруг Наташа подлетела к Ивану Фёдоровичу, несколько раз крепко поцеловала его в щёку и так же быстро вернулась на своё место.
Иван Фёдорович грузно встал и, тяжело ступая, пошёл к окну. Он был обрадован и растерян. Наташа видела, как вздрагивали его плечи. Неуклюже переступая с ноги на ногу, Иван Фёдорович повернулся лицом к Наташе и добродушно пробормотал:
— Егоза. Несерьёзная девчонка! Ведёшь себя, как козочка дикая.
А «дикая козочка», раскрасневшаяся, возбуждённая, опять сидела в своём кресле, подперев ладонью щёку. Наташа понимала, что Иван Фёдорович не сердится на неё, а ворчит только для того, чтобы скрыть смущение. И, чтобы сгладить неловкость, она спросила:
— А когда будет этот человек?
— Какой человек? — не понял Иван Фёдорович.
— Из Москвы.
— А… Ну да… Сегодня ночью он спустится с парашютом.
— А где?
— В районе партизанского отряда. Утром он будет уже у Ивана Ивановича.
— А как его фамилия?
— Не знаю.
— А имя?
— Кажется, Николай.
— Николай!.. Моего мужа тоже зовут Николаем.
— Знаю, — сказал Иван Фёдорович и удивлённо посмотрел на Наташу. — Но, во-первых, таких имён на свете, как звёзд на небе, во-вторых, это, может быть, не настоящее его имя.
— Нет, нет, вы не говорите, пожалуйста. Я знаю — это он! Я чувствую — он! — капризно проговорила Наташа и посмотрела на Ивана Фёдоровича умоляющим взглядом.
— Успокойся, девочка моя. Хорошо. Я скажу тебе правду. Допустим, это действительно твой муж. Ну и что? Какое это имеет значение?
Наташа посмотрела в большое зеркало, обрамлённое золотым багетом, и тут же отвернулась. Ей уже было стыдно за свой порыв, и она, недовольная собой, произнесла виноватым голосом:
— Да, конечно, глупости всё это. Не обращайте внимания, пожалуйста, я вас очень прошу. Что я практически должна делать?
— Я уже говорил — продолжать разыгрывать влюблённую, забраться Шварцу в душу, чтобы он поверил в твои чувства. Закрепиться окончательно в комендатуре, стать среди немцев своим человеком.
Наташе опять стало весело. Впечатления минувшего дня пронеслись в сознании, но, удивительное дело, они уже не казались ей такими страшными и значительными, как несколько часов назад.
— И всё? Это не трудно. — И вдруг перестала улыбаться, и произнесла тихо и серьёзно: — Это не трудно, но может кончиться очень плохо. Этот солдафон не имеет чувства меры, он слишком многого хочет…
Когда Иван Фёдорович впервые увидел Наташу, появившуюся в городе с документами его племянницы, он, попросту говоря, растерялся. Перед ним была измученная долгими скитаниями девочка, похожая на милого, капризного ребёнка. Первое время он сомневался в её способностях, но когда она в течение нескольких дней без чьей-либо помощи устроилась переводчицей в комендатуру, Иван Фёдорович стал смотреть на «милого ребёнка» иначе. А когда она начала приносить ценнейшую информацию, необходимую подполью, партизанам и командованию Красной Армии, он проникся к ней глубоким уважением и с удовлетворением отметил, что в Москве умеют разбираться в людях.
Любуясь Наташей, Иван Фёдорович ловил себя на мысли, что где-то в тайниках его души теплится чувство зависти к её молодости и огромной жизненной силе.
Иван Фёдорович Ерёмин вырос в рабочей семье и с четырнадцати лет сам пошёл на завод. Жил в открытую — с дороги не сворачивал, лёгких тропинок не искал. В шестнадцатом году в окопах первой мировой войны рядовой Ерёмин вступил в ряды большевистской партии.
Отшумели огневые революционные годы, когда конь вороной да острая блестящая шашка были неразлучными друзьями вихрастого комиссара Ивана Ерёмина, и партия послала его учиться. Нужны были молодой Республике Советов свои, закалённые огнём революции, кадры для нового, мирного фронта. Быстро прошли годы учёбы, и сам Иван Фёдорович стал учить ребят математике, физике и ещё тому, самому главному, — как быть настоящим человеком.
Вот она, вся жизнь, как на ладони — то кажется нескончаемо длинной, а то, как быстрая искра, вылетевшая из костра, растаявшая без следа в ночной темноте.
Годы, годы… безжалостные, неудержимые, зачем так быстро летите вы?
Жена умерла рано, своих детей не было, и всё тепло большого сердца он отдал школе, ребятам. Мало было в городе людей, которые не учились бы у Ивана Фёдоровича — бессменного директора школы-десятилетки.
Грянула война, она быстро приближалась к городу. День и ночь не гас свет в районном комитете партии. Создавалось подполье, формировался партизанский отряд, началась эвакуация… Члену бюро райкома Ерёмину предложили остаться в городе и возглавить подпольную организацию. Первое время было трудно — отсутствие опыта, неуверенность в себе сковывали действия подпольщиков. Но позже, разглядев как следует оккупантов, они убедились, что «не так страшен чёрт, как его малюют». Дела пошли веселее…
От далёкого взрыва тихо зазвенели оконные стёкла. Нудно, с надрывом проревел одиночный немецкий самолёт. Иван Фёдорович отвлёкся от мыслей и взглянул на притихшую Наташу. По-детски подтянув под себя ноги, склонив голову набок, она спала, сидя в кресле. Рука неестественно откинулась в сторону, тёмно-каштановые волосы рассыпались по лицу.
Приземление прошло удачно. Николай опустился на большую поляну, прислушался. Его поразила таинственная, бесконечная тишина, которая казалась живой. Что-то дышало и пульсировало рядом. Николаю померещился громадный, лохматый, знакомый по сказкам зверь, протягивающий вперёд когтистые лапы. Вот-вот засветятся раскалённым углём большие, круглые глаза, дым с огнём шумно вырвется из широких ноздрей. Но вскоре это ощущение, порождённое одиночеством и необычностью обстановки, прошло. Напряжённый слух Николая начал улавливать звуки и шорохи. Сухо треснула сломанная ветром ветка, где-то совсем рядом, звонко ударившись о твёрдый корень, упал жёлудь, сердито простонали трущиеся друг о друга две старые сосны, глухо вздохнул филин, жалобно, как грудной ребёнок, прокричал заяц… Николай не спеша поднялся, освободился от парашюта, аккуратно свернул его и укрыл в глубокой, заросшей яме.
На какое-то мгновение ветер донёс еле слышный рокот самолёта. «Счастливо, друзья», — прошептал Николай.
Пока всё шло по плану. Задача ясна. Всё продумано, тщательно взвешено. Но всё ли?
Николаю показалось, что он как будто смотрит на себя со стороны.
Неожиданно мысли, независимо от воли, изменили направление, и почудилось, что когда-то давно, быть может, в далёком детстве, он уже видел этот утренний осенний лес, широкую, с увядшей травой поляну, чёрный, опушённый серо-зелёным мохом, бугристый ствол огромного дуба. И знакомо было чувство неосознанной до конца тревоги и необъяснимой, овладевшей всем его существом, пьянящей грусти по чему-то безвозвратно утраченному, неповторимому.
Луна висела над горизонтом увядшая, ненужная. Мерцали и гасли прозрачные звёзды. На востоке серая темнота превращалась в синеву, разбавленную бледно-розовым светом. Лес стоял печальной, безвольной массой, будто заколдованный великан. Таинственные тени, рождённые лунным светом, таяли, пропадали, а на смену им надвигались новые — густые, вызванные к жизни первыми лучами солнца.
Лёгкий предутренний туман наполнял воздух, пахло сыростью, грибами, прелыми листьями, лежалыми орехами и ещё чем-то неуловимо знакомым и родным.
«Всё это не так уж страшно», — подумал Николай. Он быстро всухомятку позавтракал и, ориентируясь по компасу, пошёл на юг. Вскоре он вышел к небольшой реке, скрывавшейся в зарослях камыша, и повернул направо. Продираясь по буйным поселениям лозины и багульника, прыгая с кочки на кочку и проваливаясь в зыбком грунте, сплошь покрытом зеленовато-серым ковром росянки, обманчивой пушицы и цепкого плюща, Николай сбил дыхание, исколол руки и набрал воды в сапоги поверх голенищ. «Тьфу, чёрт!» — в сердцах выдохнул он, выбираясь на сухое место, под большой, развесистый дуб. «Так дальше дело не пойдёт, нужно спокойнее». Кровь маленькими упругими молоточками стучала в виски, на лбу выступила испарина. Николай упал в упор на руки, прислонился горячей щекой к влажной, холодной траве. Перед глазами медленно колебался на ветру высокий, тонкий стебелёк давно отцветшей красавицы льнянки с капелькой-росинкой на увядшем листке. Весёлый луч солнца бесцеремонно забрался в росинку, превратил её в крупинку алмаза, и она, прежде чем стать сизой дымкой утреннего тумана, сказочно засверкала всеми цветами радуги.
Где-то наверху короткими пулемётными очередями деловито, настойчиво застучал дятел и хором зацыкали синицы.
Николай отдохнул и двинулся дальше. Лес поредел, и сквозь опавшие кусты орешника показалась большая ровная поляна. Вдоль опушки блестела река. Хорошо накатанная просёлочная дорога резво выбегала из чащи на простор, но тут же, будто одумавшись, круто поворачивала вправо, через мост пересекала речку и неожиданно опять терялась в лесу.
Николай остановился в кустах и долго, внимательно осматривался. Всё казалось спокойным. Но через поляну он всё же не пошёл, а тихо, не спуская глаз с моста и дороги, направился вдоль опушки в обход. Вот и дорога, мост остался позади. Отсюда недалеко до места встречи с партизанами. Осторожно, готовый в любой момент укрыться в густом орешнике, Николай пошёл по обочине дороги, которая привела его к условленному месту — большому и глубокому оврагу, густо заросшему кучерявым боярышником.
Запахло гарью, по одному из склонов оврага, низко припадая к земле, наслаивался дым.
Мелькнул язык пламени. Возле костра Николай увидел высокий гладкий шест, на верхушке которого красовался старый кирзовый сапог. Это был условный знак. Свои!
Бургомистр и Таня
Иван Фёдорович Ерёмин — руководитель подполья, он же служащий продовольственного отдела городской управы, иногда на правах старого друга запросто заходил домой к бургомистру города Лесное. С Михаилом Петровичем Крыловым они долгие годы работали вместе. Ерёмин — директором школы, Крылов — преподавателем русского языка и литературы. Знали они друг друга хорошо. Крылов уважал Ерёмина за твёрдость характера, последовательность и смелость. Как раз некоторых из этих качеств самому Михаилу Петровичу всю жизнь не хватало. Он относился к разряду людей, про которых говорят, что они воды не замутят и никому никогда не сделают зла. Мягкий, вежливый, предупредительный — вот далеко не полный перечень достоинств, которыми он был наделён. Но сам Михаил Петрович и близкие люди знали, что главным его содержанием, определяющим все его поступки, было бесконечное, неодолимое чувство страха. Заползла эта отвратительная гостья в его душу ещё в раннем детстве да так и осталась там на долгие годы. Боялся Михаил Петрович всего, боялся постоянно и самозабвенно. Он презирал себя, мучился, но изменить ничего не мог.
Женился он по любви, но счастье продолжалось недолго. Жена умерла рано, после неё осталась дочь — Таня, внешне и по характеру очень похожая на мать.
Это было давно.
А сейчас, пуще прежнего замирая от страха, Михаил Петрович руководил городской управой, которая — он прекрасно понимал это — была лишь ширмой для сокрытия тёмных дел новых хозяев.
Правда, Михаил Петрович пытался отказаться от высокой чести, но на него прикрикнули, и он, проклиная себя, свой мерзкий характер и строгих начальников, согласился. Измученный вечным страхом бургомистр в свои пятьдесят лет выглядел почти стариком. Порой ему казалось, что он ощущает физически, как страх затягивает в душу своих верных спутников — смирение, эгоизм, равнодушие. Он осознавал глубину своего падения. Не было сил бороться, и, казалось, не к чему было жить.
Но был в его душе светлый уголок, в котором сосредоточилось всё, что было хорошего в этом человеке. В этом уголке царствовала Таня. Часто ночью Михаил Петрович, сдерживая рыдания, подолгу стоял над изголовьем дочери, всматриваясь в любимое, родное лицо.
Иван Фёдорович последнее время зачастил к Крылову неспроста: подпольщикам нужна была помощь бургомистра. Недавно за измену Родине был расстрелян бывший капитан Красной Армии Виктор Викторович Крылов — родной племянник Михаила Петровича. С его документами прибыл из Москвы для выполнения задания Николай Зорин. Пока он находился в партизанском отряде, Иван Фёдорович должен был подготовить Михаила Петровича, уговорить его, чтобы тот признал своего «племянника» и рекомендовал его немцам на работу в полицейскую карательную роту.
Задача оказалась не из лёгких. Сначала, узнав о деле, Крылов так перепугался, что дальнейший разговор с ним в этот вечер был бесполезен. Через двое суток Иван Фёдорович снова вернулся к этой теме, но получил категорический отказ. Это его озадачило — такого упорства от Михаила Петровича он не ожидал.
— Как-то странно ты себя сегодня ведёшь, — насмешливо сказал Иван Фёдорович. Его широкие плечи поднялись, выражая недоумение. — Уж не рассказал ли ты о нашем первом разговоре своим любимым хозяевам?
— Ты меня обижаешь, Ваня. Обижаешь и оскорбляешь. Ты-то прекрасно знаешь, что я не подлец.
— Откровенно говоря, я теперь в этом очень сомневаюсь. Докажи, что ты ещё не научился подличать. Я предоставляю тебе такую возможность, — сказал сдержанно Иван Фёдорович и бросил острый взгляд на друга, будто соизмеряя его возможности с той сложной и дерзкой необходимостью, которая должна лечь на его плечи.
— Кому я должен доказывать?
— Мне, нашим людям, а самое главное — себе!
— Это всё громкие слова, не больше, а в них у нас никогда недостатка не было.
— Нет, это справедливые слова.
— И справедливых слов много, но кто-то или что-то всегда мешает претворять их в жизнь. И вообще, многие научились говорить красиво, а делать добро они умеют, скромно выражаясь, несколько хуже.
— Что ты имеешь в виду?
— Хотя бы своего дражайшего братца. Говорил всю жизнь одними лозунгами, а сына воспитал мерзавца!
— Это же твой племянник!
— К сожалению… да!
— А чем ты лучше его?
— Что?! Ты понимаешь, что говоришь? И кто дал право оскорблять меня?
— Родина!
— Опять громкие слова!
Иван Фёдорович со злобой и даже ненавистью посмотрел в глаза Крылову. С языка уже готова была сорваться грубость, но он сдержал себя. Затем, тяжело сев к столу, так, что отчаянно заскрипел старенький венский стул, резко отодвинул настольную лампу в сторону, подчеркнув этим важность того, о чём думал, и сказал, стараясь казаться спокойным:
— Нет, милый мой, это не только слова. Ты обязан включиться в борьбу, иначе, ты меня извини великодушно, вся твоя жизнь теперь сильно попахивает предательством.
С необычной для его темперамента прытью Михаил Петрович вскочил со стула, удивлённо и вместе с тем как-то жалко посмотрел на Ивана Фёдоровича:
— Подожди, Ваня. Как у тебя всё это категорично. Я должен подумать… И вообще, почему именно я обязан ставить себя под удар? Тебе хорошо — ты один, у тебя никого нет, а у меня дочь. Я и о ней подумать должен!
Кровь ударила Ивану Фёдоровичу в затылок, больно заломило в висках.
— Таню ты не трогай, — глухо сказал он. — Я уверен, если бы она слышала наш разговор, то сказала бы тебе то же, что я.
Михаил Петрович смотрел на друга, не умея скрыть смятения. В глазах поселилась тупая боль и ещё что-то вроде трусливого презрения.
— Не вмешивай в серьёзные дела ребёнка! — громко выпалил он, но Иван Фёдорович сделал вид, что не заметил его возбуждения.
— Она уже давно не ребёнок и всё прекрасно понимает не хуже нас.
— Но я боюсь за неё, — сдерживая волнение, умоляюще промолвил Михаил Петрович.
За стеной тишина пришла в движение, дверь с шумом приоткрылась, в комнату быстро вошла Таня. Беленькая, лёгонькая, порывистая, она с мягким упрёком сказала отцу:
— Папа, я всё слышала. Я умоляю тебя, сделай, как просит Иван Фёдорович. Это так необходимо и… так хорошо!
Ерёмин, ругая себя за неосторожность, всё-таки обрадовался неожиданной помощнице и, не выдавая своих чувств, любовался Таней. Он не без изумления вдруг обнаружил, что она стала совсем взрослой.
По-другому реагировал на появление дочери Михаил Петрович. С бледным, судорожно исказившимся лицом, он по-стариковски затрясся всем телом и истерично, неестественно громко прокричал:
— Все, все хотят моей погибели! — И выбежал из комнаты.
Отец боготворил единственную дочь. Она росла общительной, доверчивой и в меру ласковой. Любили её все — взрослые и дети. Живая, любознательная, она была заводилой многих весёлых, шумных ребячьих дел и активным участником всех мало-мальски заметных событий в школе. Таня очень любила музыку, хорошо играла на фортепьяно и задушевно пела несильным, но приятным голосом. Жизнерадостная, счастливая, она не знала горя, серьёзных забот и горьких обид. Когда началась война, Таня, как и многие другие, думала, что это всего лишь временная неприятность — Красная Армия быстро разобьёт фашистов. «На что они надеются?» — удивлённо спрашивала она ребят и недоуменно поводила плечами. Но скоро на эти слабые плечи лёг непомерный груз — фашисты пришли в город. Таня никак не могла понять, что происходит вокруг. Её ум, воспитанный на уважении к людям, не мог осмыслить происходящего. На глазах Тани умирала жизнь, рушились устои, бывшие для неё святыми и вечными. Произвол, насилия, ежедневные расстрелы и виселицы напугали и опустошили её. Шли дни за днями, страшные, кровавые. Обременённая ужасом и сомнениями, Таня жила, как в кошмарном сне. А война всё дальше и дальше уходила на восток, и Тане казалось, что уже нет силы, способной остановить нашествие фашистов, нет другого выхода, как только смириться, ни о чём не думать, существовать в вечном унижении и страхе. А тут ещё отца назначили бургомистром. Долго плакала и упрекала его Таня, а он, жалкий, растерянный, не спорил, не оправдывался, и ей стало его жаль. Время тянулось медленно и тоскливо, и Таня с радостью поняла, что немцам до победы далеко, что война, которую они объявили почти законченной, только начинается. С восторгом читала она советские листовки, которые всё чаще и чаще стали появляться на улицах города. Безмолвное и терпеливое ожидание сменилось нетерпением и жаждой деятельности, желанием быть полезной. Предложение Ивана Фёдоровича как нельзя лучше отвечало настроению Тани — принять участие в смертельной борьбе с врагом было для неё сейчас наивысшим счастьем…
На следующий день после неприятной сцены с отцом Таня пришла домой вечером. Она быстро поужинала и уселась с книгой в любимое кресло. Отец предупредил, что на работе задержится долго.
Неожиданно, без стука, дверь медленно отворилась, и, озираясь по сторонам, кривя пухлые губы, в комнату вошёл старший лейтенант Гердер — следователь гестапо. Таня видела его несколько раз в кабинете отца. Она быстро встала с кресла и вопросительно взглянула на непрошеного гостя.
— Добрый вечер, — проговорил Гердер пьяным голосом и иронически улыбнулся.
Таня испугалась и ничего не ответила.
Он подошёл к ней вплотную и сказал, глядя прямо в лицо:
— Иди ко мне. Не бойся!
— Оставьте меня, — резко, будто очнувшись, сказала Таня и попыталась пройти мимо Гердера.
Но он, не произнеся больше ни слова, грубо схватил её за плечи. Таня отчаянно сопротивлялась, кричала, но после сильного удара по голове словно провалилась в глубокую яму…
После ухода Гердера она, оцепеневшая от ужаса и омерзения, так и, осталась лежать на диване, судорожно подогнув колени. В ярком луче света, который падал на потолок от лампочки, запрятанной в голубом матерчатом абажуре, безалаберные, неугомонные пылинки играли в дикую чехарду. Сначала Таня ни о чём не могла думать, всё, что произошло, не умещалось в её сознании. Непоправимость свершившегося сдавила сердце. Таня громко застонала. Ей показалось, что она лежит в холодной, плотной грязи, и она боялась шевельнуться, чтобы не усилить это ощущение. Потянулись мысли, бесформенные, неясные, они переплетались, мешая одна другой, толкая друг друга. Но вот одна из них, острая и быстрая, испепелила все остальные и, как пуля, пронзила мозг. Зачем теперь жить! Поруганная, растоптанная! Впереди тьма… Серый, холодный туман… Ни надежды, ни цели.
Таня лежала долго, продолжая бессмысленно глядеть в потолок. Потом, поборов себя, она встала и, не совсем понимая, что делает, вышла на улицу.
Там было тихо.
Таня медленно пошла по пустынной улице, незаметно для себя всё ускоряя и ускоряя шаг. Она остановилась только на окраине города, осмотрелась вокруг. Дальше дорога уходила в лес. Направо, внизу, играя мелкой зыбью, в лунном свете мягко поблёскивала река. Таня тяжело вздохнула и медленно спустилась к берегу. Она хорошо знала это место — высокий обрыв, нависший над глубоким омутом. Вялым движением, нехотя сняла вязаную шапочку, пальто и, вдруг удивившись бессмысленности своего поступка, тихо, по-старушечьи подумала вслух: «А зачем? Какая разница, как захлебнуться — одетой или раздетой?» Эти простые практические соображения вернули её к действительности, мысли стали проясняться. Ещё немного она постояла в задумчивости. Стало прохладно, и она представила себя в холодной воде, тут же опять глубоко вздохнула, признаваясь себе, что не сможет броситься в реку. Охваченная изнуряющей тоской, она попыталась разозлиться на себя за нерешительность, но и это у неё не получилось. С дрожью Таня вспомнила отца и подумала, что она такая же, как и он, — жалкая и трусливая. Куда деть себя, что делать? И вдруг её осенило — мстить! Только это осталось ей! Только это! Вот он, единственный выход и горькая радость её жизни! Таня надела пальто и медленно пошла от реки. Ночной ветер ласково шевелил русые волосы, разбросанные по плечам.
Шапочка осталась на берегу…
На рассвете партизанский дозор задержал измученную девушку. Она еле стояла на ногах. Старший дозора, плотный, с крупным лицом и большими рабочими руками, растерялся, когда ближе разглядел Таню.
— Господи, твоя воля, — удивлённо проговорил он, обращаясь к напарнику, совсем молодому парнишке, — что же это такое? Смотри-ка, девчушка!
— А вы кто? — еле слышно спросила Таня.
— Смотри-ка, — ещё больше удивился партизан, — чуть живая, сама с гулькин нос, а с нас допрос снимает. Кто! Ясно — кто. Не бандиты, конечно.
— Мне в отряд надо.
— Какой-такой отряд? Шустрая, смотри-ка! Да ты сама-то кто такая?
— Я?
— А то кто же?
— Я — Таня, — смущённо поправляя упавшие на глаза волосы, ответила девушка.
Партизан добродушно рассмеялся:
— Таня! Чья Таня! Откуда?
— Из города.
— Дядя Лёша! Дядя Лёша! — вдруг громко и радостно закричал его молодой помощник и даже подпрыгнул на месте от переполнивших его чувств. — Это же правда Таня!
— Какая Таня? Чего кричишь на весь лес?
— Ну, Таня! Наша же Танька Крылова! — ещё громче, совсем захлебнувшись словами, прокричал лихой партизан, а она, узнав в нём своего бывшего одноклассника Сашу Алексеева, совершенно обессиленная, упала ему на руки.
— Знакомая, значит? — почему-то смущённо спросил старший дозора и, больше для поддержания своего авторитета, чем для дела, спросил: — А как она в смысле надёжности?
— Так ведь это же Таня Крылова! — опять проговорил Саша, растерянный и счастливый, крепко удерживая девушку.
Михаил Петрович тяжело переживал исчезновение дочери. Это несчастье окончательно подорвало и без того слабое здоровье и моральные силы бургомистра. Поиски Тани положительных результатов не дали: она словно сквозь землю провалилась.
А через два дня к измученному неизвестностью, равнодушному ко всему Крылову пришёл Иван Фёдорович.
Бургомистра давили мучительные мысли, от которых он, как ни старался, избавиться не мог. В его душе шла сложная борьба. Глядя на него, Иван Фёдорович понял, что сегодня будет сказано что-то очень важное. И действительно, Михаил Петрович заговорил:
— Ваня, дорогой, как мне всё надоело. Я всё понимаю, а делаю всю жизнь не то, что нужно, и не то, что хочу. Вижу это, а переломить мне себя не под силу. А всё — моя трусость. Опутала она меня, и не вижу я выхода из этого свинского состояния, не знаю, как разрубить этот гордиев узел. Прямо наваждение какое-то!
Иван Фёдорович слушал внимательно, не перебивая, а Крылов говорил, всё больше распаляясь:
— У меня такое впечатление, что потерял я некий стержень, на котором держится человек. А без него, без этого крепкого жизненного стержня, — убогость, низость, гадость. И всё это без просвета, без надежды. Плохо мне… Жить не хочется. Всё стало противно — книги, природа и люди. Их энергия и настойчивость раздражают. Я лгу себе и людям, живу бесцельной, серой и двусмысленной жизнью.
— Есть выход, Михаил, — перебил его Иван Фёдорович, — и стержень жизненный найти не трудно.
— Да я и сам это разумом схватываю, а чувствами своими управлять не могу. Сил нет. Нормальная человеческая жизнь — это для меня неосуществимая мечта. Страшно мне…
— Чего ты всё боишься? Смерти? Миша, дорогой, поверь мне, не стоит того костлявая старуха, чтобы ей так много уделять внимания. Не нужно бояться смерти, она естественна и даже необходима. Бояться нужно морального краха, а здесь у тебя, ты меня уж извини за откровенность, наступила клиническая смерть — это почти конец, однако не всё ещё потеряно.
Громадный Иван Фёдорович тяжело ходит по комнате, его серые глаза под густыми, нависшими бровями горят молодым огнём. И видно, что по натуре он воин — пока борется, до той поры и живёт.
— Ваня, пойми меня, попробуй разобраться, — просительно говорит Михаил Петрович.
— Я скажу тебе прямо, — режет беспощадно Иван Фёдорович, — ты похож на голодного человека, которому толкают в рот кусок сладкого пирога, а он, не разобравшись, бросает его в грязь. Понять я тебя ещё могу, — не так уж это сложно, — а вот сочувствия от меня не жди. Распустился ты, разнюнился. Но в тебе есть главное: ты всё-таки хочешь найти себя. А раз хочешь, значит, можешь. Ты способен на многое, нужно только найти силы, а проще говоря, поверить в себя. А это и значит — стать человеком!
Где-то в тайниках души Михаила Петровича неуверенно загорается слабый огонёк надежды.
— Да, нельзя отставать от стаи, — воодушевляясь, говорит он, — нельзя и обходить её! Только рядом, только вместе… Прожить как следует я не сумел. Может, хоть умру красиво! Помнишь, Ваня, у Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой».
— Припоминаю немного, — с усмешкой ответил Иван Фёдорович. — Но позируешь ты напрасно. Рановато вроде бы. И вообще, мне кажется, что добро нужно делать проще, скромнее. Это не подвиг, элементарный гражданский долг. Злости в тебе мало. Добренький ты очень. А напрасно.
— Да, но они ведь тоже люди…
— Люди! — сдерживая ярость, сказал Иван Фёдорович и подал Михаилу Петровичу записку от Тани.
Лицо Михаила Петровича, и без того бледное, стало совсем белым. Он с опаской, недоверчиво посмотрел на строгого друга, на перегнутый пополам двойной лист из школьной тетради, неуверенно протянул руку. Потом долго протирал очки мягкой светло-жёлтой замшей, подаренной ему самим комендантом, и, всё ещё не веря, что это письмо от Тани, начал читать:
«Дорогой папа! Прости, что заставила тебя волноваться. Иначе я поступить не могла — так сложились обстоятельства. У меня большое горе… Но теперь я вне опасности, среди настоящих людей, таких простых и в то же время необыкновенных. Они твёрдо знают, что нужно делать. Они остались свободными и бьют ненавистных фашистов. Папа, если бы ты только знал, какое это счастье — быть сильным и свободным! Я хочу, чтобы ты стал таким, потому что очень люблю тебя. Прошу тебя, если ты меня хоть немного любишь, выполни просьбу Ивана Фёдоровича. Это нужно для меня, для тебя и для всех нас.
Крепко целую и верю в тебя. Твоя Таня».
У Михаила Петровича сильно тряслись руки. Он не мог усидеть на месте, заметался по комнате, нервно сжимая пальцы. Немного оправившись, он опять сел за стол и ещё раз внимательно перечитал письмо. Некоторое время он просидел не шелохнувшись, с серым, осунувшимся лицом, а затем поднял на Ивана Фёдоровича полные растерянности, бегающие глаза:
— Господи, Танечка. Бедная, родная моя девочка. Жива… Любит меня, беспокоится…
— Тяжело ей, Михаил, а она не только о себе думает, о людях беспокоится. И верит им… И тебе верит.
— Да, да, верит, — смущённо глядя в лицо Ивана Фёдоровича, порывисто сказал Крылов. И вдруг замер. Отвернулся к стене, уставился в одну точку. И спросил еле слышно:
— Ваня, скажи, что с ней?
— Теперь всё хорошо.
— Случилось что?
— Не знаю, — смущённо ответил Иван Фёдорович.
— Ты знаешь, — настаивал Михаил Петрович.
— Зачем тебе это?
— Скажи, я это должен знать обязательно, — сказал Михаил Петрович таким тоном, будто Иван Фёдорович был виноват в чём-то.
— Хорошо, — ответил Иван Фёдорович, — я скажу: над Таней надругались… Старший лейтенант Гердер.
— Что?! — прокричал Михаил Петрович.
— Гердер, — твёрдо проговорил Иван Фёдорович.
— Гердер?
— Он самый.
Стало очень тихо. У Михаила Петровича судорожно дёрнулось плечо. Он вскочил и уставился бессмысленным взглядом на Ивана Фёдоровича.
Пауза затянулась.
Наконец Иван Фёдорович заговорил:
— Да, да, он самый. Как это ты сказал про него вчера: «Вполне приличный молодой человек». Так, кажется?
— Но это же подлость! Это не укладывается в моей голове.
— А прочие их дела укладываются?
— Нет, ты подожди… Как же это? Как можно? Это же страшная подлость.
— Заладил как попугай, — жёстко отрезал Иван Фёдорович. — Подлость да подлость! Неужели ты до сего времени не понял, что сам по себе фашизм — сплошная гадость и сплошная подлость? И что приспешники его — цивилизованные звери, бешеные и кровожадные? И мы для них не люди вовсе, а… рабочая скотина.
Иван Фёдорович умолк как-то сразу, поняв, что слова его Михаилу Петровичу больше не нужны.
— Не сомневайся во мне, Ваня. И не нужно больше ничего, — тихо проговорил Михаил Петрович. — Я сделаю всё, что в моих силах.
За решёткой
Тихон получил сильную затрещину и, ничего не видя, кроме зелёных, плавно расплывающихся кругов, скатился по крутым деревянным ступенькам в подвал. Сначала он лежал без движения. «Опять влопался, — как в тумане пробежала мысль. — Вот и всё, живым отсюда не выбраться».
Тихон явно слышал своё сердце, оно стучало часто и громко. Дёргало, как нарыв, разбитую, распухшую губу. Тихон с трудом поднялся на ноги, огляделся. Его тюрьмой было небольшое, низкое помещение с грязными холодными стенами и кирпичным сводчатым потолком. Сверху в единственное маленькое оконце узкой полосой проливался тусклый свет да в дверные щели из коридора проникали яркие лучи от электрической лампочки.
— Дворец неважнецки освещён, зато все другие удобства налицо, — неслышно прошептал Тихон. Он криво усмехнулся, сел на рассохшийся, скрипучий топчан и, качнувшись на нём несколько раз, добавил: — Барский гарнитур — остатки прежней роскоши. — Но эти пустые слова не успокоили его. Напрасно он хотел обмануть себя. Шутить не хотелось. Одна мысль
безжалостно сверлила мозг: «Это конец!» Тихон замер, ему стало страшно. А время, казалось, не двигалось. Вдруг Тихона забил озноб. Мышцы, не чувствуя над собой власти, сокращались, дёргались в такой дикой пляске, что перехватывало дыхание. «Ну, раскис совсем», — щёлкая зубами, подумал он, будто упрекая кого-то, лёг на топчан и укрылся телогрейкой. Вскоре озноб прекратился, стало теплее, и — молодость взяла своё — Тихон незаметно заснул. Сон был крепким и долгим, таким, что, проснувшись, Тихон первое время не мог понять, где он. Придя в себя, встал, размял онемевшее тело и вновь почувствовал силы, готовность к борьбе. Отдохнувшие мышцы приятно ныли, прося работы.
В окошко теперь пробивался яркий солнечный свет, будто раскалённый добела брус металла повис во мраке. Во дворе, передравшись, зашумели воробьи. Громко, будто осуждая забияк, несколько раз подряд каркнула ворона. Тихон рванулся к окну, вцепился в решётку руками… «Бежать! Но как? При удобном случае? А будет ли он, этот удобный случай? Должен быть!» Тихону рисовались разные варианты побега: из камеры, с допроса и во время казни… Он никак не мог представить себя мёртвым. Все кто угодно могут быть убитыми, но он, Тихон, — никогда! «Как это не двигаться, не жить?!» Он внимательно рассматривал решётку. Круглые, в палец толщиной, ржавые прутья не оставляли никаких надежд.
Во дворе, прямо перед глазами Тихона простучали грубые подкованные сапоги. Донеслись обрывки немецкой речи. Послышался шум автомобиля, хлопнула дверца.
— Собираются, гады, — прошептал Тихон и вдруг решил, что его сейчас должны вызвать на допрос. Он напряжённо ждал — вот-вот откроется дверь — и поймал себя на мысли, что хочет этого. И дверь действительно отворилась, яркие лучи света выхватили Тихона из темноты. На уровне плеч узника показались две огромные ноги, и выросла фигура солдата.
— На, — добродушно сказал он, протягивая кусок чёрного хлеба и алюминиевый солдатский котелок, до половины наполненный жидкой похлёбкой. Тихон осторожно подошёл, взял у солдата еду и заглянул ему в лицо. Оно было злым. Тихон узнал немца — это он вчера вечером провожал его сюда и с большим знанием дела стукнул по затылку.
Солдат медленно выпрямился и посмотрел на Тихона. Но вот его правая нога пошла по дуге назад и, сделав большой замах, блестя подковкой на кожаном носке сапога, понеслась вперёд, прямо к подбородку Тихона. Реакция обороняющегося была мгновенной и точной — сапог просвистел мимо его уха. Солдат вложил в удар столько силы, что его по инерции рвануло вперёд, и он, потеряв точку опоры, с грохотом свалился по ступенькам на пол.
В коридоре раздался громкий, весёлый смех. Ошалевший от неожиданного падения и оскорблённый неуместным смехом, солдат быстро вскочил и бросился на узника. Тихон, успевший за это время поставить котелок на пол, напружинившись, со сжатыми кулаками встретил противника. Солдат не ожидал отпора, и, получив встречный прямой удар в зубы, ойкнул, и упал навзничь, нелепо взмахнув длинными руками.
— Прекратить! — раздался сверху резкий, уверенный голос старшего лейтенанта Гердера. — Ко мне! — скомандовал он солдату, и тот, выплюнув сгусток крови, яростно взглянул на Тихона и неохотно полез вверх по лестнице.
Дверь с громом захлопнулась.
Тихон, готовый ко всему, напряжённо ждал, что будет дальше.
Но его пока оставили в покое.
«Странно, — подумал он, — с каких это пор в гестапо такие аттракционы оставляют без последствий?» Всё ещё продолжая удивляться и насторожённо прислушиваясь, он принялся за еду. Проходил час за часом, но в камере никто не появлялся. Уже короткий осенний день подходил к концу. «Не спешат, гады, — тоскливо думал Тихон, уставший от нервного напряжения, — да и куда им торопиться? Успеют и в гроб загнать, и поминки справить».
И только поздно вечером Тихона повели на допрос к начальнику районного отделения гестапо. Кроме майора Демеля, в кабинете были следователь гестапо старший лейтенант Гердер и переводчица из комендатуры Наташа. Тихон предстал перед начальством настороженный и жалкий: волосы растрёпаны, на лице засохли глубокие царапины, один глаз заплыл, нижняя губа сильно распухла и беспомощно отвисала. Всё это раздражало и смущало, Тихон не знал, куда деть руки, на чём остановить взгляд. Напряжённый, озирающийся, он напоминал загнанного собаками зверя — взъерошенного, уставшего, но готового в любой момент продолжать смертельную борьбу.
Демель спокойно сидел за широким полированным столом и не спускал с арестованного изучающего взгляда.
— Садитесь, пожалуйста, — вежливо сказал он после длительной паузы.
Тихон осторожно сел на стул.
Наташа внимательно посмотрела на партизана, и сердце её защемило от жалости.
Опять наступила тяжёлая пауза, и Тихон, постепенно успокаиваясь, подумал: «А, чёрт с вами, что вы мне сделаете! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Эта старая поговорка мгновенно воскресила в памяти Тихона далёкую картину. Вот он стоит на вершине крутой горы. Лыжи-самоделки крепко привязаны ремнями к подшитым валенкам. Никто из ребят ни разу не спустился с горы в этом месте: обрывы и коварные природные трамплины подстерегают смельчаков на пути. Тихону страшно, но обратного пути нет. Десятки восхищённых ребячьих глаз с любопытством смотрят на него. Не поворачивать же лыжи обратно! Звонко выкрикнув эту же самую поговорку — двум смертям не бывать… — он лихо сдвигает на затылок старенький, видавший виды треух и, чуть живой от восторга и страха, летит вниз, в неизвестность…
Воспоминание детства, как молния, вспыхнуло и пропало, но Тихон почувствовал себя несколько увереннее. Он встретился глазами с Наташей и еле заметно подмигнул ей:
— Что сидишь такая грустная? Меня ещё рано оплакивать, кралечка. Пожалей лучше себя и вот этих ощипанных павлинов.
Наташа вздрогнула от неожиданности, удивившись прозорливости парня. Она заметила вопрос на лице Демеля и, помня, что он понимает русскую речь, перевела:
— Арестованный не себя, а нас считает достойными сожаления.
— Почему ты так считаешь? Почему заговорил об этом? — с интересом, живо спросил Демель.
Прежде чем ответить, Тихон взглянул на Наташу и, усмехаясь, сказал:
— Да вот, барышня ваша уж очень ласково смотрит на меня, жалеет.
Демель всё понял по-своему, он решил, что этот странный парень не очень удачно иронизирует, и снисходительно сказал:
— Ты покушался на её жизнь, как же она ещё может смотреть на тебя?
— Вот это-то и удивительно, — ответил Тихон и от души рассмеялся.
Демель не понял истинной причины смеха, но он ему не понравился. Начальник гестапо хорошо знал людей и видел, что разговор с этим дерзким партизаном получится едва ли. С самого начала допроса смертник вёл себя вызывающе, будто не майор Демель, а он был здесь хозяином положения. Майор начинал злиться, а это было опасно для арестованного. Наташа за короткий срок хорошо изучила манеру Демеля играть с обречёнными на смерть в демократию. Он убивал свою жертву не иначе, как вдоволь наговорившись с ней «по душам». Арестованных, намеченных для этих фарисейских бесед, не разрешалось бить, их немного кормили — они должны были выглядеть более или менее прилично.
Франц Демель считал себя глубоким психологом и всесторонне образованным человеком. Он старался разобраться в мотивах поведения людей, пытающихся бороться против нового порядка, приобщение к которому он чистосердечно считал великим благом для всех народов, населяющих не только Европу, но и весь земной шар. Но люди своего счастья понимать не хотели. Правда, не все. Сталкивался он и с такими людьми, которые, попадая в безвыходное положение, быстро меняли свои взгляды, держали нос по ветру. Считая себя человеком глубоко порядочным, Демель относился к таким субъектам без особого уважения, однако охотно сотрудничал с ними. Но таких были единицы. Другое дело — этот непонятный парень, который и перед смертью чувствовал себя хозяином на своей земле. Их миллионы. Они стали глыбой, непреодолимой стеной на пути его армии, бесстрашные и непоколебимые. Посмотрите на этого сорванца — сидит ухмыляется. Интересно, какие мысли бродят в его буйной голове? За покушение на офицера рейха его ожидает смерть, и он знает это. А попробуй, предложи ему сотрудничать с гестапо или пойти служить в полицию, обещая за это сохранить жизнь и сделать её обеспеченной, красивой… Да он просто либо плюнет тебе в лицо и умрёт, как говорят русские, с достоинством и честью, либо, «смирившись», возьмёт из твоих рук оружие, чтобы при первом же удобном случае выстрелить тебе в спину. Удивительный, непостижимый народ! Но никто не знал, кроме самого Демеля, что русские люди не только поразили его воображение своей неподкупностью, твёрдостью, но и заставили думать. До России он жил легко и просто: кто-то решал за него, он брал готовое, и ему иногда казалось, что это его собственные мысли. Теперь Демель думал сам. Процесс этот оказался мучительным и тяжёлым. Демель иногда не находил себе места. Его стали посещать сомнения. Что-то тяжело перевернулось в его голове, забитой сознанием сверхъестественной исторической роли арийцев, фашистской белибердой, эмоциональными театрализованными истериками Гитлера. Демель начал хандрить. В оболочке майора СС как бы стали сосуществовать два человека. И этот, второй Демель, беспокойно ютившийся в глубине сознания первого, негромко, но настойчиво твердил, что война за мировое господство и сам фюрер со своими приспешниками — всего лишь авантюра, обречённая на провал и осуждение историей. Демель ощущал в себе философа, он чувствовал рождение мыслей глубоких, охватывающих одновременно всё вокруг и способных перевернув, поставить с ног на голову устоявшееся, привычное.
Демель внимательно посмотрел в лицо Тихону, будто там хотел найти ответы на мучившие его вопросы, постучал по столу большим зелёным карандашом и спросил:
— Как тебя зовут?
— Тихон.
Наташа, внутренне собранная, с равнодушной маской на лице, понимала, что начиналась игра, причём неравная игра в «кошки-мышки», где кошка ничем не рискует, разве только мышь каким-то чудом словчит и скроется от страшных когтей в своей норе. И такое бывает иногда…
— Фамилия? — продолжает Демель.
— Иванов, — зачем-то соврал Тихон.
— Партизан?
— Партизан.
— Кто командир отряда?
— Ваш хороший знакомый — Иван Иванович.
— Где он сейчас?
— В лесу.
— Сколько в отряде людей?
— Много. Тыща, а может, и больше. Разве всех сосчитаешь.
— Сколько пулемётов?
— Это смотря каких. Станковых, например, — пятьдесят, а ручных ещё больше — много, я их не считал. А про пушки тоже сказать?
Тихон издевается. Он почти спокоен и готов к любым испытаниям. А гестаповец всё видит, всё понимает. Поведение Тихона раздражает его, но он сдерживается. Пусть этот мальчишка корчит из себя героя, это Демель может ему позволить.
— Хорошо, — вкрадчивым голосом говорит Демель, — а теперь скажи, как зовут посыльного из отряда Мартына?
— Откуда я знаю? Мне о таких делах не докладывают, я рядовой — необученный, — ответил Тихон, удивлённый осведомлённостью Демеля.
— Тебе нельзя отказать в логичности, но это только по последнему вопросу. А о составе отряда и вооружении ты наврал, ничего подобного там нет.
— А если вы всё знаете, зачем спрашиваете?
— Хотел проверить твою совесть.
— И как?
— Нет её у тебя!
— Это как сказать, — серьёзно возразил Тихон. — Получается красиво: вор залез в дом, а хозяин не должен замечать его, иначе ему скажут, что он дядя нехороший.
Демель снисходительно улыбнулся.
— Это значит — я вор?
— Это точно.
Гердер сдержанно улыбнулся уголком рта.
Наташа была непроницаема. Казалось, она переводила, не вникая в смысл разговора. Но это только казалось. Она знала, Демель скоро сорвётся. Концовка этих «душевных» разговоров была всегда одна и та же.
— Скажи, Тихон, — сказал Демель, — зачем ты так вызывающе себя ведёшь? По-моему, ты имел возможность убедиться, что мы можем быть великодушными.
— Что-то я не припомню такого случая.
— У тебя короткая память, а это не есть хорошо, — сказал Демель по-русски и продолжал на своём родном языке: — Ты ударил немецкого солдата и не понёс за это наказания.
— Вы это серьёзно?
— Конечно. Старший лейтенант Гердер предотвратил расправу, а он мог этого не делать.
— Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву.
— Всё паясничаешь, а мне хочется поговорить с тобой серьёзно. Почему ты так непримирим, на что ты надеешься?
Тихон удивлённо посмотрел на майора и, потирая больную губу, тихо сказал:
— Хочешь серьёзно? Слушай!
— Со старшими нужно говорить вежливо.
— Но любовь хороша, когда она взаимна.
— При чём тут любовь! Я говорю о вежливости и воспитании!
— Вы о воспитании? А случайно это не шутка?
— Нет.
— И палач может быть вежлив и воспитан?
— Конечно.
— Убийца — есть убийца! Как он ни рядись, лучше от этого не станет!
— Но тогда и коммунисты тоже убийцы?
— Нет! Мы убиваем палачей — значит, боремся со смертью.
— А разве ты коммунист?
— А вы этого ещё не поняли?
— А конкретнее.
— У нас все коммунисты.
— Это только громкие слова.
— Нет, это не только слова, это — факт, только он вам не по нраву, вот вы и не хотите его признавать.
— Хорошо, Тихон, это пустой разговор: мы останемся каждый при своём мнении. Ты лучше ответь на мой вопрос: на что ты всё-таки надеешься?
— На что я надеюсь, да? Я не надеюсь, а твёрдо уверен, что очень скоро мы погоним вас со своей земли, и всем вам будет крышка!
— Стоп! — резко перебил его Демель. — Ты слишком увлёкся! Кроме того, я совершенно не разделяю твоего мнения, я уверен в обратном. Я тебе разрешаю, — уже с откровенной злобой продолжал он, — докажи свою правоту.
— Что доказывать, вы и сами знаете, что я прав.
— Это не доказательство! — уже закричал взбешённый Демель. — Ты давай аргументы! Истина только тогда живёт, когда она доказана! А это пустая болтовня! Я уверен в нашей победе!
— Дело ваше! Будильник прозвенел, а будете вы вставать или ещё понежитесь, это уж не моё дело.
Демель с шумом встал. Глаза его сверкали, ноздри раздувались.
— Сколько тебе лет, философ? — сквозь стиснутые зубы прошипел он и, выйдя из-за стола, подошёл вплотную к Тихону.
— Пока — двадцать два, — стараясь быть спокойным, не вставая, ответил Тихон, понимая, что беседа с ним подходит к концу.
— Почему — «пока»?
— Потому что потом будет двадцать три и так далее.
— Не будет!
Тихон насмешливо посмотрел на взбешённого гестаповца и, не повышая голоса, сказал:
— Не надолго же вас хватило, господин майор. Не пугайте, мы не робкого десятка! Я умру, но от этого ничего не изменится. Нас много…
— Всех перебьём! Уничтожим! — Демель уже не мог владеть собой. — Быдло! Стадо баранов! Подумаешь, партизаны! Герои! Ослы вы, а не герои! Наш человек в отряде командует вами, а вы подчиняетесь. Плебеи! — Демель судорожно задохнулся и в изнеможении умолк.
— За откровенность спасибо, — грустно проговорил Тихон. — Очень жаль, что ваша информация останется не до конца оценённой. Но ничего. Наступит время, когда вас, фашистов, и немцы проклинать будут, не только мы.
— Увести мерзавца! — яростно процедил Демель. — И расстрелять сегодня же ночью. А чтобы не обижался на немцев, пусть расстреляют русские, — пусть поймёт, что не все они коммунисты!
Поздней холодной ночью со двора районного отделения гестапо медленно выехал грузовик. В кузове, окружённый тремя полицейскими, сидел Тихон. Майор Демель сдержал своё слово: партизана везли на расстрел русские, жизнь его оборвёт русская пуля, посланная из русской трёхлинейки.
Темно.
Тихон не видит лиц своих палачей и не пытается их разглядеть. Перед отправкой на расстрел его сильно избили. Особенно старался угрюмый солдат со шрамом через всё лицо, которому Тихон накануне выбил зуб. Болело всё тело. А голова казалась расчленённой на несколько частей тонкими металлическими заслонками, которые, как мембраны, колебались и звенели при каждом толчке автомобиля. Он не хотел да и не мог ни о чём думать.
Тихон сидел на небольшом деревянном ящике, уперев локти связанных рук в колени и беспомощно положив распухшее лицо на свои грязные кулаки.
В кабине едет ещё один полицай — командир взвода — и шофёр-немец.
Тяжёлую машину плавно покачивало на ухабах.
Ласковый ветерок приносил из густых садов дурманные запахи. Свежий воздух помог Тихону сбросить тяжёлое оцепенение. Он начал осматриваться по сторонам, узнал знакомую улицу. Она словно вымерла. Молча, таинственно глядели на дорогу чёрные провалы окон. Город спал… Тихон напрягал зрение, будто хотел увидеть что-то важное, единственно необходимое. Перед ним проплыл длинный деревянный забор и дом тёти Даши. А там, почти рядом с этим домом, не ведая ни горя, ни заботы, спокойно спит необыкновенная девушка-пианистка. На мгновение в его воображении появились большие грустные глаза, светло-золотистые волосы. В облике незнакомки было для него что-то непостижимо печальное, неземное, и в то же время такое реальное и живое, что Тихону безумно захотелось ощутить теплоту её дыхания и нежных рук. «Ангел небесный», — прошептал он тихо разбитыми губами. И сразу Тихону стало мучительно жаль себя. «Неужели всё? Вот так бессмысленно и глупо! Не может этого быть! А почему не может? Балда! Мститель-одиночка! Герой-самоучка! Сам во всём виноват!»
Тускло, зловеще поблёскивало оружие в руках палачей…
Избитое тело опять напомнило о себе — заныло, и Тихон представил злое лицо со шрамом, ощеренный рот с выбитым зубом. «Свинья», — хрипло произнёс солдат и ударил в солнечное сплетение. Перехватило дыхание, потемнело в глазах. Тихон пытался дотянуться до фашиста, но сзади кто-то обхватил за шею и сильно стукнул по голове. Тихон хотел обернуться и не успел — со всех сторон посыпались удары. Он пытался защищаться — махал руками, кого-то бил… Но силы были слишком неравными. Тихон упал, а солдаты, старательно кряхтя, долго и деловито били его ногами. И опять его «спас» Гердер.
— Отставить! — выкрикнул он. — А то некого будет расстреливать!
Это было совсем недавно, перед тем как сесть в эту машину.
«Вот и всё», — прошептал Тихон. Стало страшно. Перед глазами почудилась глубокая яма, обрамлённая бруствером глинистой земли, он.
Тихон, стоит на самом краю… Тёмные зрачки карабинов, медленно двигаясь, ищут его сердце. Вот-вот, одно мгновение — и пули с бешеной силой ударят в грудь. Тихон попытался отогнать видение, воля напряглась до предела, но взять себя в руки не удалось. Обречённый, он словно летел в бездонную, мрачную пропасть, и грохочущая, бесконечная чернота окутала его со всех сторон. В кошмаре, не помня себя, Тихон вскочил — необъяснимая внутренняя сила подбросила его — и рванулся к борту, пытаясь выпрыгнуть из машины. Его схватили сразу трое. Он бешено работал руками и ногами, но полицейские спокойно водворили его на место.
— Сиди, ещё успеешь напрыгаться, — сказал один из них. Тихон не видел его лица, но удивительно знакомым показался голос, насмешливый и доброжелательный. Тихон сжался в комок. Торопливо напрягая память, он попытался вспомнить, где и когда слышал этот голос, но, как всегда бывает в таких случаях, мысли ползли в любых направлениях, только не туда, куда нужно. Он заставил себя думать о другом, и тут же, независимо от его усилий, в памяти возникла пустынная, заросшая сиренью улица и полицейские, которые конвоировали его в гестапо. И голос: «Иди, не думай, что ты один на свете человек». «Он!» — задохнувшись от восторга, подумал Тихон и тут же ощутил то радостное состояние, когда человеку необходимо общение с людьми. Ещё не веря до конца в удачу, он пытался заглянуть в лицо полицейского, скрытое тьмой…
А неутомимый трудяга-дизель гнал и гнал машину вперёд, и она, словно жалуясь на свою горькую долю, громко рычала, вздрагивала и покряхтывала, медленно пересекая поляну на окраине города и направляясь к лесу. Там, на опушке, в оврагах Вороньего поля, оккупанты производили расстрелы патриотов.
Из-за тучи спокойно выплыла полная луна и щедро пролила на землю зловещий, холодный свет. Исподлобья, боясь ошибиться, Тихон взглянул в лицо полицейского и сразу же узнал его. «Вот и встретились!» — чуть не вскрикнул он, но палец, выразительно прижатый к губам знакомого парня, и лёгкий толчок в бок заставили молчать. Появилась реальная надежда на спасение, и всё вокруг приобрело особое значение и смысл. От радости распухшие губы Тихона растянулись в жалкой, кривой улыбке. Он хорошо понимал, что спасение теперь во многом, если не во всём, зависело от находчивости и сообразительности недавних добрых знакомых и его самого. И Тихон с присущим ему оптимизмом окончательно стряхнул с себя нервное напряжение.
«Как-то нужно условиться с ребятами, но как?» — подумал он, и в это время его мысли прервал голос незнакомого полицая:
— На, закури напоследок.
Тихон уловил в голосе враждебные, издевательские нотки, но сдержал себя:
— Спасибо, не курю.
— Не угодно, значит! Была бы честь предложена.
Тихон промолчал. Но полицай не унимался:
— Завещание-то оставил?
Тихон опять не ответил.
— Оставь, Иванов, — сухо отчеканил Сергей, резко повернувшись к полицаю.
— Глянь, заступник какой нашёлся, — окрысился тот.
— Пусть потреплется, — снисходительно вставил Тихон, — он силён задирать беспомощного. Сними с рук верёвки — тогда поговорим!
— Смотри-ка, прыткий, — сдавленно хохотнул Иванов и в упор посмотрел Тихону в лицо. — Герой нашёлся, пять минут жить осталось, а туда же, огрызается!
— Шкура ты продажная! — крикнул Тихон. — Я тебя ещё переживу!
Он встал на ноги и, пытаясь освободиться от пут, сильно рванул связанные руки.
Иванов сдёрнул с плеча карабин.
Но тут между ними возникла высокая, плотная фигура Виктора. Сергей передвинулся за спину Иванова.
— Спокойно, — с усмешкой произнёс он, — всему своё время.
Машина вяло качнулась из стороны в сторону, громко чихнула, выпустив через выхлопную трубу облако чёрного, густого газа, и остановилась. Из кабины неторопливо вылез командир взвода лейтенант Коновалов, поправил на голове шапку и неожиданно громко скомандовал:
— Выходи!
Полицаи быстро оказались на земле.
Тихон с трудом перевалил своё тело через борт кузова, опёрся обеими ногами о колесо и спрыгнул, нелепо взмахнув связанными руками.
Полицейские окружили его. Все пятеро тронулись с места. Впереди командир взвода, за ним Тихон и три конвоира с карабинами наперевес, так близко, что Тихону казалось, будто холодные, как лёд, стволы упираются ему в спину.
Машина с шофёром осталась позади, растаяла в сером полумраке. Впереди были овраг и тёмный лес.
— Стой! — отчеканил Коновалов, резко повернулся к арестованному и направил на него карабин.
И Тихон опять перепугался. Мысли спутались, его охватила дрожь. «Вот сейчас эта сволочь, ни слова не говоря, выстрелит — и всё! Ребята не успеют даже глазом моргнуть и понять, что к чему!».
— Становись!
В ночной тишине голос лейтенанта, уверенный, привычный к резким командам, прозвенел, как медная труба на побудке.
Тихон, не понимая, к кому относилась эта команда, повернулся кругом и увидел три карабинных дула, направленные прямо ему в грудь.
Лейтенант, пройдя в двух шагах от Тихона, присоединился к полицаям.
— По бандиту, — громко, как на учебном стрельбище, крикнул он, — заряжай!
Клацнули затворы — назад-вперёд; патроны плавно заползли в стволы. Теперь только нажать на спусковой крючок, и пуля, неуловимая, беспощадная, устремится вперёд, Тихону в сердце.
Иванов с нетерпением и радостью ждёт команды — его пуля не пролетит мимо.
Вот последний рубеж, и силы оставили Тихона: ни отступить, ни двинуться вперёд… Засосало под ложечкой… Он отвёл взгляд в сторону. Перед глазами тихо покачивалась сухая, скрюченная корявая ветка, похожая на когтистую лапу чудовищного зверя. Словно проникнув в сокровенный смысл бытия, Тихон застывшим, отрешённым взглядом смотрел на диковинное творение природы, и ни одна струна не дрожала в его душе…
Луна, опять запутавшись в густых, мохнатых облаках, не спеша пробивалась к горизонту. Виктор и Сергей напряглись, как тигры перед прыжком, ещё мгновение — выстрелят: один в Коновалова, другой — в Иванова. И вдруг командир взвода, неожиданно для всех, ловким движением выбил карабин из рук Иванова и, не дав ему опомниться, сильно ударил прикладом по голове. Не успев даже вскрикнуть, Иванов упал.
— Развяжите парня! — тихо сказал Коновалов. — И слушать меня внимательно. Сейчас мы его «расстреляем» так, чтобы слышал шофёр. Цельтесь вверх, в луну. Эту падаль, — показал он на труп Иванова, — закопать. И дальше: Иванов, обманув нас, сбежал в лес к партизанам, поняли? А ты, — он ткнул в грудь Тихона, — похоронен. Всё осмыслили? Действуйте!
— Подождите! — захлёбываясь от восторга, выпалил еле-еле пришедший в себя Тихон. — Значит, вы тоже наш?
— Нет, — усмехнувшись, ответил лейтенант, — я дядин. Лирика будет после, а теперь за дело! — И опять громко, как на учебном плацу, скомандовал:
— По бандиту, пли!
Разорвав в клочья ночную тишину, дружно прогремел залп.
— Вот так, — удовлетворённо промолвил Сергей.
— А теперь — работать! — приказал Коновалов.
Они быстро зарыли труп Иванова. После этого Коновалов слегка толкнул Тихона и сказал:
— Ты, милок, во второй раз — наш племянник. Как тебя зовут-то?
— Тихон я, братцы, Тарасов — фамилия моя… Я по гроб теперь… Вы это… Не смотрите, что я такой… Я к вам шёл. Иван Иванович — командир отряда — послал на связь. — Слёзы радости душили его, он никак не мог совладать с собой. Всё было так неожиданно и так хорошо! Так много хотелось сказать этим родным людям… — Думал уж — всё, — всхлипнув, выдавил он. Тихон употребил все внутренние силы, чтобы взять себя в руки. Частично ему это удалось, и он продолжал: — Шёл к вам, а тут этот гусь лапчатый с кралей… А в пистолете всего два патрона. Не выдержал я — пальнул, и опять дуриком попался. Промахнулся — вот обида!
— Пальнул, — добродушно передразнил Виктор, — стреляешь, так попадать нужно.
— Нахныкались? — насмешливо перебил их Коновалов. — Теперь поговорим о деле. Нам нужна регулярная связь с отрядом и конкретное задание.
— Решение о вас такое, — сразу став серьёзным, солидно проговорил Тихон, — всех надёжных ребят взять на учёт, оставаться пока в роте и ждать команды. Когда настанет время, мы вас сами найдём. Пароль: «Здравствуй, красавец, как здоровье?» Отзыв: «Спасибо, на здоровье не жалуюсь».
— Сколько же ещё ждать? — горячо спросил Виктор.
— Такие, как вы, в девках не засидятся! — уверенно ответил Тихон.
Все тихо рассмеялись…
Утром перед строем карателей долго и нудно последними словами ругался командир роты капитан Топорков, сражённый, как он выразился, подлючей хитростью Иванова, сбежавшего ночью к партизанам. Лейтенант Коновалов за недогляд получил дисциплинарное взыскание — выговор.
Начальник штаба
Командир партизанского отряда Иван Иванович Быстров не сразу узнал Тихона. Всё лицо его было в синяках, ссадинах и кровоподтёках. Между разбитыми губами, вздувшимися до немыслимых размеров, влажно блестели чудом уцелевшие зубы.
Вытянувшись по стойке «смирно», Тихон, хотя это стоило ему огромных усилий, доложил:
— Товарищ командир, задание выполнено: связь с патриотами из полицейской карательной роты установлена. Пароль им сообщён.
— Господи, — не удержался Иван Иванович, — кто и где тебя так разукрасил?
— В гестапо!
— Как это?
— Завёл знакомство с самим майором Демелем. Ничего мужик, в жизни разбирается.
— Подожди, закрой фонтан на время. Давай серьёзно и — короче, только самое главное. Потом сразу же на медпункт, оттуда — спать, а когда очухаешься немного, тогда поговорим подробнее.
— Всё понял, — с готовностью ответил Тихон, — скажу самое главное: у нас в отряде — провокатор.
Иван Иванович заинтересованно посмотрел на Тихона и строго спросил:
— Откуда у тебя такие данные?
— От начальника гестапо.
— Что за чепуха?
— Нет. Точно. Он сам проболтался.
— Когда, где, при каких обстоятельствах?
— Он приказал меня расстрелять и рисовался перед смертником, ругал нас по-всякому.
— Подожди, вспомни точно, что он сказал?
— Дураки вы, говорит, плебеи! Наш человек уже несколько месяцев командует вами, а вы подчиняетесь ему, как пастуху бараны, ничего под носом у себя не видите! Он все ваши операции срывает, данные об отряде сообщает в гестапо, а вы ему верите. Это он хотел показать, что они умнее нас. А, между прочим, нам и в самом деле последнее время не везёт. Куда ни сунемся, всё они козырями кроют. И об отряде, точно, кое-что знают.
Иван Иванович внимательно выслушал сбивчивый рассказ Тихона и спросил:
— Так и сказал, что их человек партизанами командует?
— Дословно.
— Ясно. Теперь вот что: всё, о чём ты сейчас мне сказал, ни одна душа знать не должна! Понял?
— Понял.
— Вот, вот, чтобы как в могиле!
Дальше рассказ Тихона командир слушал как бы между прочим и, когда он ушёл, немедленно послал за комиссаром. Долго они разговаривали вдвоём, затем пригласили Николая, и Иван Иванович приказал часовому в землянку никого больше не пускать.
Многое пришлось повидать отрядному врачу, но такое он видел впервые. Матвей Борисович даже крякнул от удивления, когда как следует рассмотрел Тихона.
— Эко, братец, как они тебя!..
— Разделали, как говорят, под орех, — согласился Тихон. — Впятером били. Ни рук, ни ног не жалели. Ни своих, ни моих. Устали, бедные.
— Как же это тебя угораздило?
— Было дело… Потом расскажу. Говорить мне тяжело.
— Ага.
Целый час Матвей Борисович и фельдшерица Тося «ремонтировали» Тихона: обрабатывали раны йодом, втирали мази, присыпали ссадины белым порошком, накладывали марлевые повязки, бинтовали.
— Куколка, — проговорил Тихон, укладываясь в постель, — хоть в кино показывай! — Он не торопясь лёг на спину, укрылся одеялом, потянулся и с удовольствием сказал: — Наконец-то отдохну всласть.
— Не вовремя тебя, — посмотрев вслед уходящему врачу, проговорила Тося.
— А разве такое бывает и вовремя? — спросил Тихон.
— Бывает.
— Интересно, — протянул Тихон.
— Очень. Такая невеста в отряде появилась, а главный жених в растерзанном виде.
— Женихов у нас хватает.
— Не скажи.
— Что говорить-то? Косяками женихи ходят. Глаза на тебя пялят.
— То разве женихи, — весело рассмеялась Тося, — глядеть не на что! Ты — другое дело.
— Брось!
— А что?
— Ничего, не нужно мне невест.
— Надолго?
— Навсегда.
— Ой, Тишка, не зарекайся! Увидишь новенькую — обомлеешь!
— Ерунда!
— Посмотри — тогда говори.
— И смотреть не собираюсь, — твёрдо сказал Тихон, подумав о девушке, которую видел ночью в саду.
— Хороший ты парень, — задиристо сказала Тося, — а по отношению к девчатам — лопух! Даже смешно!
— И пусть, — не обидевшись, ответил Тихон, — у меня ещё всё впереди.
И отвернулся к стене.
Командир партизанского отряда Иван Иванович Быстров и комиссар Владимир Васильевич Королёв были закадычными друзьями. Земляки и ровесники, они смолоду сполна получили всё, что отпускал самодержец «всея Руси» своим верноподданным: безотрадное детство, нужду, холод, голод, страх перед завтрашним днём. Но ребятишки из рабочих семей не сразу осознали ужас своего положения. Воробьиной стаей срывались мальчишки из серых, прокопчённых лачуг в таинственный лес, где ждали их чудеса и богатства! Самодельными силками ловили они голосистых щеглов, чижей и синиц; паслись на бархатных полянах, густо усыпанных земляникой; ореховой удочкой таскали из реки полосатых окуньков, колючих ершей, вертлявых пескарей и нежных плотвичек; грызли приятно хрустящие на зубах лесные орехи.
А время летело быстро…
И когда Володя и Ваня уже не были мальчиками, но ещё не стали и юношами, по планете ураганной волной понеслась революция, и поднялось тут такое, что перевернуло всю их прежнюю жизнь. Новые, необыкновенные слова и люди, рождающие их, быстро нашли путь к горячим сердцам ребят. Их желание ввязаться в борьбу оказалось сильнее привязанности к родному дому. Тайно размазывая по щекам непрошеные слёзы, всеми силами прогоняя от себя жалость к любимым, измученным каторжной жизнью матерям и маленьким, милым сестрёнкам, с небольшим красноармейским отрядом они покинули родной городок. Трудные походы навсегда спаяли дружбу бывших подростков.
А время всё шло и шло… Пролетела четверть века… Много воды утекло за эти годы; всё переменилось вокруг, лишь старая дружба осталась неизменной.
Когда фашистские войска тучей нависли над городом и нужно было решать, кому быть командиром партизанского отряда, то Володя, ставший к тому времени первым секретарём райкома, сказал просто, как само собой разумеющееся:
— Командиром отряда нужно быть Быстрову, а я пойду к нему комиссаром.
Предложение это никого не удивило, а представитель обкома партии сказал:
— По-моему, подходит. Характеры у обоих как раз для драки, да и друзья — водой не разольёшь, а это сейчас очень важно.
В землянке их было трое: командир, комиссар и капитан Николай Зорин, прибывший для выполнения задания из Москвы.
— Вот так-то, друзья мои, — начал Иван Иванович, — предстоит нам близкая разлука, а тебе, Николай, дальняя дорога.
— Что-то ты заговорил, как цыганка-гадалка, — невесело улыбнулся комиссар.
— Запою скоро!
— Что случилось?
— Ничего особенного.
— Не тяни!
— Николай уходит в город. Крылов согласился принять «племянника».
— Мы этого ждали!
— Верно. Кроме того, Таня у нас, а это даёт дополнительные гарантии. Между прочим, письмо её сыграло свою роль. Бургомистр перестал колебаться. Итак, Николай, готовься к встрече с «любимым дядей».
— Я почти готов, — серьёзно сказал Николай и встал, что делал всегда, когда мысли его были не совсем ясны. — Мне осталось додумать некоторые детали. На это мне нужно два дня.
— Подходит, — согласился Иван Иванович. — Теперь о главном… Сведения о провокаторе подтвердились. Да, да, не смотри на меня так, дружище.
— Но ты сам отрицал эту возможность.
— Отрицал. Теперь вынужден признать, что ошибался.
— Что изменилось?
— Демель проболтался на допросе Тихона — есть у них такая манера покрасоваться перед смертником. А Тихон от расстрела ушёл, вернее, его спасли полицаи из карательной роты.
— Вот так каратели! — громко воскликнул Николай, и по его тону нельзя было понять, то ли он восхищается этим сообщением, то ли осуждает его.
— Теперь, — задумчиво сказал комиссар, — многое, что раньше казалось необъяснимым, становится ясным. Тот страшный сентябрьский бой, о котором я не только говорить, но даже думать не могу без содрогания.
— А нужно думать и извлекать уроки.
— Уроки? — еле слышно вымолвил комиссар, и нельзя было понять, чего было больше в его голосе: горя или упрёка. — Уроки? — уже громче повторил он. — А как мы извлекли их, эти самые уроки? Нас побили, а мы по-прежнему недооцениваем врага, хлопаем ушами. Провалы явок в Богатом, Слепцах и Тарасовке. Неудачная попытка ликвидировать старосту в Дубках, трудно объяснимая, обидная гибель группы Сенькина в Лозовке…
— Всё это можно понять, если среди нас действует провокатор, — вставил командир.
— Теперь я в этом не сомневаюсь, — сказал комиссар и тут же горько пошутил: — Задний ум всегда был моим самым сильным местом.
— Ладно уж, Володя, не будем заниматься самоуничижением. Не поможет. Давай о деле. Если нам ясно, что в отряде провокатор, тогда Николаю до ликвидации этого типа в город идти нельзя.
— Не плохо бы придумать, чтобы он как-то сам себя обнаружил, — неуверенно предложил Николай.
— Как лозунг неплохо, — тряхнув головой, усмехнулся комиссар, — но нужно бы конкретнее.
— А может, применить метод исключения: взять список командного состава…
— Нет, Иван, — твёрдо перебил комиссар, — список составлять не будем. Люди у нас проверенные. Этак можно и себя в список внести! По-моему, нужно проверить тех, кто пришёл в отряд со стороны и после июля этого года.
— А почему после июля?
— Думаю, что засылка провокатора в отряд — дело Демеля, а отделение гестапо существует только с июля. Видимо, как раз в это время немецким командованием принято решение о постройке в нашем районе важного стратегического объекта.
— Логично, — согласился Иван Иванович. — Немцы умеют и любят готовиться к делам капитально.
— А что известно о самом объекте? — спросил Николай.
— Ничего. Нам, практически, ничего. Ты должен знать об этом больше.
— Командование только сообщило мне, что противником принято такое решение. А что будут строить, когда, назначение объекта — неизвестно. Я имею вполне конкретную задачу: проникнуть в полицейскую роту, сколотить боевую группу и ждать. В Москве считают, что объект этот нужно «зарубить на корню», то есть сорвать проектно-изыскательские работы: топо-геодезическую съёмку местности, взятие на анализ грунта. Не будет этих данных — невозможно сделать проект, а без проекта нельзя начать строительство.
— Всё верно, но вернёмся к провокатору. По-моему, нужно проверить нашего начальника штаба.
— Петрова?
— Да. Он единственный из командиров, попавший в отряд после июля.
Наступила долгая, тяжёлая пауза. Человек был назван, мысли получили определённое направление. И чем дольше думали они об этом человеке, тем больше находили в нём странностей и противоречий, на которые раньше не обращали внимания.
— Да, дела, — промолвил наконец командир и хитро посмотрел на Николая. — Что делать, как проверить человека и в то же время не обидеть его? Может, вас в спецшколе этому учили?
— Учить — не учили, а мысль у меня одна есть.
— Интересно!
Николай поднялся во весь рост.
Едва не подперев головой потолок землянки, он спокойно, медленно проговорил:
— Все в отряде знают, что я прибыл к вам из отряда товарища Романа. Скажем Петрову, что прибыл я с задачей согласовать встречу руководителей отрядов. И обговорим эту операцию в его присутствии. А чтобы было наверняка, пусть во мнимой встрече для координации действий двух отрядов примет участие товарищ из подпольного обкома.
— Приманка богатая, как думаешь, Володя?
— По-моему, хорошо! Тут, братцы мои, отлично всё можно обставить. Если они клюнут, то можно будет дать им заглотнуть приманку вместе с крючком: подготовиться хорошенько и всыпать фашистам по первое число. Как хотите, а мне это предложение очень нравится, — сказал комиссар таким категорическим тоном, будто его мнение кто-то оспаривал.
— Так, — вслух подумал Иван Иванович, — если Петров провокатор, он предупредит своих хозяев, а мы через Ивана Фёдоровича узнаем о их приготовлениях. За Петровым установим негласный надзор, но его попытке связаться с Демелем мешать не будем.
— Вань, ты гений!
— Не в этом дело, — не обидевшись, сказал Иван Иванович, — ну, а если всё-таки не он?
— Вот и получим ответ на этот вопрос.
Не спеша они продумали все возможные варианты предстоящей операции, строго и чётко распределили между собой обязанности и только после этого разошлись.
Смерть провокатору!
Майор Демель ни на минуту не сомневался в достоверности сведений о встрече руководителей партизанских отрядов. Донесения капитана Келлера, так удачно проникшего в отряд с документами капитана Петрова, всегда были своевременны и точны. И не удивительно — начальник штаба играл не последнюю скрипку во всех оперативных делах партизан.
Последнее донесение агента было самым значительным из всех, полученных Демелем в течение четырёх месяцев, которые Келлер находился в отряде. Возможность захвата руководящей партизанской верхушки открывала широкие перспективы для полного уничтожения партизан.
Руководителем операции назначили майора Шварца: его начальникам эта операция слишком трудной не представлялась. Злоязычный, остроумный группенфюрер, желая вселить в своего подчинённого бравый арийский дух, заявил, что он безгранично верит в ясный ум, тактическую зрелость, талант и счастливую звезду майора Шварца, и тут же приказал всех партизанских руководителей брать только живыми и немедленно отправлять прямо к нему.
Лестные слова шефа вскружили голову Шварцу. Он почти физически ощущал на своей широкой груди новенький, отливающий матовым блеском железный крест. Наташа, уже привыкшая к самодовольной напыщенности коменданта, всё же была удивлена.
— У вас приятные новости? — любезно спросила Наташа.
— Очень.
— Секрет?
— Да, но от вас у меня, вы же знаете, секретов нет.
Наташа сидела в кабинете коменданта за маленьким столом несколько впереди Шварца, так, что ему хорошо был виден тонкий профиль её лица, бледно-розовая мочка уха.
Ганс огромным усилием воли заставил себя отвести глаза от девушки, встал, подошёл к окну, устремив через стекло бессмысленный взгляд. Простояв так несколько секунд, — на большее его не хватило, — сказал:
— Наташа, вы очень опасны.
— Я?
— Да. Вы можете покорить любого мужчину.
— Не знаю… и зачем это? — ответила Наташа, кокетливо поведя тёмными глазами. — Я пойду замуж только за любимого.
— Браво, Наташа, браво! Но кто же этот счастливец?
— Не скажу, — потупилась Наташа, — это нескромно.
— Ну, пожалуйста.
— Нет!
— Но почему? Я ваш друг, не правда ли?
— Я не хочу и не могу быть вам только другом, — с увлажнившимися глазами произнесла Наташа и остановила на Шварце долгий, многозначительный взгляд.
— О-о-о! — удивлённо и радостно протянул он.
Глаза Наташи лихорадочно блестели, свет их должен был проникнуть в грубое солдатское сердце Шварца.
«Она уже влюблена в меня, как мартовская кошка, — цинично и самодовольно подумал он, — впрочем, ничего другого я не ожидал». И не смог сдержать себя — удовлетворённо ухмыльнулся и промурлыкал:
— Наташа, разрешите мне быть вашим рыцарем?
— О большем я не могла бы даже мечтать, — весело ответила она, — я была бы очень счастлива!
Шварц задохнулся от восторга: «Ещё одна, и какая!» В это время в кабинет
вошёл капитан Фогель и громко, по-солдатски доложил:
— Господин майор, капитан Фогель по вашему приказанию прибыл. Офицеры занялись уточнением деталей операции против партизан.
Наташа, несмотря на особое расположение и доверие со стороны коменданта, под благовидным предлогом была отправлена в приёмную.
С белым, всегда чисто выбритым лицом, Иван Иванович выглядел намного моложе своих лет. Твёрдые губы, высокий гладкий лоб делали его лицо мужественным и благородным. Добрый и отзывчивый по натуре, в делах он был строг и неотступен. Присутствие в отряде агента гестапо выбило его из колеи. Виновным во всех этих неприятностях он считал только себя. Теперь казалось, что легко и просто было предупредить деятельность врага, распознать раньше, сразу же, как только он появился в отряде. «Задним умом силён», — тоскливо вспомнил Иван Иванович шутку комиссара, и эти мысли терзали душу; было мучительно горько и стыдно вспоминать об обидных провалах, погибших товарищах, не давало покоя чувство неисправимой вины перед ними, сознание своей ограниченности, бездарности…
— О чём задумался? — спросил его комиссар.
— Да вот, прикидываю.
— Прикинул?
— Так, кое-что.
— Как получается?
— Плохо.
— Что, тяжела шапка Мономаха?
— Очень, — согласился Иван Иванович и благодарно подумал: «Всё понимает, сам мучается».
— Не терзай себя — это не поможет. Видимо, ни в каком деле ошибок избежать нельзя. А они приносят опыт, а из опыта — рождается мудрость.
— Значит, мудрость порождается нашей глупостью?
— Эка, закрутил.
— Да… Однако одно без другого существовать не может.
В просторной землянке их было четверо. Командир сидел за широким полированным столом, бог весть каким чудом оказавшимся в лесу. По бокам вполоборота к нему расположились комиссар и начальник штаба, за спиной которого пристроился Николай. Чтобы унять волнение, Иван Иванович начал потирать руки, взглянул мимо капитана Петрова на Николая и, будто удостоверившись в правильности расстановки сил, делая вид, что всё происходящее его занимает не очень, тихо и медленно заговорил:
— Занимательные вещи происходят у нас в отряде. Представьте себе: немцы каким-то чудом узнали о нашем свидании с соседями на хуторе Медвежьем. Как это вам нравится?
— Не очень, — сказал комиссар.
— Странно, — промолвил Николай.
Начальник штаба промолчал.
— Знают они всё: место, время и состав участников встречи.
— Очень странно, — сказал комиссар.
Командир закурил сигарету, с шумом выдохнул небольшой, но густой клубок. Дым поднялся к самому потолку, расползся в облачко и застыл на мгновение, будто раздумывая, что делать дальше.
— Нет, что ж тут странного? У них отлично работает разведка, — сказал командир и посмотрел на начальника штаба. — А как ты думаешь?
— Да, конечно, — торопливо и как-то угодливо ответил тот; всем показалось, что он смутился. Но может быть, только показалось?..
И Иван Иванович продолжал:
— Они спешно готовят полицейскую роту, комендантский взвод, одним словом, все свои наличные силы. От помощи отказались — так уверены в успехе! Поражает меня всё-таки одно: откуда они всё до тонкостей знают о нас?
— Чему ты удивляешься, мы ведь тоже про них кое-что знаем, — с лёгкой иронией возразил комиссар.
— И очень многое, — с готовностью поддержал комиссара начальник штаба. Он сидел на краю стула, перегнувшись в поясе немного вперёд. И во всей его фигуре, похожей на приготовившуюся к полёту большую птицу, в опущенных под стол руках, в его готовности подхватить и поддержать любую мысль и слово присутствующих — во всём чувствовалось огромное нервное напряжение.
— Встречу придётся отменить, я как представитель отряда Романа настаиваю на этом, — сказал Николай.
— Поздно, — с сожалением сказал комиссар, — ваши в пути, а представитель обкома уже прибыл в условное место.
— Я перехвачу наших… Дорогу знаю хорошо.
— А может, — бой! — сверкнув глазами, сказал командир.
— Сил маловато, — ответил комиссар.
— А что думает начальник штаба? — спросил Иван Иванович, и три пары глаз внимательно уставились на капитана Петрова.
— У них больше солдат, — лаконично ответил он и сделал вид, что его очень заинтересовала самодельная деревянная пепельница, стоящая на столе.
— Да, но мы нападём неожиданно.
— Это так, конечно, но не лучше ли не рисковать людьми, а просто перенести место встречи?
— А на хуторе фрицам устроить хорошую баню, — поддержал Николай.
И опять три пары глаз посмотрели на Петрова, — он тревожно молчал.
Разговор продолжил командир:
— Затянули мы с этой встречей. Носимся, как кошка с рыбой: где положить, как съесть… Нужно принимать решение.
— По-моему, предложения Петрова и Николая разумны, в них есть рациональное зерно.
— Далась тебе твоя пшеница, — с досадой проговорил командир. — А, по существу, у нас нет другого выхода. Итак, место встречи переносим, карателям устраиваем засаду. Решено?
— Решено, — ответил комиссар.
— Согласен, — проговорил Николай.
— Тогда за дело! — сказал командир.
— Подожди немного, — опять заговорил комиссар, — остаётся один недоуменный вопрос: как немцы узнали о предстоящей встрече, ведь никто, кроме нас четверых, об этом не знал.
Напряжение висит в воздухе, все молчат. Трое — по заранее разработанному плану, а четвёртый… И тут он допускает ошибку:
— А почему нельзя предположить, что информация до немцев дошла от отряда Романа? Кто знает, может быть, они менее осторожны, чем мы.
— Это логично. Действительно, почему мы должны подозревать своих? — спросил комиссар.
Но вопрос уже не имел смысла. Троим всё было ясно, они поняли, что наступает развязка, а четвёртый, наоборот, стал успокаиваться. Он с облегчением вздохнул, и дерзкая, еле заметная улыбка заиграла на его лице.
«Начинается игра в одни ворота», — подумал Николай и ощутил так хорошо знакомый ему прилив сил, какое-то особое спокойствие, ясность мышления, которые всегда приходили к нему в момент опасности.
А начальник штаба пытался развить успех, тонким ударом увести в сторону от опасного разговора. Недаром же он под руководством самых опытных наставников закалял волю, учился владеть собой, подвергая себя различным испытаниям, постигал сложное искусство лавировать в любых непредвиденных обстоятельствах. Только бы протянуть ещё немного, выйти из этой землянки, а там — ищи ветра в поле…
— Между прочим, — деловито сказал он, — необходимо проверить Тарасова. Уж очень странно он ушёл из-под расстрела.
— А как он ушёл? — спросил комиссар и серьёзно посмотрел на командира, который предостерегающе, незаметно для других приложил палец к губам. — Я что-то этого не слышал.
— Я ещё не знаю, как, — явно растерявшись, произнёс начальник штаба, — но сам факт побега уже говорит о многом. В гестапо великие мастера устраивать такие фокусы. Не исключено, что он завербован.
— Тарасов? — возмутился Иван Иванович. — Мы его хорошо знаем, это золотой человек!
— Золото тоже иногда оказывается медью. В нашем деле страховка необходима, мы воюем с сильным и умным противником.
— Да, не всё то золото, что блестит, — ехидно проговорил комиссар, — но золото всегда останется самим собой, не превратится в медь. А людей проверять надо, в том числе и Тарасова.
— Вот, вот, — с готовностью подхватил начальник штаба, — проверка не помешает. Как говорил Ленин: доверяй и проверяй.
— А что ещё вы нам можете рассказать из Ленина? — серьёзно спросил комиссар.
Провокатор умолк, теряясь в догадках. Он не знал, как истолковать этот вопрос, заданный с явной иронией. От страшной догадки защемило сердце. «Это подвох, им всё известно». Он испуганно отшатнулся от стола, побледнел и, чувствуя невероятную слабость в ногах, понизил голос:
— Вы шутите, Владимир Васильевич?
— Какие уж тут шутки! — сказал командир и строго спросил: — О каком это ты Иванове нам говорил?
Это была ловушка.
— Об Иванове? — растерялся Петров, в голосе которого теперь не слышалось былой твёрдости и напора.
— Подожди, Ваня, — Иванов, Тарасов, Петров, Сидоров — я сам без конца путаю фамилии, — опять вмешался комиссар.
— И я не понимаю тона, — почувствовав поддержку, начал провокатор, — со мной говорят таким тоном, будто мне не доверяют. По-моему, я не раз доказал делом…
«Вот уж действительно — утопающий за соломинку хватается. Господи, что они тянут!» — напряжённо подумал Николай, а командир, словно угадав его мысли, резко сказал:
— Довольно! Я не знаю, как вас там по имени-отчеству, но то, что вы не Петров, — это мне ясно. Как ваша настоящая фамилия?
— О чём это вы, Иван Иванович? Нельзя же из-за мелочи подозревать человека чуть ли не в измене; человека, который не раз доказал свою преданность.
«Выдержка у тебя всё-таки есть, — с профессиональным интересом подумал Николай, — но выкрутиться тебе уже не удастся. Это не больше, как хорошая мина при плохой игре».
— Давайте без лишней лирики. Откуда взяли, что к нам в отряд прибыл Иванов? Молчите? Хорошо, я отвечу за вас: от вашего шефа — майора Демеля.
— Что?
— То, что слышал! Иванов казнён советскими патриотами, но Демель уверен, что он сбежал к партизанам. — Рука Николая потянулась ж рукоятке пистолета, приятно ощутила холодноватый металл.
— Иван Иванович, я ничего не говорил об Иванове, речь шла только о Тарасове!
— А почему вас это так беспокоит?
— Потому что вы близки к непоправимой ошибке, грязной несправедливости!
— Ничего, я не боюсь ответственности.
— Но мне-то от этого легче не будет, — с решимостью отчаяния выкрикнул начальник штаба.
— Ладно, хватит кривляться! Слушай, ты, как тебя там? Никакой встречи не будет и быть не должно! Всё это специально придумано нами, чтобы проверить тебя, провокатор!
— Как это? — глупо промолвил он.
— Вот так!
Наступила тяжёлая пауза. Николай внимательно следил за руками немца. Вот правая медленно двинулась к оружию, но тут же быстро вернулась на место. Нужно ещё расстегнуть кобуру, вытащить пистолет, взвести курок — на это уйдёт целая вечность.
— Что же ты молчишь, не можешь ничего придумать в своё оправдание? — уже не сдерживая злость, спросил комиссар.
Напряжение достигло наивысшей точки.
— Руки на стол! — тихо сказал Иван Иванович. — И без глупых эмоций, если сможешь, конечно.
Немец резко вскочил и рванул пистолет, но Николай, не спускавший с него глаз, вырос у него за спиной и сильно ударил по крепкой шее…
Оглушённый фашист, громко икнув, беспомощно запрокинул голову и медленно сполз по стулу на пол.
Допрос желаемых результатов не дал. Под тяжестью неопровержимых улик провокатор лишь назвал своё настоящее имя — другие сведения сообщить категорически отказался. Партизанский суд приговорил его к расстрелу. Учитывая обстановку, приговор был приведён в исполнение немедленно.
Уже третий день тётя Даша, приходя с работы, усаживалась на скамейке возле своего дома с плетёной корзиной, наполненной жареными семечками.
Торговля шла бойко.
Тётя Даша умела для каждого покупателя найти тёплые слова, а когда подходили полицаи из карательной роты капитана Топоркова, она каждому приветливо говорила:
— Здравствуй, красавец, как здоровье?
Это был пароль.
И, высыпая семечки из гранёного стакана в оттопыренный карман шинели или брюк, она терпеливо ждала ответа. А они были разными:
— Спасибо, мамаша, всё в порядке!
— Спасибо на добром слове!
— Пока не жалуюсь!
Или сквозь смех:
— Как у быка!
Но всё это было не то.
И вот, наконец, в пятницу вечером, когда она уже собиралась уходить домой, подошли двое. Один, совсем молодой, с красивым живым лицом, на её вопрос, задохнувшись от радости и неожиданности, ответил:
— Спасибо, на здоровье не жалуюсь.
Это был отзыв.
Тётя Даша растерянно молчала: второй полицай невозмутимо ждал, что будет дальше.
Виктор понял её замешательство и, толкнув Сергея локтем, сказал:
— Не беспокойтесь, это тоже наш.
— Это другое дело, — сразу же успокоилась тётя Даша и торопливо заговорила: — В воскресенье ваша рота выступит вместе с немцами на партизан. Передайте старшему: приказано сделать так, чтобы ваши товарищи в этот бой не попали. Наряд или что ещё придумаете. А уж если выхода нет, тогда — сдаваться партизанам. Наши знают — стрелять не будут. Но лучше остаться в городе, вы здесь нужнее. Обо мне только вы двое и должны знать, больше никому ни слова! Понятно? Вот и всё.
— Понятно, — ответил Сергей.
Тётя Даша внимательно посмотрела в их лица и совсем тихо спросила:
— Это вы Тихона от смерти спасли?
— Мы.
— Сразу видно, хорошие вы ребята, — взволнованно сказала она и засуетилась: — А теперь идите, а то долго загостевались. Семечек-то насыплю. Хороши!
Виктор рассматривал в полумраке усталое лицо тёти Даши, и оно показалось ему милым и знакомым.
— Родная моя, — еле слышно прошептал он и не мог ничего больше вымолвить — комок подкатился к горлу.
— Витька, опять заносит! Вот барышня истеричная, божий одуванчик! — И, обращаясь к тёте Даше, добавил: — Прости, мать, исстрадались мы в этих собачьих шкурах. Спасибо за доверие, за всё… Всё сделаем, как приказано. Передайте командиру, что приказ о готовности мы уже получили. Выступать будем всей ротой. Это будет немногим больше ста человек. Наших людей в роте пока не так уж много, сволочей хватает. Это нужно иметь в виду.
— Спасибо. Всё передадим, как есть. Берегите себя, сыночки!
Бой
Стоит поздняя золотая осень. Светает. Вот-вот покажется солнце. В густых ветвях векового дуба, на самом верху, укрылся лёгкий утренний туман — медленно тающая молочная кисея.
Можно долго, долго смотреть в светло-голубой безбрежный океан, забыть обо всём — так хорошо вокруг. А солнце от горизонта стремится вверх, растворяя прилипшее к небосклону жалкое, грязно-фиолетовое облако.
Где-то глубоко в груди стучит сердце. Оно немыслимо без движения. Оно по своей природной сущности не может быть равнодушным. Нужно жить, как сердце, ни одной минуты не теряя даром! Для жизни, для себя, для людей! Хоть что-то оставить людям! Хоть немного помочь им!..
— Тихон!
— А…
— Что в небо уставился? Галка в рот капнет.
— Промажет.
— Смотри!
— А тебе что, Пётр, потрепаться охота?
— Где уж там — тебя дожидаемся.
— Это другое дело.
Вокруг них собирается толпа. Петя — совсем ещё молодой, высокий, светловолосый парень, с задубелым от непогоды лицом — друг и боевой товарищ Тихона, известного балагура, любимца всего отряда.
— А у самого гайка слаба? — для приличия спрашивает Тихон.
— Я трепач рядовой, необученный, а ты, почитай, по нашим лесным масштабам на профессора потянешь!
У Тихона в хитрых глазах запрыгали шустрые чёртики. Оценивающим взглядом он обвёл аудиторию и, удовлетворённый осмотром, лениво начал:
— Пошёл Гитлер к чёрту помощи просить. «Чепуха, — говорит, — получается, большевики ни в тебя, ни в бога не верят, а колошматят нас со всех сторон». — «Это точно, колотят вас», — отвечает чёрт. «А в чём причина?» — спрашивает Гитлер. «Причина нам, чертям, известна». — «В чём она?» — завопил Гитлер. «Сам думать должен», — постукал чёрт Гитлера по голове копытом. «Скажи», — заплакал Гитлер. «Нет, не скажу, а помочь могу». — «Как?» — обрадовался Гитлер. «Моё дело, а только должен ты мне за это душу свою фюрерскую отдать». — «С большим удовольствием, — сразу же согласился Гитлер, — хоть сейчас!» — «Именно сейчас», — сказал чёрт и вытряс из Гитлера душу. «Ох, — вздохнул фюрер, — как легко стало». Повертел чёрт гитлеровскую душу, осмотрел со всех сторон и возвратил хозяину. «Не пойдёт!» — «Почему это?!» — в страхе закричал Гитлер. «Грязная очень, даже мне на неё смотреть страшно! Воюй без нас!» — «Побьют они меня!» — тихо сказал Гитлер и заревел. «Обязательно», — согласился чёрт, махнул хвостом у фюрера перед носом и улетел в ад заниматься более важными делами.
— Улетел? — спросил Пётр.
— Улетел, — без улыбки подтвердил Тихон. — Даже чертям от Гитлера тошно стало!
Дружный смех раскатился по опушке. Громче всех смеялся Пётр. Любил он, когда шутил Тихон, весело и беззлобно. С высокой ели сорвалась перепуганная сорока. Обиделась, стрельнула бусинками-глазами, повертела хвостом и улетела в лесную чащу.
В партизанском лагере ни свет ни заря уже царит суматоха. Идут последние приготовления к походу. Всё проверено, подогнано. Ездовые запрягают лошадей, ещё раз осматривают пароконные военные брички и простые крестьянские телеги. Коноводы седлают коней, пыхтя подтягивают подпруги, подгоняют стремена, накидывают уздечки.
Часть партизан ещё вчера убыла к деревушке Медведевке, где готовилась засада оккупантам. Ускакали конные разведчики, выполняя роль передового подвижного дозора. В обе стороны по пути следования основных сил отряда по заранее намеченным маршрутам выступили пешие боковые дозоры.
Скоро будет дана команда, и основные силы партизанского отряда выступят в поход…
Вдали слышится завывающий гул самолётов.
— Фашист! — говорит Пётр. — Ох, давали они нам прикурить в сорок первом!
— Было, — соглашается Тихон. — Было да сплыло! Отбоговались! Наши хвосты им накрутили — шёлковые стали! А то, бывало, подлетают тучей к нашим позициям, поют: «Везу, везу, везу…» — «Кому, кому, кому?» — без толку гавкают наши зенитки. «Вам! Вам! Вам!» — отвечают рвущиеся бомбы. Появляются наши ястребки и плачут на виражах: «Ой, что наделали! Ой, что наделали!»
— Не то время, — дождавшись, когда затих смех, сказал пожилой партизан. — А ты, Тишка, брось вспоминать о нашем лихе. Барабан с дыркой! Бах, трах, тарарах! А толку — чуть! Ты людям дух поднимай, оно полезней будет.
— А я что? — обиделся Тихон.
— А то, что нечего над собой смеяться!
— А почему?
— А потому!
— Дядя Вася, что ты на меня давишь?
— Не люблю вредной трепотни.
— А что здесь вредного?
— Всё! — ответил дядя Вася, снял лохматую шапку, почесал всей пятернёй лысый затылок и широко, равнодушно зевнул, показывая всем своим видом, что дальнейший разговор — только трата времени.
— Ну и здорово ты объяснил, как по нотам. Тебе, дядя Вася, по твоим способностям лекции в техникуме читать, а ты всё скромничаешь, возле лошадиных хвостов околачиваешься.
Дядя Вася не обиделся, добродушно засмеялся, сильно ударил Тихона по плечу:
— Чертяка ты, Тишка! Ладно, давай соври ещё чего-нибудь.
И Тихон продолжает:
— Врать больше не буду, а быль — пожалуйста. Работал в нашем цехе мастер. Был он уже почтенных лет и лысый, как блин. Волос на голове — от уха до уха, по задней образующей тонкой посадкой. По-хорошему сказать, всего на полторы драки осталось. Собрал он нас как-то после смены и начал ругать на чём свет стоит за низкую культуру производства — за беспорядок на рабочих местах. «Заглянул я, — говорит, — к Тихону Тарасову в верстак, а там, мать моя, так, этак и растак, микрометры, штангенциркули вместе со ржавыми драчёвыми напильниками и разбитыми молотками валяются. У меня волосы дыбом встали!» — И для большей убедительности похлопал себя по голой, как арбуз, голове. Задохнулись мы от смеха.
— Это ты к чему? — перебил дядя Вася.
— Для науки. Чтобы некоторые меньше по чужим подушкам промышляли, берегли бы шевелюру для мирного времени. Между прочим, должен сказать — о присутствующих не говорят.
Весело хохочут партизаны.
А самому Тихону не смешно: будто ниточка порвётся в груди — и сразу станет грустно и тоскливо. Он освобождён от похода по состоянию здоровья, но не только это беспокоит неугомонного Тихона. После неудачного покушения на коменданта и приключений в гестапо, едва не стоивших ему жизни, он стал серьёзнее. Часто ему хотелось побыть одному, он долго над чем-то задумывался, уходил в себя. Удивлялись друзья и знакомые, но никто не мог добиться от него правды. И только Пётр вчера был совсем рядом с истиной, когда, пытаясь расшевелить Тихона, не задумываясь сказанул:
— Что с тобой, влюбился ты, что ли?
Хорошо, что никто не видел, как густо покраснел Тихон, этот насмешник и ярый женоненавистник.
Как навязчивое видение, преследовал его образ хрупкой, бледной девушки. Она по-прежнему казалась ему неземной, нереальной и такой прекрасной, что у него сладко сжималось сердце, он забыл о всех своих болячках, горестях и невзгодах. Медленно заживали кровоподтёки, болела голова, не слушалась нижняя губа, — но все эти неприятности не могли отвлечь Тихона от сладких грёз. Долгими ночами он мысленно смотрел в её большие грустные глаза, нежно брал её тонкую руку и шептал что-то ласковое, сокровенное. Потом говорил бодро — хотел, чтобы она улыбнулась, но она была серьёзна, улыбку на её лице он представить не мог.
Усилием воли Тихону удавалось иногда подавлять прекрасное забытьё, избавляться от видения, и он возвращался к действительности, становился прежним Тихоном — острым, весёлым и шумным. Все эти дни он пролежал в медицинском пункте под наблюдением врача. И сейчас на улицу вышел самовольно в надежде ещё раз попробовать уговорить Ивана Ивановича, чтобы он взял его в боевой поход.
Из штабной землянки, с интересом глядя на весёлую компанию, вышли командир с комиссаром. И чем ближе подходили начальники, тем быстрее угасал смех. Тихон, вытянувшись в струну, молчал, показывая всем своим видом, что он годен к строевой службе и может вот прямо сейчас выполнить любую команду.
— Что тянешься? — насмешливо спросил Иван Иванович.
— Товарищ командир, — доложил Тихон, — разрешите мне вместе со всеми.
Смех затих окончательно, всё внимание партизан переключилось на командира отряда.
— Нет, врач запрещает.
— Иван Иванович, ведь Матвей Борисович-то наш — известный перестраховщик. Я совсем здоров. Целую неделю в постели провалялся.
— А сегодня встал самовольно, — в тон Тихону продолжил комиссар и спросил: — А в зеркало ты сегодня смотрелся?
— Не выдержало.
— Как это?
— Зеркало, говорю, лопнуло.
— Вот видишь!
— Подумаешь, физиономия! Не жениться ведь собираюсь, товарищ командир.
— А нога, рука?
— Всё на месте, — упрямо повторил Тихон.
— Вот и хорошо, — примирительно сказал Иван Иванович, — значит, останешься в лагере. Тут тоже боеспособные люди нужны. И смотри, чтобы всё было в порядке, как вчера договорились.
— Товарищ командир…
— А чтобы ты не скучал — вот тебе помощник. Тоже в бой рвётся.
Лицо Тихона исказилось, будто он против своей воли тронул языком больной зуб, он даже не взглянул на своего товарища по несчастью.
Громко прозвучала команда:
— Повзводно, в походную колонну, становись!
— Пойдём отсюда, — обратился Тихон к другу-горемыке, — всё равно не возьмут. Чего зря нервы трепать! — И вдруг только теперь к великому своему изумлению заметил, что перед ним — девушка. Он опешил, но замешательство длилось недолго. Уже в следующее мгновение Тихон лихо сдвинул шапку на затылок и начал бесцеремонно разглядывать незнакомку. Модное оранжевое пальто не гармонировало со старой, обгоревшей у лесного костра солдатской шапкой и тем более — с огромными кирзовыми сапогами, из широких голенищ которых торчали тонкие ноги.
Но уже через секунду Тихон забыл о внешнем виде девушки — он не мог оторваться от её лица. Это была его мечта, таинственная девушка-пианистка. Она повернула голову и уставила на Тихона свои голубые глаза.
Пауза затянулась.
Но вот в глазах девушки Тихон уловил жалость. Странные, противоречивые чувства овладели им. И как тогда, в гестапо, чувствуя неловкость из-за своей несуразной внешности, он не смог удержаться от бессмысленно-иронической ухмылки.
— Кто это вас так? — прервала неловкое молчание девушка.
— В гестапо, — глухо произнёс он и попытался улыбнуться, но мышцы лица не послушались, и улыбки не получилось. Неожиданно он облегчённо вздохнул, так глубоко и громко, будто стог сена сбросил с плеч. Удивляясь ясности и остроте нахлынувших на него чувств, он с какой-то непонятной ему, необычайной лёгкостью рассказал обо всём, что произошло с ним за последние дни.
Девушка внимательно слушала, и глаза её в это время выражали нечто большее, чем простое сочувствие и любопытство. Тихон почувствовал это, и сердце его защемило больно и сладко.
В лесу стало совсем светло. Тихон улыбнулся девушке как мог — с усилием, криво, а она ответила ему молодо, задорно, но он успел заметить в её глазах какую-то жалкую, быстро угаснувшую искру. И вдруг лицо девушки приняло робкое выражение. Он снова улыбнулся. И она опять ответила ему как-то совершенно по-детски, торопливо и мягко, но уже без задора.
— Как вас зовут? — неожиданно для себя и Тихона спросила она.
— Тихон, — охотно ответил он.
— Тарасов? — глаза её стали круглыми. — Я слышала про вас.
— И я вас знаю. Вас зовут Таней, вы — дочь бургомистра.
— Ну и что? — поджала она губы.
— Ничего, просто я про вас всё до тонкостей знаю!
— Что? — вся вспыхнув, резко спросила она.
— А всё! — с восторгом выпалил он. — Где вы живёте, про музыку и…
— Не нужно, — умоляюще перебила она его и окинула неприязненным взглядом. Из глаз, помимо её желания, потекли слёзы. Кусая губы, Таня еле сдерживала рыдание. Она расстегнула пальто, подставила лицо ветру, но воздуха всё равно не хватало.
Тихон растерялся.
— Таня, Танечка! Перестань плакать. Объясни, в чём дело?
А ей тепло этих слов показалось неестественным и неправдоподобным. «Неужели все уже знают о моём позоре?!» — И она грубо ответила:
— Нечего возле меня вертеться!
Тихон мгновенно обиделся, а она стояла оцепеневшая, неприступная, похожая на взъерошенного воробья.
— Таня?
— Не нужно!
— Что случилось?
— Не твоё дело!
— Танечка!
Она молчала.
— Смотри, — чтобы хоть что-то сказать и отвлечь её от мрачных мыслей, вымолвил он, показав пальцем на большую стаю ворон.
Она ничего не ответила, ушла в землянку и унесла с собой всё — доброту ясного утра, синеву глаз, восторженность и радость.
В глухую лесную деревушку Медведевку в пятницу днём приехали партизаны. Их было немного, и они сразу разбрелись по деревушке, не забыв ни одной хаты. А через пару часов дружно заскрипели крестьянские подводы, нагружённые ребятишками и кое-каким нехитрым деревенским скарбом. Лихие, лет двенадцати-четырнадцати извозных дел мастера, весело гикая и посвистывая, подгоняли своих вислоухих пузатых лошадёнок в лес, на дальнюю, глухую поляну. Хозяйственные медведевские женщины прихватили на всякий случай своих кормилиц, и поэтому обоз, кроме делового крика и воинственного вопля увозимых от греха подальше ребят, сопровождался мычанием коров, блеянием коз и овец, бестолковым кудахтаньем кур.
А вечером в осиротевшей, притихшей деревушке появился взвод партизан под командой Потапова. С ним приехал и Николай. Партизаны выставили дозоры вокруг деревни, по-хозяйски обосновались в школе и двух соседних домах. Вскоре из чердачных окон на пустынную площадь, улицу и лес уставились тупорылые «максимы», остроносые стволы ручных пулемётов, автоматы и винтовки. Каждый боец имел своё место.
В это время партизанский отряд неторопливо подвигался к Медведевке. Командир с комиссаром ехали верхом рядом.
Густой, липкий чернозём смачно чвакал под копытами, в стороны разлетались большие жирные брызги.
— О чём задумался? — весело спросил комиссар.
— Совестью мучаюсь: напрасно мы разрешили Николаю участвовать в операции. Зачем этот риск?
— Последнее дело: решить, сделать, а потом по-бабьи охать да ахать.
Но Иван Иванович не обиделся на резкость друга.
— На поводу пошли, уговорил, как детей!
— Ещё что?
— Ещё не совсем понятно, почему Шварца мы должны приберечь, оставить живым и на свободе?
— Неужели не понимаешь?
— Так точно.
— Какой же дурак будет убивать на мясо дойную корову? Убьём Шварца — поставят другого, положение Наташи усложнится.
— Это понятно.
— А в чём же тогда дело?
— Надоел он мне!
— Это в тебе чувства говорят, а ты разум подключи.
— Убедил, — заражаясь оптимизмом друга, сказал Иван Иванович и слегка огрел жеребца плёткой. Свист рванул вперёд и понёс по обочине дороги, загребая и разбрасывая задними ногами крупные комья земли.
Утром деревню окружили основные силы партизан, разбитые на две равные группы: одна из них вместе с командиром расположилась на лесной горе, другая, во главе с комиссаром, залегла за узенькой, мелководной речкой в густом кустарнике.
Ясное солнечное утро сменил дождливый, пасмурный день, но это не могло испортить приподнятого настроения партизан. Вчера было принято официальное сообщение об окружении и начале уничтожения громадной фашистской армии под Сталинградом. В Кавказских горах гитлеровские дивизии, неся большие потери, безуспешно топтались на крутых перевалах, и черноморское побережье Кавказа так и осталось для них розовой мечтой.
Красная Армия начала своё могучее наступление…
Шварц не сомневался в полном успехе предприятия по захвату партизанских вожаков. Главная ставка в его плане делалась на неожиданность, быстроту и большое превосходство в силе.
Фашисты — всего около ста пятидесяти человек — двинулись к Медведевке на грузовых машинах с двух сторон. Километрах в пяти от деревни колонны были обстреляны жидким оружейным огнём, который после первого же организованного залпа гитлеровцев прекратился. «Всё правильно, они такой силы не ожидали», — подумал Шварц. В это же время серая, невзрачная личность приблизилась к остановившейся машине и елейным голоском проговорила:
— Дальше всё свободно. Желаю успеха, господин майор.
— Отлично! — самодовольно ответил Шварц и приказал дать полный газ.
Дорога до деревни была пустынна. Только уже на самой окраине капитан Фогель, ехавший на первой машине, увидел седого старика в старой, рваной шубе и заячьем треухе. Дед пас гусей и, часто размахивая хворостиной, проклинал вслух своих горластых подопечных.
— Эй, дед! — крикнул Фогель, высунувшись из кабины.
— Чаво, родной? — с готовностью ответил тот, мелкой трусцой подбежал к машине и приложил руку к уху.
— Ответь мне, дед, кто в деревне есть?
— Народу нету. Почитай, только я да гуси.
— Скажи, дед, а кто сейчас в школе есть?
— Кто его знает? Приехали недавно какие-то. Пьянствуют, шумят. Может, бандиты. С другой стороны поглядеть — на начальников смахивают: в ремнях, с пистолетами.
— Стоп! Много их?
— Кого?
— Начальников этих.
— Полно! Как у дурака махорки.
— Что это значит — «полно»?
— Ну, много.
— Сколько?
— Десяток да хлопцев с дюжину.
— Что есть «дюжина»?
— Двенадцать душ, не боле!
— Спасибо, дед, сейчас мы их будем ловить, ваших начальников.
— Какие они наши? Нам начальство ни к чаму. Всё равно что попу гармонь.
Дед что-то ещё кричал, но Фогель его уже не слышал. По команде Шварца вверх взлетела зелёная ракета, и в деревушку, рыча моторами, с двух сторон рванулись машины с гитлеровцами. Уверенные в безнаказанности, они выпрыгивали из машин и без опаски окружали школу.
Партизаны молчали.
— Не стрелять! — громко выкрикнул майор Шварц. — Брать всех живыми!
Вскоре школа была оцеплена полностью. Всё шло по заранее разработанному плану. Шварц, как борзая перед травлей зайца, стоял на широкой поляне в ста метрах от школы и прислушивался. Его, который так любил тишину и порядок, теперь как раз смущала именно тишина.
Деревушка будто вымерла.
Шварц что-то тихо сказал Фогелю, и тот, коверкая русский язык, громко крикнул:
— Эй, партизаны, выходи! Сопротивление бесполезно! Сдавайте оружие, вам будет сохранена жизнь!
Из школы хорошо было видно лицо фашиста.
— А ложки с собой брать? — смешливо выкрикнул Потапов. Раздался дружный смех.
— Что он сказал? — нервно спросил Шварц Фогеля.
— Я не разобрал.
— А какие мы имеем гарантии? — до неузнаваемости изменив голос, театральным, клоунским дискантом крикнул Николай.
Фогель снисходительно улыбнулся и объяснил:
— Вам будет сохранена жизнь, обеспечены хорошие условия и питание.
— Всем? — спросил Николай.
— Конечно!
— А коммунистам?
Этого вопроса Фогель не ожидал, он вопросительно посмотрел на шефа. Шварц утвердительно кивнул.
— И коммунистам!
— Всё-таки, что же с нами будет?
— Обещай всё что угодно, — тихо сказал Шварц Фогелю, — хоть райскую жизнь. А рай, как известно, на небесах!
Шварц был очень доволен своим остроумием и пожалел, что рядом с ним не было Наташи. Уверенный в благополучном исходе операции, он хотел взять переводчицу с собой, как на весёлую прогулку, но она под благовидным предлогом от поездки отказалась.
А в школе опять было тихо — там ждали ответа.
— Всем будет сохранена жизнь! — повторил Фогель.
— Эти сказки мы уже слышали, заладил, как попугай! Я тебя про гарантии спрашиваю!
— Слово немецкого офицера! — вмешался Шварц.
— Это пустой звук! — раздался из школы насмешливый голос.
— Я офицер великой Германии!
— И что?
— Я гарантирую вам хорошее отношение, хорошее питание…
— Где? На скотном дворе?
— Я отвечаю за свои слова!
— Старо! Ни за что ты не отвечаешь! Ты бандит, босяк, висельник и проходимец!
Шварц онемел от ярости: свидетелями его позора были все немецкие солдаты.
— Кончай! — с бешенством крикнул он Фогелю.
— Выходи! — завопил тот.
— Дурак ты, пень неотёсанный, глиста заспиртованная! — весело и громко крикнул Потапов и сдобрил своё выступление такими непечатными солёностями, что в школе раздался взрыв смеха.
— Что он сказал? — удивлённо спросил Шварц. — Почему они смеются?
— Кажется, они посходили с ума, — со злостью прорычал Фогель и изумлённо переглянулся со Шварцем. — На что они надеются?
— Одурели от страха, — озираясь ответил майор.
— Эй, выходи по одному! — опять крикнул Фогель, ещё громче, чем в первый раз, и поднялся от напряжения на носки.
— Сейчас! — потешно ответил Потапов и подмигнул Николаю, который тщательно прицелился в немца.
— Выходи!
Тишину пронизал одиночный винтовочный выстрел.
Фогель не успел опуститься с носков на полную ступню, нелепо взмахнул руками, как подкошенный, упал на землю.
И опять на мгновение стало тихо.
— Вперёд! — яростно скомандовал ошарашенный Шварц.
— Брать живыми, не стрелять!
Кольцо вокруг школы стало медленно сужаться.
В школе стояла мёртвая тишина.
— Никуда не денутся. Скоро всё будет кончено, — успокаивая себя, пробормотал Шварц.
Его последние слова были пророческими.
Вдруг все — и русские, и немцы — увидели красную ракету. Она взметнулась огненной змейкой из-за лесного пригорка, за спиной фашистской цепи, и, повиснув на какой-то миг в высоте, с лёгким шумом рассыпалась на мелкие искры. И ещё не успели погаснуть они, как воздух разорвал дружный партизанский залп. Тишина раскололась пополам, а потом начала дробиться на мелкие части. Звонкие выстрелы горохом рассыпались по лесной чаще. Деловито затарахтели станковые и ручные пулемёты, зарокотали длинные очереди автоматов, сухо щёлкали винтовки, ухали взрывы ручных гранат. И весь этот шквал огня обрушился неожиданно на карателей. Они заметались по поляне, но бежать было некуда. Пули, как рой растревоженных, обезумевших пчёл, летели в воздухе, неся фашистам смерть. Густой предсмертный крик висел над деревней.
Оставив перед школой много убитых и раненых, немцы и полицаи бросились по дороге в обе стороны, дико вопя и стреляя в панике куда лопало. Большая группа двинулась через огороды, к речке. Дрожа от холодной воды и страха, каратели лихо преодолели неглубокую речушку и попали под огонь партизан группы комиссара.
Небольшая толпа полицаев побежала в гору сдаваться в плен. Смертельно раненный в грудь, упал командир полицейской карательной роты капитан Топорков.
И только теперь до майора Шварца дошёл истинный смысл происходящего. На этот раз партизаны оказались хитрее. Это была ловушка! Самодовольство мгновенно покинуло Шварца. Совершенно в ином свете предстали перед ним все события последних дней и особенно подготовка к этой операции, в которой его самоуверенность сыграла такую зловещую роль. Но теперь нужно было хоть как-то спасать положение.
— За мной! — громко крикнул Шварц и с небольшой группой солдат быстро переместился за небольшую, вытянутую возвышенность близ дороги.
— Ложись! — резко скомандовал Шварц, продолжая сам стоять во весь рост.
Видя своего командира, растерявшиеся солдаты бежали к нему со всех сторон и располагались за естественным укрытием в цепь.
А партизаны, по-прежнему не показываясь противнику, продолжали вести дружный прицельный огонь. Иван Иванович стоял под густой осиной и наблюдал за поляной и школой. Рядом с ним пристроился и бил без передышки из трофейного карабина дед, который перед боем разговаривал с капитаном Фогелем.
Шварц, убедившись, что на поляне способных двигаться солдат больше нет, сам упал на землю.
Партизан не было видно.
Огонь начал ослабевать, и только с лесистого бугра и чердака школы размеренно, не умолкая, били пулемёты.
— Без команды не стрелять! — прорычал Шварц. Мысли лихорадочно проносились в его голове: «Что делать? Как спасти оставшихся людей?» О себе он не думал. Огромное напряжение перебороло страх. Он — солдат, преданный фюреру и Германии, и умрёт, если это нужно, даже не поведя бровью. Но умирать всё-таки не хотелось.
Партизаны, убедившись, что их стрельба не достигает цели, прекратили её.
Над поляной повисла тишина. Слышались только слабые стоны умирающих и раненых солдат.
Но вот над деревушкой вновь взвилась красная ракета, и в тот же момент из леса, школы и огородов показались партизаны с оружием наперевес.
Они без крика шли в атаку.
— Огонь!
Стрельба гитлеровцев оказалась достаточно плотной, партизаны, неся потери, залегли.
Иван Иванович понял, что просчитался. Рано начал атаку. Нужно было подождать, пока посланный в обход взвод Герасименко оседлает дорогу и отрежет противнику путь назад.
Фашисты продолжали вести прицельный огонь. Расстреливали партизан в упор. Они были совсем рядом.
— Вперёд!
Партизаны вновь поднялись в атаку. Впереди всех бежал командир отряда.
— Ура! — задыхаясь от быстрого бега, коротко выкрикнул он и бросил ручную гранату.
Его крик дружно подхватили партизаны.
Нервы у Шварца не выдержали. Он дал команду отходить в сторону дороги. И это спасло фашистов. Небольшая группа солдат во главе с майором Шварцем под прикрытием леса, отчаянно отстреливаясь, вырвалась из огненного партизанского кольца.
К вечеру небо очистилось от туч, выглянуло яркое, но холодное солнце и тут же, не успев как следует осветить землю, лес и тихую, мирную Медведевку, спряталось за гору…
Больше ста трупов оставили гитлеровцы на поляне возле школы в глухой русской деревушке. Потери партизан были значительно меньше.
«Изменник»
Майор Демель сидел в кресле в своей излюбленной позе — несколько откинувшись назад, чуть-чуть наклонившись влево. Пальцы правой руки мягко, ритмично сменяя друг друга, двигались по поверхности стола, точно воспроизводили на клавишах медленную, слигованную гамму. Острые чёрные глаза внимательно уставились на Николая.
— Крылов?
— Крылов.
— Виктор Викторович?
— Так точно!
— Садитесь.
— Благодарю вас, господин майор.
Напряжение, которое не покидало Николая в течение суток перед встречей с начальником гестапо, как-то сразу спало. Он почувствовал себя студентом на экзамене, который, вытянувши билет, увидел знакомые вопросы. Теперь всё зависело только от него, как он сумеет построить свои ответы.
Только бы не переиграть!..
Получая задание от полковника Снегирёва, Николай внимательно выслушал рассказ о будущем «дяде» Михаиле Петровиче Крылове и с сомнением спросил:
— А можно доверять такому человеку?
— Можно, — ответил полковник, — руководитель городского подполья Иван Фёдорович Ерёмин знает твоего «дядю» многие годы, как человека странного, своеобразного, но по-своему порядочного. Недостатков в его характере много, но ясно одно — он не враг! Ерёмин — старый, умный, проверенный большевик, и он убеждён, что Крылов сделает всё что нам нужно. А дальше всё будет зависеть от обстановки и ст тебя.
— Здесь убедили, — скупо улыбнулся Николай.
— Уже легче, — ответил улыбкой полковник.
— Но… Как я, приговорённый к расстрелу, оказался на свободе?
— Резонно.
— Проверят. Они тоже не дураки.
— Правильно, проверят. Это дело у них, нужно признать, поставлено отменно. Они не дураки — это тоже верно, но и мы не лыком шиты! Придётся тебя по-настоящему отправить за решётку, а потом инсценировать побег. Затем на самолёт — и в лес к Ивану Ивановичу. Там осмотришься, изучишь обстановку и по нашей команде пойдёшь к «любимому дядюшке» в гости.
— А как я объясню своё появление в городе за линией фронта?
Полковник подошёл к столу, взял из красной папки лист гербовой бумаги с фашистской свастикой и протянул Николаю.
«Настоящим удостоверяется, что Крылов Виктор Викторович проявил смелость и находчивость, не щадя жизни доказал преданность Великой Германии, оказал неоценимую услугу немецким войскам в борьбе с большевиками.
Генерал Теске, командир 281-й моторизованной дивизии».
— Нравится? — спросил полковник Николая.
— Да, но…
— Слушай дальше, и всё станет ясно. Предположим, ты перешёл фронт на участке этой дивизии, скажем, четырнадцатого. А три дня спустя на этом участке был сильный бой. Да, да, бой был — это уже действительность. Наши войска потеснили противника. Командир дивизии, между прочим, очень известный и далеко не глупый генерал, пал смертью храбрых во славу фюрера, и труп его остался на поле боя. Твой документ датирован шестнадцатым, а бой начался семнадцатого вечером. Это значит, что ты оказал услугу генералу накануне боя, и справка выдана, когда он был ещё в полном здравии. Теперь пусть проверяют…
Воспоминания Николая, промелькнувшие в доли секунды, были прерваны вопросом Демеля. Тон был так вежлив, что Николай
сразу насторожился.
— Вы сами пришли к нам?
— Так точно.
— Что руководило вами — идейные убеждения или обстоятельства?
— И то, и другое, — сразу же ответил Николай. — Точнее: мои убеждения довели меня до такого состояния, когда обстоятельства стали нетерпимыми. Я приговорён военным трибуналом к высшей мере.
— За что?
— За измену Родине.
— И всё?
— Нет. Ещё за хищения.
— Какие?
— Военное имущество, деньги…
— Ещё!
— Всё.
— Значит, — усмехнулся Демель, — как говорят жрецы Фемиды, вас привлекли к ответственности по совокупности преступлений?
— Так точно, господин майор.
Демель медленно поднял глаза на Николая.
— А почему вы решили, что нам нужны жулики и изменники?
— Я не жулик и, тем более, не изменник. Это большевистские ярлыки. Я взял лишь мизерную часть тех богатств, которые Советы отобрали у моих родителей.
— О! Это другое дело! — с иронией воскликнул Демель. — Вы идейный борец за справедливость, а не вор. Просто у вас принципиальные расхождения с Советами по вопросу определения форм собственности при социализме. Вы признаёте только одну из этих форм — личную. Другие же вас интересуют, видимо, лишь как факторы, влияющие на изменение объёма личной собственности.
— Примерно так, — сказал Николай и подумал: «Прав был комиссар партизанского отряда: далеко не прост майор Демель. Куда ты гнёшь, хитроумный гестаповец, какую ловушку расставляешь мне?»
— Хорошо, — примирительно сказал Демель. — Я умею, стараюсь, во всяком случае, уважать действия и мотивы, их побуждающие, любого человека. Ваши деяния направлены против коммунистов, и это нас вполне устраивает.
— Я очень рад, — смиренно промолвил Николай.
— Но это не всё!
— Слушаю вас!
— Меня интересует — кем вы сами считаете себя? Поясню: русские считают вас изменником и приговаривают к расстрелу, мы считаем вас… впрочем, я позже вернусь к этому. А вы сами что думаете?
За иронией и суховатой академичностью Демеля скрывалось стремление, и оно показалось Николаю искренним, понять собеседника. «Ладно, — подумал Николай, — я буду грести по течению, постараюсь быть «откровенным».
— Что же вы молчите? — вежливо спросил Демель.
— Мне очень трудно ответить на этот вопрос, — осторожно начал Николаи. — С одной стороны, — я, конечно, чувствую себя русским. Я люблю Россию! С другой стороны, — я ненавижу большевиков, которые отняли у меня всё!
— Отдавая дань вашей откровенности, я сомневаюсь в справедливости ваших слов, — сказал Демель.
— Вы не верите мне?
— Нет. Это не то! Вам я сейчас верю. Но вы — это ещё не весь народ. Мне кажется, что большинство русских думает наоборот, — что советская власть как раз дала им всё, о чём раньше они не могли даже мечтать.
— Может быть, и так. Но этому большинству нечего было терять! — Николай даже встал от волнения.
— Понятно, господин Крылов, вы есть классовый враг советской России и понимаете, что мы воюем не с русским народом, а с коммунистами.
— Мне очень приятно, господин майор, что вы это понимаете. Но многие, к сожалению, думают, что русские и коммунисты — это одно и то же.
— Да, в этом очень много правды, — задумчиво сказал Демель, — и это очень прискорбно. Да, да, многие так думают.
«Не многие, а — все! — злорадно подумал Николай. — Потому что это правда!»
Демель умолк, и только чёрные глаза жёстко сверлили этого странного русского. Ни страха, ни подобострастия он в нём не заметил. «А ты не так глуп, как показался вначале, — подумал Демель. — Эти твои «так точно» и преданный солдатский взгляд — либо результат хорошего воинского воспитания, либо отличная игра. Пожалуй, первое всё-таки вернее…»
— Однако вы ведёте себя смело. Ваши заявления похожи на тонкую большевистскую пропаганду.
— Агитировать начальника гестапо?! — искренне удивился Николай. — Разве у меня из миллиона был бы хоть один шанс? Это было бы сверхглупо!
Демель весело рассмеялся:
— Пожалуй, вы правы. Это был бы пустой номер.
— Так точно! — с готовностью ответил Николай.
Демелю понравился капитан Крылов. Чувствовались в нём эдакая нетронутая человеческая сила, достоинство и смелость. «Побольше бы таких партнёров, и наши успехи не выглядели бы так призрачно», — подумал начальник гестапо и с интересом уставился на Николая.
— Мне очень хочется задать вам ещё только один вопрос, но сразу предупреждаю — говорить нужно только то, что вы действительно думаете, иначе вопрос не имеет никакого смысла.
— Я отвечу правду.
— Кому достанется победа в этой войне?
— Победят русские, — не задумываясь, тихо ответил Николай.
— Русские? — Демель резко встал.
— Так точно! — ответил Николай.
Они стояли и напряжённо смотрели друг на друга. Демель не ожидал такого категорического ответа, он даже немного растерялся и не сразу нашёлся, как вести себя дальше, — благодарить этого смелого русского капитана за откровенность или наказать за неверие в светлое будущее Германии.
Молчание было коротким, но очень тягостным для обоих. Наконец Демель раздражённо спросил:
— Если вы так считаете, то какого же чёрта, извините меня, пришли к нам?
— Разве у меня был выбор?
«Логично», — подумал Демель, уселся опять в кресло, пробежался пару раз пальцами по крышке стола, почти успокоился и сдержанно спросил:
— А почему вы так уверены в неблагоприятном исходе войны для немцев? Можете ответить? Но только опять правду!
— Могу!
— Прошу!
— У вас воюет армия. Хорошо организованная, дисциплинированная, самая сильная, но только армия.
— Так, — утвердительно сказал Демель.
— А у русских воюет весь народ! — продолжал Николай.
— Так, — опять произнёс Демель и умолк. Отрешённый взгляд скользил мимо собеседника. Живой блеск в его глазах померк. «Не нравится», — подумал Николай, но тут же, смягчая обстановку, любезно сказал:
— Это только моё личное мнение. Я могу и ошибиться. И потом, господин майор, ненависть, которую я питаю ко всему советскому, не лучший советчик в моих суждениях.
— Не нужно, — устало сказал Демель. — Я благодарю вас за откровенность, но мне на будущее хочется дать вам один очень важный совет: не будьте с другими таким открытым — вас не каждый правильно поймёт.
— Благодарю вас, господин майор, я буду осторожней, — от души сказал Николай.
— Вы здраво смотрите на вещи и хорошо разбираетесь в обстановке — это делает вам честь. Но, несмотря на мои симпатии, я должен задать вам вопросы по существу: каким образом вам удалось избегнуть расстрела и перейти линию фронта?
«С этого нужно было начинать», — подумал Николай и начал неторопливо, подробно рассказывать об обстоятельствах побега из тюрьмы.
Демель слушал его, не перебивая.
Николай перешёл к событиям на фронте, рассказал в лицах эпизод его знакомства с генералом Теске.
При упоминании имени генерала Демель оживился:
— Генрих Теске! Культурнейший, благороднейший человек! Это немец старинной закваски! — И, прочитав подписанную генералом бумагу, улыбнулся: — Узнаю старину. Только он и мог так написать — просто и ясно.
Чёрные глаза Демеля опять засветились:
— Как себя чувствовал генерал? Постарел?
— Он бодр, полон сил и энергии.
— Очень рад за него, — сказал майор, но, будто опомнившись, сменил тему и проговорил сурово:
— На первый раз достаточно. Я не буду возражать против вашей кандидатуры. Но имейте в виду, мы всё будем проверять, и очень серьёзно.
Николай кивнул головой и подумал:
«Ничего другого мы от вас и не ожидали».
Военный комендант
В кабинете военного коменданта прежде всего лез в глаза огромный написанный маслом портрет Адольфа Гитлера. Это произведение изобразительного искусства принадлежало кисти местного художника-самоучки, великодушно подарившего фюреру глупые, оловянные глаза и несообразно большую с размером лица лихую косую чёлку. Кроме того, шутник-живописец сумел каким-то незаметным мазком сделать невыразительную физиономию Гитлера похожей одновременно на потрёпанное, серое от бессонницы лицо распутной женщины и на распухшего базарного пьяницу.
Эта картина всегда приводила в смятение эстетические вкусы майора Демеля.
Через день после трагической кампании под деревушкой Медведевкой он вошёл в кабинет и, не отрывая глаз от портрета, брезгливо сказал:
— Послушай, Ганс, это меня шокирует, приводит в уныние, бесит!
— Не капризничай, Франц, портрет как портрет, правда, чуть аляповатый, но не хуже, чем многие другие. Не надоело тебе твердить каждый раз одно и то же?
— Хорошо, не буду! Тем более, что ты всё равно останешься при своём мнении: глаза, нос, чёлка есть — значит, это наш любимый фюрер!
Невысокий, худощавый, с приятным живым лицом, в новом чёрном мундире, майор Демель был полной противоположностью Гансу Шварцу — крепкому, ладно сбитому, выше среднего роста блондину с белёсыми, невыразительными глазами и светло-рыжими густыми бровями.
Демель прошёлся по кабинету, рассеянно посмотрел в окно и сел напротив коменданта так, что портрет Гитлера стал ему не виден. Он был сильно взволнован:
— Мне не нравится вся эта история, Ганс. Тебе не кажется, что нас водят за нос? Пора кончать с полумерами!
— Не нужно усложнять, Франц. Всё значительно проще. Война! Сегодня они нас — завтра мы их!
— Интересно ты рассуждаешь!
— Не нравится?
— Наоборот, я просто преклоняюсь перед твоими талантами.
— Что ты имеешь в виду? — чувствуя подлог, спросил Шварц.
— Твой доклад группенфюреру.
— Разве плохо?
— Отлично! Ты окончательно убедил меня, что не обязательно хорошо делать свою работу — это не самое главное. Нужно уметь доложить! Немного слёз по поводу ужасных обстоятельств, чуть-чуть неотразимой скромности, кучу обещаний, произнесённых с пафосом, — и всё в порядке. Ты почти герой, хотя всем ясно, что ты угробил сотню солдат и бесславно провалил операцию.
— Ну, ты уже переступаешь все границы! Я выполнял приказ, а обстановка изменилась не по нашей воле и вине. Мы шли по ложному пути. Разве в этом виноват только я? Ты виноват не меньше! У тебя, мой друг, странный беспокойный характер — ты всё усложняешь, сомневаешься, чего-то ищешь. А зачем? К чему это может привести? Только к неприятностям!
— А ты всё упрощаешь, принимаешь мир таким, каким он тебе больше подходит, и я тебе от души завидую. Всё всегда у тебя хорошо! Вокруг тебя всё так же чисто и ясно, как в глазах твоей прелестной Наташи.
— А хороша, не правда ли?
— Я не об этом.
— А ты ответь всё-таки.
— Позже. Я хочу понять, как ты ухитряешься что-то делать, а мозг твой в это время отдыхает?
— Ты либо хвалишь меня, либо считаешь законченным болваном. Кто же сейчас живёт иначе? Да и ты давно ли стал другим?
— Я? Впрочем, где-то ты прав, Ганс, видимо, ты ближе к истине, чем я.
— И всё-таки ты считаешь меня дураком!
— Нет. Я уже сказал, что завидую тебе. Если бы я мог так же, как ты, — легко и просто.
— А что тебе мешает?
— Подожди, я хочу понять! Вот скажи мне, как друг, ты любишь Шарлотту?
— Знаешь, что люблю, — зачем спрашиваешь?
— Она мне сестра…
— Люблю, конечно.
— Тогда объясни, как можно связать любовь к ней, этой чистой, преданной тебе женщине, с твоими ночными похождениями с этой пухленькой официанткой из казино?
— А ты уже знаешь?
— Служба.
— Однако…
— И должен тебе сказать, вкус у тебя, если судить по этому увлечению, превульгарнейший.
— Напрасно ты вспомнил Шарлотту рядом с этой девкой. Понимаешь, Франц, как-то нужно решать и этот вопрос.
— Вот видишь, как у тебя всё хорошо! Это не измена жене, а решение одного из вопросов. И всё становится на свои места. Первая же уличная женщина тебя вполне удовлетворяет. А кровь великой нации смешивается чёрт её знает с чем!
— Брось, Франц, опять ты ударился в свою философию.
— Не понимаем мы друг друга. Однако перейдём к делу. Меня беспокоит несколько обстоятельств, и прежде всего судьба капитана Келлера.
— Что именно?
— Этот погром означает его провал, другого объяснения я не нахожу.
— Это возможно.
— Не только возможно, а факт! Вторые сутки он не выходит на связь, а всегда был точен.
— Может быть, что-то мешает.
— Может быть. Но действия партизан! Откуда у них такая осведомлённость?
Шварц неторопливо прошёлся от окна к дверям и обратно и рассудительно сказал:
— Не волнуйся, Франц, ничего страшного нет. Группенфюрер обещал прислать карательный батальон. Расположение партизан мы знаем. Не удалось раздавить голову — ударим по всему туловищу!
— С карателями — это точно?
— Точно.
— Срок?
— В течение недели.
— Это хорошо, но так или иначе, выглядим мы с тобой пока неважно. Мне, откровенно говоря, так и не удалось установить истинной причины последнего провала. Я чувствую, нас водят за нос. В каждом русском, который клянётся в верности нам, мне чудится враг.
— Надеюсь, Наташа вне подозрений?
— Пока — да.
— Почему — «пока»?
— Есть у русских поговорка: в тихом омуте черти водятся.
— Пугаешь? — с усмешкой спросил Ганс.
— Нет, но если у тебя есть совесть, то ты не отнимешь у них волю, упрямство, необузданный фанатизм и какое-то закоренелое недоверие и неистребимую ненависть к нам.
— Не у всех.
— Не верю я переметнувшимся к нам канальям. Можно всегда, в любой момент получить нож в спину. Тебе не мешало бы это иметь в виду.
— Опять ты усложняешь!
Демель встал, медленно прошёлся по кабинету, остановился у окна, зябко повёл плечами, устало опустил веки. Шварц удивлённо посмотрел на него — весь его вид говорил о чём-то значительном и тревожном. Демель вернулся к столу и произнёс изменившимся голосом:
— Предчувствие у меня нехорошее, это моё шестое чувство не даёт покоя.
— Брось ты всякой ерундой заниматься — мысли, предчувствия…
— Хорошо, — ответил Демель, — продолжим разговор о деле. Погиб капитан Топорков. Хоть и дурак был, а жаль: дело он своё знал, тщательно был проверен. Бургомистр рекомендует на его место своего племянника. Я с ним сегодня познакомился. Впечатление производит неплохое: решителен, смел, умён, за измену приговорён большевиками к расстрелу. Из тюрьмы бежал, перешёл линию фронта. Оказал немалую услугу нашим войскам.
— Как ты это установил? — спросил Шварц.
— Это свидетельствует генерал Теске, наш общий знакомый. Использованы и другие источники, и предварительная проверка показала, что Крылов говорит правду. Думаю, что командиром роты его поставить можно, тем более, если говорить откровенно, выбора у нас нет. Затем сделаем глубокую проверку. Во всяком случае повесить мы его всегда успеем.
— Не возражаю. К тому же я очень верю бургомистру. Он всегда боится, дрожит даже тогда, когда скрипит телега, — засмеялся Шварц, — и если бы сомневался в племяннике, то не поручился бы за него.
— Это довод сомнительный.
— Не скажи. Я бургомистра вижу насквозь. Его приторно-скорбную физиономию и трусливые, бредово-фантастические мысли я читаю, как раскрытую книгу.
— Но ты не умеешь читать по-русски. Есть же и у него норов, характер и индивидуальность.
— Нет! И ещё раз нет! Это, уверяю тебя, — дремучая посредственность, трусливая, жалкая, готовая лизать нам сапоги, только бы сохранить свою никому не нужную жизнь.
— Нужна ли кому его жизнь — не нам с тобой судить, — задумчиво и осуждающе ответил Демель. — Ты сегодня, Ганс, рассуждаешь очень красиво и категорично. Подожди, не нарушай ход моих мыслей. Скажи, не кажется тебе, что мы откусили от яблока больше, чем можем проглотить?
— Чепуха! — звонко ответил Шварц.
— Хорошо. Тогда реши задачку на сообразительность. Скажи, какая разница между разносторонностью и разбросанностью?
— Глупый вопрос.
— Нет, не глупый!
— Деловой человек не должен быть разносторонним, — тоном, не допускающим возражений, сказал Шварц.
— Разбросанным — ты хотел сказать, ибо разносторонность талантов нашего фюрера общеизвестна!
Шварц побледнел, но Демель, не обращая внимания на его замешательство, продолжал:
— Мы потрясли весь мир, везде успели, везде сказали своё слово. Хайль Гитлер!
— Хайль! — вскочил Шварц.
— Но дело не в этом, Ганс. Ты меня не перебивай… И везде, где мы прошли и находимся сейчас, вся земля усеяна могилами!
— Франц! Даже стены имеют уши!
— Надеюсь, не в твоём кабинете.
— Пусть так, но мне тяжело тебя слушать, — беспокойно произнёс Шварц. — Нужно жить проще!
Демель подсел к столу, неторопливо, пристально посмотрел на Шварца и задумчиво сказал:
— Не понимаю я тебя. Или ты играешь, или действительно не понимаешь, что творится вокруг! Неужели грудастая Зинка с пьяными коровьими глазами и идеальными бёдрами затмила для тебя всё на свете?
— А к чему много думать? Мы с тобой всё равно изменить уже ничего не сможем, а в гроб заколачивают всех одинаково — и философов и дураков.
Демель поёжился, упёрся подбородком в ладони и убеждённо сказал:
— Есть люди, которые думают иначе, им надоели обман, ханжество, коварство. Были — большая цель, перспектива! И сейчас я стремлюсь к ним, собираю последние силы, не жалею себя и людей… Я ещё в движении, а цели и перспективы уже нет! Растаяли, как прекрасный мираж в песчаной пустыне. И я всё думаю…
— Ну зачем много думать? — бесцеремонно перебил Шварц.
— Это я уже слышал, — раздражённо ответил Демель.
— И ещё услышишь сто раз, — не смущаясь, продолжал Шварц. — Нам это ни к чему! Нужно стрелять — стреляй! Подвернулась женщина — не теряйся и не мудрствуй лукаво, а то она же тебя и осудит за нерешительность.
— А какая тогда разница между человеком и обыкновенной свиньёй?
— А нужна она тебе — эта разница?
— Всё, Ганс, мы зашли в тупик. Ты оставайся здесь, а я попробую поискать выход. Хотя, впрочем, для таких, как я, этого выхода уже нет, все пути отрезаны.
— Брось, Франц, — снисходительно, как бодрящийся родственник безнадёжно больному, сказал Шварц, — экий ты хлюпающий интеллигентик! Я твёрдо уверен, что если бы каждый ноющий нёс за свои слова ответственность, то потоки ненужного красноречия основательно бы иссякли. Не доведут тебя до добра твои мысли. Да и не так уж всё плохо, как тебе представляется! Кстати, — промолвил он вдруг, без всякой связи с предыдущим, — что удалось установить об исчезновении дочери бургомистра? Переживает старик — приходил ко мне, плакал.
Демель удивлённо взглянул на своего друга — как так быстро можно переключить свои мысли и чувства, точно скорость в автомобиле? — и сказал сдержанно:
— Гердер занимался этим вопросом. Есть данные, что она утонула.
— Утонула? — удивился Шварц.
— Да. Видимо, самоубийство.
— Странно. А мотивы?
— Гердер соблазнил её, не проявив при этом деликатности.
— Из-за этого топиться? Какие нежности!
— Она была хорошей девушкой, Ганс. Неужели ты этого не понимаешь? Это же не Зинка-официантка.
— Я всё прекрасно понимаю, но зачем из чепухи устраивать трагедию? Все, даже очень хорошие девушки, когда-нибудь становятся женщинами, и не так уж это важно, при каких обстоятельствах произойдёт это событие.
— Хорошо, — примирительно сказал Демель. — Скажи мне лучше, какие у тебя новости по «Кроту»?
— Прибывает группа инженеров-строителей, сапёрный взвод и специальная буровая техника. Сроки на проведение изыскательских работ и составление проекта жёсткие. Когда начнётся строительство, — основной рабочей силой будут пленные. Приказано учесть среди населения каменщиков, бетонщиков и рабочих других строительных специальностей. Весь человеческий материал по окончании, работ подлежит уничтожению. Это неизбежно; сам понимаешь — объект очень важный.
— Всё нормально, только непонятно — зачем? Хоть изредка нужно уметь смотреть правде в лицо?
— Что ты имеешь в виду?
— Положение на фронте.
— Конкретнее.
— Сталинград.
— Ну, знаешь, Франц, на войне, как на войне! Временные неудачи. В целом гениальный план фюрера осуществляется строго, как задумано.
Демель внимательно слушал, затем махнул рукой и почти беззвучно, точно рыдая, захохотал. Чёрные глаза, казалось, пронзали Шварца насквозь. Наконец он, всё ещё всхлипывая от смеха, выдавил:
— Прелестно, Ганс, ты явно делаешь успехи, но запомни, финал может быть только один: нам классически, без промаха дадут под зад, да ещё в наказание, как провинившихся шалунов, поставят в угол. Нет, не то! Это не спасение, а, скорее, наоборот. Тебе хорошо! Но хоть раз в жизни сними ты розовые очки и посмотри на вещи здраво. Мы заварили в мире большую кашу и верили в нашу счастливую звезду. Мы шли вперёд, и всё было хорошо, пока не нарвались на русских, этих, как мы любили говорить, азиатов. Что греха таить — теперь они элементарно колотят нас. Почему? В чём дело? Что, собственно, изменилось. Разве мы стали слабее или превратились в дураков? Нет, конечно. Просто они сильнее нас. И не только армия, но и что-то другое… Наш государственный и военные механизмы оказались тяжелобольными. Вот в этом, по-моему, и заключаются самые серьёзные причины наших неуспехов.
— О чём ты говоришь?
— Войну мы проиграем, — не задумываясь, ответил Демель.
— Что?! — почти крикнул Шварц.
— Это неизбежно.
— А я уверен в нашей победе!
— Врёшь, Ганс, не уверен, — спокойно сказал Демель.
— Уверен!
— Нет, просто ты желаемое выдаёшь за действительное. И, что самое интересное, сам начинаешь верить в свой карточный домик, который завалится от любого, даже очень лёгкого ветерка.
— Я никак не могу понять, чего ты добиваешься?
— А ты пойди и спроси об этом своего, а ещё лучше моего, шефа. Может быть, они тебе помогут?
— Прости меня за прямолинейность, — обиделся Шварц, — но я солдат, а не доносчик, тем более, что едва ли кто лучше меня знает твою преданность Германии.
— Спасибо, Ганс, спасибо! Это ты сказал точно. Я ненавижу всех врагов Германии и особенно русских, этих маньяков, которые, я чувствую, погубят нас. И что бы ни случилось, я по-прежнему буду убивать каждого, кто не только борется против нас, но и мыслит иначе…
— Верю, Франц, — великодушно сказал Шварц. — А какие же всё-таки свежие новости с фронта?
— Плохо.
— Преувеличиваешь!
— Нет, Ганс, истина. Шестая армия крепко засела под Сталинградом, и сейчас фюрер занят не тем, как взять его, а спасением окружённой армии Паулюса. Под благовидным предлогом он спешно снимает дивизии с западного фронта для специально созданной группы армий «Дон» под командованием Манштейна. Она должна разорвать кольцо окружения.
— А как Англия?
— Что, в сущности, Англия…
— Англия — это второй фронт!
— Исключено!
— Как знать!?
— Нет, это точно.
— Значит, всё в порядке! — со свойственным ему оптимизмом сказал Шварц.
— Поживём — увидим. А пока они нас лупят и без второго фронта. Но вся борьба ещё впереди!
Майор Демель посмотрел внимательно на своего собеседника и решил, на всякий случай, сделать ему небольшую уступку:
— Вообще-то, Ганс, я понимаю, что решение о строительстве объекта в нашем районе ещё раз подчёркивает гениальность нашего фюрера, в данном случае — прозорливость и предусмотрительность.
— Ты серьёзно так считаешь?
— Конечно.
— Хайль Гитлер! — рявкнул Шварц.
— Хайль! — ответил Демель.
В дверь постучали.
— Войдите, — вежливо сказал Шварц.
Появилась улыбающаяся Наташа.
— Срочный пакет, — доложила она и кокетливо стрельнула блестящими глазами.
Шварц расцвёл великодушной улыбкой и пошёл навстречу.
— Спасибо, Наташа.
— Посыльный требует расписку, — сказала Наташа.
— Это что ещё за новости? — надменно спросил Шварц.
Наташа ответила очень милой сочувствующей улыбкой, молча пожала плечами и с лёгким наклоном головы подала пакет. Шварц вскрыл конверт, расписался на нём и отдал Наташе. Она вышла.
Шварц подал бумагу Демелю.
— От железнодорожного коменданта. Прибыла техника для строителей.
— А как дело на этом фронте? — спросил Демель, пробежав по документу глазами.
— На каком? — не понял Шварц.
— Я — о Наташе.
— А… — Ганс самодовольно усмехнулся. — Честно говоря, я не тороплюсь, хочу, чтобы она сама бросилась мне на шею!
— И как?
— По-моему, она уже близка к этому, а у меня всё недостаёт времени.
— Займись, эта связь тебя не унизит, и арийская кровь не пострадает. Прекрасная женщина!
— Нравится? — снисходительно спросил Ганс.
— Не скрою, очень! Красива необыкновенно и прекрасно воспитана…
Шварц громко захохотал, и когда смех начал иссякать, доверительно сказал:
— Всё это так, но она по-детски наивна. Глупенькая девчонка! Мечтает о настоящей, большой любви, о замужестве. Романтична и экзальтирована. Нет у неё чувства меры!
— Зато у неё в избытке есть всё остальное, чем привлекает нас женщина! А что касается замужества, надеюсь, ты не выдал ей аванса.
Друзья рассмеялись.
Новый командир роты
Полицейская карательная рота, сильно поредевшая, получила пополнение за счёт военнопленных и «добровольцев» из местного населения.
Позорная вылазка в Медведевку заметно охладила пыл карателей, их репутация была сильно подмочена.
Рота гудела, как растревоженное осиное гнездо. И в это время в ней появился новый командир — капитан Крылов. Злые языки поговаривали, что у капитана очень серьёзные нелады с большевиками, но толком никто ничего об этом не знал.
Новый командир за дело взялся рьяно. В роте был установлен строгий порядок. Подъём, физзарядка, утренний осмотр, занятия, дежурства, работы, вечерняя прогулка и отбой — всё это отмеривалось распорядком дня точно, как маятником время.
Некоторым служакам строгости не понравились — кончилась разгульная, пьяная жизнь, бесцельные шатания по городу в поисках приключений. Но недовольные помалкивали: капитан не производил впечатления человека, с которым можно не считаться. Даже его внешний вид внушал чувство уважения, смешанное со страхом. Глядя на него, и у самых отчаянных пропадала охота делать что-либо не так. Тёмно-русый, выше среднего роста, широкий в плечах, всегда серьёзный и строгий, Крылов производил впечатление энергичного, точного и аккуратного человека. На лицо его ярких красок у природы явно не хватило. Крупное, чистое, с круглыми серыми глазами, оно привлекало лишь безыскусственной простотой и какой-то необыкновенной силой, которая, казалось, как мастичная печать на гладкой светлой бумаге, лежала на лице спокойно и непоколебимо. Было непонятно, когда этот человек спал, — он появлялся в роте перед подъёмом, а уходил домой только после отбоя. Вникая во все дела подразделения, новый командир не уставал повторять, что мелочей в военном деле не бывает, а пренебрежение к так называемым мелочам часто стоит человеку жизни.
Среди полицейских заметно укрепилась дисциплина, прекратились бесчинства по отношению к населению города.
Имея большой опыт строевой работы, Николай чувствовал себя в роте как рыба в воде. Иногда ему казалось, что он, как было совсем недавно, командует маршевой ротой в запасном полку и те же ребята — воронежские, тульские, смоленские и рязанские, сибиряки и уральцы. — которых он готовил к боям с фашистами, устроили мрачный маскарад с переодеванием и собрались здесь. А жизнь в роте била ключом. Сколотив отделения и взводы, Николай взялся за наведение образцового порядка в казарме. Ежедневно в сопровождении дежурного офицера он обходил своё небольшое хозяйство и всё придирчиво осматривал. У него хватало терпения заставлять по шпагату выравнивать койки, тщательно заправлять постели, драить до светло-жёлтого цвета деревянные некрашеные полы, мыть окна, протирать от пыли мебель. Но этого ему было мало. Солнечно-зеркальный свет излучали пуговицы и пряжки на тщательно отутюженном обмундировании, сияли до блеска начищенные сапоги.
Новый командир явно лез из кожи, чтобы привести роту в состояние, отвечающее изысканным солдатским вкусам майора Шварца, который очень любил чистоту и порядок. «Чистота, порядок, дисциплина — вот всё, что требуется от вас, и всё будет хорошо!» — любил повторять он своим подчинённым.
До коменданта быстро дошли слухи о похвальной деятельности и способностях капитана Крылова. Это обрадовало его, и ему захотелось на всё взглянуть самому.
На инспектирование полицейской карательной роты майор Шварц отправился в сопровождении комендантского взвода, играющего две роли — охраны его персоны и поднятия авторитета, и переводчицы, которая, кроме своих обязанностей, должна была радовать глаз и веселить сердце коменданта.
Машина, отражающая все краски солнечного зимнего утра, остановилась посредине двора, и первое, что увидел Николай, было милое и до боли родное лицо Наташи.
Уходя на задание, Николай знал, что ему предстоит встреча с женой, но всё-таки на какую-то долю секунды не совладал с собой. От Шварца не ускользнула эта деталь, но он был так далёк от истинных причин замешательства командира роты, так был самонадеян и спокоен за Наташу, что тут же, после рапорта, с самым безмятежным видом представил ему переводчицу:
— Вот, господин капитан, рекомендую — фрау Наташа! — Ганса распирало от удовольствия и гордости: такая прекрасная женщина принадлежала ему!
Взгляды Наташи и Николая встретились. Теперь он был непроницаем, а она кокетливо улыбнулась и сказала ему по-русски:
— Здравствуйте. Мне очень приятно. Надеюсь, мы будем друзьями.
Она сказала это может быть только чуть-чуть теплее, чем требовали обстоятельства, но Николай её понял. Сказала и весело засмеялась.
Как ни сдерживался капитан Крылов, всем было ясно, что Наташа произвела на него неотразимое впечатление. Во время обхода казармы, выбрав подходящий момент, Шварц доверительно спросил:
— Как моя переводчица? Не правда ли — хороша!
— Она просто прелесть! — чистосердечно ответил Николай. Подошла Наташа. Она, казалось, расцвела. Столько любви и радости было в её взгляде, что Николаю опять стало не по себе.
— Но вы ничего не ответили мне, — обратилась она уже по-немецки.
— Разве у вас мало друзей? — скрывая радость, спросил Николай.
— Много, но настоящий бывает единственный, — ответила она и так посмотрела на Ганса, что он задохнулся от восторга.
— Как она непосредственна и мила! — не удержался Ганс.
— У вас тонкий вкус, господин майор, фрау Наташа действительно необыкновенная женщина.
Осмотр прошёл без сучка и задоринки. Комендант был поражён чистотой и порядком.
— О! Господин Крылов, я вполне, я очень удовлетворён и приятно удивлён состоянием подразделения. Вы прекрасно понимаете немецкий порядок и не теряли время даром. Похвально и достойно подражания!
— Рад стараться, господин майор, — с готовностью ответил Николай.
В заключение инспекции был проведён строевой смотр, который ещё более улучшил настроение коменданта. Он произнёс перед строем небольшую речь и, довольный увиденным, благополучно отбыл.
Николай распустил строй, ушёл к себе в кабинет и задумчиво замер у окна.
За ночь зима опушила землю, крыши домов и ветви деревьев лёгким искристым снегом, и, как в старой доброй сказке, всё преобразилось вдруг. Деревья, ещё недавно серые, стыдливо-голые, стояли теперь, как невесты, — в белых венчальных платьях, загадочные и красивые. Дома надели на себя тёплые, мягкие шапки. Даже облака, неугомонной, беспорядочной стаей пробегающие над городом, казались не такими, как вчера, — более светлыми и весёлыми. И солнце стало ярче и холоднее.
Перед окном стояла тихая молодая берёзка. Быстрый, вертлявый воробей, вспорхнув, сел на заснеженную веточку, качнул её — серебристой пылью посыпался снег, — веточка освободилась от тяжести, разогнулась и подбросила воробья. Он испугался и улетел. Николай продолжал смотреть в окно, но то, что видели глаза, не осмысливалось, не укладывалось в голове.
Он думал о Наташе.
И в разлуке Николай много думал о ней, но думы эти чаще всего были светлыми, приятными мечтами. Теперь пришла тревога. Он стал бояться за неё. Казалось, только сейчас, когда состоялась встреча, он понял, какое напряжение ума, воли, моральных сил требовалось от неё, чтобы играть свою опасную роль. Наташа, Наташка, что ты за человек! Откуда черпаешь силы, как тебя хватает на всё. И вдруг в его воображении возникло лицо коменданта. «Как вам моя…» Моя! А какая самоуверенность и восхищение ею! И безграничное самодовольство! Восхищение и самодовольство рядом!.. И чувство жгучей, неодолимой ревности заполнило его, сдавило сердце. Он прислонился горячим лбом к холодному стеклу окна. Горько сжались побелевшие губы, руки безвольно замерли, глаза уставились в одну точку. Но вот он подавил вздох и медленно открыл форточку. В тёплую комнату ворвался морозный воздух, бросив в лицо щепотку колючих снежинок. Николай ощутил их холодное касание. И в тот же момент выдержка окончательно покинула его: воображение угодливо рисовало картину одну страшнее другой. Он заметался по кабинету. Николай уже почти не сомневался в падении Наташи.
Но этого не может быть!
А почему не может? Она всего лишь женщина.
А женщины всегда неожиданны, в большом и в малом, тем более — красивые. Кто знает, чем она живёт сейчас, что скрывается под весёлой улыбкой? Он остановился, точно ударился грудью о невидимую преграду, резко потряс кулаками и безвольно опустил их. Ответы на его вопросы не приходили. И вдруг он посмотрел на себя со стороны и понял, что до этого момента совершенно не знал себя. Всё происходящее было для него настоящим откровением. С трудом сдерживаясь, он налил из графина воды, жадно глотнул и звонко стукнул о стекло стола стаканом. Но это не уменьшило его страданий. Не хотел думать о ней, но думал; не хотел видеть её, но она возникала из ничего, предельно зримо. Это усиливало боль. Выхода, казалось, не было. В своей беспомощности он напоминал залетевшую в комнату птицу, которая, пытаясь выбраться на волю, уже разбила в кровь грудь, но вновь вновь упорно ударялась в оконное стекло.
Николай сдавил ладонями виски, под кожей бился живой, пульсирующий ручеёк. Но почему Наташа была так весела и счастлива при встрече с ним? Конечно, она была очень рада. Или он совершенно перестал понимать свою жену? Николай восстанавливал в памяти каждое её слово, движение, лицо, чистые, открытые глаза, высокий, спокойный лоб, мягкие пряди волос на нём. И только теперь он рассмотрел что-то непостижимое в её глазах: Наташа смеялась, а глаза оставались печальными, боль и тоска были в них. И вспомнил он день, когда она уходила на задание. «Наташка, я думал ты глаза мажешь сливочным маслом, а они от природы такие». «Дурачок ты мой, тоже, кстати, от природы. Не бойся ты за меня. Не сомневайся. Я люблю тебя. Но не скрою, счастлива я не только этим. Я должна и хочу идти по жизни своей дорогой. И пусть этот путь будет рядом с твоим, — но мой! И наивысшее для меня счастье — не свернуть, не уступить никому, как бы тяжёл и сложен ни был этот путь».
Он подошёл к окну. Взъерошенный воробей опять сидел на берёзе, задиристо раскрывая клюв. «Опомнился», — забыв на мгновение о Наташе, усмехнулся Николай, и вдруг почувствовал себя легко и свободно, хотя вновь думал о ней. «Не дурачок, а здоровенный дурак и последняя скотина. Как можно было такое подумать о Наташе!?..»
В дверь громко постучали.
— Войдите, — спокойным голосом сказал Николай, и по его лицу нельзя было определить, что он только что пережил душевную бурю.
На пороге появился полицейский из первого взвода — Пеньков.
— Разрешите доложить, господин капитан!
— Докладывай.
— Вопрос, господин капитан, очень важный, — таинственно произнёс Пеньков, оглядываясь по сторонам. Вид его был почтительно робок, но как он ни старался, наглости до конца скрыть не мог.
— Прежде всего не кривляйся! Степень важности твоего доклада определю я.
— Я действительно по делу.
— Давай.
— Мне предложили вступить в подпольную организацию, которая существует в нашей роте.
— Ну?
— Организация, говорю…
— Не мямли, говори толком.
— Я и говорю…
— Значит, организация в роте?
— Да.
— И тебе предложили в неё вступить? — собираясь с мыслями, спросил Николай.
— Так точно!
— А ты?
— Согласился, конечно, и вот пришёл к вам.
— Значит, согласился?
— Да.
— А что за организация, узнал?
— Как — что? — не понял Пеньков.
— Да так! Может быть, это общество по выращиванию цветов или разведению породистых собак?
— Что вы, господин капитан, — испуганно сказал Пеньков, — это коммунисты!
Николай строго посмотрел на полицейского:
— Ты отвечаешь за свои слова? Какие в нашей роте могут быть коммунисты?
— Господин капитан, — ещё больше испугался Пеньков, — я точно говорю.
— Хорошо, а кто предлагал?
— Белов!
— Какой это Белов?
— Виктор Белов из второго взвода.
— Что он тебе сказал? Только подробно!
— Я подробно, — заторопился Пеньков, — мы с ним вроде дружим…
— «Вроде» — или дружите?
— Я, конечно, для виду. Покурим когда, словечком каким перебросимся…
— О чём?
— Да так, кое-что…
— Точнее!
— О доме, когда — о девчатах…
— Так… — протянул командир роты и бросил на Пенькова тяжёлый взгляд. Полицейский поёжился — ничего хорошего глаза капитана ему не обещали.
— Ну?
Пеньков вздрогнул.
— Про переводчицу из комендатуры рассказывал…
— Какую переводчицу?
— А ту, что сегодня с майором Шварцем приезжала…
— Так, дальше.
— Девушка, говорит, будто хорошая, а…
— Довольно, говори дело! Как он тебя вербовал?
— Вот когда мы про переводчицу закончили, Белов и начал меня агитировать в подпольную организацию вступить.
— Что он сказал?
— Хочешь, говорит, грязь с себя смыть — за Родину бороться — вступай в нашу организацию.
— Прямо так и сказал?
— Ага.
— А ещё что?
— Будешь знать пока только меня, говорит.
— Дальше!
— Дело, говорит, у нас верное, люди надёжные.
— Так…
— Я согласился. Для пользы дела.
— Молодец!
— Так точно! То есть извините, рад стараться, господин капитан.
У Николая отлегло от сердца — это было не самое худшее, Пеньков мог выйти прямо на гестапо.
— Молодец, Пеньков! Надеюсь, ты понимаешь значение…
— Господин капитан, — захлебнувшись от восторга, перебил Пеньков, — я понимаю, вы можете полностью положиться на меня!
— Хорошо.
— Я, господин капитан, сразу понял, что Белов человек ненадёжный.
— Понятно, Пеньков. Но если отбросить ваш последний разговор с ним, то в чём проявляется его ненадёжность?
Пеньков явно смутился. Такого вопроса он не ожидал.
— Вообще… Трудно сказать…
— Видишь? Трудно. Одним словом, задача тебе такая: соглашайся окончательно, войди в доверие, постарайся всё хорошенько разузнать — кто входит в организацию, какие задачи ставят перед собою.
— Есть!
— И поосторожнее. Пойми, дело это очень серьёзное. Спешка не годится!
— Всё будет, как вы приказали, — с готовностью проговорил Пеньков. — Торопиться я не буду. Он сам опять со мной заговорит. А я потом всё вам.
— Отлично!
— Я, господин капитан, ещё за дружком его приглядываю — Сергеем Терентьевым. Тоже гусь хороший. Ещё хлеще Белова будет.
— Ты не распыляйся. Сейчас твоя главная задача — Белов! А потом мы и до его дружков доберёмся. От нас не уйдут!
— Это точно, господин капитан, не уйдут!
— А теперь за дело, Пеньков.
— Разрешите идти?
— Идите.
Пеньков, лихо стукнув каблуками, вышел.
«Этого нужно было ожидать, — подумал Николай, — но пока ничего страшного не произошло».
По опыту городского подполья в роте была установлена сложная и надёжная система конспирации. Каждый член подпольной организации знал только двух товарищей. В случае провала одного человека разрывалась цепочка, выпадало одно звено. Раскрыть всю организацию было практически невозможно. Сам Николай был неуязвим: о нём знал только один человек — командир первого взвода лейтенант Антонов.
Николай вызвал Антонова и рассказал ему о случившемся. Изучив личное дело Пенькова, они убедились в логичности его поведения. Сын кулака-бандита затаил лютую злобу на всё советское, но вёл себя очень умно. Виктор Белов не случайно пытался завербовать его. Скромность, выдержанность, доброжелательность по отношению к товарищам давали повод думать, что Пеньков человек честный.
В тот же день Виктор был вызван в кабинет командира роты.
Плотно усевшись в широком кресле, Николай с нажимом смотрел на Белова, а тот стоял навытяжку, лицо его выражало полную непогрешимость и готовность выполнить малейшее желание своего командира.
Коновалов, во взводе которого служили Виктор и Сергей, сначала всё отмалчивался и делал вид, что между ними ничего не было. Тоже осторожничал. А затем, вскоре после прихода нового командира, как-то сразу заметно повеселел, и тогда состоялся между ними серьёзный разговор. Виктор стал членом подпольной организации и получил задание завербовать одного человека.
Виктор остановился на Пенькове, который сразу согласился участвовать в подпольной работе. Это уже было кое-что! Но всё-таки не об этом мечтал Виктор, а об активных, открытых действиях. Терпеть, ждать и таиться он не хотел…
Но зачем его вызвал командир роты, на которого он не мог смотреть без тошноты, — так ненавидел! Неужели что-то уже пронюхал? Смотри, развалился в кресле! Сразу видно — барчук! И физиономия, как по заказу, — препротивнейшая! Влепить бы пулю между глаз! Однако — терпи, держись, Витька!
— Как жизнь, Белов? — насмешливо спросил командир.
— Нормально.
— Хорошо?
— Вполне!
Виктор невинными глазами смотрит на капитана, а в голове бьётся тоскливая мысль: «Тянет, сволочь, что-то знает».
А Николай удовлетворённо думает про Белова: «Молодец, артист хоть куда, ничего нельзя прочесть на его лице из того, что не нужно знать постороннему. Прямо голубка невинная! А глаза всё ровно озорные. Посмотрим, что будет дальше».
Пауза несколько затянулась. Николай внимательно рассматривает Белова, а затем тихо спрашивает:
— Итак, Белов, давно ты состоишь членом подпольной бандитской организации?
— Никак нет, не состою, тут какая-то ошибка!
Командир строго смотрит в лицо полицая, но оно
спокойно. Опять наступила тяжёлая пауза. Капитан строго постучал пальцами по столу и тихо сказал:
— Не притворяйся, нам всё известно.
— А я ничего не понимаю!
— Не понимаешь?
— Абсолютно!
— А командиру можно врать?
— Никак нет!
— А ты врёшь!
— Никак нет, я не понимаю, о чём вы говорите.
— Так-таки не понимаешь? Хорошо. А кто агитировал Пенькова? Молчишь?
Казалось, Виктор шлёпнулся в лужу — так он оторопел, но только на одну секунду.
— Что же ты молчишь? Кто агитировал? Пушкин? Может быть, лейтенант Антонов?
Виктор уже поборол растерянность, разыграл недоумение, но ему это не очень удалось.
Командир роты продолжал, не давая опомниться:
— Отвечать быстро! Кто руководитель? Состав организации?
— Господин капитан, ей-богу, я ничего не понимаю! Какая организация, что этот придурок выдумал? — Виктор уже оправился от неожиданности: — Я ему в шутку, а он бежит к вам. Выслужиться хочет!
— Довольно. Прекратить детский лепет и отвечать на мои вопросы.
Белов молчит.
— Значит, не признаёшься? — повысил голос командир роты. — Хорошо, мы найдём способ вытрясти из тебя признание вместе с твоими куриными мозгами!
— Господин капитан!
— Молчать!
— Это проще всего, а разобраться, конечно, труднее.
— Молчать! Грязный изменник! В гестапо! Там быстро разберутся! Антонов!
— Слушаю.
— Немедленно сообщите в гестапо, что у нас в роте появились коммунисты.
— Есть!
И опять Белову:
— Врёшь, мерзавец! Не хочешь разговаривать со своими — там заговоришь! Изменникам в гестапо умеют развязывать языки!
— Не пугайте, господин капитан, — сказал Виктор с той долей спокойствия, которая означала верхнюю границу терпения: за ней мог последовать взрыв.
Но капитан, казалось, не замечал этого и продолжал кричать резким, неприятным голосом:
— Молчи, плебей! Изменник!
Виктор побледнел, прикусив нижнюю губу, дрожа от ненависти. Не сдержавшись, он негромко, но твёрдо сказал:
— Я не изменник и умру честным человеком. Я горжусь тем, что я советский человек! А в гестапо или у чёрта на рогах я всё равно ничего не скажу вам, продажным шкурам! Проходимцы, шпана нечёсаная, вскормленная на русском поте и крови! Иуды!
— Но, но… — растерянно протянул Антонов.
— Что — «но-но»? — злорадно кричал Виктор. — Скоро лопнет весь ваш маскарад, как мыльный пузырь! Не боюсь я вас, сволочи вы продажные, а не люди!
— Довольно! — резко перебил его Николай. — Монолог твой несколько затянулся. И кто тебе дал право оскорблять других, читать им нотации, когда ты сам изменил Родине?
Виктор окончательно потерял над собой власть.
— Не тебе судить меня, гнида, — в бешенстве крикнул он и бросился на капитана с кулаками.
Антонов обхватил его сзади мёртвой медвежьей хваткой, сильно тряхнул и, тяжело переводя дыхание, произнёс:
— Ну и разошёлся. Всё это чертовски интересно, но ты всё-таки сядь и остынь!
Виктор, ничего не понимая, покосился на командира роты, который вдруг спокойно спросил:
— Что будем делать, товарищи! Пеньков очень опасен. — И, обращаясь только к Виктору, добавил: — Да не таращь ты на меня свои совиные глаза, осваивайся быстрее. Мы и так засиделись. А испытание на запас прочности ты выдержал блестяще.
Виктор дико смотрел на командира роты.
— Пенькова нужно немедленно убрать, — предложил Антонов.
— И провалить всё дело, — в тон ему продолжал Николай. — Нет, так поступать нельзя. Немцы и без того доведены до белого каления и не очень-то доверяют полиции. Сделаем так: Белов в разговоре с Пеньковым скажет, что пошутил. Кстати, мы убедились, что делать это он умеет превосходно. Посмотрим, что предпримет Пеньков. Вероятнее всего, опять прибежит ко мне. Это не страшно. Тем временем его уберут городские товарищи! А самим нельзя — докопаться могут. Ясно?
Виктор одурело озирался и, не найдя сразу слов, чтобы выразить захлестнувшие его чувства, только недоуменно и недоверчиво улыбался. Наконец, уверовав окончательно во всё происходящее, неловко схватил и пожал руку Антонову, затем бросился к Николаю и несвязно заговорил:
— Это прекрасно! Я готов каплю по капле всю кровь за Родину… И не я один!
Застыдившись своего порыва, Виктор судорожно вздохнул и уже более спокойно сказал:
— Я прошу, дайте мне любое задание. Я всё выполню, всё сделаю, чтобы опять стать советским человеком.
— Видно, Белов, — проговорил с улыбкой Николай, — ты и не переставал им быть. Успокойся, сожмись в комок, будь, как пружина. Вся борьба ещё впереди! А смелым судьба помогает, и ты всё успеешь сделать! Но не будь опрометчивым, подбирай себе товарищей более подходящих, чем Пеньков.
Виктор смотрел в открытое лицо Николая, и теперь оно казалось ему прекрасным.
Тяжёлый день
Из карательной роты Шварц и Наташа приехали в комендатуру. Точно по расписанию, утверждённому комендантом, начался приём посетителей по различным хозяйственным вопросам.
Наташа чувствовала огромную усталость, держалась из последних сил.
Ганс не замечал её состояния, был по-прежнему предупредителен и любезен. Его не покидало хорошее настроение. В конце дня, когда они остались в кабинете вдвоём, он многозначительно спросил:
— Не возражаете, Наташа, если я вам задам один вопрос?
Она ничего не ответила, взглянула на него удивлённо: обычно Ганс задавал свои вопросы, не спрашивая на то разрешения.
— Мы достаточно хорошо знакомы, — начал Шварц, — и мне кажется, что нам пора быть более откровенными. Я не скрываю своего расположения к вам ни от вас, ни от окружающих.
Наташа потупила глаза:
— Я очень благодарна вам.
Её слова, внешне бесстрастные, вызвали у коменданта лёгкую, еле уловимую досаду, но он продолжал с прежним энтузиазмом:
— Мне кажется, что вы тоже ко мне не совсем безразличны. — Ганс опять улыбнулся. — И если это так, а я очень надеюсь на это, то наступила пора выяснить наши отношения до конца.
— А что же в них неясного? — спросила Наташа и посмотрела на него такими невинными глазами, что он заворочался в кресле и встал. Наташа продолжала сидеть. Она прекрасно понимала, к чему клонит Шварц, которому надоело играть роль сказочного принца возле прекрасной принцессы-недотроги, и он решил спуститься со сказочных высот на землю.
— Наташа, вы так неотразимы, я так привык к вам, что не могу без вас жить!
— Разве нам предстоит разлука? — с тревогой спросила она.
— Нет, я совсем не о том, — возразил он, — я прошу вас, чтобы вы стали совсем моею.
Наташа разыграла возмущённую невинность:
— Как легко и просто оскорбить и обидеть бедную девушку! Как вам не стыдно! За кого вы меня принимаете?
— Вы меня неправильно поняли, — оторопело сказал Ганс.
— Нет, правильно.
— Я не хотел вас обидеть.
— Но это нехорошо!
— Что — нехорошо? — не понял Ганс.
— Я не хочу разбивать семью.
Наташа волновалась, ей было очень страшно, но страх перемешивался с задорным любопытством: «Что будет дальше?»
— С моей женой ничего не случится, — недовольно, как учитель бестолковому ученику, произнёс Ганс. — И вообще, при чём тут жена? Я люблю вас, вы любите меня.
— Разве я вам объяснялась в любви? — кокетливо спросила Наташа.
— Нет, но я знаю это.
— Однако…
— Вы с этим не согласны?
— Как вам ответить…
— Надеюсь, вы не будете отрицать, что любите меня?
— Это и есть ваш вопрос?
— Да!
— Нет!
— Как вас прикажите понимать? — встрепенулся Ганс. Самоуверенность слетела, как лёгкая пыль при дуновении ветра.
— Не буду отрицать.
Ганс внимательно посмотрел на девушку, но радости, которую ожидал увидеть на её лице, не было. А он-то был уверен, что Наташа в открытую не говорит о своей любви только из-за естественной в её положении скромности, понимая, какая пропасть лежит между ним — майором германской армии — и ею — обыкновенной русской девушкой. Он, Шварц, всегда был с ней слишком великодушен, внимателен, всячески старался, насколько это было возможно, не подчёркивать своего превосходства. Он даже совершенно сознательно разрешил ей влюбиться в него!
— Наташа, согласитесь, что наши отношения сейчас выглядят несколько смешно.
— Смешно? Что же в них смешного? И вообще, какие могут быть отношения у коменданта с его переводчицей?
Ганс оторопел. Вот чёртова девчонка! И за словом в карман не лезет, и держится, как баронесса перед сватовством.
А Наташа именно сейчас до боли в сердце почувствовала, как она жгуче ненавидит и презирает этого самодовольного солдафона, развратника и труса, деспота, убийцу и ханжу. Как бы она была счастлива, имея возможность высказать хоть крупицу ненависти и презрения, которые она питала к нему. Она резко встала и посмотрела прямо в глаза Гансу:
— Я просто очень устала сегодня. Простите, у меня очень болит голова. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, вы же знаете, как я предана вам.
Ганс посмотрел на неё, и опять узнал свою Наташу, любящую, ласковую и доступную. Он протянул руки к её округлым плечам и нежно наклонил её голову к себе на грудь. Она не сопротивлялась, но тихо сказала:
— Не нужно, сюда могут войти.
Ганс разомлел от восторга. Она права, эта девчонка, всему своё место и время.
Наташа отошла к окну, привела в порядок причёску и, как бы извиняясь, сказала:
— Разрешите, я пойду домой, голова сильно болит.
— Конечно, конечно. Счастливого вам пути, до завтра.
Наташа вышла.
Ганс довольно потёр руки. Всё идёт строго по плану и складывается как нельзя лучше. Наташа уже приготовила белый флаг, и завтра он по-солдатски пойдёт на последний штурм этого прекрасного и плохо защищённого бастиона. А сегодня… сегодня нужно на прощание, в последний раз, сходить к фрау Зине. Конечно, Наташе она в подмётки не годится, но зато сладка, как патока, и без излишней скромности и претензий.
Безветренный, слегка морозный вечер. Легко падают и кружатся в медленном холодном хороводе равнодушные снежинки.
Наташа идёт домой. Она не торопится, глубоко вдыхает свежий, заснеженный воздух. На душе у неё тяжело. Шаг за шагом, слово за словом вспоминает она весь день. Слишком много событий и впечатлений! Встреча с мужем, грубые объяснения и домогательства коменданта…
За спиной послышались торопливые шаги — кто-то догонял её.
Наташа сделала шаг в сторону, к забору, и резко обернулась. К ней приблизилась женщина и встала, преградив путь к дому. Наташа попыталась обойти незнакомку, но та тихо, глухим, сипловатым голосом сказала:
— Не спеши, красотка, поговорить нужно.
— О чём нам с тобой разговаривать? — спросила Наташа и узнала женщину. Эта была Зинка-официантка, известная всему городу разгульной жизнью и связями с немецкими офицерами. Наташа прислонилась к забору, нащупала в кармане пальто маленький бельгийской марки пистолет, подаренный ей во время приступа великодушия майором Шварцем. Опустила на пистолет руку и успокоилась.
— Что же молчишь? — спросила она Зинку.
— Разглядываю.
— Ну, и как?
— Красивая, ничего не скажешь!
Зинка смотрела на Наташу сверху вниз, глаза сверкали злобой. Высокая, полная, припорошенная снегом, она была похожа на снежную бабу.
— А ты тоже ничего, настоящая русская красавица. Откормленная, хоть на показ выставляй!
— Смеёшься!
— Нет, от души.
Зинка хмыкнула что-то нечленораздельное и хрипло сказала:
— Была когда-то красавица, да вся вышла. Укатали сивку крутые горки. Ты говоришь — откормленная. Правильно, не голодаю, как другие. А сытый человек быстро забывает все обиды и превращается в свинью! Хочется чего-то хорошего, душа и у меня не опилками набита, не кукла же я! А у свиньи конец один: кормят, поят, холят и… Вот скажи, сколько тебе лет?
— Сколько тебе надо?
— Ты отвечай, когда спрашивают, не задирай носа!
— А ты не кричи, а то совсем разговаривать не буду!
— Ладно, — неожиданно согласилась Зинка. — Так сколько?
— Уже двадцать один.
— Не уже, а ещё. А мне уже тридцать!
— Тоже немного.
— Хватает, пора уже и о жизни подумать.
— О чём же ты до тридцати лет думала?
— Жила. Думать времени не было.
— Вот и дожилась!
— Ты что каркаешь? Дожилась! Подумаешь, а чем я хуже тебя? Чем?
Голос у Зинки жалкий, нет в нём твёрдости, сознания правоты. Зинка сильно волнуется, а Наташа не может понять, чего она от неё хочет. Брезгливо поджав губы, Наташа сердито спросила:
— О чём хотела говорить?
— Может, домой пригласишь? Или брезгуешь? Не надо, мы с тобой одного поля ягоды; сладкие, как мёд, податливы, как кошки.
Наташу передёрнуло, но она сдержала себя:
— Пойдём!
Дома Наташа вела себя, как гостеприимная хозяйка: предложила ужин, поставила подогревать чайник.
Но Зинка от всего отказалась:
— Не егози.
— Что тебе не так? — удивлённо спросила Наташа.
— Я по делу к тебе. Отступись от Шварца! — грубо, но в то же время просительно выпалила она. — Добром тебя прошу! — И вдруг без всякой связи с предыдущим, с отчаянной откровенностью сказала: — Если бы ты только знала, как я несчастна!
Цель странного визита прояснилась: пришла поверженная соперница.
Наташе стало весело.
— Я бы рада, да он теперь не отпустит, — почти миролюбиво возразила она.
Зинка задумалась. По её лицу было видно, что она мучительно пытается что-то понять. И тут Наташа заметила, что Зинка пьяна. Её миловидное полное лицо было красным, переносица покрылась бисером пота, на глаза легла мутная поволока.
— Ты вот что, дева, со мной не шути! — опять с угрозой, хрипло произнесла Зинка. — Уж как ты там знаешь, а Ганса оставь! Он мне самой нужен!
— Тебе от этого какая радость?
— Это уже не твоё дело.
Наступила пауза, она была настолько велика, что, казалось, к концу её собеседницы забыли, о чём разговаривали.
Зинка сидела краснолицая, грудастая, с нелепой причёской по последней моде, которая совершенно не шла к её лицу.
Вернулся с работы Иван Фёдорович, поздоровался, снял пальто и прошёл в свою комнату.
— Дядя?
— Дядя, — ответила Наташа.
— Хороший мужик, сразу видно. А у меня никого! Был муж, а где он теперь? Может, воюет с фашистами, а может, давно в сырой земле.
Опустились печальные глаза, дёрнулся, кривясь, пьяный рот. Зинке стало очень жаль себя.
— Какая моя жизнь? Кому я нужна? Кто я теперь? Подстилка! А пока ты не появилась на моём пути, я жила, как богиня. Ганс был ласковый, обходительный, а теперь… — И, будто чего-то вспомнив, гадко, злорадно улыбнулась.
— Молодая ты, красивая, а дура! Думаешь, ты у него одна. Радуешься, что туза козырного вытянула! Чёрта лысого! Очередная ты, а не единственная. Он и ко мне по старой дружбе тайком похаживает.
— Не верю, — сказала Наташа, не желая объясняться.
— Она не верит! Приходи ко мне сегодня ночью и разуй свои глаза. Она не верит! Влюбилась, да? Умаслил? Наобещал сорок бочек арестантов — и всё без штатов? Ладно. Хватит. Выпить у тебя нету?
— Я не пью, дядя тоже.
— Ничего, ещё запьёшь! Это я точно знаю. Дорога у нас одна. Потом он и тебя бросит. Не верь ему! Это такая сволочь! Липнет, как моль шершавая. Красавец, неотразимый мужчина! Тьфу, — смачно сплюнула Зинка, — килька недожёванная!
Наташа с удивлением и неподдельной грустью спросила:
— Зачем же он тебе такой?
— Запела пташка, — в пьяном изнеможении прошептала Зинка, — а что мне делать, с голоду подыхать?
— Неужели нет выхода?
— Может, и есть, да его искать надо.
Наташа промолчала.
— Да ты сама-то кто? — будто проснувшись, промолвила Зинка. — Какая между нами разница? Подумаешь, любовь у неё! Враньё всё! Даже забудь об этом глупом слове.
— А меня Ганс любит, — с задором сказала Наташа.
Зинка посмотрела на неё; пьяные глаза выражали горькое сожаление.
— Балда, — равнодушно промолвила она, — разнесчастная дура.
Ленивым движением поправила упавшие на глаза волосы и, уставившись на Наташу выпуклыми, немигающими глазами, вкрадчиво, с угрозой сказала:
— Ладно, поговорили и будя! Убирайся из города той же дорогой, какой пришла! У самой сил не хватит — могу помочь.
— А как?
— Что — «как»?
— Как поможешь?
Зинка поняла, что Наташа издевается над ней.
— А так, — зловеще прошептала она, — шепну Гердеру на ушко, пригрею его потеплее и — нет тебя вместе с дядей. И Ганс твой не поможет.
— А что ты шепнёшь?
— Что на ум взбредёт. Чем чёрт не шутит, когда бог спит. Много ли в наше время нужно, чтобы погубить человека? Скажу, что вы подпольщики и всё.
— Кто тебе поверит?
— Опять дура, — самодовольно ухмыльнулась Зинка, — зачем она, правда-то, кому она нужна? Нам не впервой, фокус проверенный. Гестаповцам тоже приходится как-то свой хлеб зарабатывать, им людей не жаль.
— Тебе тоже не жаль?
— А что их жалеть. Все, как волки, грызут друг друга. Нет у меня жалости к людям!
— Просто ты настоящих людей не встречала, не замечаешь их.
— Настоящих? Уж не ты ли настоящая? Видали мы таких! Каждый свою выгоду соблюдает, да только обставляет по-разному.
Наташа с ужасом слушала эти откровения. А Зинка, убеждённая, что ей удалось запугать Наташу, почувствовала своё превосходство над ней и решительно заявила:
— Дошло до тебя, краля? Исчезни подобру-поздорову, отправляйся к отцу-матери, довольно у дяди на шее висеть. Ясно?
— Ясно, — бессознательно ответила Наташа и почувствовала, что притворяться и сдерживаться она больше не может. — Ты всё сказала? — очень тихо спросила она.
— Всё! — грубо ответила Зинка.
— Хорошо, — шёпотом, чтобы не сорваться на крик, выдавила Наташа, — а теперь слушай меня внимательно: ты, паршивая дрянь, немедленно убирайся отсюда вон!
— Чего? — раскрыла рот Зинка.
— Убирайся вон и никогда больше не попадайся на моём пути!
Такой оборот дела застал Зинку врасплох. Она растерянно смотрела на возмущённую Наташу и не двигалась с места.
— Ты что, русский язык совсем разучилась понимать? — с угрозой выкрикнула Наташа. — Вон отсюда!
Зинка будто проснулась окончательно, быстро, как от удара хлыста, вскочила, набросила на плечи пальто и, ни слова не говоря, вышла.
Наташа прошла следом за ней в сени, заперла на засов дверь, вернулась в комнату и упала на диван. Вошёл Иван Фёдорович.
— Ну, что ты, Наташенька? — участливо сказал он.
— Ничего, — пытаясь улыбнуться, ответила Наташа, — устала…
— А зачем пожаловала эта фурия?
Наташа рассказала всё, и Иван Фёдорович сразу забеспокоился:
— Наташенька, это не простая угроза. Такая, как Зинка, способна на любую подлость. Она давно у нас на примете. По её доносу была арестована жена Ивана Ивановича, которая ей ничего плохого не сделала, а у тебя с Зинкой, по её мнению, переплелись любовные тропки. Это опасно. Очень, — задумчиво повторил он и, уже надевая пальто и перчатки, добавил: — Что ж, она сама подписала себе смертный приговор, который уже давно заслужила. Я уйду ненадолго, Наташенька, вернусь, — будем ужинать. Похлопочи тут.
— Иван Фёдорович, милый, — бросилась к нему Наташа. — Не посмеет она, человек всё-таки.
— К сожалению, человек, — ответил Иван Фёдорович, — но так, девочка, нельзя. Это уже не только наше с тобой личное дело. На авось сейчас не проживёшь. На бога надейся, а сам не плошай! Пошёл я.
Ивана Фёдоровича не было долго. Прошли уже все сроки, давно остыл ужин. Наташа начала нервничать, нетерпеливо посматривала на входную дверь, напряжённо прислушивалась. Наконец не выдержала — оделась и вышла во двор.
Улица была пуста. В воздухе висела тёмная, зловещая тишина. Наташа медленно двинулась в сторону комендатуры, пристально всматриваясь вдоль улицы, в мрачный просвет между домами.
Впереди показалась фигура человека, медленно бредущая ей навстречу. Наташа подумала, что это может быть Иван Фёдорович. И тут же в густую тишину ночи бесцеремонно врезался сердитый рокот автомобиля.
Наташа задержалась, затаила дыхание. Человек подходил к ней неторопливой, уверенной походкой. Но это был не Иван Фёдорович, она увидела ясно.
Не заглушая мотора, возле неё, скрипнув тормозами, остановилась легковая машина.
В тот же миг прохожий, который был уже рядом, неожиданно бросился к Наташе, грубо обхватил, закрыл рукавом пальто её лицо. Из машины выскочили ещё двое…
Хлопнули, как выстрелили, дверцы, автомобиль рванулся с места, быстро набирая скорость.
Наташа лежала на заднем сиденье между двумя мужчинами. Она ничего не видела — лицо её было завязано шарфом, руки и ноги крепко стянуты.
Минут через десять автомобиль остановился. Наташу на руках внесли в дом и, как куклу, усадили в мягкое кресло.
Она ничего не могла понять — всё было так неожиданно и дико. Сидела она молча, старалась мобилизовать волю и мысли.

— Твоя настоящая фамилия? — раздался хорошо поставленный баритон, принадлежавший, видимо, тому прохожему, который первым набросился на неё.
— А придуманная мной, — сказала она, чтобы выиграть хоть немного времени, — вам известна?
— Конечно.
— А другой у меня, к сожалению, нет.
— Почему — к сожалению?
— Тогда я могла бы удовлетворить ваше любопытство.
— Не умничай!
— Я буду стараться.
— Нам всё про тебя известно.
— А мне нет.
— Не дерзи.
— Вам могу посоветовать то же.
— Как твоя фамилия?
— Я уже сказала.
— Повтори ещё раз.
Наташа не ответила. Страх прошёл. Мысли бежали чёткие и ясные. «Кто они? Что им нужно?» Вспомнила слова полковника Снегирёва: «Осторожность — твоё главное, а иногда и единственное оружие. Ты должна остерегаться всех — и врагов, и своих. Свои люди иногда бывают для разведчика опаснее, чем враги. Ведь ты для них — изменник! Правды о тебе не должны знать ни свои, ни враги. И в этом заключается дополнительная трудность твоего и так тяжёлого положения».
— Будешь отвечать?
— Кому?
— Это не важно.
— Для вас — может быть, для меня — очень.
— Мы советские патриоты, которым поручено судить тебя за измену Родине.
— Кто поручил? — с вызовом спросила Наташа.
— Подпольный центр.
— Судите, — сказала Наташа и поняла всё. Это очередной фокус Демеля: проверка, дешёвая и грубая, рассчитанная на глупцов. Неужели и Шварц согласился подвергнуть её этому испытанию? Едва ли! Начальник гестапо по такому пустяку мог и не посоветоваться с комендантом.
— Развяжите меня, — строго сказала Наташа.
— Хорошо и так, — пропел баритон.
— Орлы, — с насмешкой и горечью сказала Наташа, — на одну девчонку трое, и сами дрожат как осиновые листы от страха.
— Это не есть страх, а осторожность, — раздался голос, который убедил Наташу в правильности её предположения. Голос принадлежал Гердеру. Наташа сразу узнала этот голос, хотя он и был сильно изменён.
— Чего же вам бояться? — весело спросила Наташа.
— Вопросы будем задавать мы.
— А я не буду на них отвечать, пока вы не развяжете меня. Интересная получится беседа.
Наступила пауза. Где-то в глубине дома хлёстко хлопнула дверь.
Наташа почувствовала, как чьи-то грубые руки торопливо, но осторожно развязывают верёвку на ногах.
— Теперь руки, — сказала она с той интонацией, по которой нельзя было понять, просит она или приказывает. Сказала и с удовольствием пошевельнула затёкшими ногами.
— Отставить! — выдохнул Гердер.
— Буду молчать, — обиженно промолвила Наташа.
— Хорошо, мы развяжем и руки, но повязку с глаз вы снимать не будете.
Ей развязали руки.
— Что толкнуло вас на измену?
— Я не считаю себя изменником.
— Но вы изменили Родине!
— Нет!
— Как это понимать?
— У каждого своя родина.
— Не умничай, — прогудел баритон, — как ты будешь в глаза смотреть людям?
— А я в вашей повязке щеголять буду.
— Какую нужно иметь силу воли, чтобы перед смертью шутить! — с угрозой и иронией проговорил обладатель красивого баритона.
— Я тронута вашим комплиментом.
— Довольно шуток, — с раздражением сказал Гердер. — Почему вы пошли на службу к немцам?
— Это моё личное дело.
— Положим, это совсем не так, — опять запел баритон.
— Кроме того, служу не одна я. И они хорошо платят — нужно же как-то жить.
— Это не оправдание. Вы работаете в военной комендатуре, принимаете прямое участие в мероприятиях против советского народа, открыто помогаете немцам!
— Вы говорите со мной таким тоном, как будто такие, хрупкие и немощные женщины, как я, а не вы, богатыри-мужчины, виноваты в нашествии немцев на русскую землю.
— Мы боремся, мы не сложили оружия!
— Против кого?
— Против фашистов!
— Где уж вам, — с издёвкой, насмешливо сказала Наташа, — вы боитесь пикнуть, когда видите немецкого солдата.
— Это ты брось, — с угрозой ответил баритон, — тебе не помогут твои увёртки. Ты забыла о чести и совести русской женщины — ты находишься в любовной связи с майором Шварцем!
— А любовь не разбирается ни в политике, ни в национальностях.
— Вы его любите? — спросил Гердер.
— Это не ваше дело!
— Отвечайте на вопрос!
— Подайте команду. О любви очень удобно говорить, приняв стойку «смирно».
— Дело ясное, — процедил баритон.
— Чем вы занимаетесь в комендатуре? — опять спросил Гердер.
— Работой.
— Конкретнее.
— Перевожу. Что ещё?
— Какие секреты вам доверяет комендант?
— Ничего он мне не доверяет!
— А если подумать.
— Я всегда думаю.
— А всё же.
— Что он мне может доверить? Немцы не дураки — это известно каждому.
— А мы, по-твоему, дураки?
— Есть истины настолько очевидные, что они не нуждаются в подтверждении.
— Что? — закричал баритон. — Ты не забывайся!
— Вы — тоже! Если вам поручили меня судить — судите! Мне надоела пустая болтовня. Я с презрением отвергаю ваши пылкие заботы о моей морали и совести.
— Смотри, какая! Не боится. Посмотрим, как ты запоёшь сейчас.
— Не пугайте!
— Тогда слушай: за измену Родине и народу подпольный суд советских патриотов приговорил тебя к высшей мере наказания — смертной казни через повешение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведён в исполнение немедленно.
— Глупо! — выкрикнула Наташа. — Мерзко и глупо. За меня одну майор Шварц утром расстреляет сотню человек! Хорошие же вы патриоты!
— Хитра, — насмешливо сказал баритон.
— Нет, это не хитрость. Так оно и будет, как я сказала!
— А почему ты так уверена, что из-за тебя Шварц арестует заложников? Ты — русская.
— Он любит меня! И если что-либо со мной случится, все вы будете висеть на телеграфных столбах!
— Ого, — удивился баритон, — девушка-то с острыми коготками.
— Но повесить нам её всё-таки придётся, — вступил третий, который до этого молчал.
— Вешайте! — истерично закричала Наташа. — Вы ни на что другое не способны! От виселиц вам не будет легче!
— Довольно, — по-немецки сказал Демель. — Наташа, снимите повязку и примите мои глубокие извинения и искреннее восхищение вами. Простите нас, надеюсь, мы не были очень грубы? Ещё раз простите великодушно. Что делать — долг службы. Откровенно говоря, я знал заранее, чем всё это кончится, и в душе был против этой акции.
Иван Фёдорович встретил Наташу радостной улыбкой:
— Где ты была?
Наташа быстро, но со всеми подробностями рассказала о случившемся.
— Грубая, топорная работа, — задумчиво сказал Иван Фёдорович, когда Наташа умолкла, — но она настораживает. Что это — плановая проверка или они подозревают тебя?
— Не знаю, — устало сказала Наташа, — но если судить по поведению Шварца, то пока должно быть всё в порядке.
— Разберёмся, — уверенно проговорил Иван Фёдорович. — Давай ужинать, доченька.
После ужина начался обычный вечерний разговор. Вид у Наташи был усталый — очень напряжённым для неё был этот день. Но отдыхать было некогда.
Иван Фёдорович понимал состояние Наташи и поэтому говорил, торопясь и смущённо покашливая:
— Обстановка вынуждает нас активизироваться. Необходимо срочно раскрыть сущность «Крота» и убить его в зародыше. Первую часть задачи можешь выполнить только ты.
— А как это сделать?
— Нужно точно узнать, что кроется под этим кодовым названием. Пока мы точных данных не имеем.
— А зачем это, если «Кроту» не суждено родиться?
— Указание центра. Возможно, эти данные в какой-то мере помогут определить общие, стратегические замыслы противника.
— Что я должна делать?
— Вчера Шварц получил пакет с секретной инструкцией, в которой регламентируются сроки проектирования и порядок этих работ по объекту. Может быть, в ней есть и какие-либо технические характеристики.
— А если нет?
— Без риска нельзя, Наташенька. Постарайся раздобыть, скопировать или хотя бы ознакомиться с содержанием документа.
— Понятно, — задумчиво сказала Наташа, — кое-что я об этой инструкции знаю: она находится в сейфе у коменданта.
— Ключи к сейфу готовы. Придётся немного потрудиться, Наташенька.
— Придётся, — вяло согласилась Наташа. — Я спать хочу, Иван Фёдорович. Устала. У меня такое предчувствие, что должно произойти что-то необычное, страшное.
— Не верь предчувствиям, девочка. Предчувствия да суеверия — это признаки слабости и возраста. Ложись спать. Всё будет хорошо. Ты действительно переутомилась.
В это время раздался тихий, но настойчивый стук в окно.
— Это Коля! — встрепенулась Наташа.
— Не может быть — это безумие! — сказал Иван Фёдорович, выходя в сени.
Наташу не обмануло предчувствие: пришёл Николай. Он был растерянный и смущённый.
— Что случилось? — тревожно спросил Иван Фёдорович.
— Ничего. Всё в порядке. Я на одну минуту… К Наташе.
— Как же можно так неосторожно? — недовольно промолвил Иван Фёдорович.
— Меня не видели… Я скоро уйду…
Наташа, ошеломлённая внезапным появлением мужа, замерла, но уже в следующее мгновение вспорхнула легко и быстро, будто её ветром подняло, и повисла на шее Николая. Его шинель дышала морозом, шапка сдвинулась набок. Наташа целовала его холодные губы, щёки, глаза и заливалась слезами.
Иван Фёдорович безнадёжно махнул рукой и ушёл в свою комнату.
— Сними шинель, — поборов первое волнение, сказала Наташа. Он стоял рядом с ней, большой, растерянный и непривычно беспомощный…
Всё было ясно, понятно и очень хорошо. Её голова лежала у Николая на груди, она слышала стук его сердца. Волосы словно расплескались, мягкие, невесомые. Он крепко сдавил её плечи.
— Раздавишь, — прошептала она.
— Я хочу тебе сказать, — прошептал он и почувствовал, как она замерла, прислушиваясь, — я безумно люблю тебя, Наташа… И верю тебе.
— Я тоже, — ответила она и тихо засмеялась. — Ревнуешь?
— Да, было, но недолго, — ответил Николай и рассказал, ничего не утаивая, о своих сомнениях. Притом говорил о своей слабости иронически-добродушно, смеясь над собой и радуясь, выбирая из всего, что недавно мучило его, лишь комическое — так теперь представлялось ему всё пережитое. Что-то непобедимо весёлое и жизнеутверждающее чудилось ей в голосе Николая. Она прижалась к нему и еле слышно прошептала:
— Родной мой, любимый, единственный… Мне теперь ничего не страшно!
Наташа засыпает, а Николай осторожно, чтобы не разбудить её, надевает шинель и уходит в зимнюю ночь.
Каштановые волосы Наташи разметались по подушке, чёрные ресницы прикрыли глаза, правая щека, как в детстве, лежит на ладони.
Широкое белое поле раскинулось, разлилось… Ровное, пустое, оно что-то напоминает Наташе. Она идёт по мягкому, сыпучему снегу. Ей трудно, ноги проваливаются почти до колен, сильно бьётся сердце, тяжело дышать. Навязчивая мысль тревожит мозг: что-то она должна вспомнить. Но что? А вспомнить нужно обязательно, очень важное… Наташа идёт всё дальше. И вдруг перед ней возникает фигура женщины, она словно парит в воздухе и говорит голосом Анны Яковлевны — учительницы литературы и русского языка:
— В классе ты хорошо читала Пушкина, Наташа, а теперь скажи своё, что ты оставишь людям?
— Я стихи не умею, — испуганно отвечает Наташа и изумлённо смотрит на Анну Яковлевну. Мурашки пробегают по спине. — Анна Яковлевна, вы же умерли!
— Люди не умирают, — серьёзно и строго говорит учительница, — частицы их сердец переходят в других людей и живут в их памяти делах. А что ты оставишь людям? Ты не умеешь писать стихи, но это не важно! Можно считать своим сказанное и сделанное другими, если ты не отступаешь от этого!
— Вспомнила! Я вспомнила! «Светить всегда, светить везде… Вот лозунг мой и солнца».
— Умница ты, Наташа!
И опять она идёт по бесконечно длинному снежному полю. Только теперь идти легко, ноги совсем не касаются снега. Спокойная, нежная, какая-то необыкновенная глубинно-русская мелодия звучит над белым полем. Плавно поют скрипки, ласкает грудной голос виолончели, в паре с валторнами проводит свою партию фагот. Вот дружно вступил весь оркестр, и над морем звуков призывно прозвучал высокий, чистый голос трубы. Бухнул большой барабан, и глубоко, тяжело вздохнули контрабасы…
Наташа вздрогнула. Сердце сладко замерло от предчувствия чего-то ещё неосознанного, но прекрасного. Блаженство и радость переполнили её. А снежного поля больше нет. Впереди раскинулось большое в белом весеннем наряде село. Наташа узнала его. Широкий зелёный выгон, деревянная серая школа, старая, полуразвалившаяся церквушка в зарослях одичавшей вишни и густой сирени, покрытый жёлтыми кувшинками пруд… А вот родной дом и возле него маленькая, худенькая женщина… Мама, мамочка, родная, милая моя! Наташа бежит легко и быстро и падает в крепкие объятия. Сухие тёплые руки нежно гладят её лицо, шею, теребят мягкие, непослушные волосы.
— Трудно, доченька? — Голос матери ласковый, приветливый, но чуткая Наташа улавливает в нём суровость. Наташе очень хорошо, она говорит, всхлипывая, как ребёнок, которого напрасно обидели, а затем пожалели:
— Трудно, мамочка, очень трудно!
— Ничего, ничего, крепись! Сейчас всем трудно. А ты сильная! Ты умница! Ты — моя дочь!
Наташа не отрывает взгляда от матери и видит, как она молодеет прямо на глазах. Разгладились морщины, порозовели щёки, разогнулась сутулая спина, распрямились плечи и грудь.
— Мама, мамочка, ты стала опять молодою!..
Сильная волна подняла Наташу, она плавно парит в воздухе. И вдруг фигура матери начала разрастаться вширь и ввысь, превратилась в огромное облако, которое медленно оседало на поля… Колосится, волнуется пшеница, серебром блестит гладь реки. Вдали стоит стеной тёмный, таинственный лес. Подмосковный лес! Самый красивый лес на свете!
Солнечный свет волнами плывёт на землю. Необыкновенный восторг переполняет Наташу. Как хорошо!
И опять ласковые руки матери обнимают её, и Наташа слышит родной голос:
— Какая ты большая стала, доченька.
— Нет, мама, нет! Я маленькая. Мне страшно.
— Ничего, крепись. Ты не одна. Страх пройдёт. Ты сильная, доченька!
И всё исчезло, только чудесные звуки музыки слышит Наташа и, успокоенная, летит плавно, как большая птица, медленно взмахивая руками…
Тяжело молодым, а каково старым? Ивану Фёдоровичу не даёт спать больное, беспокойное сердце. Он ясно слышит, как стучит этот вечный труженик, старается, торопится и вдруг начинает двигаться еле-еле. И кажется Ивану Фёдоровичу, что сердце останавливается совсем. Вот остановилось… Ком подкатывается к горлу, от страха холодеют конечности. А сердце, встрепенувшись, как подстреленный голубь, опять забилось, слабо, но часто, и стучит, стучит — торопится куда-то. Иван Фёдорович пытается лечь так, чтобы сердцу было удобнее, но это не удаётся — сердце капризничает в любом положении. Мозг всё чаще и чаще сверлят мысли о смерти. Иван Фёдорович гонит их, старается думать о другом.
«Смерть не страшна! Весь вопрос в том, как умереть! Нужно умереть так, чтобы хоть что-то оставить людям. Двадцать пять лет для истории всего лишь миг, а как много сделано! Но и кривых борозд напахали порядочно. Ничего, первая пахота — другим будет легче. А что будет после нашей победы? Хорошо будет! Одиночество наше кончится — появятся новые государства, наши младшие братья.
Надоело людям жить в темноте, мир кипит, как рассерженное море.
Рано или поздно, гулко ступая по прямым дорогам и крутым спиральным тропам, человечество всё-таки придёт к светлой и счастливой жизни.
И будут с благодарностью вспоминать люди грядущего нас, нашу страну за то, что мы указали им путь к свободе! И не только указали, но и проторили его, щедро полив русской кровью и слезами. Это будет!»
Ловушка
Шварц был взбешён. Подпольщики окончательно обнаглели. Подумать только, сегодня ночью в собственном доме убита Зинаида Воробьёва в присутствии самого майора Шварца!.. Глубокой ночью, когда Шварц и Зинка, вполне довольные друг другом, мирно посапывали в широкой, мягкой постели, в наружную дверь громко и настойчиво постучали.
— Кого это ещё чёрт по ночам носит? — сонным голосом произнесла Зинка и простоволосая, в ночной рубашке пошла к дверям.
— Кто там?
— Открой!
— Кого нужно?
— Тебя. Отворяй, Зина, мы от Демеля.
Зинка, накинув на плечи ночной халат, отворила дверь.
В кухню вошли двое.
— Ты одна дома? — спросил тот, что постарше.
— Одна, с кем же мне быть? — ответила Зинка.
— Вот и хорошо. Принимай гостей.
— Что нужно?
— Сейчас узнаешь.
— Давайте побыстрее.
— А ты не торопись, мы сами спешим, — ответили так, что у неё от нехорошего предчувствия сразу засосало под ложечкой.
— Ладно, не тяни.
— Не беспокойся, мы ненадолго, — сказал молодой.
— Мы пришли, чтобы объявить тебе приговор подпольного народного суда города Лесное и привести его в исполнение.
Зинка одурело смотрела на говорившего и никак не могла понять, зачем он так зло шутит.
А он продолжал:
— Именем советского народа, за измену Родине суд приговорил Воробьёву Зинаиду Тимофеевну к высшей мере наказания — расстрелу.
— Ладно, шутники, — безвольно прошептала Зинка, прекрасно понимая, что это не шутка.
— Не перебивай, приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Зинка хотела броситься в спальню, но силы на какой-то миг изменили ей. Ганс услышал дикий, полный смертельной тоски крик своей возлюбленной и один за другим два сухих пистолетных выстрела.
Комната наполнилась пороховым дымом. Ганс вскочил, как ошпаренный, дрожащими руками схватил лежавший под подушкой пистолет и трусливо выглянул в кухню. Зинка лежала на полу лицом вниз, неловко заломив правую руку; полы халата распахнулись, оголив выше колен белые мясистые ноги. Кровь протекла узким ручейком по полу и растворилась в небольшом кухонном коврике. Ганса забил препротивнейший озноб. Он вернулся в спальню, с трудом оделся, брезгливо сморщившись, перешагнул через труп и быстро вышел из дома.
Через пять минут в гарнизоне была объявлена боевая тревога, но беготня по городу до самого утра положительных результатов не дала — убийцы как в воду канули.
Утром невыспавшийся, усталый и злой майор Шварц прибыл на службу.
Наташа, в строгом коричневом платье, которое очень шло к её каштановым волосам, встретила Ганса в приёмной комендатуры. Казалось, Наташа вся светилась — так она была рада встрече с ним. И Ганс со свойственным ему оптимизмом почувствовал, что жизнь, несмотря на все неприятности, прекрасна. «Однако ты сегодня дьявольски хороша, — подумал он. — Чёрт с ней, с Зинкой, если мне улыбаются такие, как ты!» А Наташа так ласково и многозначительно смотрела на него, что её желания не вызывали уже никаких сомнений.
Настроение Ганса выправилось окончательно, когда он вспомнил о вчерашнем разговоре с Наташей.
— Дорогая Наташа, — торжественно произнёс он, — а знаете ли вы, что у меня сегодня день рождения?
Наташа капризно нахмурилась.
— Не знаю, и очень обижена на вас. Поздравляю! Но неужели я не могла об этом знать раньше? Это очень нехорошо с вашей стороны.
— Я приказал, чтобы все молчали. Это — сюрприз!
— Но нужен подарок.
Ганс весело захохотал:
— Этот подарок готов! И он будет для меня самым приятным!
— Не понимаю.
— Этот подарок — вы!
«Тупая скотина», — с возмущением подумала Наташа и, улыбнувшись, проговорила:
— У вас очень утомлённый вид, господин майор.
— Ночью были неприятности.
— Вы совершенно себя не бережёте.
— Что делать — служба!
Наташа вышла в приёмную, собранная, готовая на любой решительный шаг. Долго, не торопясь разбирала текущую почту и мучительно искала способ, как добраться до нужного документа.
После обеда к коменданту приехали офицеры из топо-геодезической группы, имеющие прямое отношение к проектированию объекта «Крот». Наташа проводила их в кабинет. Руководитель группы — полный, преклонного возраста майор — долго рассыпался комплиментами в адрес Наташи, чем вызвал очередной приступ восторга коменданта. Несмотря на это, когда из сейфа была извлечена нужная для Наташи инструкция, Шварц под благовидным предлогом отправил переводчицу в приёмную.
Но жизнь полна неожиданностей.
Вдалеке послышался ровный гул большой группы самолётов, и в районе областного центра начали рваться тяжёлые бомбы. В глубокий тыл врага шли советские бомбардировщики. Рёв моторов приближался, самолёты большой тёмной тучей подплывали к городу. Шварц торопливо вышел из кабинета, за ним гуськом поспешили офицеры-топографы. Комендант был лаконичен и строг:
— В убежище!
Немцев как ветром сдуло. Наташа осталась в приёмной одна. И вдруг на общем фоне шума самолётов она стала различать тонкий, резкий звук, напоминающий назойливый комариный писк. Он быстро нарастал, превращаясь в высокий металлический свист, который давил на барабанные перепонки, казалось, проникал в мозг, становясь всё сильнее и сильнее… Земля вздохнула глубоко, натужно от взрывов тонных бомб.
Советские бомбардировщики бомбили город.
Наташа бросилась в коридор, но тут же, преодолевая страх, вернулась и открыла дверь в кабинет коменданта. Где-то близко, на соседней улице разорвалась бомба. С шумом и звоном посыпались на пол стёкла, запахло удушливой гарью. Наташа быстрым взглядом окинула стол. Он был пуст. Шварц успел спрятать инструкцию в сейф. Наташа метнулась к сейфу, он был заперт. От наружной дверцы сейфа у неё был ключ, предусмотрительно изготовленный со
слепков, сделанных Наташей по указанию Ивана Фёдоровича. Но Наташа знала, что у сейфа есть ещё внутреннее отделение с самостоятельным замком.
Она торопливо вставила ключ в отверстие замка, повернула и сильно дёрнула дверцу на себя.
Сейф не открывался.
Кровь прилила к затылку, ударила в виски. Почему не отворялась дверца? Наташа обеими руками вцепилась в блестящую рукоятку и, напрягаясь всем телом, опять потянула дверцу на себя, но она не сдвинулась с места.
А двор тем временем ожил, послышались громкие, тревожные голоса.
Самолёты, сбросив на город несколько бомб, ушли дальше, на запад.
Возбуждённые пережитой бомбёжкой, без умолку болтая, возвращались из бомбоубежища офицеры.
Наташа замерла. Теперь всё решали секунды. Мелькнула спасительная мысль: вытащить из гнезда ключ — и в приёмную! И вдруг её точно осенило. Она вспомнила секрет этого сейфа. Как она могла забыть об этом! Вот уж сотню раз прав полковник Снегирёв — никогда не нужно горячиться!
И опять ухватившись обеими руками за рукоятку, она легко и мягко повернула её вправо, раздался металлический щелчок, затем что-то мелодично звякнуло, и дверца отворилась.
Инструкция лежала на полке поверх других документов.
В коридоре дробно застучали сапогами… На какую-то долю секунды Наташа растерялась. Что делать? Прочитать? Нет времени! Быстро пробежала глазами по заголовку, увидела: «Совершенно секретно», а ниже: «Инструкция но операции «Крот»… Сомнений не было, это тот документ, который интересует советское командование. И вдруг Наташа почувствовала каменное спокойствие. Выхода нет, документ придётся похитить. Она аккуратно свернула тонкий лист и спрятала на груди. Затем закрыла дверцу сейфа, повернула ключ и рукоятку, спрятала ключ в сумочку и выпорхнула в приёмную.
Через секунду появился восторженный Ганс. Вид у него был ослепительный, бравый и бесстрашный.
— Наташа, почему у вас такой перепуганный вид?
— Это ужасно! Бомбы, взрывы! Я сама не своя. Было так страшно! Я до сих пор дрожу! Посмотрите, — она показала на окна, — ни одного стёклышка! Такой кошмар!
— Чепуха! Всё это мелочи жизни, — бодро сказал Ганс, — мы и не такое видали!
Наташа восхищённо смотрела на смелого майора. А он вызвал по телефону солдат для наведения порядка в кабинете, а затем многозначительно посмотрел на Наташу и, любезно улыбаясь, но тоном, которому противопоказаны возражения, изрёк:
— Наташа, сделайте меня счастливым: подарите мне сегодня ваш вечер.
— Если это в моих силах, — сказала она и сама удивилась беспечно-игривому тону, с которым произнесла эти слова.
— О, да!
— Я согласна.
— Благодарю вас!
— Мне только нужно несколько минут, забежать домой, переодеться.
— Нет, нет, — замахал руками Ганс? — в этом нет необходимости. Вы прекрасны в этом платье! Оно по-будничному подчёркивает не только вашу чудесную фигуру, но целомудренность и скромность.
Ганс громко захохотал.
Наташа правильно поняла смысл этого смеха: Ганс праздновал победу, праздновал открыто, не щадя её самолюбия и чувств, — ведь Ганс был уверен, что Наташа любит его. Всё ещё самодовольно посмеиваясь комендант подошёл к сейфу. В руке его блестел ключ.
Наташа от напряжения затаила дыхание: конечно же, майор откроет сейф, чтобы перепрятать секретную инструкцию во внутреннее отделение.
Шварц взглянул на переводчицу, затем на часы, на сейф и, убедившись, что дверца сейфа закрыта, опечатал её.
Наташа облегчённо вздохнула: «До утра не хватятся, а там будет видно. Иван Фёдорович что-нибудь придумает. А теперь как-то нужно избавиться от инструкции, передать её».
— Вы задумались, Наташа, о чём?
— Я думаю, что в такой торжественный день вы должны быть с друзьями. Они не простят вам измены.
— Всё продумано: друзья тоже будут с нами.
— Понятно, — сказала Наташа и мило улыбнулась, — но вечер может затянуться… мне нужно домой всего на одну минуту, предупредить дядю, он будет беспокоиться.
Шварц был великодушен:
— Не возражаю, но только быстро!
Вскоре они уже мчались в легковой машине к дому Ивана Фёдоровича. Ганс из машины не выходил. Наташа сдержала слово — она пробыла дома очень немного. Дальше они понеслись ещё быстрее, свернули на окраину города и остановились возле небольшого особняка, расположенного в глубине фруктового сада. Наташа узнала этот особняк: здесь была явочная квартира гестапо, где ей не раз приходилось бывать в качестве переводчицы.
Майор Шварц что-то приказал шофёру и отпустил машину.
Наташа поняла: это была ловушка. Здесь они с Гансом останутся наедине. Гостей он собирал у себя дома. Сдавило сердце, напряглись нервы и действительность воспринималась, как туманный неприятный сон. Ей чудилось, что это всё происходит не с ней, — она до конца ещё не осознала происходящего.
У ворот дежурили два полицая. Один показался Наташе знакомым: по-ребячьи добродушное лицо, живые, внимательные глаза, а в них презрение к ней. Где-то она уже видела эти глаза…
В коридоре дома их встретили два солдата, вытянувшихся перед майором в струну. У Наташи мелькнула непрошеная и ненужная мысль, что они похожи на деревянных истуканов.
Дверь в комнату была открыта, на стене и полу лежал яркий свет.
Пройдя мимо солдат, Наташа и Ганс оказались в небольшой уютной комнате, посредине стоял стол, накрытый на две персоны. Мирно потрескивали в печке дрова, попахивало дымком и смолой.
Нервы у Наташи были напряжены, но она старалась казаться весёлой и непринуждённой, и это ей удавалось.
Ганс не замечал её истинного состояния и вёл себя, как гостеприимный хозяин. Однако, помогая снять пальто, он обратил внимание на то, что Наташа чувствует себя несколько стеснённо. «Неопытная девчонка, — с удовольствием подумал он, — ничего, привыкнет. А какая, однако, прелесть!»
Вскоре хлебосольный хозяин пригласил гостью за стол и разлил по рюмкам коньяк.
— Мне что-нибудь послабее, — попросила она.
— Что вы, Наташа, не отказывайтесь, это же французский коньяк, — сказал Ганс и слегка стукнул по пустому фужеру. Хрусталь нежно зазвенел.
Наташа вздрогнула, и это не ускользнуло от Ганса.
— Наташа, — промолвил он тоном, в котором одновременно улавливались ворчливое нравоучение и доброжелательность старого, терпеливого учителя, выговаривающего способному, но неопытному ученику, — это не страшно. Пейте! Сразу будет весело и хорошо! Я вас очень прошу. — Ганс протянул ей рюмку.
Наташа решилась. Зажмурив глаза, храбро выпила за здоровье именинника небольшую рюмку, задохнулась, глотая воздух широко открытым ртом, чем вызвала неописуемый восторг Ганса.
— Хорошо, очень хорошо! Вы пьёте по-русски: только до дна, — весело воскликнул он и опять наполнил рюмки.
— Больше не буду, — морщась, вымолвила Наташа.
— Но почему? — удивлённо спросил Ганс.
— Нас ждут гости, — рассудительно ответила Наташа.
— Это верно, — Ганс посмотрел на часы, — в нашем распоряжении немного времени, скоро придёт машина.
Наташу обрадовало это заявление. «Нужно любой ценой тянуть время, а там, в компании, уже не страшно».
— А теперь выпьем за дружбу и любовь, — сказал Ганс, протягивая ей рюмку.
— Настоящую, большую любовь, — с готовностью отозвалась Наташа. Её устраивала тема. Она решила до конца разыгрывать наивную, с твёрдыми моральными принципами простушку, безнадёжно влюблённую в Ганса.
Шварц был доволен. Это была не какая-нибудь продажная любовь, доступная каждому, имеющему деньги, желание и время.
— Итак, Наташа, — торжественно промолвил Ганс, — с сегодняшнего дня мы будем вместе. Это и будет для меня самым большим подарком в день моего рождения.
— Как это понимать? — спросила она и подумала, что сама помогла Гансу переступить последний порог, как бы предлагая говорить о его желаниях. Он её вопрос понял только так.
— Ты уже не ребёнок, сама прекрасно знаешь, что нам обоим нужно. Зачем скрывать то, что давно уже потеряло смысл держать в тайне.
Ганс улыбнулся одной из тех улыбок, которая недвусмысленно говорила о том, что разговор этот никчёмен и пуст, но обладатель этой улыбки понимает его необходимость для соблюдения общечеловеческих норм и приличий и поэтому готов ещё некоторое время продолжить его.
Наташу передёрнуло, и она не смогла удержаться от резкости:
— Вы сказали пошлость, господин майор. Об этом же можно сказать красивее. Я понимаю ваши намерения. Буду откровенна: они отвечают и моим желаниям. Но это не всё. Сначала я выйду замуж, и только тогда буду принадлежать мужчине.
Ганса развеселила наивность этой русской влюблённой чудачки.
— Это всё условности, милая девочка, иногда и сложные узлы развязываются очень быстро и просто. Идёт война, не могу же я в самом деле на тебе жениться!
— Почему? — капризно спросила Наташа.
— Обстановка требует от офицера полной отдачи…
— Тогда оставьте меня в покое.
— Поздно, милая.
— Тогда женитесь!
— Но я женат в конце концов!
— А вы разведитесь, — порывисто выпалила она.
Эти слова окончательно развеселили Ганса.
— А что, может, и правда? — усмехаясь, вымолвил он.
— А у вас красивая жена?
— Очень!
— Вы её любите?
— Я люблю только тебя! — с дрожью в голосе ответил Ганс, и ему показалось, что он говорит правду. Он представил свою Шарлотту рядом с Наташей, и это его не воодушевило — сравнение было явно не в пользу жены. Ганс налил полный фужер коньяку и залпом выпил.
— Давайте не говорить о жене, Наташа, сегодня нам третий не нужен.
Наташа с обиженным видом встала из-за стола и отошла к окну. Слегка сдвинув тяжёлую занавеску, увидела только свет, падающий через окно на снежный ковёр, — на улице стало совсем темно. Обледенелые ветви старой яблони слегка раскачивались от ветра и тихо скребли по стеклу, настойчиво и долго, будто просились в тёплую комнату погреться. Шёл редкий мелкий снег, и Наташе вдруг показалось, что суетливые снежинки кружатся в хороводе не только в зимнем саду, но и по комнате, тают на щеках, под воротником платья, холодным ручейком сбегают у неё по спине, засыпают стол и самого Шварца. «Что делать, что делать?» — стучало у неё в мозгу, но решение не приходило. Выхода, казалось, не было. Тянуть время — это пока единственное возможное, потом действовать по обстановке.
— Я сильно опьянела, — сказала она, подходя к Гансу, — и хочу есть.
— О, конечно! — встрепенулся гостеприимный хозяин. — Русские умеют крепко пить и любят много закусывать. Вот, пожалуйста, сыр, икра, хорошая копчёная рыба, — любезно угощал Ганс.
Наташа села за стол и принялась за еду, неторопливо, рассматривая каждый кусочек. Аппетита не было совершенно, она с трудом заставляла себя жевать и проглатывать пищу.
А Ганс буквально изнывал от сознания своего великодушия. Ему очень нравилась роль доброго хозяина, нравилась эта милая русская девчонка, её манера держаться за столом, есть аккуратно, неторопливо.
— Вот вкусная фруктовая вода, — сказал Ганс и подал фужер, наполненный янтарной жидкостью.
— Спасибо, — ответила Наташа, вытирая губы салфеткой, приняла от Ганса воду и с удовольствием отпила несколько глотков.
Ганс смотрел на Наташу с нескрываемым восхищением.
— Вот теперь совсем хорошо, — доверительным тоном произнёс он и кивком головы указал Наташе на дверь в соседнюю комнату, приглашая войти в спальню.
— Хочу танцевать, — весело воскликнула Наташа.
Ганс был доволен. Наташа бесподобна! Сколько тонкого такта, разума! Он завёл патефон. Комнату заполнила музыка.
На щеках Наташи заиграл яркий румянец. Ганс крепко прижимал её к груди. Он пьянел от коньяка и запаха её чудесных волос…
— Наташа, это и есть счастье, — шептал он ей на ухо.
— Да, — томно ответила она.
— Вы моя?
— При одном условии, — прошептала она, останавливаясь и осторожно освобождаясь от его объятий.
— Никаких условий, — сказал он уверенно и опять крепко обнял за плечи.
— Зачем же так? — с укором произнесла она.
— Так нужно, — почти крикнул он.
— Нет! — резко сказала она и, вырвавшись из его рук, прислонилась к простенку между окнами. — Я не хочу! Это безнравственно и некрасиво. Вы совсем не любите меня! И… оскорбляете таким отношением!
Наташа смотрела на Ганса широко раскрытыми глазами, полными ненависти и презрения. Ей показалось, что он смутился. Но если это и было, то только на мгновение. Он тяжело шагнул к ней и грубо, бесцеремонно притиснул к стене, прерывисто дыша, пытался обнять. Руки скользили по телу Наташи, губы искали её лицо.
Игра зашла слишком далеко.
Немного же надо было Шварцу, чтобы растерять всё сразу — и внешний лоск, и показную вежливость.
Наташе всегда казалось, что Шварц исполнит любое её желание, в последний момент сдержит себя. Но теперь перед ней был не человек, а зверь, которому ничто не могло помешать совершить задуманное.
— Пусти! — выкрикнула Наташа, но он только крепче сдавил её. Тогда она неожиданно присела, освободилась от объятий и отскочила в сторону.
Шварц, потеряв опору, припал лицом к стене. Отлетела и упала на пол плохо державшаяся штукатурка, известковая пыль забила глаза, попала в нос. Ошеломлённый неожиданным ударом, озлобленный сопротивлением, почти пьяный, Ганс кое-как протёр глаза и, чётко отрубая каждое слово, с трудом сдерживая крик, проговорил:
— Слушать меня внимательно. Я не намерен потакать капризам глупой девчонки, которая сама не знает, чего хочет. Любая женщина почла бы за счастье быть возлюбленной немецкого офицера. Довольно набивать цену и разыгрывать из себя барышню-недотрогу. Это тебе не поможет! Я всё уже решил и, как тебе известно, своих решений менять не привык!
В Наташе всё кипело. Оскорблённое самолюбие заглушило в ней все другие чувства, и даже разум. Она смотрела на Шварца с откровенной ненавистью.
— Это и есть ваша любовь? Не густо! Скомандовал и — ать, два! Так вот запомните: я вам не Зинка и прошу так со мной не обращаться! Ничего хорошего из этого не выйдет!
Шварц и сам уже понял свою ошибку — не нужно с этой недотрогой вести себя грубо, это у таких женщин вызывает протест, между тем лаской с ними можно делать что угодно. Понимал это зарвавшийся Ганс, но переключиться уже не мог.
— Вы, кажется, забылись, фрау? — со злостью выжимая слова, насмешливо процедил он сквозь зубы. — Вы слишком многого хотите! Нельзя ли несколько умерить ваш аппетит?
— Нельзя! — с вызовом ответила Наташа.
— А придётся это сделать, тем более, что ты самая обыкновенная влюблённая дура!
— Вот это мне уже нравится. По крайней мере откровенно, хотя не очень умно.
— Молчать! Марш в спальню! Сегодня, сейчас же ты будешь моей!
— Нет!
— Будешь! Или я сделаю небольшую дырку в твоём прекрасном теле!
В подтверждение своей угрозы Шварц расстегнул кобуру и достал пистолет.
Наташа перешла на другую сторону комнаты, подальше от двери, ведущей в спальню, и оказалась возле большого, обтянутого жёлтой кожей дивана.
Шварц, не опуская пистолета, медленно направился к ней, но в правой руке Наташи блеснул никелем маленький дамский пистолет.
— Учтите, стрелять я тоже умею! — твёрдо сказала она.

Наташа не спускала глаз с коменданта. Голова работала ясно: «Никакие уговоры не помогут. Зверь уже открыл пасть и прыгнул. Отброшены мишура и притворство, мнимое благородство завоевателя. Проявилось во всей своей красе истинное лицо бандита и садиста».
— Брось свою игрушку, — усмехнулся Ганс.
— Почему же «игрушка»? Я отлично запомнила ваши уроки. В этой «игрушке» вполне достаточно сил, чтобы навсегда остудить ваши скромные желания.
— Дура!
— Вы очень любезны.
— Брось пистолет, тебе говорят!
— Спрячьте свой!
— Стрелять буду!
— Я успею сделать то же.
— Упрямая русская корова!
— Неправда! Сами десятки раз восхищались моей фигурой.
— Чёрт бы тебя взял с твоей фигурой! Брось пистолет!
— Повторяетесь. Это не оригинально. Видимо, вы уже ничего не сможете придумать. Лучше послушайте моё предложение.
— Ну?
Растерянный, с размазанной по лицу грязью, Шварц был смешон и жалок.
— Прежде всего, — сказала Наташа, — вам необходимо умыться. Во-вторых, прекратите командовать. Я не солдат, а женщина, и люблю ласку, а вы, как морской пират, пытаетесь взять меня на абордаж. Если выполните эти условия, тогда у нас, поверьте мне, появится возможность провести время намного приятнее и интереснее… Не пугайте меня, пожалуйста. Вы же сами прекрасно знаете, что этого не требуется. И повежливее — у меня врождённое отвращение к насилию, я его не переношу.
— Отдай пистолет, — неуверенно попросил Шварц.
— Пожалуйста, — сказала Наташа смиренно, — хотя и невежливо отбирать свои подарки.
Шварц взял из её рук пистолет, разрядил и тут же вернул обратно.
— Отвернитесь, — тоном, с которым обращаются к ребёнку, сказала Наташа, — потушите свет, я приведу себя в порядок.
— Идёмте в спальню.
— Нет, мне здесь больше нравится, — улыбаясь, ответила Наташа.
— Хорошо, но раздевайтесь при свете, — упрямо произнёс Ганс.
— Однако вы трусоваты, — спокойно сказала Наташа.
— Просто осторожен.
— Тогда прикажите своим солдатам отойти от дверей, они подслушивают.
— Что? — Шварц резко толкнул дверь, но за ней никого не оказалось.
Тем временем Наташа не торопясь расстегнула кофточку, сняла её и повесила на спинку стула.
Ганс стоял с пистолетом в руке и всё ещё недоверчиво смотрел на неё.
Она подняла глаза, озорные искорки вспыхнули в глубине.
— Вы не памятник Фридриху Великому, — с улыбкой, нежно проворковала Наташа, — поскорее приходите в себя и помогите расстегнуть пуговочки на платье, — она показала рукой себе на спину.
Ганс подошёл к ней, крепко обнял и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась, а трепетно всем телом прижалась к нему. Только теперь он поверил ей. Положив пистолет на край стола, он дрожащей рукой торопливо расстегнул пуговки на её платье и буквально впился долгим поцелуем в белую шею. Наташа встрепенулась, и Ганс услышал страстный шёпот:
— Потуши свет и раздевайся сам. — И начала снимать с себя платье.
Голос её был робок, и вся она была беззащитной и слабой, покорившейся его мужской воле. И эта слабость явилась той силой, которая окончательно заставила поверить ей.
Да и как он мог сомневаться. Женщина всегда остаётся женщиной. Одна ломается больше, другая меньше, а результат всегда один. Ганс не торопясь снял портупею, китель и шагнул к выключателю.
Свою ошибку он понял слишком поздно. Сзади раздался характерный щелчок предохранителя парабеллума. Всё ещё ничего не понимая, он быстро обернулся и увидел Наташу с пистолетом, направленным на него.
— Что за глупости! Брось пистолет, эти фокусы не для детей! — резко крикнул он.
— Ни с места! — тихо, полушёпотом, но так твёрдо произнесла Наташа, что Шварц замер. — Если ты, болван, сделаешь ещё хоть один шаг, я продырявлю твою глупую башку, как гнилую тыкву!
— Ты что, с ума сошла?
— Нет, я в своём уме, а вам придётся спуститься с небес на землю и проветрить свежим воздухом свою пустую голову.
Всю ненависть, накопленную за многие дни вынужденных унижений, вкладывала она в свои слова. Ганс слушал, глупо разинув рот от неожиданности и страха.
— Не надо так шутить, Наташа!
— Грязная фашистская свинья, — продолжала Наташа, — как ты мог подумать, что я влюбилась в тебя? Что есть в тебе человеческого? Надутый индюк! Бандит с большой дороги, пакостный и трусливый, как ощипанная ворона!
Шварц понял, что это уже не шутки. Стрелять она не посмеет — за дверью автоматчики. Необходимо как-то успокоить её, выиграть время, а потом… Надутого индюка и ощипанную ворону он ей не простит, какая бы раскрасавица она ни была!
— Что с вами? — вкрадчиво, нежно спросил он.
— Объясняюсь в любви, вы ведь ждали этого.
Шварц не мог отвести взгляда от дула пистолета.
— Наташа, вас обидела моя грубость. Это была неудачная солдатская шутка. Извините меня и давайте всё сделаем, как вы хотите. Желание женщины, да ещё такой, как вы, для меня закон! Конечно, я был неправ.
Он потянулся дрожащей рукой к графину, зазвенел стакан, громко булькнула вода.
Наташа плохо слушала лепет Ганса, и его красноречие пропало даром. Отступать ей было некуда: живой майор Шварц означал её смерть, но и мёртвый он почти не оставлял ей шансов на спасение: два автоматчика, два полицая — многовато! Но всё-таки мёртвый Шварц был лучше.
— Я люблю тебя, Наташа, — с дрожью в голосе сказал он.
— Я советский человек, мы — смертельные враги, — жёстко сказала Наташа, — и наши личные отношения не имеют никакого значения! Кроме того, в этих отношениях вы насквозь пропитаны ложью и гадостью.
Ганс растерялся. Он понял, что последние слова Наташи были его приговором. С трудом он оторвал взгляд от дула пистолета и посмотрел в лицо Наташи. Глаза её были бездонными, беспощадными. Что ты думал раньше, Ганс? Как пренебрежительно-невнимателен был по отношению к Наташе! И как глубоко прав Демель!
— Боже мой, — прошептал Шварц. — Наташа, милая моя! Обещаю тебе, мы поженимся.
Он ещё на что-то надеялся. Не верил, что перед ним была не его простодушная, преданная ему, готовая на всё ради него Наташа. Он умолял, просил, и ему казалось, что он говорит правду… Себя он, кажется, убедил, но её…
— Ничтожество!
— Я клянусь честью…
— Честь? — удивлённо спросила она.
— Я готов… — промолвил он, но, увидев что-то новое в её глазах, остановился. Пауза была короткой. В следующее мгновение майор Шварц, убедившись окончательно, что пощады от Наташи не будет, закричал громко и истерично:
— Ко мне, быстро!
Призыв его относился к солдатам. Он потонул в грохоте выстрела. Наташа выстрелила Гансу в лицо.
Бравый завоеватель, майор непобедимой германской армии, военный комендант города Лесное свалился на пол медленно и мягко.
Дверь в комнату из коридора быстро отворилась, и на пороге возник немецкий солдат с автоматом.
Не раздумывая, Наташа выстрелила в упор, и солдат по инерции упал грудью на стол. Зазвенели бьющиеся бутылки, рюмки, тарелки.
У Наташи пересохло во рту, мысли бежали быстрые и ясные: «Ещё солдат и полицаи, надежды на спасение практически нет!»
Что-то дрогнуло у неё внутри, и толчок этот сообщился рукам. Но это была не слабость. Наташа ещё крепче сжала рукоятку пистолета.
В наполненную пороховым дымом комнату ворвался второй солдат и, ничего не видя толком, не понимая, что происходит, послал слепую очередь вперёд…
Наташа почувствовала сильный толчок в предплечье правой руки. Превозмогая боль, она нажала на спусковой крючок парабеллума.
Солдат падал, не выпуская из рук автомата, и тот плевал пулями, пока не кончились патроны в магазине.
На стене покачивалась золочёная массивная рама, чудом удержавшись на одном гвозде.
Тупо-оловянная физиономия фюрера, до неузнаваемости изрешечённая автоматными пулями, строго взирала на царивший в комнате беспорядок.
В отряде
В землянку, где обосновались девчата, собралась молодёжь.
Сашок мучает баян, пытается извлечь из него звуки. А баян мучает музыканта: мехи пропускают воздух, голоса запали и поют, ревут, пищат самостоятельно, без остановки. С музыкальной частью явно не клеится.
Тихон тоже здесь. Сидит напротив Тани и не сводит с неё глаз.
— Брось, — обратилась к Сашку Тося, молодая, краснощёкая фельдшерица, — ничего не выйдет из твоей сипелки. Расскажи лучше что-нибудь, да посмешнее.
Тихон чувствует себя немного обиженным. Что может рассказать Сашок, у него во время разговора каша во рту стынет.
— Пусть Тихон, это он мастак, — ответил Сашок и, положив баян на стол, снял у него боковую крышку, начал искать неисправности — хлопать молоточками-лопаточками.
— Тиш, ну давай, — умильно промолвил Воронин.
— Да ну вас! — лениво отозвался Тихон.
— Тиша, расскажи про медведя, — попросила Таня.
Тихон вздрогнул, глаза стали круглыми, щёки заалели.
— Я тебе уже рассказывал, — радостно произнёс он.
— И что? Пусть и другие послушают.
Сашок продолжал колдовать над баяном: подсовывает щепочки, намертво заклинивает испорченные планки, попискивает голосами. Но его работа рассказу не помеха.
Тихон, как заправский артист-комик, спрашивает:
— Все слышали, как Воронин самолично просил рассказать про него?
— Ничего я не просил, — улыбаясь во весь рот, сказал Воронин.
— У меня свидетели.
— У меня — тоже! Это Таня просила рассказать про медведя.
— А ты?
— А по мне — ври, что хочешь, лишь бы смешно было.
— Хорошо, но только врать я не умею и не буду. Расскажу я вам быль из охотницкой жизни.
— Охотник! — с сомнением сказал Воронин.
— Между прочим, выпады твои не к делу. Я, можно сказать, с самого детства ружья из рук не выпускал. И было у меня в то время старое тульское ружьё, двуствольное и какого-то громадного калибра. Всем оно было хорошо, это ружьё, но был у него один серьёзный дефект — в самый ответственный момент осечку давало. Иду раз по лесу, посвистываю. Петро, конечно, рядом бежит.
— Хвостом повиливает, — не отрываясь от баяна, вставил Сашок.
Все дружно рассмеялись.
Тихон недовольно посмотрел на непрошеного помощника и продолжал как ни в чём не бывало:
— Иду я и думаю: хоть бы зайца полудохлого подстрелить или сойку. И вдруг, братцы мои, навстречу мне здоровенный медведина, топтыгин, как говорят, собственной персоной. У меня душа ушла в пятки. Медведь тоже присел на задние лапы, готовится к прыжку.
— Не ври, — спокойно проговорил Сашок, нажимая на бас.
— Если я вру, рассказывай сам.
— Не перебивай, Сашок, — попросила Таня.
От такой поддержки Тихон обрёл второе дыхание и продолжал свой рассказ с ещё большим воодушевлением:
— Так вот, готовится к прыжку. А когти у него на передних лапах, что у вил зубья, а морда, о господи, вспоминать страшно! Мысли мои побежали, как Свист командирский, когда его нагайкой огреют. Убежать — догонит! Да и стыдно, не Петька же я Воронин!
— Стрелять надо, горе-охотник, — серьёзно волнуясь, сказал пожилой партизан в старой каракулевой папахе.
— Правильно, — соглашается Тихон, — но учтите, что ружьё заряжено мелкой дробью. И такому медведю эта дробь только для щекотки, всё равно что тебе сто граммов перед обедом. Как это ты говоришь?
— Что слону дубина, — добродушно смеётся партизан.
Дружный, громкий хохот, кажется, не успевает вырваться через узкие двери землянки, вот-вот он поднимет все три наката потолка.
— Дядя Вася хотел сказать немного по-другому — что слону дробина, но не в том суть. Положение моё, как ни крути, аховое! Что сделал я? Во-первых, сильно пригнулся. Это рефлекс, конечно, ещё Павлов доказал. Во-вторых, пальнул мишке в морду. Осечка! А медведь уже прыгнул и летит на меня! Я со второго ствола — бах! А дальше не помню — сознание помутилось…
Очнулся я быстро, ничего понять не могу: сижу цел и невредим на толстом дубовом суку и в каждой руке у меня по громадному гусю. Держу я их крепко за красные лапы, а они обиженно гогочут и крыльями машут. А рядом со мной Петька сидит и дрожит как осиновый лист в безветренную погоду.
— Петька, ты как туда попал?
— Это он для комплекта, — пояснил кто-то.
— Не был я там никогда, с ним только здесь, в отряде, познакомился.
А Тихон не обращает внимания на реплики: поговорят и перестанут. Ведёт повествование дальше.
— Глянул я вниз — голова закружилась: высота не меньше пяти метров! Гляжу, а внизу медведь неживой лежит и куски железа от моего злополучного ружья валяются. Тут мне всё стало ясно.
Звонкий смех заглушил рассказчика. Громче всех смеётся Таня, хотя не впервые слышит эту охотничью побасёнку.
— Постой, постой, — выкрикивает кто-то, — брехать — бреши, да знай меру! Почему медведь убитый? Как ты на дереве оказался? При чём тут гуси и откуда они взялись?
— А ты не торопись, вперёд батьки в пекло не лезь, всё станет на свои места.
— Давай!
— Получилась, братцы, такая история. Когда медведь на меня прыгнул, я второй раз выстрелил. Помните, первый раз осечка была? А на второй раз ружьё от древности взяло и разорвалось! Стволом медведя в лоб — и наповал! В то время над поляной низко пролетела стая гусей, место искали для ночлега. Я хвать двоих за лапы! Не растерялся! Они, гуси-то, с перепугу меня наверх и подняли.
— А Петька?
— Что — Петька?
— Как он на дереве оказался?
— Это ты его и спроси, ему виднее.
— Подожди, а потом?
— Спрыгнул я с дерева — плавно так, на гусях, как на парашютах, спустился. Птицам головы свернул, с медведя шкуру содрал и пошёл домой. К этому времени и Петька на землю сполз.
— А ружьё?
— В ларёк сдал, мне за этот металлолом детскую игрушку дали — «уйди-уйди» называется. Знаете, штучка такая на нитке вращается, похрюкивает, и шар надувной с намалёванной смешной рожицей?
— А Петька?
— Пришлось его в больницу сдать — медвежья болезнь с ним приключилась.
— Хороша концовка!
— Важно, братцы, начать и кончить, — впервые за весь рассказ улыбнулся Тихон и, повернувшись к баянисту, спросил:
— Как твоя машина?
— Как танк с подбитой гусеницей — стреляет, а двигаться не может.
— Может, сыграешь всё-таки?
— Стреляй с места.
— Немного подыграю.
Все вопросительно посмотрели на Таню.
— Спой, дочка, что-нибудь такое… хорошая песня, она посильнее всякого разговора будет, — мечтательно попросил дядя Вася.
Тихон зачарованно смотрит на девушку.
— Давай, Сашок! «Я на подвиг тебя провожала», — сказала Таня и, вспыхнув от смущения, запела.
Сашок вначале только мешал ей, затем, уловив тональность, сначала на одних басах, а потом, с трудом лавируя по голосам-пуговкам, повёл мелодию вместе с певицей.
И песня лилась по землянке, проникая в души и зажигая сердца.
Я на подвиг тебя провожала,
Над страною гремела гроза…
Голос у Тани высокий, мягкий; поёт самозабвенно, никого не замечая. Да и самой её в землянке нет. Она, с трудом сдерживая слёзы, провожает друга в бой, перевязывает горячие раны и полна готовности отомстить за него.
Тихону кажется, что Таня смотрит на баяниста не отрываясь. Но это взгляд в никуда, она не видит ни баяниста, ни музыканта, ни землянки. Она смотрит в самоё себя, перебирает свои, одной ей известные Душевные струны.
Песня окончена.
Сашок вытирает трудовой пот: тяжело играть на старой рухляди.
В землянке тихо.
— Таня, спой весёленькое!
— Не хочу, — торопливо ответила она, — не хочу весёлое.
— Спой песню Шуры, — просительно сказал Тихон, — из любви».
Таня взглянула на него с хитринкой и, не произнеся больше ни слова, запела:
Звать любовь не надо, явится незванно,
Счастье расплеснёт вокруг.
Он придёт однажды, ласковый, желанный, —
Самый настоящий друг!
Тихон с восторгом слушает Таню, а она поёт просто, без жеманства, так, что у Тихона — да и у одного ли Тихона? — стали подозрительно чесаться глаза, перехватило дыхание.
«…Значит, ты пришла, моя любовь!» — закончила песню Таня, и все увидели, что её большие голубые глаза были полны слёз.
— Ребята, — ворвался в землянку молодой, восторженный партизан, — довольно тут в гусли играть! Гости приехали!
Они шли по лагерю, олицетворяя собой большую, непоколебимую силу, спокойные, уверенные в себе. Свежий снег солидно похрустывал под новыми серыми валенками, поскрипывали кожаные портупеи, красиво обтягивали белые дублёные полушубки. Шапки-ушанки с красными звёздочками и алыми лентами наискосок, с подвязанными наверх ушами-клапанами, лихо сдвинуты на затылки. На начищенных до металлического блеска пряжках сверкало утреннее солнце. Маузеры в деревянных кобурах, пистолеты и наганы, автоматы, карабины — русские и немецкие, ручные гранаты «РГД», «Ф-1» и немецкие с длинными деревянными рукоятками — всё это располагалось на ремнях продуманно, красиво и надёжно.
Это были представители от прославленной партизанской бригады, известной под громким именем «Народные мстители».
Местные партизаны с интересом смотрели на гостей, а те явно «давили фасон», всем своим видом показывая, что цену они себе знают. Удивление вызвали гладко выбритые лица представителей бригады. Сами хозяева, считая себя настоящими партизанами, брились редко, отпускали усы и бороду. Да и что за партизан без бороды?!
Но не это было главным. На плечах гостей были погоны. Такого чуда никто из местных партизан не видел никогда. Разве только в кино. И эти лоскуты, нашитые неуклюжими руками прямо на полушубки, незнакомые знаки различия на них, делали пришельцев непонятными и чужими.
— Погонники, — ляпнул невпопад кто-то.
— Болтаешь, что на ум взбредёт, — одёрнули его. — Вся наша армия теперь с погонами ходит.
— А почему?
— Дурак ты, вот и спрашиваешь, — послышался хрипловатый голос. Пожилой партизан, сдвинув привычным взмахом руки кожаный треух на лоб, почесал затылок и задумчиво добавил: — А кто же его знает, почему? Видать, так нужно. Дурак и есть. Откуда я знаю, почему!
Раздался приглушённый, но дружный смех.
— Хорошо ты всё объяснил, дядя Вася. Сразу всё стало ясно и понятно. Как клоун в цирке.
Смех усилился. Дядя Вася обиделся. Жизнь прожил, но отродясь его никто клоуном не обругивал. Промолчал. Неудобно продолжать спор при посторонних.
Командир и комиссар отряда смотрели на приближающихся гостей со смешанным чувством радости и грусти. Рядом с воинственными, одетыми в форму регулярных войск, подтянутыми людьми они со своими партизанами выглядели невзрачными, штатскими фигурами, как попало и неизвестно зачем напялившими на себя разномастную одежду и разнокалиберное вооружение.
Группу прибывших возглавлял майор Фёдоров, моложавый светловолосый крепыш. Его правую щёку пробороздил неглубокий шрам, но он не нарушил гармонии, а делал лицо более мужественным и значительным. После тёплых приветствий командиры отправились в штабную землянку, а охрана разбрелась по лагерю. До позднего вечера беседовали партизанские руководители. Разногласий и споров не было. В соответствии с решениями подпольного обкома партии и партизанского Центра отряды Ивана Ивановича и Романа организованно вливались в партизанскую бригаду «Народных мстителей» и отправлялись вместе с ней в дальний рейс по глубоким тылам врага. Было решено перед уходом из-под города Лесное устроить фашистам хорошую трёпку. План нападения был продуман лишь в общих чертах, его ещё нужно было согласовать с подпольщиками.
Приезд гостей взбудоражил отряд. Всех радовало начало настоящей партизанской войны — предвестника близкой общей победы.
Отряд продолжал жить в суровом боевом режиме. Днём и ночью уходили по глухим лесным тропам на задания партизаны. Неспокойно было по окрестным деревням и сёлам. То там, то здесь огненными всполохами разрывалась темнота, тонули в тишине взрывы гранат, захлёбывались в собственной крови оккупанты и изменники.
На самые трудные и серьёзные задания напрашивался Тихон. Казалось, он не знал усталости. Но в действиях его появилась осторожность, и ещё больше стало злости к врагу. Перемены в характере Тихона в первую очередь объяснялись передрягами, свалившимися на его голову за последнее время. Но была и другая причина, которая не позволяла оставаться ему прежним Тихоном. Это — Таня. Что бы ни делал Тихон, она незримо всегда была рядом. Где бы он ни был, по какой бы ни шёл дороге, она всегда каким-то чудесным образом заканчивалась у порога её землянки. Будто неведомая сила, с которой он не мог, да и не хотел бороться, тянула его сюда. Тихон потерял сон, желание есть и мог подолгу, замирая от счастья, смотреть на Таню.
Тихон, Тихон, буйная твоя головушка! Вошло в тебя светлое, хорошее чувство. Разобраться в нём ты до конца не можешь. Что это? Откуда? Почему замирает сердце? Зачем так сильно стучит? Отчего огнём горит лицо? Ты различаешь тончайшие интонации её голоса, улавливаешь малейшую смену настроения, а всё потому, что ты стал самым богатым человеком на свете и не догадываешься об этом. Любовь не имеет цены. Даже на самый короткий миг нельзя купить этого чувства. И не каждому дано в жизни величайшее счастье — любить!
Но то, что ты сейчас чувствуешь, Тихон, это ещё не вся любовь, а только её начало. Впереди столько неизвестного, таинственного, необыкновенного! Тебе очень хочется идти по этой бесконечной дороге радости и счастья… Иди, но не спеши! Не сломай прекрасный цветок до времени. От счастья до утраты его — всегда один шаг.
Мечты, мечты! Но любит ли она? И тебе кажется, что от ответа на этот вечный, как сам мир, вопрос зависит вся твоя жизнь.
Ты придирчиво смотришь на себя и с тоской видишь, что, в сущности, ты — ничто по сравнению с ней. Раньше ты как-то не замечал, что ростом невелик, нос картошкой, глаза косят, ноги кривые, руки грубые. Ошеломлённый этими ужасными открытиями, ты не спишь всю ночь, а утром, окончательно измученный, вдруг видишь, как радостно сияют её глаза, как ласкова она при встрече с тобой! И ты вновь обретаешь уверенность в себе, вновь становишься человеком, полным сил. Забыты муки бессонной ночи, и ты с восторгом замечаешь, что рост у тебя подходящий, нос выглядит, по крайней мере, на четыре с минусом, глаза не косые, а миндалевидные, ноги и руки не хуже, чем у других.
И всё же — любит или нет? Спросить? А как? И вот ты впервые признаёшься себе, что ты, в сущности, порядочный трус.
…Задумчив и строг зимний лес — могучий заколдованный великан. Он спит до поры до времени, и даже сонный прекрасен в своём величии. Высокие, стройные жёлтые сосны, густые тёмные ели, одетые в хвою, опушённую серебристым снегом.
Солнце медленно сползает по ясному холодному небосклону к горизонту.
Шумит партизанский лагерь: раздаются голоса людей, ржут лошади, равномерно шаркает по мороженному берёзовому полену пила, звякает топор, слышится ещё какой-то непонятный металлический скрежет, словно по ржавому рельсу грубым напильником провели… Коротко, заунывно вздохнула и тут же, будто чего-то испугалась, умолкла гармошка.

У толстой сосны стоят Тихон и Таня. Она тоже сильно изменилась того, как попала в отряд, — повзрослела, обрела уверенность… Вот и сейчас она вся наполнена жизнью, глаза счастливые. А рядом берёзки — молодые, стройные, скромные девушки молчаливо собрались стайкой в тесный кружок. Замёрзли бедняжки в лёгоньких беленьких платьицах.
А чуть поодаль тёмные ветки густого кустарника на фоне бело-голубого снежного покрова кажутся причудливой паутиной.
Но Тихон, как и все влюблённые, не способен наблюдать и анализировать. Он до краёв наполнен сомнениями, тревогами и смутной радостью.
Сегодня ночью, окончательно измученный, он твёрдо решил объясниться. Пусть будет, что будет, — или пан или пропал! А Таня всё давно поняла, ей радостно и страшно.
— Тиша, что ты надулся, как индюк? — спрашивает она, стараясь казаться равнодушной.
Тихон вздрогнул:
— Чего придумала!
Он хочет сказать те значительные, важные слова, но губы будто склеились, и Таня окончательно захватывает инициативу.
— Тиша, — просит она, — расскажи, как вы с Сашей вчера троих фрицев уложили.
Тихон замер. Напоминание о Саше пулей ударяет его в грудь. Славный паренёк Сашок, любит он и Тихона и Таню. Они с Таней друзья, учились в одном классе, вместе увлекаются музыкой, всё о чём-то шепчутся…
— Тиша, что ты сегодня какой-то…
— Ну, какой? — с болью спрашивает он.
— Не такой какой-то: всё молчишь. Ну, расскажи, пожалуйста, как вы их поймали. С другими говоришь — не остановишь, а со мной молчишь. Почему это?
Таня мягко издевается. Она видит и понимает его состояние. В ней проснулась женщина — не может она отказать себе в удовольствии продлить наслаждение, которое она испытывает от сознания своей силы над Тихоном. Он любит её, и это так приятно и хорошо, что вызывает в ней лёгкое волнение. И сейчас ей нужно что-то говорить, чтоб не выдать себя.
— Опять ты молчишь, — с укором произносит она.
— Да чего говорить, не поймали мы их. Просто шли с Сашком, а они едут на мотоцикле. Пьяные, орут в три глотки. В гостях, видно, бывали. Сашок врубил тому, что за рулём сидел. Мотоцикл — вверх тормашками, фашисты разлетелись по дороге и лежат, как глухари. Мы тоже лежим… минуту, другую… Они не шевелятся. «Пойдём», — позвал я Сашу, а в это время один закопошился и поднимается. Потом второй…
— А кто их?
— Сашок.
— А почему не ты? — прошептала Таня.
— Он молодой, пусть тренируется, — с обидой ответил Тихон.
Таня посмотрела на Тихона ласково, и он почувствовал, как тёплая волна счастья захватила его. Он крепко взял её руку, пожал и отпустил тут же. И вдруг в каком-то необъяснимом порыве горячо зашептал:
— Таня, Танечка! Снегурочка моя милая!
Но в её остановившихся глазах погас свет. Она удивлённо и испуганно посмотрела на Тихона, как-то сразу сникла и, озябшая, беззащитно нежная, умоляюще проговорила:
— Не нужно.
— Почему? — задохнувшись, спросил он и увидел, как помрачнело её лицо.
Она тревожно затихла, не ответила, отдёрнула руку и, повернувшись, медленно пошла от него по узенькой снежной тропинке.
— Таня! Танечка!
Тихон догнал её и неловко взял за плечи.
— Отстань!
Она повернула к нему строгое, напряжённое лицо, и столько горя, злобы увидел Тихон, что у него защемило в груди.
— Танечка, что с тобой?
— Что тебе нужно?
Перед Тихоном было чужое, незнакомое лицо.
— Почему ты так? — вымолвил он, и сам не узнал своего голоса. — Разве я обидел тебя? Я люблю! Я не могу жить без тебя, я дышу только тобой! Танечка! Родная моя!
Он говорил уже не думая, слова лились, как вода, пробившая, наконец, преграду. Он не выбирал их и не руководил собой.
— Ну, что ты смотришь? Не веришь? Люблю! Сам не знаю, что со мною стало. Люблю и всё! Исстрадался весь! Места себе не нахожу! Вот — видишь?
Таня увидела, почувствовала правду, и радость, живая и непобедимая, овладевала ею, взгляд опять потеплел. Она неуверенно и смущённо пожала ему руку, беспокойно-вопросительно подняла глаза, будто оценивая, можно ли в нём в тяжёлую минуту найти защиту.
Но вдруг опять по лицу пробежала мрачная тень.
— Не нужно, Тиша, не говори ничего!
— Почему?
— Нельзя!
— Но я люблю тебя! Люблю! Ангел ты мой ненаглядный!
— Не нужно, не хочу!
— Танечка!
— Не могу я!
Он смотрел в её по-детски наивное, доброе лицо и не замечал в нём той решительности, которая была в голосе. Он понял: что-то мучит её, какое-то горе или опасность, а он лезет со своими чувствами. Тихону стало стыдно, жаль и её, и себя… Он слышал частое дыхание Тани. И вдруг, не отдавая себе отчёта, обнял её и прижал к себе. Она сникла, не противясь, мягкая, бессильная и… равнодушная. Крупные слёзы бежали по щекам, падали на полушубок, но Тихон ничего не видел.
— Танечка, на всю жизнь! Ты поверь мне. Я так люблю тебя!
И замер. Ждёт.
Но она не ответила. Только плечи слегка вздрогнули.
Он ещё крепче прижал её к себе и в какой-то миг почувствовал, как она вся напряглась, устремилась к нему.
Всего один миг, который порой человеку не может заменить целая вечность. Улетучились сомнения — она любит! Но что-то тревожит её.
— Что с тобой, глазёнушка моя голубенькая? Скажи мне, что с тобой, ясноглазочка моя? Может, кто обидел?
Таня положила голову ему на плечо и смотрела влюблёнными глазами.
Тихон задохнулся от счастья, затих и долго, долго, будто изучая, не отводил взгляда от её лица.
Таня немного успокоилась и сказала, мучительно подбирая слова:
— Ты хороший. Ты даже сам не знаешь, какой ты хороший!
— Танечка!
— Подожди. Ты думаешь… Я знаю… Верю… Нет, не то! Я тоже люблю тебя! Как-то сразу полюбила, как ты… Но я не могу, не имею права!
— Почему? — простонал Тихон.
— Хорошо, я скажу тебе, но… этот разговор у нас будет последним.
— Да что с тобой? Какая-то ты…
— Какая?
— Не знаю я, не могу понять.
— Хорошо, — решительно сказала Таня, — сейчас будешь знать. Ты видел старшего лейтенанта Гердера, следователя гестапо?
— Знаком с ним…
— Ну вот. Недавно он пришёл к нам домой… Я была одна… Начал приставать…
Таня вопросительно посмотрела на Тихона Он молчал, но взгляд его выражал вопрос. И она слабым голосом продолжала:
— Он ударил меня по голове… Я потеряла сознание… Ничего не помнила…
— Ну! — Тихон даже привстал на носках.
— И всё, — тихо ответила Таня. — В эту же ночь я ушла в отряд. Вот…
Тихона объял гнев, он не мог промолвить ни слова. А она, взволнованная и решительная, с вызовом смотрела на него.
Он продолжал стоять, ни на что не реагируя.
Тогда Таня, пытаясь подавить горькую улыбку и сдерживая подступившие слёзы, медленно пошла к лагерю.
Тихон не заметил её ухода.
И только тогда, когда Таня ушла уже далеко, он бросился за ней. Тихон бежал быстро, как ветер, она была нужна ему сейчас же, немедленно, иначе могло разрушиться всё, разрушиться так, что уже никогда потом нельзя поправить.
И он догнал её. Задохнувшись от быстрого бега и волнения, выпалил:
— Это ничего не значит! Теперь я люблю тебя ещё больше! Ты мой ангел небесный! Родная моя, единственная, самая чистая и прекрасная!
Она смотрела испуганно, но радость светилась в её глазах.
— Танечка, — отвечая на её взгляд, тихо и почти спокойно сказал Тихон, — поверь, я убью его!
Наташа
Когда Наташа и комендант скрылись за дверью особняка, полицай Мишка-Козырь сказал Виктору:
— Не дура губа у нашего коменданта. Откопал себе кралю — первый сорт. Аврора — богиня утренней зари!
— Ты откуда знаешь? — рассеянно спросил Виктор.
— Тут и знать нечего, сразу видно.
— Я тебя про Аврору спрашиваю.
— Это любимая поговорка капитана Топоркова. Грамотный был мужик, кое в чём разбирался. Зря погиб, по-глупому.
— Смерть всегда глупа, — не вникая в болтовню Козыря, раздражённо сказал Виктор. Он никак не мог отогнать от себя навязчивого видения: грустное, напряжённое лицо Наташи, с какой-то еле уловимой тенью обречённости и смертельной тоски. Лёгкая, казалось, невесомая походка… Иногда он думал о Наташе и раньше. Он знал её имя и место работы. И он относился к ней с ненавистью и презрением, как ко всему, что было рядом с оккупантами. Почему же теперь мысль о Наташе не давала покоя, вызывала душевное смятение, будоражила воображение? Не укладывается в сознании, что такая девушка может быть плохой, падшей?.. Глаза с таким добрым и в то же время смелым взглядом не могут принадлежать пустому человеку.
— Между прочим, — продолжал Козырь, не ответив на вопрос Виктора, — эта цыпа не по мне. Красивая, но тощая. Вон — Нинка из столовой. Знаешь? Ни рыла, ни уха, а схватишь — чувствуешь, что-то в руках держишь!
— Да пойди ты со своей Нинкой знаешь куда…
— Я тебе точно говорю, — не обиделся Козырь, — её так и зовут: Ниночка-периночка. От поклонников отбою нет. А эта — что балерина какая-то. На сцене такую хорошо смотреть, а так… — тьфу!
— Перестань ты…
— Подумаешь, интеллигент! Ни бельмеса ты в этих делах не понимаешь, — беззлобно сказал Козырь и уставился в окно.
Таинственный свет пробивался через плотные занавески в сад, освещал большую, развесистую яблоню, снег и ветви сирени с поблёкшими, но упорно не желающими опадать листьями.
Виктор злился, пытаясь не думать об истинных причинах этого неприятного состояния, — несмотря ни на что, ему нравилась эта девушка.
— Комендант — мужик не промах, — пользуясь молчанием напарника, продолжал Мишка-Козырь, — раньше он эту свою секретаршу на квартиру к себе таскал, а теперь здесь организовались. Место, конечно, подходящее. Что ни говори, а умеют всё-таки фрицы дела обставлять…
— А ты видел? — вдруг со злостью спросил Виктор.
— Что?
— На квартиру, спрашиваю, — видел?
— Ха, интересно! Я не видел — другие видели.
— Не верю я, — упрямо, точно убеждая самого себя, сказал Виктор.
— Во, смотрите на него. Херувимчик! Жизни ты не знаешь, Витька, вот и сомневаешься.
В доме глухо прогремел выстрел.
Виктор насторожился, а Мишка-Козырь совершенно спокойно сказал:
— Во, даёт, гад! Раз — и концы в воду. А я думал, что тут полюбовное дело. Понял?
— Дурак ты, вот это я понял. Перестань болтать, как помело.
Раздался второй, затем третий выстрел, а следом за ними послышалась дробь длинной автоматной очереди.
— Витька, — забеспокоился Козырь, — там что-то не то. Пойдём — поглядим.
— Пошли!
Мишка-Козырь шёл первым. Открыв дверь в коридор, они увидели переводчицу коменданта. Она стояла, прислонившись к стене, обмякшая, бледная. Правая рука беспомощно, как переломленная ветвь, свешивалась вниз под тяжестью пистолета. Наташа тяжело дышала и, теряя силы, медленно сползала по стене.
Козырь зарядил карабин, бросился к Наташе и, толкнув в грудь, выхватил у неё пистолет, затем, дёрнув за подбородок, поднял голову.
— Перестань издеваться, — крикнул Виктор.
— Не валяй дурака, — огрызнулся беззлобно Козырь и, убедившись, что переводчица без сознания, бросился в комнату.
— Ого, брат, — раздался оттуда его удивлённый голос, — вот это девка! Витька, посмотри, она их всех троих уложила!
Виктор склонился над Наташей. Она окинула его затуманенным взором и проговорила, с трудом выдыхая слова:
— Стреляйте… подонки… тащите в гестапо… выродки!
Виктор смотрел в лицо Наташи, и душа его переполнялась жалостью к ней.
— Не нужно так… — сказал он ласково и нежно поправил волосы, упавшие на её лицо.
Она посмотрела на него внимательно и вдруг скомандовала:
— Уйдите!
— Витька, — возбуждённо крикнул Козырь, выходя из комнаты, — ожила, стерва? Вот тебе и Аврора — богиня утренней зари!
Он склонился над Наташей с недоумевающим видом.
— Подожди, — шепнул Виктор девушке и встал во весь рост. — Чего орёшь, — толкнул он в грудь Козыря и, не целясь, в упор выстрелил ему в живот. Наташа опять потеряла сознание. Виктор поднял её на руки и понёс. Свежий воздух вернул Наташу к жизни. Она услышала ровное дыхание и скрип снега под тяжёлыми солдатскими сапогами.
— Куда идём?
Виктор оторопело остановился. Он не знал, куда идёт, — лишь бы подальше от этого страшного дома.
— Отпустите меня, — дёрнулась она, — я пойду сама.
Он опустил её на дорогу и только теперь заметил, что Наташа не одета.
— Подождите, одну минуту, — быстро проговорил он.
— Куда вы?
— Принесу пальто, — ответил Виктор и растаял в темноте.
— Кофту захватите, там, на стуле… — крикнула она вслед и сама удивилась своей просьбе.
Дул сквозной ветер, холодный и почти бесснежный. Густые низкие тучи, совершенно чёрные в темноте, быстро пролетали над головой и казались таинственными посланцами потустороннего мира. Ветер беспощадно рвал тучи, расшвыривал их…
Наташа стояла, прислонившись к шершавому стволу большого дерева, машинально отковыривая окоченевшими пальцами маленькие кусочки замёрзшей коры.
Её била дрожь и одолевали беспокойные мысли. Что делать дальше? Кто этот парень, спасший ей жизнь? Можно ли довериться ему до конца?
Виктор вернулся быстро, помог надеть кофту и пальто и испуганно спросил:
— Вы ранены?
— Немного, это пустяки.
— Кровь у вас…
— Знаю, — тихо ответила Наташа и вдруг, отбросив сомнения, сказала:
— Я не знаю, что мне теперь делать.
— Где вы живёте?
— Не в этом дело.
— А в чём?
— Вам можно верить?
— Мне?
Виктор задохнулся от прилива чувств. Ему хотелось сказать этой необыкновенной девушке, что он готов ради неё сделать всё, и если потребуется, то и умереть! Но он сказал тихо и серьёзно:
— Можно.
— Гарантии?
— Полные. Я связан с партизанами, знаю их пароль.
— Скажи.
— Здравствуй, красавец, как здоровье?
— Спасибо, на здоровье не жалуюсь, — продолжила Наташа.
Только теперь Виктор окончательно понял всё.
— Наташа! — воскликнул он. — Какая же ты!..
— Об этом после, — нетерпеливо сказала она, — теперь о деле.
— О каком деле? Необходимо немедленно уходить к партизанам! В городе будут повальные обыски.
— Не горячись, подожди немного. Мне нельзя уходить из города, — решительно сказала она, — ещё не всё потеряно. Ты уйдёшь к партизанам. Я всё свалю на вас — напали, убили Шварца и солдат, ранили меня… Мне поверят.
— Наташа!
— Ты меня понял?
— Да.
— Тогда прощай!
— Наташа, идём вместе! Не оставлю же я тебя здесь!
— Тебя как зовут?
— Виктор.
— Спасибо тебе, Витя, и иди! Так нужно. Я не могу, не имею права иначе.
— Ладно, поступлю, как говоришь ты, — с трудом согласился Виктор. — Желаю успеха! И если будет случай, передай капитану Крылову… Пусть не думает обо мне плохо… Он тоже наш…
— Знаю. Передам обязательно, думаю, что случай такой представится. — Она попыталась улыбнуться. — Ещё раз спасибо тебе. Прощай!
— До свидания!
Наташа медленно пошла к центру города. Но не успела она сделать нескольких шагов, как Виктор опять рванулся к ней:
— Наташа!
Она остановилась и вопросительно посмотрела на него.
— Наташа, прости меня, пожалуйста. Можно, я тебя поцелую?
Она посмотрела на него ласково, как-то по-матерински нежно, целомудренно поцеловала сама и, не произнеся ни звука, медленно пошла к сереющим в темноте домам.
Виктор ещё долго смотрел ей вслед, восторженный и ошеломлённый.
Потом вновь вернулся к страшному месту, ещё раз внимательно, по-хозяйски осмотрел всё и при помощи раскалённых углей поджёг дом. Убедившись, что огонь набрал силу, Виктор быстро направился к темнеющему вдалеке лесу.
А уже через десяток минут старый деревянный дом пылал, как огромный факел.
…Наташа с трудом брела по городу. Раненая рука тяжёлым камнем тянула вниз, неприятно кружилась голова, подкашивались ноги. До квартиры майора Шварца, где собралась большая, весёлая компания по случаю его дня рождения, она добралась совсем без сил и, теряя сознание, упала на руки майора Демеля.
— Напали… — еле слышно прошептала Наташа. — Ганс убит… Полицаи… изменники!
Празднование не состоялось.
Демель объявил тревогу.
Расплата
Растрёпанная, раскрасневшаяся от быстрого бега и возбуждения, Таня пулей слетела вниз по ступенькам в землянку комиссара отряда.
— Тихон! Ушёл убивать Гердера!
Владимир Васильевич оторвал взгляд от свежей газеты и спокойно сказал:
— Сядь, Таня, успокойся. Объясни всё по порядку. Какого Гердера, почему его нужно убивать?
— Гердер! Старший лейтенант, следователь гестапо!
— А кто послал Тарасова?
— Да никто… сам он. Его опять поймают!
— Цыц ты. Кого поймают? Толком говори.
— Он его убьёт, а его поймают!
Владимир Васильевич внимательно посмотрел в широко раскрытые, испуганные глаза и понял, что Тихон опять затеял какую-то авантюру.
— Таня, скажи спокойно: кто его послал и сколько человек пошло с ним на операцию.
— Никто! Один! Пошёл — и всё! Разозлился и пошёл! Я его уговаривала, уговаривала, а он всё равно пошёл!
— Давно?
— Нет, только что.
— Один?
— Один. Я же говорю…
— По какой дороге? — быстро надевая полушубок и шапку, спросил комиссар.
— В сторону ручья.
…Через полчаса насупившийся, злой Тихон сидел в землянке комиссара. Злился он на Таню, которая выдала комиссару его намерения, на себя за то, что не успел нырнуть в кусты от конных партизан, посланных за ним вдогонку, и на комиссара: он чего-то ждал, оттягивая неприятный для Тихона разговор, будто унижать Тихона ему доставляло огромное удовольствие.
А Владимир Васильевич, убедившись, что Тихон немного остыл, спокойно сказал:
— Расскажи, что случилось?
Тихон нахмурился ещё больше и молчал, катая ногой еловую шишку, валявшуюся на полу.
— Что молчишь, герой?
Тихон встал.
— Что говорить-то, всё равно я его убью!
Таня вздрогнула и восхищённо посмотрела на Тихона.
— Может быть, ты внесёшь ясность? — перехватив её взгляд, спросил комиссар.
— Я? — наивно улыбаясь, спросила Таня и покосилась на Владимира Васильевича.
И были в это время на её лице и добрая простота, и чисто девичья лукавинка. Но ненадолго. Через какую-то долю секунды глаза их встретились, и Таня, стыдливо опустив голову, тихо сказала:
— Из-за меня он…
— А… — протянул комиссар, — тогда мне всё ясно.
Он один в отряде знал о трагедии этой девушки и крепко, по-мужски хранил тайну.
Пристально и очень серьёзно посмотрел он на парня.
А Тихон уставился в угол с выражением решимости и обиды.
— Садись, Тихон, что стоять столбом. В ногах правды нет. Скажи, ты любишь Таню? — спросил Владимир Васильевич и перевёл взгляд на Таню.
Тихон не ожидал такого вопроса, но, несмотря на это, не обнаружил ни растерянности, ни смятения. Он ответил твёрдо, с вызовом:
— Люблю!
Ответил таким тоном, в котором явно прослушивалось, что Тихону эта тема, по крайней мере, неприятности не доставляет.
— Прекрасно! Понимаю и приветствую! Как такую не полюбить — умница, красавица! Хорошо, а теперь скажи, зачем же ты хочешь ей принести горе. У неё и так его хватает по горло!
— Я? — испуганно спросил Тихон.
— Конечно.
— Да я для неё…
— Я, да ты, да мы с тобой, — перебил его комиссар, — опять горячка и фокусы, опять всё через пень-колоду да на авось! Пора уже стать посерьёзнее. Пропадёшь, а что с Таней будет? Об этом ты подумал? Нет, конечно. Между прочим, запомни: вспыхнуть вот так, как ты, легче, чем повседневно и разумно вести борьбу. Я знаю, что ты можешь и гору свернуть, но только чтобы с маху! Это ты пустил старый, глупый лозунг по отряду: или грудь в крестах, или голова в кустах?
— Между прочим, — невозмутимо ответил Тихон, — эту поговорку впервые я услышал от вас.
— Ой, Тихон, дотошный ты парень, забубённая, горячая голова. Ты мне зубы не заговаривай! Я тебя спрашиваю: о Тане ты подумал? А она ведь тоже тебя любит. Да, любит! И не таращь на меня свои кошачьи глаза. Прибежала, дрожит вся — боится за тебя. А тебе, конечно, всё это трын-трава. Ты — Тихон Тарасов, прославленный партизан, герой! Раз ты решил — баста. А каково другим будет от этого? Хорошо или плохо? Не пострадает ли наше общее дело от этих фортелей — это для тебя значения не имеет.
— Товарищ комиссар!
— Ну, что?
— Что же вы меня срамите, будто я какое плохое дело задумал? Гердер — это же такая сволочь! Это бандит, а я должен терпеть? А она сразу же бежит к вам, точно я маленький какой…
— Она за тебя боялась, жизнь твою спасала. А ты её чуть ли не предательницей считаешь.
Владимир Васильевич потрепал его за волосы.
— Хороший ты парень, но необуздан и горяч.
— Что же я, выходит…
— То и выходит, — перебил Тихона комиссар, — выдержки у тебя нет. Но в одном ты прав: уничтожать фашистов нужно беспощадно!
— Вот видите! Скоро война кончится, а мы всё будем сидеть да думать, а другие за нас воюют.
— Не совсем так. До конца, войны ещё далеко, досыта навоюешься.
— Это смотря с какой стороны подойти. Под Сталинградом фашистам устроили баню, а теперь под Ленинградом блокаду прорвали. Бьют их везде! Прислушайтесь, ночью артиллерия наша гудит, сметает всё на своём пути. По всему видно: дело к концу пошло. Только мы одни сидим и ждём у моря погоды. Дождёмся, когда наша армия нас освободит, как немощных и трусливых.
— Хорошая политбеседа, — засмеялся комиссар, — убедил ты меня. Гердера убрать нужно, и дело тут не только в твоих личных симпатиях к нему или антипатиях. Этот выродок давно заслужил петлю или пулю.
— Разрешите? — Тихон опять вскочил.
— Разрешаю. Но только с партнёром, который хорошо знает обстановку в городе.
— Я и сам знаю. Кому это нужно со мной идти за семь вёрст киселя хлебать?
— Опять горячишься. Скажи, что ты знаешь о Гердере?
— Знаком лично, не ошибусь, — усмехнувшись, ответил Тихон.
— Этого мало. Нужно знать его образ жизни, когда, где и с кем бывает, привычки — всё до мелочи.
— А к чему это всё, на тот свет я его и так отправлю!
— И опять попадёшь в гестапо.
— Не попаду.
— Нет, так не пойдёт, — твёрдо сказал комиссар. — Нужно действовать наверняка.
— На этот раз ошибки не будет, поумнел я, — сказал Тихон и посмотрел на Таню — она была недовольна его поведением.
— Честно говоря, — серьёзно сказал комиссар, — я этого пока не заметил.
— Хорошо, — горячо сказал Тихон, — согласен. Давайте помощника. Вдвоём веселее.
— Есть подходящий человек, из бывших полицейских. У нас он совсем недавно, но человек проверенный. Он и его форма в этом деле могут оказаться очень полезными.
— Из карательной роты? — спросил Тихон.
— Из неё.
— Его могут узнать.
— Могут, конечно. Но я не думаю, что о его переходе к партизанам известно всем. Кроме того, узнать могут и тебя. Так рассуждать — нам вообще нельзя в городе появляться.
— Ясно. Когда выступать?
— Завтра. С утра знакомство с партнёром, подготовка — и в путь. Разговор с командиром я беру на себя.
Тихон проводил Таню до землянки и, заглядывая в глаза, спросил:
— Любишь?
Она ответила не сразу: ласково и упрямо уткнулась лицом в грудь, порывисто обняла его и крепко поцеловала в губы. И только после этого откуда-то из глубины вырвалось:
— Люблю!
На мгновение Тихон обомлел, а затем в неповторимом восторге долго целовал её губы, глаза, щёки…
Он ушёл.
Таня ещё долго стояла, бледная, ошеломлённая. Широко раскрытые глаза застыли. Но вот по телу пробежал озноб. Затуманился взор. Она прижала холодные, жёсткие варежки к щекам и тихо, ничего не соображая, опустилась на большой, запорошённый снегом пень, откинула назад голову.
Наступал ранний вечер, по-зимнему ясный и сухой. Город окутала насторожённая тишина. Лишь изредка крякнет ветхий промёрзший телеграфный столб да проскрипят быстрые шаги прохожих.
Таинственные фиолетово-красные тени, казалось, рождались из ничего, осторожно заглядывали в освещённые окна домов и исчезали, растворяясь в наступающей на город темноте. Отчаянную войну вели люди с морозом — дым густыми клубами вырывался из печных труб и пропадал в морозном воздухе.
…По улице высокий, плотный полицейский ведёт арестованного, одетого в ватные штаны, тёплую телогрейку и солдатские кирзовые сапоги. Шапка надвинута на лоб, связанные руки за спиной. Конвоир спешит: тонкая немецкая шинель греет плохо. Впереди показалась группа солдат из комендантского взвода. Идут не строем, громко разговаривают и смеются. Один из них дружелюбно ударил полицая по плечу и, махнув рукой на арестованного, весело пролопотал:
— Партизан! Пуф, пуф! — И показал руками, как, по его мнению, должен падать застреленный партизан.
Все дружно захохотали и, не останавливаясь, прошли дальше. Вскоре Тихон с Виктором благополучно добрались до дома тёти Даши.
На улице появились полицаи. Встреча Виктора со знакомыми ребятами могла спутать все карты — он быстро шмыгнул через незапертую калитку во двор.
Тихон замешкался, но, увидев приближающихся к нему полицаев, не растерялся, убрал руки из-за спины и с независимым видом шагнул им навстречу.
— Эй, друг, дай закурить. Пошли, понимаешь, провериться, а папиросы дома на рояле забыли.
— Есть, да плохие. Вы народ богатый, дрянь курить не будете, — спокойно ответил Тихон и протянул пачку первоклассных немецких сигарет.
— Где взял сигареты? — с напускной строгостью спросил полицай.
— Гитлер подарил.
— Ты с ним лично знаком?
— А как же. Недавно в больнице лежал, когда животом маялся. Пришлось с самим через клизму по прямому проводу разговаривать.
— Смотри, какой остряк-самоучка, — с восхищением сказал полицай. — Силён! А всё-таки, где ты такие хорошие сигареты взял?
— Купил, нашёл — насилу ушёл, а догнали бы — ещё дали бы. Хочешь — кури, а не хочешь — не бери!
Все засмеялись, и громче всех тот, с кем разговаривал Тихон.
— А ты парень не промах!
— Бог миловал, жизнь учила, а папаша драл ремнём.
Полицейские посмеялись, закурили и пошли дальше. Тихон хотел скрыться во дворе, но на улице показалась странная пара: переводчица из военной комендатуры — Тихон узнал её издалека, и громадный, как медведь, мужчина. Он держал переводчицу под руку, и она рядом с ним была похожа на молодую, стройную берёзку, выросшую в обнимку с вековым, кряжистым дубом.
Какой-то бешеный азарт удержал Тихона на месте. Он улыбнулся и вдруг почувствовал — кровь ударила в голову. Наступило хорошо знакомое ему состояние безрассудного азарта и вдохновения, во время которого его всегда несло, как льдину в половодье по бурной реке, — куда швырнёт, обо что ударит… В таком состоянии необычайного душевного подъёма, когда силы удесятерялись и отсутствовало чувство страха, и в то же время отключались таинственные внутренние тормоза, Тихон мог совершить всё — от героического поступка до величайшей глупости. И опыт у него на этот счёт был богат и печален. «Ну, понесло», — сказал он сам себе и шагнул навстречу переводчице и её спутнику. С языка уже готовы были сорваться дерзкие слова… Но тут Тихон вспомнил комиссара, последнюю беседу с ним. «Смотри, герой. Без фокусов! Никаких выкрутасов! Ты имеешь задание — выполни его! Возможны случайные встречи, неожиданности. Так вот, главные твоя козыри, кроме смелости — её у тебя хватает, — выдержка и осторожность. И запомни главное, чего тебе иногда не достаёт. Человек, не умеющий, когда это необходимо для дела, подчинить свои чувства и волю обстоятельствам или чужой воле, — попросту говоря, слизняк и изменник. Не обижайся. Подумай над этим!»
Тихон остановился, отвернулся к забору, делая вид, что раскуривает сигарету.
Иван Фёдорович и Наташа прошли мимо. Тихон скрылся во дворе, где ожидал его Виктор.
— Видел?
— Что? — не понял Тихон.
— Наташу.
— А… — протянул Тихон. — Видел. Я с ней знаком… Дрянь красивая!
— Брось! — вспыхнул Виктор. — Не знаешь человека — не говори!
— Ты что, — удивился Тихон, — белены объелся?
Виктор сник. Он мог сказать о Наташе такое, что Тихон сразу бы изменил своё мнение о ней. Мог, но не имел права.
Гердер жил вместе с ординарцем, уже немолодым, раскормленным на дармовых казённых харчах солдатом, в большом деревянном доме, принадлежащем старому пенсионеру. Когда-то это был шумный и весёлый дом, но война разбросала его обитателей по белу свету. Дом опустел. Два хозяйских сына — командиры Красной Армии — ушли на фронт, а их семьи, не желая подвергать себя риску и унижениям, эвакуировались на Урал. И остались они вдвоём — старый, медленно разрушающийся дом и не менее старый, больной, сломленный временем и невзгодами хозяин.
Дом этот крепко врос в землю всего в ста метрах от здания районного отделения гестапо, и Гердер резонно рассудил, что жить в нём будет безопасно и удобно во всех отношениях.
Тётя Даша хорошо знала расположение комнат. Она доводилась дальней родственницей хозяину дома и раньше часто бывала в его семье. Из рассказа тёти Даши партизаны узнали, что Гердер занимал две большие комнаты, хозяин одну, выходящую окнами во двор. Ещё в одной небольшой комнатушке, расположенной возле кухни, царствовал ординарец.
…От тёти Даши они ушли в два часа ночи. Разработанный ими план был очень прост: он предусматривал застать Гердера ночью в его квартире, исключал применение огнестрельного оружия. Старый, ожиревший ординарец при расстановке сил в расчёт практически не принимался.
Они проникли в сад через забор с тыльной стороны дома и, стараясь не производить даже малейшего шума, медленно продвинулись к крыльцу.
Над городом царило мёртвое безмолвие. Но вот что-то еле слышно грохнуло на востоке, и тут же звук пропал, будто его не бывало. Возник вновь, один, второй, третий, превратился в сплошной гул, далёкий, но мощный…
Полная холодная луна ловко ныряла в быстро летящие облака, и под лучами лунного света снег был похож на тяжёлое расплавленное олово.
Гул на востоке затих. Резко и ясно раздавался хрюкающий скрип снега под сапогами часового у здания гестапо.
Тихон осторожно поднялся на крыльцо, перегнулся через перила и не сильно постучал в окно.
Замерли в ожидании.
У Виктора — карабин наизготовку, у Тихона в руках блестел пистолет.
Тихо…
Постучали вновь, громче, настойчивее. В комнате что-то зашевелилось, в окне появился тёмный силуэт. Человек через стекло рассматривал улицу. Вскоре тень исчезла и заскрипели засовы, отворилась наружная дверь. Старик в наброшенном наспех полушубке и валенках на босу ногу тихим, скрипучим голосом спросил:
— Кто такие?
— Свои.
— Кого надо?
— Здравствуйте, Кирилл Тимофеевич.
— Здравствуйте.
— Постоялец ваш дома?
— Дома.
— Спит?
— Спит.
— А солдат?
— Тоже.
— Пьяный?
— Как всегда, словно свинья пришёл…
— Вот и хорошо. В гости мы пришли. Повидать срочно нужно старшего лейтенанта.
— Из полиции? — равнодушно спросил старик.
— Оттуда, — спокойно ответил Виктор.
Старик строго посмотрел на пришельцев, но форма Виктора, видимо, успокоила его.
— Проходите, — засуетился он, — раздевайтесь.
— Спасибо. Мы на минуту, — сказал Виктор и прошёл из сеней в кухню.
Тихон шагнул за ним.
— Разбудить? — спросил хозяин.
— Не нужно. Мы сами. Проведите нас в его комнату и включите свет.
…Гердер спал, лёжа на спине, тихо посапывая.
Щёлкнул выключатель — яркий свет разлился по комнате. Гердер лениво потянулся и, ещё не открывая глаз, скорее ощутил, чем увидел, оружие, направленное ему в лицо. Ещё не веря в происходящее, он зажмурился, но раздался резкий, как удар плётки, голос Виктора:
— Встать!
Будто сильная стальная пружина подбросила Гердера с постели. Вскакивая, он выкинул руку на стол, но его пистолет предусмотрительно забрал Тихон.

Гердер стоял в нижнем белье, растеряв надменность и лоск, жалкий беспомощный, и тупо, по-бычьи смотрел на неожиданных гостей. Наконец до него дошёл смысл этой сцены. Он мелко задрожал, смазливое лицо его исказилось гримасой ужаса, большие, круглые глаза увлажнились, стали жалкими и пустыми. Он что-то заговорил, сбивчиво и торопливо.
— Как боров, — злобно сказал Тихон.
Гердер не расслышал, что сказал этот русский страшный парень, но по интонации понял, что пощады ему не будет. Он заговорил ещё быстрее, прося и убеждая, но никто его не понимал.
— От такого монолога, пожалуй, рехнуться можно, — опять промолвил Тихон и решительно шагнул к Гердеру…
Провожая партизан, уже на крыльце Кирилл Тимофеевич неожиданно сказал:
— Спасибо вам, ребята. Так их, гадов! Собаке — собачья смерть! Не всё им над нами измываться! Есть и у нас орлы! Мои тоже где-то воюют. А может быть, и головы сложили. А я уже не могу, старый совсем стал. А хочется вместе со всеми. Не сломить им русского человека! Не сломить! Душа горит! Душа, она молодая, а сил нет. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Руки и ноги служить не хотят. Ивану — командиру вашему — привет от меня передайте. Так и скажите: привет от Кирилла Тимофеевича. Он знает.
— А как вы теперь выкрутитесь? — спросил Виктор, махнув рукой в сторону дома.
— Эге-ге, мне не страшно. Уйду к сестре — вон, через сад живёт. Я там часто ночую. В гестапо об этом знают. А утром, пораньше, побегу сообщу… и вся недолга! Что они мне сделают?
— Нет, так нельзя, — сказал Виктор, — не поверят они вам. Лучше минут через пятнадцать — двадцать идите в гестапо и расскажите правду. Так будет лучше. И не стесняйтесь, расписывайте нас, как есть.
— Тревогу поднимут, облаву устроят, — нерешительно проговорил Кирилл Тимофеевич.
— Это не страшно. Отсюда до леса — рукой подать, пусть ищут ветра в поле, а мы в это время будем уже далеко.
— Стойте, ребята. Тогда вы мне на память какой ни есть синячок поставьте. Для отвода глаз.
— Не требуется, — рассудительно проговорил Тихон. — Нереально будет. У вас такой возраст и состояние здоровья, что в драку ввязываться ни к чему.
— И то верно, — согласился Кирилл Тимофеевич. — До встречи, ребята!
…Часовой у гестапо задержал перепуганного, трясущегося старика. С трудом сдерживая кашель, притопывая старыми, подшитыми валенками, он густо сыпал непонятные русские слова. Однако и в этой чужой для него речи солдат ясно расслышал имя старшего лейтенанта Гердера, несколько раз произнесённое странным стариком. Часовой вызвал начальника караула.
Через пять минут в гарнизоне была объявлена боевая тревога.
Новый комендант
Пропажа секретного документа была обнаружена на следующий день после гибели майора Шварца. Специальная комиссия под председательством старшего лейтенанта Герца, прибывшего в комендатуру на должность убитого в бою партизанами капитана Фогеля, и так, и этак перекладывала все бумаги в сейфе, сличала их с реестром. Всё было на месте, кроме этой злосчастной директивы. Герцу ничего не оставалось, как доложить о чрезвычайном происшествии по команде.
Вскоре комендатура была похожа на растревоженный муравейник. Все посторонние, после тщательной проверки, из здания комендатуры были удалены.
В кабинете майора Шварца Демель допрашивал работников комендатуры. По рассказам очевидцев ему удалось шаг за шагом восстановить события минувшего дня вплоть до бомбёжки. Затем Демель вызвал офицеров топо-геодезической группы, которые находились в кабинете Шварца перед бомбёжкой и вместе с ним прятались в бомбоубежище. Их руководитель — пожилой майор — с готовностью подробно рассказал об этом эпизоде. Он уверял, что майор Шварц, как только появилась опасность бомбёжки, спрятал директиву в сейф, а сейф закрыл на ключ.
— А кто был в приёмной, когда вы проходили в убежище? — спросил Демель, раскуривая сигарету.
— Никого, — ответил руководитель группы, — впрочем, простите. Там была эта прелестная девушка-переводчица.
— Почему она не спустилась в убежище?
— Не могу знать, — развёл руками майор, — мы быстро шли за комендантом. Согласитесь, при такой ситуации некогда было смотреть по сторонам.
— Офицеры, сверкая мундирами доблестной, непобедимой армии, спасаются в подвале, а женщина остаётся под бомбёжкой! Я очень живо представляю себе эту рыцарскую картину! — с иронией сказал Демель и положил горящую сигарету на край пепельницы. Дымок от сигареты тонкой сизой ниточкой вытянулся к потолку.
— Что было делать? — развёл руками майор, показав и движением рук, и мимикой, и даже наклоном корпуса, что человек слаб, и бороться с этим печальным обстоятельством он, к сожалению, бессилен.
Демель задумчиво смотрел на струйку дыма — она колебалась и рвалась, а сигарета посылала вверх всё новые и новые ниточки.
…Итак, Наташа. Но документ был закрыт в сейфе. Ключ от сейфа найден при убитом Шварце. Чудеса! Но чудес на свете не бывает. Вызвать Наташу? Может быть, она внесёт ясность? Нет, пока её беспокоить не стоит.
До этого происшествия Демель верил Наташе. Её простота, наивность и чисто женское кокетство, свойственное всем хорошеньким женщинам, были — так ему казалось — её естественным состоянием, и они, видимо, были той плотиной, которая надёжно защищала Наташу от подозрений. Теперь эта плотина разрушена, и Демель посмотрел на неё другими глазами. И всё, что до сегодняшнего дня говорило в её пользу, служило частицей того щита, который прикрывал её от подозрений, теперь выступало против неё. Красота и непосредственность, кокетство и детская наивность — всё, что раньше, совсем недавно, так нравилось ему, вызывало восхищение, вдруг показалось не в меру безупречным, законченным, а потому — неестественным. И в самом деле: откуда в этом захолустье появилась девушка с таким редким сочетанием достоинств? Откуда? Из Минска — это известно. А почему она живёт здесь, разве в Минске хуже? Странно. А почему она до войны никогда не навещала дядю? Вопросы возникали в голове Демеля и требовали ответа. Но разве не стояли уже перед ним эти вопросы? Стояли, и он на все вопросы ответил. Но теперь они выглядели по-другому, и он впервые подумал, что Наташа может быть не тем человеком, за которого себя выдаёт.
Разыскать секретную директиву так и не удалось. Демель вынужден был доложить об этом своему шефу. Штурмбанфюрер терпеливо выслушал своего подчинённого, выдержал для солидности небольшую паузу, недовольно посопел, издал горлом громкий, но нечленораздельный звук и, не скрывая своего презрения к собеседнику, заговорил:
— Вчера убили коменданта, и вы не знаете, кто это сделал! Убили вашего следователя, и вы опять ничего не знаете об убийцах! Сегодня вы не знаете, кто украл важный документ! Скажите, Демель, а что вы знаете?
Демель знал, что на такие риторические вопросы его начальник всегда отвечал сам и поэтому молчал. Он не ошибся. Шеф, выдержав приличную паузу, соответствующую, по его мнению, моменту, и, собравшись с мыслями, сказал:
— Ни черта вы не знаете, Демель. Вам нужно руководить не гестапо, а пансионом благородных девиц. Там хоть и беспокойнее, но опасности меньше.
— Я не боюсь опасностей, — вставил обиженный Демель.
— Я этого не знаю и знать не хочу! — разъярился штурмбанфюрер — он не терпел, когда его перебивали. — Но зато я знаю, что в вверенном вам районе последнее время все ваши благие планы и намерения с какой-то фатальной закономерностью летят в тартарары! Перестаньте философствовать, занимайтесь больше делом! Мы обязаны быть достойными великих предначертаний фюрера, а не спать! Побольше фантазии, размаха… И беспощадно уничтожать, выжигать калёным железом всё, что мешает нам.
«На публику работаешь, — неприязненно подумал Демель, — знаешь, что даже и твои разговоры подслушиваются и записываются».
Израсходовав весь запас указаний и патриотических призывов, штурмбанфюрер подсластил пилюлю — вежливо распрощался с Демелем и повесил трубку.
Нервы Демеля начали сдавать, порой он попросту не находил себе места. Он уже не верил ни фюреру, ни его предначертаниям, хорошо понимая, что все фашистские идеи, которые совсем недавно казались непобедимыми, превратились в мыльный пузырь, красивый и непрочный.
Ещё не затих салют, отгремевший на могиле Шварца, как в своей спальне ножом, как отгулявшего борова, прирезали самоуверенного Гердера вместе с его вечно пьяным ординарцем. В карательной роте «случайно» уже четвёртый за короткий срок погиб агент Демеля. Действует хорошо организованная, неумолимая мощная сила, бороться с которой практически невозможно. Эта сила направляется крепкой, опытной рукой, рукой настоящего хозяина этих территорий…
Демель глубоко вздохнул, потёр руки и опять тоскливо подумал: «И меня убьют, и нет никакого спасения ни здесь, ни на фронте. «Разбитая наголову» Красная Армия бьёт и гонит прославленную, непобедимую армию великого фюрера… Сталинград так и не смогли взять, и утопили в Волге свою былую славу, честь, мечты и вместе с ними триста тысяч немцев. Ленинград тоже оказался не по зубам, хотя его обороняла «рассеянная и уничтоженная» Красная Армия. Стратеги! Гении! Погубили немецкий народ и Германию! Всё пропало! Феникс возник из пепла. Удивительные всё-таки эти русские! А немцы! Талантливый, организованный, дисциплинированный народ. Но почему же тогда история без конца показывает ему мерзкие гримасы? Да потому, что во главе нации всегда стояли глупые политики, шарлатаны и проходимцы. Если бы люди, затевающие кровавые бойни, знали наперёд о своём поражении, то на земле никогда бы не было войн».
Новый комендант города майор Клингер, грузный, короткий, с круглым, как блин, невыразительным лицом, с тонким голосом и толстыми слоновьими ногами, был, как говорят, человек себе на уме. Он не парил в небесах, а передвигался по грешной земле, терпеливо неся свой крест, неторопливо преодолевая дорожные ухабы, рытвины и другие, неизбежные на длинном жизненном пути, преграды. Сам он считал себя человеком золотой середины и очень гордился этим.
Приученный к аккуратности и порядку, новый комендант в глубине Души не одобрял бестолковщины, царившей в управлении. Вечно кто-то то искал, по коридору, поднимая шум, бесцеремонно сновали солдаты и офицеры. Даже в кабинете коменданта толстый персидский ковёр на полу не полностью скрадывал грохот и стук, производимый его ретивыми подчинёнными.
С Наташей комендант был подчёркнуто любезен, бесстрастно-почтителен, но не более. Живые, реальные женские прелести его не прельщали уже давно, и только длинными, бессонными ночами в горько-сладких мечтах и грёзах он жил иногда рядом с женщиной своей, особой, придуманной им самим жизнью.
Все усилия Наташи хоть чуть-чуть переступить грань сугубо служебных отношений неизменно упирались в пустоту — её новому шефу и покровителю были начисто чужды горячие эмоциональные всплески.
…Сегодня к коменданту пришёл Демель, они надолго засели в кабинете вдвоём. Наташа, как всегда в таких случаях, сидела в приёмной с ефрейтором Штокманом, который после смерти любимого начальника заметно повеселел и храбро ухаживал за осиротевшей переводчицей. Неотразимый щёголь и балагур, ефрейтор был смелым человеком. Он ничего не боялся, кроме восточного фронта и своей верной и беззаветно любящей его жены. Жена была далеко, а на фронт его мог отправить только майор Шварц, у которого с этой красивой девчонкой были-таки шуры-муры. Новый шеф по своим физическим данным конкурентом Штокману быть не мог. И Наташе, по мнению хитрого ефрейтора, ничего другого не оставалось, как проявить внимание к своему старому поклоннику. Правда, при первом же появлении нового коменданта Штокман имел неосторожность доверительно шепнуть Наташе несколько язвительных фраз по поводу его внешнего вида. «Майор с икрой», — остроумно окрестил коменданта Штокман, намекая на его солидное брюшко.
Наташа шутки не приняла и ответила возмущённо, что она никогда не позволит себе судить о достоинствах и недостатках своего начальника, да ещё в такой неприличной форме и что раньше она не могла бы представить ефрейтора Штокмана, выполняющего такую неблаговидную роль.
Штокман затосковал. Он готов был проглотить свой болтливый язык. «Чёрт её знает, эту красотку! Возьмёт и выложит всё новому коменданту». И ефрейтор Штокман со свойственной его натуре прямотой тут же признался сам себе, что он такого момента выслужиться перед новым шефом не упустил бы. Положение было серьёзным. Но опытный Штокман не растерялся. На следующее утро Наташа получила в подарок от ефрейтора большую коробку отличных шоколадных конфет. Приняла её Наташа с удовольствием и, в свою очередь, одарила Штокмана очаровательной улыбкой, которая успокоила ефрейтора лучше любых словесных заверений. Мир был восстановлен.
…А в кабинете коменданта два майора вели серьёзный разговор. У Клингера сонный вид, говорит он медленно, нудно:
— Медицинская экспертиза показывает странные вещи. Представьте себе, мой предшественник погиб от пистолетной пули. Правда, врачи не совсем уверены в этом. Пуля, видимо, прошла через рот, и произошёл разрыв черепной коробки… Так вот, экспертиза утверждает, что винтовочная пуля сделала бы разрыв другого характера, более значительный. Кроме того, солдаты тоже убиты из пистолета, а им был вооружён только майор Шварц. Полицейские были вооружены русскими карабинами, и, прошу обратить внимание, полицейский был убит русской пулей.
— Когда всё это стало известно?
— Час назад.
— Странно, — протянул Демель и подумал: «Чёрт бы взял проклятых костоломов! Сведения, которые они должны сообщить в гестапо, они передают любому, кто носит немецкий военный мундир. А впрочем, что от этого изменится? Воскреснет Шварц? Разбегутся в лесу партизаны?»
Демель нервно зашагал по кабинету, пытаясь успокоиться, но ходьба не принесла облегчения. Он понимал, что нервная система находится на грани срыва. Усилием воли Демель заставил себя говорить тихим, ровным голосом, так, что собеседник не заметил его состояния.
— Если так, тогда очень трудно понять, кто в кого стрелял. Получается: Шварц убил своих солдат и сам выстрелил себе в рот. А один полицейский убил второго и сбежал. Фантастика!
— Но ещё ранена переводчица Наташа, — напомнил комендант.
— А она из какого оружия?
— Точно определить не удалось. Касательное ранение мягких тканей — можно думать что угодно, — Клингер пошлёпывал влажными губами; лениво взглянул на собеседника.
Демель, повинуясь душевному порыву, заговорил словно кого-то упрекая и жалуясь:
— Я, откровенно говоря, последнее время просто растерялся. Эта серия убийств выбила из колеи мой аппарат. Мои люди взвинчены, они стали всего
бояться! Нужны быстрые и решительные меры, а сил у нас явно не хватает.
— Карательный батальон прибывает сегодня вечером. Конечно, этого может быть недостаточно, но это уже кое-что, — произнёс Клингер сочувствующим тоном, в котором явно прослушивалось и презрение.
Возбуждённый Демель уловил только сочувствие, это подбодрило его, и он заговорил увереннее:
— Этого мало. В районе появилась партизанская бригада. Местный партизанский отряд особой опасности не представлял. А бригада — хорошо организованное воинское соединение, способное вести длительный бой. Кроме того, в городе оживились подпольщики.
— Как вы красиво говорите, — насмешливо глядя на Демеля, проворчал Клингер и провёл рукой по волосам, старательно зачёсанным поперёк обширной лысины. — Но при всём моём уважении к вашей службе и к вам лично я всё же не могу понять смысла этого разговора. Всё, о чём вы так хорошо рассказывали, я прекрасно знаю.
Демель вспыхнул — понял, что над ним издеваются. Он допустил элементарную ошибку: перешёл на доверительный тон прежде, чем это ему позволил собеседник, проявив таким образом слабость. Он сам дал повод для насмешек этой старой развалине, не сумевшей оценить его откровенности. Ну, хорошо!
— Всё это я говорил не забавы ради, — сдерживая ярость, вкрадчиво проговорил Демель, — а для того, чтобы вам в дальнейшем был яснее ход моих мыслей. Я думаю о вашей переводчице, — продолжал Демель.
— Не улавливаю связи, — сказал комендант.
— Вы доверяете этой красавице? — спросил Демель.
— Как вам сказать? Пожалуй, нет.
— А почему?
— Я вообще не верю русским.
— Это, сами понимаете, не ответ.
— Конкретных фактов я не имею.
— Но без фактов нет истины.
— А роман со Шварцем разве не факт?
— А был ли он, этот роман?
— Все утверждают, что был. Шварц, возможно, просто резвился, а она, говорят, была влюблена всерьёз.
— Или разыгрывала влюблённую.
— При известной доле воображения можно предположить всё что угодно, — слегка усмехаясь, сказал Клингер, — остриём бритвы завинчивать шурупы, а скрипичным смычком бить кота, нагадившего на коврик.
— Я не понимаю ваших аллегорий!
Демель от ярости ничего не видел, словно тисками сдавило затылок, затряслась голова… С большим трудом он опять сдержал себя.
А Клингер будто ничего не замечал.
— Что же тут не понять? Не трудно сломить эту девчонку. Но это ли нам нужно? В чём вы её подозреваете? На что способен этот ребёнок? Кроме того, она тяжело переживает смерть Шварца, осунулась, похудела.
— Тоже игра, талантливая игра!
— Всё бывает, конечно, но ведь девчонка ещё к тому же со старомодными взглядами на жизнь.
— Допустим, девчонка. А как она зарекомендовала себя на работе?
— Отлично, это общее мнение.
— Вот видите, а как это вяжется с её возрастом и детским видом? Никак! Так почему же не предположить в ней и талантливую актрису?
— Логично, но…
— Никаких «но», Клингер, взять под строжайшее наблюдение, проверять каждый шаг. Я по своей линии постараюсь ещё раз уяснить истинное лицо этой влюблённой. Но торопиться не будем. Если переводчица не та, за кого себя выдаёт, то нас будет интересовать не столько она, сколько люди, которые стоят за её спиной.
Такого натиска комендант не ожидал, но пасовать не хотелось, он выложил на стол свой последний козырь:
— Позавчера я устроил Наташе небольшую проверку. Она получила сведения о предполагаемом вывозе от нас важных документов, причём точно знала время и способ доставки их. Так вот, посланный мной ефрейтор Штокман благополучно прокатился туда и обратно. Это, на мой взгляд, в какой-то степени говорит в пользу моей переводчицы.
— В какой-то — да! Но в общем-то ничего не доказывает. Вся эта проверка рассчитана на глупцов. Это всё равно, как говорят русские, что гадать на кофейной гуще.
Клингер молча проглотил пилюлю. «А ты не так прост, как показался вначале, — с некоторым чувством удовлетворения подумал он о Демеле, — спорить с тобой нельзя — можно очень просто, а главное, без всякой необходимости нажить кучу неприятностей».
— Пожалуй, вы правы, — примирительно сказал комендант, — тут возможны разные варианты.
— Об этом я и говорю, — подхватил Демель. — Она могла просто не успеть передать эти сведения.
— У неё было двое суток, — сказал Клингер таким голосом, что сразу стало ясно: он не спорит, избави бог, а только подсказывает некоторые детали человеку, который держит в своих руках все нити этого разговора.
Демель так и понял ситуацию, он уже ощутил своё превосходство, настроение его улучшилось. Клингер сдался. В его расчёты не входила ссора с начальником гестапо.
— Допустим, передала, — продолжал Демель, — но что-то помешало её сообщникам.
— Маловероятно.
— Согласен и на это. Но представьте себе: у неё умный шеф, а у нас с вами, к сожалению, нет пока никаких оснований думать иначе, и он понял, что это ловушка. Может быть?
— Конечно.
— Значит?
— Значит, — с готовностью ответил окончательно поверженный комендант, — ваши подозрения могут оказаться очень основательными.
Стук в дверь прервал обмен любезностями между двумя майорами. Получив разрешение, в кабинет вошла Наташа.
Демель встал, галантно поклонился и произнёс с большим чувством!
— Я давно не видел вас, Наташа. Ещё раз выражаю искреннее сочувствие по поводу прискорбного происшествия. Эти события как бы сроднили нас, с вашего позволения… Ганс был мне, так же, как и вам, близок и дорог…
Клингер удивлённо посмотрел на Демеля. «Ого, милый, тебе пальца в рот не клади! Откусишь!»
Наташа тихо ответила:
— Благодарю вас, господин майор, я никак не могу прийти в себя. Ваше сочувствие придаёт мне силы.
— Кстати, Наташа, как ваша рука?
— Пустяки, небольшая царапина.
— Уже вторая! Вы родились под счастливой звездой!
Уловив в голосе Демеля фальшь, Наташа продолжала играть роль влюблённой, простодушной девушки, безутешной в своём горе.
— Лучше бы я была на его месте.
— Вы были с ним близки? — быстро спросил Демель и этим бестактным вопросом окончательно убедил Наташу в её худших предположениях. Всё ясно: её подозревают.
Клингер, развалившись в кресле, закрыл глаза и равнодушно причмокнул губами.
— Вы же всё прекрасно знаете, — ушла она от прямого ответа. И, зардевшись, сказала дрожащим голосом: — Теперь я потеряла всё.
— Не нужно убиваться, — открыв глаза, сказал Клингер, — у вас ещё всё впереди. Вы молоды, прекрасны и связали свою судьбу с великой Германией. А мы не забываем жертв, принесённых на алтарь нашей победы. Всё у вас будет хорошо!
— Спасибо вам, бог не забудет вашей доброты, но только всё это не для меня.
В голосе Наташи было столько правды, что Демель подумал: «Господи, неужели она его в самом деле любила? А что удивительного? Шарлотта тоже была в него влюблена. Было в нём что-то такое, что нравилось женщинам».
— Мне даже немного досадно, — произнёс Демель, — меня никогда никто не любил.
Наташа приняла шутку Демеля, на её лице появилась искажённая горем улыбка.
— Это неправда. Вы достойны большой любви!
Когда Наташа вышла, Демель прошёлся из угла в угол по кабинету и вопросительно посмотрел в глаза коменданту, а тот, сладко чмокнув губами, примирительно сказал:
— Уж слишком всё хорошо. Нереально! Какое удивительное достоинство, выдержка и эта детская неотразимая наивность. Думаю, не мешает ещё раз устроить ей проверку. Тот же вариант. Пошлём Штокмана. Как вы думаете?
— Дерзайте, — совсем успокоившись, снисходительно разрешил Демель.
…Поздно вечером к дому Ивана Фёдоровича подъехала полицейская машина. Командир карательной роты быстро оставил кабину и решительно двинулся к закрытой калитке. Группа вооружённых полицаев, приехавшая вместе с командиром, перекрыла все подступы к дому. Капитан уверенно открыл калитку и быстро прошёл в глубину двора, к дому, где ярко светились два окна. Николай постучал. Дверь отперла Наташа и, не помня себя, задохнувшись от счастья, прильнула к его груди. Они прошли на кухню, и Николай, взволнованный и счастливый, целовал её лицо, волосы.
Иван Фёдорович смотрел эту сцену с затаённой радостью, зависть» и грустью. Не было в его жизни вот таких по-настоящему счастливых минут.
— Я ненадолго, — смущённо сказал Николай. — Наташе нельзя больше оставаться в городе. Ей не доверяют. Её немедленно нужно отправить в лес!
— Есть что-нибудь новое? — спросил Иван Фёдорович.
— Есть, — ответил Николай.
— Серьёзное?
— По-моему, да! Меня по-дружески предупредили, чтобы я не увлекался Наташей.
— Кто? — спросила Наташа.
— Старший лейтенант Герц.
— Возможно, он отпугивает соперника?
— Исключено, — сказала Наташа, — в комендатуру он попал после тяжёлого ранения, которое навсегда отбило у него желание общаться с женщинами.
— Нет, — поддержал жену Николай, — похоже, он знает что-то о Наташе. Её немедленно нужно отправить в отряд!
— Согласен, — коротко сказал Иван Фёдорович и вопросительно взглянул на Наташу.
— Рано, — поправляя распушённые волосы, возразила Наташа.
— Рисковать нельзя, — настаивал Николай.
— Но прямых улик против меня нет. И дело не только во мне. Если уйду я, то и Ивану Фёдоровичу тоже нельзя оставаться здесь. Да и тебе тоже.
— А мне-то почему?
— Все кумушки судачат о нашей связи. Вот, почитай.
Наташа подала Николаю небольшой лист серой обёрточной бумаги, на которой жидкими фиолетовыми чернилами старательно испорченным почерком было выведено: «Быстро же ты, гансовская потаскуха, утешилась на груди изменника Родины гвардии проходимца Крылова! Поздравляем: он всё-таки русский. И предупреждаем, что скоро изменникам на советской земле не будет места. Готовьте доски и гвозди для гробов». И ниже, с новой строки подпись: «Настоящие хозяева».
Все трое молчали.
— Правильно, — нарушил тишину Иван Фёдорович. — Хотя и не очень тактично и не совсем грамотно, но дана очень высокая оценка твоим талантам и работе. И не кем-нибудь, а действительно настоящим хозяином — простыми русскими людьми. Видимо, ваше начальство, которое наверняка осведомлено о ваших встречах, тоже расценивает их, как любовные. А любезное предупреждение Герцем Николая ещё раз подтверждает это.
— И всё же Наташу необходимо немедленно отправить в лес, — упрямо повторил Николай.
— Нельзя, нужно и целесообразно подождать. Есть одна деталь: Клингер вновь подсунул мне интересный документ. Завтра будут отправляться из комендатуры списки районной агентуры немцев, — сказала Наташа.
— Липа, конечно. Опять ловушка, шитая белыми нитками, — сказал Иван Фёдорович. — По-топорному работают. Как это агентурные списки гестапо оказались у коменданта? Зачем их куда-то нужно отправлять? Чепуха!
— Вот именно, — согласилась Наташа, — это проверяют меня. А мы их опять не тронем, и это укрепит мои позиции.
— Не убедила, — горячился Николай. — Иван Фёдорович, что же вы молчите? Скажите ей! Задание она уже выполнила!
— Что с тобой? — спросила Наташа Николая.
— Не знаю, как на старте перед выстрелом…
— Ты что-то скрываешь?
— Нет!
— Тогда нет особых оснований для волнения.
— Возможно, но у меня какое-то шестое чувство. Нервы напряжены, тревожно… Боюсь я за тебя!
Иван Фёдорович без нужды почесал за ухом и, волнуясь, как школьник перед экзаменом, глухо проговорил:
— Да, нарыв созрел. Наташу нужно отправить в отряд. Оставаться опасно. События развиваются быстро. Но из центра поступило указание: всем оставаться на местах. К сожалению, мы не знаем всех планов командования.
— А оно не может знать детально нашей обстановки, — в тон Ивану Фёдоровичу продолжал Николай. — Мы должны принимать решения, сообразуясь не только с целесообразностью, но и с необходимостью!
После долгих разговоров решили: завтра Наташа пойдёт в комендатуру в последний раз, а вечером уйдёт к партизанам. Иван Фёдорович отправится вместе с ней. Николая и Михаила Петровича Крылова решено было пока оставить на своих местах. Николай должен был в течение двух суток ликвидировать офицеров-топографов и сапёрный взвод.
Казалось, всё было продумано, взвешено, учтён каждый возможный ход врага.
Но всё получилось иначе…
На следующий день утром Наташа быстро поднялась с постели, сделала физзарядку, с удовольствием умылась и села завтракать. В это время на кухню быстро вошёл Иван Фёдорович.
— Наташа, дом оцеплен гестаповцами.
Наташа поперхнулась, кусок стал поперёк горла, внутри будто что-то оборвалось и упало. Но состояние это продолжалось недолго. Наташа поборола страх.
— Почему вы так думаете? — почти спокойно спросила она.
— На улице гестаповская машина, у калитки двое, улица в обе стороны перекрыта, в саду во всех углах по солдату с автоматами, стоят не скрываясь.
— Не страшно, — сказала Наташа и нащупала в карманчике платья маленький пистолет, — это они меня от народного гнева охраняют.
— Я согласен, Наташа, это не самое худшее. По-видимому, очередной фокус Демеля. Психологический этюд. Демонстрация какая-то.
— Против меня у них нет ничего, — задумчиво проговорила Наташа.
— Я тоже пока вне подозрения, — сказал Иван Фёдорович.
— К сожалению, мне этим похвалиться нельзя. Демель, как я вам уже говорила, подозревает меня. Не знаю только, в чём. Убийство Шварца? Инструкция по «Кроту»?
— Меня беспокоит одно, Наташенька.
— Что?
— Уже второй посыльный в Минск, к твоей «матери», не подаёт о себе вестей. Первый погиб — это мне известно, а второй… Я не уверен, что Мария Фёдоровна знает правду о своей Наташе.
— Плохо, — согласилась Наташа, — но в то же время, я думаю, проверить они меня могли раньше.
— Ясно одно, — твёрдо сказал Иван Фёдорович, — это не арест…
Наташа отворила калитку и вышла на улицу. Она прошла мимо солдат, но они, казалось, не обратили на неё внимания. Из-за машины появился улыбающийся майор Демель:
— С добрым утром, Наташа. Надеюсь, оно действительно доброе? Спасибо, господин майор, у меня нет причин обижаться.
Демель изучающе смотрел на переводчицу, но она была невозмутима. Он не выдержал первым:
— Вас не удивляет эта почётная охрана? — Он широко повёл рукой.
— Нет, не удивляет.
— И правильно. Ни вы, ни ваш дядя к этому не имеете никакого отношения. Нас интересуют другие люди.
— До скорой встречи, — попрощалась Наташа и не торопясь пошла вдоль улицы в комендатуру.
Наташа была взволнована. Она заметила, что начальник гестапо не был с ней откровенен. К чему весь этот маскарад? Почему оцеплен дом Ивана Фёдоровича? Ответов на эти вопросы пока не было. В приёмной коменданта обстановка сегодня необычная: нет ефрейтора Штокмана.
Наташа села на свой стул, но её тут же вызвал комендант.
— Доброго здоровья, фрау. Скажите, где ефрейтор Штокман?
— Простите, а почему вы об этом спрашиваете меня?
— А потому, — улыбнулся Клингер, — что лучше вас об этом никто не осведомлён. — Он промакнул лысину носовым платком и немигающими, птичьими глазами уставился на Наташу.
— Мне непонятен ни ваш вопрос, ни ваш тон, — сказала она с обидой.
— А меня это мало трогает, — произнёс комендант лениво. — Оружие у вас есть?
Наташа молча положила на стол малокалиберный пистолет.
— Откуда такая прелесть? — оживился Клингер.
— Подарок покойного майора Шварца, — ответила она.
— Да, да, майор Шварц…. всё это очень печально.
— Я не заметила, — с обидой сказала Наташа.
— Чего вы не заметили?
— Уважения к памяти Ганса Шварца.
— Вот как? — удивлённо промолвил Клингер. — А вы-то здесь при чём?
— Если бы он был жив, никто бы не позволил себе разговаривать со мной таким тоном.
— Ну, знаете, у каждого свои манеры, — сказал Клингер и опять позволил себе слегка улыбнуться.
— Что вы имете в виду?
— Вы верите, что Шварц любил вас?
— Не знаю, но он всегда был вежлив и внимателен.
— Он был слишком доверчив, и это погубило его.
— Не говорите загадками.
— О, вы прекрасная актриса!
Наташа смотрела обиженными глазами на коменданта, и никак не была похожа на человека, который хоть в чём-то виноват.
— Хорошо, я не буду играть с вами в прятки. Сегодня ночью убит Штокман, что вы об этом знаете?
Наташа удивилась совершенно искренне.
— Но где, каким образом? — спросила она таким тоном, что Клингер опять растерялся. Он не чувствовал уверенности в словесной дуэли с этой девчонкой. Она убивала его своей непосредственностью.
А Наташа продолжала наступать:
— Почему вы спрашиваете меня об этом, вам мало моего горя? — Опустив голову, она заплакала, сначала через силу, а потом, войдя в роль, по-настоящему, роняя крупные слёзы.
Клингер внимательно посмотрел на неё, криво пошевелил губами и протянул:
— Поберегите свои слёзы, они вам ещё пригодятся. Играйте для других. Я вам не верю.
— В чём я виновата? — с горечью, глотая слёзы, спросила Наташа.
— Я объясню. Вы попались. Вам специально дали возможность ознакомиться с секретной бумагой, из которой вы узнали, что будут отправляться важные документы. И вот финал: люди убиты, документы похищены, машина разбита. Что вы скажете теперь?
— Я ничего об этом не знаю.
— Это вы сообщили партизанам о предстоящей эвакуации документов.
— Нет! Это какая-то чепуха! Почему они сами не могли выследить машину? При чём здесь я? Партизаны на всех нападают. Вы об этом знаете намного лучше, чем я. — Наташа сдержала слёзы, но не могла скрыть глубокую обиду за нелепое обвинение.
— Но об отправке документов вы знали. Не будете отрицать это?
— Конечно. Я сама печатала списки. Как же мне не знать? Я вообще много знаю и разве дала хоть малейший повод сомневаться во мне?
— Ваше заявление вполне логично. Буду откровенен до конца — это дело гестапо. Майор Демель, видимо, лучше сумеет объяснить, в чём ваша вина.
— Ни в чём! — горячо сказала Наташа.
— Очень может быть, но я умываю руки. Гестапо свыше моих сил, это вы прекрасно понимаете.
— Я понимаю, — тихо сказала Наташа. — Куда мне теперь?
— Идите, работайте.
Наташа вышла в приёмную и занялась делами. Но не прошло и пяти минут после окончания разговора с комендантом, как в дверях появился гестаповский офицер с двумя автоматчиками, которые замерли возле Наташи. Офицер прошёл к коменданту.
«Это уже арест», — подумала Наташа. Тотчас из кабинета коменданта вышел гестаповец и произнёс с любезной улыбкой:
— Вы арестованы!
Прямо из комендатуры её привели к Демелю. Начальник гестапо сидел за столом, подперев щёку ладонью. Поза и глаза — всё говорило о неподдельной задумчивости.
— Садитесь, Наташа, — будто очнувшись от тяжёлых дум, произнёс Демель. — И чтобы сразу же внести ясность в наши отношения, я вам скажу всё: вы советская разведчица!
Наступила пауза. Демель не спускал глаз с Наташи. Она была невозмутима. Демель вздрогнул. Лицо Наташи казалось каменным.
— Что же вы молчите? Я повторяю: вы — советская разведчица!
Видимо, у каждого человека в жизни, хоть один раз, бывает такой момент, когда он должен собрать в кулак все свои духовные, физические и нравственные силы. Сейчас наступил такой миг для Наташи, и она знала: от того, что и как произнесёт она теперь, будет зависеть очень многое. «Не нужно позы и нажима. Я должна быть проста и естественна», — подумала она и, обиженно взглянув в глаза Демелю, не пытаясь скрыть волнения и недовольства, сказала:
— Неплохая шутка, господин майор. Но если бы Ганс был жив, я надеюсь, вы шутили бы более удачно.
Демель сверлил Наташу взглядом, будто проводил сеанс гипноза. Как хотелось ему увидеть эту женщину испуганной, ползающей возле него на коленях, с мольбой выпрашивающую пощаду. Он не заметил в ней даже смущения.
— Не обижайтесь, Наташа, я говорю только то, что думаю.
— А если вы ошибаетесь?
— Исключено.
— А если нет?
— Тогда мне придётся признать свою ошибку.
«Ничего тебе не известно», — подумала Наташа и задорно спросила:
— И только-то?
— Что ещё?
— А моральная травма?
— Я обязан проверить!
— А какая необходимость в аресте?
— Дело покажет, — неопределённо ответил Демель.
— Попробуйте представить себя на моём месте, тогда вы, я уверена в этом, многое поймёте…
— Я вас понимаю и так. Поверьте мне, ничего страшного пока не произошло.
— Когда я была совсем маленькой, — сказала Наташа, — моя мама учила меня спутанные волосы расчёсывать с концов и не торопиться. А когда я приходила с прогулки, она говорила мне, что очень глупо чистить щёткой пальто от сырой грязи, нужно подождать, пока оно подсохнет.
Демель понял Наташу, но не обиделся — его реакция была для неё неожиданной. Он встал, медленно прошёл по кабинету и сказал очень любезно:
— Я благодарю вас за науку, это очень полезные практические советы. Но представьте себе, Наташа, — я убеждён в том, что сказал вам. И волосы у меня расчёсаны, и платье я чищу щёткой только сухое, и всё-таки у меня к вам есть несколько вопросов.
— Прошу вас, я постараюсь ответить на них, — спокойно сказала Наташа.
— Я не буду вас спрашивать, при каких обстоятельствах погиб ефрейтор Штокман. Видимо, вы действительно об этом ничего не знаете.
— Не знаю, — честно промолвила Наташа.
— Вот видите? И я верю вам!
— Спасибо.
— Эта проверка убедила меня во многом… Но подождите меня благодарить. У меня есть другие вопросы, которые не дают мне покоя.
Наташа вопросительно смотрела на Демеля.
— Объясните мне, — продолжал он, — как это получилось, что во время бомбёжки вы оказались в кабинете Ганса, вместо того, чтобы спрятаться в бомбоубежище?
— Я в кабинете не была. Я оставалась в приёмной.
— Допустим. Но почему?
— Я сильно испугалась… Меня все бросили. Мне даже сейчас страшно вспомнить, какой ужас я пережила тогда.
Демель видел, что её лицо медленно краснело. Глаза испуганно блестели.
— Я должен признать, и вы вправе говорить об этом с насмешкой, горечью и болью, поведение офицеров в тот момент геройским назвать нельзя. Я справедлив к вам, видимо, потому, что не совсем равнодушен.
— Ещё раз спасибо, — промолвила Наташа, — я глубоко уверена, что злобой добра не добудешь.
Демель нахмурился.
— Следующий вопрос. Медицинская экспертиза установила, что Ганс и оба немецких солдата убиты из пистолета и полицай — из русского карабина. Если верить вам, что напали полицаи, то как объяснить результаты экспертизы? Кто в кого стрелял? И кто кого убивал? Получается, что Шварц перестрелял своих солдат и сам выстрелил себе в рот. А полицая убил его товарищ.
Наташа похолодела. Вот когда началось настоящее испытание.
Демель видел смущение Наташи.
— Что же вы молчите?
Наташе показалось, что Демель сумел проникнуть в суть происшествия. «Это конец», — мелькнула непрошеная мысль. Уверенность её была поколеблена. «Экспертиза! Да, против неё не попрёшь. Но против коня тоже не попрёшь — раздавит! А если сесть на него верхом? Конь превращается в друга. Стоп! Что-то нужно придумать. Выход, видимо, есть, но нет времени, чтобы найти его».
— Наташа!
— Да.
— Что же вы молчите?
— Извините. Мне так тяжело вспоминать это. Вы — мой злой гений. Вы обращаете мою память только к страшному и неприятному.
— Простите, служба! Я все эти дни щадил ваши чувства и сердце, но…
— Хорошо, я всё расскажу вам, но перед этим напомню одну деталь: в тот вечер, когда я пришла к Гансу на квартиру, помните, я хотела и пыталась сразу же всё рассказать вам.
— Помню.
— Вы не дали мне это сделать.
— Да, это правда.
— Почему?
— Вы очень плохо себя чувствовали.
— А позже?
— Дело казалось слишком ясным.
— Что изменилось сейчас?
— Есть некоторые обстоятельства.
— Результаты экспертизы?
— Не только.
— Если бы в тот вечер вы не были так добры ко мне, я не оказалась бы в таком ужасном положении теперь.
— Может быть. А теперь прошу ответить на вопрос по существу.
— Хорошо. По существу. Прежде всего, если бы Ганс не был так доверчив и самоуверен, то трагедии могло и не произойти.
Странно, но эти слова были для Демеля приятны.
Наташа глубоко вздохнула и продолжала с трудом выговаривая слова:
— Когда мы с Гансом приехали, у ворот дома стояли на посту полицаи, а у дверей большой комнаты, в коридоре, — два солдата. После короткого ужина мы прошли в спальню, а мундир и портупею с пистолетом Ганс неосторожно оставил в большой комнате. В это время кто-то постучал в дверь и по-немецки попросил разрешения войти. Ганс вспылил — это было так естественно, но разрешение дал. Вошёл полицай, он был безоружный. Солдаты с оружием его к коменданту не пустили. Полицай доложил Гансу, что они замёрзли и просятся в казарму или в дом погреться. Шварц приказал им поста не покидать, заверив, что на посту им придётся стоять не более часа. Конечно, сказано это было не очень вежливо, но Ганса можно было понять. Полицай вышел из комнаты недовольный, и уже через несколько секунд в коридоре и большой комнате послышалась стрельба. Дверь в спальню отворилась, и на пороге появился полицай с пистолетом. Он выстрелил в лицо Гансу и убежал… А в коридоре продолжалась стрельба из автоматов. Один из солдат был смертельно ранен полицаем, а второй убит. Я вышла из спальни… Полицай бросил пистолет в коридоре — мне это видно было через открытую дверь, — схватил свой карабин и в упор выстрелил в другого полицая, который к этому времени пришёл со двора в коридор. Меня зацепила пуля от автомата. Вот и всё.
— Вы не волнуйтесь, Наташа, — мягко сказал Демель.
Наташу била мелкая дрожь, голова безвольно опустилась, по щекам бежали обильные слёзы.
— Я не помню, как выбралась на улицу, — всхлипывая, продолжала она, — и с большим трудом добралась до вас.
— Хорошо, мне всё понятно. Но скажите, отчего мог возникнуть пожар.
— Не знаю. Печь топилась, дверца её была сильно раскалена. Что-то попало в огонь. Не знаю.
Демель смотрел на Наташу, и сложные чувства переполняли и тревожили его. Никогда в жизни он не встречал такой женщины. Было в ней что-то необыкновенно красивое, живое, непобедимое… Наташа очень нравилась ему, нравилась так сильно, что ему иногда становилось страшно и за себя, и за неё. Беда была в том, что Демель до конца не верил ей. Где-то в глубине души копошился червячок, который не давал ему покоя. Временами Демелю удавалось задавить этого червячка, и тогда Наташа казалось ему чистой и непогрешимой. Но вот вскоре этот неугомонный червячок оживал опять, и Демелю становилось ясно, что Наташа не та, за кого себя выдаёт. Но фактов, железных, неопровержимых фактов, против неё не было. Это радовало Демеля.
Если бы Наташа могла заглянуть в душу Демеля, она почувствовала бы себя несколько увереннее. Он вёл себя с ней достаточно вежливо и корректно, но, хорошо зная его манеру играть, кокетничать и его любовь к парадоксам, Наташа всё время была настороже.
— Наташа, — ласковым голосом произнёс Демель, — пауза затянулась. Я любовался вами, а вы, как мне кажется, продумывали своё дальнейшее поведение, готовились к защите.
— Вы почти угадали, — ответила она.
— Вы будете защищаться?
— Буду.
— И уверены в успехе?
— Абсолютно.
— Мне нравится ваша уверенность.
— Ещё раз спасибо.
— Нет, я серьёзно.
— Я тоже серьёзно. Я уверена, в конце концов вам придётся извиниться.
— Я с удовольствием это сделаю. Я был бы очень доволен таким исходом дела.
— А вот тут, простите, я вам не очень верю.
— Почему?
— Да потому, что вам нужны жертвы. Не можете вы без них!
— Что такое? — мгновенно вскипел Демель.
— То, что вы слышали. Вам нужен козёл отпущения!
— Зачем вы так, Наташа? Разве вы подходите на эту роль?
— Вот именно, не подхожу!
— Я очень прошу вас, — обиженным тоном произнёс Демель, — не сваливать на меня грехи, которых у меня нет. Мне и своих хватает по горло — дышать нечем!
— Извините меня, пожалуйста, — искренним голосом сказала Наташа, — но я так обижена этим нелепым арестом, что временами теряю над собой контроль.
Где-то в глубине души Демеля шевельнулся червячок.
— Милая Наташа! А что вы скажете, если я откроюсь вам: данные медицинской экспертизы, попросту говоря, придуманы мною.
— Придуманы, — машинально произнесла Наташа, чтобы хоть немного выиграть время и снять охватившее её напряжение. — Придуманы, — повторила она задумчиво. — А я рассказала вам только то, что видела своими глазами, и мне ничего не нужно было придумывать!
Наташа уронила голову на руки, волосы разметались, покрыли ладони, и горько заплакала. И эта безвольно опущенная голова, округлые вздрагивающие плечи и белая нежная шея, и вся она, беспомощная, беззащитная, — всё это неодолимо притягивало Демеля. Он подошёл и осторожно погладил её по волосам.
— Успокойтесь, Наташа, не плачьте. Я неуклюже пошутил.
Наташа успокоилась быстро. Она уже улыбалась, хотя щёки её ещё блестели от слёз.
— Вы любили Шварца?
— Мне казалось — любила. А иногда — будто нет.
— А всё же, что вы в нём любили?
— Женщины народ практичный. Я бедная девушка, мне нужно устроить свою судьбу. Ганс обещал на мне жениться.
— И вы ему поверили?
— Не совсем. Но я знаю — он любил меня!
— Откуда вам это известно?
— Он сам говорил мне, и не один раз.
— Вы были с ним близки? — опять задал свой вопрос Демель.
Наташа догадывалась, почему Демеля интересует этот вопрос. Теперь она была готова к ответу.
— Нет, конечно. Вы сами прекрасно понимаете, что этого не могло быть. Хотя, впрочем, если бы не эта трагическая неожиданность, то я не знаю… Я всего лишь слабая девушка.
От неожиданности Демель перестал дышать. Ответ этот удивил и обрадовал его.
— Значит, вы, Наташа, полюбите любого, кто женится на вас?
— Ну, не любого, — ответила она и взглянула на Демеля.
«Господи, какой она ещё ребёнок, причём глупый и наивный. Видимо, это и делает её такой неотразимой».
После такого разговора он опять не сомневался в Наташе. Червячок затих. Накануне Демель устроил так, что из Минска была вызвана мать Наташи. Это будет последняя проверка, после чего его совесть будет чиста. А потом, кто знает, может, он будет удачливее Ганса? Не такой уж он урод в конце концов!
Очная ставка
Родную сестру Ивана Фёдоровича — Марию Фёдоровну Боброву — привезли из Минска поздно вечером. С того момента, как её забрали из дома гестаповцы, бедная женщина никак не могла понять, что с ней происходит.
Разговаривал с ней сам Демель. Верный себе, он обратился к перепуганной, измученной женщине вежливо и спокойно:
— Уважаемая Мария Фёдоровна! Прежде всего, простите нас великодушно за невольно причинённые вам неприятности. Не волнуйтесь, пожалуйста, прошу вас. Ваша миссия безопасна и благородна. Мы не затрудним вас: я задам несколько вопросов, вы ответите на них и отправитесь домой. Итак, где ваша дочь?
— Какая? — растерянно спросила женщина. — У меня их две — Наташа и Нина.
— Наташа.
— Она живёт здесь, у брата Ивана.
— А почему она не живёт с вами?
— Я всё время зову её домой.
— Ваш ответ удовлетворяет меня не вполне, — вежливо улыбаясь, сказал Демель.
— Брат и дочь считают, что здесь, в глухом городке, девушке в это тяжёлое время прожить легче и проще. Кроме того, Наташа на хорошей работе. В Минске она такой работы не найдёт. Девушка молоденькая, мало ли что может случиться, а здесь она под надзором брата. Он учитель…
— А как она сюда попала? — прервал женщину Демель.
— Училась в Москве на инженера. Приехала домой на каникулы. Началась война. Наташа хотела уехать в Москву, добраться до неё не успела… Оказалась здесь, у брата. И прижилась… А что? Что с ней случилось? — Мария Фёдоровна встала, испуганно глядя на Демеля.
— Нет, нет! — ответил он. — Всё в порядке. Наташа жива и здорова. Скоро вы с ней встретитесь.
— Спасибо, — облегчённо вздохнув, проговорила женщина.
— А теперь, — продолжал Демель, — от вас требуется совсем немного… после чего вы будете свободны.
Демель позвонил — в кабинет ввели трёх молодых женщин, среди которых была и Наташа.
Наступила гнетущая тишина.
Демель внимательно изучал что-то на столе.
Мария Фёдоровна недоуменно посматривала то на женщин, то на Демеля.
Наташа, казалось, думала о чём-то далёком, окружающее её не интересовало.
— Увести, — приказал Демель и, когда женщины вышли, устало спросил Марию Фёдоровну:
— Вашей дочери среди них не было?
— Нет, — удивляясь нелепому вопросу, ответила женщина.
— Это точно?
— Конечно!
— Может, вы её не узнали?
— Наташу-то? Как это — родную дочь не узнать?!
Опять ввели Наташу.
— Как вас зовут? — спросил её Демель.
Наташа изумлённо посмотрела на майора, затем на женщину и спокойно ответила:
— Странный вопрос. Вы прекрасно знаете, что меня зовут Наташей.
— Фамилия? — выпалил Демель.
— Боброва.
— Итак, вы утверждаете, что зовут вас Наташей, фамилия — Боброва, а родом вы из Минска.
— Конечно, — ответила Наташа и поняла, что все нити этого разговора Демель держит в своих руках. Неприятный холодок подкатил к груди.
— Интересно! — торжествовал Демель — А скажите, если это не секрет, как зовут вашу мать?
— Мария Фёдоровна.
Женщина вздрогнула, и только теперь Наташа поняла страшный смысл происходящего.
Это был провал!
Тупо толкнуло в грудь… Полетели неудержимые мысли: «Всё ясно. Эта женщина — Боброва Мария Фёдоровна, родная сестра Ивана Фёдоровича и мать той Наташи, чьи документы лежат в моей сумочке. Значит, не дошёл до Минска и второй посыльный… Да, это провал, причём не только мой, но и Ивана Фёдоровича…»
Мария Фёдоровна с помутившимся разумом бросилась к Демелю:
— Где моя дочь?
— Стоп! — чётко сказал он. — Лирические сцены не всегда в моём вкусе. Я прерываю действия в момент кульминации.
Марию Фёдоровну увели.
— Как ваше самочувствие?
Наташа промолчала.
— Вот и всё! — продолжал Демель. — Как ваше имя?
— Наташа.
— Ну, зачем же так?
— Нет, в самом деле — чистейшая случайность.
— Очень приятно, если это правда. Я так привык к этому имени.
— Неужели?
— Вполне серьёзно.
— Я тронута.
— Хорошо, Наташа, — как взрослый ребёнку, сказал Демель и дробно постучал пальцами по столу. — Но обмен любезностями, к сожалению, придётся прекратить. Перейдём к делу. Итак — ваша фамилия?
— Вы хотите всё сразу.
— Разве я не имею на это права?
— О каком праве вы говорите?
— Вы моя пленница.
— Сомнительная радость.
— Почему?
— Ничего вы от меня не добьётесь.
— Мне так не кажется.
— Не нужно быть самоуверенным.
— Отчего же?
— Неоригинально. Шварц тоже был таким.
— Всё же, — раздражённо сказал Демель, — назовите свою настоящую фамилию!
— А зачем она вам?
— Вопросы буду задавать я.
— Как это скучно, — произнесла Наташа.
— Вы будете отвечать?
— Вам от этого станет легче?
— Вы, я смотрю, храбрая.
— Разве это плохо? — спросила Наташа.
Демель сказал равнодушным голосом, в котором совершенно свободно улавливалась доля злорадства:
— А вы знаете, что вас ожидает?
— А вас? — с вызовом спросила Наташа.
— Не обо мне речь.
— Старая песня. Не страшно! Все, как говорили у нас на Руси, под богом ходим, и неизвестно, кого он раньше призовёт к себе — распутницу или монахиню.
— Вы в самом деле не боитесь? — спросил искренне удивлённый Демель.
Наташа слегка встряхнула головой и провела ладонью по щеке, будто вытирая что-то, встретилась с Демелем взглядом и проговорила:
— Если вас не затруднит, раздвиньте, пожалуйста, эти тяжёлые знойно-оранжевые шторы на окнах. Какая безвкусица! А мне всегда почему-то казалось, что у вас неплохой вкус.
Майор никак не мог оторвать взгляда от лица Наташи, и вид у него в это время был глупый. Он не понимал, откуда она черпает силы. Искрящийся волею и уверенностью взгляд её тёмных, бездонных глаз казался ему непостижимым. Наташа вела себя так, точно не он, майор Демель, а она была хозяином положения. Шторы Демель раздвинул, но в комнате светлее не стало — за окнами было темно.
— Скажите, вы разведчица?
— А вы этого ещё не поняли?
— Задание?
— Я его уже выполнила.
— Директива по «Кроту» — ваша работа?
— Конечно!
— Где документ?
— В надёжных руках.
— Где? — Демель привстал над столом.
— В Москве!
Демель сел, заёрзал на стуле, вновь застучал пальцами по столу.
— Как погиб Шварц?
— Я же рассказала вам.
— То была ложь?
Наташа не ответила.
— Хорошо. — Демель опять привстал. — Скажите мне правду, это так важно для меня: вы его любили, и если да, то за что?
— Я вас считала более прозорливым. Любить Шварца! Разве может хоть чуть-чуть уважающая себя женщина полюбить глупого мужчину?
Демель почувствовал удовлетворение.
— А при каких обстоятельствах он всё-таки погиб? Согласитесь, что в вашем положении скрывать это не имеет смысла.
— А вам-то зачем? Что от этого изменится?
— Ничего, конечно, но я прошу сказать мне правду.
— Я убила его, — просто сказала Наташа.
— О! Вы, оказывается, способны на всё!
— А вы, видимо, считали меня замурзанной Золушкой, печально размышляющей о сказочном принце и хрустальных башмачках?
— Пожалуй, вы правы, — задумчиво сказал Демель, не спуская с Наташи глаз. Он был поражён изменениями, которые произошли с этой девочкой. Неожиданно, будто по мановению руки волшебника, из глупенькой, наивной, милой простушки Наташа превратилась в очень умную женщину, смелого, убеждённого в своей правоте бойца. Казалось, даже ростом она стала выше, осанка стала другой, еще более благородной.
— Наташа, — доброжелательно проговорил Демель, — вот вы мой враг, а мне жаль вас. Почему это?
— Не знаю. И не нужна мне ваша жалость, не нуждаюсь я в ней, тем более, что я не могу вам ответить взаимностью: мне вас совершенно не жаль.
— Меня? — удивлённо спросил майор. — Разве я похож на человека, нуждающегося в сочувствии?
— Во всяком случае больше, чем я.
Демель изумлённо раскрыл глаза.
— Вы окончательно поразили моё воображение. Многие на вашем месте потеряли бы над собой власть и разговаривали бы иначе. А вы полны самообладания и мужества. Это делает вам честь. А если ещё принять во внимание, что вы женщина… Не скрою, я уважаю таких людей.
— Благодарю. Это, пожалуй, самый яркий комплимент за всё время нашего знакомства, — сказала Наташа и бросила на Демеля быстрый взгляд. Глаза её сверкнули холодным огнём, напомнив блеск воронёной стали, красивой, строгой. Демелю показалось, что от глаз этой женщины протянулись к нему в сердце невидимые, но реально ощутимые крепкие нити, которые гудели, как провода на ветру, не давали сердцу покоя, порождая глубокую, необъяснимую тоску и даже страх.
— Наташа, — проговорил Демель после непродолжительной паузы, усилием воли сбросив с себя оцепенение, — мне очень хотелось бы быть не противником вашим, а другом. Скажите, зачем вы ввязались в эту историю? Вы чудесная, необыкновенная женщина, вы изумительно красивы и могли бы прекрасно устроить свою жизнь вдали от войны, убийств и всей этой грязи, которая вас теперь окружает.
— Вот я и устраиваю, — ответила Наташа, — на меня напали — я защищаюсь. Это так естественно и понятно.
— По-моему, это не лучший путь к счастью.
— Вы знаете другой?
— Не знаю, — задумчиво ответил Демель, — но и этот путь завёл вас в тупик, из которого нет выхода. Вы, к сожалению, убедились в этом.
— Нет, я уверена, что мой путь единственно верный.
— Но ваше поведение… ваши действия, извините меня, походят на авантюру. Вы наделали много глупостей.
— Может быть. У меня нет опыта. Это моё первое задание. Впредь я буду умнее.
Демель с сожалением посмотрел на Наташу.
— Вы уверены в победе русских?
— Конечно, — быстро ответила она, — сомневаться в этом теперь могут только недалёкие люди. Вы уверены в вашем поражении не меньше, чем я в нашей победе.
— Нет! — зло выпалил Демель.
— Доводы?
— Отдельные успехи или неудачи не могут определить окончательного исхода кампании. Наша армия ещё не сказала своего последнего слова, да и теперь она стоит совсем недалеко от вашей столицы. Мы умеем воевать и полны решимости довести войну до победного конца!
— Чепуха! Вы выдаёте желаемое за действительное и близки к тому, чтобы прочитать мне лекцию о величии Германии и исторической роли арийской расы. А мне, так же, как впрочем, и вам, всё это прилично надоело. Шварц очень любил высказываться и полемизировать, превознося Гитлера и фашизм. А ведь даже он, несмотря на свою природную ограниченность, знал, что всё это обман, который рано или поздно откроется. История навсегда похоронит ваших недалёких правителей и их сумасшедшие идеи. Но вы-то не Шварц, всё понимаете. Как вам не стыдно играть постыдную, недостойную человека роль?
— Однако, Наташа, вы слишком увлеклись. Интересный вы человек. Похоже, мы поменялись ролями, и не я вас допрашиваю, а вы меня. Абсурд какой-то! Но я отдаю дань восхищения вашей проницательности и глубокомыслию. Я знал, что вы красивы, знал, что умны, но не мог даже предполагать, насколько вы талантливы. Вы — прелесть! Вы чудо! И всё-таки вас повесят!
При последних словах вкрадчивый голос Демеля приобрёл злые интонации. Наташа уловила их совершенно чётко.
— Это уже лучше, откровеннее, по крайней мере, — сказала она грустно. — Но я не в претензии, если бы мы поменялись ролями, то вы получили бы то же.
— Довольно, — раздражённо перебил Демель, — покончим с лирикой, займёмся делом. Ваша ближайшая задача — вспомнить всех, кто так или иначе был связан с вами.
— Зачем мне напрягать память?
— Придётся.
— Нет!
— Заставим!
— Вот это уже почти совсем хорошо, всё стало на свои места.
— А вы как думали?
— Только так!
— Вот и прекрасно. А теперь я прошу ответить на мой вопрос.
— Извините, но вопроса я не слышала.
— Ваши сообщники?
— А… И вы всерьёз хотите получить от меня эти сведения?
— Надеюсь.
— И напрасно!
— А я уверен…
— Угрожаете? — спросила Наташа.
— Не то. Я, скорее,
предупреждаю.
— Но не учитываете одного обстоятельства…
— Что имеется в виду?
— Зачем мне все эти детали и тонкости, если меня неизбежно повесят? Согласитесь, при такой мрачной перспективе я могу на ваши вопросы не отвечать. Не станете же вы меня убеждать, как это вы делали много раз на моих глазах с другими, что чистосердечное признание смягчит и так далее…
— Всё это верно, но и вы не полностью осмыслили ситуацию.
— Вы так думаете?
— Безусловно! Всё дело в том, что вы необычная пленница, и поэтому, если вы полностью раскаетесь и будете с нами откровенны…
— То петлю заменят расстрелом, — перебила Наташа. — Но раскаиваться мне не в чем, а откровенной я с вами была всегда. Это моя слабость.
Демель медленно провёл обеими руками по гладким, иссиня-чёрным волосам, встал и неторопливо пошёл через весь кабинет к окну. Поток света, проникающий из комнаты через стекло, растворялся в густой темноте. Демель пытался хоть что-то рассмотреть за окном, но чернота была непроницаемой, и только редкие пушистые снежинки, весёлые и неуловимые, мелькали перед его глазами.
Наташа, не отрываясь, смотрела ему в спину.
— При определённых условиях, — после длительного молчания проговорил Демель, — вам можно будет сохранить жизнь.
— Какие же это условия? — с интересом спросила Наташа.
— Работать на нас.
— А что — это мысль, — улыбнулась Наташа. — И если бы это зависело только от вас, мне кажется, мы могли бы договориться.
— Паясничаете? — спросил Демель.
— Нет, я вполне серьёзно.
Демель приблизился к столу, изучающе взглянул на Наташу.
— Я тоже скажу серьёзно: полностью ваша судьба от меня не зависит, но в определённой степени… И если вы действительно согласитесь работать на нас, я доложу по команде.
— Мне нужно подумать, — ответила Наташа, — выбор у меня, прямо скажем, невелик… Но я устала…
Демель подошёл вплотную к Наташе, откровенно любуясь ею. И вдруг давно забытые, светлые чувства шевельнулись где-то глубоко, в тайниках его души. Ему неудержимо захотелось приласкать, успокоить эту гордую, милую девочку.
Он сел за стол, вытянул ноги, расслабил все мышцы и сильно потёр пальцами виски.
Наступила длинная пауза.
Но уже через несколько минут Демель спокойно сказал:
— Конечно, вы устали. Спокойной ночи. Утром буду очень рад встретиться с вами вновь.
Спал майор Демель плохо, его преследовали кошмары… Он шёл по Вороньему полю, тяжело передвигая ноги по липкой грязи, стараясь обходить свежие холмы земли, под которыми покоились его жертвы. Демель куда-то спешил, но куда — он никак этого не мог вспомнить, а вспомнить нужно было обязательно — это было очень важно. И обязательно нужно было дойти до того толстого и развесистого вяза. Тревожно билось сердце, сдавливало дыхание. Но дойти нужно: там станет всё ясным, и сразу будет легче… И он двигал и двигал ногами, но вяз не приближался. Неожиданно пошёл густой снег, и Демель с ужасом заметил, что снег был кроваво-красным. Он падал и мгновенно таял под ногами у Демеля, образуя лужи и потоки крови… Вдруг под деревом, к которому стремился Демель, появился огромный русский пулемёт. Ствол пулемёта медленно поворачивался, нащупывая цель… Как кролик на удава, Демель зачарованно смотрел на пулемёт. Нужно бежать — но ноги не слушались. Демель дико захохотал и… проснулся.
А под утро, опять забывшись, он увидел себя на зелёном берегу спокойного Рейна. В зеркально-гладкой таинственной воде отражались дома, мосты, плыли по-лебединому белые, тихие облака. Нежная музыка божественного Баха возникла и жила в его сознании. Вереницей проходили перед его глазами знакомые лица, весёлые, счастливые. И не было войны, крови, допросов, пыток… Неожиданно возник образ девушки, нежной, с длинными, как у русалки, распущенными волосами, тёмными ласковыми глазами. Она протягивала к нему руки, но не могла сдвинуться с места. Радостный вздох непроизвольно вырвался из груди. Он хотел сказать Наташе что-то приятное, хорошее, но язык прилип к нёбу…
Раздались выстрелы, грохот рвущихся гранат — и всё пропало…
Проснувшись, Демель услышал — на улице, где-то неподалёку, стреляли.
Бургомистр даёт бой
Нежданного «племянника» Михаил Петрович встретил насторожённо. Но день за днём, всё больше присматриваясь к нему, он открывал в его характере приятные, располагающие черты. Уравновешенность, смелость и огромный запас жизненной силы поразили воображение Михаила Петровича. Его отношение к Николаю резко изменилось — созрело чувство глубокого уважения. Прошло совсем немного времени, и Михаил Петрович начал замечать и в себе незнакомый ранее прилив сил. Пример Николая, доверие, которое оказывал ему Иван Фёдорович, постепенно перерождали Михаила Петровича. Впервые за свою долгую жизнь он понял, что чаще всего боялся и дрожал напрасно. Как-то незаметно для себя он оказался в самой гуще борьбы и ничуть не жалел об этом.
Однажды Михаил Петрович упросил Николая «на всякий случай» научить его стрелять из пистолета и обращаться с ручными гранатами.
Будто чувствовал, что пригодится…
В эту ночь бургомистр заснуть не мог. Мысли Ивана Петровича перескакивали с одного на другое. Сегодня арестован Иван Фёдорович, не вернулась с работы Наташа, на всю ночь ушёл из дома Николай. Тревожно сжималось сердце, томили предчувствия, мучали неразрешимые вопросы: что будет с ними? Что будет с самим Михаилом Петровичем? Давила одышка, беспощадно бил кашель, ныли суставы, сильно болела голова.
Во дворе раздались голоса и негромкая команда. Михаил Петрович, превозмогая одышку, быстро встал с постели и, не зажигая света, прильнул к окну. Перед крыльцом толпились гестаповцы во главе с офицером.
Михаил Петрович прислушался. Кроме осторожных голосов он услышал ещё хрустящее поскрипывание снега под сапогами переступающих с ноги на ногу солдат.
Дом был оцеплен.
«За Николаем, — мелькнула мысль, — а если за ним, то раскрыт и я!» Странно, но эта мысль была воспринята им как что-то должное, необходимое. Она не испугала, а, наоборот, воодушевила, заставила мгновенно забыть о своих недугах. «Очень хорошо, что дома нет Николая. Он молодой и очень нужный человек», — с удовлетворением подумал Михаил Петрович и неожиданно для себя злорадно ухмыльнулся: — Что, взяли, сволочи!
Офицер, фельдфебель и трое солдат подошли к дверям. Раздался громкий стук.
Михаил Петрович быстро надел брюки, натянул носки и начал торопливо шнуровать ботинки.
По команде офицера солдаты гулко били в крепкую дубовую дверь сапогами.
В доме было тихо.
На цыпочках, будто фашисты могли его слышать, Михаил Петрович шагнул к старому комоду, тяжело нагнулся. Вот он, заветный ящик. Под аккуратно сложенным чистым бельём лежали ребристые гранаты, пистолет «ТТ» и патроны к нему. Михаил Петрович осторожно, словно он ещё не окончательно решился, взял пистолет, вставил в гнездо рукоятки магазин.
Солдаты продолжали ломиться в дверь.
— Не торопитесь, успеете, — пробурчал бургомистр и, завернув в наволочку несколько гранат, с пистолетом в руке шагнул к крайнему окну.
На крыльце по-прежнему толпились солдаты. Послышалась брань.

Михаил Петрович долго целился и, как учил его Николай, плавно нажал спусковой крючок.
Фельдфебель, взмахнув руками, рухнул с крыльца в сугроб.
Раздался второй выстрел, и упал один из солдат.
— Назад! — громко крикнул офицер и резко прыгнул за угол дома.
По окну ударили длинные автоматные очереди — звук выстрелов смешался со звоном бьющегося стекла.
Михаила Петровича словно толкнули, будто тяжёлым булыжником ударило в грудь. Потемнело в глазах. Ослабели ноги. В сердце что-то загорелось, обжигая всё вокруг… Но было совсем не больно и не страшно.
— Гранаты, — подумал он вслух, — обязательно гранаты! — И удерживаясь одной рукой за подоконник, другой потянулся к наволочке…
— Эй, русс, выходи!
И опять тихо.
— Русская свинья! Быстро! — громко крикнул офицер из-за угла. — Сопротивление бесполезно!
Немного выждав, офицер снова выкрикнул «выходи», но ему опять никто не ответил.
— Всё, готов, — тихо сказал офицер и уже на всякий случай прокричал ещё раз, резко и громко: — Выходи, русская свинья! — И, не дождавшись ответа, смело вышел из-за укрытия.
— Вперёд!
Трупы солдата и фельдфебеля отнесли в сторону. Дверь была крепкая, и, для того чтобы её выбить, притащили из сарая длинное берёзовое бревно. За него ухватились сразу шестеро. После нескольких сильных ударов дверь начала сдавать. Ещё один, два раза — и гестаповцы ворвутся в дом…
И в это время из разбитого окна вылетели одна за другой две ручные гранаты… Взрывы разметали фашистов, сорвали с петель дверь…
Вход в дом был свободен, но желающих войти в него сразу не оказалось. Солдаты были убиты наповал, а офицер, раненный в живот целым роем осколков, в горячке сделал отчаянное усилие отползти от крыльца, высоко поднял голову и тут же замертво уткнулся лицом в снег.
Опять стало тихо.
Но вот на улице раздался рёв автомобильного мотора. У дома бургомистра остановилась тяжёлая машина, и через её борта скатились два десятка солдат. Из кабины появился сам майор Демель. Он отворил калитку, заглянул в глубь двора и раздражённо крикнул:
— Чёрт бы вас побрал! Что здесь происходит, с кем вы ведёте этот бой? Рихтер!
К нему приблизился солдат и быстро, испуганным голосом доложил:
— Старший лейтенант убит!
— Фельдфебеля ко мне!
— Тоже убит!
— Болваны! Что их там — целая рота?
— Никак нет! Один или двое!
Демель послал солдат цепью. Они шли с автоматами наизготовку… всё ближе и ближе к тёмным проёмам двери и окна.
Дом молчал.
Послышалась команда — сотни пуль полетели вперёд, как маленькие обезумевшие пчёлы…
Солдаты вошли в дом. Кто-то повернул выключатель — стало светло. Майор Демель прошёл в комнату и увидел у окна убитого, лежащего вниз лицом. Кисть правой руки крепко сжимала рукоятку гранаты. Пистолет и ещё несколько гранат валялись на полу.
— Очень жаль, — негромко сказал Демель, — наш разговор мог бы получиться весьма занимательным.
Неторопливо закурив сигарету, он приказал повернуть убитого на спину. На Демеля уставились мёртвые, остекленелые глаза бургомистра.
— Что это? — в ужасе закричал Демель. — Где капитан Крылов? Обыскать дом! Он должен быть здесь!
В голове гестаповца не укладывалось, что тихий, запуганный человек, каким он знал бургомистра, способен был выдержать целый бой, пойти на смерть.
А Николай в это время был в роте. Получив записку от Ивана Фёдоровича, он сразу вызвал лейтенанта Антонова, а через пять минут в комнату для хранения и чистки оружия, изолированную от всех других помещений, по одному стали собираться члены ротной подпольной организации. Люди заходили в комнату и настороженно рассматривали друг друга — впервые они видели своих товарищей по подполью.
Быстро вошёл командир роты и, не обращая внимания на реакцию присутствующих, вызванную его появлением, негромко сказал:
— Наступило время действовать открыто, с оружием в руках. Родина верит вам и даёт возможность оправдать это доверие! Докажите в бою, что вы не изменники, а настоящие советские люди!
И, словно подчиняясь единому порыву, всколыхнулись люди, напряжение спало, улетучилось недоверие, появились радостные улыбки, раздались возгласы:
— Давно пора!
— Натерпелись!
— Хоть сейчас!
— Жизней не пожалеем!
— Спокойно, товарищи, — остановил Николай. — Времени у нас мало. Я хочу с вами посоветоваться…
Наступила тишина. Все смотрели на командира.
— Перед нами стоит задача поднять немедленно против оккупантов всю роту. Возможно ли это? — спросил Николай, пытаясь охватить взглядом всех присутствующих.
— Можно!
— Ну, это как сказать!
— Сволочей у нас хватает!
— Подождите, — проговорил Николай, — давайте по одному. Так мы ни к чему не придём.
— Разрешите мне? — попросил Сергей.
— Давай!
— Я считаю, что задача поднять роту на борьбу с фашистами вполне реальна. Есть у нас, конечно, единицы — открытые наши враги. А есть колеблющиеся, они сами не знают, чего хотят…
— Как это не знают? — перебил его Коновалов. — Все всё знают, но боятся, — вот в чём вопрос. А если предложить, то никто не откажется!
— А как быть с откровенными врагами?
— Арестовать и… в зависимости от обстановки.
— По-моему, это верно! Давайте конкретно, кого нужно изолировать?
— Лихачёва!
— Михайлова!
— Оборина!
Через десять минут были арестованы и отправлены на гауптвахту восемнадцать человек, зарекомендовавших себя ярыми врагами советской власти.
Сразу же после этого в роте было объявлено общее построение без оружия и шинелей. Большинство подпольщиков в строй не встали. Они, разобрав оружие, перекрыли все выходы из подразделения.
— Равняйсь! — громко прокричал дежурный и, после небольшой паузы, выпалил: — Смирно!
Все замерли.
— Господин капитан, личный состав роты по вашему приказанию построен!
Николай медленно пошёл вдоль строя. Перед ним проплывали лица: серьёзные, строгие, внимательные, рассеянные, добродушные, злые, умные и откровенно глупые с напускной простотой и хитринкой — все они хорошо были знакомы командиру роты. Но знал он, что в своём большинстве это были всего лишь маски, за которыми скрывалось настоящее, сокровенное… Война бросила этих людей в страшный круговорот человеческих чувств и страстей, определив им жалкую роль изменников. Суровая действительность воспитала в них эгоизм, ненависть к людям, осторожность… Но у каждого из них в груди горели свои, особенные огни, бушевали большие, сложные бури… И он, Николай, должен сейчас найти такие слова, сильные и точные, которые объединят этих разных людей, укажут им верный путь, важный и нужный для всех.
— Товарищи!
Это негромко произнесённое простое слово ошеломило привычным звучанием и величием. Они замерли, не смея поверить в услышанное. А Николай продолжал:
— Товарищи! Я командир Красной Армии капитан Зорин, присланный к вам советским командованием. Это мои боевые товарищи, — указал он на вооружённых членов подпольной организации. — Я знаю, среди вас много настоящих, честных людей. В эту решающую минуту обращаюсь к вам от имени Родины. Сегодня мы выступаем против фашистов. Мы не одни. С нами партизаны и подпольщики города, весь советский народ! Красная Армия гонит фашистов по всему фронту! Она уже близко, и мы должны помочь ей! Наступил момент, когда вы должны решить раз и навсегда, ответить самим себе на вопрос: с кем вы? Время не ждёт!
Люди ловили каждое слово, уставившись на Николая, удивлённые, внимательные, ожидающие…
Николай помолчал, неторопливо провёл глазами с фланга на фланг, осмотрел строй и негромко сказал:
— Кто готов без колебания немедленно выступить в бой за нашу Родину, кто готов кровью искупить вину перед ней, шаг вперёд — марш!
Ни один человек не двинулся с места.
Николай онемел, мгновенно пересохло во рту, перехватило дыхание.
Но вдруг обе шеренги дружно шагнули вперёд и, громко пристукнув каблуками, затихли.
— Вольно! — с трудом выдохнул из себя изумлённый и обрадованный Николай.
Он стоял у окна, покрытого ледяными узорами. Свет от электрической лампочки, освещающей двор, падал на стекло, вызывая свечение ледяных кристалликов. Синевато-фиолетовые, бледно-жёлтые, белые — тысячи малюсеньких огоньков, — неподвижные, когда Николай замирал, и мелькающие, изменчивые, когда он двигался.
Издалека донеслось несколько длинных автоматных очередей, затем один за другим два взрыва.
«Граната, — подумал Николай, — где-то в центре города».
И вновь утренний морозный воздух прострочили автоматы.
Николай прислушался, но в городе наступила тишина.
И вот выстрелы раздались совсем рядом, в казарме, где располагался немецкий сапёрный взвод. Прозвучали эти выстрелы неожиданно и глухо. И опять наступила гнетущая тишина. Николай ждал, не отходя от окна.
Во дворе и внизу, в коридоре раздались громкие голоса и топот ног, в кабинет вбежал возбуждённый, улыбающийся Антонов:
— Всё! Ни один не ушёл! Все были на месте!
— Зачем стреляли? Я же сказал: тихо!
— Пришлось, — виновато ответил Антонов, — некоторые прыткие попались. Вот, товарищ капитан, документы. Оружие и боеприпасы забрали ребята. Всё учтено.
— Так, — задумчиво промолвил Николай, — значит с «Кротом» пока покончено. Но теперь, кажется, начинается самое интересное. Антонов!
— Есть!
— Двоих ребят, посмышлёнее, — в город! Узнать, что за стрельба была?
— Ясно.
В это время в дверях появился лейтенант Коновалов.
— Товарищ капитан, караулы сменил. Прибыли. Всё в порядке!
— Где стреляли?
— У вашего дома.
— Кто?
— Приходили за вами.
— А стрелял-то кто?
— Ваш дядя.
— Не может быть!
— Точно. Уложил гестаповцев больше десятка!
— А с ним что?
— Убит!
Николай на время отключился от окружающего. Он думал о Михаиле Петровиче — странном, интересном человеке.
— Хорошо, — наконец, машинально протянул Николай.
— Хорошего мало, — вставил Антонов.
— Действительно, сморозил. — И, чтобы скрыть неловкость, спросил Коновалова: — Ещё что?
— Да так, больше вроде бы ничего. Поговаривают, что батальон карателей сегодня утром должен прибыть.
— Это важно!
— Конечно, но уточнить нужно…
— Ещё? — опять спросил Николай.
— Немцы, похоже, со своими грызться начинают. Переводчицу из военной комендатуры, помните, которая к нам ещё со Шварцем приезжала, красивая такая, весёлая…
— Ну! — Николай рванулся к Коновалову.
— Начальник гестапо…
— Что? Что с ней? Говори скорее!
— Вы же сами мне слова вымолвить не даёте, — удивлённо сказал Коновалов. — Арестовал её Демель.
— Когда?
— Вчера утром, когда на работу пришла.
— Вчера! — с ужасом произнёс Николай.
— Вчера. А что тут особенного? — ещё больше удивился Коновалов.
— Ничего, — глухо ответил Николай. — У тебя получается, как в той шутливой песенке: «Всё хорошо, прекрасная маркиза…»
— Не понял.
— Зато мне всё ясно! Мы выступаем. Собрать ко мне командиров взводов!
— Все здесь.
Николай поднял голову.
— На подготовку — два часа, в восемь утра уходим. Подготовить обоз, боеприпасы, продукты, кухню. Ничего не оставлять: после боя в городе уйдём в лес. Людей накормить, одеть потеплее, объяснить, что идём не к тёще на блины. Каждому бойцу взять по полному боекомплекту патронов, гранат.
Присутствующие внимательно слушали приказ командира. Николай перевёл дыхание, помолчал и, стараясь быть спокойным, твёрдо сказал:
— Антонов!
— Слушаю.
— Арестованных расстрелять немедленно! — И добавил, объясняя свою жестокость: — Куда с ними денешься в такой обстановке! — У Антонова на лице выступили красные пятна, но он ничего не ответил командиру. А Николай продолжал:
— Сергея послать в партизанский отряд, к Ивану Ивановичу. С ним пяток хороших ребят на всякий случай. Передаст на словах, что вступаем в бой с местным гарнизоном, — обстановка не позволяет терять ни одной минуты. Арестована Наташа — наша разведчица, следовательно, в опасности и руководитель подполья Иван Фёдорович Ерёмин. По непроверенным данным, к городу подходит немецкий батальон карателей. Прошу поддержать.
— Я всё-таки запишу, чтобы не перепутать, — сказал Антонов.
— Хорошо, пиши. И добавь: при подходе к городу пусть даст две красные ракеты, чтобы мы партизан с кем-нибудь не перепутали. Наши связные будут ждать здесь, в этих казармах. Всё понял?
— Так точно!
Николай взглянул на других командиров и добавил:
— Четвёртый взвод остаётся здесь, с обозом. Ждать партизан, и без моего приказа ни с места! — И добавил: — Одна поправка: выступаем не через два часа, а через час!
Все разошлись по своим местам, задержался в кабинете только Коновалов. Он смущённо проговорил:
— Не знал я, что она наша. Эх, девушка какая! Вы её и в Москве знали?
— Знал, — тихо ответил Николай. — Это моя жена.
Демель нервничает
Демель был взбешён. Трагическое происшествие с бургомистром всё ещё не укладывалось в его голове. Что это творится! Старый, немощный, больной, трусливый старик убивает десяток отборных гестаповцев легко и просто, будто он всю жизнь только этим и занимался. Девчонка убивает майора и двух солдат, старшего лейтенанта режут какие-то неизвестные. И всё это происходит под самым носом у начальника районного отделения гестапо. Это уже не просто неприятные происшествия, это явные признаки тяжёлой болезни всей системы. И совершенно ясно, что этот пагубный для гитлеровской Германии процесс необратим. На фронте «непобедимая» армия драпает без удержу, и уже недалеко то время, когда и ему, майору Демелю, тоже нужно будет бежать на запад. Иллюзии об арийском мировом господстве и прочей чепухе, как утренний дымок солнцем, развеяны ка широких российских просторах простыми русскими людьми…
Зазвонил телефон. Демель снял трубку и услышал сладкое пошлёпывание губами, а потом голос коменданта:
— Говорит Клингер. У маня командир батальона майор Циммер. Необходимо встретиться. Ваше предложение?
— Прошу ко мне, — ответил обрадованный Демель. — Жду!
Через несколько минут они собрались в просторном кабинете Демеля.
Майор СС Циммер сразу же приступил к делу.
— Батальон прибыл в полном составе, — отчётливо сказал он, — люди размещаются на восточной окраине города. У меня три полные роты, двенадцать бронетранспортёров, три лёгких танка.
— Какая перед вами поставлена задача? — спросил Демель.
— Мне приказано в городе не задерживаться. Главная задача — партизаны.
— Понятно, — вежливо сказал Демель.
— Чем может помочь гарнизон? — спросил командир батальона.
Клингер сказал с кислой гримасой:
— Практически, только полицейская рота — это сто пятьдесят человек. Комендантский взвод да ещё другие мелкие хозяйственные подразделения в расчёт идти не могут.
— А эти русские, они надёжны?
— Рота в хорошем состоянии, — сказал Клингер.
— Я не разделяю вашего оптимизма, — вкрадчиво заметил Демель. — У меня есть все основания не доверять командиру роты.
— Радости, вижу, у вас тут мало, — заметил командир батальона и уставился на Демеля.
— Ожидается второй батальон? — осторожно спросил тот.
— Он подойдёт завтра утром, — ответил Циммер и, достав из планшета топографическую карту, расстелил её на столе.
Операция против партизан в общих чертах вскоре была продумана. Общее руководство операцией брал на себя майор СС Циммер. Его батальон и карательная полицейская рота должны были уничтожить местный партизанский отряд. Второму карательному батальону отводилась роль щита — он отрезал путь партизанской бригаде к месту расположения отряда Ивана Ивановича. Разделавшись быстро с этим небольшим отрядом, каратели объединёнными силами ударяли по партизанской бригаде, в которой, по имеющимся сведениям, насчитывалось не более пятисот активных штыков. Майор Демель выделял проводников и уже сегодня должен был по пути следования карательной экспедиции направить своих агентов.
Распрощавшись, командир батальона убыл в расположение своей части.
Комендант задержался, он не мог отказать себе в удовольствии бесстрастным голосом задать вопрос начальнику гестапо:
— Вы не будете так любезны объяснить, что за война разгорелась поблизости от нас час тому назад?
Демель скривился, но сдержал себя:
— Я отвечу на ваш вопрос, но прежде хочу сообщить, что ваша переводчица оказалась советской разведчицей.
— Извините, но я в этом сомневаюсь.
— И напрасно, — злорадно сказал Демель, — это факт проверенный и неопровержимый. Кстати, она сама этого не отрицает.
— Допустим, но при чём тут военные действия, о которых я спрашивал вас?
— Никаких военных действий не было, — с раздражением ответил Демель, — проводился арест сообщника советской разведчицы.
— Ну и что?
— Вы что, допрашиваете меня? — взорвался наконец Демель. — Рекомендую вам забыть этот тон и эту манеру!
Клингер понял, что переборщил.
— Прошу прощения, но мне всё-таки кажется, что капитан Крылов тут ни при чём.
— Имею точные данные, что он посещал Наташу.
— Возможно, но Шварц делал то же. С какой стати молодая женщина, да ещё такая красавица, как Наташа, будет долго одна?
— Майор Шварц близок с ней не был, — Демель не скрывал раздражения. — Она не так проста, как казалось. Кроме того, поведение дяди, который оказал вооружённое сопротивление властям, полностью разоблачает и самого капитана Крылова.
— Всё понял! — правильно оценив ситуацию, произнёс комендант. — И чтобы вы не думали обо мне плохо, я поеду сам, арестую капитана Крылова и назначу другого командира роты.
— Чем скорее, тем лучше, — удовлетворённо сказал Демель.
А в роте шли последние приготовления. Личный состав был построен во дворе, готовый к маршу, когда один из часовых, несущих службу у входных ворот, подбежал к командиру роты и растерянно доложил:
— Фашисты!
— Сколько?
— Грузовик и легковая!
— Иди на место. Подъедут — открыть ворота и пропустить машины во двор, — спокойно ответил Николай и обратился к строю:
— Сохраняйте выдержку, товарищи! Тянуть с этим не будем, времени у нас в обрез. Пока все остаются в строю, чтобы немцы ничего не заподозрили. Действовать по обстановке, а главное — неожиданно и по моей команде! От стрельбы воздержаться: в такой тесноте можно перебить своих.
Ворота казармы гостеприимно растворились, и часовые браво отдали честь развалившемуся в машине коменданту.
Следом за легковой машиной во двор медленно въехали грузовик с солдатами комендантского взвода.
Командир роты предусмотрительно открыл дверцу легковой машины, помог неуклюжему майору выбраться.
— Господин майор, отдельная карательная полицейская рота построена согласно распорядку дня для проведения занятий! Разрешите сделать перекур?
— Хорошо, — великодушно согласился Клингер.
— Разойдись! — скомандовал Николай, и бывшие полицаи тесным кольцом окружили солдат.
— Пройдёмте в кабинет, — приказал командиру роты комендант.
— А стоит ли? — усмехаясь, с издёвкой спросил Николай и сильно ударил майора в жирный подбородок. — Кончай! — громко крикнул Николай и ударил коменданта вторично.
Клингер плавно осел на полусогнувшиеся ноги.
Через несколько минут с комендантским взводом было всё кончено, и рота двинулась к центру города. Николай с первым взводом выехал вперёд на машине.
Держись, Натка!
Наташа глубоко вдохнула промозглый, пахнувший известью воздух и вздрогнула всем телом. Ржавые решётки на окнах, кирпичный сводчатый потолок, сырая тьма подвала сомкнулась с бездонной вечностью и смертью.
Ясно слышны размеренные шаги часового.
Вот оно, страшное, неотвратимое… Неужели это последняя ночь в жизни?
Нет!
Наташа резко встала, быстро шагнула к двери, через щели которой тонкими полосками проникал свет.
Часовой по-прежнему вышагивал по коридору, и вдруг послышались резкие звуки команды, густой, громкий топот. На фоне этого шума, совсем рядом, через улицу, протрещали автоматные выстрелы.
Наташа рванулась к узкому окну и схватилась обеими руками за толстые прутья решётки. Сердце билось быстро и радостно: «Это наши!»
На улице раздались два громких взрыва, и снова густые, длинные автоматные очереди прострочили воздух…
«Идут, идут!» Она представила себе Николая, бегущего с автоматом наперевес. Вот он уже рядом, вбегает во двор, поднимается по ступенькам, врывается в коридор… Но на улице опять наступила тишина. По-прежнему мерно вышагивал по коридору часовой.
Наташа вернулась на топчан и долго сидела без движения.
В углу послышались возня, писк, и две крысиные тени метнулись Наташе под ноги. Громко взвизгнув, Наташа вскочила на топчан, больно ударилась затылком о потолок и замерла.
Крысы свирепо дрались, а когда они исчезли, Наташа ещё долго стояла на топчане, боясь опустить ноги на пол. Она потеряла представление о времени. Но вот в коридоре опять поднялся шум. Говорили громко, возбуждённо. Она прислонилась к двери, пытаясь разобрать слова, и отчасти ей это удавалось. Она ясно услышала, что произносили имя капитана Крылова. Наконец шум смолк, очевидно, говорившие вошли в кабинет майора Демеля.
Наташа не двигалась, бессмысленно уставив глаза в стену. «Почему они говорят о Николае?» И вдруг опять представила его, вбегающего во двор… Демель стреляет из пистолета, и Николай, пробежав по инерции ещё несколько шагов, замертво падает в сугроб. Наташа застыла, сжалась в комок. Она ощутила, как страх пробирается к ней в сердце, сковывает волю…
Резко распахнулась дверь, на пороге вырос солдат:
— На допрос!
Майор Демель понимал, что Наташа знает многое и через неё можно основательно потрясти городское подполье. Он решил ещё раз допросить её и только после этого отправить в губернское управление гестапо. Там пусть делают с ней, что хотят.
Когда Наташа вошла в кабинет, Демель вежливо предложил ей кресло. Она с удовольствием села, тепло приятно разлилось по телу, не хотелось говорить, смотреть и даже думать. Вот так бы сидеть долго, долго, расслабив мышцы, закрыв глаза…
Демель, верный себе, автоматчиков выставил за дверь, остался наедине с арестованной.
— Последнее свидание, фрау Наташа, — любезно улыбаясь, тихо проговорил он. — Хотелось бы, чтобы оно было обоюдно приятным.
Наташа промолчала.
— Я надеюсь на ваше благоразумие. Сообщите мне кое-какие данные о ваших знакомых в городе, адреса, явки…
Тепло продолжало окутывать Наташу, её клонило ко сну, она с трудом подняла веки и устало произнесла:
— Я не буду с вами разговаривать, пока мне не дадут поесть. И горячего кофе или чаю.
Демель встрепенулся. Встал из-за стола, вышел в коридор и, не закрывая двери в кабинет, отдал распоряжение. Вернувшись на своё место, он долго и пристально смотрел на Наташу и, наконец, проговорил:
— Я преклоняюсь перед вами! Обаяние ваше беспредельно! Вы измучены страхом, мыслями о смерти, не спали всю ночь, наконец, вы голодны, не имели возможности заняться своим туалетом, и всё же — вы само очарование!
Наташа посмотрела на Демеля, тут же вздрогнула и опустила глаза: выражение его лица не соответствовало словам, которые он произносил. В его глазах была пустота. «Живой мертвец», — с ужасом подумала она.
Принесли завтрак. Наташа ела, а Демель не спускал с неё глаз. Эта женщина не давала ему покоя. Совершенно запутавшийся в своих мыслях и чувствах, он продолжал выполнять свои ставшие привычными обязанности, почти автоматически, ни во что не веря, ни на что не надеясь. Ко всему он стал равнодушен и безразличен, и только Наташа будила в нём временами что-то давно забытое, светлое и тревожное… Жалкие тени этого чувства посещали его. Они появлялись в глубине сознания, слабые и безвольные, а глаза даже и в эти моменты оставались пустыми.
Демель не уловил впечатления, которое он произвёл на Наташу. Таинственно, значительно, с заметной долей сочувствия и доброжелательности, он произнёс:
— Наташа, с вашим обаянием и талантом вы сделали бы блестящую карьеру в нашей системе.
— Вас уполномочили вести разговор?
— Я уже говорил вам, что могу составить протекцию. Почти стопроцентная гарантия.
— После того, что вам известно обо мне?
— Это не так уж важно.
— Интересно, — задумчиво проговорила Наташа.
— Ну и как?
— Взвешиваю, что я получу от вас?
— Свободу, деньги, роскошную жизнь.
— И всё?
— Что же ещё?
— Не будем играть, — твёрдо сказала Наташа, — ничего мне от вас не нужно. Вы предлагаете мне смерть физическую заменить смертью нравственной. Здесь мы не поймём друг друга и никогда не договоримся.
Демель задумался. Взъерошил чёрные волосы и доверительно спросил:
— Вы не позируете?
— Разве я похожа на актрису?
— Не знаю… Но ваша решимость поражает. Я не уверен, что любая, даже самая лучшая, государственная система, созданная разумом и волею человека, достойна такой жертвы. Вы отказываетесь от жизни. Во имя чего?
— Во имя жизни. Одному человеку для счастья много богатств не нужно, не это для счастья главное. Шварц этого не мог понять, а вы, мне кажется, понимаете. Поэтому вам и тяжело.
Демель одурело посмотрел на странную женщину, не переставая восхищаться ею. Откуда она черпает силы? Какая уверенность в себе и в правоте своего дела! Но, несмотря на это, его продолжало нести по течению:
— Как бы вы красиво ни говорили, учтите, что прежде, чем повесить, вас будут пытать.
— Вы безгранично любезны, господин майор, — холодея, ответила Наташа. — Все ваши психологические эксперименты неизбежно заканчиваются виселицей либо Вороньим полем. И ничего нового, хотя бы для меня, ради нашего старого знакомства, ваше воображение подсказать не может.
Демель затосковал. Он понял, что никаких показаний от Наташи не добьётся.
Всем своим существом Наташа вдруг ощутила, что смерти она не боится! Так у бойца, когда он вступает в бой, пропадает чувство страха.
Демель видел, как она преобразилась и в своей решимости ещё больше похорошела. Но чистые тёплые тени не посетили его душу, напротив, его охватило безумное желание бить, рвать, терзать эту женщину, такую прекрасную, но чужую ему. Он знал себя и боялся этого состояния, при котором, если жертва сопротивлялась, он доходил до экстаза и забивал её насмерть.
Демель вышел из-за стола и медленно двинулся к Наташе. Она, заметив его странный взгляд, поднялась. Остановившись, он несколько мгновений смотрел ей в глаза, затем неожиданно обхватил за шею и, пригнув голову, зверски схватил за ухо, вывернул его…
Наташа вскрикнула от страшной боли, вырвалась из рук Демеля и, не помня себя, залепила ему звонкую пощёчину. Демель схватился за шею, ему казалось, что барабанная перепонка разорвалась на мелкие части. Несколько секунд они так и стояли друг против друга.
Первой очнулась Наташа:
— Наконец-то вы показали своё истинное лицо джентльмена и мыслителя.
Но он не слушал её. Вздрогнув от звука её голоса, он в бешенстве надавил сигнальную кнопку на столе, и в кабинет, громко стуча сапогами, вбежали два солдата.
— Эту — в подвал… в третью… и без меня не трогать! — задыхаясь, прошипел Демель.
Голые стены без окон, бетонный потолок. Яркое электрическое освещение. У одной стены письменный стол, у другой — стол, накрытый белой простынёй. Три табуретки и кресло, похожее на зубоврачебное.
Наташа хорошо знает эту комнату-склеп. Остюда люди живыми не выходят.
За письменным столом сидит пожилой лейтенант Вольф. До этой войны он работал провинциальным врачом, имел большую семью и неплохую практику.
— Фрау? — удивлённо взглянул он на Наташу. — Ко мне?
Наташе не хочется говорить, она не отвечает.
И вообще, ей кажется, что это не она смотрит на лейтенанта Вольфа, что её настоящее «я» где-то глубоко укрыто непроницаемой бронёй и чем-то ещё неосознанным до конца, но твёрдым и непоколебимым.
— Садитесь, — вежливо предложил лейтенант.
Наташа села.
Быстро вошёл Демель. Вольф вскочил, приветствуя начальника. Демель не ответил на приветствие. Он сразу же ринулся к арестованной. Лицо его исказилось, глаза потускнели, что-то нудное, вызывая головокружение, беспощадно давило в затылок. Он уже не играл и не сдерживал себя.
— Называй фамилии сообщников! — грубо выкрикнул он Наташе. — Кто кроме Ерёмина и Крылова входит в группу? Вольф, записывать!
— Дурак! — неожиданно для себя спокойно сказала Наташа.
Она смотрела на Демеля и Вольфа со страхом и сожалением. Свет, падающий с одной стороны, сделал их лица бледными, с неестественными тенями. «Мёртвые», — мелькнула мысль. Наташа сидела и безучастно смотрела на своих мучителей. Сердце её сжалось, взор обратился к далёкому детству, на чистом высоком лбу разгладилась преждевременная, еле заметная морщина.
— Будешь отвечать? — истерично выкрикнул Демель.
— Нет! — уверенно ответила она, и в её тихом голосе не слышно было страха или волнения.
— Хорошо, — сухо произнёс Демель. Знакомое состояние экстаза уже полностью овладело им. Он, казалось, успокоился, подошёл вплотную к Наташе.
— Раздеть, — вкрадчиво приказал он Вольфу.
Кофту Наташа сняла сама и, скомкав, бросила на табурет. Лейтенант бесцеремонно выполнял приказание, она не сопротивлялась. Всё это ей казалось страшным сном, который при желании можно прервать, но она ждала, что будет дальше.
«Тело женщины красиво», — вспомнил Демель фразу, запавшую ещё в те давние времена, когда он слушал лекции по эстетике. Воспоминание это скользнуло и исчезло, не затронув его чувств.
— Знаешь, что с тобой будет дальше? — спросил он Наташу.
Она молчала, не глядя на него. Мысли её были далеко от этого страшного места. Постепенно в её воображении родился образ матери, потом Николая… И как только она вспомнила о нём, появилась уверенность: «Спасёт, не оставит так, найдёт способ. А если и он будет бессилен?» Глубокий стон непроизвольно, предательски вырвался из груди и замер, прерванный усилием разума. «Не раскисать!» — приказала она себе. Но смертельная тоска вновь овладела всем её существом, опутывая руки и ноги, сжимая голову… «Пройдёт, — в полузабытьи шептала она, — минута-две — и пройдёт! Держись, Натка! В конце концов знала, на что шла, и сделала всё, что могла. Очень не хочется умирать!..»
— Дурак! — опять сорвалось у неё, и Демель с ужасом увидел на её лице дерзкую, вызывающую улыбку. — Не сходятся у вас концы с концами. Вы просто бандиты! Мёртвые бандиты! Вы изжили сами себя! И изменить уже ничего нельзя — вас уничтожат!
— Кто? — зловещим шёпотом спросил Демель. Потухшие чёрные глаза, не отрываясь, смотрели на Наташу. — Вольф, — укол!
Лейтенант подошёл к Наташе, его лицо не выражало никаких чувств.
— Прошу, фрау, в кресло.
Она поднялась, придерживая руками спадающее, разорванное платье, прошла по комнате и села в кресло.
— Руки прошу, — галантно предложил лейтенант.
Она не сопротивлялась, вновь не веря в реальность происходящего, и только когда её тело при помощи ремней было прикручено к креслу и она не могла шевельнуться, стало невыносимо страшно.
Лейтенант подошёл к столу, накрытому простынёй, и загремел инструментами. Каждый металлический звук отдавался громом в сердце и голове. И вдруг Наташа вспомнила, что уже испытывала точно такое чувство в детстве, когда ей лечили зубы. Это воспоминание принесло облегчение, ужас прошёл, и она опять была готова к самому худшему.
— Жаль уродовать такую красивую женщину, — осклабившись, сказал лейтенант, обращаясь к майору и подходя к Наташе с большой иглой и блестящими щипцами.
— Будешь говорить? — прошипел Демель, наклонившись к её лицу.
— Нет!
— Начинайте, — задыхаясь, сказал Демель лейтенанту.
И острая боль пронзила все клетки тела. Перехватило дыхание, всё поплыло перед глазами. «Только бы не закричать, не дать ни секунды радости этим выродкам». И уже, теряя сознание, услышала сумасшедший крик Демеля:
— Отставить!
Боль стала постепенно отступать. Лейтенант отнёс окровавленную иглу на стол.
Окончательно Наташа очнулась от сильной дозы нашатырного спирта. Она сидела в кресле, но тело её было свободно.
Демель исчез.
Лейтенант, обработав рану йодом, неуклюже пытался закрыть тело остатками платья, помог ей надеть в рукава кофту.
— Что дальше? — спросила она его.
— Очередная блажь майора, — ответил лейтенант, пожав плечами, и доверительно добавил: — Всё. Надо думать, тебя отправят к главному шефу.
И снова Наташа в кабинете начальника районного отделения гестапо. Болит раненая грудь. Кружится голова. Демель, казалось, потерял всякий интерес к ней. Его давила усталость, и он смотрел на Наташу бессмысленным взглядом.
В это время на улице послышался рёв машин, зачастили выстрелы. Со звоном вылетело разбитое оконное стекло, и шальная пуля, взвизгнув над головой Наташи, врезалась в угол печки, отколов штукатурку и кусок кирпича.
Демель быстро вскочил, выхватил пистолет. Вид у него был безумный, он не понимал, что происходит. Выстрелы, крики и громкий топот раздавались уже в коридоре.
Демель спрятался за печь, направив пистолет на дверь.
Наташа, забыв о боли, быстрая и лёгкая, как ветер, пронеслась между столом и стеной, оказавшись у него за спиной.
Дверь с шумом отворилась, и в её проёме показалась группа полицейских. Впереди, с автоматом в руках, точно так, как ночью представлялось Наташе, стоял Николай. Демель выстрелил в него, но Наташа успела ударить по руке. Пуля ушла рикошетом в стену, никого не задев.
Николай увидел распростёртую на полу Наташу и, не раздумывая, выстрелил в Демеля.
Психолог и мыслитель, садист и убийца упал вперёд, прикрыв телом свою последнюю жертву.
Наташа, освободившись, стыдливо прикрывая окровавленную грудь, растерянно посмотрела на мужа и прижалась к нему, вздрагивая всем телом. Счастливые слёзы потекли из глаз, но она не стеснялась и не сдерживала их.
Стрельба в доме прекратилась. Большая часть фашистов была перебита, и только немногим удалось спастись бегством. Бой откатился к окраине города, где располагался карательный батальон. Времени на передышку отводилось мало, нужно было готовиться к серьёзной борьбе.
Ротный фельдшер обработал и перевязал рану Наташи, когда в кабинет Демеля, тяжело ступая, вошёл Иван Фёдорович. Наташа бросилась к нему, обняла его за шею и крепко поцеловала в губы. Он, растроганный, большой и неловкий, нежно погладил Наташу по голове, хрипло спросил:
— Что, доченька, тяжело пришлось?
— Очень, — жалко улыбаясь, ответила она, — думала, что не выдержу.
— А вот этого быть не могло, — серьёзно сказал Иван Фёдорович. — Ты сделана из настоящего материала. Спасибо тебе, Коля, — повернулся Иван Фёдорович к Николаю, — спас ты всех! Спасибо!
В кабинет быстро вошёл Антонов и доложил:
— Товарищ капитан, с лесопильного завода прибыла делегация рабочих.
— Давай их сюда! — весело ответил Николай.
Вошли трое: старый рабочий в кожаной куртке, крест-накрест
перепоясанный ремнями, и два молодых парня с немецкими автоматами на груди.
Иван Фёдорович двинулся им навстречу, приветливо пожал каждому руку.
— Здравствуй, Петрович. Как жив-здоров?
— Это как же? — удивился пожилой рабочий и, всплеснув руками, бросился на шею другу. — Слух тут прошёл по городу, что взяли тебя и — того…
— Значит, ещё сто лет жить буду, — улыбнулся Иван Фёдорович и обратился ко всем: — Необходимо немедленно решать — принимать бой в городе или организованно отходить к партизанам? Общее выступление намечено только на послезавтра! Одним нам столько не продержаться, тем более, что завтра прибывает второй карательный батальон. Но раз заварилась такая каша…
— Что предлагаешь? — перебил его Петрович.
— Я хочу выслушать ваше мнение, — дипломатично ответил Иван Фёдорович.
— Принять бой! — горячо выпалила Наташа.
Николай смущённо закашлялся и ничего не сказал, а Наташу поддержал Петрович:
— Правильно она говорит. Люди рвутся в бой! Весь город кипит, как смола в котле, — вот-вот выплеснет! Только у нас, на лесопильном, больше двухсот человек вооружённых да столько же безоружных. Посмотрите, во дворе и на улице собралось сколько народу — не пройти!
— Что будем делать? — спросил Иван Фёдорович Николая.
— Принимать бой, — опять сказала Наташа, — тут и думать нечего!
— Думать нужно всегда, — с расстановкой проговорил Николай. — А бой, по-моему, теперь неизбежен. Каратели уже в городе… Медлить нельзя ни минуты!
— Но мы не совсем готовы, — сказал Иван Фёдорович.
— Да, — согласился Николай, — нужна железная организованность, строгая расстановка сил, воинский порядок и дисциплина.
— Правильно, — с удовлетворением проговорил Иван Фёдорович, — очень правильно! И что бой неизбежен — тоже правильно! Ну, что же? Бой, так бой! А для руководства им, для наведения и поддержания воинского порядка я от имени подпольного райкома партии командиром всех наших сил в городе назначаю капитана Зорина.
— Есть! — просто ответил Николай.
— Тогда приступай, командуй. Ты правильно сказал: терять нельзя ни минуты.
— Всё понял, Иван Фёдорович, — сказал Николай и перевёл взгляд на лейтенанта.
— Антонов!
— Слушаю!
— Немедленно вызвать ко мне командиров взводов!
— Есть!
— И к вам у меня просьба, — обратился Николай к Ивану Фёдоровичу, — необходимо собрать руководителей групп и боевых отрядов подпольщиков.
— Есть! — ответил Иван Фёдорович и тут же отдал распоряжение Петровичу.
Антонов и Петрович вышли.
Наташа, поправив упавшие на глаза волосы, удивлённо спросила:
— Ты что это, Ивану Фёдоровичу команды подаёшь?
Николай ответить не успел, заговорил Иван Фёдорович:
— Правильно, Наташа. В боевой обстановке всё должно быть подчинено единой воле. Николай — командир единоначальник.
Наташа кивнула и посмотрела на мужа. Он стоял возле окна, закусив нижнюю губу, и глядел во двор.
— Высказалась? — Николай широко, простодушно улыбнулся.
— Коля! — произнесла Наташа, подходя к нему, и больше не смогла произнести ни слова. Глаза застлал мягкий туман.
— Что ты, Натка? — спросил Николай и привлёк её к себе.
— Не знаю, — прошептала она и вдруг заплакала радостно и свободно.
Он молча зарылся пальцами в рассыпанные по плечам мягкие волосы…
Возвратились Антонов и Петрович, один за одним подходили приглашённые.
Не дожидаясь, пока соберутся все, Николай без суеты отдавал распоряжения. Прежде всего, на восточную окраину города были высланы разведка и сторожевое охранение. Оперативно формировались взводы, роты, назначались командиры, распределялись оружие и боеприпасы. Антонов, исполняя должность начальника штаба, писал первый боевой приказ. Был создан резерв командира, особые отряды назначались для охранения штаба и тылов, отрабатывалась система связи.
Уяснив задачу, командиры быстро покидали кабинет. Подразделения уходили в район расположения карателей и занимали оборону на обрывистом берегу речушки, пересекавшей город.
Бой начался неожиданно.
Выступаем немедленно
Три дня беспрерывно шёл снег. Он запорошил дороги и тропинки, согнул ветви орешника, можжевельника, рябины. А сегодня ярко светит солнце!
В партизанском отряде, как в пчелином улье, — сразу не поймёшь кто чем занят. Протирают оружие, ремонтируют лошадиную сбрую, подковывают лошадей, весело постукивая по подковам крючковатыми молотками, топчутся и что-то словно колдуют у большого костра, о чём-то весело разговаривают, широко размахивая руками. Молодой чубатый партизан ходит по лагерю с гармошкой. Замёрзшие, толстые пальцы не проявляют лихости, медленно движутся по пуговкам. Но на лице музыканта блаженная улыбка. Шутка ли? Завтра в лагерь прибывает отдельная партизанская бригада «Народные мстители». Нужно встретить дорогих гостей и вместе с ними ударить по городу. Это уже настоящая война!
Вчера на политинформации комиссар рассказывал о положении на фронтах. Дела идут хорошо. У доблестных гитлеровских вояк наступили, наконец-то, чёрные дни — заснеженные поля усеяны их трупами. Фронт неудержимо продвигается на запад, он уже совсем близко — по ночам видно огромное зарево, слышится гул.
Командир с комиссаром составляют последние планы. Забот много. Засиделись на одном месте. Как это всё теперь поднять, сдвинуть? Пойдёт жизнь кочевая, — появятся новые проблемы, неизведанные трудности. Всё нужно учесть, предусмотреть. Но, несмотря на это, настроение у всех приподнятое.
И комиссар весел, он даже помолодел за последние дни. В голосе появились восторженные нотки, чего раньше за ним никогда не замечалось.
— Ваня, ты знаешь, что такое настоящее счастье! Не знаешь, конечно. Мне кажется, счастье нужно разбить на две части: личное и настоящее, причём личное счастье — это частица настоящего. Вот ты счастлив с Надей…
Иван Иванович хмурится. Это его боль. Жену с маленьким сыном он отправил в глухую деревушку к тётке. Как они живут, что с ними, — он подолгу не знает. Надя умоляла оставить их в отряде, но отряд — не детский сад. Семья командира не должна быть исключением.
Комиссар продолжает развивать свои мысли:
— Так вот, ты счастлив в личной жизни. Тебе досталась женщина с золотым характером, умная и красивая. Это редчайшее сочетание.
— Ну, уж…
— Не спорь и не сбивай меня! Так вот. Что стоило бы твоё счастье, если бы мы проиграли войну? Ничего! Значит, оно, твоё личное счастье, возможно только на фоне настоящего, то есть общего счастья.
— Вот завернул, можно всё это сказать намного проще.
— Можно. Но ты разве поймёшь, проще-то!
…По лагерю движется странная процессия. Двое партизан из сторожевого охранения ведут пятерых вооружённых полицаев.
— Севка, куда ты их ведёшь?
— К командиру. Вишь, заарестовал. Прут прямо на заставу.
— А оружие у них почему не отобрал?
— А они говорят, что баловать не будут.
Партизанам весело. Пришли свои люди, хотя они и одеты в немецкую форму. Сразу видно — идут смело, не смущаясь. Но Севка выдерживает характер, ведёт прибывших под конвоем, хотя сам не верит в необходимость этого. Вдруг шествие нарушается, строй сбивается.
— Витька!
Командир взвода, сформированного недавно из перешедших к партизанам полицаев, налетает на одного из них и тискает в своих крепких объятьях.
Появляется Тихон. Он тоже узнал Сергея. Партизаны, убедившись окончательно, что это — свои, бесцеремонно отталкивают старательных конвоиров. На гостей сыплется град вопросов:
— Как в городе?
— Давно оттуда?
— Что немцы?
Сергей растерянно смотрит на партизан, а потом, вдруг решившись, отвечает всем сразу:
— Подполье и наша рота поднялись. В городе бой! Выступать надо немедленно! Арестованы руководитель подполья Иван Фёдорович Ерёмин и наша разведчица Наташа.
— Наташа?! — громко вскрикнул Виктор.
— Да, Наташа, — чётко повторил Сергей. — А что?
Виктор был ошеломлён и не мог вымолвить ни слова.
— В чём дело? — раздался строгий голос комиссара. — Что за собрание?
— Задержали арестованных, — смущённо выдвинулся из толпы Севка, — вернее, заарестовали задержанных.
— Которые тут же открыли митинг? — насмешливо продолжил комиссар. — Куда выступать и почему? — строго спросил он Сергея.
— Серёжа!
Не произнеся больше ни слова, Сергей протянул ему записку Николая. Взглянув на торопливо написанные строчки, комиссар быстро ушёл в землянку командира.
…Послав один конный взвод навстречу партизанской бригаде, отряд через два часа в полном составе выступил на город.
Настоящее счастье!
Первую атаку карателей сводный отряд отбил легко. Командир батальона майор СС Циммер послал одну роту в город, небрежно бросив её командиру: «Сроку даю три часа. Разогнать этот сброд, но не увлекаться. Нам предстоят ещё настоящие бои с партизанами».
Фашисты, уверенные в своей силе и неуязвимости, шли вдоль улицы во весь рост, как на прогулку, не соблюдая мер предосторожности, даже не выслав разведку.
Лейтенант Коновалов приказал без команды не стрелять. Бойцы затаились.
Издалека каратели были похожи на две большие зелёные змеи, которые, утопая в свежем снегу, колыхаясь и вздрагивая, ползли по обе стороны улицы. А в бинокль казалось, что фашисты совсем рядом. Хорошо видны лица солдат и чёрные короткие автоматы, болтающиеся у каждого на груди. Коновалов опустил бинокль, и опять знакомые зелёные змеи потянулись вдоль улицы. Вот они уже ползут мимо серого одноэтажного дома с высокими тополями во дворе, где затаилась оставленная Коноваловым боковая засада.
— Ну, ещё, ещё, — тихо проговорил Коновалов, обращаясь к зелёным змеям, будто гипнотизируя их на расстоянии.
— Подавай команду! — испуганно выкрикнул кто-то сзади.
— Помолчи, убью! — негромко ответил Коновалов и тут же позабыл обо всём: каратели шли в ловушку!
— Так, так, хорошо! Ну ещё! Ну чуть-чуть! Вот теперь самое время! Огонь по гадам! — громко крикнул он и нечаянно выругался. Но его последние слова никто не услышал — воздух смешался, разорвался на клочки от мощного залпа. Будто сказочный, высотою с тополь, пастух, широко размахнувшись, лихо щёлкнул громадным кнутом, гулко, с присвистом… На какое-то мгновение стало тихо… Крякнуло натужно за лесным бугром эхо… И пошло… Патронов подпольщики не жалели.

Не ожидавшая нападения, обескровленная в первые же минуты рота заметалась, бросилась назад и нарвалась на засаду. Фашисты в панике разбегались по дворам, садам, забирались в сараи… но их везде находила смерть. Казалось, всё население городка взялось за оружие.
Очень скоро рота полностью была уничтожена.
Фашисты зловеще притихли. Только потеряв в бою целую роту, командир карательного батальона понял, что перед ним не «случайный сброд», а хорошо организованная боевая единица. На «ура» её не возьмёшь. Это крайне усложняло обстановку: имея конкретную задачу уничтожить партизанский отряд, каратели вынуждены были ввязаться в бой с подпольщиками, бывшими полицейскими и ещё какими-то непонятными, неизвестно откуда появившимися боевыми группами в городе. Командир батальона приказал привести в боевую готовность все силы и средства и немедленно готовиться к наступлению.
Николай, воодушевлённый первым успехом, хотел немедленно поднять бойцов в наступление, однако Иван Фёдорович вежливо, но твёрдо сказал:
— Нет! Этого делать нельзя! Наш успех — результат грубого просчёта противника. Он недооценил нас. Теперь мы можем повторить его ошибку.
Наступила пауза.
Наташа с большим интересом наблюдала за мужем. Но вот Николай спокойно спросил:
— Что же делать?
— Я предлагаю, — осторожно начал Иван Фёдорович, — основным силам, не медля ни минуты и оставив по пути небольшие группы прикрытия, выйти в район старых казарм. Там и займём оборону.
— Оставить город?
— Да.
Николай вскочил, широко зашагал по кабинету и недоуменно пожал плечами:
— Зачем же тогда мы затеяли всё это?
— Но только не за тем, чтобы вести длительный бой с регулярными фашистскими войсками в центре города.
— Вы же сами сказали…
— Да, я согласен и теперь. Разве я отказываюсь от боя? Нет! Я только предлагаю перенести его в место, удобное для нас. Кроме того, нельзя забывать о жителях. Зачем лишние жертвы?
После большой паузы Николай повернулся к Антонову и решительно отдал приказание:
— Немедленно во все подразделения направить посыльных. С позиций незаметно сняться! Садами, огородами отойти к казармам. Не мешкать! Без шума и сутолоки! Мы уходим через пятнадцать минут!
Антонов быстро вышел.
Иван Фёдорович крепко пожал руку Николаю.
Казармы представляли собой кирпичный, с метровыми стенами, квадратный домище, с подвалами и большим внутренним двором. Прибывшие из центра города повстанцы с удовольствием обживали казармы. Крепкое здание вселяло уверенность в успехе обороны, кроме того, в ста метрах начинался лес, где господствовали партизаны. Бойцы растапливали печи, устанавливали пулемёты, протирали отпотевшие с мороза винтовки и патроны, готовили ручные гранаты. Во дворе аппетитно задымили походные кухни — какая же война без каши!? Всюду слышались весёлые шутки и смех.
Николай сразу же взялся за дело. Ходил по подразделениям, вникал в каждую мелочь, приказывал, советовал… Казалось, он не знал усталости. Кабинет командира превратился в штаб боевой части. Лейтенант Антонов наносил на карту места расположения подразделений, уточнял пути следования подвижных дозоров, инструктировал начальника внутреннего караула.
Наташа не отходила от Ивана Фёдоровича. Вскоре здесь же появился Николай.
— Скоро начнётся, — стараясь быть спокойным, сказал он, но возбуждения до конца скрыть не мог. Наташа увидела в его глазах что-то новое, чего раньше она никогда не замечала, — очевидно, возросшую решительность и ответственность за других.
— Да, скоро будет бой, — подтвердил Антонов, и в то же время все услышали гул моторов, — бомбардировщики «Юнкерс-87» приближались к городу. Это никого не удивило — самолёты пролетали над городом часто. Но вот первый самолёт вошёл в пике и сыпанул бомбы. За ним второй, третий…
Повторив свой манёвр, «стервятники» улетели. Над городом повисло огромное густое облако гари и дыма. Занялись пожары. И там, за этим массивом черноты и огня, прогремели пушечные выстрелы, разрывы снарядов, затарахтели пулемёты.
— Что это они, спятили? — удивлённо спросил Антонов.
— Штурмуют нашу линию обороны по речке… Уважать стали, — усмехнувшись, проговорил Иван Фёдорович.
Сигнал тревоги, объявленный Николаем, врасплох никого не застал. Все были готовы к бою.
Фашисты, убедившись, что в городе им никто сопротивления не оказывал, свернули цепь и тронулись вдоль улицы походной колонной. Но были они теперь более осторожны, — шли медленно, готовые в любой момент вступить в бой. Впереди колонны неторопливо ползли три танка, за ними вереницей тянулись бронетранспортёры. Улица, по которой продвигались враги, выходила на широкую поляну перед казармами.
Николай предусмотрел возможность столкновения с танками. Для борьбы с ними по обе стороны улицы, в садах укрылась специально выделенная группа бойцов. Она и начала бой. Когда танки оказались в конце улицы, совсем близко от поляны, из-за заборов в броню, мерцая в полутьме блестящими боками, полетели бутылки с горючей жидкостью. Брошены они были опытными руками. Два танка вспыхнули сразу. Из люков выскочили танкисты и побежали вдоль улицы назад, падая и петляя. Никто по ним не стрелял, все были очарованы зрелищем горящих машин. Третий танк, ослеплённый вспыхнувшим бензином, развернулся на сто восемьдесят градусов, с ходу протаранил дощатый забор, влетел в густой фруктовый сад, переломал вишни и яблони и заглох. Пламя разгоралось всё сильнее, охватило весь танк, жадно перескочило на деревянный дом. Через пять минут поле перед казармами было ярко освещено этим пылающим факелом. В атаку пошла пехота. Развернувшись в редкие цепи, фашисты шли во весь рост, беспрестанно паля из автоматов.
Обороняющиеся молчали.
Но когда до здания осталось немногим больше двухсот метров, окна казармы вспыхнули от дружного залпа. Не выдержав густого ружейно-пулемётного огня, фашисты откатились назад.
Атака возобновилась, когда стало совсем темно. Теперь она велась тремя группами: одна через поляну — в лоб, а две другие — в обход, пытаясь окружить или взять в клещи казармы. Лобовая атака опять вскоре захлебнулась, а на флангах атакующие нарвались на боевые охранения и вступили с ними в бой.
Николай нервничал. Боевые охранения немногочисленны, долго не продержатся. Он послал в обе стороны ещё по взводу. В лобовую атаку фашисты больше не шли, но вели по зданию сильный огонь.
В казарме появилось много убитых и раненых.
И вот наступил момент, которого так боялся Николай: с левой стороны здание подверглось обстрелу — фланговая группа противника вышла из лесу на поляну. Справа тоже зачастили немецкие пулемёты.
Фашисты снова поднялись в лобовую атаку.
Николай с Наташей вернулись в кабинет. Там были Иван Фёдорович и Антонов.
— Положение тяжёлое, слишком неравны силы, так мы долго не продержимся, — тяжело дыша, сказал Иван Фёдорович.
Все промолчали.
Николай взглянул во двор: через замёрзшее окно ничего не было видно. Тогда он локтем выдавил стекло. В тёплую комнату клубом ворвался холодный воздух.
— Смотрите! — испуганно закричала Наташа и показала рукой на ворота.
Во двор, стреляя на ходу, густой толпой вбегали фашисты, бросая в окна гранаты.
— А, чёрт! — вскрикнул Николай. — Антонов, двери перекрыты?
— Так точно!
— Давай гранаты!
Одна за одной полетели во двор «лимонки». Антонов, Наташа и Иван Фёдорович ввинчивали в корпуса запалы и подавали гранаты Николаю, а он, неторопливо прицеливаясь, бросал их, плавно, спокойно, как на тренировке. К их подъезду фашисты пробиться не могли. Вдруг из двух дверей напротив появились рабочие и бывшие полицейские. Бросая впереди себя гранаты и расстреливая последние патроны, они смело пошли врукопашную. Выход этот был настолько неожиданным и отчаянным, что через несколько минут во дворе не осталось ни одного живого гитлеровца. Николай, Наташа и Антонов спустились вниз. Коновалов уже закрыл железные ворота и по обе стороны от них выставил надёжную охрану.
Николай крепко пожал Коновалову руку.
За их спиной раздался пистолетный выстрел. Они обернулись. От пистолета Наташи шёл дымок.
— Ожил, — показала она на убитого фашиста.
— В тебя целил, Коновалов, — сказал Антонов.
Коновалов благодарно посмотрел на Наташу.
…А фашисты уже окружили весь дом. У осаждённых заканчивались патроны.
— Нам нужно разойтись по взводам, — сказал Николай.
— Я в первый, — проговорил Антонов и, заглядывая Николаю в глаза, протянул руку: — Прощайте, товарищ капитан, не поминайте лихом.
— Ты что? — строго спросил Николай. — Мы ещё повоюем! Коновалов, ты давай во второй, я — в третий.
— А мы? — держась за рукав Ивана Фёдоровича, спросила Наташа.
— Со мной.
Пули залетали через окна и шлёпались в стену, утопая в мягкой штукатурке. В воздухе висела густая известковая пыль.
Убитые и тяжелораненые лежали на полу. Остальные бойцы кучкой стояли за выступом стены, в мёртвом пространстве, куда не залетали пули.
— Что, товарищ капитан, без патронов-то погибнем в этой мышеловке! Может, попробовать через окна, вот он лес-то — рядом.
Николай поднял глаза — от выстрелов пулемётов и автоматов лес горел сотнями огней.
— Перебьют, — тихо ответил он.
— А что делать? Умирать, так хоть с музыкой!
Николай промолчал.
— Товарищи, — сказал Иван Фёдорович, — положение наше очень тяжёлое… Но мы знали, на что идём…
— Не надо! Не надо нас агитировать! Не боимся мы смерти! Только умереть хочется так, чтобы пальцы застыли на горле врага!
Внизу, под окном, послышались громкие голоса фашистов:
— Эй, русс! Сдавайся!
Этот резкий голос вывел Николая из оцепенения.
— Не торопитесь, вояки! — продвинувшись вдоль стены, крикнул он по-немецки и одну за другой бросил за окно две ручные гранаты.
Наташа оказалась рядом с мужем:
— Уступи место!
— Дай мне гранату!
Она протянула руку.
Николай взял гранату, свёл усики чеки, просунул палец в кольцо…
Через окно, разорвав в клочья воздух, ворвался снаряд. Горький тротиловый дым забился в горло, душил…
Наташа не знала, сколько прошло времени. Тёмные тени ворочались на полу, слышались громкие стоны и проклятия раненых.
За окном что-то резкое выкрикивали фашисты.
Николая на прежнем месте не было.
За дверью, в коридоре послышались громкие голоса, выстрелы и топот кованых сапог.
Наташа крепко сжала рукоятку пистолета, в котором остался один патрон…
Партизанский отряд Ивана Ивановича на санях и верхами шёл к городу форсированным маршем.
Над городом волновалось зарево пожаров, висел неумолкающий шум боя.
— Нажмём, Ваня, — сказал комиссар.
— Кони устали. Снег глубокий.
— Опоздать можем!
Иван Иванович привстал на стременах.
— Быстрей!
Виктор, Сергей, Тихон и Таня едут в одних санях. Тихон непривычно волнуется перед боем. Не за себя — за Таню.
— Ты не отходи никуда от меня, — ворчливо говорит он.
— Тиш, я не отойду, но зачем ты уже пятый раз говоришь мне об этом?
— Семейная жизнь, — улыбнулся Сергей, — вот её прелести.
Таня громко смеётся.
Тихон счастливо улыбается.
— Что, разве плохо? — горячо спросил Виктор.
— Нет, — ответил Сергей, — неплохо, конечно, но…
— Сухарь ты! — убеждённо перебил его Виктор. — Ничем тебя не проймёшь!
— Пусть, — спокойно согласился Сергей, — разве это страшно?
— Очень… — только и успел промолвить Виктор.
— Командира, командира! — пронеслось вдоль колонны.
Обгоняя стороной, чуть не цепляясь за сани, бешеным намётом пронёсся вороной конь с верховым, низко наклонившимся вперёд. Больно хлестали ветки, по колено тонули тонкие ноги рысака в свежем пушистом снегу. Подлетев к командиру отряда чуть ли не вплотную, наездник резко осадил коня, и тот, низко присев на задние ноги, разметал на снегу длинный хвост, замер как вкопанный. Всадник — молодой, широкоскулый парень, возбуждённый быстрой ездой, — громко доложил:
— Товарищ командир! Прислал майор Фёдоров!
— Так…
— Приказал передать: два кавалерийских эскадрона нашей бригады по указанию товарища Баскакова передаются вашему отряду. Прибыли в ваше распоряжение!
— Где они?
— Совсем близко! Идут сюда на рысях!..
— Володя, — повернулся Иван Иванович к комиссару, — останови наших.
— Сто-о-ой! — Привстав на стременах, громко и протяжно крикнул Владимир Васильевич и поднял вверх обе руки.
— А где бригада? — спросил Иван Иванович посыльного.
— Идёт следом за нами… На город! Сам Баскаков ведёт! Скоро будет здесь!
Шум боя слышался очень ясно и, казалось, совсем рядом, — вот за тем лесистым бугром.
— Успеть бы… — поглядывая назад, мимо примолкнувших партизан, тихо сказал комиссар, и все посмотрели на крутой поворот лесной дороги.
Но вот Наташа увидела Николая. Он стоял, прислонившись к стене и держась рукой за край подоконника. В другой руке, безвольно опущенной вниз, была граната. Наташа рванулась к мужу:
— Коля!
— Наташа! Родная Наташа! — тяжело проговорил Николай.
В коридоре раздавались вражеские голоса, одиночные выстрелы.
Николай поднял гранату над головой.
— Коля, — вымолвила Наташа, прижавшись к мужу, — неужели это конец?
Он ничего не ответил, замер, не спуская глаз с входных дверей.
— Коля!
— Молчи, Натка! — нежно сказал Николай. — Стой рядом, вот так.
— Не боишься?
— Нет, — ответила Наташа и вдруг напряглась всем телом, и отстранилась от мужа. — Ракета! Красная ракета! — громко закричала она. — Коля! Товарищи! Ещё одна! Это наши!
И в подтверждение её слов в лесу, напротив осаждённого здания, начали сотнями рваться гранаты, затарахтели пулемёты, сухо и густо затрещали винтовочные выстрелы.
Николай, наконец, выдернул предохранительную чеку и бросил в окно гранату.
А в лесной чаще среди шума боя родилось, всё поглощающее, родное русское «ура», и, как шум нарастающей бури, оно крепло, приближалось, огибая казармы.
Вот уже это несмолкаемое «а-а-а» слышится на окраине города.
Фашистский огонь ослаб, а затем совсем прекратился.
Что-то надорвалось внутри у Николая. Он глубоко вздохнул и сдержал слёзы. А в следующую секунду смотрел на Наташу, собранный и холодный.
Бой гремел уже в центре города. Часть партизанской бригады оседлала дорогу, по которой спешно, на машинах следовал в Лесное второй батальон карателей, и открыла по нему ураганный огонь. Бой длился до самого утра. Победа партизан была полной. Большинство фашистов погибло, остальные сдались в плен.
Начался новый день. Солнце поднялось над горизонтом. Тихий городок Лесное шумел, как во время первомайского праздника. Люди толпами валили на центральную площадь. Всюду реяли красные флаги — на домах, заборах, деревьях и даже на телеграфных столбах.
В центре площади импровизированная трибуна — два, составленных рядом, больших немецких грузовика.
На трибуне несколько человек. На них смотрят жители и партизаны.
— Этот, в белом полушубке, пожилой, высокий такой — кто же это будет? — спрашивает Тихона старуха, не выползавшая на белый свет с того самого дня, как выпал первый снег.
— Это командир бригады товарищ Баскаков, а рядом с ним секретарь подпольного обкома партии товарищ Смирнов, — охотно ответил Тихон таким тоном, будто представлял своих лучших друзей.
— Смотри, а это вроде бы наши: Владимир Васильевич и Иван Иванович. Не узнать! С оружием, в ремнях! — Дед поднимается на носки, чтобы получше разглядеть стоящих на трибуне.
— Между прочим, — опять с гордостью произносит Тихон, — Владимир Васильевич — секретарь подпольного райкома и комиссар отряда.
Дед обидно огрызается:
— Видали, нашёлся! Умный какой! Это я без тебя знаю! Ты лучше скажи мне, кто этот немец, который рядом с Иваном Ивановичем стоит, возле него девушка ладненькая?
— Это, дед, — нравоучительно говорит Тихон, — командиры Красной Армии Наташа и Николай Зорины.
— Брат с сестрой?
— Нет, муж с женой.
— Господи, прости и помилуй, — запричитала рядом женщина, — её то за что в командиры! Молоденькая такая, хорошенькая!
— За красивые глаза, серость ты ходячая, — оборвал её дед.
Вокруг все громко рассмеялись.
Таня стояла рядом с Тихоном грустная, убитая горем. Она только сегодня узнала, как погиб её отец. Весь город говорит о Михаиле Петровиче Крылове, как о герое. Таня прижимается к Тихону и нежно шепчет ему на ухо:
— Тиша, хороший мой, никого у меня теперь нет, кроме тебя!
Он посмотрел на неё удивлённо: как это можно в такой момент говорить о личном? Но увидел большие, влажные глаза и вспомнил о её горе.
— Танечка, милая, ты тоже у меня одна!
Мимо них через толпу, поближе к трибуне, пробиваются Виктор в Сергей.
— Витька!
— Тихон!
— Танечка, смотри, наши ребята!
Но говорить им не дают. Дрожащий от возраста и холода старик натыкается на них и радостно хватает Виктора за рукав:
— Здорово, орёл! Не узнаёшь?
— Кирилл Петрович! — толкает его в плечо Тихон, так сильно, что тот попадает в объятия Тане.
— Смотри-ка, — бодрится старик, — и ты здесь! А что, хлопцы, вы тогда привет от меня командиру передали?
— А как же! — во весь рот улыбается Тихон и вдруг бросается сторону. — Тётя Даша, тётя Даша! — Он хватает женщину за руку тянет к Виктору: — Узнаёшь?
Виктор улыбается и возбуждённо отвечает:
— Как же не узнать? Это же путеводная звезда на моём жизненном горемычном пути.
— Ну, понёс! — добродушно засмеялся Сергей.
Вокруг них собираются люди. Подходят знакомые подпольщики, бывшие полицейские, партизаны — люди, судьбы которых переплелись, стали общими.
Вдруг секретарь обкома спускается с машины и идёт через толпу, размахивая руками и широко улыбаясь. Навстречу ему, неуверенно и тяжело ступая, движется Иван Фёдорович. Он слегка контужен. Кружится голова, тупо ноет сердце.
— Здравствуй, старина, здравствуй! — растроганно говорит Смирнов. — Спасибо тебе от народа!
Не все понимают значение этой сцены. Не многим известно, что старый директор школы и есть тот грозный руководитель подполья, о котором с проклятиями и ужасом говорили враги, но с любовью думали советские люди.
Смирнов и Ерёмин, поддерживая друг друга, поднялись на трибуну.
— Товарищи!
Слово, решительное и звонкое, повисло в морозном воздухе, и на площади стало тихо.
— Товарищи! — повторил секретарь обкома. — Суровые испытания выпали на нашу долю, но мы выстояли! Сегодня у нас радостный день — мы вновь обрели свободу! До Великой Октябрьской революции горе, тоска, нужда, безнадёжность были уделом русского трудового человека! Давили, секли, выбивали из него всё человеческое и пели дифирамбы его долготерпению и живучести… Кто только не измывался над русским человеком! Но нашлись люди, которые разобрались в его душе и способностях. Это Ленин и его партия! И настал момент, когда русский человек взмахнул могучими руками, сбросил с себя ярмо и встал во весь рост! И весь мир увидел, какой он сильный и красивый! Чего же теперь хотят фашисты? Снова поставить нас на колени, забрать наши земли? Да, земли у нас много, но каждый клочок её полит русской кровью! Историю не обманешь, она знает и помнит всё! Настоящий хозяин — советский народ — никогда и никому не позволит посягать на свою священную землю! Историю не повернуть вспять. Нет теперь такого хомута, который подошёл бы к нашей шее!
Не учли этого фашисты, просчитались!
Тёмная стая жирных, ленивых ворон испуганно поднялась в воздух, нерешительно покружилась над площадью, быстро понеслась в сторону синеющего за городом леса.
Рассыпали тополя снежный пух, подёрнуло серебром солнечный морозный воздух…
Наташа поднялась на цыпочки, потянулась к Николаю и тихо, чтобы слышал он один, сказала:
— Коля, ты не забыл наше: «Верность любви и идее…»
— Помню, Наташка, помню: «Твёрдость в бою и труде!»
Наташа радостно улыбнулась. Вот оно, настоящее счастье — борьба и победа, любовь и борьба!
Сытин Александр
Контрабандисты Тянь-Шаня



Книга первая
БОРЬБА В ТЫЛУ
Глава I ПОРАЖЕНИЕ БУДАЯ
Гладкий рыжий пес жадно лакал кровь из железного таза.
Снаружи свежевали тушу барана.
Огромный костлявый пограничник в зеленой гимнастерке и в синих галифе лежал на шелковом одеяле и задумчиво смотрел на огонь. Его худое тело выступало из темноты углами. Плечо и согнутое калено были освещены. Он казался еще более худым, чем был в действительности. Крупное желтое лицо с синими глазами было одутловато. Большие губы, мясистый нос и мягкие спутанные каштановые волосы, неряшливо свесившиеся вперед, делали его лицо безвольным и нерешительными.
Древние мохнатые ветви можжевельника трещали на очаге посреди юрты. Седые иглы сгорали и свивались золотой проволокой. Блестки плыли в отверстие потолка и таяли в белом дыме.
Пограничник улыбался, и лицо его менялось. Настороженная хитрость светилась в синих глазах из-за чащи волос. Жесткая, насмешливая улыбка была проницательна и неожиданна. При ней сразу откровенно выступало его подлинное лицо. Она говорила о том, что этот человек с простоватой наружностью обладает скрытым терпением и твердой волей.
Пограничник оперся на локоть и прислушался. Рядом с его головой послышалось легкое царапанье. Детский голосок тихо проговорил за войлочной стеной юрты:
— Будай, ты слышишь?
— Да, — тихо ответил пограничник. — Это ты. Калыча?
— Уезжай скорей! Идет большая контрабанда! Я оседлаю тебе коня.
— Не надо, — спокойно сказал Будай. — Позови Джанмурчи.
— Хорошо.
Будай опустился на одеяло и отстегнул кобуру нагана. Полог юрты поднялся. Вошедший проводник-киргиз опасливо оглянулся и остановился. Блики костра бегали по его узкому желтому халату. Пятна теней и света трепетно дрожали на белом войлоке юрты и на фигуре вошедшего, и казалось, что он покачивается из стороны в сторону. Его тревожные, бегающие глаза сразу зорко оглядели всю юрту. Он повел носом и всхлипнул. Эта привычка была у него от анаши. Угловатые, худые плечи и длинное лицо склонились к Будаю.
— Командир, Калыча тебе сказала?
— Я знаю. Я приехал в гости, чтобы следить. Не бойся. До заставы близко.
В юрту вошла девушка. Она была в желтом бархатном халате. Серый мех выдры окаймлял фиолетовую бархатную шапочку. Полсотни косичек-шнурков стучали кораллами и серебром. Толстые браслеты — на руках и ногах. Смугло-розовое лицо ее было спокойно. Черные блестящие брови, равнодушный плутовской взгляд и пухлый рот делали ее красивой.
— Ну, ты, бесенок, что ты нас пугаешь? — спросил Будай.
— Сейчас придет отец, — сказала девушка и выбежала из юрты.
— Она говорит правду, — ответил Джанмурчи. — Нельзя варить в одном котле две головы. Это — закон. Ты, начальник границы, живешь в одной юрте с отцом контрабанды.
— Джанмурчи, шесть лет мы его ловим. Сегодня он будет наш.
— Командир, ты много захватил опия на перевалах. Никто не знает, ты знаешь. Весь опий был Байзака. Зачем тебе с ним ссориться? Ты думаешь так много, — как старик. Скоро твоя голова будет белая.
— Джанмурчи, до вечера далеко. Ты приведешь с заставы целый эскадрон. Сядь.
Джанмурчи сел.
— Ты спас меня под перевалом, когда я был контрабандистом. Помнишь, Будай, ты меня накормил и оставил мне мои желтые рубины. Я стал твоим проводником. Теперь ты сватаешь мне Калычу. Я верен тебе, как пес.
— Зачем ты говоришь все это?
— Байзак большой человек. Он председатель потребкооперации.
— Вот поэтому я и хочу посадить его в подвал.
За юртой раздался гомон. Кто-то спрыгнул с коня, и в юрту вошел рослый чернолицый красноармеец.
— Здорово, Саламатин, — сказал Будай и принял пакет. Он распечатал его, пробежал бумагу глазами и нахмурился.
— Сегодня я занят и назад не поеду.
— Товарищ начальник, просили передать на словах, что никак невозможно.
Будай долго смотрел на огонь и наконец сказал:
— Ладно. Я Дам тебе записку на заставу. Вези в карьер. А ты поедешь со мной.
Джанмурчи поклонился.
Толстый киргиз заглянул в юрту. Он был низкий и толстый, как шар. Его выхоленное лицо изображало любезность, и весь он казался добродушным и лукавым, как фарфоровый болванчик. Длинные усы шнурками и быстрый взгляд блестящих глаз еще более усиливали сходство. Однако при всем добродушии его лицо было замкнуто, как маска, и не меняло любезного выражения никогда.
— А-а, — приветливо протянул Будай.
Они ласково поздоровались и сели к огню. Красноармеец и Джанмурчи вышли.
— Ну, как живешь, Байзак… Тебе не скучно? спросил Будай.
— Разве я могу скучать, когда ты у меня в гостях? — сладко улыбаясь, проговорил Байзак.
Оба хитро заглянули в глаза друг другу и рассмеялись.
— Я сейчас уезжаю, — сказал Будай.
Байзак сделал испуганное лицо.
— Ты сегодня ничего не ел. Бердыбан, Юсуп, Джанвай!
Юрта наполнилась народом, и Байзак приказал подавать чай и мясо.
— Джанмурчи, седлать лошадей! — закричал Будай.
Он выпил сливок, съел кусок мяса и, попрощавшись с Байзаком, вышел.
— Эти люди поедут сзади. — Байзак указал на целую толпу всадников в халатах и острых шапках. — Начальник границы не может ехать один, как бедняк, без провожатых.
Потом он подал Будаю стремя, и, пожав друг другу руки, противники снова насмешливо заглянули друг другу в глаза.
«Сегодня вечером ты мне заплатишь за все», — подумал Будай.
Байзак осклабился и закивал головой с самым добродушным видом. Не глядя ни на кого, Будай тронул коня. В душе он проклинал всех и вся. За шесть лет службы не было никаких ревизий. Именно сегодня кого-то принес дьявол. Надо ехать назад. До города было верст сорок. Будай рассчитывал поспеть раньше вечера. Дорога была скверная, но он пустил коня галопом.
Тропа пошла через лес. Промытая дождями земля спускалась уступами. Камни и корни деревьев преграждали дорогу. Где-то внизу голубая вода билась о красные камни. Желтые цветы ослепительно горели под утесом. День был пасмурный, но издали казалось, что в этом месте на траву падало солнце.
Лошадь с легкостью танцовщицы проносила ноги меж острых камней. Будай покачивался в седле и думал о Банзаке. Шесть лет он боролся с безликим противником. Он чувствовал его повсюду. Скрытая воля врага предусматривала каждый шаг пограничника. Шесть. лет он громил на перевалах банды Байзака.
Сегодня он должен был его уличить. Контрабанда пройдет через становище Байзака. Другой дороги здесь нет. Правда, сегодня Будай отомстит. Саламатин приведет эскадрон. Вместе с добычей попадет и сам отец контрабанды. Но Будай сам хотел бы участвовать в этой последней победе.
Тропа змеей спустилась в долину. Всадники окунулись в траву, высокую, как камыш. Зеленый сумрак охватил их со всех сторон. Стебли стегали и царапали по всему телу. Кони прыгали через невидимые канавы. А Будай все думал и думал.
«Саламатин доехал. На заставе тревога. Седлают, как ошалелые».
Будай не заметил, как прошел день, и опомнился только у своего дома. Едва успел он войти и зажечь лампу, в дверь постучали.
— Войдите, — сказал Будай.
— Вы, товарищ, командир полка? — спросил незнакомец в военной форме.
— Я.
— Прочтите.
Будай подошел к столу. Это было предписание об обыске. Будай выпрямился.
— Я ищу парчовый халат, который вы получили в качестве взятки, — сказал человек из темного угла. Он предъявил свои документы. Потом неопределенно улыбнулся.
— Я без понятых, я вовсе не хочу скандала. А, да вот и он, — и посетитель протянул руку к гвоздю.
— Этот халат был преподнесен мне публично, — сказал оскорбленный Будай.
— Я знаю только то, что он был предъявлен раньше, — холодно ответил следователь. — Посмотрите, вот моя метка.
Тут он протянул вторую бумагу. Это было заявление о взяточничестве Будая. Командир полка увидел, что вместо подписи за неграмотностью полсотни его почитателей пришлепнули свои пальцы.
— Ваш помощник примет ваши обязанности, — сдержанно поклонился следователь и вышел из комнаты.
Будай, не помня себя, без фуражки выбежал на улицу и направился к помощнику. Он быстро прошел два. дома, открыл дверь и огляделся.
В комнате разлился желтый полумрак. Оплывшая свеча мерцала, освещая троих людей.
На диване сидела женщина. Она обхватила колени руками и неподвижно смотрела в черный исчезающий потолок. Она молчала, но ее большие синие глаза казались слепыми от слез. Другая женщина сидела у стола, уставившись на огонь, и, не мигая, без движения, смотрела на свечу.
Пламя колебалось каждый раз, когда ходивший по комнате маленького роста кавалерист доходил до стола.
Помощник Будая шагал размеренно, как маятник, Шпоры обрывисто звенели, будто отбивая секунды. Когда он шел к столу, из темноты постепенно выступала его маленькая фигура. Небольшое, твердое, будто чеканное лицо было серьезно и холодно. Превосходный наездник, отличный товарищ, он пользовался всеобщей любовью.
Когда-то он был известным жокеем. На большом состязании неудачно упал и сломал обе ноги. Выздоровевши, служил в «дикой дивизии». Гражданская война сделала из него закаленного бойца, а любовь к простору и приключениям привела сюда, на границу. Он был женат и страстно любил жену и ребенка, но, когда требовала служба, ловко прыгал в седло и исчезал на целые месяцы.
Будай молча огляделся и тихим комом опустился в темный угол дивана. Его лица не стало видно. Только большая спина горбом выставилась из темноты.
Маленький кавалерист упорно шагал из угла в угол, попыхивая трубкой. Наконец женщина у стола заговорила. Она отбросила назад прядь волос, отливавшую золотом при каждом колебании пламени. Ее белое лицо казалось прозрачным. Губы были бледны и твердо сжаты. Большие глаза стали пустыми. Они будто смотрели вдаль и видели то, чего не могли видеть другие.
— Будай! — медленно проговорила она, обращаясь к мужу и еле сдерживая рыдания. — Как это могло случиться?
Общее молчание продолжалось. Звон шпор маленького кавалериста и движение его черной тени по стенам и потолку были единственным ответом.
Женщина на диване подалась вперед. Ее белое лицо, холодное и строгое, выступило из мрака. Рама черных волос сливалась с темнотой. Черный шелк ее платья зашелестел, как сухие листья, и с ее губ сорвался легкий крик:
— Да не молчите, не молчите же вы! Кондратий, перестань ходить по комнате.
Звон шпор продолжался. Кавалерист как будто не слышал. Вслед за ним по-прежнему плыли белые клубы дыма. Будай поднялся с дивана и выпрямился во весь свой могучий рост.
— Кто скажет, что я — человек нечестный? — сказал он громко.
Никто не ответил. Шагавший по комнате кавалерист прошел мимо.
— Будай, три года мы живем на границе, — раздался печальный голос. — Три года ты был начальником участка. Ты умен. Ты честен. Мы жили как одна семья. А теперь ты обвинен во взяточничестве? Будай…
Ее голос прозвучал как жалоба ребенка. Великан долго молчал, потом заговорил глухо и спокойно.
— Я рад, что моя канитель окончилась, — устало и безнадежно проговорил он. — Я устал. Пять лет я ходил здесь, как в лесу, между ловушками и капканами. Я не мог есть спокойно, меня всегда могли отравить. На ночь я всегда осматривал комнату. Под подушкой, за ковром, на стене я часто находил змею или какую-нибудь другую ядовитую тварь. К черту! Теперь я свободен. Я буду отдыхать в тюрьме. Я ни о чем не буду больше думать.
— Кондратий, поди сюда, не шагай!
Помощник Будая подошел к жене и сел на диван.
— Почему ты не поддержал Будая? — спросила она, обняв мужа своими теплыми руками.
— Он ничего не знал. Я ничего ему не говорил, — перебил командир полка, потом стал
продолжать громко и убежденно: — Я вам говорю, что за мной охотились пять лет. Я шел за отцом контрабанды осторожно, как за тигром. Но тигр шел по моим следам. Это бывает. Как я ни оглядывался, все-таки нападение произошло сзади. Что делать! Это тоже бывает.
Он хотел продолжать, но жена его перебила.
— Ведь это ложь, это все ложь. Объясни им, что вся жалоба — только гнусная клевета.
— Больше пятидесяти свидетелей, Марианна, — коротко заметил маленький кавалерист.
Он проговорил эти слова безразличным голосом. Ольга опустила руки и отодвинулась. Она знала значение этого сухого тона у своего мужа. Она даже зажмурилась от страха.
Неделю назад, когда он вернулся с перестрелки с контрабандистами, она почему-то спросила про Иващенко. И Кондратий сухо, как сейчас, ответил:
— Пуля в живот.
Она кинулась бегом. В сером войлоке лежало на земле что-то завернутое, длинное, и оттуда шел тяжелый трупный смрад.
Она не решилась подойти к страшному тюку из серого войлока. Его только что привезли увязанным на шестах вдоль лошади. Теперь она будто заново увидела Будая. Командир выбыл из строя. Присутствующие считали его убитым. Будай, отвечая на взгляд, кивнул головой. Она облокотилась на стол и залилась слезами.
Будай снова заговорил:
— Со мной пытались играть в кости. Пробовали втянуть меня в пьянство. Я только теперь узнал, что опереточная актриса была выписана из Москвы для меня.
Он горько засмеялся и продолжал:
— Я был мальчиком, которого хотели развратить.
— Или монахом. Недаром тебя зовут Антоний, — оказал Кондратий.
Глухо, как будто думая про себя, Будай заговорил безразличным голосом:
— Будь это в начале моей службы, я бы так легко не попался. Но я устал. Отец контрабанды с глазу на глаз предложил мне примирение и позвал в гости. Я не думал, что он нарушит шариат. Он обещал прекратить свою деятельность. И я от великой усталости подумал, что это возможно.
— Ну, и дальше?!.. — перебила его жена, подняв к огню заплаканное лицо.
— Я пошел к нему в гости. Их было человек пятьдесят. Меня встретили с почетом. Кланялись в пояс. Я терпел всю эту комедию. Потом на меня набросили парчовый халат. Я его снял. За мной понесли его в дом. Гоа назад халат был предъявлен в центре. Гости были только свидетелями.
— Зачем ты пошел к ним? — спросил Кондратий.
— Было подано несколько жалоб о том, что я не считаюсь с местными обычаями.
— Позови сюда следователя, и мы объяснимся, — храбро проговорила жена Кондратия.
— Следователь должен сам установить, что я оклеветан, это его обязанность, — ответил Будай.
Он хотел сказать еще что-то, но дверь на улицу широко распахнулась, и чей-то голос громко проговорил:
— Посмотрите, какая чертовщина.
В квадрат двери были видны горы Тянь-Шаня. В городе давно наступил вечер, но над горами еще дрожала заря. Горбатый хребет черной зубчатой стеной тянулся поперек высокого неба. Пелена тьмы висела над городом. Уродливыми столбами уходили тополя вверх, в тревожное небо. Оно дрожало желтым светом. Нижней половины домиков, окрашенных в синюю краску, не было видно. Белые стены, казалось, повисли в воздухе. Звенящий арык бежал по черной земле и отсвечивал холодным железом от далекого неба. Прохожие в темном исчезали в двух шагах. Все белое казалось плывущим, как привидение без ног.
— Закройте дверь. Это невыносимо! — дрожащим голосом проговорила жена Будая. — Там, на черных склонах хребта, на границе, притаились банды-контрабандистов.
Вошедший закрыл дверь и подошел к Будаю.
— Товарищ командир. Сейчас привезли Саламатина.
Он тяжело ранен. При нем было ваше приказание. Выезжать или нет?
— Не надо, — спокойно сказал Будай. — Теперь поздно.
Он направился к столу, его помощник последовал за ним. Кондратий сел в кресло. Будай лег поперек стола.
Огромный, костлявый, он приблизил вплотную свое лицо к собеседнику. Спутанные каштановые волосы падали на его потный лоб. Хитрые синие глаза были тревожны и странно веселы. Присутствующие услыхали разговор, который их оглушил, хотя собеседники говорили вполголоса.
— Ну? — насмешливо сказал кавалерист.
— Кондратий, кого ты ловишь? — спокойно спросил Будай своего помощника.
— Контрабандистов, — удивленно ответил Кондратий.
— Кто занимается контрабандой?
— Бедняки, которые работают на проценты.
— Кондратий, кто ими руководит?
— Мелкие собственники.
— А ими?
— Будай, ты одурел! Ты везде видишь заговоры!
— Кондратий, я не одурел! Ими руководит председатель потребкооперации Байзак.
— Ты, может быть, пьян, — спокойно возразил Кондратий.
— Нет, я не пьян. Байзак подал жалобу о халате. Сегодня я видел его подпись. Учись у него расчету. Меня сюда провожали родственники Байзака. Я думал, что это любезность, что-то вроде почетной свиты. Ты ведь знаешь обычай. Но это был конвой, чтобы я не убежал. Они провожали меня к следователю. Сегодня я должен был арестовать Байзака по обвинению в контрабанде. Сейчас к нему пришел целый караван из Китая. Саламатин ранен. Я послал его за эскадроном.
Кондратий протяжно засвистел вместо ответа. Он встал и зашагал из угла в угол.
В комнате разлилось непрерываемое молчание.
Глава II МАСЛАГАТ МУДРЕЦОВ
— Марианна, успокойся.
— Ольга, я не могу. Наши мужья — идиоты.
— Кондратий, не сердись! Ты видишь, она-девчонка.
— Она — злая девчонка, — процедил сквозь зубы новый командир.
— Не хотите ли вы, чтоб я разыгрывала вдову?
Потом она повернулась к Кондратию и яростно завопила:
— Если бы я командовала полком… О, я нашла бы, как бороться с Байзаком.
Она задыхалась от гнева. Ее золотистые волосы горели при дневном свете. Красные пятна шли по лицу. Глаза сверкали.
— Моя деточка, — ласково и небрежно проговорил Кондратий. — С меня довольно разных истерик. Ты мне мешаешь.
И он показал на Джанмурчи, который стоял с бесстрастным лицом.
— Уйдем, Марианна, — сказала Ольга и примиряюще взяла ее руку.
— Говори, Джанмурчи, — сказал Кондратий, когда женщины вышли.
Маленького роста, тоненький и чрезвычайно опрятный пограничник сидел, уставив на Джанмурчи свое чуть красное, обожженное горным солнцем лицо. Тот с уважением следил за его медленными движениями. Он знал, что они могут стать быстрыми, как у змеи, и сохранить свою точность.
Было известно, что Кондратий никогда не охотился. Он носил немецкий карабин, и у него всего было около сотни патронов. Он стрелял только в бою, и то не всегда, но никогда не промахивался. Никто не знал его административных способностей. Однако теперь Джанмурчи видел упорные зеленоватые глаза, которые понимали все с полуслова.
— Командир, Будай как будто убит. А ты стал вместо него. Мне очень жалко Будая. Он мне спас жизнь.
— Дальше! — перебил командир.
— Я пришел сказать тебе, что пришло в мою голову.
— Говори.
— Какой опий есть-это все Байзак.
Джанмурчи с опасением оглянулся, сел на стул и стал говорить вполголоса.
— Байзак — только богач. У Байзака толстый карман и длинные руки. Байзак не аристократ. Если он станет бедным человеком, каждый на него пожалуется.
— Так надо разорить Байзака? — быстро спросил Кондратий.
— Йэ! — ответил Джанмурчи. Он был восхищен быстрым умом нового командира. — Тогда больше не будет контрабанды. Я поеду на ярмарку в Каркару. Ты приезжай ко мне завтра. Я соберу совещание, — закончил он и встал с места.
— Там торгуют коровами и баранами. Зачем я поеду на ярмарку?
— Там у Байзака много денег, — таинственно прошептал Джанмурчи.
— У него шайка? — перебил Кондратий.
— Тсс, командир, — прошипел Джанмурчи. — Я все сделал. Теперь ты найдешь мою юрту. Завтра я жду тебя в гости, — и, приложив палец к губам, он вышел, не прибавив ни слова.
Обе женщины вернулись.
Ольга шумела шелковым платьем и внимательно смотрела на мужа.
Марианна дерзко спросила:
— Ну, что же ты будешь делать теперь?
Взбешенный кавалерист уставился на нее неподвижными прозрачными глазами. Обе женщины невольно попятились.
— Уйдем от него, видишь, какой он злой, — мурлыкающим голосом проговорила Ольга, щуря свои кошачьи глаза.
Кондратий молча встал и направился к двери.
— Я вернусь послезавтра, — небрежно бросил он через плечо.
— Вот он всегда так, — мягко сказала Ольга. — Так с ним ничего не поделаешь. Ему надо советовать осторожно и между прочим.
— Где он пропадает? — перебила Марианна и, не дождавшись ответа, заломила руки. — Ты знаешь, Будай стал курить опий.
Ольга побледнела, но спокойно спросила:
— Ведь его выпустили на поруки?
— Да, — истерически рассмеялась Марианна. — Сперва Джанмурчи привел какого-то лавочника с ножом. Лавочник пришел, чтобы в присутствии следователя отрезать Джанмурчи голову. Так проводник хотел поручиться за Будая. Потом Кондратий взял его на поруки.
— Послушай, Марианна, зачем Джанмурчи зовет Коку на ярмарку.
— Я не расслышала, но хотела бы поехать.
— Так мы поедем кататься, в ту сторону, — ласково предложила Ольга.
Марианна бросилась ей на шею. Потом обе стали говорить о мести.
К утру подруги улеглись. Перед рассветом Ольга приказала седлать лошадей. Обе женщины сделали около тридцати верст и утром были на Каркаре.
Ярмарка была в разгаре. На несколько верст растянулась конная сутолока. Огромные пегие быки с протяжным ревом проходили по долине. Тонкорунные бараны шли тесным стадом. У каждого сзади раскачивался курдюк, похожий на подушку. На свободное пространство вторгались целые табуны полудиких лошадей. Они неделями шли через ледники и луга. Пробирались по наклонным карнизам над пропастями, и теперь их ждал отдых. Выкрики пастухов разрезали воздух, как удар бича. Разноплеменная гудящая толпа пестрела по всему полю.
Ольга и Марианна больше всего боялись встретить Кондратия. Поэтому они сразу замешались в толпу.
Дунгане привели караван лошадей из Китая. Кульджинская белая пыль, похожая на золу, седым прахом покрыла вьюки. Каракалпаки в сапогах с войлочными подошвами приехали за скотом. Они держались как хозяева ярмарки.
Всадники съезжались, галдели, собирались толпами, и разъезжались во все стороны. Красные, зеленые, синие халаты плыли и мелькали на пеших и конных. Китайцы гомонили и сновали в базарной толкотне. Только что прошел дождь. Солнце пригрело. От сырой кожи, халатов и вьюков шел легкий пар. Вонь кож, запах овечьего сыра, чад шашлыка растянулись над всем полем. Возле холма строилась деревянная гостиница.
Рядом начинался целый город из юрт. Каждый день появлялись новые. Их привозили, расставляли, и ожесточенный галдеж торга вспыхивал у пестрых развернутых тканей. Топот коней, гром походных кузниц, ругань торгующихся, толкотня и давка оглушали каждого попадавшего сюда. В самой гуще толпы, примостившись на кипе товара, сложив ноги калачиком, сидел старик узбек. Рядам расположился дунганский повар с походной харчевней. Он принес два столика, соединенные коромыслом. На одном колыхался перламутровый кисель. Другой был уставлен чашечками с пряным мясом и рдеющим перцем.
Конкурент дунгана, чайханщик, каждую минуту открывал решето с пельменями. От крика лошади шарахались у коновязи. Вкусный пар клубами валил из-под навеса. Недалеко от чайханы стояла одинокая богатая юрта. Ее опасались и объезжали. Вот уже две недели, как сюда заглядывали со всей ярмарки люди из Китая и Киргизии, из Ферганы и Кашгара. У местного населения превосходное зрение. Только темный делец покупает очки. Очки — это реклама, вывеска учености. Люди в очках днем и ночью подъезжали к этой юрте. Они никогда не собирались вместе. Замешанные во всякую уголовщину, они боялись друг друга.
К полудню в гудевшей кругом толпе раздался тревожный говор. С другого края поля медленно пробивался всадник. Это был Кондратий. Не глядя ни на кого, он подъехал к юрте, бросил повод сопровождавшему его красноармейцу и вошел внутрь. Джанмурчи сидел с каким-то смуглым пройдохой в черных очках. Они пили кумыс, развалившись на шелковых подушках. Когда командир вошел, Джанмурчи встал.
— Сегодня будет совещание мудрых, — сказал он.-
Но мне они не верят, и потому каждый хочет говорить с тобой.
— Все зависит от них самих.
— Он хотел тебе рассказать про Байзака.
— Какого Байзака? — удивленно спросил кавалерист и тут же резко добавил: — Если он будет врать, он сядет за решетку. Понятно?
— Зачем я буду врать, — вкрадчиво заговорил человек в очках. — Я буду говорить правду, только скажи, что мне за это будет,
— Третья часть.
Алчность искривила рот незнакомца.
Третья часть опия? — переспросил он, поблескивая стеклами очков.
— Нет, ты получишь деньгами, о мудрый, — ответил Джанмурчи, — потому что опий все продают в контрабанду.
Человек в очках молчал. Потом, как бы решившись, он уставился черными стеклами на Кондратия и подобострастно заговорил:
— На ярмарке есть большая курильня опиума. Уф, хорошая курильня. Только моя боиса. Байзак- большой человек.
Кондратий поднял брови.
— Не говори про Байзака, говори про курильню.
— Там десять, пятнадцать пудов опия. Я ему расскажу, — и человек в очках показал на Джанмурчи.
Кондратий кивнул головой. Проводник и его гость стали шептаться.
Потом Джанмурчи громко сказал:
— Приедешь на базар, получишь третью часть.
Незнакомец взглянул на пограничника, ожидая подтверждения.
— Да, да, в таможне, — сказал Кондратий, и человек в очках поспешно вышел.
— Еще кто-нибудь будет?
— Да, мы весь день будем советоваться с мудры» ми, — спокойно и мстительно ответил проводник.
В юрту вошел, поворачивая во все стороны голову, широколицый мужчина. Его глаза также были закрыты очками. Джанмурчи приветливо встал ему навстречу.
Кондратий с тайным отвращением пожал потную, лип-кую руку контрабандиста.
— Казы плохо поступил со своими деньгами, — сказал Джанмурчи, — и потому хочет посоветоваться с тобой.
Кавалерист приветливо улыбнулся. Джанмурчи продолжал:
— Казы хороший человек.
Новый посетитель фальшиво засмеялся, показал рукой на тонкий войлок юрты, который их окружал, и попросил не называть его так громко по имени.
Джанмурчи льстиво осклабился, приложил руку к пруди и закивал головой.
— Казы обманули. Один плохой человек уговорил его тайно посеять опий. На разных местах в горах они посеяли десять десятин. Тот человек обещал четвертую часть. Но теперь Казы видит, что поступил плохо. На этот посев нет разрешения. Собирать опий придется тайно. Надо отправлять его в контрабанду. Казы не хочет попасть в тюрьму. Он услышал, что ты даешь третью часть за каждый найденный тайный опий или посев. Казы — хороший человек. Он видит, что его обманули. За те же самые деньги он может получить не четвертую часть, а третью. Поэтому он все скажет тебе, и ты уничтожишь посевы, у которых нет хозяина и разрешения.
— Десять десятин? — переспросил Кондратий. — Ведь это целое состояние.
— Десять, — ответил по-русски Казы.
— Пускай придет в таможню и получит деньги. Но перед этим пусть укажет все посевы.
Казы торопливо поблагодарил, встал и исчез из юрты.
— Джанмурчи, ты молодец!
— Командир, я буду мстить за Будая. Поезжай домой. Там к тебе придут другие шакалы. За деньги они расскажут тебе все. Их так много, что они разорвут на части отца контрабанды.
Кондратий погладил Джанмурчи по лицу, вышел и сел на коня. Красноармеец ехал сзади и посвистывал от удовольствия. По толпе шел говор.
— Кок-Ару, Кок-Ару — Зеленая Оса!
Кондратий уже был знаменит и имел прозвище.
Недалеко от конского базара шел разгром курильни опия. Крики долетали даже сюда.
— Что, Саламатин, как твое плечо? — спросил кавалерист, обернувшись в седле.
— Ничего, спасибо, — отвечал красноармеец.
В это время почтительный ропот пролетел по толпе, и она широко расступилась. Навстречу Кондратию медленно ехал Байзак. Он приветливо улыбался, хотя его лицо было желтым от ярости.
— А вот и контроль едет, — и Саламатин указал глазами на Байзака. — Только немножко поздно, — насмешливо добавил он.
Кондратий оглянулся. Там, где был Джанмурчи, как на пожаре работали люди. Они разбирали юрту и грузили ее на верблюдов. Кондратий приветливо поздоровался и заговорил, чтобы дать время Джанмурчи скрыться.
— Хорошая милисыя, поймала много опия, — пробормотал Байзак, заглянув в глаза командиру.
— Да, да, слава богу, — сказал Саламатин, выехав вперед и нагло уставившись в темные глаза Байзака.
Темные глаза Байзака полыхнули молнией. Но красноармеец зловеще улыбнулся и твердо глядел на отца контрабанды.
Байзак отвернулся.
— Байзак, — сказал Кондратий, — я хочу завтра тебя увидеть. Я хочу твоего совета. Я служу недавно.
Байзак прижал руку к сердцу и закивал головой. Он пробормотал проклятие и повернул коня в толпу. Но сбоку раздался смех. Байзак оглянулся, как тигр. Жена Будая хохотала ему в лицо. Отвернувшись, он тронул коня, а Кондратий побелел от бешенства.
— Зря, зря, — неодобрительно проговорил Саламатин. — И зачем это бабы лезут? Нешто можно женщине на себя гнев такого зверя принимать! — И, покачав головой, он тронул коня за командиром.
Глава III ЗУБЫ ШАКАЛОВ
Заведующий опийной конторой сидел за своим рабочим столом. Среднего роста, крепкий и рассудительный, он словно создан был для работы. Несмотря на большую физическую силу и нелепое имя — Феофан, он напоминал хорошего ребенка, из тех, какие летом бывают на взморье. Круглая голова с загорелым выпуклым лбом и блестящие живые глаза с задорным мальчишеским взглядом совершенно не соответствовали черным, смоляным усам и густому басу. Феофан получал кучу денег, зато и работал так, что приводил в отчаяние сослуживцев. Весной он заключал по четыреста договоров в день с плантаторами опия. Выдавая разрешения на ссуды, успевал обмерять посевы. Его память поражала плантаторов. Обычно, приезжая с гор, они не имели вообще никаких документов. Но каждый, хоть раз обманувший доверие Феофана, не смел показываться ему на глаза. Заведующий конторой, не спеша, с расстановкой смеялся: «Ха… ха… ха…», и извлекал из своей памяти весь проступок со всеми подробностями.
Его маленькая жена, живая, как ртуть, называла его «трус неимоверный»: Феофан панически боялся собак и прятался от них за жену. Но там, где была смерть, трус неимоверный умел смотреть ей прямо в глаза. Когда Феофан решил произвести учет посевов в соседнем районе, он тронулся через Алатау. На вершинах от горной болезни у него хлынула горлом кровь. Проводник оттирал его снегом и недоумевал, зачем ему на* до ехать считать чужие дела. Феофан глотал снег, плевал кровью на камни и, кое-как отдышавшись, приказал вести себя вперед. Дело было осенью, и они чуть не погибли от лавины. Проводник перебросил своего начальника через седло, как тюк, и полдня вез его полумертвого от удушья через ледник. Феофан, добравшись до места, произвел ревизию, загнал под суд взяточников и вернулся долинами, проехав за месяц тысячи две верст.
Безукоризненно честный и прямой, с воловьим упорством в работе, Феофан детально знал промышленность опия. Однако последнюю неделю он все чаще уединялся и с бесконечным терпением перебирал бумаги. Отчетность конторы начала путаться безо всяких видимых причин. Настало время сдачи урожая. Во время сезона служащие работали по пятнадцати часов в сутки. Но никогда не творилось такой чертовщины, которая началась в этом году. Фальшивые сведения сыпались ворохами. Казалось, плантаторы хотели сорвать работу конторы. Ложные цифры о посевах захлестнули канцелярию, как сеть. Весовщикам стали доставлять дрянной, разболтанный опий. Целую неделю Феофан не мог разобраться в том, что происходило. Он встал и посмотрел в окно. Как и вчера, с раннего утра улица была сплошь запружена лошадьми. Унылые, маленькие лошаденки всех мастей были привязаны к коновязям, столбам или просто друг к другу. Необычайная толпа в красных и синих халатах занимала каждое свободное место между лошадьми. Толстые, на вате, с непомерно длинными, отвороченными рукавами халаты делали людей вдвое более толстыми.
Остроконечные шапки, отороченные мехом, ныряли в толпе вниз, потому что уставшие тут же присаживались на корточки, переговариваясь снизу вверх. Белые жесткие шляпы, обшитые черным бархатом, похожие на треугольники, скользили в толпе, кивали, а когда поднимались, из-под них выглядывали потные смеющиеся коричневые лица. Стволы тополей были обглоданы начисто. Голодные и изнуренные лошади обгрызали кору насколько позволяли повода. На целых два метра от земли тополя имели вид телеграфных столбов. Феофан поморщился: «Посохнут деревья», — и пошел по всем комнатам конторы, продираясь сквозь мягкую ватную цветную толпу.
Все эти два дня он, ведя главную работу, успевал глядеть за другими, желая дознаться причины безобразной путаницы. На крыльце была сплошная толпа. В комнате перед барьером сгрудились плантаторы. Острый запах конского пота и сырой дурман опия не давали дышать. За низенькими столами, выбиваясь из сил от табачного дыма, пыли, жары и вони, работали весовщики. Кувшины, банки, тазы, кружки, наполненные вязким коричневым тестом, стояли на барьере и колыхались в целом лесе поднятых рук. Гам стоял такой, что в голове звенело.
Кричащие ватаги одна за другой вторгались в набитую комнату. Над барьером был ряд лиц, как в картин» ной галерее. Они смеялись, кричали и улыбались. Лукавые сверлящие глаза смотрели на весовщиков. При каждой улыбке узкие, косо прорезанные глаза заплывали и исчезали. Весы непрерывно стучали. Когда выкрикивали фамилию, промокшая от пота расписка расплывшимися кляксами падала на стол и заносилась в журнал. Мокрая, потная спина весовщика в чесучевой рубашке выпрямилась. Ошалевший приемщик злобно посмотрел на Феофана и проговорил:
— От этой проклятой жары и морфия наверное кто-нибудь сегодня взбесится.
— Ха… ха… ха… — отвечал Феофан.
И с полчаса он работал на весах с точностью хороших часов. Потом приемщик сконфуженно стал продолжать работу.
— А сколько принято?
— Тридцать пудов, — послышался глухой ответ. — Весь дневной сбор надо принять: за пятьдесят-шестьдесят километров везут. Деньги-то нужны. Не примешь- все к черту — в контрабанду уйдет.
— Это уж как водится, — засмеялся Феофан и прошел в следующую комнату.
Тут он нахмурился: несколько человек сидели на корточках и вели совещание. Широкий ватный чапан закрывал человека кругом, белый войлочный малахай на голове скрывал лицо. Сидящие в кругу имели вид диковинных красных грибов с белыми шапками. В середине сидел плечистый мужчина. Он злобно грыз большими желтыми зубами конец хлыста. Он был похож на злую, надувшуюся жабу. Его пронзительные блестящие глаза бегали и перебирали лица. Шепотом он долго объяснял что-то, и его внимательно слушали.
Красные сидящие грибы придвигались один к другому. Белые шляпы таинственно наклонялись одна к другой. Сидевший в центре круга, не глядя, протянул руку назад. Ему подобострастно положили на ладонь плоский рожок. Он взял щепотку табака под язык и, так же, не глядя, не благодаря, протянул руку назад. Рожах исчез так же, как появился.
«Манан», — с неудовольствием подумал Феофан.
— Как у вас дела? — обратился он к сидящему за столом.
— Феофан Иваныч, одолели с глупостями.
— А что?
— Требуют разрешения на неизвестные, незаконные посевы. И даже не хотят сказать, где они есть.
Феофан зашел с другой стороны и попытался заглянуть в лицо сидевшего в середине круга.
— Странно, — пробормотал он, — неужели это Байзак?
Ои хотел заговорить с незнакомцем, но на улице зашумела толпа. Потом по всей конторе пошел гул.
— Кок-Ару! Кок-Ару!
Прежде чем Феофан успел разглядеть, весь кружок сидящих рассыпался по другим комнатам. Кондратий в зеленой гимнастерке вошел в контору. Сзади него шел Джанмурчи.
— Не бойся, мы еще не опоздали, — и проводник достал из рукава бумагу, покрытую мусульманскими иероглифами. — Вот, командир, зубы моих шакалов, — сказал он, пробегая глазами список.
— А-эх! — закричал кто-то у барьера.
Растолкав толпу, чьи-то руки протянули банку опия.
— Атын нема? — устало прокричал приемщик.
— Арсланбек.
Рука с блестящим алюминиевым кольцом протянула расписку.
Джанмурчи быстро повел пальцем по бумаге и, повернувшись к Осе, сказал:
— Дробь!
Пограничник быстро запустил в банку с опием левую руку и вытащил горсть мелкой ружейной дроби.
— Стой!
Арсланбек попятился, чтобы скрыться в толпе, но на него в упор глядело дуло револьвера.
— Атын нема? — грозно переспросил Кондратий.
— Юсуп, Юсуп, — с хохотом отвечала вея толпа.
Кондратий улыбнулся от удовольствия. Земледельцы явно не сочувствовали контрабандистам. Неизвестно откуда взявшийся милиционер увел мнимого Арсланбека. Приемка на всех столах продолжалась.
— Джанвай, — сказал за другим столом приемщик, — отчего у тебя так мало? У тебя ведь два гектара.
— Все мое тесто смыло дождем.
Джанмурчи улыбался и смотрел в свой список, Джанвай со страхом следил за его пальцем.
— Ты врешь, — сказал приемщик. — Дождя не было.
— Ну, значит, был только ветер. Головки мака стучали, и все тесто упало на землю. У меня есть бумага. Многие люди видели этот ветер. Вот здесь они приложили палец.
— Куда поехал твой ветер с твоим опием, Джанвай? — спросил Джанмурчи.
Ответа не последовало. Джанмурчи что-то сказал Осе. Снова раздался свисток, и снова появился милиционер.
— А вот я их обоих сюда запишу, голубчиков, — угрожающе сказал приемщик. — В будущем году не получат разрешения на посев. — Потом он положил книгу, вытер пот со лба и обратился к Кондратию:
— Сегодня чертовский день. Приводили барана в подарок. Не успел прогнать, притащили кумыс. Никогда этого не было.
— Надеялись, что при скандале засуетитесь и примете опий с дробью.
— А почему вы нагрянули именно сегодня? — спросил Феофан, пожимая руку Кондратия.
— Потому что именно сегодня пытаются рассовать все, оставшееся от курильни.
Они отошли в сторону и о чем-то быстро стали говорить вполголоса.
— Невозможно, совершенно невозможно, — густым басом говорил Феофан. — Для этого надо десяток рабочих. Это, конечно, надо сделать. Но людей у меня нет. Они заняты в сушильне.
Джанмурчи подошел и вмешался в разговор:
— Командир, я долго думал. Возьми большую палку.
Секунду Кондратий напряженно, с недоумением глядел на Джанмурчи. Потом улыбнулся и быстро проговорил:
— Недурно! — Обратившись к Феофану, он добавил:- Мы обойдемся. Вот список фальшивых доверенностей. Придут на днях.
Он подал список, бывший у Джанмурчи. Оба вышли и сели на лошадей. Они заехали в казарму. Оса приказал захватить побольше веревок и длинный шест. Когда они проехали один квартал, к ним присоединился человек в очках. Пятеро всадников бешеным карьером понеслись за город. Один из красноармейцев вез длиннейший шест. Они мчались около двух часов. Лошади были в мыле. Неожиданно человек в очках повернул за утес и показал рукой:
— Здесь!
Большие атласные цветы мака, в чайную чашку величиной, горели цветными огнями под жгучим солнцем. Белое и красное пламя, казалось, струилось по маленькой долине. Длинное поле приютилось среди утесов, и его совершенно не было видно. Кондратий осмотрел поле в бинокль. Столбов с надписями владельцев не было. Посев был анонимный.
— Сколько здесь?
— Три десятины, — отвечал человек в очках.
Оса подошел к краю поля. Местами мак был готов. Только что здесь вели работу. Созревшие головки были уже надрезаны. Молоко выступило густыми белыми каплями.
— Отец контрабанды очень торопится, — задумчиво сказал Джанмурчи. — К утру молоко уже потемнело бы и засохло. Завтра он собрал бы все тесто. Нам осталась бы одна трава.
— Остальные покажешь? — спросил Кондратий.
— Хорошо, еще семь десятин, — отвечал человек в очках.
— Косить, — коротко бросил Кондратий и пошел к лошади.
— Люди сколько работали, труда сколько положили, собирать ведь его по капельке. А теперь топтать жалко!
— Ничего не жалко. Ни черта прока от него не будет. Все равно в контрабанду уйдет. Сказано: косить — и коей. Ну, вы там, Скоро кончите разговоры! — закричал Кондратий красноармейцам. — Поторапливайтесь!
— Чиво? — недоумевающе спросил молодой красноармеец.
— Дурак, — заорал другой. — На веревку! Запрягай лошадь. Опять не понимаешь? Это же дуб, а не человек! Сделай постромку! Привяжи к концу шеста. Вот, а я Привяжу к другому концу.
— Золотая голова у тебя, Саламатин! — сказал Кондратий.
— Еще спрашиваете? Гони!
Кони с места взяли вскачь.
Длинный шест широкой полосой уничтожал посев. Хрупкие высокие цветы ломались и стлались к самой земле. Сильный одуряющий запах, наполненный парами морфия, тянул с поля.
— Командир! — сказал Джанмурчи.
— Чего тебе?
— Почему ты позволил на ярмарке, чтобы китайские купцы давали ткань в задаток контрабандистам? Почему ты не арестовал всех?
Оса задумчиво улыбался. Ему представилось лицо Будая в тот несчастный вечер. Теперь он сам мог дать урок Джанмурчи.
— Джанмурчи, как выливается вино из сосуда? — спросил он.
— Через горло, — с живостью ответил проводник.
— А где течет опий в Китай?
— Через перевалы.
— Правильно. Здесь Байзак может его спрятать, и мы его не найдем. На перевалах мы подставили кружку под вино, которое польется со всех этих полей. Понятно?
— Ой-бо-бо, шайтан! — с восхищением прошептал ошеломленный Джанмурчи.
Поезжай косить дальше, у меня и так много дела, — проговорил маленький кавалерист.
Он сел на коня и повернул к Караколу.
— Байзак! — проговорил Джанмурчи. — Клянусь тебе, что когда-нибудь Зеленая Оса укусит тебя прямо в сердце и ты умрешь!
Глава IV СНЫ БУДАЯ
На берегу Иссык-Куля, в верстах двадцати от города, находился летний поселок. Это был целый городок из юрт. Издали юрты похожи были на семью грибов. Они росли и исчезали так же быстро, как маслята. Осенью приезжали верховые, и городок исчезал. Шум, крики, сплетни, пестрота лиц и костюмов. Сзади желтый песок, заросший колючками, впереди синь озера. Вдалеке от пляжа, почти у самой воды, стояла одинокая юрта. Сюда привезла Марианна Будая, чтобы он отдохнул и забылся.
Лодка плыла по синей воде. Озеро расстилалось бесконечным темно-синим пространством. Впереди местами выступали желтые песчаные отмели. Вправо и влево далеко были видны горы. Берегов не было видно. Горы как будто поднимались из воды. Тяжелая и неуклюжая рыбачья лодка двигалась медленно. Юрта позади белела на сером песке. Будай медленно греб и с удовольствием слушал скрип весел. Вода стекала прозрачными каплями. Когда он смотрел за борт, были видны камни на дне. Вода была такая прозрачная, что казалось — дно поднимается и опускается при каждой легкой волне.
Впереди черной полосой начиналась глубина. Будай забыл про удочку. Он все продолжал грести. Оглянувшись, увидел, что берега с юртой почти не видно. Холодной черно-синей пропастью стала вода за бортом. Теперь было недалеко до того места, которое он посещал ежедневно. Впереди туман поднялся из воды. Там, где было серо и мглисто, по озеру протянулись полосы, сверкающие, как сталь. В небе плыли круглые летние облака. Их тени изменяли цвет воды. Вдали под солнцем все водное пространство засияло ослепительным зеркалом. Далеко у берегов вода была зеленая, как морская, и отливала в синее.
Позади в черно-синей поверхности озера отражались белые облака с обтаявшими серебряными краями. Они медленно плыли одно за другим к далекому берегу. Будай поднял весла и долго слушал звон капель. Теперь он был на месте. Он встал и чуть не упал. Неустойчивая лодка качалась при каждом движении. Будай лег грудью на борт и стал смотреть в озеро. В прозрачной зелени на желтом песке лежали каменные плиты. Будай долго смотрел на них, потом лениво ударил веслами, и лодка поплыла дальше. С невольным волнением он зорко глядел вглубь. Пересекающиеся полосы стен беззвучно поплыли внизу. Будай остановил лодку. Она медленно повернулась на одном месте. Большие квадратные тени протянулись по желтому дну в прозрачной воде.
— Где она?
Ах, вот! — пробормотал Будай.
Он жадно глядел в сторону, вниз. Из темной глубины поднималась башня минарета. По углам от нее тянулись тени от черных боковых башен. Дальше виднелись какие-то постройки. Их желтые стены уходили вглубь, и тени делались все более смутными. Легкий ветер незаметно погнал лодку, и дома внизу стали опускаться в синюю пропасть.
Будай медленно плыл над древним затонувшим городом и, все более волнуясь, глядел, как стены внизу опускались. Вот недалеко под лодку медленно проплыло ярко-желтое пятно. Это свет солнца сквозь воду упал на купол минарета или вершину башни. Потом второй большой ярко-желтый круг проплыл и исчез в синем мраке. Черно-синяя, будто ночная мгла поглотила все. Будай вздохнул и взялся за трубку опия. Он сделал несколько глубоких затяжек. Потом еще. Медленно он по» вернул лодку назад. Ее погнало ветром, и снова внизу беззвучно поплыли желтые здания. Сперва они были хорошо видны в зеленом сумраке, потом стали опускаться, и синяя глубина поглотила их всех. Будай курил и слушал.
Снизу доносился глухой звон языческих чугунных колоколов. Будай хорошо знал их. Некоторые из них были извлечены со дна озера лет пять назад. Он видел их в музее Алма-Ата. Они были вместе с серебряными, позеленевшими монетами и черно-золотой чашей. Самый большой колокол имел вид полушария. Кружевные прорезанные края его были покрыты легкими зелеными водорослями, тонкими, как волосы русалки.
— Бу-ум-бум!
Будай слушал. Глухой звон расплывался в воде. Потом снизу стал подниматься глухой городской шум. Где-то в сознании слабо промелькнула мысль об опасности. Как будто кто-то другой сказал ему, что он пьян от опия. Лодка может перевернуться, и он утонет. Тогда он лег на дно лодки. Он так делал всякий раз. Каждый день. Он всегда слушал тихие приказания этого далекого, безразличного голоса. Потом, как и вчера, ему показалось, что лодка все-таки перевернулась. Будай задыхался. Ему казалось, что он опускается туда, в холодную синюю ночь. Потом сразу стало светло. Он пришел в себя. Так легко и прохладно было дышать.
Он был здесь совсем недавно. Глиняные стены домов, площадь, арбы — все было так знакомо.
Куда он идет? Да, ведь в прошлый раз он недослушал рассказа муллы. Будай пошел, легко расталкивая толпу и не чувствуя земли под ногами. Глиняный дом. В окнах железные решетки. Но почему кругом сумрак? И небо — темно-зеленое, как стекло бутылки. Как в прошлый раз, он повернул за угол. Кто его впустил? Он не заметил. Да это и не было интересно.
Перед ним был высокого роста старик с зелеными глазами.
— Ха-ха-ха!
Он рассказывает всегда такие потешные истории. Будай слушал его с большим удовольствием.
— Почему ты опоздал? — говорит старик.
Будай хочет ответить. Он хочет говорить много, много, но не может. Он пришел слушать, а не говорить.
— Сегодня я расскажу тебе с нашем хане. Я расскажу тебе, как погиб город Кой-Сары. Хе-хе, это забавная история.
Неподвижно сидящий старик расплывается в мутное пятно. Потом Будай видит в упор его смеющееся лицо.
— Мы сейчас с тобой находимся в Кой-Сары, на дне большого моря.
Будай хохочет. Этот старик такой потешный, так откровенно врет.
— В нашем городе царствовал хан, — говорит старик. — Когда он брил голову, цирюльник не возвращался домой. Никто не знал, куда деваются цирюльники. В конце концов не осталось ни одного цирюльника. Когда хан нашел еще одного, то после бритья хотел его убить. Цирюльник стал плакать: «Я никому не скажу, только оставь мне жизнь». Хан его отпустил. Цирюльник терпел два дня. Он владел тайной, и ему хотелось объявить ее всем. Он посоветовался с одним мудрецом. Мудрец сказал:
«Если тебе не терпится, ночью открой крышку городского колодца и прокричи туда свою тайну. Только не забудь закрыть крышку. Иначе колодец не будет хранить твоего секрета. Он выбросит его назад. Берегись, чтобы он не выплеснул всю воду вместе с твоей новостью».
Ночью цирюльник пришел к колодцу, поднял крышку и стал кричать:
«У нашего хана ослиные уши! А у нашего хана ослиные уши! Э-э, ага! А вот у нашего хана ослиные уши!»
Он кричал во все горло. Он был так рад, что освободился от тайны. Бегом направился он домой. Теперь он мог спать спокойно.
Уходя, он забыл закрыть крышку колодца. Жерло колодца не могло хранить тайну так же, как горло цирюльника. Ночью из колодца пошла вода, и теперь мы с тобой на дне моря.
Ты слышишь, как ревут бараны. Рыжие бараны на площади. Они скучают без пастбищ. Недаром город назывался Кой-Сары.
Будай хохочет. Ему очень смешно, но он сам чувствует, что его смех звучит трагически. Удушье давит ему горло крепкой рукой. Старик тоже смеется. Его смех — как щекотка.
Будай задыхается, хрипит и приходит в себя. Он весь в поту.
С трудом поднявшись, Будай сел на скамью и медленно повернул лодку назад к берегу, туда, где была юрта. Снова сделав несколько затяжек опия, он почувствовал, что опять опьянел, и стал торопиться. Оглядевшись, он увидел, что провел здесь целый день. Солнце склонялось к закату. Желто-золотые облака плыли по синему небу и по синему озеру. Снеговые горы занялись пламенем. Малиновым и оранжевым заревом полыхали льдины, высоко повисшие в небе. Горы потускнели и почти не были видны. Казалось, изломанные, горящие хребты льда висели в воздухе. Ледники нельзя было отличить от облаков, и лишь местами темно-зеленые сумрачные отсветы глубоких впадин обозначали горы и струились в расплавленном цветном огне. На севере теневые, холодные тусклые льды острыми пиками вонзались в синее небо. Казалось, что черные пятна утесов удерживали и мешали всей массе льда растаять и распуститься в воздухе без следа, как погасшее вечернее облако.
Весла неустанно скрипели, и прозрачная вода текла с них, падая в синюю глубину. Будай греб изо всех сил, но тяжелая лодка двигалась медленно и до берега было далеко. Солнце сразу опустилось за высокий хребет. Облака загорелись красным пожаром и заклубились, как дым ночью над горящей деревней. Вода и небо стали зелеными. Серый песок на берегу отливал красным от облаков, а по зеленому небу, как длинные прямые лучи, протянулись темные тени. Горы потемнели до вершин, озеро блестело и светилось.
Высоко над юртой в мягком дымном зеленом облаке выступила и повисла луна. Рыбачий парус маячил на сумеречной воде. Стемнело, но озеро продолжало блестеть, как будто покрытое льдом. Казалось, парус бесшумно плыл по сплошному полярному льду. Озеро дрогнуло, потемнело, и последний свет поглотил темные го ры. Блестящая Луна потеряла ореол и четким диском засияла в тусклом зеленом воздухе. Темное небо опустилось и стало ближе. Погасшее озеро черной пропастью расступилось позади, и далеко по воде было слышно с берега каждое слово.
— Антоний!
Будай выпрыгнул на мокрый шуршащий песок и подтащил лодку.
Стройная Марианна с распущенными волосами бежала к нему.
Она только что выкупалась. От нее пахло соленой свежестью озера.
— Милый!
Она поцеловала мужа, но заметила, что он еле стоит на ногах, и отшатнулась.
— Ты опять накурился!
При лунном свете она показалась ему бледной и беспомощной в своем белом платье на берегу темного бесконечного озера.
— Ты понимаешь, — сказал Будай, — старик очень смешон.
Марианна посмотрела на жалкую, бессмысленную улыбку, которая блуждала по его лицу, и взяла мужа за руку.
— Идем в юрту, — ласково заговорила она, стараясь сдержать слезы. — Я ждала тебя целый день. Кондратий прислал бурдюк кумыса и много вкусных вещей. Джанмурчи не явился. Я сама собирала для костра хворост и исколола себе все руки. А тебя все не было.
— А, Кондратий… Да, это было так давно…
Что-то похожее на воспоминание скользнуло по пьяному лицу Будая.
— Кондратий хотел, чтобы ты поправился, — горячо заговорила Марианна. Она нагнулась и ввела Будая в юрту. — Кондратий устроил тебя здесь. Кондратий хочет, чтобы ты отдохнул, а ты куришь. Посмотри, сколько у тебя седины в волосах, Антоний! — Марианна расплакалась и стала целовать мужа.
Он молчал и глядел на огонь. Марианна гладила его по голове и усадила на подушки.
«Правда, он совсем пьяный, — подумала она, разогрев на очаге ужин. — Но ничего, это пройдет, ведь он перенес такое горе!»
Она опустилась на колени и стала раздувать огонь. Угли тлели и бросали красный отсвет на ее белое платье, похудевшее лицо и золотые волосы.
Наконец огонь вспыхнул. Тени весело заплясали по всей юрте.
— В Караколе я была в кино. Так потешно. Они установили во дворе фабричный гудок. Он гудит часами, пока соберутся все. Это напоминает большой город. Ведь это единственный гудок в Караколе.
Ее голос прервался.
— Будай, я боюсь. Там кто-то ходит, — прошептала она.
Будай бессмысленно улыбался. Марианна встала, приподняла полог, выглянула наружу и вдруг отчаянно закричала. Две руки просунулись в юрту, обхватили Марианну поперек тела, и она исчезла.
Будай одну секунду осоловело глядел. Потом все опьянение слетело с него.
Стиснув зубы, он огляделся, хватаясь за наган, и выскочил из юрты.
На вороного коня грузили что-то белое. Ослепленный блеском костра, Будай не мог хорошенько разглядеть и стал стрелять почти наугад. Из темноты раздался хохот, и кони затопотали по берегу. Будай побежал за ними и остановился. Мимо промчался всадник. Пограничник тщательно прицелился и выстрелил. Ему послышался крик, но всадник не остановился. Будай понял, что последняя надежда добыть коня погибла. Тогда, забыв обо всем, он бегом бросился в степь. Ноги вязли в песке, но он бежал, пока не свалился.
Далеко впереди послышались выстрелы. Глухие, настойчивые, следовавшие один за другим. Сердце его забилось от радости и надежды. Но кругом него были тишина и мрак. Отдышавшись, он встал и то шел, то бежал, сам не зная куда.
Когда же наступил пасмурный рассвет, Будай увидел вдали человека и, собрав последние силы, побежал к нему. Около коня, лежавшего на земле, неподвижно сидел Джанмурчи.
— Начальник, это был я. Ты попал мне в ногу, но я продолжал за ними ехать. Позор на мою голову. Я гнался от самого города предупредить тебя,
но не успел.
Джанмурчи снял шапку, взял горсть песку и высыпал его себе на голову. Оба долго сидели молча. Загнанный конь не мог даже стоять. Он лежал и, не имея сил держать голову на весу, уперся мордой в землю. Джанмурчи перевязал рану на ноге и покачал головой. Кто-то проехал по дороге. Будай и Джанмурчи посмотрели друг на друга. Потом проводник с тоской сказал вслух то, что каждый думал про себя:
— На телеге нельзя догонять. Они поехали в горы без дорог, туда!
Он сделал безнадежный широкий жест рукой в сторону далеких снеговых хребтов.
— Отпусти подпругу, издохнет, — сказал Будай, кивнув головой на загнанного коня.
— Все равно.
Несколько всадников показались на дороге. Они ехали в Каракол на базар. Приблизившись, они долго, внимательно смотрели на коня. В начавшейся агонии рыжий конь задрал голову и оскалил зубы, как будто засмеялся. За несколько минут он весь опал. Кости выставились, и кожа на них натянулась, дрожь непрерывно дергала рыжие тонкие ноги.
— Если сейчас зарезать, еще можно есть.
— Все равно, — повторил Джанмурчи.
Проезжий спрыгнул с седла на землю и быстро подошел к лошади. Это было простое движение, но почему-то от него Будаю стало не по себе. Он хотел отвернуться и не мог. Киргиз поднял с земли рыжую голову коня и подпер ее коленом. Будай увидел, как маленький острый нож что-то проворно сделал около горла. Киргиз отскочил: Зияющая черная рана разлезлась по шее коня, и голова безобразно откинулась назад. Остальные всадники слезли с коней и тут же начали свежевать еще дрыгающуюся тушу. Будай увидел белые жилы на красном и отвернулся. Только тут он понял, что лошадь зарезали. Черная кровь широкой лужей разлилась по желтому песку. Под самой лошадью она была ярко-красная, а поодаль впиталась в песок. Покоробленное заскорузлое темное пятно на земле было страшным и отвратительным. В небе закружился орел. Путники срезали все мясо и завернули его в шкуру. Потом самый старый обратился к Джанмурчи и коротко спросил:
— Сколько?
Джанмурчи даже не ответил и молча пожал плечами. Тогда старик сказал:
— Нехорошо обидеть в дороге путника. Мясо, кожу, седло я продам на базаре. Деньги оставлю чайханщику, — знаешь, около дунганской чайханы.
— Хорошо! — ответил Джанмурчи.
— Себе я возьму немного, — сказал старик и подошел к своему коню.
Они все сели и поехали в город.
— Лучше бы эго была моя кровь! — сказал Джанмурчи, указывая взглядом на лужу.
Будай молчал. Джанмурчи продолжал:
— Тюра курит опий. Его душа беседует с аллахом. Он видит всякие сны. Он не виноват. Мариам украл Байзак. Зачем молодая женщина смеется? Нехорошо, когда ребенок подходит к золку, а Джанмурчи повинен смерти, Джанмурчи забыл, что Калычу тоже увезли неизвестно куда. Калым пропал. Сердце Джанмурчи пусто. Для кого будет его юрта? Но Джанмурчи повинен смерти. Тюра спит. Джанмурчи должен беречь Мариам. Айда!
Он взял Будая под руку и поднял с земли. Они оставили лужу крови на земле, разряженный револьвер и пошли к городу. Будай застонал. Он вспомнил, что на берегу осталась юрта. Там были платья Марианны и ужин, который она ему приготовила.
Глава V ЗОЛОТОЙ РОТ
Карагач в целую сажень в обхвате покрыл своей тенью угол двух улиц базара. Выбеленная печь чайханы выбрасывала облака пара и дыма. Навес за углом оперся на карагач. Кора дерева почернела от копоти и лоснилась от жира. В чайхане с земляным неровным полом стояли длинные скамьи и столы. В углу — бочка с водой, белые бутыли с кумысом. На маленьком столике возле печи работали несколько человек. Один размешивал тесто для пельменей, другой заворачивал в тесто мясо с ловкостью фокусника. Сделав два пельменя, он щелкал ими в ладонях как кастаньетами и с криком бросал третьему. Повар месил тесто, как будто хотел развеселить весь базар. Большой, тяжелый ком он схватывал за концы и взмахивал им, словно хотел выбросить на улицу в грязь. Тесто вытягивалось в воздухе. Повар размахивал руками, и глядел то вверх, то вниз, как жонглер. Тесто белыми петлями развертывалось над его головой, кружилось у самих ног внизу и плавно пролетало кругом него. Это был какой-то танец с тестом.
Вся готовка сопровождалась выкриками и пожеланиями здоровья посетителям. В чайхане было радушно и весело. Всех встречали с достоинством и благожелательством. Проворно, почти бегом разносили посетителям пельмени, плов, кавардак (мелкие куски мяса). Тонко нарезанная редиска, томленная в китайском уксусе, зеленый накрошенный лук и целое блюдо красного перца подавались в виде приправы.
Разноплеменный говор с утра до позднего вечера не замолкал в чайхане. Приветливость хозяев задерживала: всех. Киргиз, который полгода не видел людей, глазел на пеструю толпу базара. Русский ел палочками рис с ловкостью заправского китайца. Две бабы в пестрых платьях выпили бузы и решили сплясать под гармонику. Все они старались пробыть в чайхане как можно дольше. А большая беленая печь варила прямо на улице, на виду у всех посетителей, и с утра до вечера выбрасывала из-под навеса клубы дыма и вкусного пара. Перед чайханой стояли нары, покрытые коврами. На них каждый проходящий мог сесть и сидеть, сколько ему вздумается. Дощатая оштукатуренная чайхана не имела окон. Свет и люди вливались в двери, которые были открыты круглый год. На улице был непрерывный крик и толкотня целый день.
Арбы, пешие и конные сновали, теснились, пробирались кое-как, чуть не давя друг Друга, но каждый перешагнувший чайхану с улицы был как дома. Базарный нищий целый день молча стоял с протянутой рукой рядом с зеленщиком. Он обедал поздно. Но когда у него набиралось достаточно денег, он важно входил, и ему подавали как всем. В чайхане обычно знали про всех все. В это раннее время почти никого не было. Поэтому три человека, сидевшие в углу, свободно разговаривали между собой.
Они все-таки сдерживали голоса, но зато смеялись очень громко. В самом углу, где сходились две скамьи, сидел Ибрай. Его борода была типична для настоящего правоверного. Длинная и жесткая, как конский хвост, она была такая редкая, что подбородок просвечивал сквозь нее. Бледные щеки были выбриты, и борода казалась приклеенной. Она придавала его желтому лицу и тусклым глазам жестокое выражение. В чайхане хорошо знали, что Ибрай промышляет контрабандой.
Второй собеседник, по имени Шавдах, пил бузу. На днях он должен был выступить в Китай с большой контрабандой. Это был красный толстяк с бабьим тоненьким голосом. Третий был одет под европейца. Поперек френча тянулась медная цепочка от часов — знак культуры. Он был известен под кличкой «Золотой Рот». Обычно никто не называл его по имени. Робкий и несмелый, он никогда не был замешан ни в одну историю. Он дружил с контрабандистами, но умел молчать и потому получил свое прозвище. Было известно, что когда-то, до революции, он промышлял контрабандой по ореховому наплыву в Фергане. Он спиливал наросты и вывозил их в Китай. Золотой Рот так умел делать свои дела, что лесообъездчики и даже лесничие были у него на жалованье. Богатство его окончилось тем, что он пришел полуголым и избитым в Каракол. Теперь Золотой Рот занимался странным, но доходным делом. Когда он узнавал о большой контрабанде, то ехал в горы за лошадьми. Там выхаживал брошенных, загнанных коней и пригонял их в город на базар. Бывало, что иной раз за лете ему удавалось продать целый десяток. Толстый Шавдах долго и убедительно говорил своим бабьим певучим голосом. Он доказывал, что Золотой Рот должен ехать с ним в Китай.
— Ты знаешь дороги. Ты даже не будешь охранять караван. Если настигнут пограничники, я дам тебе пьяную лошадь. Давно я уже даю ей опий. Иншаллах! Она не боится выстрелов и никакой дороги.
— Зато я боюсь, — коротко отвечал Золотой Рот.
Ибрай и Шавдах покатились со смеху.
— Он хороший человек только потому, что всего боится, — сказал Ибрай.
Золотой Рот медленно ответил:
— Однажды, вы помните, я получил в дороге подарок.
— Это правильно, — перебил толстый Шавдах. — Если не дать встречному подарка, то аллах не даст счастья. Нельзя нарушать обычая. Я сам испытал это.
Золотой Рот продолжал:
— Вместе с подарком они отдали мне свою беду. Меня встретили пограничники и обыскали. За один джин (600 грамм) опия я целый месяц просидел в тюрьме и подметал двор комендатуры.
— Ты поедешь в Китай и привезешь оттуда целый фунт золота, — продолжал убеждать Шавдах. — Целый год ты будешь как бай. Но, конечно, ты привезешь больше.
— Шавдах, — сказал Золотой Рот, — если тебя поймают, что ты будешь делать?
— Я буду отставать, — Шавдах оживился. — Когда меня поймали два года назад, пограничники были молодые и неопытные. До города было двадцать три дня пути. Меня поймали на Пикиртыке.
Слушатели кивнули головой. Шавдах выпил полчашки бузы и продолжал:
— Мы затянули подпруги как можно туже. — Слушатели расхохотались. — Мы хотели, кроме того, забить гвозди в копыта лошадей, но это нам не дали сделать. Довольно было и того, что мы сделали. Мы пошли быстро и хотели показать, что спешим вместе с пограничниками.
Золотой Рот и Ибрай хохотали, закатывая глаза под лоб. Шавдах захлебывался от удовольствия.
— Через два дня полного пути от рассвета до ночи у всех лошадей на животе было вот…
И он протянул свои ладони, чтобы показать, какие раны были у лошадей. Шавдах отдышался от смеха и запищал дальше:
— Я думал, что подпруги перережут наших лошадей пополам.
Слушатели помирали со смеху.
— Товар переложили на казенных лошадей, а всех наших пограничники бросили. Они думали, что лошади заболели, потому что мы торопились. Кроме того, они не умели привязывать вьюки. Поэтому мы сами грузили товары на их лошадей. Через неделю дороги из пятнадцати казенных лошадей десять остановились. Товар и коней мы бросили на дороге. Еще через неделю лошадей не было. Ночью мы все убежали. Кто стал бы догонять нас? На каких конях? Мы шли назад и собирали товар и лошадей, которые тихо паслись на траве. И мы спокойно продолжали наш путь, — закончил Шавдах.
Золотой Рот подмигнул, и толстяк побагровел.
— Берегись, — сказал он, — в прошлый раз я бросил в Аксайской долине восемнадцать лошадей. Я знаю, что там волков нет. Кто увел их, когда к ним вернулись силы?
— Найди! — невозмутимо отвечал Золотой Рот.
— Шавдах, — сказал Ибрай, — когда ты поедешь?
— Через неделю, — гневно отвечал толстяк.
— Шавдах, сегодня ты богатый. Судьба! Завтра ты будешь ободранный, как вот этот нищий, — с лицемерным участием сказал Золотой Рот.
Шавдах важно покачал головой.
— Ты знаешь, манап никогда не теряет. Я — манап. Если я стану нищим, завтра придут пастухи и приведут скот. Ты знаешь обычай: пока я богат, обо мне никт9 не помнит. Но если меня посадят в тюрьму, сотни людей продадут последнюю корову, чтобы помочь мне убежать. Ведь это уже было не один раз. Я — маленький человек, по когда я попадаю в беду, то весь мой род вспоминает, что я — манап. Поэтому я ничего не боюсь. Кроме того, если меня три раза поймают, но один раз я пройду — и то все будет хорошо. Сейчас дают за пять фунтов опия полфунта золота.
— Ты привезешь столько золота? — переспросил Ибрай.
Его желтое лицо стало еще более жестоким и алчным,
— Да, я привезу столько, — нерешительно, как будто с опасением проговорил Шавдах.
— Байзак — не манап, — упрямо сказал Золотой Рот.
— Тс… — в один голос зашипели Шавдах и Ибрай.
— Если манап теряет, то каждый человек приносит ему, что может. Я знаю все. Когда пять лет назад один большой человек — вы знаете, о ком я говорю, — потерял караван контрабанды, он стал богаче, чем был. Вы тоже это знаете. Он разорился и стал нищим, но ему пригнали больше тысячи коней. Но твой господин — не манап, — закончил Золотой Рот, обращаясь к Шавдаху.
— Он больше манапа, — ответил Шавдах. — Манапы сидят за решеткой. Все, что он говорит, люди обязаны исполнять. Вот кто он. Он покупает людей. Они его ненавидят, но повинуются.
— Это правда, — спокойно возразил Золотой Рот. — Но если завтра он станет бедным…
Ибрай и Шавдах расхохотались на всю чайхану. Ибрай повторил, гогоча во все горло:
— Если он станет бедным…
Золотой Рот спокойно продолжал:
— Тогда все его враги подымутся как один. Никто ему не поможет. У него будут только одни долги. Он на манап. Он бай. Вы знаете, что это значит.
Шавдах долго смотрел, вытаращив глаза, как будто не понимал. Это была его манера показывать презрение
к глупости собеседника. Потом горячо заговорил:
— У него таких, как я, столько, сколько красноармейцев у начальника границы. В Китае он имеет дома и землю и всегда может уехать туда. И я, ах, я только у него служу. Если бы ты знал, сколько у него богатства! Он делает, что хочет.
На минуту Шавдах замолчал, потом еле слышно прошептал:
— Теперь он отсылает в Китай жену Будая. Говорю тебе, что он могуществен.
Теперь Золотой Рот выпучил глаза и долго молчал, потом оглядываясь от страха, тихо спросил:
— Мариам поедет с тобой?
— Найди, где она, — ответил Шавдах, и все трое стали хохотать.
Потом толстяк сквозь смех прибавил:
— Она там же, где восемнадцать лошадей.
И снова все расхохотались.
Золотой Рот смеялся льстиво и заглядывал в глаза Шавдаху:
— Ты мне нужен, — снова заговорил Шавдах. — Никто, кроме тебя, не знает дороги через Кизыл-Су. Если ты поедешь со мной, ты получишь невесту. Так сказал он.
Золотой Рот навострил уши и слушал, не переводя духа. Шавдах продолжал:
— Она богатая. Всех твоих лошадей будет мало для половины калыма. Одно ее желтое бархатное платье стоит коня. У нее на косах столько серебра, что не влезет тебе в пояс. Ее шапка из выдры стоит двух коней. Кроме того, она совсем молода, ей пятнадцать лет. Она родственница манапа. Ты, нищий конокрад, сразу станешь манапом, получив такую жену и десять юрт. Десять юрт и стадо баранов. В юртах будут жить твои пастухи. Ты — бедняк, а живешь теперь в городе. Йэ? Все это он даст тебе, только один раз проведешь нас через Кизыл-Су.
Золотой Рот уклончиво ответил:
— Я все-таки не знаю, о ком ты говоришь.
Шавдах заглянул ему в глаза и увидел предательство.
— Ты знаешь, что ты можешь всегда умереть, — свирепо сказал он. — Ты слишком много знаешь,
— Зачем ты молчишь? — сказал Ибрай. — Смотри, а то Шавдах откажется.
Ибрай наклонился за коробкой спичек, которую он уронил на землю. Из-за пазухи его чапана выпало письмо. Мгновенно три руки протянулись за ним. Золотой Рот первым схватил письмо и, спрятав его за пазуху, рассмеялся воркующим смехом. Ибрай и Шавдах оглядывались по сторонам. Золотой Рот тихо проговорил:
— Плохо возить казенные пакеты, Ибрай. Кто возит казенные пакеты с красной печатью, тот их ворует.
Ибрай молчал, Золотой Рот повернулся к Шавдаху и продолжал:
— А теперь расскажи мне все. Ты сказал правду кто мало знает, тому лучше совсем ничего не знать, тот может умереть каждый день. Поэтому я хочу знать все.
Шавдах молчал и свирепо глядел в землю. Золотой Рот продолжал:
— Если меня ударят ножом, я подыму крик. Алла! Сейчас же это письмо я отдам начальнику границы.
Ибрай и Шавдах продолжали молчать. Золотой Рот снова заговорил. На этот раз голос его стал ласковым и убедительным.
— Вы меня знаете десять лет. Я про вас знаю все. За десять лет я ни разу не купил денег вашей кровью. Я никогда не предавал вас.
Потом он жалобно проговорил:
— Но теперь вы хотите меня убить, — и, лицемерно улыбнувшись, он ласково спросил Шавдаха:
— Как зовут мою будущую жену?
Калыча, — беспомощно отвечал Шавдах.
Золотой Рот присвистнул и обратился к Ибраю:
— Расскажи мне про это письмо, и я верну его тебе.
— Три дня, как я приехал из Фрунзе, — сказал Ибрай.
— Клянусь аллахом, ты лжешь, — возразил Золотой Рот. — Я сам видел тебя здесь.
Ибрай настойчиво продолжал:
— У тебя уши глухие, как у осла. Слушай. Три дня назад я приехал из Фрунзе. Скоро большой отряд поедет в горы. Не понимаешь? Отряд поедет ловить Шавдахя чтобы поймать опий. Я поеду с отрядом, как проводник.
— Но ведь ты плохо знаешь дороги, — стадясь казаться наивным, возразил Золотой Рот.
— Я хорошо знаю те дороги, какие мне надо, — мрачно ответил Ибрай.
— Кто вез это письмо из Фрунзе? — прямо спросил Золотой Рог.
Ибрай молчал.
— Ты хочешь, чтоб я сейчас пошел к начальнику границы? Смотри, Ибрай, здесь не горы, вы меня не убьете. Тут чайхана.
— Он убит, — тихо ответил Ибрай.
— Ты поедешь вместо него?
— Да, — ответил Ибрай.
Золотой Рот протяжно засвистел, потом сказал:
— Я сейчас же отдам тебе письмо, но что мне от тебя будет хорошего?
Приятели, припертые к стене, вздохнули с облегчением, но увидели, что торговаться бесполезно.
— Золотой Рот, — сказал Ибрай. — Около Карабеля пограничники захватили двести контрабандистов. Сюда приехал один хороший человек и говорил мне, что они отстают. Они хорошо отстают от пограничников. Он обогнал их. Они бросили сорок лошадей.
Золотой Рот, по-видимому, удовольствовался этим выкупом.
— Обо! — сказал он. — Сорок лошадей. — И, достав пакет с сургучной печатью из-за пазухи, Золотой Рот протянул его Ибраю.
Шавдах сразу повеселел и сказал:
— Золотой Рот, ты — хороший человек. Когда я поеду с опием, Ибрай поведет моих врагов совсем в другую сторону. Пусть ему поможет аллах. Скажи, ты поедешь со мной?
Золотой Рот молчал.
— Шавдах, — с раздражением сказал Ибрай, — наш господин сейчас играет в кости с начальником границы. Золотой Рот боится. Он всегда боится и только поэтому он хороший человек. Ты знаешь, что говорит мудрость: «Оставь труса. Он погубит тебя скорее, чем лгун».
Золотой Рот медленно и задумчиво заговорил, как будто думая вслух:
— Я возьму Калычу, но у Джанмурчи длинные руки и верный взгляд, Джанмурчи хорошо стреляет. Я поеду с опием, но начальник границы будет мой враг. На всю жизнь я буду как будто прикован цепью к Байзаку, и всю жизнь, как архар, буду бегать по горам. Зачем? Я возьму сорок лошадей и продам их. У меня будет столько денег, что я буду иметь восемнадцать плохих друзей вместо двух хороших врагов. Йэ?
Ибрай и Шавдах захохотали.
— Когда ты поедешь за лошадьми? — опросил Ибрай.
— Завтра, — сказал Золотой Рот.
— Хорошо! — весело закричал Шавдах. — Выпьем бузы, а потом пойдем в одно место. Я куплю русской водки.
Он закричал чайханщику, и все трое начали пьянствовать.
Глава VI ВЫСТУПЛЕНИЕ ОСЫ
Маленький кавалерист ползал на животе по разостланной на всю комнату карте. Тишина глухой ночи разлилась по всему дому. Изредка звенели его шпоры, когда он двигался, перенося с собою свечу. Он тщательно читал названия и делал пометки цветным карандашом. Перед утром раздался стук в дверь и вошел Будай. Он был бледен и похудел. Резкие морщины легли на его лицо. Волосы совсем почти стали седыми. Глаза поблекли, а голос был усталым и безразличным.
— Кондратий, что ты делаешь?.
— Я собираюсь в поход.
Будай молчал.
Они смотрели друг на друга.
— Видишь ли, — заговорил Кондратий, поднявшись на колени, — пространство огромно. Я изучал карту и вижу, что завтра могу выступить.
— Я ничего не понимаю, — сказал Будай. — Куда ты собираешься?
— Вот послушай. Ты устраивал засады на перевалах. Засады зевали, контрабандисты проходили. Теперь я решил действовать иначе. Я поеду вдоль границы по всем перевалам.
Кондратий показал на коричневую полосу, обозначающую горы. Она проходила из угла в угол через всю карту.
— Чем силен Байзак? Он посылает банды разными дорогами в разное время. Я пересеку все пути и встречу половину из них. Для начала с меня будет довольно.
— Да, но ведь они-то не пожелают с тобой встретиться, — возразил Будай.
— Люди в очках дали мне все сведения. Я составил расписание их движения по числам. Посмотри, на карте цветные цифры. Это — дни, когда приблизительно каждая группа достигнет своего перевала.
— Но ты должен невероятно быстро двигаться. Это невозможно, — твердо сказал Будай.
— Вот в этом вся и штука. Это будут скачки, которые будут тянуться несколько недель, но нам дорог будет каждый час. Это будут скачки шагом. Дело в том, что я много работал, подготовляя эту экспедицию. Каждый день я буду выигрывать три часа во времени.
— Каким образом?
— Ты знаешь, что наши лошади требуют именно столько времени выстойки, прежде чем их можно пустить на траву.
— Да, — отвечал Будай, — но казенных брать невозможно, так как для них надо запасать овес. Кто его повезет? А киргизским надо давать даже четыре часа. Иначе они подохнут. Этим и объясняется медленное движение контрабанды.
Кондратий вскочил на ноги, и глаза его сверкнули.
— Правильно, но я приучил пятьдесят лошадей к корму без всякой выстойки. Даже овсом. Ты знаешь, так кормят своих лошадей русские грузчики.
— Кондратий, ты — настоящий полководец, — восторженно сказал Будай, и оба засмеялись.
Кондратий продолжал:
— Я сделал все расчеты, как мог. Во времени, в силах, во встречах. Дорог нет. По всему пути нет даже кочевий. Но клянусь, что я обороню границу! Я рассчитал каждый фунт груза и подобрал людей. Смотри!
Он взял свечу и пополз по карте. Он вел линию и рассказывал. Будай изумлялся.
— Откуда ты знаешь все это?
— Я делал сводки разъездов.
Глаза Кондратия были красны от бессонной ночи, но он выглядел бодро. Седой и сутулый, Будай перед ним казался бессильным и старчески беспомощным. Кондратий рассказывал ему о дорогах и перевалах, о пастбищах и возможных встречах. Он учитывал не только свое движение, но и дороги врагов, а Будай все стоял и слушал своего друга. Маленький кавалерист говорил не менее двух часов, и его поразительная память ошеломила Будая. Наконец он умолк, встал и расправил затекшие ноги.
— Дороги идут только по рекам. Летом после четырех часов дня вода с ледников прибывает, и в ущельях опасно. Ты это знаешь, — сказал он. — Не всегда можно подняться наверх и спастись от половодья. Все зависит от грунта. Но я беру с собой Джанмурчи. По цвету воды он определяет почти безошибочно почву перевалов. Поэтому мы всегда вовремя можем свернуть в другое ущелье и всегда будем знать, можно проехать или нельзя.
Он задумался и замолк. Потом с ясной улыбкой закончил:
— Конечно, мы сильно рискуем. Ведь все это очень гадательно, но, как ты видишь, у нас есть надежда проехать. И на каждой контрабандной тропе, которую мы пересечем, нас будут ждать менее, чем во Франции. Соревноваться мы будем каждый день, каждый час. Ты ведь знаешь, как быстро в горах распространяются слухи, но двигаться мы будем только шагом.
Он с сожалением вздохнул и добавил:
— Ты ведь сам знаешь, что по этим горам не очень-то раскачешься.
В дверь постучали, и Джанмурчи шагнул через порог.
— Чего тебе? — спросил Кондратий.
— Командир, я пришел говорить с тобой.
— Послушай, сейчас ночь. Мы поговорим завтра.
— Не гони его, Кондратий, он зря не придет, — сказал Будай.
— Тюра, я пришел с тобой говорить о крови.
— Сядь и говори скорей, в чем дело, — устало перебил командир полка.
Джанмурчи важно сел и, не спеша, спросил:
— Какая кровь у твоих лошадей?
— Я езжу, на породистых лошадях, ты ведь это знаешь, — не теряя терпения, отвечал Кондратий, но в голосе его был легкий упрек, потому что он устал до последней степени.
— Хорошая лошадь, у которой хорошая кровь, — упрямо сказал Джанмурчи, хотя никто с ним не спорил. — Командир, — продолжал он, — сейчас в тюрьме сидит Алы, сын Джантая.
— Я знаю, — со скукой сказал Кондратий. — Из-за этой новости ты вламываешься ночью ко мне и не даешь спать?
— А в чем дело? — спросил Будай.
— А это все та старая разбойничья история, которую ты знаешь.
Кондратий не стал продолжать, потому что Джанмурчи страстно его перебил.
— Старый Джаитай — хороший человек. Русский пристав его жену взял. Самого крепко бил. Зачем? Джантай пристава убил, в горы ушел. Тридцать пять лет в горах живет. Теперь говорят: Джантай — плохой человек!
— Он — разбойник, — сказал Кондратий.
— Зачем за пристава заступайса? — яростно спросил Джанмурчи.
— Болван! — закричал взбешенный Кондратий и подбежал к проводнику.
Однако Будай схватил его поперек туловища и удержал.
Джанмурчи дружелюбно засмеялся:
— Теперь моя глупая голова понимает все. Командир не любит пристава. Джантай — тоже не любит. Джантай не знает, что пристава нету. Он сидит и боится.
— А зачем он стрелял в пограничников? — спросил Кондратий.
— Когда нападают, надо стрелять, — рассудительно ответил проводник. — А в кого Джантай не стрелял? В казаков стрелял, в купцов стрелял.
— Зачем ты все-таки пришел? — миролюбиво спросил Кондратий.
— Я хочу сказать тебе, чтобы ты поехал к Джантаю. Нам это по дороге. Поезжай, поговори, и Джантай больше не будет разбойником, когда узнает, что пристава больше нет.
— Что же он за девять лет не узнал?
Джанмурчи взволнованно встал с места.
— Нет, иншаллах! Он этого не знает. До Джантая при месяца пути. К Джантаю можно проехать только летом. Кругом него коровы, быки, лошади. Кого будет спрашивать?
Кондратий продолжал насмешливо улыбаться, и Джанмурчи вдруг неистово завопил на весь дом:
— Ты к нему человека посылал? Ты ему сказал?
Потом, сразу успокоившись, он презрительно протянул:
— Даже дороги никто не знает к Джантаю.
Он кивнул головой на Будая и продолжал:
— Пограничники дорогу к Джантаю искали. Туда ехали шагом, а назад, у кого коней не было, десять дней бежали впереди конных.
Потом он успокоился и, как бы извиняясь за свою выходку, тихо добавил:
— Джантай не знает, но его сын Алы, который сидит в тюрьме, он знает.
— Алы — мальчишка, — сказал Кондратий, — пока он у меня в руках, Джантай скорее сдастся. Я слышал, он его любит.
— Алы — не мальчишка. Алы — большого рода Арыков. Арык-Аксуяк — белая кость — аристократ. Когда Джантай с вами воевал, Алы тоже воевал. Он джигит. Какой он мальчишка?
Проводник встал с места и торжественно заговорил?
— Арык был пастухом киргизских племен. Арык имел такое сердце, что ездил без дороги. Он имел такую голову, что запоминал и называл горы.
Будай и Оса скептически улыбались.
Джанмурчи продолжал:
— Ты поедешь туда, где нет дорог. Твой конь будет идти, где никогда не были люди. Возьми Алы. Он — арык. Он никогда не пил вина, не курил табаку. Он чует дорогу, как волк. На скаку он сбивает ворона пулей из ружья. Возьми Алы, и ты приедешь в долину его отца. Старый Джантай поверит тебе и придет на русскую пшеницу.
— Так ведь ты сам будешь у меня проводником, да еще, кроме тебя, несколько красноармейцев из разных районов — они такие же киргизы, как твой Алы, и дороги знают ничуть не хуже.
— Мои глаза никуда не годятся перед его глазами. Он знает все дороги. Кроме того, он знает все, что знают архар и волк.
— Хорошо, я подумаю.
— Почему тебе его не взять? — спросил Будай. — Лишний хороший проводник не повредит.
— Ты думаешь? — переспросил Кондратий. — А если он заведет в засаду?
— Нет, эгого не может быть, — сказал Будай. — Скажи Алы, что ты едешь к нему в гости. И ты будешь в полной безопасности.
Кондратий секунду подумал, потом сел к столу и написал записку.
— Возьми это и отнесу на гауптвахту, — сказал он Джанмурчи и тут же прибавил: — А он не убежит?
— Куда побежит арык? — гордо сказал Джанмурчи. — Разве он заяц?!
— Ну, хорошо, ты мне надоел, — проворчал Кондратий, и Джанмурчи, почтительно поклонившись, взял записку и исчез за дверью.
— Уже день, нам пора, — сказал Кондратий.
Он задул оплывшую свечу, распахнул ставни и вышел из душной комнаты. Солнце ослепительным светом заливало деревья и двор. Оса с наслаждением вздохнул всей грудью. Черные, будто малеванные, тени тополей легли на тесовые крыши. Тополя лопотали серебряными листьями, радостный гам наполнял весь двор. Погрузка уже началась. Как всегда перед выступлением, Кондратий испытывал легкое радостное волнение. Он чувствовал себя, как охотник перед большой охотой. Но теперь в присутствии Будая он сдерживал радостную улыбку, Между ними не было сказано ни одного слова, но Кондратий чувствовал, что Будай всей душой рвется с ним. Поэтому он пожал его большую руку, которая от горя стала бессильной и дряблой, и сказал:
— Будь спокоен, я сделаю все, что смогу, и, может быть, верну Марианну!
Будай посмотрел на рослых пограничников, которые возились около лошадей, и взглянул в глаза своего Друга. Он увидел холодную, спокойную волю и с благодарностью пожал ему руку. Потом молча повернулся и понуро пошел из ворот. Кондратий бегло оглядел двор и хитро улыбнулся. Уже давно он распустил слух, что поедет с научной экспедицией на изыскания в горы. Весь город знал, что комический старик с протодьяконовскими кудрями поедет вместе с командиром полка. Почтенный академик уже гарцевал на лошади посреди двора,
Против ворот толпились на конях любопытные в пестрых халатах. Эго были люди Байзака. Кондратий приказал распахнуть ворота, и они могли смеяться сколько угодно.
Урус бабай вносил беспорядок повсюду. Пограничники совсем не умели грузить. Тяжелые патроны и лег-" кие халаты вьючили на одну лошадь. Уже сейчас ящики кривили вьюк набок. Тогда четыре человека стали стягивать веревкой вьюк и пропустили ее внизу вместо подпруги.
Зрители надсаживались со смеху. Завтра к вечеру на животе лошади будут раны. Многие слезли с лошадей, перешли через дорогу и уселись на корточки.
— Чего не понимаешь? — орал Саламатин, добродушно перемигиваясь с сидящими на земле зрителями. — Сказано: грузи через номер — и грузи!
Волосатый академик пробовал вмешаться, чтобы внести порядок, но его никто не слушал. Фотографические аппараты и тяжелые мешки с сухарями взвалили рядом и прикрутили так, что конь ржал от боли. Оса видел все и посмеивался.
— Я поеду вперед. Мне надо заехать домой. Потом я вас догоню, — недовольно заявил академик.
Оса благодушно отпустил его, и погрузка продолжалась. Через час со двора комендатуры вереницей тронулись всадники и вьючные лошади.
Контрабандисты радовались.
Этот человек и вполовину не был так страшен, как Будай. Конечно, он едет в горы искать камни, как и разные другие ездили.
Караван имел как раз такой вид. Длинные палки палаток торчали и мотались. Звон котелков, стук внутри тюков и какое-то дребезжание были слышны за целую улицу.
Ха-ха-ха! Действительно, они не собирались прятаться. Можно ли сделать засаду, грохоча и звеня на каждом шагу?
Пограничники хохотали. Дисциплины не было никакой. Шесть вьюков были заняты фокусными штучками бабая.
— Они собьют своих лошадей за неделю, — сказал один.
— Нет, — отвечал другой, давясь от смеха. — Они не смогут ехать целую неделю.
Потом они продолжали разговор между собой.
— Куда ты поедешь сейчас?
— Вперед, — отвечал толстый человек в очках. — Я буду говорить, что они едут отнимать лошадей. Юрты перекочуют и уйдут. Они не найдут ни одной лошади и ни одного человека.
Собеседник хихикнул и ответил:
— Эти будут негодны через неделю, а переменить будет нельзя. Нам придется ехать за ними в горы, чтобы привезти их домой. Они даже вернуться сами не смогут.
Беседовавшие сели на лошадей и шагом двинулись по улице. Они повезли Байзаку хорошие новости.
— Новый командир — дурак, — сказал один них. — У него хороший нос, но плохие зубы, потому что голова глупая.
Научная экспедиция, грохоча и звеня, по-дурацки растянулась на целый квартал. Она направилась в Покровку. Это видели все. Кондратий стоял у ворот и, смеясь, глядел вслед уезжавшим. Он не торопился. Они ехали так медленно, что он всегда мог их нагнать. Потом он повернул во двор. Он был исполнен радостной торопливой решимости. Игра была отчаянная.
Было уже позднее утро. На балконе его встретила Ольга. Она бережно держала маленький комочек белых кружев и бантов. Это была дочь Кондратия.
— На меня, на меня! — услышал он, подходя к балкону.
Ольга бледно улыбалась. После похищения Марианны у нее появилась целая прядь седых волос. — Уезжаешь, Кока? — грустно проговорила она.
Ее большие карие глаза, похожие на кошачьи, сузились, потускнели и стали обыкновенными, человеческими, а смуглое лицо — бледным.
— Я еду на большую охоту, — возбужденно сказал Кондратий.
— На меня, на меня! — повторяла девочка, протягивая крошечные ручки.
Кондратий засмеялся. Он оглянулся и увидел, что во дворе никого нет. Тогда он стал гримасничать, как это делают все отцы. Он прищелкивал языком, гудел, изображал жука, страшно таращил глаза, и девочка пищала от удовольствия. Суровое, острое, обожженное солнцем лицо бойца было теплым и мягким. Он бережно расцеловал нежные пальчики, обнял жену и озабоченно пошел в угол двора. Там стоял привязанный рыжий горбоносый конь с разбойничьей гривой и дикими глазами. Ольга подошла с ребенком к коню.
Кондратий нагнулся с седла. Его глаза сияли веселостью и решимостью. Он тихо сказал:
— Я все сделаю, чтобы привезти Марианну! Присматривай на Антонием!
Его слова наполнили Ольгу радостью.
— Кондратий! — с мольбой и надеждой слабо проговорила она.
Вместо ответа он стегнул коня плетью. Полудикий конь рыжим пятном метнулся по солнечной улице и исчез с глаз женщины. Кондратий вел коня галопом. Широкие пустынные улицы, засыпанные пылью, тротуары, поросшие травой, маленькие белые хаты под соломенными крышами медленно поплыли мимо него. Справа и слева по дороге звенели арыки и белыми колоннами подымались тополя. Их могучая листва высоко вверху тянулась вдоль улицы сплошной зеленой стеной. Потом хаты и маленькие домики стали реже. За глиняными дувалами с коня были видны сады, а когда город окончился, развернулись зеленым веером посевы. Вдруг Кондратия остановили. Какой-то нищий в отрепьях подал ему записку. Прежде чем пограничник ее распечатал, нищий скрылся за изгородью из колючих кустов. На записке было нацарапано русскими каракулями:
«Если повернешь назад, через два дня она придет домой. Если нет, ты получишь вместе с опием ее труп».
Лицо кавалериста словно окаменело, и минуту он думал, удерживая коня на месте. Потом громко сказал вслух, оглянувшись на пустынную улицу.
— Ну, это еще мы посмотрим!
Его лицо стало грозным, и, стегнув коня плетью, он снова понесся во весь дух вперед. Он мчался галопом верст десять и только перед обедом у Покровки догнал весь отряд и приказал остановиться. С боковой проселочной дороги Джанмурчи и пятеро пограничников пригнали табун лошадей. Это были киргизские скакуны, о которых Кондратий говорил Будаю.
Без приказания пограничники принялись за работу. Казенные кони были развьючены в пять минут. Шпионы Байзака не увидели настоящей работы. На каждых двух всадников пришлась одна вьючная лошадь, как надлежит в дальнем походе. Верховые кони были тоже переседланы.
— Вьючить по номерам, — резко и громко приказал Саламатин.
Это были единственные слова, сказанные при перегрузке. Все остальное произошло в молчании. Тюки были помечены мелом. Каждый знал своего коня. Груз навьючили в новом порядке.
Кондратий поднял руку. Суета прекратилась.
— Товарищи, я хочу предупредить вас: дорога будет тяжелая. Задача, которую мы должны выполнить, очень трудна. Вы знаете, что я подбирал добровольцев. Если кто передумал, пусть скажет сейчас.
— Да ладно уж пугать-то, — сказал кто-то. — Говори о деле.
— Давайте поговорим о деле. Мы поедем добывать лекарство.
По лицам всадников разлилось недоумение. Кондратий невозмутимо продолжал:
— Из опия изготовляются медикаменты. Они необходимы стране. Опийный мак очень хорошо растет здесь. Но пока существует контрабанда, мы рискуем не получить ничего. Склады опийной конторы пусты. Каждый фунт опия, который мы добудем, драгоценен. Контрабандисты распространяют курение опиума, где только могут. Кроме того, они грабят плантаторов и всячески мешают наладить дело, чтобы было прибыльнее торговать.
— Короче говоря, в свой карман, — вставил кто-то.
— Как же его курят-то? — спросил молодой пограничник.
— А вот на базаре сидел желтый, как дьявол, мужик из Покровки — видел?
— Может быть, удастся захватить много опия, поэтому берегите коней. Больше всего берегите коней.
— Так ведь кавалеристы же!
— Ну, ну, нос-то вытри!
Не поворачивая на село, отряд крупным аллюром тронулся туда, где синели горы. Ни один тюк не звякал. Расседланные казенные кони как будто с недоумением смотрели вслед уехавшим. А те спешили, боясь упустить каждую минуту. Оса задержался. Он отдавал приказания коноводам:
— Пасти их тут не меньше недели, понятно? И смотрите, чтобы вас никто не видел.
Коневод лукаво ухмыльнулся в знак того, что все понял..
— Ну, вы, нахлебники, — грубо закричал он, стегнув кнутом ближайшую лошадь, целую неделю жрать будете.
— А бабая куда денем? — спросил другой коновод. — Куда нам его?
— Бабай через неделю поедет искать камни, — ответил Кондратий и, попрощавшись, направил коня вдогонку.
— Джанмурчи, — сказал Оса, — сегодня мы начинаем большую игру.
— Мои глаза не видали мудрости, большей твоей, — с искренним восхищением отвечал проводник.
Когда Оса подъехал к передовым, он услыхал, как двое всадников спокойно переругивались между собою. Один другого с украинской рассудительной язвительностью уверял, что у того вместо головы тыква.
— Вы чего лаетесь? — ласково спросил Оса.
— Та вин кажеть, що проихалы контрабандисты оси за тим бугорком. Я кажу: чого ж ты мовчав? — А вин лается. Чи не дурень? — неторопливо отвечал пограничник, подняв на командира свои синие детские глаза.
— А кто проехал? — забеспокоился Оса.
— Так кто ж! — с неудовольствием отвечал рослый красноармеец, шпоря коня. — Шавдах проклятый!
Оса молчал, покачиваясь в седле.
— Пущай пчела летит за медом. Понятно? — вмешался Саламатин и хитро подмигнул, ка, к бы спрашивая командира.
Оса улыбнулся, а товарищи с недоумением посмотрели на своего завхоза.
Через три часа пути холмы исчезли. Каракол, оставшийся позади, с его тополями и белыми точками хат имел вид обширной деревни. Облачко пыли появилось позади. Кто-то догонял отряд. Оса приказал остановиться. Ибрай подъехал и подал пакет. Оса вскрыл сургучную печать и достал бумагу. Это было уведомление следователя о том, что следствие по делу Будая прекращено и целый ряд лиц привлекается по обвинению в клевете. Кондратий пожирал глазами сообщение, но Байзак ка среди обвиняемых не было. Он дочитал до конца и уперся своими пронзительными глазами в желтое лицо Ибрая.
— Ты откуда приехал? — жестко и с недоверием спросил Кондратий.
— Из Фрунзе, от следователя, — отвечал Ибрай.
— А почему у тебя конь свежий? — спросил Саламатнн.
— Я переменил в городе,
Джанмурчи внимательно смотрел на него, но контрабандист не смутился под огнем перекрестных взглядов и вопросов. Он отвечал просто и весело. Кондратий на минуту задумался, потом сказал:
— Ты поедешь с нами; я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, куда я поехал. Понимаешь?
Молния мстительной радости сверкнула в глазах Ибрая. Несколько раз он рисковал жизнью, рассчитывая именно на эту ошибку Кондратия. Но даже Джанмурчи ничего не заметил. Контрабандист сделал испуганное лицо и возразил:
— Я не могу ехать, следователь будет ждать.
— Вот навязался, дьявол, — пробормотал Саламатин.
— А почему ты поехал за нами по этой дороге? — спросил Кондратий.
— Я искал вас по всем дорогам, — уклончиво отвечал Ибрай.
— Ты не видал людей там, сзади? — вкрадчиво спросил Джанмурчи.
— Нет, — с удивлением ответил Ибрай, и лицо его не дрогнуло, хотя полчаса назад он разговаривал с Шавдахом. — Разве там кто-нибудь есть?
Кондратий с сомнением покачал головой и повторил:
— Ты поедешь с нами. Как тебя зовут? — пытливо спросил он, заглядывая в письмо.
— Юмиркан, — отвечал Ибрай.
Он знал, что это имя написано в письме. Так звали проводника, которого рекомендовал следователь из Фрунзе, как надежного человека.
— Саламатин, — сказал Кондратий, — гляди за ним. Рысью ма-арш!
Отряд тронулся вперед.
— Ну, смотри, кум, — пробормотал ежели чего, прямо пулю в затылок.
Саламатин, погнал коня
Ибрай пугливо посмотрел на него и погнал коня за всеми.

Книга вторая
СКАЧКИ ШАГОМ
Глава I ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Рядом с Кондрагием впереди отряда ехал Алы. Стройный, с неподвижным, высокомерным лицом, он держался как почетный пленник. Темно-смуглое лицо с крепким румянцем и правильным носом, с трепещущими тонкими ноздрями было красиво, как у девушки. В первый раз в жизни он увидел дома. Выпущенный на свободу, он так радовался простору и каждой птице, что вызывал сочувствие. Он дичился всех,
и пограничники говорили с ним особенно ласково. Он был одет в узкий черный бешмет, похожий на подрясник,
и сапоги из очень гонкой кожи с кожаными калошами или, скорее, шлепанцами. На голове у него была тонкая европейская шляпа. Он купил ее перед отъездом, и она придавала его юношескому лицу необычайно милое, мальчишеское выражение. Ехал он на собственном коне, которого сберег для него Джанмурчи. Очень обыкновенный с виду конь сразу показал такой неутомимый шаг
и крупную рысь, что кавалеристы поглядывали на него с удивлением и завистью. Алы был крайне любезен и с легкой молодцеватостью поворачивался в седле при каждом вопросе, но избегал всяких разговоров как только мог, и его скоро оставили в покое.
Дорога шла по ровному берегу Иссык-Куля, и Оса amp;apos; старался выиграть время. С первыми лучами рассвета отряд двинулся вперед и останавливался только в глубоких сумерках. Безотрадные глиняные пространства тянулись цветными полосами. Голые холмы, лишенные всякой растительности, дымились белой или красной пылью. Справа унылое соленое озеро неподвижно млело под жгучим солнцем. Палящим зноем дышали молчаливые холмы. Здесь не было даже птиц. Местность была настолько однообразна, что казалось, будто кони топчутся на одном месте. За четырнадцать часов непрерывной езды всадники дошли до полного изнеможения. Сперва они пели песни, потом пробовали рассказывать анекдоты. Ночевали на пыльной траве. Через два дня однообразного пути по раскаленной пустыне все надоели друг другу. Каждая
шутка встречалась грубым, хриплым ответом, похожим на рычание. Казалось, никогда не окончится эта дорога.
Едкая удушлива пыль целый день окутывала всадников. Усы и брови были словно седые. От пота по лицу растеклись грязные полосы. Оса останавливал, отряд. Люди и кони, как ошалелые, спешили в воду. Через час пути пот снова выступал, и рослые, испытанные бойцы томились, проклиная все на свете. Убогие деревушки с жалкими зелеными посевами, полузаброшенные чайханы оставались в стороне. Оса не хотел обнаружить свое присутствие. Он знал, что по всей долине рыщут шпионы Байзака. На пятый день дорога пошла в гору. Холмы стали подыматься все выше и выше. Подъемы и спуски стали круче, но по-прежнему всюду была глина. Копыта коней вязли в пыли. Дорога шла в сторону от воды. Как-то на заре стало видно позади огромное синее пространство. По нем плыли облака, и местами были видны темные полосы, протянувшиеся от черных туч. На Иссык-Куле шли проливные дожди. Снеговые горы надвинулись и поднялись чуть не до зенита. Пронзительный ледяной ветерок охватывал разгоряченных людей.
— Тьфу, бисова ерунда: в рубашке холодно, в чапане жарко, — ворчал кто-то, торопя коня.
Однако через полдня пути отряд достиг предгорья,
и всем пришлось надеть теплые чапаны. Оса взял для похода халаты, отбитые у контрабандистов. Он был крайне бережлив. Кроме того, пограничники в красных халатах с вьючными лошадьми в поводу издали имели вид контрабандистов. Это было выгодно; в случае встречи противник до последнего момента не знал бы своей ошибки. Еще через два дня подъема стало холодно. Рядом с густой высокой травой лежал снег. Нежная сиреневая пятилистка, ослепительно желтые подснежники и белые пятна эдельвейса стлались на проталинах. Внизу шумел Нарын. Река и дорога неустанно боролись между собой. Иногда дорога уступала. Она поднималась на целую версту, потом упрямо сбегала к берегу и шла по ущельям, прорытым водой.
Отвесные горы сдвинулись. Река, зажатая скалами, загрохотала. Чахлые желто-зеленые сосны, как свечи, стояли по обрывам. Смолистый кустарник, цепляясь за камни, спускался куда-то вниз. Веками пробитая тропа сворачивала перед каждой глыбой. Она пересекала реку, взбиралась зигзагом на скалы, терялась глубокими выбоинами между камней. Потом ущелье сделалось шире. Ржавый оранжевый ручей с ярко-желтыми цветами по бережку побежал по долине рядом с рекой. Серебряные лохматые кусты непроходимой колючей изгородью преградили дорогу. Тропа поднялась. Грохот реки остался где-то внизу. Всадники в красных халатах подтягивались и догоняли друг друга. Очи мелькали один за другим между утесами и спускались, вися друг у друга над головой. Тропа сбежала к реке, и красные халаты заалели на снегу. Грязный снеговой наст в несколько метров высотой накрыл реку от берега до берега. Вода билась и шумела под льдом в промытых скалах.
— Если бы мне кто сказал, что сейчас июль, я плюнул бы ему в глаза, — проговорил Оса, перебирая повод посиневшими пальцами.
— Купаться будем, — робко заметил кто-то. — Снег-то провалится.
Оса спокойно встал. Люди приближались, выныривая из-за утеса. Кони щипали траву, пока спешенные всадники поджидали остальных. Луговые цветы, похожие на жасмин, росли возле снега. Огненные маки просвечивали на солнце высоко впереди на бугре. На зеленых стеблях как будто горело пламя, то оранжевое, то желтое.
— Куда они, к дьяволу, подевались?
Кондратий сел на коня и, не спеша, направил его прямо на снег.
— Скорее ты, черт! — где-то послышалась брань, и показались последние верховые. Они приближались и с сомнением смотрели на гору рыхлого снега.
— Поезжай!
— Поезжай сам! В пещеру провалимся!
— Командир, подожди, будем класть попоны! — закричал Джанмурчи.
Оса даже не оглянулся. Алы погнал коня за ним. Оса провалился по грудь вместе с конем и несколько раз ударил его по голове плетью. Джанмурчи закричал от страха. Конь забился, выскочил на ледяную кору и через несколько шагов выбрался на твердую землю. Оса и Алы беззаботно улыбались. Сзади медленна двигались остальные. Они расстилали чапаны, кожухи и попоны по снегу, проводили коней и проходили сами. Через полчаса отряд перебрался и тронулся дальше.
Тени столпившихся гор темными покрывалами заволакивали ущелье. Высоко в небе догорал бледной зарей день. Оса остановил отряд на ночевку. Красноармейцы получили по горсти сухарей и стали готовиться ко сну. Расседланные лошади были выпущены на траву и разбрелись. Цигарка дневального горела огненным глазом. Истомленные люди спали на мокрой земле, завернувшись в халаты и кожухи.
С наступлением утра всадники потянулись гуськом по узкому гребню хребта над глубоким ущельем. Слева снизу ярко светило восходящее солнце. Оно освещало красными лучами фыркающих коней и толстых от халатов, похожих на красные комья всадников, горело на торчащих стволах винтовок. На той стороне узкого ущелья стеной вздымался массив. Где-то в глубоком тумане глухо шумел Нарын. Туда не проникали утренние лучи солнца. Тени всадников и коней протягивались через бездну, и по отвесу скал двигались одна за другой гигантские четкие фигуры. Привычные кони спокойно шли над дымной от тумана пропастью, осторожно ступая по темным от сырости, скользким камням. К полудню ущелье расступилось и стало глубже. Всадники двигались поперек ската щебня. Гора влево подымалась так высоко и круто, что вершины не было видно. Спереди раздался тихий свист. Это был сигнал об опасности. Всадники осторожно смотрели под ноги лошадям. Веками поперек ската проходили стада и караваны. Щебень сползал, и от времени образовалась плотно убитая тропа. Местами она обрывалась. Тогда сверху полоса щебня плыла каменным потоком. Скат кончался обрывом. Лавина камней дробно стучала по утесам. Из-за обрыва шумел, как из берлоги, невидимый Нарын. Кони останавливались перед каменным ручьем, потом, решившись, перебегали. Они перебирали ногами, как на карьере, но еле успевали выбраться на тропу.
Вдруг в середине отряда раздался вопль. Седок и вьючная лошадь не успели выскочить на дорогу. Их понесло. Пограничник закричал и спрыгнул с коня. Гравий набежал ему по колено. Человека и обоих коней потащило к обрыву. Все трое отчаянно бились, но чем быстрее кони перебирали ногами, тем скорее двигались камни.
Режущий ухо переливный свист трелями прорезал грохот реки, выходивший как будто из-под земли. Веревка плавными петлями развернулась в воздухе и хлестнула на дымные от пыли камни. Пограничник схватил веревку. Теперь, когда он всей тяжестью висел на веревке, его походка стала легкой и ноги почти не погружались в гравий. Забыв о себе, он бросился к коням. Одна за другой, распластываясь в воздухе, летели сверху веревки. Пограничник обвязал за шею одного коня, потом другого. Он чуть не опоздал. Теперь все трое были на самом краю пропасти.
— Товарищи, братцы, коней не бросьте! — с отчаянием кричал он, глядя вверх на тропу.
Веревки натянулись, как струны. Черные от пота кони с дикими усилиями били ногами. Десяток спешившихся людей тянул веревки.
— Га-га-га! Што, напустил цикорию?
Суровые лица смотрели сверху и приветствовали неудачника такой бранью, что, вероятно, лошади покраснели бы, если бы поняли. Пограничник выбрался на тропу и отряхивался от пыли. Сейчас же за ним вытащили коней.
— А конь-то, гляди, лопнет! Ишь ты, запыхался!
Коричневые, загорелые всадники с яркими синими глазами хохотали и перемигивались. Под шуточки и прибаутки отряд тронулся дальше. Однако через полкилометра стало еще хуже, и смех замолк. Узенькая твердая тропа была наклонена к пропасти и чуть присыпана песком. От этого она была скользкой. Снова спереди, оттуда, где ехал Кондратий, раздался свист. Теперь каждая ошибка была бы непоправимой.
Лошади так чутко заботились о равновесии, что каждый всадник чувствовал, как его конь качается под ним из стороны в сторону. В полном молчании, шаг за шагом красные чапаны пробирались друг за другом над пропастью. Как будто яркие красные цветы нависли на серых скалах.
Саламатин, не спускавший глаз с Ибрая, неотступно следил за ним. Но в одном месте, где дорога стала шире, Ибрай проехал вперед. Скоро тропа раздвоилась. Одна пошла белой полосой вверх, карабкаясь чуть ли не по отвесной стене, другая — прямо. Кондратий хотел посмотреть, что делается в отряде, и на широком месте отстал.
— Наверх, туда надо! — отчаянно закричал Алы, обращаясь к нему.
— Сто-ой! — скомандовал Кондратий.
— Туда не надо, туда нехорошо, — продолжал кричать Алы, — вверх надо!
Он заволновался и стал путать русские и киргизские слова. Передние всадники не могли слышать приказания командира полка, но почему-то остановились.
— Что там такое? — закричал Кондратий.
— Река, ничего не слышно! — заорал всадник впереди и оглянулся.
— Юмиркан! — закричал Кондратий.
Ответа не последовало. «Засада, — мелькнуло в голове Кондратия. — Начнут сверху бить, — пропали!» Он хотел проехать вперед, но его опередил Саламатин.
Пограничник был убежден, что Юмиркан что-то натворил, потому что он пропустил его вперед. Мысль о том, что товарищи его могут погибнуть из-за его оплошности, обожгла Саламатина как огнем. Он рванул коня за повод и съехал с тропы вниз. Конь скачками прошел по острым камням. Щебень посыпался вниз из-под копыт, но конь, как дикий зверь, выскочил на тропу. Саламатин увидел, как Юмиркан полез вверх по тропе.
— Стой! — закричал Саламатин и взялся за клинок.
Стрелять было нельзя, так как кони и без того дрожали всем телом, еле удерживаясь над бездной.
— Почему там стоят?
— Не знаю, — ответил Ибрай.
— Там дорога есть?
— Конечно, — подтвердил контрабандист.
— Не врешь? Наступи ногой, если правду говоришь! — сказал Саламатин и, достав из кармана, бросил на землю сухарь.
Лицо Ибрая сделалось совсем желтым. Он присел, загородился от удара конем, потом бросился в кусты и полез вверх по тропе.
— Пропали, пропали! — закричал Саламатин и тронул коня. — Вперед!
Он уже почти догадался, в чем было дело. Он знал, на какой риск идет, но о себе больше не думал. Он считал себя виновным во всем. Он хотел приблизиться к впереди стоящим, но сверху показалось лицо Ибрая, и вслед за тем на тропу упал камень. Конь испуганно бросился вперед. Саламатин бледно улыбнулся. Теперь он знал, что погиб. Кондратий прорвался вперед так же, как Саламатин, и приблизился.
— Ты чего стоишь?! — закричал он в спину Саламатину.
Впереди что-то кричали. Спина Саламатина дрогнула, потом Кондратий еле услышал глухие слова:
— Товарищ командир, пропадаем.
— Почему стоите?
— Впереди дороги нету! — ответил Саламатин.
— Как нету? — в ужасе закричал Оса.
— Оборвалась тропинка. Нету. Завел проклятый!
— Поверни назад!
— Нельзя, конь дрожит, узко!
— Подождите, сверху веревки спустим.
— Нельзя, скала над нами, веревки вперед уехали.
Оса с холодным отчаянием поглядел вверх и погнал коня. Секунду он висел вместе с конем над пропастью, но взобрался туда, куда скрылся Ибрай. Однако уже было поздно. Передовой всадник доехал до конца тропы и увидел гибель. Карниз обрывался. Дальше, шагов через сто, снова начиналась тропа, но прямо впереди была отвесная стена. Повернуть назад было нельзя. Прямо под ногами была бездна. Над головой навис утес, и веревки сверху ждать было нечего. Прошло несколько минут. Истомленный смертной тоской, пограничник приложил ладонь ко рту и прокричал назад:
— Дороги нет.
Вот этот-то ответ и дошел до Кондратия,
— Эй, смотри наверх, — раздался голос сзади.
Наверху показалась голова Ибрая.
— Ну, как, будешь контрабандистов ловить? — сказал предатель.
Пограничники молчали. Кони дрожали всем телом.
— Эх, вдарить бы его, — сказал передний.
Он шевельнулся в седле и вместе с конем сорвался в бездну. Конь и всадник мелькнули в воздухе и исчезли, только протяжный крик прозвенел в стороне от тропы.
— Пропал! Пропал! — раздались отчаянные крики, и вторая лошадь нелепо прыгнула вместе с седоком.
Ибрай смотрел и смеялся. Потом сказал:
— Прощай!
Видно было, что он сейчас уйдет.
— Ну, все равно. Не хотел я коня пугать, — Сказал третий всадник.
Он вскинул винтовку. Треснул короткий выстрел. Тело Ибрая тяжело пролетело сверху, а за ним прыгнула обезумевшая лошадь и увлекла с собой стрелка.
— Колька, — кричали Саламатину сзади, — слезай через круп.
— Нешто попробовать?
Он один остался живым из всех въехавших в западню Ибрая.
— Слазь, черт, назад! — повелительно кричали сзади. — Очумел?
Саламатин вынул ноги из стремян и пересел на круп лошади. Потом он быстро спрыгнул на землю и удержался на скользкой тропе, схватившись за хвост коня.
— Стой, стой! Куда?! Э-эх, голова закружилась! — закричал он вслед коню.
Конь без всякой видимой причины сорвался вниз. Отряд уже был наверху. Изнемогающему Саламатину сверху бросили веревку. Его посадили на запасную лошадь, и все в молчании двинулись дальше.
Вдруг Кондратий остановил коня. Навстречу шагом плелся какой-то всадник.
Когда он приблизился, несколько голосов закричало от изумления:
— Будай, Будай!
Всадник приблизился. Он еле ворочал языком.
— Как ты нас догнал? — спросил Кондратий.
— Напрямик, — отвечал Будай. — Я помнил твой Маршрут, Кондратий, я загнал трех лошадей и не ел два дня. Я приехал предупредить вас. Сейчас же прикажи задержать проводника из Фрунзе.
По лицу Кондратия прошла судорога.
— Что ты молчишь? — тупо спросил Будай.
— Он завел нас на оборванную тропу. Трое пограничников погибли, — отвечал Кондратий.
— А какой он был из себя?
— Такой: лицо широкое, борода будто приклеенная, — сказал ближайший красноармеец.
— Ростом высокий?
— Высокий!
— Кондратий, — печально сказал Будай, — из Фрунзе проводник привез пакет, но проводника убили. С вами поехал Ибрай. Ты здесь. недавно и не мог его знать. Ибрай работал на другом участке. Его ловили лет десять.
— Антоний, прочти, — сказал Кондратий и протянул своему другу бумагу.
Будай прочел ее и опросил:
— Что же ты теперь будешь делать?
— Сдам тебе командование и поеду назад, — печально сказал Кондратий. — Я буду ожидать твоих приказаний.
— Ты их можешь получить сейчас, — ответил Будай. — Я приказываю тебе быть во главе отряда и довести дело до конца. Я поеду с тобой.
Глаза Кондратия сверкнули гордостью. Он благодаря но пожал руку Будая.
— Но только прежде накорми меня, а то я издохну, — закончил Будай и покачнулся в седле.
— Слезай! — протяжно скомандовал Кондратий и, понизив голос, добавил, обращаясь к Джанмурчи: — Возьми пять человек и поезжай искать трупы. Мы сделаем дневку.
Глава II ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Прошло еще несколько дней. Отряд затерялся среди необозримых лугов и ледников Небесных Гор. Взошло горячее солнце. Обжигающие горные лучи сразу залили светом бивуак. Под маленьким холщовым навесом, чтобы ночью снег не падал на людей, вплотную лежали пограничники. Оса блаженно опал на потнике, подложив деревянное киргизское седло под голову. Каждый раз он раздевался до белья и укутывался тулупом. Ниже по бугру под кошмой спали Джанмурчи и Алы. Проводник всякий раз сам стлал кошмы, седлал обеих лошадей и держал себя, как слуга.
— А вон с горы часовой камушки пущает, — проговорил пограничник, открывая глаза.
Дневальный на вершине сбрасывал от скуки камни, и желтый прах горел золотым дымом под лучами восходящего солнца.
— Вставай, пять часов! — закричал сверху дневальный.
— Рры! — отвечал пограничник.
Он открыл глаза и смотрел в синее небо. Избыток сил не давал ему покоя. Не желая вставать, он просто перекатился через всех спящих и покатился под бугор. Воркотня и проклятия посыпались ему вслед, но он накатился на Алы и Джанмурчи.
— Вы, арыки, белеки рры! — И, нырнув под кошму, он поднял такую возню, что все трое вместе с кошмами покатились по откосу вниз.
— Га-га-га! — хохотали проснувшиеся, глядя сверху на катившийся тюк, из которого мелькали голые ноги и руки.
— Саламатин, черт, раздавай мясо! — закричал Оса.
— Сейчас, — раздался из катящегося тюка придушенный голос.
Кошмы развернулись. Трое голых с хохотом побежали одеваться.
— Седлать коней, грузить вьюки! — весело закричал Оса, и маленький лагерь ожил.
Торопливо разбирали седла и потники, на которых спали. Кто-то стал свистать так, что в ушах звенело; издали гнали стреноженных коней. Они отдохнули за ночь и теперь бодро ковыляли спутанными ногами к лагерю.
— И чего эго они не уйдут? — задумчиво спросил молодой пограничник.
— Небось, скотинка умнее тебя, — отвечал другой. — Куда пойдет? На тыщу километров никого нет.
— Кому грива, кому хвост, остальное взял завхоз, — весело распевал Саламатин, деля на равные куски вареную конину.
— Саламатин, сегодня по одной ландринке дашь? У тебя ведь целых две коробки монпансье осталось, — просительно сказал, улыбаясь. Оса.
— Ну, да, нацелились… — сурово ответил завхоз, потом, смягчившись, он добавил: — Ну, уж так и быть, по одной дам. Только потом три дня чтобы никто не просил. — И, небрежно открыв коробку, он стал выламливать слежавшиеся кусочки монпансье и осторожно раскладывал рядом с кусками конины.
— Осторожно, куда лезешь, дьявол, не видишь чихауз?
Пограничник захохотал.
— Где же это чихауз? Восьмой день ни одного человека не видим!
— Раз казенные вещи лежат, это и есть чихауз, — твердо ответил домовитый Саламатин. — Ну, вы, арыки белеки, получай, — и он начал раздавать мясо.
— И для чего конфеты, не понимаю, — ворчал молодой пограничник, хрустнув леденцом. — Чая пить — все равно нету. Восьмой день огня не видали. Хоть бы веточка тебе кругом.
— Вот постой, — сказал Оса, — через два дня будем пересекать дорогу контрабандистам. Там много кизяку будет. Тогда и чай согреем.
И все принялись гадать, на каких дорогах будет конский навоз и где можно будет напиться чаю.
— А почему тут ни лесу, ни кустов нет? — спросил молодой пограничник.
Он в первый раз ехал в дальнюю экспедицию.
— Куда тебе лес, когда ты сам дерево!
Дружный хохот заглушил слабые протесты молодого пограничника. Оса улыбнулся и серьезно ответил:
— Лес тут растет полосой; помнишь, мы проезжали. Ни выше, ни ниже нет.
— А, так, так…
— А-а, ворона… — дружно подхватили несколько человек, прожевывая конину.
Через минуту началась погрузка, и отряд бодро тронулся дальше.
— Ишь ты, — сказал молодой пограничник, задирая голову кверху, — ежели с той скалы, да как жжакнуться вниз, вон на тот камень, так мячиком и подскочишь.
— Под тым каменюкам одним чертям издыть, а не добрым людям, — неодобрительно проговорил украинец, оглядываясь назад.
Все ехали не спеша и болтали друг с другом. Хорошая дорога, ясное небо, теплое солнце, бодрые кони — все способствовало хорошему настроению всадников. Огромная земляная гора была прорезана поперек узенькими канавками. Они были не шире конского копыта. Эти канавки назывались дорогами и, как большие пути, были отмечены на карте. Веками проходили здесь караваны и всадники. Одним нравилось ехать выше, другим — ниже. Двое, желая поговорить, ехали по верхней и нижней канаве. Голова одного всадника была у стремени другого. Некоторое время ехали по ровной долине. Роскошная мягкая трава была по колени коням. Оса прибавил ходу, и отряд пошел рысью. Зеленые стебли шумели под ногами, и подковы сверкали серебром в зеленой траве. Молчаливый и печальный Будай ехал позади всех. Вот уже четвертую неделю в хорошую погоду он видел одну и ту же картину.
Седой полосой убегала вперед примятая трава. Человеческие спины в красных чапанах мерно покачивались. Могучий круп, украшенный ремнями с серебром. Серые и черные лошадиные ноги, иногда рыжие, и волнующийся длинный хвост как будто были продолжением тела всадника. Казалось, впереди бежали кентавры. Весь день до самой вечерней зари они неутомимо перебирали в своем беге высокими конскими ногами, странно качая острыми суставами конских колен. Монотонно сверкали кони подковами копыт, напрягали круп, прыгая через канаву, и обмахивались хвостами от мух. Впечатление усиливалось тем, что люди и кони вполне понимали друг, друга. Никто не правил поводом. Не давая себе отчета, всадник давил коленами, и лошадь повиновалась. Иногда кони капризничали или мстили. За несправедливый удар конь топтался почти на одном месте или рвался в сторону и, нагибая голову на ходу, старался захватить траву. Всадник отъезжал в сторону. Можно было видеть, как бледный от бешенства, потерявший всякое терпение человек полосовал животное куда попало. Упрямство скакуна хуже ослиного. Остальные всадники, как будто не замечая, проезжали мимо. Это была семейная сцена, и никому не было интересно вникать в чужие домашние дела. Потом всадник кричал:
— Ну, полюби!
Конь клал ему голову на плечо и ласкался, как будто просил прощения. Всадник прыгал в седло и снова присоединялся к этому неукротимому бегу, который тянулся неделями. Никто не говорил: «Твой конь хромает».
Люди и кони как бы составляли одно целое, пока человек — был в седле. Иногда Будай слышал, как кентавры переговаривались:
— Гляди, у тебя правая задняя пошкрябана, кровь идет.
Передний кентавр спокойно отвечал:
— А это я вчера на перевале поскользнулся. Дай покурить, что ль?
И на скаку бережно вынимался кисет и сворачивалась цигарка из газеты. Ни одна крупинка махорки не просыпалась зря. Сизый ароматный дымок вился следом, и неукротимые люди с конскими ногами продолжали свой бег перед ним.
Оса смотрел вперед около часа. Он старался поймать в бинокль далекий луг впереди, но бинокль прыгал на ходу, и он ничего не мог рассмотреть. Алы приблизился вплотную, так что звякнули стремена, и спокойно протянул руку вперед.
— Лошади! — сказал он.
— Стой! — коротко скомандовал Кондратий.
Кони осели на полном скаку на задние ноги и остановились. Оса передал бинокль.
— Ну, да! — сказал Будай. — Белая, черная, рыжая, только очень далеко.
Оса слез с седла и приказал оставить вьючных лошадей. Говор и смех оборвались. Суровые тени близкой схватки пробежали по лицам. Сосредоточенное внимание и твердо сжатые губы обострили смеявшиеся веселые лица пограничников. Торопливо развязывали и сбрасывали на землю притороченные позади седла чапаны и кожухи. Каждый упорно смотрел вперед. Видно было плохо: там надвигалась проза. Впереди небо было черное от туч. Как будто распространилась ночь. В спину ярко светило солнце.
Развалины мазара высились недалеко на низком холме впереди. Стены и камни сверкали бело-розовыми пятнами на черном грозовом небе.
Вдруг рядом с мазаром показались два всадника,
— Разъезд! — крикнул Оса.
Команда прозвучала, как удар бича, когда выпускают гончих. На приказание ответил бешеный, сорвавшийся топот коней. Пять всадников рванулись вперед.
— А-а! Пошли, пошли! Нет, теперь не уйдет, врешь! — заговорили кругом.
Всадники, как тень, исчезли за бугром. Оса оставил коноводов и крупною рысью тронулся вперед. Когда он въехал на перевал, местность открылась перед ним как на карте. Короткий горный день уже клонился к закату. Склонившееся солнце наполнило медным светом грозовые тучи. Вдали прояснилось, и стало видно, что по зеленому склону потянулась вереница коней. Теперь их было видно без бинокля. До них было верст шесть. Неизвестные всадники двигались к черным скалам, которые были впереди. Кони пограничников чувствовали общее возбуждение и рвались с места.
— Айда, товарищи! — весело сказал Кондратий.
Все повода ослабли. Отряд пошел вскачь. Далеко впереди разбросанными пятнами неслись всадники разъезда. Еще дальше мелькали два наездника в черном.
— Вон, вон, ихние уйдут! — тревожно кричали кругом.
Кондратий не успел ответить. Впереди слабо цокнул выстрел, и было видно, как конь одного из беглецов сделал несколько прыжков и потом вместе с всадником покатился по земле. Второй несся как ветер. Раздались несколько выстрелов, но он продолжал скакать.
— Будай, — сказал Кондратий, — возьми половину и гони налево к скалам, чтоб не ушли.
На полном скаку отряд разделился пополам. Все упорно смотрели вперед, хотя от ветра слезы закрывали глаза. Равнина окончилась. Оса приказал перейти на рысь. В небе стало темнеть. Кони шли галопом все время и теперь задыхались. Широкая тропа пошла в гору. Будай исчез в стороне далеких черных скал, и там загрохотали выстрелы.
— Как бы разъезд не напоролся, — ворчал Оса. — Зарываются, прохвосты.
Тропа стала широкой и свернула за утес. Оса глянул и бешено погнал коня. Разъезд погибал. Несколько коней, на которых сидели пограничники, по-видимому, раньше принадлежали контрабандистам.
Они упорно поворачивали сами назад, боясь выстрелов. Один горячо понесся вперед, и одинокий пограничник врезался в толпу контрабандистов. Оса видел, как его сорвали арканом с седла и как обнаженный клинок бесполезно сверкнул в воздухе. Пограничник грохнулся на землю, и несколько человек навалились на него.
— Убивают! Голика убивают! — закричали четверо.
Они старались справиться с обезумевшими конями. Но из толпы контрабандистов частым градом посыпались выстрелы, и один конь завертелся на месте. Кони расстилались в карьере, но Кондратий видел, что остается еще не менее двух минут ходу. Позади контрабандистов вдруг часто забили выстрелы.
— Ур-ра! — вырвалось у атакующих.
Все поняли, что Будай зашел сзади. Кондратий подал команду. Холодная сталь обнаженных клинков красными зеркальными полосами сверкнула в лучах заходящего солнца. Разведчик впереди спрыгнул с коня. Под выстрелами он поправил подпругу и хотел вскочить в седло, но в коня хлопнула пул. Конь рванулся вперед, пограничник зацепился за переднюю луку деревянного седла ремнем шашки, и конь поволок его карьером к толпе контрабандистов.
— Плоц, Плоц пропал! — раздались крики. — Убьют!
Второй пограничник влетел в толпу контрабандистов, но следом вломился Оса. Несколько торопливых выстрелов прогремели в упор. Несколько страшных, размашистых ударов клинка обрушились на кого-то. Потом раздался взрыв разноголосого вопля, и все было кончено.
— Сдались! Голик жив?
— Щеку прорезали.
— Плоц?
— Ничего, отделался.
— Та-ак, разворачивай тюки! Сколько вьючных лошадей?
— Забирай прежде винтовки! Мало тебе еще?
— Давай, дьявол!
Торопливо обезоруживали и считали задержанных. Алы протискивался сквозь толпу своих и чужих и быстро заговорил:
— Когда мы бросились вперед, я видел след, который пошел в сторону. Туда ушло лошадей пятьдесят.
— Будай, возьми десять человек и карауль, — возбужденно сказал Кондратий.
— Сидай, скорей, черт! Уйдут, дьявол! — торопил кто-то товарища. — Увезут все твое лекарство к черту!
Ближайший контрабандист бросился с ножом на Алы, но беззвучно упал вперед от страшного, хряснувшего удара прикладом.
— Не зевай! — холодно сказал Саламатин.
Алы засмеялся, приложив руку к сердцу, и вскочил в седло. Кондратий и почти весь отряд тронулись за Алы и Джанмурчи. Тьма сгустилась. Тропа под ногами коней разделялась на каждом шагу. Белые полотна тропинок уходили в сторону за утесы, скрывались в кустарнике и иногда ползли куда-то вниз, в пропасть. Алы ехал впереди всех. Он впился глазами в тропу и, тихонько посмеиваясь, уверенно сворачивал то на одну, то на другую тропинку. Они ехали недолго. Перед ними открылась ложбина, и Оса закричал от радости: больше сотни вьючных животных, из которых многие были нагружены опием, связанные поводами, стояли тесным табуном.
— За это он хотел меня убить, — засмеявшись, сказал Алы. — Вот! — И он приблизился к табуну.
Стали считать коней.
— Восемь, девять, десять.
— Саламатин, сколько тут опия?
— Сейчас! Десять, пятнадцать! По двадцать фунтов считайте!
Оса боялся внезапного нападения в темноте и потому приказал вести коней немедленно. Когда он вернулся, уже горели костры. Поодаль сидели задержанные. У другого огня весело болтали пограничники. За десять последних дней в первый раз встретился кустарник. Оса выставил караул около задержанных и лег спать. Сквозь сон он слышал, как пограничники переговаривались о чем-то и хохотали. Как только стало светать, Оса вскочил на ноги. Более тридцати пограничников с тревогой смотрели на своего командира. Никто не хотел ехать назад с задержанными.
Оса приказал бросить жребий. Два старых и три молодых пограничника, огорченные и недоумевающие, подошли к нему. У них был такой вид, как будто их жестоко одурачили.
Оса ободряюще улыбнулся и сказал:
— Ладно. Кому-нибудь ведь надо ехать назад. Пятьдесят человек задержанных да сотня лошадей, — прибавил он, улыбаясь от удовольствия.
Потом он подозвал Алы, разостлал небольшую карту и стал советоваться.
— С сегодняшнего дня дорога кончается. Дальше поедем, как придется. Когда мы будем на перевале Койлю?
— На Койлю очень много снега, — отвечал Алы.
— Ты когда-нибудь там был?
Алы улыбнулся.
— Кто может знать все дороги? — сказал он.
Круглолицый, с оливковым румянцем, темными глазами, необычайно ловкий, Алы стал любимцем отряда. Суровые бойцы были с ним приветливы и ласковы. Может быть, потому, что он был самым молодым. Кондратий задумчиво смотрел на него и улыбался, сам не зная чему. Алы долго молчал, потом сказал:
— Будем идти, как можем… не знаю.
Кондратий стал ему что-то объяснять, водя пальцем по карте. В стороне собирали караван. Как всегда, при погрузке была возня и ругань. Кто-то из старых бойцов подавал советы.
— Подпруги держите слабже да не давайте коням отставать. Кормите их с выстойкой, растирайте спины, а то раны будут. А контрабандистов нипочем к коням не подпускайте. Попортят коней, все растеряете. Главное- не спешите.
Оса приказал седлать. Через полчаса отряд выступил дальше.
Глава III ЧЕРНЫЙ ЛЕДНИК
Несколько раз в день шел снег. Как только тучи сходили, солнце жгло. Чапаны, кожухи и промокшие кони дымились паром.
От резкой смены тепла и холода с лица слезала кожа. Губы у всех потрескались и имели вид ободранного апельсина. У многих вместо рта была Запекшаяся сплошная рана. При каждом слове струпья сочились кровью. А люда подымались все выше и выше. Плоскогорья в несколько верст скрадывали подъем. Потом через день пути отряд оказывался у подножия снеговой горы. За неделю не было ни одного спуска. Все чаще страдали горной болезнью и припадками удушья. Дышать было» тяжело.
Начиналась какая-то невиданная страна. Там, где карта показывала семь тысяч футов над уровнем моря, тянулись болота, пропитанные глауберовой солью. Иногда кто-нибудь по целым часам плевал и задыхался так, что не имел силы выругаться. На пятый день после захвата контрабанды Кондратий, ехавший впереди, поднялся на плоскогорье. Дикие скалы со льдом, черные и ржавые, покрытые изморозью, громоздились впереди. Легкие облака проходили рядом с ними. Светлые тени окутывали скалы, и налет инея сверкал серым серебром. Направо на полверсты вверх поднимались ледники. Люди с конями были как мухи на этом огромном пространстве. Черная каменноугольная грязь была под копытами коней.
— Койлю! — сказал Алы и протянул руку вперед.
Там чудовищными ступенями спускались изломанные льды. Грязные черные сугробы, оползавшие с каменноугольных хребтов, громоздились, как горы. Где-то высоко вверху шумел черный, грязный водопад. Вода пробивала снег, потом ниспадала по леднику и снова исчезала под снегом. Грязный от каменного угля снег и черный искрящийся лед производили необыкновенно мрачное впечатление. Черные льдины железным шлаком горели на солнце вверху. Кондратий слез с коня и пошел пешком.
— Будай, — сказал он, — я думаю, мы перейдем только там, — и он показал вперед на черный ледник. — Дорога скверная, но здесь не должно быть контрабанды. Зато по ту сторону Койлю нас не ждут.
— Да, вообще раздумывать не приходится.
Кондратий смотрел на уступы гор. Они были так обширны, что на каждом поместилось бы целое селение с посевами.
— Мы должны идти быстро, сказал подошедший Алы. — Старые люди говорят, что тут очень высоко. Летом падает снег сразу на целые три сажени.
— Сколько у тебя по карте-то? — спросил Будай.
— Хватит! Выше Монблана, — ответил Кондратий.
— Ну, что ж, это может быть, — ответил Будай. — На такую высоту зимой облака со снегом не подымаются, потому что воздух редкий. А летом здесь выпадает много снега. Однажды я был по ту сторону Койлю…
Оса вдруг разозлился.
— Может быть, я — школьник, и мне будут читать урок географии? — спросил он, побледнев от гнева.
— Но ты же сам просил совета, — спокойно возразил Будай.
— Я не могу ехать на советах, как на лошади. Я должен перейти этот проклятый ледник. Я вовсе не желаю перетопить весь отряд в этом снегу или провалиться куда-нибудь к чертям. Посмотри, вон целый водопад скрывается под снегом.
— Да, там промоины на целый километр в глубину, — согласился Будай. — Если мы пойдем и снег провалится, так ни один черт никогда не узнает, куда мы делись.
Джанмурчи вмешался в разговор.
— Товарищ командир, — просительно сказал он. — Пускай Алы едет вперед.
Кондратий хотел его перебить, но Джанмурчи умоляюще продолжал:
— Он все знает. Где пройдет волк, там пройдет и Алы!
Оса колебался. Потом тронул коня вперед и сказал:
— Хорошо, я поеду с ним, а остальные пусть двигаются позади. Да подальше, — прибавил он, отважно улыбаясь. И, помолчав, добавил:
— Будай, ты поведешь их.
Потом он слез с коня и тщательно осмотрел подпругу, седло и поводья. Будай спешил отряд и также приказал осмотреть подпруги и седла. Кондратий с тревогой поглядел на пограничников, потом вскочил на коня и поехал вслед за Алы. Будай выждал, пока они отъехали на полкилометра, и тронулся за ними следом. Потом он приказал раздать все конфеты и папиросы, которые Саламатин так тщательно берег для этого случая. Все знали, что на этой высоте бывают безвоздушные ямы и, чтобы не задохнуться, необходимо сосать конфету или курить. Он с беспокойством, смотрел вперед, ругая себя за то, что забыл об этом предупредить Кондратия, но потом увидел синий дымок и понял, что тот курит. Кондратий скоро исчез за сугробом и Будай повел отряд по снегу. Кондратий ехал следом за Алы и невольно поражался чутью этого человека. Черный лед со снегом подымался столбами на несколько сот метров. Шуршащий шум слышался от ручьев, которые текли внутри снега. Они кипели, соединяясь в речонки, и иногда грохотали где-то внизу, чуть не под ногами, в толще снега. Алы медленным шагом с крайней осторожностью двигался вперед. С одного взгляда он оценивал все. Нависшие сочащиеся сугробы над головой обдавали дождем всадников и коней при каждом легком порыве ветра. Иногда снег стоял колонной между скалами. Грязные потоки промывали его, и он имел вид обтаявшего сахара.
Алы двигался по черным мокрым пятнам, где выступала земля. Каждый раз ему удавалось миновать залежи снега. Он упорно подымался вверх, сворачивая то вправо, то влево. Как только они подымались на новую площадку, снова перед ними открывались гигантские сугробы, громоздившиеся на десятки саженей кверху. И снова терпеливо и с бесконечной осторожностью Алы направлял коня на проталину. Вдруг он остановился. Кондратий с тревогой увидел, что Алы смотрит то вправо, то влево. В ту же минуту послышался какой-то шорох, который усилился и наполнил весь воздух. Потом раздался возрастающий гул, как от землетрясения, и громовой удар потряс землю. Кондратию почудилось, что даже почва под ногами заколебалась. Оба коня отчаянно забились от ужаса.
«Лавина!» — мелькнуло в голове у Кондратия. Он стиснул ногами коня и, затянув повод, удержал его на месте. Потом поднял голову и увидел зрелище, которое навсегда запечатлелось в его памяти: снеговой столб впереди вдруг наклонился. Огромные сталактиты льда, с которых бежали ручьи, оторвались и на секунду повисли в воздухе. Потом вся масса черного снега и льда рухнула вниз. Ледяным ветром пахнуло на прогалину, и в следующее мгновение раздался второй удар, от которого загрохотало где-то под землей. Конь Алы, как дикий козел, метнулся вправо со своим всадником, и Кондратий последовал за ним. Целый час они бились в снегу, проваливались по грудь, перебираясь по проталинам, и вдруг выбрались наверх. Перед ними расстилалось ровное ледниковое пространство, пересеченное черными полосами. Кондратий подъехал и с искренним восхищением пожал руку Алы. Он не был завистлив и умел ценить людей.
— Ишь ты, ветерком-то как подмело. Каток! — сказал приблизившийся и запыхавшийся пограничник.
— А коньков-то нету, — отвечал другой, погоняя коня.
— Ладно зубами-то ляскать, — сурово сказал Будай.
Кони осторожно тронулись, но ноги у них стали разъезжаться, и несколько человек боком брякнулись на лед.
— Слезай! — скомандовал Будай.
Он медленно слез с седла, чтобы не покачнуть коня, и взял его за повод. Когда остальные приблизились, Бу» дай увидел, что юноша и Оса стоят на краю пропасти. Трещина шириною больше двух метров открывалась во льду. Кондратий приблизился к краю и заглянул вниз. Стены льда блестели как стекло. Дальше в сумраке выставлялись блестящие ледяные уступы, а еще глубже был мрак, и дна не было видно. Оттуда еле долетал однообразный звон воды, переливавшейся во льду. Звук был похож на звон струи, наполняющей кувшин. Насколько видел глаз, трещина уходила вправо и влево.
— Это, наверное, от землетрясения, — задумчиво сказал Будай.
— Ну тебя к черту, тут не академия наук, — дружелюбно огрызнулся Оса, упорно думая о чем-то.
Джанмурчи подошел и робко тронул Осу за рукав. Алы несмело заговорил:
— Тут долго быть нехорошо. Сегодня кони совсем воды не пили. Снег пойдет: смотри, вон идет облако.
Кондратий молчал, потом подозвал Будая и показал ему планшетку.
— Посмотри, тут показана тропа через ледник, но ледник сдвинулся. Вот смотри, на той стороне обрыв.
Он показал рукой вперед, где зиял черный крутой скат. — Я еще в долине об этом слышал.
— Зачем же ты сюда поперся? — спросил Будай.
— Опять сначала, — со злостью сказал Оса.
Он снял перчатки и подул на посиневшие пальцы.
— Раз я проеду здесь, я выиграю семь дней и накрою еще две шайки. Ведь я тебе сказал, что разорю отца контрабанды!
— Воля, конечно, у тебя железная, — с уважением сказал Будай, глядя на красное, обветренное непогодой лицо Кондратия. — Но все-таки, что мы будем делать дальше?
— Саламатин! — позвал Кондратий вместо ответа.
— Чего изволите, товарищ командир? — с легкой насмешкой откликнулся завхоз.
Пограничники прыгали по льду, стараясь согреться, толкались, гладили коней и дули в посиневшие кулаки.
— Постели-ка свою попону вот сюда, на край, — сказал Кондратий.
Он хотел что-то прибавить, но кругом загудели протестующие тревожные голоса.
— Кондратий, не дури! — сказал Будай.
— Товарищ командир, да нешто ж можно?
Оса, не обращая ни на кого внимания, подошел к краю. Подтянув подпругу, он потрепал скакуна по шее и легко, одним плавным движением сел на седло. Будай взял коня за повод, но Кондратий ласково отстранил его рукой.
— Больше ничего не остается. Не бойся, ты ведь знаешь, что я в прошлом жокей. Я взял на своем веку столько призов, что, право, возьму и этот.
Холодная, как лед кругом, непреклонная воля была в его голосе. Будай пожал ему руку и отошел в сторону. Оса спокойно поправил перчатки, как делал это когда-то перед скачками. Потом повернул коня назад. Он отъехал шагов на двадцать и повернулся к пропасти. При полном молчании окружающих он смотрел на разостланную попону на краю расселины, как будто прицеливался. Потом сразу тронулся рысью вперед. Не переводя дыхания, все смотрели на него. Если бы конь хоть раз поскользнулся, то, даже упав на лед, он съехал бы в пропасть вместе со своим седоком. Перед попоной Оса резко ударил коня плетью. Конь напрягся всем телом и. подобрав ноги, оттолкнулся. Попона чуть отъехала назад, и прыжок ослабился наполовину.
Конь и всадник взвились над пропастью и рухнули на лед.
— Батыр! — в один голос воскликнули Алы и Джанмурчи.
— А-а! Здорово! Молодец! — раздались отрывистые возгласы.
Оса высвободил ногу; конь поднялся, дрожа всем телом от страха.
— А ну, давай! — сказал он, оборачиваясь назад.
Ему перебросили несколько веревок, топор и два кола. Оса забил колья в лед и быстро прикрутил веревки. Один за другим, вися над пропастью, перебирались люди по. веревкам, потом настлали палки, палатки и брезент, перевели лошадей и перетащили вьюки через двухметровую трещину.
Будай руководил переправой. Оса и Алы снова тронулись вперед. Они прошли через весь ледник. Лед кончился обрывом.
По ту сторону глубокого рва подымалась мокрым блестящим отвесом черная земля. Ров круто спускался вниз, и было слышно, как подо льдом бушевала вода, уходившая вбок от оврага. Алы повернул вправо. У самого края ледника по льду бежал ручей. Он прорезывал ледяную кору и широко разъедал лед внутри.
Алы опасливо оглянулся на Кондратия, потом остановился у ручейка, как будто собираясь прыгать через пропасть. Он слез с коня и мягко прыгнул через ручей. Потом, отойдя дальше от края, потянул коня за веревку. Конь перепрыгнул, и оба быстро пробежали полосу льда. Кондратий последовал примеру Алы. Но когда его конь перепрыгнул через ручей, Кондратий почувствовал, что куда-то проваливается вместе с конем. Лед зазвенел, как стекло, ломаясь вокруг. Кондратий вместе с конем бухнул в воду и не успел даже закричать.
Он захлебывался, кувыркался в черной ледяной воде. Потом его пронесло подо льдом шагов двести. Несколько раз коня перекатило через него. Жестокая боль в ногах почти лишила его сознания, потом что-то ударило его в живот, и на мгновение он перестал понимать все происходящее. Очнувшись, он увидел, что лежит в черной грязи. Рядом с ним лежал конь. Вся грудь у коня была расшиблена. Окровавленный кусок кожи висел и был выпачкан черной грязью.
Ослепленный и полузадохшийся, Оса встал на ноги. Прямо от него вниз шел крутой скат под ледник. Вода бушевала и сбивалась в грязную пену. Потом вся уходила куда-то в дыру, под лед. Кондратий стоял и ждал помощи сверху. Он старался не шевелиться, чтобы поскользнувшись, не слететь в поток. Земля была такая
скользкая и подъем такой крутой, что взобраться самому нечего было и думать. Через некоторое время сверху сидя съехал человек, волоча за собой веревки.
Это был Джанмурчи. Лицо его было все забрызгано грязью. Кондратий привязал коня, обвязал себя, и все трое начали восхождение по мокрому, скользкому отвесу. Веревку тянули вверх, но на каждом шагу Оса и Джанмурчи падали в грязь. Конь так изнемог, что, когда падал, еле поднимался на ноги. Прошло не менее часа, прежде чем они выбрались наверх. Кондратий приказал промыть рану и отрезать у коня мотавшийся кусок кожи.
— Ой, бой-бой! — сказал Джанмурчи. — Плохо! Ты мог умереть! Когда вода идет по льду, она режет его туда и сюда. Бывает так: лед, потом пустое, как дом, и опять лед, и опять пустое. В прошлом году один купец упал. Пять или шесть раз под ним сломался лед, и никто больше его не видел.
Алы тревожно показал на небо. Кондратий решил продолжать подъем; до вершины оставалось не более полукилометра.
— Сегодня проехали пять расстояний, на которые слышен человеческий голос, — сказал Алы.
Это была правда. Кондратий увидел, что только теперь начались скачки шагом, которые он предсказывал
Будаю. Лица пограничников налились кровью от недостатка воздуха; губы стали синими.
— Ну, чего ж, так и будете черными чертями ехать? — грубо сказал Саламатин и, расстелив на мокрой земле кошму, подал сухую, чистую одежду и белье Кондратию и проводнику.
Оба переоделись, и отряд торопливо тронулся на подъем. Скоро стало легче: не надо было больше наклоняться вперед. Кони пошли по ровному месту, а колоссальные отвесные утесы красного гранита подымались, как колонны и стены развалин. Ровный, как пол, сплошной красный камень тянулся на несколько верст. По камню ровным слоем бежала вода. Утесы гранита образовывали лабиринт переходов и коридоров. Сверху все затянула серая мгла. Повалил крупный мокрый снег. Он падал бесшумно и так густо, что всадник не видел головы лошади. Снеговая скользящая слякоть зачавкала под копытами коней. Алы проехал вперед. Джанмурчи кричал Кондратию, толкаясь стременем, но через массу валившегося снега Кондратий еле слышал его голос. Потом кто-то сунул веревку в руки маленького кавалериста, и он, схватившись за нее, закивал головой. Теперь он знал, что товарищи не разбредутся. Веревка все время дергалась во все стороны. Потом она протянулась вперед и назад. Кондратий понял, что всадники вытянулись гуськом, а Джанмурчи приблизил лицо к его уху и сказал:
— Алы поедет вперед, у него нос волка. Тут никогда не было никакой дороги.
Кондратий не спорил. Он держался за веревку я как будто плыл в белой струящейся мгле. Кони скорым шагом шли куда-то один за другим. Их ноги уже стали грузнуть в снегу почти по колено. И вдруг снег перестал падать. Мокрые от пота и снега кони тяжело вздували бока. Скалы выступили из белого потопа. Целые водопады обрушивались с утесов и уходили в откосы щебня.
Мокрые скалы нависали, ежеминутно грозя обвалом.
Ослепительно сверкнуло солнце. Весь камень, окружавший людей, стал дымиться от пара. Через полчаса пути сплошной туман закрыл все, и снова Кондратий, держась за веревку, чувствовал, что конь сворачивает в лабиринте среди утесов. Сильный, почти ураганный порыв ветра качнул коня. Кондратий невольно натянул повод. Как-то смутно он почувствовал, что впереди открывается большое пространство. Белым дымом заклубился вокруг туман. Конь захрапел и остановился. При следующем порыве ветра у самых ног коня открылась бездна. Конь спокойно глядел вниз. Где-то далеко внизу под яркими лучами солнца сверкала зеленая долина. Кондратий увидел, что он ехал вторым. Впереди был Алы. В следующее мгновение ему показалось, что Алы падает. Юноша вместе с конем скользнул куда-то вниз. Всадник и конь исчезли. Мелькнул только круп коня. Кондратий понял, что они перевалили черный ледник и теперь начался почти отвесный спуск.
— Не слезать! — закричал он, повернувшись назад. — Пешком не пройдешь!
И храбро направил коня вслед за Алы. Он сразу же откинулся назад, а конь головой вниз стал спускаться почти по отвесному уклону… Голова коня была между ступней человека. Откинувшись спиной на круп лошади, всадник полулежал на спине. Гравии плыл ручьем вслед за конями. Следом оставалась глубокая канава. Кони еле перебирали передними ногами и ползли на задних, но при каждом движении съезжали на целую сажень. Вместе с целой лавиной камней они ползли вниз, кружась петлями, чтобы не ускорять движения щебня. Красные халаты стремились к зеленой долине, которая казалась близкой. Иногда сверху протяжно кричали:
— Ка-амень!
Тогда бывшие впереди глядели и давали дорогу обломку, который катился и прыгал по щебню. Ударившись о глыбу, он рассыпался на мелкие камни, и верхние с хохотом гадали: попадет или нет. Потом движение продолжалось до следующего окрика. Кони весело фыркали, мимоходом стараясь сорвать былинку. Чем дальше, тем спуск становился более отлогим, и все прибавляли шагу.
— Бисмилла! Мы хорошо проехали, — сказал Джанмурчи.
Сзади загудела метель, и белая пелена застлала красные утесы. Они исчезли где-то вверху, позади, как будто растаяли в тяжелых снеговых тучах. Ветер усилился и стал непрерывным. Впереди внизу заклубились тучи, закрывая целые хребты гор. Иногда лучи солнца прорывались длинными желтыми полосами и освещали внизу огромные круги местности, как прожектором. Тогда было видно, на какой колоссальной высоте находились всадники, а грандиозный простор еще более увеличивался во все стороны, открывая целые панорамы. Люди были подавлены почти безграничным открывшимся пространством, и даже смех и шутки, вспыхнувшие после избавления от опасности, прекратились сами собой.
Глава IV ПЛЫВУЩИЕ БОЛОТА
Всадники двигались, разъединенные темнотой,
— Хчо-хча-чча! — разрозненные гортанные крики, подбадривающие лошадей, раздавались сзади сверху и впереди снизу. Солнце опустилось. Высоко в небе вверху снег был белый и светлый и все удерживал уходящий день. Впереди открывалась ямой сумрачная котловина. Потом стало темно. По крутому уклону за два часа беглым шагом спустились куда-то вниз.
— Ишь ты, вверху-то! Гляди-шапка свалится!
На перевале разлилось зимнее голубое сияние. Оно исходило от льда. Потом стало понятно, что это был лунный свет. Ледники горели, посылая вниз, во мрак, слабое отражение. Взошла луна. Узкое ущелье, засыпанное сплошными камнями, только в насмешку можно было назвать долиной. Впереди ярко заблестел костер. Кондратий направился к огню. Это были пастухи. На протяжении лета они пасли скот на ледниковых лугах.
Из мрака один за другим выныривали измученные всадники и приближались к костру. Густой белый удушливый дым валил из горевшего кустарника. Потом сразу взметывалось красное трескучее пламя, и серебряная луна на мгновение казалась синей. Кондратий приказал остановиться. Он решил сделать дневку. Расседланные лошади фыркали в темноте. Работавшие пограничники двигались черными тенями. А когда луна поднялась высоко и свет проник в ущелье, костер померк. Стало видно, как при лунном свете тускло блестит медь на седлах. В темноте вспыхнул второй огонь. Там варили барана, и пограничники, толпившиеся вокруг костра, говорили о хлебе, как о лакомстве. Оса сидел и рассматривал карту. Он с наслаждением съел кусок дымящегося горячего мяса и продолжал что-то обдумывать.
— Алы, почему ты отстал? — с упреком спросил Оса.
Джанмурчи выступил вперед.
— Командир, моя голова как будто сделана из дерева. Я виноват: лошадь упала и разбилась.
— Так мы ехали чуть не по ровному месту, — сказал Оса.
— Да, но там был обрыв. Она забилась и упала. Она сломала себе ноги, и я ее зарезал. Пастухи уже пошли за мясом. Я сел на коня Алы, и мы ехали вдвоем, поэтому он отстал.
Оса нахмурился. Джанмурчи продолжал:
— Товарищ командир, ты приказал брать казенные потники, но я взял у чайханщика, и потому лошадь погибла. Это было предательство. Посмотри.
Джанмурчи протянул потник. Оса взял его, развернул и стал глядеть, нагнувшись к огню. Что-то слегка блестело в сером войлоке. Оса провел рукою и засвистел. В потник была закатана очень тонкая проволока. От времени она проколола войлок и стала царапать спину коня.
— Ну, что ж, достанешь лошадь у пастухов, — сказал Оса. — Я заплачу.
— Куда пойдет наш завтрашний путь? — спросил Джанмурчи.
— На Карабель, — сказал Кондратий.
Алы услышал название перевала и, сделав шаг вперед, торопливо заговорил:
— Он говорит, — сказал Джанмурчи, — что там нет дороги, куда ты хочешь ехать. Там болота.
— Я поеду, — твердо сказал Кондратий. — На Кара» беле через три дня будет большая контрабанда.
— Командир, — сказал Джанмурчи, — если мы пойдем вперед, наша спина будет открыта для удара. Эти пастухи контрабандисты. У них кошма белая с черным. Алы видел у них одну лошадь. Он говорил так, что хочет ее купить, и потому хорошо рассмотрел. У нее шрамы от пуль, она была ранена. Эти люди — контрабандисты.
— Будай, — сказал Кондратий, — когда мы поедем вперед, оставь двух позади. — Потом он добавил: — Ну, дела больше никакого нет? Спать!
— Холодная темная ночь затянула ущелье. У погасших костров вповалку лежали изнемогшие люди. Часовой медленно ходил вдали от костра, чтобы огонь не ослеплял глаз, и зорко всматривался в темноту. Потом его молча сменил другой, потом третий. Полное молчание разлилось по ущелью. Даже стадо баранов спало без одного звука. Через несколько часов темнота стала редеть. Отвесные скалы выступили из мрака. Они как будто выплывали и устанавливались одна возле другой, все новые и новые, все более изломанные, громоздились одна на другую.
Рассвело, и все стало обыкновенным. Песчаные безжизненные холмы и желтые утесы окружили тесным кольцом долину. На севере виднелись хмурые хребты с грязным холодным снегом. Над желтой горой поплыло медное облако, и небо стало синим.
Взошло солнце. За ночь иней покрыл все. Красные чапаны стали розовыми, трава серебряной. Иней искрился и сверкал на оранжевых и зеленых лишаях камней.
Торопливо погрузили вареную конину и выступили туда, где высились красные горы глины. Огромного роста красноармеец-киргиз с маленьким тщедушным украинцем не спеша седлали коней. Это были двое, назначенные Будаем для охраны тыла. Они выждали с полчаса и, когда отряд впереди скрылся за холмом, медленно тронули коней. Проехав километра два, они остановили коней за утесом и оглянулись.
— Не спеши, — лениво проговорил великан. — Лучше смотри, чтобы нас кто-нибудь не догнал.
— Юлдаш, гляди: едут! — торопливо проговорил маленький пограничник.
Тише! Пусть приблизятся} Постой! Останься, а я отберу у них винтовки.
— Ишь ты! — сказал маленький пограничник. — Гляди, какой медведь! Прямо тебе под пару.
Последние слова были сказаны тихим шепотом. Через две минуты всадники подъехали к утесу. Юлдаш приблизился к ним вплотную. Огромный встречный киргиз на вороном коне поднял плеть, похожую на дубину, но увидел второго пограничника с винтовкой и остановился.
— Бросай камчу! — закричал Юлдаш.
Второй киргиз был маленький старичок. Юлдаш слез с коня, подошел и обыскал обоих.
— Опия целый мешок, — весело проговорил он. — Айда с нами, командир разберет!
Великан-контрабандист что-то быстро проговорил старичку, тот ему ответил. Юлдаш побледнел и второй раз закричал:
— Брось камчу! Богаченко, ты знаешь, кто это?
Украинец подъехал и в упор прицелился в контрабандиста. Плеть упала на камни.
— Старик ему говорит: «Не трогай», — взволнованно переводил Юлдаш, — а он говорит: «Ударю! Сколько я побил их этой камчой!»
— Так неужто он это самый и есть?
— Джаксалы! — ответил Юлдаш.
Контрабандист услыхал, и лицо его стало бурым. Он рванулся к пограничникам, но Богаченко вскинул винтовку, а Юлдаш подошел и крепко связал руки Джаксалы назад. Оба хорошо понаслышке знали этого богатыря. Оса вообще не верил в его существование, хотя Джанмурчи с клятвой уверял, что Джаксалы убивает человека одним ударом плети по голове. Джаксалы резко свистнул. Оба коня контрабандиста повернули назад во весь мах.
— Не стрелять! — строго сказал Юлдаш. — Наши назад вернутся или контрабандисты догонят и нападут. О-о, шайтан!
Джаксалы расхохотался. Юлдаш на мгновение задумался, потом мрачно проговорил:
— Будешь идти пешком за то, что украл казенный опий!
Он взял конец веревки и сел
в седло. Связанный Джаксалы покорно пошел следом.
— Напрасно ты думаешь, что на нас нападут и тебя освободят, — твердо проговорил Юлдаш. — Я убью тебя прежде, чем это случится.
Они тронулись на подъем. Впереди расстилалось ровное снежное поле. Молчании шагали весь день по снегу. Синие и лиловые тени легли на снег. Впереди красным, расплавленным золотом горел закат, бросая отсветы на бесконечный белый снег.
— Сегодня мы командира не догоним, — сказал Юлдаш.
— День-то какой короткий, как зимой!
Юлдаш остановил коня у проталины и жадно глядел на кустарник.
Богаченко боязливо заговорил:
— Огонь разводить страшно. Далеко видно. Как бы ихние не подошли на огонек в гости. — И неожиданно мечтательно добавил:- Эх, на Украине-то теперь косят!
— Если придут — будем стрелять. Без огня мы умрем. Разожги огонь.
Богаченко повиновался. Связанный старик что-то быстро заговорил.
— Он говорит: руки отморозил. Пусти, говорит, погреться, а то пальцы отвалятся, — перевел Юлдаш.
— Ты, слышь, не дури, не развязывай, ну его к черту, — опасливо сказал Богаченко.
— Ничего, не бойся. Развяжи, — добродушно распорядился Юлдаш.
Он был в кожухе, и поверх еще был надет тулуп. На руках у него были толстые рукавицы.
Тяжелый, неповоротливый, неуклюжий, он стоял у костра, хлопая руками себя по бокам, чтобы согреться.
— Слышь, кум, — сказал Богаченко, обращаясь к Юлдашу. — В прошлом году я в разъезде был, так вот где холод. Сквозь тулуп как дунет-насквозь. В декабре ездили, градусов сорок было. Да чего уж там — хлеб клинком рубили.
Джаксалы и старик подошли к другой стороне костра и дружелюбно ухмылялись. Они расправляли затекшие пальцы, оттирали их снегом, потом уселись на корточки к огню.
— Вот они всегда так, — сказал маленький пограничник. — Непременно садятся.
Он не успел договорить. Джаксалы сбросил чапан и одним прыжком ринулся на Юлдаша. Маленький пограничник нагнулся к винтовке, но старик обхватил его вокруг туловища и прижал руки. Гигант Юлдаш, закутанный в тулуп, сразу свалился в снег. Он не выпустил Джаксалы, и оба, барахтаясь, провалились в сугроб. Юлдаш закричал и с воловьей силой сбросил с себя Джаксалы. Контрабандист выхватил у него из ножен шашку. Пограничник хотел вскинуть винтовку, но контрабандист приблизился вплотную. Тогда, бросив ружье, Юлдаш закрыл голову полой тулупа и обхватил Джаксалы, чтобы не дать ему размахнуться.
— Рубит, рубит! — кричал Юлдаш. Но Богаченко помочь не мог.
Старик судорожно держал его в своих объятиях, и они вертелись в снегу. Несколько ударов клинка упали на плечи Юлдаша и глубоко поранили руку. Схватившись в обнимку, враги затолклись по костру. Пламя задымилось, тулуп затрещал на огне. Юлдаш невольно глянул вниз, и Джаксалы вырвался. Кровавой полосой блеснул кверху клинок, но в момент удара Джаксалы оступился и пошатнулся в снегу. Юлдаш уклонился от слабого размаха и схватил шашку руками. Контрабандист рванул клинок и располосовал руку, но Юлдаш крякнул и, не выпустив клинка, согнул его пополам. Оба бросили шашку и схватились врукопашную. Вдруг пограничник закричал от ярости и боли. Джаксалы начисто откусил ему два пальца левой руки. Снова он его отпустил. Джаксалы выхватил из-за пояса опийный ножичек, и Юлдаш прижал подбородок к груди, чтобы закрыть горло. Ножик разрезал ему всю щеку. В ту же минуту нога Джаксалы попала на камень. Юлдаш навалился всем телом, и снова оба рухнули в снег. Но теперь пограничник был сверху.
— Довольно, отпусти! — хриплым рычанием послышалось из сугроба.
— Нет! — задыхаясь, ответил великан.
Он заливал своей кровью лицо противника и изо всей силы давил локтем на его горло. Джаксалы забился, но через несколько минут остался неподвижным. Юлдаш, шатаясь, подошел к товарищу.
— Наша взяла, кончай! — хрипло сказал он, сбрасывая тулуп.
Маленький пограничник оторвался от старика и схватил винтовку, но контрабандист понял, что значили слова победителя, и упал на колени. Маленький, тщедушный, он совсем провалился в снег. Из ямки было видно только спину. Юлдаш засмеялся. Правда, его смех был похож на рычание, но старик залепетал слова благодарности и поднял руки к небу.
— Скорее, разводи огонь, чтоб тепло было.
Старичок суетливо завозился у огня.
— Сними с него сапоги, а то мои совсем сгорели, — добавил Юлдаш.
Старик снял с Джаксалы сапоги. Богаченко отвязал от клинка индивидуальный пакет и перевязал раны товарищу. Старик, с ужасом косясь на длинный черный труп позади, заговорил, обращаясь к Юлдашу:
— Ты меня не убил, пожалел мою седую голову. За это я покажу тебе одно место недалеко отсюда. Там много опия. На двадцать пять лет хватит для контрабанды.
— А легко туда проехать? — спросил Богаченко.
— Плохая дорога, — отвечал старый контрабандист, кланяясь подобострастно и прижимая руки к груди, как бы извиняясь за дорогу.
Пограничники подобрали винтовки, разостлали потники и улеглись спать, положив старика в середину. Утром Юлдаш проснулся от боли и разбудил остальных. Старик сел на лошадь позади Богаченко, и все трое треснулись рысью. Вскоре снеговая равнина кончилась. Пологий скат, покрытый травой, уходил далеко вниз, докуда видел глаз, и недалеко показалась палатка.
— Наши! Наши! — закричал Юлдаш. — А мы мерзли в снегу!
Через полчаса они доехали до стоянки. Юлдаш подвел старика к Осе и сказал:
— Этот человек контрабандист. С ним был Джаксалы. Я его убил в схватке.
Кондратий заставил подробно рассказать, как все было, и внимательно выслушал донесение. Все столпились вокруг старика. Он что-то рассказывал Джанмурчи. Потом проводник сказал:
— Товарищ командир, надо менять дорогу: недалеко много опия.
— Чей опий? — коротко спросил Оса,
— Байзака, — ответил старик-
Глаза Осы сверкнули.
— Он поедет с нами, — продолжал Джанмурчи, — и поведет нас, хотя там нету дороги, — и проводник протянул руку на север.
Оса посмотрел по карте. Здесь не было никакого подобия дорог. Все место на карте было показано сплошным темно-коричневым пятном.
— Куда я, к черту, полезу на такие горы!
— Он говорит, он проведет нас, только надо ехать сейчас, до полудня.
Оса внимательно поглядел на старика и потом приказал седлать.
«Зачем он спешит? Может быть, есть засада?» — подумал Оса, но, поглядев на жалкую фигуру старика, отбросил всякие подозрения.
— Он говорит, чтобы ты отпустил его домой, — он боится Байзака.
Оса рассмеялся.
— Когда у Байзака не будет ни копейки, он будет смирным, как баран, и другом всех.
Спешно оседлали коней и тронулись на север. После первого небольшого перевала открылись невиданные горы. Сплошная серая и красная глина тянулась кругом пыльными холмами. Во все стороны справа и слева были видны ледники.
— Будай, — сказал Кондратий, — я на эту затею потрачу два дня, но потом мы, конечно, двинемся по маршруту.
Он погнал коня за стариком, не доверяя его никому после истории с Ибраем. Старик сворачивал из одного оврага в другой и все больше торопился. Они ехали по ручьям и подымались к красному глиняному хребту. Несколько раз Алы принимался спорить со стариком.
— Командир, — сказал Алы, обращаясь к Осе, — на-до ехать вправо. Видишь, с правой стороны идет белая вода. Там твердая земля, можно ехать. А оттуда идет красная вода, там глина! Мы все погибнем!
Кондратий не спорил, и отряд- повернул туда, куда показывай Алы. Еще через два часа ручьи зашумели. Вода от ледников покатилась вниз. Каждый ручей вздулся и загрохотал, увлекая с собой огромные камни. Ехать по речке больше было нельзя, но подняться кверху также было почти невозможно. Чуть не отвесным скатом спускалась твердая, как железо, глина. Вода прибывала с каждой минутой, и положение делалось опасным.
— Понесет прямо как по трубе, — раздался чей-то испуганный голос. — Гляди, вода коню по колено!
С отчаянными усилиями горные кони карабкались почти на отвесный склон. Алы недовольно, с сомнением качал головой и тревожно глядел вперед. Наконец отряд выбрался на самый хребет. Ущелье стало глубоким и узким. Внизу грохотал вздувшийся поток, и пограничники, глядя вниз, со страхом переговаривались о предстоящих испытаниях. Впереди показалась темно-красная полоса глины. Глина с гравием, промокшая от тысячелетнего таявшего льда, расстилалась сплошным болотом. Однако иного пути не было. Оса тревожно тронул коня вперед. Когда проехали по снегу шагов двести, вдруг, пробиваясь из-под снега, побежал грязный, красный ручей глины. Снег расползался. Поток глины все увеличивался. Оса погнал коня, и остальные заторопились за ним. Вот он достиг темной глины. Вдруг его конь провалился по уши. Ноги в стременах оказались на земле и подогнулись коленями к подбородку.
— Слезайте, товарищ командир! Конь ноги переломает! — отчаянно закричал сзади Саламатин.
Оса высвободил ноги из стремени и стал на камень. В то же мгновение от тяжести всадников вся масса глины медленно тронулась к пропасти.
— Оплывина! Гей! Га! Скорей! — раздались крики сзади.
Всадники тронули за собой вьючных лошадей. Одни вязли в грязи, но двигались вперед. Другие, провалившись по грудь, бились на одном месте. Еще дальше погрязшие всадники молча ждали своей участи. Вместе со всей массой земли они медленно двигались к пропасти.
И тут Оса увидел, что Джанмурчи был прав, когда говорил, что Алы — не мальчишка. Вместе со своим конем он вырвался вперед, как серна. Конь прыгал с камня на камень, как человек прыгает в ледоход с одной льдины на другую. Обезумевшие кони, увидев спасение, не ожидая приказания всадников, прыжками пошли за ним. Вьючные кони прыгали вслед за седоками. Эта скачка продолжалась несколько минут. На лицах людей и на мордах лошадей был исступленный ужас. Алы забирался все выше и выше и наконец выбрался к твердым утесам и остановился. Всадники один за другим выезжали на твердый грунт, а сзади слышался глухой шум. Глина долго широкой рекой текла в пропасть. Потом раздался грохот обвала, и все затихло.
— Командир, карман Байзака хорошо спрятан, но мы его найдем, — весело сказал Джанмурчи.
«А все-таки старик врет, — думал Кондратий, — но в чем? Можно ли будет отсюда уйти назад? Почему он хотел идти по красному ручью?!»
Кондратий содрогнулся всем телом, вспомнив о том, что он колебался, не зная, следовать совету Алы или нет. На секунду ему представился глубокий овраг, по которому половодьем несло утопающую толпу коней и людей. Потом он вспомнил оплывину и почему-то твердо решил, что старик врет. Безопасный, хотя и крутой спуск открывался перед ними. Выглянувшее солнце далеко осветило окрестность, и Оса с изумлением смотрел вперед. Ярко-желтые утесы и скалы образовали замкнутую долину. Ничего, кроме желтого камня, не было впереди.
— Сегодня мы будем там, — сказал старый контрабандист, показывая рукой вперед.
Через два-три часа они спускались к утесу, и Оса с удивлением увидел маленький домик, стоявший одиноко и незаметно среди этих желтых обрывов и скатов. Они были как декоративные полотна, и солнечные лучи, отражаясь от желтых масс, наполняли всю долину каким* то странным желтым светом так, что каждый невольно, желая отдохнуть, поднимал глаза к синему небу.
Глава V ЖЕЛТЫЙ МРАК
По крутой тропе с винтовками в руках осторожно приближались пограничники, Наконец они достигли домика. Он стоял на вершине утеса и с трех сторон был почти недоступен. Он был сложен из плит желтого известняка. Крыша была сделана из бревен, которые здесь были драгоценными: леса вокруг не было на несколько сот верст. Оса постучал в дверь, но никто не отозвался.
— Тюра, — сказал старый контрабандист, — не ищи здесь никого. Пойдем, я покажу тебе то, что ты ищешь.
Старик отвел Кондратия в сторону. Недалеко в земле была тяжелая дверь, обитая железом. По-видимому, здесь был погреб.
— Опийная контора Байзака, — сказал он.
Старик еще не договорил, а пограничники уже сбили
замок.
Оса и несколько человек спустились в подвал. Большая душная комната от пола до потолка была завалена бурдюками с твердым опием. Дурман сразу ударил в голову.
— Очумеешь! Хуже, чем в кабаке! — подмигнув, с радостным изумлением сказал Саламатин.
Кондратий осмотрел склад и приказал подсчитать Опий. Потом он вошел в дом. За ним ввалилась половина Отряда. Оса решил дать отдых людям и коням.
Подошел Саламатин и, плутовски улыбаясь, жалобно проговорил:
— Чаю-то две недели не пили. Только сухари со снегом жрали! Жисть проклятая!
— Ладно, ладно, валяй! — коротко разрешил Кондратий.
Два топора дружно застучали по крыше, и пила стала визгливо пилить бревна. Оса прогуливался около дома. Тонкие плиты песчаника ломались и звенели, как ледок под ногами. Кругом шла радостная суета. Разводили костер, чистили оружие, зашивали дырки, натягивали брезент на дом вместо разрушенной крыши. Кондратий отошел в сторону и сел на камень. Задумчиво, усталым взглядом он окинул местность вокруг. Желтые утесы от брасывали солнечные лучи. Внизу в котловине желтый сумрак тоскливо застилал чахлую траву. Красными отеками сбегали полосы глины. Мокрые от растаявшего снега скалы блестели, как будто сплошь были покрыты серебряными одуванчиками. Старик контрабандист подошел и тихо сел рядом. Суровый и жесткий, с запавшими тусклыми глазами и непроницаемым лицом, он долго сидел как изваяние и о чем-то думал.
— Почему здесь никого нет? — спросил Кондратий.
— Байзак выбрал такое место, куда ни пройти, ни проехать!
Оса кивнул головой и пошел к дому, а старик, покорно сложив руки на груди, поплелся за ним. Алы и Джанмурчи шли навстречу Осе и кланялись. Потом Джанмурчи приблизился, а юноша остался стоять на месте.
— Он зовет вас к себе в гости, — сказал Джанмурчи. — Он говорит: теперь лошадей много надо, чтобы отвезти опий. У Джантая есть. Он говорит: который Марианну украл, всех поймаем. Теперь Джантай близко. Папа; там ему есть, мамушка есть, домой хочет он, говорит.
В торжественных случаях Джанмурчи любил прибегать к русскому языку.
— Ну тебя к черту, говорит, говорит, — передразнил Оса и, подозвав Алы, положил ему руку на плечо.
— Алы, я поеду к тебе в гости через три дня. Я хочу, чтобы все отдохнули. Мне нужно триста лошадей, чтобы взять отсюда весь опий.
— У Джантая табун в две тысячи, — просто и любезно сказал Алы.
Кондратий поблагодарил его и вошел в дом. Саламатин подал кружку горячего чая и горсть ландрина.
— Живем! — захохотали вокруг.
Оса прислушался. В углу кто-то монотонно рассказывал:
— Ну, вот, значит, это самое и есть гостиница мертвецов.
— О чем бы там говорите? — спросил Оса, прихлебывая чай и поудобнее усаживаясь на седло, лежавшее на полу.
— Да вот тут недалеко место. Старик рассказывает, много контрабандистов пропало.
— А ну, зови его сюда, — сказал Кондратий.
Старик подобрал полы чапана, перешагивая через протянутые на полу ноги, подошел и сел рядом. Саламатин дал ему консервную банку, наполненную чаем. Старик, медленно прихлебывая, стал говорить.
— Тут, за горой, сразу перевал Кизил-Су.
— А, так он тут, — сказал Кондратий и взял карту.
— Что ты врешь? — перебил он, — Здесь ровное место.
— Йэ? — удивился старик, забыв про чай. — Кизил» Су Здесь.
— Товарищ командир, — заговорил кто-то из темного угла. — Еще в прошлом году покровские мужики сказывали, что тут много народу пропало. Зимой воздуха нету. Высоко очень. Если с лошади сошел — и конец, даже силы нету на коня сесть. Трещины во льду очень глубокие. Там и кони, и люди, и опий. Всего много.
— Что же ты думаешь, я полезу вытаскивать?. — сказал Оса.
— А вот мы в разъезде были, — заговорил кто-то, — так по юртам нам сказывали: шла, понимаешь, целая семья. И стали на Кизил-Су замерзать. Сели в круг. А поодаль трое легли, а старик поперек сверху лег, чтобы согреть. Буран был, отлежаться думали. Так всех и за» несло. Весной, как растаяло, ездили их убирать. Сидят, понимаешь, мертвые кругом льда, все равно, как за столом.
На минуту наступило молчание.
— А помнишь, мы видели…
— Ну да, — отозвался сосед, перекладывая ногу. — Мы едем, а они идут.
— Пешком? — спросил кто-то.
— Пешком. Двое босиком там по снегу и жарят. Летом-то снег на горах не такой холодный.
— Да, сам бы попробовал!
— Ну где же! Без привычки разве вытерпишь? Ну, идут. Двух ишаков гонят, а на ишаках вещи. А наверху, как в люльке, на спине лежит ребенок грудной, привязанный. А рядом пешком мать идет. Мы их доставили. Ну, там им документы проверили. А голь какая перекатная. Одни тряпочки.
— Ты вот что скажи: как они По речкам с ишаками не потопли?
— Черт их знает. Тут и конем не переедешь, а они б ишаком прут.
— Место, значит, выбирают.
— Да, выбирают, а которые потопли, ты про их знаешь?
— Да тут если бы дороги хорошие, совсем бы другое дело. И манапы бы не расправлялись так с пастухами. А то едешь — конца краю нет. Пока до него, до манапа, доберешься — он чего хочешь сделает.
— А то во еще: помню, мы ездили зимой. Так куда. Градусов сорок мороза, никакого терпения нет. В снегу целую неделю зубами лязгали.
— А мы в позапрошлое лето ездили, и так хорошо вышло. На дороге всяких костей было до черта. Так мы с навозом клали, костер разводили. Ничего, горит.
— Ты расскажи лучше, отчего ты вчера на подъеме кричал.
— Закричишь: конь вперед, а вьючная — назад. Думал, пополам разорвут.
— А кричал-то чего?
— На коня и кричал.
— Скажи лучше, испугался.
— Ну, и испугался! А ты никогда не пугаешься?
— Он перед бараниной первый храбрец!
Раздался общий хохот.
Спустились сумерки. Спешить было некуда. Пограничники добродушно зубоскалили. Снаружи грянул выстрел, и сразу оборвался смех. Все бросились к винтовкам и затолпились у выхода. По долине часто загрохотали выстрелы. Выбежав из дома толпой, красноармейцы, как горох, рассыпались за камнями. Внизу по ложбине ехали человек триста вооруженных всадников.
— Кто первый стрелять стал, черт вас возьми?! Обнаружили! Врасплох надо было! — закричал Оса.
— Старик тут, что Юлдаш поймал, кинулся до их бежать. Я его и ударил. Ну, они и засыпали, — объясни! Кондратию пограничник, сидевший за соседним камнем.
— Вот и выходит, что старый дьявол надо мною посмеялся, спокойно повествовал другой невидимый в темноте. — Он же мне вчера сказал: когда ястреб в барана вцепится, всегда, говорит, пропадает. Потому, силы у него нет. Это, значит, он про нас. Дескать, куда вам столько опия. Невмоготу вам взять. Это он на них надеялся. Ну, куда ж! Тут сила! — спокойно с уважением закончил он, выглядывая из-за обломков вниз.
— Так чего же ты командиру не сказал, растяпа?
— Что ж, я так и буду с каждым словом лезть? — спокойно отвечал пограничник.
Кондратий быстро перебежал в дом и приказал достать из вьюка пулемет. В то же время он с тревогой смотрел вниз. Контрабандисты захватили почти всех казенных лошадей, которые паслись на траве. Пулемет настойчиво забил по долине, и вся орава подалась назад.
— Кондратий, ударь за ними, — спокойно сказал Будай. — У тебя ведь еще остались лошади. — И он показал на шестерых коней, которые были около дома.
— Нельзя.
— Почему?
— Может быть, это еще не все. Сверху спустятся. Ведь они будут стараться занять дом, чтобы вернуть или поджечь опий.
Как бы в подтверждение его слов, откуда-то сверху протяжно и звонко пропела пуля и ударилась в камень. Потом другая, третья.
— Эх, скверно, сверху побьют всех за камнями, — сказал Кондратий. — Будай, оставайся тут, а я полезу.
Он позвал несколько человек. Они сбежали вниз, потом стали подниматься в гору, перебегая от камня к камню. Это было трудное дело. Их обстреливали сверху и снизу, но пока все обходилось благополучно. Будай приказал оставшихся коней ввести в дом, и они там были в безопасности. Наконец пулемет втащили на вершину горы. Звонко подряд забили выстрелы. И было видно, что контрабандисты перебегают вниз. Потом быстро стало темнеть. Оса вернулся и собрал людей в дом. Коней вывели. Огня не зажигали. Изредка в долине или вверху бахал выстрел, и пуля, ударившись о камень, заунывно пела в темноте.
— Теперь не опасно. Сверху не обстреливают, все равно ничего не видно, — сказал Оса.
Он сидел и думал. Тихий говор слышался со всех сторон. — Да, вот тебе и отдохнули! Уж чего говорить, дневка!
— Он, этот старик, если бы увел на красную глину, всех бы перетопил.
— А теперь он где?
— Да там валяется.
Потом все стали разговаривать о посторонних вещах. Всем было понятно, что позднее, ночью, придется идти в наступление, но никто не хотел думать об опасности.
— Вот у меня письма: все жалел, не хотел курить, а теперь и покурил бы — и не жалко, да нельзя.
Оса гладил бархатный нос своего скакуна. Саламатин жевал что-то в темноте и божился, что если он не поест до утра, то подохнет с голоду. Шутки и смех не прекращались. Потом Джанмурчи что-то тихо сказал в темноте. Оса с удивлением услышал мелодичный звон струн. Все голоса стихли. Снова Джанмурчи что-то забормотал. Оса вгляделся. Он видел, что проводник кладет земные поклоны.
— Джанмурчи, — сказал Оса, — что ты делаешь?
Киргиз не отзывался. Кто-то гыгыкнул, потом снова стало тихо. Только струны рокотали все сильнее. Джанмурчи окончил молитву, подошел и тихо сказал:
— Сегодня аллах дал нам плохую дорогу. Скоро мы пойдем в бой.
— А как ты думаешь, — спросил Оса, — я буду радеть тут, пока всех пограничников перестреляют?
Джанмурчи молчал. Оса спросил:
— Это кто играет — Алы?
— Да, командир, — отвечал проводник. — Это ста» рая песня Давно арыки ходили в бой. Это их песня. Ее пели на войне.
Он почему-то вздохнул и умолк. Звуки струн делались все настойчивее и звонче. Потом вдруг полилась свободная песня. Это пел Алы. Отрывистые аккорды жильных струн забили как глухие удары боевых бубнов. Песня зазвучала призывом. Гром копыт проходящей конницы слышался в ней. Звонкий металлический голос пел и звал на запад, туда, где синее небо висело над снежным перевалом. Песня лилась, ока как будто развертывала и делалась все полнее.
На мягких вьюках
На спинах длинногривых хоней
Спеленуты будущие воины.
В конном беге качаются бунчуки,
На них гремят серебряные монеты.
Наши кони бегут туда,
Где опускается солнце.
Голос умолк. Струны зарокотали грозный и буйный танец победы. С этой песней когда-то всадники неслись вихрем на неприятельский строй. На секунду струны замолкли и снова настойчиво и монотонно забили, как будто звали к конному бою. Потом раздалось несколько быстрых аккордов и музыка оборвалась. Слушатели были возбуждены. Оса заговорил. Он старался приказывать тихо и деловито, не желая поддаваться впечатлению музыки, но сам не мог овладеть своим голосом.
— По коням! — приказал он.
Пять человек подошли к лошадям, кроме него. Вдруг Оса услышал брань. Алы ругал Джанмурчи, и слышно было, как несколько раз подряд ударил его плетью.
— Что такое? — спросил Оса, останавливая коня. — Что он тебе сказал.
— Так, он говорит разные неинтересные слова, — отвечал по-русски проводник.
Потом, помолчав, продолжал на своем языке:
— Я хотел ехать вперед, чтобы арык был жив, но он меня крепко побил камчой.
Джанмурчи не договорил и опасливо осадил коня. Алы проехал вперед и стал рядом с Кондратием. Медленным шагом тронулись кони вниз по крутой тропе, беззвучно ступая обмотанными копытами. Сзади бесшумно шли пешие и несли пулемет. На середине спуска тропа стала шире, и стали слышны топот внизу и глухая отрывистая речь. Оса ударил шпорами коня и понесся сломя голову во весь опор вниз по камням.
— Галл-а-ла, — закричали наперебой внизу, и град выстрелов посыпался на тропу.
— Га-а! Рубай!
Пограничники оттеснили толпу и дали место пулеметчику. Огненным кнутом захлестал пулемет. Сразу стало просторно. Цепь рассыпалась. Рассеянные выстрелы винтовок засверкали в темноте, Через несколько минут пограничники дорвались до своих коней.
— Уходят, уходят, уйдут за перевал! — раздались крики, полные отчаяния.
Тридцать всадников в темноте гнались, не видя земли под ногами. Разрозненный залп двухсот винтовок громыхнул им навстречу.
— По верху пошло, рубай! — яростным воплем раздалось в ответ.
Настигнутые контрабандисты приняли бой. Глухие удары, выстрелы в упор, топот коней, дикие выкрики и вопли раненых несколько секунд наполняли темноту. Потом стало тихо. Раздались выкрики:
— Пощады!
Кого-то вязали, кто-то еще пытался сопротивляться, и иногда в темноте слышалось проклятие и потом удар или выстрел, за которым следовал звук падения тела или стон. Потом окончательно все стихло. Люди галдели, бранились, стонали. Но после грохота выстрелов казалось, что они говорят вполголоса, Разожгли костер. Выслали караул для охраны опия и подсчитали потери. Трое были ранены и двое убиты. При дымном свете костра, сложенного из остатков крыши, поблескивал пулемет. Ловила брошенных коней, ломали о камни винтовки задержанных, а у самого костра, где сидел Алы, как боевые бубны, били аккорды струн, и еще долго, пока не взошла луна, лилась свободная песня, и опять грозный, мерный топот конницы слышался в неукротимом напеве:
Наши кони как ветер!
Если золото обременяет твоего коня,
Сожги его!
Пусть душа твоя будет свободна!

Книга третья
БРОДЯЧИЕ ЖЕНИХИ
Глава I ХАН ЧЕРНЫХ УТЕСОВ
Впереди толпой ехали задержанные. За ними двигались пограничники. Позади всех ехал Саламатин. На длинной веревке была привязана вьючная лошадь. По бокам у нее мотались два длинных серых тюка. Они качали из стороны в сторону тощую лошаденку, Это были трупы погибших красноармейцев. Оса не хотел хоронить их в этой долине. Зеленые мухи, которые обычно не бывают на этой высоте, звенели роем. Иногда сзади дул легкий ветерок. Лошаденка храпела под своим страшным грузом и мотала головой. Легкий тошнотворный трупный запах пробивался из серых тюков.
Саламатин вспомнил о письмах, которые были в карманах мертвецов. Письма с Украины не давали ему по» коя. Он не имел своей семьи и никогда не получал писем. Теперь ему почему-то казалось, что он везет страшный подарок в дом людей, которых он хорошо знал.
Обычно все старые пограничники читали свои письма Саламатину, и он до того к этому привык, что, если не писали подолгу, беспокоился. В душе Саламатина письма товарищей создали целый особый мир. Он представлял себе Украину в виде белых мазанок под соломенной крышей, утопающих в вишневых садах, и добродушных украинцев с широкополыми соломенными брылями на головах.
За невысоким перевалом открывалась глубокая долина. Туман клубился, пронизанный золотыми лучами солнца. Саламатин закурил, чтобы перебить трупный смрад.
Незаметно для себя он отстал. Никого близко не было. Горе взяло его за горло, и, не заметив сам, он запел на слова с одного романса:
А у нас на Сыртах
Мужа вашего нет:
Под горой чьи-то кости белеют..?
Потом он почувствовал на глазах слезы.
— Н-но, проклятая! — закричал он на лошадь, оборвав песню, и погнал вперед.
Тюки снова замотались, качаясь вверх и вниз, и мухи зазвенели. Впереди вдруг остановились, и Саламатин сразу нагнал своих. Здесь земля была мягкая; можно было выкопать глубокую могилу, и Кондратий приказал остановиться. С недовольным и хмурым видом он курил, рассматривая карту, и советовался с Будаем.
— Ведь их двести восемьдесят человек. Куда мне, к черту, их девать? Они в один день сожрут все консервы.
— Можно резать их лошадей и кормить кониной, — сказал Будай.
— Нельзя, — отвечал Оса, — я их видел. Их сейчас перестреляют. У них сап. Ты ведь знаешь.
Оба умолкли. Около утесов загремели выстрелы, Саламатин исполнял обязанности ветеринара. Вдруг, раздвигая толпу всадников, приблизились Джанмурчи и Алы. С ними был какой-то незнакомый человек в темных очках. Предстояли похороны убитых, и потому юноша старался быть сдержанным и строгим, но улыбка и радость сияли на его оливковом круглом лице.
— В чем дело? — спросил Оса, нахмурив брови.
— Он говорит, что это его дядя, — сказал Джанмурчи, показывая на человека в очках. — От Джантая приехал. По юртам пошел слух, что вы едете. Джантай навстречу едет, а его вперед послал.
Оса оглядел новоприбывшего. Он хорошо знал цену черным очкам. Джанмурчи, угадывая его мысль, сказал вслух:
— У него от снега глаза болят. Прямо по горам пять суток ехал, двух коней загнал.
Он что-то сказал гостю. Тот снял очки, угодливо задрал загорелое острое лицо и залился отвратительным воркующим смехом. Большой кадык двигался на его хулой шее. Он жмурил гноящиеся белым гноем глаза и все продолжал смеяться.
— Чего он смеется? — спросил Оса.
— Очень рад, что тебя увидел, — отвечал Джанмурчи и, повернувшись в седле, добавил Кондратию на ухо: — Это слуга Джантая. Не подавай ему руки. Он человек без сердца.
— А рожа-то какая, тьфу! — откровенно сказал Оса и, повернувшись с конем, поехал к могиле.
— Э, да это Кучь-Качь — Черный баклан, — сказал кто-то из пограничников, и все. заговорили наперебой, обступив гостя.
— Ну да, в прошлом году из тюрьмы убежал.
Он у Джантая палач, — прибавил кто-то.
Но поднявшийся говор оборвала команда:
— Слеза-ай!
Пограничники бросили повода коноводам и пошли отдать последний долг товарищам. Алы отвел в сторону джигита Джантая.
Кучь-Качь, — сказал он, — где отец?
— В половине дня пути отсюда. Он пришел со всеми юртами. Уже два месяца он идет навстречу командиру.
— Поезжай, скажи, что мы идем, — сказал Алы. — Если, будет плохое мясо, мало кумысу или плохие юрты для наших гостей, позор падет на наш род. Если ты не успеешь или забудешь, знаешь, что Джантай
сделает с тобой?
Кучь-Качь не стал слушать дальше. Он приложил руку к сердцу, прыгнул в седло и как тень исчез за утесом.
Над свежей могилой прогремели традиционные залпы. Раздалась торопливая команда, и. не оглядываясь, полным ходом, с задержанными впереди, пограничники тронулись в галоп.
— Н-но, проклятая, легко идешь?! — закричал Саламатин, волоча в поводу свободную лошадь.
Желтая пыль глины клубилась под ногами всадников. начавшийся ветер стлал ее к земле, и далеко позади она подымалась, и расплывалась в облако. При каждом ударе копыта земля от ветра как будто дымилась желтым дымом. Неожиданно открылся обрыв. Внизу бы-эта река. Крутыми зигзагами всадники стали спускаться по откосу.
— Затанцювал, — недовольно сказал кто-то, сдерживая бившегося коня.
— А ты сыграй ему на губах, — насмешливо сказал снизу другой всадник, поднимая голову вверх.
Первый висел у него над головой и ежеминутно мог сорваться.
— Та я ж не пьяный, — недовольно отвечал верхний.
Бурная река грохотала, сбивая пену у прибрежных камней. Всадники торопливо спустились к воде. Несколько человек бросились в реку. Их понесло и завертело.
— Та я ж боюсь, — дурашливо сказал молодой пограничник, направляя коня прямо в воду за остальными,
— А вот я тебя зачепу арканом за шею, шоб вода в горло не лилась, — ответил сосед.
Людей вместе с конями несло и окунало в ледяной воде. Однако через несколько минут всадники один за другим выбрались на берег. Вода текла с них на камни.
— Я смотрю, а волна накрыла — сладко. Ну, думаю, пропал сахар, промыло, а теперь, смотрю — ничего в кобурах нет.
— Вот тебе и сберег, а у меня дочиста табак вымыло.
Болтовня, смех и шутки не прекращались. Хмуро и сосредоточенно переправлялись задержанные. Кондратий с Будаем проехали вперед. Из-за скалы показались двое всадников.
— Джантай! — коротко сказал Алы и почтительно направил коня позади Осы.
Всадники впереди спешились. Оса остановил отряд, приказал слезть с коней и пошел пешком. Алы шел позади, не смея опередить гостя.
Маленький старик с желтым лицом в огромной черной шапке шел навстречу, ступая неуверенно и тяжело, как ходят люди, всю жизнь проведшие в седле. Он подошел, протянул руку Осе и, обняв его крепко, поцеловал в обе щеки. Потом они долго трясли друг другу руки. Оса с любопытством смотрел на знаменитого разбойника.
Тридцать пять лет Джантай занимал целую местность Кой-Кап и грабил купцов. В свое время он разгромил сотню казаков. Три года назад Будай пять суток уходил с боем от него, потеряв половину людей. Теперь этот человек пожелал вступить в переговоры и с изумлением увидел, что Оса не похож на пристава.
Джантай гладил его по руке своей высохшей, как старая ящерица, рукой. Огромные скулы казались еще больше от мохнатой шапки. Глубоко запавшие щеки и пронзительные молодые глаза делали его лицо жестким. Жесткая белая борода висела длинными клочьями. Глубокие морщинистые складки шли кругом по всему лицу. Оса оглянулся. Алы стоял позади него как подчиненный, почтительно склонив голову. Это странное проявление верности тронуло Осу. Он выпустил руку Джантая и сказал по-киргизски:
— Вот твой юноша!
Джантай благодарно улыбнулся и. пошел дальше. Медленно и с достоинством он подходил к каждому пограничнику и пожимал руку. Позади него неотступно шел второй старик. У него были воспаленные красные глаза, лишенные ресниц. Он непрерывно моргал голыми зенками.
— Это его советник, — тихо сказал Джанмурчи.
Наконец Джантай обошел всех и вернулся к Кондратию. Он кивнул головой на задержанных и спросил:
Командир, что это за люди?
— Эта контрабандисты, — ответил Оса.
Джантай засмеялся так жестоко, что Кондратию сделалось холодно.
— Уже давно идет по горам слух, что ты едешь, — медленно заговорил он скрипучим голосом. — Когда идет слух, никто не может перегнать его. Ни сокол в небе, ни Конь на земле. О, как ты быстро ехал! Наши уши еле успевали слышать топот копыт твоих коней. Но, чтобы ты ехал медленно, один большой манап послал вот этих людей. Это не контрабандисты, здесь десять человек контрабандистов. Я знаю их всех. Остальные пастухи. Манап послал их, чтобы остановить бег твоих коней, чтобы ты кормил пастухов, охранял их и двигался медленно. Все юрты вперед ушли. Манап приказал им уйти, чтобы ты сам кормил эту саранчу.
Оса был ошеломлен и молчал. Джантай подъехал к пленным и громко прокричал несколько имен, В толпе раздались проклятия и вопли, и несколько человек выступили вперед, подталкиваемые остальными.
— Вот контрабандисты, — сказал Джантай, показывая на кучку людей сухим желтым пальцем, похожим на орлиный коготь. И потом добавил:»- Они были как начальники у этих пастухов.
— Взять их! — приказал бледный, взбешенный Оса. — Пастухов отпустить!..
— Кум, гостей-то проводить надо, — сказал Саламатин Юлдашу.
С криками и хохотом толпа запуганных манапом бедняков бросилась врассыпную. Некоторые поскакали в гору, остальные кинулись с конями в воду и поплыли назад через реку. Джантай смеялся.
— Не бойся, — сказал он, взяв Осу за руку, — они не умрут с голоду. За каждой горой идет юрта, чтобы помочь им, когда будет надо.
Оса не мог отделаться от мысли, что он выгоняет людей в пустыню на голодную смерть. Но беглецы, переплыв реку, скакали по берегу, хохотали и размахивали руками. Из-за холма на той стороне реки показались новые конные, которые везли юрту. Оса увидел, что Джантай был прав, и с благодарностью пожал его сухую руку. Потом он сел на коня, и пограничники тронулись вперед. Как только въехали на холм, у всех вырвался, единодушный крик.
Белые, нарядные юрты стояли в котловине. Стадо баранов, рассыпанное по лугу, паслось, оглашая воздух блеянием. Запах дыма, подымавшегося из юрт, показался вкусным голодным, усталым людям. Целая толпа вооруженных всадников ожидала гостей.
В стороне одним кричащим пятном пестрела толпа женщин в красных, зеленых, желтых одеждах с огромными белыми тюрбанами на головах.
Когда Оса переезжал по дороге через маленький ручей, Джантай сбоку почтительно держался за его руку. Он хотел этим показать, что без помощи Осы он не в состоянии переправиться даже через этот ручей. Оса понял любезность, и у него появилась надежда, что переговоры приведут к миру. Джигиты, женщины и дети брали в повод коней, а пограничников отводили к свободным юртам. Оса, ухмыляясь, быстро отбрасывал пологи и заглядывал внутрь, желая знать, как расположились товарищи.
Он увидел, что все юрты были сплошь застланы коврами, шелковыми одеялами, поверх которых были разбросаны цветные шелковые подушки. Кондратий поблагодарил Алы и пошел вслед за Джантаем.
Старик повел его и Будая к самой большой юрте. Здесь вокруг очага лежали одеяла — несколько десятков, одно на другом. По всему внутреннему деревянному переплету юрты, который поддерживал войлок, были развешаны яркие шелковые ткани. У входа сидел пастух с целым мехом кумыса. Он налил большую чашку и с поклоном передал Алы. Когда пограничники вошли и разлеглись на одеялах, юноша, улыбаясь, подал чашку Осе, а потом вторую отцу.
Джантай скромно на корточках сидел у входа. Алы Подавал кумыс и улыбался. Сам он не решался ни пить, Ни есть, ни сидеть в присутствии старших.
В юрту вошла маленькая сморщенная старушка с белым тюрбаном на голове величиной с подушку. Она, была похожа на индианку. Желтое лицо с орлиным носом и резкими морщинами напоминало лицо Джантая. Целая связка ключей, показывавшая, что она старшая жена, звенела у нее сзади на косах. Будай и Кондратий поднялись с мест. Старушка робко подошла, всхлипнула и обняла Алы. Потом поклонилась гостям и скрылась из юрты.
Пограничники наслаждались отдыхом и тянули кумыс.
Соблюдая приличия, Джантай заговорил о дорогах. Это единственно важное дело, о котором говорят солидные люди. Оса отвечал подробно. Джантай сочувствовал. Потом старик хлопнул в ладоши. В юрту внесли несколько деревянных блюд с вареным мясом и печеньем, пропитанным сливочным маслом.
Малыш трех лет босиком, в маленьком кожухе, надетом на голое тело, с ревом вбежал в юрту и бросился на колени к Джантаю. За ним вбежала девочка, одетая
в яркое платье. Дети кричали, возились. Потом свернулись, как котята, и, положив головы на колени старика, уснули. Джантай задумчиво улыбался.
— Это дети моих джигитов. Вот я теперь совсем старый, как нянька. Мои глаза видят далеко, а близко ничего не видят. Ноги и руки слабые. Старый орел не может летать далеко. Со мною ушли в горы двадцать юрт. Много детей родилось за это время. Я хочу, чтобы они жили спокойно. Я пойду в долину на пшеницу.
— Он говорит: хочет земледелие занимайса, — подсказал Джанмурчи.
До сих пор он не проронил ни слова, но теперь слегка опьянел от кумыса, и у него явилось тщеславное желание блеснуть знанием русского языка.
Не обратив на него внимания, Оса сказал, обращаясь к Джантаю:
— Я могу дать тебе разрешение, Ты поедешь и будешь жить спокойно.
— Отец мой, командир говорит правду, — сказал Алы. Джантай продолжал:
— Пей кумыс, хорошо спи. Потом будем разговаривать.
Он вышел из юрты. Алы и Джанмурчи последовали за ним. Юноша сел снаружи около юрты. Этого требовал обычай. Проснувшись, почетный гость мог сразу, позвать хозяина. Оса пробормотал что-то Будаю, растянулся, обняв свой карабин, и заснул как убитый. Будай не мог спать. На походе по ночам он то беседовал с часовыми, то просто молчал по целым часам, глядя в костер. Когда никого не было кругом, он курил опий. Все знали о его горе, и потому никто не обращался к нему с вопросами и не заговаривал. Будай ехал как будто сам по себе. Теперь, оставшись один, он тороплива достал из кармана опий и закурил. Алы услышал запах опия, но даже не шелохнулся. Джантай подошел и сел на корточки около сына. Он хотел поболтать с ним, но услышал знакомый запах, строго посмотрел на юношу и сказал:
— Нехорошо тревожить достойного человека, если он делает что-нибудь тайное.
— Я не смотрел туда, отец мой, — ответил Алы;
После этого они долго тихо разговаривали о чем-то.
Вдруг полог юрты поднялся, и Кондратий шагнул наружу.
— Ты чего тут сидишь? — обратился он к Алы.
Джантай и Алы, видя, что теперь они не помешают, вошли в юрту. Будай неподвижно сидел у огня. Перед этим он раздувал угли, и теперь по всей юрте летела зола. Его седая голова стала совсем белой. Джантай с сочувствием посмотрел на него.
— Джантай, — сказал Оса, — я нашел много опия, мне нужно триста лошадей.
— Лошади есть, я перевезу тебе весь опий, только ты пошли своих людей, чтобы его охраняли.
— Я сейчас вышлю караул.
— Пусть мои гости отдыхают, — возразил Джантай.
Дай двух человек, и этого будет довольно. Я пошлю своих джигитов, чтобы они берегли опий.
Оса прижал руку к сердцу. Джантай повернулся к Будаю:
— Не кури опий, пусть утешится твоя душа, мы найдем твою жену.
Будай протрезвел и вскочил на ноги.
— Ты знаешь, где она?
— Я поймал одного шакала. Кто знает, когда шакал говорит правду. Но я думаю, мы ее найдем. Гей! — закричал он и хлопнул в ладоши.
Два рослых джигита ввели связанного человека. Это был Золотой Рот. Исцарапанный, покрытый синяками, он нагло улыбнулся, но, взглянув в лицо Джантая, тоскливо Огляделся и сразу присмирел.
Глава II ПОИСКИ МАРИАНЫ
Командир, — проговорил Джантай, разглаживая жесткие, как проволока, усы. — Он ходит позади каждой большой контрабанды и собирает лошадей. Он знает Много.
Лицо Кондратия заострилось и стало твердым. Молчание в юрте длилось несколько минут. Оно было хуже самых диких угроз. Оса о чем-то думал и невидящим взглядом уперся в лицо шакала. Медленная улыбка Кондратия отразилась, как в кривом зеркале, на лице пленника. Оно исказилось и побледнело. А глаза расширились, сделавшись почти бессмысленными от ужаса.
— Ну, что же, будем торговаться? — медленно и зловеще спросил Оса.
— Эту женщину украл Шавдах, человек Байзака! — сразу же выпалил Золотой Рот.
Он совершенно не желал торговаться с Осой, который так перебирал пальцами, как будто отсчитывал пули для Головы бедного шакала.
— Где он теперь? — спросил Кондратий, не обрадовавшись и не удивившись.
— Не знаю, — ответил Золотой Рот.
Это была ложь. Он был уверен, что Марианна в Китае. Шавдах сам говорил ему в чайхане, что отвезет ее туда и она будет заложницей. Но Золотой Рот боялся. Он ясно видел, что его заставят искать Марианну. Наживать таких врагов, как Шавдах и Байзак, ой не хотел. Однако от Осы не легко было избавиться. Золотой Рот сидел и улыбался, но в первый раз в жизни почувствовал, что попал в руки людей, от которых улизнуть не сумеет.
— Командир, — сказал Джантай, — Алы — человек молодой, ему нужна жена, пускай он поедет по юртам. Заодно должен найти Мариам. Пусть вместе с ним поедет шакал.
Кондратий улыбнулся, юноша встал с места и, покраснев, прижал руку к сердцу. Будай, молчавший до сих пор, вмешался в разговор:
— Кондратий, ты можешь это сделать, пока будут перевозить опий. Все равно, твое место тут, иначе его разграбят.
— Я хочу послать с ними хоть одного красноармейца. Он ведь не помешает.
— Нет, это будет хорошо, — отвечал старый разбойник.
— Развяжите этого плута, — сказал Кондратий и крикнул: — Саламатин!
— Я! — заорал рядом за легким войлоком во все горло озорной голос. Вслед за тем лукавое, ухмыляющееся лицо заглянуло в юрту.
— Вот поедешь с ними, — сказал Кондратий. — Понял?
— Понял больше половины, хоть отбавляй, — озадаченно и серьезно ответил Саламатин, слышавший весь разговор сквозь тонкую стену юрты.
— Ну, чего ты смотришь? — спросил Кондратий. Саламатин нерешительно переминался.
— А если он тикать будет? — спросил завхоз, поглядывая на шакала.
— Стреляй в него, и все! — подмигнув, сказал Кондратий, и лицо шакала сделалось серым.
Джантай засмеялся скрипучим смехом.
«Ну, значит, стреляй, не стреляй, а по шее накласть можно!» — решил про себя Саламатин.
— Собирайся в дорогу, — сказал Джантай, и Али быстро вышел из юрты.
Вошел Джанмурчи и сел рядом.
— У Джантая жена очень добрая, мамушка Алы, — сказал он. — Мне давала ленты, зеркала, пуговицы, много товару. Я буду подарки делать и везде спрашивать про Мариам.
Кондратий вышел из юрты проводить товарищей.
Путники тронулись по цветущим пастбищам. Через несколько часов показались юрты. Путешественники медленно приблизились. Несколько мужчин нехотя вышли им навстречу и, не здороваясь, остановились.
— Вы что, дьяволы, злые какие? — с недоумением проговорил Саламатин.
Джанмурчи слез с коня и молча вошел в юрту. Все остальные последовали за ним. Негостеприимные хозяева без всяких приветствий молча вошли и сели на корточки, оглядывая исподлобья гостей. Это было тяжкое
Оскорбление и полное нарушение законов гостеприимства. Гости сидели и молчали.
Один из хозяев, как бы желая объяснить причину такого приема, сказал:
— А вы много опия у Байзака, украли?
— Много, — спокойно ответил Джанмурчи.
Больше никто не проронил ни Слова. Джанмурчи вышел из юрты. Недалеко стоял огромный казан, и в нем была туша. В котле было слишком много крови, и опытный киргиз сразу увидел, что для них готовят дохлого барана. Он вошел спокойно в юрту и сел на свое место. Хозяева, как бы исполняя тяжелую обязанность, постелили на земле скатерть и внесли несколько блюд с вареным мясом.
— Спасибо, — сказал Джанмурчи и пошел к выходу.
Остальные встали и вышли за ним. Не оглядываясь, они тронулись прочь. Позади раздались крики. Несколько мужчин просили прощения, предлагали зарезать самую лучшую лошадь и другого барана, но Джанмурчи был неумолим. Он сел на коня, и оскорбленные путешественники тронулись дальше. Какой-то седой старик прибежал, торопливо раздал хозяевам несколько пощечин а побежал за гостями, не смея сесть на коня. Впереди ехал Алы. В его посадке было столько оскорбленного достоинства, что старик бросился к нему. Он хотел схватить стремя и закричал:
Впереди было пустынно и тихо. Ярко-зеленая трава и глиняный желтый откос опускались глубоко вправо. Канавы, прорезанные дождевыми ручьями, затрудняли дорогу. Путешественники решили отдохнуть и пообедать. Джанмурчи спустился вниз и принес в мехе с полведра воды. Медленно и бережно он отсчитал комков десять сухого, Похожего на камень, овечьего сыра и бросил в мех, Потом всыпал две пригоршни поджаренной, грубо смолотой пшеницы. Золотой Рот и Джанмурчи стали встряхивать мех. Вода бухала точна в бубен. Куски сыра стучали, как камешки. Это был обед и завтрак на всех. Саламатин кисло посмотрел на постное угощение и плюнул, но вдруг оживился.
Из-за бугра показались несколько всадников. Джанмурчи, сблизившись, быстро заговорил с ними о чем-то. Потом всадники тронулись вперед, а путешественники за ними следом. Они проехали немного вперед и снова увидели юрту. На этот раз Саламатин был доволен. Он не успел опомниться, как у него взяли коня, самого ввели в юрту и сразу же внесли два блюда вареного мяса. После еды Джанмурчи развернул свой тюк. Он развесил внутри юрты красные, зеленые, желтые ленты, от которых горело в глазах. Потом разложил целые коробки перламутровых пуговиц и маленькие зеркала с картинками на обороте. По подушкам разостлал куски цветного китайского шелка и тут же положил несколько банок зеленого табаку.
Потом щедро стал раздавать подарки хозяевам. Гудели мужские голоса, визжали от восторга женщины и дети и хихикали старики. Когда из ближайших юрт хлынула целая толпа, Джанмурчи сделал недоуменное лицо и стал пить кумыс. Обычай запрещал задавать вопросы гостям, но каждому хотелось получить подарок. Поэтому все наперебой стали говорить новости. Рассказывая, хозяева внимательно заглядывали в лица гостей, но путешественники были молчаливы и бесстрастны.
Прежде всего им рассказали о том, что один манап хотел одурачить пограничников. Саламатин успокоился. Он понял, что здесь нет контрабандистов и никого из бывших пленников. Потом красноармеец услышал точное изложение всех приключений экспедиции. Джанмурчи все молчал. Какой-то старик медленно стал говорить о женщинах. Джанмурчи подмигнул Алы и рассмеялся. Этого было довольно. Их засыпали сплетнями. Но проводник собрал все подарки в тюк, завязал и сел сверху. Он как будто не замечал легкого недовольства и разочарования.
Скоро их снова стали кормить, и Джанмурчи, как бы
нехотя, дал одно зеркальце. С этого дня началось беспечальное житье. Несколько дней подряд Саламатин жил как в раю Магомета. Его кормили как на убой. Все остальное время, когда он не ел и не пил кумыс, он спал, держа около себя винтовку и заботясь только о ней. Через неделю Золотой Рот с утра стал шептаться с посетителями. Зарезали трех баранов. На дымок ехали издалека. После того как была съедена целая гора мяса, Золотой Рот позвал с собой всех спутников, и они отошли подальше от юрты.
— Сегодня или завтра Шавдах вернется из Китая. Говорят, Марианна идет с ним. Люди видели их по ту сторону границы. Женщину отдадут командиру, если командир отдаст весь опий.
— Саламатин!.. — сказал Алы и не договорил.
Все трое оседлали коня для пограничника. Завхоз; прыгнул в седло и понесся, как ветер.
Глава III В СЕТЯХ БАЙЗАКА
По всему пространству снег сверкал под полуденным летним солнцем. Ослепительное серебряное сияние колыхалось по снегу и резало глаза, как ножом. Ни скал, ни оврагов не было заметно. Снег в несколько метров заполнил все ложбины и сгладил все выступы. На самом хребте перевала голубые, прозрачные плиты льда поднимались ребром, как гигантские перевернутые, разбросанные ступени. При подъеме они были похожи на стеклянные утесы. Лед и снег, точно огромные зеркала, бросали поток лучей солнца во все стороны, поэтому очертания ледяных скал, выступов и краев нельзя было разглядеть.
Нестерпимый расплавленный блеск был разлит под ногами. Бесформенное, сверкающее пространство тянулось далеко вперед и резко ограничивалось черно-синим небом, как будто за этим светом был край земли.
Панорама гор внизу за перевалом была скрыта ровным снежным полем.
Несколько затерявшихся всадников медленным шагов двигались со стороны Китая. Кони храпели и задыхались от усилий и разреженного воздуха. Зернистый обледенелый снег, похожий на мокрый сахар, на каждом шагу проламывался под копытами. Его крупные зерна горели, как алмазы, радугой и белым пламенем. Острые края продавленной коры ранили до крови ноги лошадей. Под тонким льдом был рыхлый, мокрый снег, и лошади иной раз проваливались по грудь. Верховые были закутаны в чапаны, и поверх у каждого был толстый тулуп.
Шаг за шагом они упорно прокладывали себе дорогу в снегу. Кони в изнеможении падали на колени, но всадники не слезали и нещадно били их плетьми. Всадники только что перешли границу и теперь торопились. До безопасной долины, где можно было укрыться от пограничников, предстоял целый день тяжелого пути.
Чтобы не ослепнуть от снега, они закрыли лицо по старому обычаю контрабандистов. Отрезанный конец конского хвоста был заложен у каждого спереди под шапку. Вместо лиц у закутанных красных фигур издали видны были черные, блестящие пятна.
Даже с завешенным лицом надо было ехать зажмурившись. При каждом шаге коня волосы встряхивались и дрожащий ослепительный свет резал глаза. Позади всадников влачились два осла с вьюками. Рядом с осла* ми еле переставляли отмороженные ноги два жалких существа: мужчина и женщина. На первый взгляд их нельзя было отличить друг от друга. Оба были закутаны в цветное отрепье. Клочки ваты торчали из всех дыр старых халатов. Босые ноги были завернуты в тряпки. Огромные ступни плечистого мужчины, завернутые в тряпки, оставляли в снегу глубокие ямки, похожие на след медведя.
Женщина, подпоясанная волосяной веревкой, была Марианна. С открытым лицом, посиневшими руками, она, как во сне, вытаскивала ноги из глубокого снега и, шатаясь, шла, придерживаясь рукой за вьюк, качавшийся!на спине осла. Ее незащищенные глаза стали полуслепыми от солнца. Она шла пятый перевал пешком. Белый гной покрывал ее красные, воспаленные веки. Иногда она падала. Шедший рядом поднимал ее, и они снова шагали, держась сбоку за вьюки.
— Мариам, когда мы умрем, я хочу долго-долго спать.
Он проговорил эти слова, зажмурив глаза. Казалось, он предвкушал наслаждение отдыха.
— Я просила Шавдаха, чтобы он меня убил, но он не хочет, — еле шевеля губами, отвечала Марианна. — Они хотят получить за меня много опия. Так он говорит.
— Шавдах мне должен много, много крови, — отвечал ее спутник. — Столько, сколько есть в моем теле.
— Как ты попал к нему, Батрхан? — спросила Марианна,
— Я убежал в Китай во время восстания. Я ничего не знал. Десять лет я боялся пристава. Шавдах поклялся, что отвезет меня назад. Я для него работал.
Батрхан остановился.
Тряпка на ноге Марианны сползла. Он стал на колени в снег, быстро обмотал ее ногу промокшим тряпьем, снова завязал обрывки бечевки, и они тронулись дальше. Так он помогал ей на каждом перевале. Когда они отставали шагов на сто, кто-нибудь из всадников поворачивал коня и бил обоих плетью. Тогда Марианна молчала и закрывала глаза.
— Не открывай глаз, — сказал Батрхан, — держись рукой за осла и иди. Ты будешь слушать, как будто во сне, а я буду говорить.
Марианна зашагала и закрыла глаза, а Батрхан продолжал глухим, безразличным голосом, как будто говорил о ком-то другом:
— Шавдах дал мне ар земли. Ты знаешь, сколько это? Это столько, чтобы похоронить человека: три шага туда, шесть сюда — все. Четыре года я носил торф в корзине на это поле. Я сеял рис по одному зернышку. Шавдах говорил, что столько стоит новая бумага, на которой он написал не мое имя, а другое, и потому я буду жить спокойно. Только неделю назад на перевале он сказал, что пристава нет и бумага не нужна.
— Помню, он тогда тебя долго бил. Ты сказал, что он — лгун, — перебила Марианна.
Да, я сказал это, — проговорил Батрхан. — Но теперь я говорю, что Шавдах должен мне много крови. Столько, сколько высосали из меня пиявки и комары на этом рисовом поле. Обо! Мы опять идем кверху.
Марианна молчала.
— Мариам, где лепешка, которую я тебе дал? — спросил Батрхан.
Что-то похожее на легкий румянец выступило на грязных, бледных щеках женщины.
— Я съела, — сказала она.
— Я не Шавдах, мне не жалко, но у меня нет даже маленького камня для тебя.
— Зачем тебе камень? — спросила Марианна.
— Тут очень высоко. Шавдах взял для всех в Китае сень-сень. Они его жуют, им легко дышать. Если мы попадем в безвоздушную яму, мы умрем. Подожди.
Он полез за пазуху халата и достал коричневую ягоду сухого урюка.
— Возьми, — сказал Батрхан, — она сладкая.
Урючина была черная и грязная от пота. Марианна со слезами смотрела на Батрхана, но не решалась взять ягоду в рот.
— Возьми скорей, — сказал Батрхан. — Смотри, Шавдах закурил табак. Он боится. Он хорошо знает дороги.
Марианна, преодолев отвращение, не глядя, взяла в рот ягоду и стала ее сосать. Она снова закрыла глаза. Она даже не имела сил поблагодарить Батрхана. Вдруг она услышала хрипение. В ту же секунду ее легкие лишились воздуха, как будто ее ноздри и рот плотно придавили подушкой. Оба осла конвульсивно, прыжками рванулись вперед. Марианна увидела, что Батрхан лежал черный, как чугун, закатив глаза под лоб… Женщина, не выпуская тюка, схватила рукой руку спутника, выставившуюся из грязного рукава. Она почти потеряла сознание, но обе ее руки замерли в судороге. Все ее тело было наполнено болью, как будто ее разрывали на части, но она не могла разжать руки. Осел, выбиваясь из сил, проволок по снегу обоих люден шагов десять, и воздух хлынул в легкие Марианны. Она лежала на снегу и слабо стонала. Рядом свистнула плеть и раздался вой. Марианна оперлась на локоть. Шавдах бил Батрхана.
— Вставай, собака, — крикнул Шавдах. — Или ты хочешь, чтобы нас перестреляли пограничники?
Марианна вскочила и вцепилась зубами в руку Шавдаха. Он несколько раз ударил ее по голове, но она не выпустила руки. Другой контрабандист спокойно достал револьвер, но Шавдах покачал головой и сильно ударил женщину по лицу. Марианна упала в снег, заливаясь кровью. Кровь из прокушенной руки густо закапала на снег.
— Убей, убей, подлец!
В исступлении она бросилась на Шавдаха и плюнула ему в лицо. Шавдах зловеще улыбнулся, вытер щеку и молча пошел к коню.
— Батрхан, я не пойду дальше, лучше я умру, — в Марианна легла в снег.
Батрхан приподнял ее и стал снегом растирать ей лицо. Потом он поднял ее, взял под руку, и они пошли дальше. Вскоре перед ними открылся спуск. Снеговые горы громоздились вдали в голубом небе. Они, как льдины из воды, выставлялись из голубого тумана.
— Идем! Идем! — твердил Батрхан.
Измученный, голодный, избитый, он не находил для нее больше ласковых слов. Но Марианна повиновалась и шла, сама не понимая, как она еще может двигать распухшими ногами. Несколько часов продолжался спуск. Потом началась бесконечная серая долина, усыпанная гравием. Сиреневые цветы без листьев стояли букетами на серых камнях. Потом начался песок — белый, сыпучий. Ни одной травинки не росло на нем. Кони оставляли за собой такой глубокий след, будто прошел караван. Солнце жгло Марианну сквозь ватные лохмотья. Лицо мучительно болело от солнечного ожога. Губы запеклись и почернели. Ледяные струи легкого ветра ядовито ползали по спине.
Скоро путники увидели несколько юрт. Со стороны перевала на них были снеговые нашлепки. Под каждой кочкой лежали комья снега. Солнце не успело еще его растопить. На этой высоте довольно было, чтобы туча закрыла солнце, как уже начинался снегопад. Шавдах остановился возле юрты, выпил кумыс, не сходя с седла, потом о чем-то поговорил с хозяином юрты, спрыгнул с коня и велел Батрхану пасти ослов. Марианна в первый раз увидела по-настоящему нищету своего друга, и горло ее сжали спазмы.
Батрхан выпустил ослов на траву, достал мешок о вьюка и стал перебирать свое богатство. Это было сплошное тряпье, пересыпанное мягкой белой пылью. Головка чеснока была завернута в отдельную тряпочку. Потом какие-то две белые деревяшки. В маленькой тряпочке тщательно была завернута щепотка пепла опия. Батрхан стоял на коленях и беззлобно перебирал эту дрянь, думая о чем-то. Потом он лукаво подмигнул Марианне и сказал:
— Когда-нибудь я устрою себе праздник. — Он протянул тряпочку с пеплом и радостно сказал: — Это опий.
Марианна невольно улыбнулась.
— Я намешаю его в воду и выпью. Целый день я буду спать и видеть хорошие сны.
Потом он достал два тонких сыромятных ремня. Они были не толще веревочки. Батрхан полюбовался ими и снова бережно спрятал в тряпочку. Марианна отвернулась, чтобы не разрыдаться, но Батрхан окликнул ее и с торжеством показал ей коробку китайских спичек. Марианна заплакала. Батрхан нагнулся лицом к самому снегу и заглянул ей в глаза. Он оставил тряпье и придвинулся к ней.
— Мариам, — сказал он дрогнувшим голосом, — раньше я был богатым человеком. У меня была жена, двое детей и восемь юрт с пастухами. Теперь у меня никого нет. Они все умерли. Я один.
Он замолк, а Марианна сдержала слезы. Батрхан ушел.
В Уч-Турфане Марианна пыталась обращаться к властям. Городок был лагерем контрабандистов. Они въезжали туда как победители. Китайский администратор брал с каждого вьюка опия по одному джину. В городе было несколько европейцев, два-три эмигранта и двое подозрительных англичан, которые все время якшались с контрабандистами. Эти люди не приняли в ней участия. Когда Шавдах выступил назад, Марианна пыталась
бежать. Но он накинул ей на шею аркан и проволок за собой целую улицу. А вечером на стоянке отхлестал плетью.
После перехода границы она продолжала думать о побеге и старалась уберечь ноги. Но за ней тщательно следили. Как только она подходила к площади, Шавдах пускал в ход плеть. Он следил также за тем, чтобы Марианна не запасла ни одной лепешки. Сухари, которые ей давал Батрхан, Шавдах отбирал. Когда-то контрабандист побывал в лапах Будая. Теперь возможность мучить жену своего врага доставляла ему острое наслаждение. Ни разу он открыто не сказал об этом, но Марианна видела торжество в его глазах всякий раз, когда его толстая рука поднималась с плетью в воздухе. Много раз Батрхан за нее принимал на себя побои. И все-таки все тело Марианны было покрыто багровыми и синими полосами.
— Мариам, Мариам! Мы лежим, как псы, и зализываем наши раны, — сказал Батрхан.
Марианна молчала. Батрхан подполз к юрте и стал слушать, припав ухом к нижнему переплету, где войлок не достигал земли. Он слушал долго, потом вернулся, назад и быстро стал шептать:
— Мариам, я сейчас убегу. Недалеко есть пограничники, они тебя ищут!
Мариам схватилась руками за грудь и сдержала крик. Ее глаза сверкали.
— Пограничники ищут тебя, — продолжал Батрхан. — С ними джигиты Джантая! Наверно, будет бой! Не бойся, я вернусь и приведу пограничников. Еще не придет время ночного намаза, как я уже буду тут.
Он беззвучно поднялся и пошел к прогалине, где паслись ослы. Полог юрты отпахнулся.
— Мариам, — грубо закричал Шавдах. — Иди сюда!
Марианна встала и пошла. Ее сердце билось, занимая
всю грудь. Она боялась обнаружить свое волнение. Она посмотрела на свирепое лицо Шавдаха, и ее охватил ужас. Робкая и жалкая, она шагнула в юрту и стала у входа. Теперь она знала, что это — место всякой киргизской женщины. Кто-то дружелюбно протянул ей обглоданную кость. Марианна не обиделась и стала ее грызть. Рядом с ней киргизская женщина так же жадно глодала объедки.
Снаружи раздался топот коней и залаяли собаки.
— Стой! — закричал приближающийся голос в темноте.
Контрабандисты переглянулись. Уже наступила ночь. Один из них схватил котел и вывернул его весь в костер. В ту же минуту несколько человек бросились на Марианну. Она закричала, отчаянно отбиваясь, но ей мгновенно заткнули рот, потом подняли край юрты и выволокли наружу. Приехавшие бросились в юрту, но там было темно и тихо. Удушливый дым застлал все.
Джанмурчи, Алы и Золотой Рот рыскали в темноте на конях во все стороны, но никого не могли найти.
— Мариам, Мариам! — отчаянно кричал Батрхан, беспомощно бегая в темноте.
Вдруг чуткое ухо Алы услышало топот в стороне.
— Джанмурчи! — закричал он, и все кинулись на его крик.
Через минуту, слыша рядом топот коней, сын Джантая бросил аркан. Петля захлестнула толстого Шавдаха, и сорванный с седла толстяк грохнулся с конем наземь. Джанмурчи плакал, разрезая веревки на Марианне. Она была в обмороке. Батрхан чиркал свои драгоценные спички одну за другой. Золотой Рот вглядывался в темноту, желая скрыться. Потом он подъехал к Джанмурчи и сказал:
— Нам надо ехать к Зеленой Осе.
Джанмурчи не успел ответить. В темноте послышался такой топот, будто скакала целая орда. Алы поднял бесчувственную Марианну и рванулся с ней на коня. Но было поздно. Густая толпа всадников окружила их тесным кольцом.
— Кто, кто? — закричал безоружный Алы, но ему не отвечали.
Он нанес подряд два страшнейших удара плетью, и два всадника грянули на землю. Джанмурчи выхватил из-за пазухи револьвер и стал стрелять. Алы поднял на дыбы коня и рванулся вперед, надеясь прерваться. Но в ту же минуту Джанмурчи слетел с седла, так как аркан охватил его поперек тела. Целая орава спешившихся сбила с ног Батрхана, а Золотой Рот орал где-то на земле внизу, как будто с него сдирали кожу. Голос из темноты сказал:
— Сын Джантая, закон не позволяет тебя обидеть. Пусть эта женщина будет с тобой, но ты — пленник. Мы поедем назад и будем говорить.
Несколько человек, повисшие на поводу одержавшие коня Алы, отступили в сторону. Марианна пришла в себя и слабо стонала. Какой-то всадник растолкал толпу, приблизился и зажег спичку. Джанмурчи, который стоял на земле и держался за стремя Алы, закричал от ужаса.
При вспыхнувшем пламени спички из темноты выступило лицо Байзака.
— Когда-то на ярмарке ты засмеялась мне в лицо, — сказал отец контрабанды, обращаясь к Марианне. — С тех пор ты меня не видела. Почему же ты теперь не смеешься?
Никто ему не ответил, и пленные, окруженные со всех сторон контрабандистами, двинулись куда-то в темноту.
Глава IV АЛЫ. СЫН ДЖАНТАЯ
Яркое пламя костров освещало юрты. При каждой вспышке огня они выступали из темноты белыми грудами. Когда кто-нибудь подходил к огню, ярко-красный чапан, белая треуголка и смуглое лицо вырисовывались так, что было видно каждую черточку. А когда люди отходили в тень юрт, они исчезали, как будто проваливались сквозь землю. Около полуночи послышались говор и топот коней. Впереди всех ехал Алы с Марианной. Она сидела боком на коне, и юноша бережно поддерживал ее. Он был похож более на предводителя, чем на пленника. Его встречали с почетом, чтобы не оскорбить сына Джантая. Цветные ковры стали поспешно расстилать на траве перед самой большой юртой. Они казались дырявыми, так как темных пятен узора не было видно при свете костров. Зато желтые и красные узоры рдели и выступали на земле при каждой вспышке огня. Костры горели по всему пастбищу. Издали он, и сияли красным пламенем, и вокруг них далеко брезжило красное зарево. Алы повернул коня в сторону и проехал по разостланным коврам. Потом остановился около самой большой юрты и бережно снял Марианну с коня. Байзак подъехал к Алы. Его выхоленное смуглое лицо загорело и было обветрено. Небрежно помахивая плетью, он сказал:
— Будем ли мы ссориться из-за этой женщины?
Алы молчал. Байзак все больше затягивал повод коня, будто хотел поднять его на дыбы, чтобы обрушиться вместе с конем на юношу и Марианну. Алы обнял женщину одной рукой и бестрепетно смотрел в глаза Байзака. Потом неторопливо и надменно он еще больше поднял голову и сказал:
— Ты знаешь, что я — арык?! Ты забыл, что я сын Джантая?! Берегись! — И, секунду помолчав, он бросил коротко и повелительно: — Долой с коня!
Это было приказание манапа, за которым стояли обычаи рода.
Марианна, замершая от ужаса, увидела, что слова юноши были как окрик укротителя, который заставляет пятиться тигра. Байзак ослабил повод, медленно вынул ногу из стремени и слез с коня.
— Я хочу говорить с тобой, сын Джантая, — злобно проговорил он, подойдя к Алы с конем в поводу.
Иншаллах! — сказал юноша, подняв глаза к небу. — Пусть эту женщину вымоют, оденут и накормят — или ты не услышишь от меня ни одного слова!
Марианна закричала от страха и вцепилась в руку Алы. Юноша грустно улыбнулся и сказал:
— Я буду около юрты. Тебя никуда не увезут. Или мы вернемся, или умрем оба.
Потом он взял ее за руку, проведя несколько шагов, и отдал на попечение женщин.
Когда Марианну увели в юрту, Джанмурчи и Золотой Рот уселись с разных сторон и смотрели на юрту, не спуская глаз. Судьба заставила шакала сделать выбор, и теперь Золотой Рот был вполне предан Алы. Он знал, что это все-таки лучше, чем быть посредине между такими большими врагами.
— Идем, — пренебрежительно бросил Алы и прошел впереди Байзака.
Они вошли в юрту и молча сели к огню. Толстый, злобный Байзак сидел по другую сторону очага, Сквозь пламя и дым по временам было видно его свирепое лицо. Алы сидел неподвижный и прямой. Казалось, он в своей печали не замечал врага, который смотрел на него в упор и злобно. Наконец Байзак заговорил:
— Оса захватил опий, но теперь у меня в руках жена Будая и ты. Если я не получу опия, я убью вас обоих и вернусь в Каракол.
Алы молчал.
Лицо Байзака, исковерканное гневом и похожее на маску, подалось вперед. Он хрипло продолжал:
— Ты можешь все исправить. Забудь об этой жене пограничника. Я говорю с тобой, как с Джантаем. Пообещай мир, и мы будем вместе. Если мы отобьем опий и поделим его пополам, ты можешь уехать в Китай. Ты будешь очень богат.
Алы поднял тонкие брови. По его оливковому лицу прешла презрительная улыбка.
— Старые люди хорошо говорили: саяку и сороке пощады нет.
— Да, я знаю, что честь арыка больше саяка, — покорно сказал Байзак. — Ты будешь со мной или умрешь. Повторяю это тебе, как самому Джантаю.
— Ты сказал Джантаю, чтобы он изменил другу? — " медленно проговорил юноша. — И ты думаешь, что Джантай тебя не найдет?!
Потом он встал и молча вышел из юрты. Байзак хлопнул в ладоши. Несколько вооруженных джигитов беззвучно появились в юрте. Отец контрабанды в первую минуту хотел приказать перебить пленных. Но не решался отдать страшного приказания. Кроме того, он понимал, что такое месть Джантая. Вековые традиции о неприкосновенности арыков передавались из рода в род. Байзак бесился на самого себя. Он сидел и раздумывал.
Женщины вывели Марианну из соседней юрты. Она была одета по-киргизски: красная юбка с желтыми цветами, черная бархатная безрукавка поверх синей кофты. На голове ее был платок.
— Ханум, — сказал Алы, — ты очень голодная, пойдем к огню.
Он взял ее пальцы и. вытянув свою руку, почтительно привел и усадил ее около очага. Потом, поглядев мимо Байзака, важно проговорил:
— Саяк! Пусть подадут кумыс и мясо.
Алы как будто гипнотизировал Байзака своим повелительным голосом и уверенностью. Отец контрабанды хлопнул в ладоши, и в юрту внесли вареное мясо. Джанмурчи вошел в юрту и остановился у входа. Он с нежностью и волнением глядел на Марианну, но не посмел подойти и сесть рядом. Смеет ли простой смертный сидеть рядом с пленным арыком, у которого такое большое горе?
Джанмурчи стоял и кланялся. Потом сказал:
— Может быть, ханум нуждается в моей помощи?
— Калыча! — закричал Байзак.
Джанмурчи пошатнулся, как будто его ударили но» жом. Желтая бледность разлилась по его лицу. Мимо него, робко понурив голову, прошла его невеста. Она посмотрела на проводника и закричала от радости, но Байзак остановил ее взглядом. Девушка закрыла лицо руками и вздрагивала при каждом слове, так что косички с серебром звякали на затылке.
— Джанмурчи, ты человек маленький; возьми Калычу, поезжай с ней к Осе и скажи, что завтра Мариам и сын Джантая умрут, — сказал Байзак.
— Без Калычи мое сердце пусто, но я не могу смутить дух Осы, — сказал Джанмурчи. — Кроме того, я- слуга Алы, потому что он сейчас в плену.
— Останься здесь, — небрежно проговорил Алы, прожевывая мясо.
Джанмурчи почтительно поклонился и, не взглянув на Байзака, сказал:
— Хорошо.
Джанмурчи встал рядом с Алы. Они стояли с бесстрастными лицами, потупив глаза в землю. Алы про Себя читал стихи корана и кланялся в землю, лицом к западу. Джанмурчи, слегка скосив глаза, следил за каждым его движением. Вместе с ним он клал земные поклоны, затыкал уши и закрывал глаза.
Когда они окончили намаз, Алы повернулся и, ласково улыбнувшись Марианне, обратился к Джанмурчи:
— Пусть ханум спит здесь.
Джанмурчи вышел и долго с кем-то препирался в темноте. Потом вошли пестро одетые женщины с целым ворохом шелковых одеял. Алы быстро укутался, лег и моментально уснул. Марианна сидела и глядела на огонь.
— Джанмурчи, Алы — батыр?
— Батыр.
— Расскажи, что такое батыр?
Джанмурчи секунду колебался, глядя в огонь. Потом выпрямился и заговорил.
— Старики рассказывают по-разному. Давно-давно был властелин, который много стран постелил себе под ноги как ковер. По древним могучим родам он ходил, наступая на них ногой, как на полевые цветы. Сила огромная была собрана у него в руках, как драгоценные камни в кольцах женщин. Он хотел идти со своим войском туда, где опускается солнце. Его войско было как саранча. Горы не могли закрыть кочевников и их скот от той лавины, которая проносилась над ними. Он сам назначал начальников над своими отрядами. Одни стояли над тысячами, другие — над сотнями, третьи — над десятками. Потом он умер. От трех самых больших военачальников произошли Арык, Белек и Бугу. Отец моего отца и прадед моего деда держали стремя коня, когда они садились на седло. Поэтому я должен повиноваться, когда мне говорит арык.
На минуту он задумался. Потом грустно продолжал:
— Днем в моем сердце нет горя: я берегу батыра. Но ночью я вижу лицо Калычи, и мне скучно. Когда-нибудь мы прольем кровь Байзака, как воду.
Вдруг он поднял голову. В юрту заглянул Золотой Рот.
— Пусть все оденутся, Байзак уезжает далеко в горы. Так он приказал, — сказал Золотой Рот.
Алы выставил голову из-под одеяла.
— Ханум, ханум! — с горечью сказал Джанмурчи.
— Привяжи свой длинный язык ремнем и никогда не показывай горя
при детях и женщинах, — медленно проговорил Алы.
За стеной юрты начался шум, который бывает, когда поднимается целое кочевье. Плакали разбуженные дети, ревел скот, блеяли бараны. Большие овчарки бегали в темноте и бестолково лаяли. Потом рев верблюдов покрыл все, только рядом слышались возня и голоса женщин, которые переругивались, разбирая соседнюю юрту.
— Алы, этот саяк — вор, — сказал Джанмурчи, — он хочет взять твоего коня, чтобы ты шел пешком с женщинами и детьми. А если ты потеряешь силы, тебя поволокут на аркане. Так мне сказал Байзак.
Алы молчал. Он взял Марианну за руку, и все вышли из юрты. Байзак не сдержал своей угрозы. Пленникам подали коней, но, когда они сели, их окружила целая толпа контрабандистов. Байзак не стал ждать медленного табора и двинулся с джигитами вперед.
Глава V КОЗЫРНЫЙ ТУЗ БАЙЗАКА
Саламатин загнал коня и явился в табор Джантая. Его короткий рассказ подействовал, как труба горниста, когда она ночью в спокойной казарме, разрывая уши, ревет тревогу. Кондратий выслушал его и приказал седлать лошадей. Будай в первый раз за полгода оживился. Джантай слышал об унижениях сына и поглядывал на Черного Баклана. Тот, смеясь, задирал голову к небу. Джантай слушал воркующий смех Баклана, разглаживал седые клочья бороды и глядел, как возились у лошадей его джигиты.
В несколько минут все было готово. Пограничники, оставив вьюки, выглядели бодро и весело. Они знали, что им предстоит короткая прогулка и схватка. Кондратий, сверкая глазами, осмотрел свой знаменитый карабин
и только что хотел подать команду, как Джантай поднял руку.
По пастбищу приближались двое. Всадник шагом ехал на коне и без всякого милосердия тащил за собой пешего человека. Эго был посланный Байзака. Он волок на аркане Батрхана. Перед рассветом он поймал беглеца недалеко от Джантая.
Несколько часов Батрхан, сам не зная куда, шел, судорожно вцепившись в петлю, которая обвивала его шею. Всадник приблизился и важно сошел с коня. Аркан ослаб. Батрхан сорвал его со своей ободранной шеи и опустился на траву. Он озирался бессмысленными, налитыми кровью глазами и тяжело дышал. Гонец низко поклонился Джантаю, презрительно глянул через плечо на Кондратия и сказал:
— Меня прислал один большой человек. Я не буду называть его имя, но все, что я скажу, — правда.
Потом он бегло оглядел вооруженный отряд и обратился к Джантаю:
— Если пограничники поедут в погоню, то ханум умрет, Алы тоже умрет.
Парламентер хотел еще что-то сказать, но Джантай ударил в ладоши, и его скрипучий голос крикнул:
— Кучь-Качь!
Несколько джигитов мгновенно сбили с ног посланца. Черный Баклан с ножом в руке сел ему на грудь. Посланный без всякого испуга стал читать молитву.
Джантай нагнулся, заглянул ему в глаза и прохрипел:
— Я дам тебе семь днем смерти, и семь дней ты будешь говорить со мной. Каждый день я буду отрывать по куску твоего тела.
— Все, что ты сделаешь со мной, будет с твоим сыном и с ханум, — без всякого страха ответил гонец.
Джантай задумался. Кондратий посмотрел на него и сказал:
— Сейчас они сильнее нас. Будем слушать, что они говорят.
— Хорошо, будем слушать, — проговорил медленно Джантай и сел на корточки рядом с задержанным.
Ои долго и внимательно смотрел в глаза посланца. Кругом все молчали. Сперва на лице гонца погасла наглость. Потом лицо стало желтым, и дикий, животный ужас появился в вытаращенных глазах, а Джантай все сидел и смотрел. Гонец чувствовал себя вещью в
руках старого разбойника, и это сознание было хуже всякой пытки. Кондратий ласково положил руку на плечо Джантая.
— Может быть, этот человек встанет и будет говорить.
— Пусть разрежут на куски моего сына, но эта собака не будет говорить со мной как с равным.
Гонец с усилием поднялся на локте и сказал:
— Если я не успею рассказать тебе все и вернуться до намаза, Алы умрет!
— Судьба, — коротко ответил Джантай и вынул из-за пояса нож.
Пленник захрипел от ужаса, но Кондратий остановил руку Джантая.
— Кучь-Качь, отпусти этого человека, — твердо сказал он.
Гонца освободили, и он сел. Кругом на конях сидели пограничники. Недоумение и беспомощность были на их лицах. Кондратий был бледен, но спокоен.
— Господин, — сказал гонец, — твои лошади могут быть как ветер. В груди людей может быть сердце барса. Но удар ножа в грудь быстрее твоих коней. Выстрел в голову женщины будет самый первый в этом сражении.
Зеленые, ядовитые глаза Осы спокойно смотрели в глаза гонца. И при последних словах гонец невольно опустил голову.
— Мы все когда-нибудь умрем, — холодно сказал Оса. — Говори, зачем приехал.
Гонец встал на ноги и под общими взглядами ненависти заговорил уверенно и спокойно. Он понял, что будет жив, и мало-помалу вся его наглость вернулась к нему.
— Ты сам должен выбрать. Когда ты уезжал из города, ты получил письмо.
— Это все?.. — холодно сказал Кондратий.
Гонец молчал.
— Что получу я, если отдам опий?
— Тебе отдадут всех пленных, — ответил гонец.
— А если я не соглашусь?
— Их убьют, и он перейдет границу, — сказал гонец.
Этот простой, короткий ответ заставил содрогнуться старых пограничников, стоявших кругом. Оса стоял, опершись на карабин, и думал. Джантай безучастно смотрел на него и ждал его решения. Наконец Оса поднял лицо, и лукавство скользнуло по его губам, то веселое лукавство, которое приводило в томительный трепет Байзака. Оса мягко посмотрел на гонца и сказал:
— Твои слова большие, про них надо, долго думать. Сколько дней я имею для ответа?
— Пять, — ответил гонец.
По лицу Осы разлилась приветливая улыбка. Он понял, что не ошибся. Он хотел выиграть время, но отец контрабанды также нуждался в нем, чтобы успеть уйти. По-видимому, скачки шагом должны были продолжаться, и Кондратий мог надеяться на победу. Отдышавшийся Батрхан бросился вперед, упал на колени перед ним и завопил:
— Мариам, Мариам!
Судорога прошла по лицу Будая. Оса быстро оглянулся на Батрхана и с одного взгляда понял, что перед ним бежавший от контрабандистов.
— Что это за человек? — спросил он у гонца.
— Это твой враг, — ответил посланец. — Он мог погубить тебе все дело. Он хотел убежать вперед и позвать вас. Алы и ханум были бы убиты, если бы я его не догнал.
— Ты хороший человек, — сказал Оса и пожал руку гонца… — возьми этого человека себе.
Ропот недовольства послышался кругом.
— Что же это?.. Своих выдавать… — проворчал кто-то.
Оса огляделся кругом, и все затихли.
— Я не знаю этого человека, — равнодушно сказал Оса гонцу. — Он мне не нужен.
Оса видел, что гонец не верит ни одному его слову, но, однако, добавил еще более откровенно:
— Говорю тебе, я его не знаю. Возьми его на аркан и веди, куда хочешь. Передай мой поклон твоему господину, и скажи, что через неделю я буду отвечать. Иди с миром.
Гонец вскочил на коня, набросил веревку на Батрхана и крупным шагом тронулся назад. Следом бежал Батрхан. Он держал веревку обеими руками. Оса неподвижно стоял на месте и смотрел им вслед. Через каждые десять- двадцать шагов посланец оглядывался и дергал веревку. Батрхан спотыкался и падал, снова вскакивал и опять бежал, чтобы не быть задушенным.
— Кондратий, ты — предатель, — сказал Будай. — Ты предал этого человека. Он был за нас.
— Зачем ты послал назад этого человека? — спросил Джантай.
— Чтобы он сказал твоему сыну, что мы имеем пять; дней времени, — любезно улыбнулся Оса.
— Ничего он не скажет, гонец его задушит за первым бугром, — возразил Будай.
— Он привел его на аркане, — медленно заговорил Оса. — Только враг может волочить на веревке моего друга. Но я не знаю этого человека. Я сказал правду. Гонец мне не поверил именно потому, что я не солгал.
— Раз он тебе не поверил, он его задушит, — упрямо возразил Будай.
— Именно этого он не сделает, чтобы не портить отношений в самом начале, и поэтому мой вестник дойдет до Алы.
Будай неодобрительно качал головой. В это время гонец скрылся за холмом. Оса порывисто повернулся к пограничникам и звонко скомандовал:
— Шагом ма-арш!
— Что ты делаешь?! — спросил Будай.
— Антоний, я отдал этого несчастного только для то» го, чтобы гонец двигался медленно. Как ты думаешь: мы на своих конях за пять дней сможем проследить, куда пошел человек пешком, или нет?
Оса приблизился к строю и, обращаясь к пограничникам, сказал:
— Если вы упустите его из вида, это будет очень плохо. Но если он увидит, что вы за ним следите, будет еще хуже, он задушит этого бедняка и уйдет сам.
Пограничники на ходу рассыпались и тронулись к холмам. Это был необычайный разъезд, который выслеживал лисицу. Оса ехал позади, посередине растянувшихся всадников, и ему было видно всех. Одни подолгу стояли на месте. Другие спешились и прятались вместе с конями за утесами и ползли к гребням скал, оставив внизу коней, третьи долго неслись вскачь и вдруг замирали на Одном месте.
Так прошло часа два. Вдруг рассеянные крики раздались впереди. Оса пришпорил коня. Один из пограничников во весь опор мчался к нему.
— Он его на коня посадил сзади себя, рысью поехали! — кричал пограничник.
— В карьер пошли! — орал другой.
«Неужели он все понял?» — подумал Оса и приказал Преследовать гонца, не теряя его из виду.
Джигиты Джантая рассыпались по местности. Кони пошли полным ходом.
Далеко впереди открылась ложбина, и показалось несколько юрт. Кондратий созвал пограничников и сказал Джантаю:
— Пусть джигиты подождут до ночи. Если от юрт кто-нибудь поедет, мы перехватим каждого. А пока пошли кого-нибудь и узнай, чьи это юрты. Мы никуда не двинемся до ночи.
Пограничники и джигиты Джантая собрались в лощине. Никогда со дня отправления экспедиции не было такого тяжелого, подавленного настроения. Оса сидел на камне и чертил шомполом по земле. Будай, растянувшись в стороне за камнем, курил опий. Несколько человек залегли между камнями и неотступно следили за юртами. Никто не произносил ни слова.
День клонился к вечеру, но никто не вспомнил о еде. Кондратий приказал открыть несколько банок консервов, но сам есть отказался. Пограничники повиновались неохотно, а многие вовсе не стали есть. Лошади понуро стояли на голых камнях.
Кондратий долго о чем-то думал, потом подозвал Будая.
— Сядь! — сказал Кондратий. — Хочу поговорить с тобой.
Будай молча повиновался.
— Джантай. — сказал Оса, — пять дней мы имеем впереди. Если мы ничего не сделаем, пусть случится так, как угодно судьбе, но я не отдам опия. Ведь его уже повезли в город.
Суровое лицо Кондратия стало теплым, обыкновенным, и весь он как будто обмяк.
— Будай, мы принесли — большие жертвы. Нам подставили под удар незнакомых людей, запряженных в кабалу, и мы прекрасно знали, что делали, потому что иначе действовать не могли. — Он горько улыбнулся и добавил: — Мы связаны временем и необходимостью. Поэтому силой мы добывали опий и добыли его. — Лицо Кондратия стало жестким, и глаза заблестели металлическим блеском. — Если я вынужден заботиться об аптекарских складах, то я буду делать это как следует. Я утешаюсь только тем, что, вероятно, года через два все наладится. Феофан — дельный малый. Кооперирование налаживается, а пока что мы вынуждены бороться и отнимать опий силой, иначе население будет отравлено. Кабала, черт возьми, разрастается в какое-то крепостное право, а два-три негодяя набьют карманы золотом и уедут в Китай, чтобы там продолжать свое дело.
— Правда твоя, — ответил Джантай. — Я знаю, тыне торговец опиумом. Ты не можешь продавать его туда и сюда.
— Алы умрет, — честно и прямо сказал Оса.
— Да! — глухо ответил старик.
— Марианна погибнет, — проговорил Оса, обратившись к Будаю.
— Может быть, она уже умерла. Разве они не могут солгать? — ответил Будай.
Его большое тело дрожало. Он предпочитал считать ее мертвой, чем выносить ей смертный приговор.
Кондратий минуту помолчал, потом добавил:
— Мне жаль всех: Марианну, Алы, Джанмурчи и вот этого бедняка, которого я не знаю. Но клянусь, я не отдам опия!
Он был бледен, как полотно, но голос его звучал твердо, а меняющиеся глаза сверкали.
— А если бы вместо Марианны была твоя жена? — глухо спросил Будай.
Оса побледнел еще больше, потом твердо проговорил;
— Не отдал бы!
— И с ребенком?
— С ребенком, — еле внятно пролепетал Оса.
Снова потянулось томительное молчание. Оно продолжалось так долго, что им самим стало казаться, будто они сидят тут уже несколько дней, потупив глаза в землю.
Сумерки спускались на серые скалы. Холмы и утесы стали менее видны. Они как будто отодвигались и уходили в даль. День догорал медленно и бесцветно. Легкий ветерок, подувший из долины, принес с собой запах затхлой пыли.
Серые тени ложились на лица трех людей, а они все сидели, опустив глаза в землю, и молчали. Наконец Джантай тихо встал и безразличным голосом отдал несколько приказаний. Его джигиты пешком, с конями на поводу бесшумно стали скользить, как тени, вниз в лощину.
Прошло два томительных часа. Оса выслал всех пограничников, чтобы окружить юрты с другой стороны и не пропускать никого, кроме посланца. Потом он сел между Будаем и стариком, молчаливый, как истукан.
Прошло еще два часа. Вдруг Джантай поднялся; он прислушался, потом лег ухом на землю.
— Кок-Ару, — сказал он. — Я слышу далекий топот
Он не успел договорить, как в лощине послышался говор. Потом в темноте появились два всадника. Их кони шли вплотную, и поперек седел они везли длинный тюк.
— Так что пропустили того поганца, а этого сграбастали, — весело сказал грубый голос.
— Там больше никого нет? — спросил Кондратий.
— Никак нет, товарищ командир. Джигиты говорят юрты пустые стояли. Контрабанду ждали. Говорят, пришла, недалеко где-то шляется.
— А это кто? — взволнованно спросил Кондратий.
— Шавдах? — сказал один из джигитов.
Кондратий разочарованно пожал плечами, как после проигранной игры, и, приказав зажечь костер, чтобы пограничники могли погреться, обратился к Джантаю.
Отец, — сказал он, — я думал, что мы захвати
Байзака. Я думал, что он боится нас и прячется недалеко, отдельно от своих юрт.
Джантай хотел ответить, но где-то раздался вопль, который перешел в рев, а потом в хрипение.
Ближайший пограничник мгновенно бросился в темноту. Потом было слышно, как он выругался и, подойдя к Кондратию, проговорил виновато:
— Вот минутку не досмотрел — и убили.
— Что ты мелешь? — сурово спросил Кондратий.
— Ну, да. Шавдаха убили.
Из темноты вышел Черный Баклан. Он был залит кровью, как мясник. Пограничники отворачивались и плевали.
— Джантай, я спросил его обо всем, как ты приказал, — сказал Черный Баклан.
— Палач, черт, таким и сдохнешь! — сказал Саламатин.
Черный Баклан задрал голову кверху и засмеялся. Потом обратился к Джантаю и долго о чем-то ему говорил. Разбойник выслушал его и сказал, обращаясь к Осе:
— Поедем к юртам, возьмем много мяса и пять дней будем искать. Найдем!
Кондратий сел на коня и шагом повел отряд. Джантай подъехал к нему, коснулся стременем его ноги и сказал:
— Ты человек молодой. После того как я тебя поцеловал, ты мне — как сын. Черный Баклан хорошо сделал. Шавдах водил в Китай ханум. Зачем нам пустая голова Шавдаха? Шавдах — верный человек Байзака. Алы убьют, ханум убьют, сами жить будут? Не надо!
Джантай долго еще расхваливал Черного Баклада и, сидя в седле, горячо размахивал руками.

Книга четвертая
В ПЛЕНУ
Глава I СТАНОВИЩЕ БАЙЗАКА
Всходило солнце. Белые козы ходили по бугру и были ярки, как снег. Козлята, привязанные к веревкам, звали их вниз, в ложбину, где было еще сыро и сумеречно. Лошади поднимались одна за другой на бугор. Бесцветные и серые в тени, они выныривали на солнце и фыркали от удовольствия. Поток теплого света грел и освещал их от головы до копыт. Золотистые и светло-серые, вороные и пегие, они сбивались в табун и тревожно поводили большими глазами. Там в сумерках звонко, по-детски, ржали привязанные жеребята.
Солнце поднялось выше. Желто-красные утесы с белыми покрывалами снега выступили совсем близко. Изломанными зубьями они поднялись на темно-синем небе. Ледник серой горой спускался к самой траве. Бодрым холодом тянуло от него, и стадо баранов, стоявшее возле юрт, зашевелилось. Заблеял черный козел, и отдельные голоса, жалобные и протяжные, стали перебивать друг друга.
Стадо тронулось к реке. Вода шумела и бухала меж камней, как на мельнице. Волны сворачивали за каждым камнем, прорывались в глубокие ямы, сбивались в шипучую пену и тут же, соединившись, мчались прозрачным слоем по гладкой спине утеса. Ручей, отбежавшие в сторону, звенели в пустоте между камней, как струи фонтана. Они наполняли глубокую каменную чашу, а дальше жгучая ледяная вода снова прыгала по камням и протягивалась, как белая пряжа.
Запоздавшие собаки торопливо, с деловым видом бежали от юрт к стаду, высунув языки. Марианна вышла из юрты вместе с Калычей. Еще никто не вставал, кроме Пастухов; им никто не мог помешать. Марианна любила горы. Утром она забывала обо всем, вздыхала всей грудью чистый воздух, как будто лившийся из синего бездонного неба, и спешила к реке. Калыча подарила ей два куска мыла, которое здесь было драгоценно. Каждое утро они раздевались на большом плоском камне и купались. Марианна, как всегда, огляделась. Высоки вверху причудливые утесы были похожи на развалины зданий. Она взглянула на глыбу, напоминавшую по форме обезьяну. Марианна отчетливо видела ее каменное лицо; она улыбнулась и пошла к воде. Женщины уселись на камнях и быстро разделись. Бледное белое тело Марианны казалось прозрачным рядом с темно-золотым и гибким телом Калычи. Рыжие золотистые волосы у Марианны были завязаны узлом на затылке. Прищурив глаза, она вошла по колено в каменную чашу потока. Калыча пищала от страха, глядя на холодную воду. Она долго не решалась, потом с криком бросилась за подругой.
Теплое летнее солнце грело камни, траву и воздух, рассеивая холод близкого ледника. Шершавая трава грела ноги после купанья, а полынь, и мята пахли горьким пьяным запахом. Калыча долго и тщательно плела свои косички с лентами и монетами, к снова, как вера и третьего дня, рассказывала о Джанмурчи, а Марианна неподвижно сидела и глядела на воду. Темно-смуглая, как старое золото, и белая как снег, сидели они рядом на большом камне и переговаривались отрывистыми, короткими фразами.
— Мариам, — сказала Калыча, — ты белая, как цветок. Твои золотые волосы, как желтые цветы, я очень люблю быть около тебя и говорить с тобой.
Марианна хотела ответить, но оглянулась и быстро стала одеваться, В этом углу около реки все дышало по коем и безопасностью, но пришел день, и надо было идти в юрту.
— Мариам, не плачь, а то я тоже заплачу, — жалобно проговорила Калыча своим детским голосом.
И, подбадривая друг друга, они оделись и пошли К юрте. У берега к колышку, вбитому в землю, был привязан орленок. Ему было всего два года. Марианна подошла и села около него. Молодой орел был коричневый с белыми пятнами, а возле рта еще была желтизна. Он непрерывно целыми днями переступал связанными лапами и осматривал каждого проходящего, склоняя голову набок. Когда к нему подходили, он тоскливо кричал, взмахивая крыльями, и беспомощно падал вперед. Марианна придвинулась к нему и, не обращая внимания на удары его сильного клюва, мужественно развязала веревку. Орленок хлопнул два раза крыльями, мелькнул над бугром и исчез. Марианна встала на ноги и взволнованно смотрела ему вслед. Потом она побледнела от испуга и оглянулась. Она выпустила охотничьего, боевого орла, который стоит не меньше двух коней.
— Мариам, Мариам!
К ней бежала Калыча. Ее цветное длинное платье вздувалось пузырем от бега, серебро звенело в косах. Девушка добежала и, еле переведя дух, быстро проговорила:
— Мариам, я тебе не сказала: два дня назад старуха приказала тебе сделать кошму, но я жалела твои руки, а одной сделать нельзя. Сейчас старуха пришла, и я боюсь, что нас будут бить. Отец меня ненавидит, также как тебя.
Страх искривил ее рот. Обе быстро пошли к юрте. Там их ждала работа. Груда шерсти, от которой пахло бараном, лежала на ковре. Две старухи, страшные, сморщенные, как ведьмы, били по маслянистой, блестящей шерсти тонкими палками и разбивали ее до пуха. Калыча быстро подошла и, вздохнув, взялась за дело. Марианна ей помогала. Они разостлали разбитую шерсть пушистым слоем на тонкий ковер. Старухи принесли ведро кипятку и обрызгали шерсть. Горячая шерсть обжигала пленницам руки. Жесткий, колючий ковер резал и колол кожу, но старухи торопили отрывистыми приказаниями, похожими на карканье ворон. Наконец Марианна и Калыча свернули весь ковер в трубку. Калыча беспомощно засучила рукава на своих полудетских руках и привязала Марианне и себе кожаные налокотники. Потом вздохнула и сказала:
— Мариам, я буду делать одна.
Она настойчиво отстранила Марианну и, присев на корточки, стала катать тяжелый ковер. Через несколько минут на лбу у нее выступил пот и она остановилась. Марианна села рядом с Калычей. Они катали ковер вперед и назад до полного изнеможения, а старухи время от времени полизали его кипятком, чтобы шерсть внутри легче свалялась. Через два часа руки обеих были обожжены и ободраны. Старухи принесли еще ведро кипятку.
— Не ленись, — прокаркала одна из них и ударила Марианну гибкой палкой.
Марианна упала лицом вперед и не могла даже подняться. Она бессильно лежала на земле и плакала от обиды и боли. Калыча ей вторила. Скоро они обе подняли такой плач, что могли растрогать даже каменное сердце.
— Отдохните и идите делать кумыс, — сказала старуха.
Марианна вошла в юрту. Три дня прожила она здесь вместе с Калычей, и ей, бездомной, избитой, казалось, что она имеет свое жилище.
Однако ей не дали ни плакать, ни размышлять. В углу юрты был черный кожаный сосуд ведер на десять. Внизу он был большой, как сундук. Черный, расшитый цветным сафьяном, сосуд лоснился от жира. Большое кожаное горло подымалось, как труба.
Марианна взяла палку, которая торчала из жерла, и стала сбивать кумыс. Когда она зыбилась из сил, ее сменила Калыча и продолжала работу. Наконец обе в полном изнеможении опустились на ковер.
— Теперь я вижу, что вы устали, — сказала старуха, ударив однако еще раз Марианну. — Но когда вы отдохнете, вы будете заготовлять на зиму сыр.
В стороне от юрты были сложены седла. Черноглазые полуголые ребятишки возились и играли на солнышке. Недалеко от них были привязаны жеребята. Здесь же
был растянут навес, на котором сохли комья белого сыра.
Марианна сидела на земле, бережно уложив на коле* — ни свои обожженные, непривычные к работе руки. Вздувшиеся пузыри от ожогов на руках стали лопаться. Рядом сидела Калыча и прикладывала к ожогам мокрые тряпки. Вдруг подошел Байзак. Свирепый и исступленный, он был так непохож на любезного и выхоленного Байзака, что пленницы со страхом глядели на него и не узнавали. Густые, будто наляпанные брови сдвинулись над дикими, грозящими глазами. Лицо было грубо и как будто вырублено. Он потрясал кулаками и грозил. Потом приказал Марианне идти в юрту. Байзак опустился на подушки, а женщина осталась стоять.
— Когда цветок попадает под копыта коня, он бывает втоптан в землю. Кок-Ару бессилен, — сказал Байзак. — Я дам бумагу, и пусть Мариам пишет письмо Осе, чтобы он не спорил со мной. Она должна написать, что она хочет целовать его сапоги, землю от его ног, чтобы только он вырвал ее из моих рук.
Марианна опустила голову. Она вспомнила серый вьюк, в котором когда-то был завернутый труп Иващенко. Лица погибших пограничников выплывали в ее памяти одно за другим. Добродушные украинцы и широкоскулые киргизы один за другим возвращались в долину, завернутые в серый войлок.
Неужели теперь, ради спасения своей жизни, она посягнет на их победу? Нет! Никогда! Марианна повернула свое бескровное лицо к Байзаку. Она хотела закричать, что она никогда не остановит коней Кондратия, но тут у нее мелькнула мысль, что по словам Батрхана осталось еще два дня времени, и потому она спросила с мнимой покорностью:
— Что я могу написать моими руками?
— Хорошо, я пришлю тебе женщин, и они тебе помогут, — как будто спохватившись, сказал Байзак и вышел из юрты.
Глава II ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛЫ
Алы сидел связанный в своей юрте. Третий день ему не отпускали рук даже для отдыха. Срок уже кончался, но Оса не присылал ответа. Алы сидел, упорно глядя в одну точку. Красно-синий узор циновки третий день был у него перед глазами. Руки за спиной были крепко перетянуты сыромятным ремнем. Ноги были также связаны. В землю был вбит кол, и юноша в сидячем положении был привязан к нему руками назад. Рядом с Алы, спиной к нему, таким же образом был привязан Джанмурчи.
Оба пленника томились целыми днями и не произносили ни одного слова. Перед глазами Джанмурчи была та часть юрты, которая составляет кухню. Большой кол в рост человека с сучками был со всех сторон обвешена посудой. Повернув голову вбок, Джанмурчи мог видеть вход в юрту и все, что делается снаружи. Но ему было хуже, чем Алы. Женщины стряпали окаю него, сидя на корточках. Они не обижали его, но, когда проходили между ним и посудой, то каждый раз платьем задевали по лицу. Когда раздували костер, зола летела на проводника, и он сидел весь белый, обсыпанный пеплом. Если женщины месили тесто или резали сало на мелкие кусочки, чтобы бросить их в котел, их лица были совсем близко от Джанмурчи. Он так упорно смотрел в землю, что даже не узнавал, кто это.
Двое суток пленным почти не давали есгь. Опозоренные своей неволей, Алы и Джанмурчи сидели с поникшими головами и молчали целые дни. Золотой Рот шлялся где-то на свободе. Он согласился исполнить то, о чем его когда-то просил Шавдах в чайхане. Он обещал провести караван контрабанды через Кизыл-Су. Джанмурчи целый час проклинал его, когда узнал от женщин обо всем этом, но потом замолк. Три дня назад Байзак принес клочок бумаги и сообщил Алы, что это — письмо, якобы написанное Марианной к Будаю. Юноша заявил, что это правда контрабандиста. Никакие угрозы не поколебала его. Он отказался передавать что-нибудь Джантаю или Кок-Ару и теперь сидел и готовился к смерти. Вдруг в юрту вошел Золотой Рот. Он присел на корточки около
Джанмурчи. В юрте никого не было. Проводник поднял лицо и плюнул в глаза своему приятелю. Золотой Рот не обиделся. Он спокойно утерся и сказал:
— Я понимаю, тебе очень плохо.
Потом он обратился к Алы и заговорил торопливо. Оба пленника вздрогнули, но не проронили ни одного слова.
— Алы, совсем недалеко спрятаны мои лошади. Там есть туркменский скакун, которому нет цены. Скажи Байзаку, что ты согласен послать письмо Кок-Ару! Скажи, что ты веришь, что это письмо написала Мариам. Скажи, что хочешь сделать кутерма-байгу и вызываешь весь род саяков. Ты знаешь обычай: старейшины рода не откажут тебе в этом, если даже Байзак не захочет. Я поеду с письмом, но не к Кок-Ару, а для того, чтобы привести коней. Скажи, что ты требуешь свободы для всех нас, если победишь на байге.
Молчание длилось несколько минут. Потом Джанмурчи робко сказал:
— Батыр, этот человек наш друг. Больше мы ничего не можем сделать.
Алы долго пронзительно смотрел на хитрое улыбающееся лицо шакала, и отважная улыбка появилась на его губах.
— Позови Байзака! — сказал он.
— Я верю, что это письме написала Мариам, — сказал Алы подошедшему Байзаку.
Он солгал, и его лицо залилось краской. Но с отчаянием в голосе он продолжал:
— Пусть это письмо отвезут к Джантаю.
Байзак не дал ему договорить. Он перерезал ножом ремни, связывавшие пленников, и поднял крик, В юрту вбежали несколько человек. Они стали растирать затекшие ноги и руки пленных, наперебой стали угощать их кумысом и мясом, и по всему становищу скоро пошел говор о том, что сын Джантая будет вместе с отцом контрабанды.
Когда Алы насытился и почувствовал себя бодрее, он обратился к Байзаку и сказал:
— Я хочу говорить со старейшими.
Байзак отдал несколько приказаний, и юрта медленно стала наполняться стариками. Они входили один за другим и усаживались в круг. Бодрые и румяные, высохшие и подслеповатые, они скоро наполнили всю юрту. Даже сам Байзак не смел противоречить старейшинам рода. Алы и Джанмурчи сидели в середине круга. Алы встал и обратился к старикам.
— Я в плену у Байзака, — сказал он.
Байзак с неудовольствием поглядел на него и слишком поздно понял свою ошибку. Он полагал, что сын Джантая будет предлагать мир и союз против Зеленой Осы, но по тону юноши понял, что ошибся.
— Три дня я был связан ремнями, — с достоинством продолжал Алы. — Старейшины не виноваты в том, что сделал Байзак, но меня оскорбили. Нас только двое, и он указал на Джанмурчи, — но я вызываю вас всех на кутерма-байгу!
Присутствующие отвечали возмущенным ропотом на эту речь. Мальчишка со своим слугой вызывал на конное состязание целый род. Обычно в кутерма-байге участвовали целые десятки всадников с каждой стороны. По старому обычаю к байге прибегали для решения спорных дел, как к божьему суду или поединку. Алы, не дожидаясь ответа старейшин, осыпал их отборной бранью, и после этого отказать в вызове было нельзя. Байзак, мрачный как ночь, поднялся с места и сказал:
— Жаль, что я не отрезал тебе голову раньше!
Старый, дряхлый старик спросил:
— Сын Джантая, чем ты будешь платить, если проиграешь байгу?
— Нашими головами! — отвечал Алы, показав на себя и проводника. — Кроме того, — продолжал он, Джантай даст тысячу баранов и табун коней.
— А что ты хочешь получить, если победишь? — спросил старик.
Его слова покрыл общий хохот.
— Свободу для всех нас, — коротко сказал Алы.
Старик обратился ко всем присутствующим и сказал:
— Эта хорошо. Арык хочет умереть с честью. Мы не должны ему мешать в этом. Если он проиграет…
Снова общий взрыв хохота перебил его речь, и, когда все умолкли, он закончил:
— Я сам отрежу ему голову.
Ропот одобрения прошелестел в кругу старейшин, и Алы понял, что вызов принят.
— Завтра будет кутерма-байга, — сказал старик.
Юноша поклонился, прижав руку к сердцу, и вышел из юрты. Золотой Рот ехал на коне навстречу ему и нагло улыбнулся, завидев Байзака. Он никакого письма не возил, зато привел в поводу такого скакуна, что кругом прошел ропот восхищения. Старейшины рода дали свое обещание и изменить его или взять назад уже не могли. Высокий туркменский скакун, беспокойный и тревожный, как дикий зверь, рвался на длинном поводу и смотрел в даль. До самых копыт он был весь закрыт чехлом. Он все время подымал бархатый черный нос и нюхал воздух. Длинный белесый хвост почти доставал до земли. Золотой Рот спрыгнул с коня и одним движением ловко сорвал с него покрывала. Конь захрапел и взвился на дыбы. Алы подошел и нежно стал гладить его по шее. Скакун повел глазами и успокоился. Светло-песочного цвета, с такой гонкой кожей, что сквозь нее проступала каждая жилка, с крутыми копытами, он перебирал ногами от нетерпения.
— У него нет ни шага, ни рыси, — сказал Золотой Рот, — успокой твое сердце. Кроме него, у меня есть в запасе более тридцати лошадей. Я оставил их там.
Он показал рукой на край пастбища и расхохотался в лицо Байзаку. Старейшина подошел к Алы и сказал:
— Байга будет на пятьдесят верст. Чтобы начать ее рано утром, мы сейчас пошлем мужчин, и ты поедешь с ними.
Алы поклонился.
— Золотой Рот, где находится ханум?
Вместе с Джанмурчи все трое пошли к юрте. Алы позвал женщин, приказал забинтовать руки пленницы,
— Ханум, завтра я буду бороться за нашу честь и жизнь. С тобой будет Золотой Рот, не бойся.
Он попрощался и вышел вместе с Джанмурчи, а Золотой Рот стал ухаживать за измученной, но повеселевшей женщиной.
Глава III КУТЕРМА-БАЙГА
Пестрая толпа гудела. Оглушительный крик ругающихся людей вырывался из общего шума. Шли последние приготовления к скачкам. Одни торопливо седлали коней, другие сбрасывали чапаны, чтобы ехать налегке, третьи обсуждали дорогу. Толпа возбуждалась все более и более. Женщины бегали и суетились. Дети вертелись под ногами и, получив шлепка, визжали, увеличивая общий шум. Все они приехали на жеребятах, чтобы видеть начало скачек. Подростки после бесконечной перебранки выехали вперед. За несколько верст они должны были остановиться, чтоб оказать первую помощь и подгонять лошадей. После них выехала вперед партия мужчин на лошадях. Потом десяток лихих наездников с гиком сорвался с места. Они должны были помочь в самом конце скачек. От них зависел исход борьбы. Везде сквозь орущие, кричащие голоса звучали одни и те же слова: «Саяк! Арык!»
Предстояла не простая скачка. Многие старики не помнили на своем веку такой кутерма-байги. Перед началом скачек Алы дал клятву старейшинам сдержать слово в случае поражения и играть честно. Такую же клятву он получил от них. По правилам кутерма-байги скакуна должны были вести в поводу без всадника. Лошадь передают от одной группы всадников к другой. Алы знал все это.
Он также знал, что некому вести в поводу его жеребца и потому он должен будет ехать на нем сам. По дороге он мог рассчитывать только на помощь Джанмурчи, так как Золотой Рот остался с женщинами. Поэтому он послал Джанмурчи с вечера к середине пути и приказал почти всех лошадей оставить возле юрты. Юноша готовился к байге, как это было принято у. него в роду. Он снял чапан, сапоги и остался в саном белье. Потом долго смотрел на запад и совершил намаз. Сделав земной поклон, он вскочил и спокойно пошел к коню. Погода не благоприятствовала скачкам. Тяжелые грозовые тучи затянули небо. На рассвете они клубились у вершины ледника. Потом обрывки их скатились вниз, разорвавшись на утесах, и оставили клочья тумана на больших колющих кустах. Кусты и скалы как будто дымились. Обрывки тумана долго не могли рассеяться в сыром воздухе. Белье сразу промокло на юноше и стало прилипать к телу. Он вздрагивал от холода, но не хотел обременять коня лишним грузом. Повернув голову к толпе, он закричал:
— Саяк, я готов!
Толпа загудела, зашевелилась.
Вперед выехал всадник с пустым конем в поводу. Кто-то закричал в ответ:
— Когда будет выстрел, поезжай!
Слова только что успели прозвучать, как сейчас же грянул выстрел, и всадники рванулись вперед. Толпа хохотала и свистела, видя, что Алы упустил начало скачек. Конь поднимался на дыбы, и с большим трудом Алы повернул его вслед за своим противником. Алы знал, что он не может дать противнику времени вперед ни одного мгновения; поэтому он не стал сдерживать коня и, засвистев у него над ухом, бросил повод. Конь сделал прыжок, потом еще и еще.
Наступила тишина. Алы зорко глядел вперед на холмы, стараясь ехать по прямой линии и не делать зигзагов. Скалы плыли мимо него, а конь шел все быстрее и быстрее. Скоро Алы увидел впереди своих противников и засмеялся. Он так быстро нагонял их, что можно было подумать, что они нарочно сдерживают коней. Через несколько минут Алы ровно и быстро проехал вперед.
Оглянувшись, он увидел разъяренное лицо и, наддав ходу, припал к шее коня. Прямо над ним, коснувшись спины, плавно развернулся аркан. Алы еще прибавил ходу. Сзади послышалось проклятие и, оглянувшись, Алы уже не увидел своего врага: он отстал за холмом. Впереди раздались крики и громкое ржание. Подростки на жеребятах ждали своего наездника, чтобы подогнать его лошадь. Алы вздохнул и направил коня в сторону. Он хорошо запомнил аркан и теперь решил сделать крюк. Скоро он увидел, что не ошибся. Несколько юношей протянули крепкую вереску и пытались пересечь ему дорогу, но не успели. Однако этого промедления было довольно. Всадник, оставшийся позади, вихрем промчался вперед, и Алы снова направил коня за ним.
Теперь он догонял его гораздо медленнее.
— Если впереди будут контрабандисты, я останусь сзади как баран! — с отчаянием подумал юноша.
Если бы с ним было хоть несколько человек, он проложил бы себе дорогу. Конь потемнел от дождя и был почти вороным, но дышал совершенно спокойно и ровно. Теперь он взял полный разбег и шел таким карьером, что у всадника слезились глаза от ветра. Спокойно держась в стороне, Алы снова обогнал противника. Опять впереди показалась толпа конных. На этот раз застава была из взрослых. Кони рвались от нетерпения и бесились. Алы уверенно направил коня прямо в толпу. В стороне были камни, и широкая промоина пересекала дорогу. Всадники расступились, так как иначе скакун убил бы несколько человек и Алы вихрем пролетел вперед. Пять человек сменили вожатого и, взяв повод коня, помчались следом. Алы оглянулся на них и с ужасом увидел, что они держатся на одном расстоянии и не отстают.
Скакун дышал по-прежнему ровно, но на удилах уже была пена. Впереди оставалось около тридцати верст. Алы огляделся. Камни плыли в бешеном беге, и кусты проносились с шумом мокрыми темными пятнами. Трава зеленым полотном стлалась под ровно бьющими копытами. Утесы и скалы в стороне как будто медленно повертывались боком на одном месте. Алы потрогал руками свои ноющие, затекшие ноги. Он старался рассчитать свои силы.
Сразу остановив коня, он спрыгнул с него и, поспешно расстегнув подпругу, сбросил седло. За эти несколько мгновений всадники с криками и улюлюканьем пронеслись вперед. Алы прыгнул на теплую спину коня и перегнал их в одну минуту. Конь, освобожденный от седла, снова далеко ушел вперед. Но зато теперь было труднее всаднику. Обгоняя контрабандистов, он увидел, что у коня, которого вели в поводу, уже были вытаращены глаза. Конь задирал голову, сопротивляясь тем, которые неумолимо тащили его вперед, и хотел замедлить шаг, чтобы передохнуть хоть на одно мгновение. Но его беспощадно хлестали плетьми и гнали вперед и вперед. Снова впереди показалась группа всадников. Алы знал, что Джанмурчи недалеко, и неистово гнал коня, хотя с его боков и удил клочьями летела пена. По закону кутерма-байги побеждает не всадник, а конь. Смерть не унижает победителя. Поэтому, если конь падает от изнеможений; ему отрубают голову и везут ее вперед, передавая один другому. Алы гнал коня и дорожил каждой секундой, хотя позади никого не было видно. По тому, как мимо ползли кусты и медленно двигались камни, он знал, что скакун теряет последние силы. В первый раз в жизни Алы заплакал. Он не стыдился своих слез и не сдерживал их, так как ему было жалко коня. Более сорока верст он пронес его впереди пустой лошади. Если бы были вожатые, которые передавали бы его из рук в руки, он без труда пришел бы первым. Тяжкий, прерывистый храп разрывал его ноздри.
Вдруг показалась ложбина. Одинокий всадник держал в поводу целый десяток лошадей и кричал, размахивая руками. Эго был Джанмурчи. Сердце Алы наполнилось горькой радостью. Победа делалась возможной, но смерть коня была неизбежна. Он чувствовал ногами его вздымающиеся бока и знал, что гонит его на смерть. Собрав последние силы, скакун понесся в бешеном карьере, но это была агония. Он пробежал несколько сот шагов и на всем скаку грохнулся оземь.
Алы кувырком слетел на траву, выхватил нож, висевший на поясе поверх белья, и побежал к коню. Конь дрыгал ногами. Изо рта у него широкой струей лилась кровь. Юноша стиснул зубы, перерезал ему горло и, пока отделял голову, кричал и звал Джанмурчи. Через несколько секунд он скакал вперед на свежей лошади, держа под мышкой свою страшную ношу. Залитый кровью, бледный и страшный, он мчался вперед, не жалея лошадей. Джанмурчи, не говоря ни слова, летел рядом, ведя в поводу вереницу рослых лошадок. Через две-три версты слабые лошади стали уставать. Оба всадника на карьере пересаживались с одной лошади на другую и перерезали повода, бросая тех, которые ослабели.
Джанмурчи нещадно хлестал лошадей плетью, но даже без седоков и седел они не могли идти достаточно быстро. Преследователи вынырнули сзади из-за холма и быстро стали приближаться. Вдруг Джанмурчи закричал от радости, У кустов впереди стояли привязанные три хорошие лошади. Их привязал Золотой Рот.
— Айда, айда, — как безумный, кричал Алы,
Он забыл гибель коня и стоически переносил острую безумную боль, которая охватила его ноги, сведенные судорогой. Его легкие, раздувавшиеся от встречного ветра, казалось, готовы были лопнуть. Сердце билось так, что его глухие удары отдавались в ушах, но, прищурив слезившиеся от ветра глаза. Алы стремился вперед, весь отдавшись мысли о близкой победе. Беспощадно избивая плетьми обезумевших, спотыкающихся коней, они домчались до привязанных лошадей и пересели, прежде чем преследователи успели их догнать. Сильное тело Алы дрожало каждым мускулом от усталости и, увидев впереди юрты пеструю толпу, он, не понимая, что делает, погнал коня прямо на людей. Онемевшей рукой он держал конскую голову и мчался, пока его взмыленный конь не врезался в толпу. Джанмурчи снял юношу с коня. Кто-то из толпы дал ему пиалу с кумысом. Но гробовое молчание толпы было единственной похвалой победителю. Босой, в одном белье, вымазанный кровью, Алы искал глазами Байзака и не нашел.
Тогда он обратился к старикам и потребовал у них коней, чтобы взять женщин и немедленно уехать. Никто не ответил ему ни слова. Джанмурчи снял халат с ближайшего старика и сказал:
— Батыр, эти псы даже не накроют наготы твоей!
Потом он набросил халат на юношу. Алы, еле переставляя затекшие ноги, пошел к юрте, вывел оттуда Марианну. Золотой Рот от ближайшей юрты отвязал несколько коней и подвел их к юноше. Недавние пленники хотели сесть на коней, но их окружила целая толпа, и Алы понял, что им добром не уехать. Тогда он сел на коня. Джанмурчи подал ему на седло Марианну, и юноша направил коня прямо на толпу. Отдельные тревожные голоса перешли в говор. Несколько человек схватились за повод и коню проехать не дали.
Глава IV РАЗГРОМ
Где-то недалеко грохнул выстрел, потом другой. И совсем близко загромыхала стрельба. Из-за холма ровным строем вынеслись пограничники. Они летели прямо
к становищу. Ровным карьерам они шли вперед, Й отдельные выстрелы контрабандистов не замедлили их движения. Мимо Марианны замелькали знакомые лица| красное обожженное лицо Кондратия, сурово ухмыляющийся Саламатин.
— Будай! Будай! — закричала Марианна, увидев мужа.
Дикий вопль нескольких сот контрабандистов словно приветствовал пограничников. Через несколько минут на пастбище стало тихо. Бледные,
растерянные контрабандисты бросали оружие и отходили в сторону. Пограничники окружили Марианну, Калычу и ухаживали за ними, как могли. Алы и Джанмурчи сияли от счастья. Кондратий с несколькими пограничниками рыскал по всему пастбищу. Он мельком взглянул на целый караван опия, «а толпу задержанных, на пруду оружия, сваленную на землю, и продолжал носиться на коне от одной юрты к другой.
— Байзак, где Байзак! — яростно бормотал он, но отца контрабанды нигде не было. Кондратий оцепил всё пастбище пограничниками и решил обыскать юрты. Когда собрали старейшин рода и они сели в круг, Оса позвал Алы и обратился к старикам:
— Где Байзак?
— Какой Байзак! — хором ответили старейшины.
— Разве я не разговаривал с Байзаком? — сказал Алы.
— Ты разговаривал со мной! — сказал старческий голос, и Алы увидел старика, которого напрасно искал столько времени.
— Кондратий, ты зря затеваешь все эти разговоры, — сказал сияющий Будай, появившийся рядом на коне.
Впереди него боком сидела Марианна с забинтованными руками, и он бережно поддерживал ее рукой.
— Я приеду в город, буду доказывать, что Байзак виноват, опрашивать свидетелей, а потом его посадят в тюрьму и сделают из него мученика. Я носился как черт по горам совсем не для того, чтобы увеличить его авторитет. Пойми ты это, — резко возразил Оса.
— Ты хотел разорить его и добился этого, — сказал Будай.
— Но популярность его от этого не уменьшилась. Пойми, о его бедности никто не знает. И если ты скажешь это им, — тут он показал рукой на стариков, — они не поверят.
В это время, расталкивая всадников, к Кондратию подъехал Джантай. Где-то сзади неожиданно раздался отчаянный крик:
— Уйдет, уйдет, товарищи!
Несколько всадников мчались как буря по зеленому полю. Вороные и рыжие кони уносились цветными пятнами в сумасшедшем карьере. Смех оборвался. Вся толпа пограничников кругом Осы мгновенно пришла в движение. Через несколько секунд все рассыпались лавой и летели вслед за контрабандистами. Из толпы беглецов грянул выстрел, и Юлдаш навзничь опрокинулся на круп лошади. Потом свесился и, прежде чем коня задержали, несколько раз ударился головой о землю. Лица пограничников стали более ожесточенными. Но никто не проронил ни слова. Кондратий снял с плеча свой карабин и, почти не целясь, выстрелил. Ближайшая лошадь взвилась на дыбы. Всадник вылетел из седла и, прокатившись по земле, остался неподвижен.
— На переймы, не пускай! — раздались крики.
Оса увидел, что джигиты Джантая и десяток пограничников мчались наперерез беглецам. Рослый скакун вывернулся в сторону из толпы беглецов. Все приняли его за Байзака. Подобно тому, как переливчатым лаем звенят гончие, когда уходит затравленный зверь, так преследователи разноголосыми дикими криками, перемешанными с выстрелами, огласили все поле. Кондратий снова вскинул свой карабин, но беглец скрылся за холмом. Пришпорив коня, во весь бешеный скок Оса взлетел на горку. Вороной конь мчался как ветер и был далеко. Алы. Вырвался вперед Кондратия и погнал коня за беглецом.
— Стой, стой, убьет! — кричали тревожные голоса.
Но Алы увлекся и продолжал хлестать коня плетью.
Услышав окрики, он хотел взять в сторону, но тут же увидел, что лошадь его была не взнуздана. Погорячившись, он не заметил этого. Всадник впереди на секунду задержал коня и сразу оказался в десяти шагах от безоружного Алы. Поднятые винтовки и клинки опустились в руках пограничников. Незнакомый контрабандист, пьяный от опия, направил револьвер прямо на юношу и глядел по сторонам, сдерживая коня на месте. Пограничники замерли. Все кони остановились как вкопанные. Кондратий хотел незаметно поднять карабин, но контрабандист повернул коня назад и свирепо закричал:
— Убью!
Потом он обратился к Алы:
— Твоя жизнь, как яйцо, которое я могу бросить на камень. Проси меня, чтобы я этого не сделал!
Алы побледнел, но молчал.
— Стой! — закричал Джантай. — Я отдам тебе тысячу баранов.
Кондратий что-то тихо сказал, и Джанмурчи закричал вслед за Джантаем:
— Кок-Ару отпустит тебя, не стреляй!
Пьяный грубо расхохотался. Кондратий мгновенно вскинул карабин. В ту же минуту бухнул выстрел, и Алы, взмахнув руками, упал с коня. Контрабандист рванул коня вперед, но кругом ожесточенно захлопали выстрелы, и конь завертелся на месте. Убийца спрыгнул с падающего коня и, шатаясь, побежал, припадая за камни. Из-за камня поднялся какой-то человек в отрепьях и бросился на него. Это был Батрхан. Он отлеживался здесь, спасаясь от Байзака. Снова закричали и загалдели всадники, торопя коней во весь дух, но было поздно. Батрхан обхватил изнемогающего беглеца, и они оба упали на землю. Умирающий контрабандист рычал, задыхаясь от гнева, и стрелял в упор в беззащитного беднягу. Батрхан отчаянно кричал, но не выпускал противника. Его ватные отрепья тлели от выстрелов. Когда все подъехали, оба еще дышали.
Кондратий спрыгнул, взял в повод коня Джантая и медленно повел его назад. Около Алы возились лекпом и несколько пограничников. Они поддерживали раненого в сидячем положении. Лицо юноши сразу осунулось, стало землистым и под глазами легли синие тени. Пешие и конные стояли толпой вокруг и молча смотрели. Вся грудь Алы была забинтована.
— Будет жив, — сказал лекпом, взглянув на Кондратия. — У него плечо прострелено навылет.
— А остальных поймали?
— Ну да!
— А Байзак там?
— Нету!
— Ну, чего стали? Поднимай! Особого приглашения ждете? — закричал какой-то грубый голос, и Алы унесли на шинели.
— А Юлдаш жив? — спросил Кондратий.
— Тому бок задело, — отвечал лекпом. — Ну, и руку пробило.
—
А не опасно?
— Выживет! Крови много потерял.
Кондратий поехал вперед, остальные последовали за ним. Четко и быстро он отдавал приказания и ни о чем не забыл. Он приказал подсчитать опий, перевязать Марианну и Калычу, переломать винтовки контрабандистов и собрать всех мужчин становища. Его спокойный властный тон, уверенные манеры и распорядительность быстро привели все в порядок. Женщины перестали голосить. Трупы были убраны, и через какой-нибудь час Джанмурчи позвал Кондратия. Пастухи молча стояли сплошной стеной, образуя огромный круг. Маленький наездник был сосредоточен, и взгляд его выражал решимость. Позади него шли несколько пограничников и Будай с Марианной. Теперь они не расставались и краснели от сочувствующих улыбок. Кондратий рассеянно глянул на цепь пограничников и джигитов Джантая, вошел в круг, подошел к старикам и сел на подушки. Старики смотрели в землю. Вид у них был понурый. Ни один взгляд не поднялся на начальника экспедиции. Красные, желтые, синие халаты, клочковатые белые бороды и темные липа с надвинутыми остроконечными шапками были неподвижны.
— Все ли старики здесь? — спокойно спросил Оса.
Все головы повернулись к нему. Внимательные темные глаза смотрели на него со всех сторон. Сморщенные старческие лица были неподвижны и бесстрастны, как маски. Была гробовая тишина, хотя несколько сот человек стояли сплошной стеной. Кондратий говорил раздельно и четко, взвешивая каждое слово. Его твердое, суровое лицо было спокойно.
— Отец контрабанды взял бедных людей и дал им в руки ружья, — сказал Оса.
Послышался покаянный вздох сгрудившейся толпы.
Кондратий продолжал:
— Разве они плохо жили, когда у них в руках были палки, чтобы гонять баранов?
Мертвое молчание было ответом на его вопрос.
— Они имели много мяса, а шерсть они возили на’ базар в город, — продолжал Кондратий, — но их позвал отец контрабанды, и они оставили свои юрты. Одни пошли через снежные горы и понесли в руках опий. Другие имели ружья, чтобы стрелять в пограничников. Вы — люди старые. У вас белые бороды и у многих на голове нет волос. Скажите мне, много они получили за это от отца контрабанды?
Никто не поднял головы. Никто не проронил ни слова. Кондратий снова заговорил, и старики склонялись все ниже и ниже к самой земле, как будто его слова пригибали их головы.
— Эти голодные люди работали для отца контрабанды, не имея для себя куска мяса. Они стреляли в пограничников, пограничники, обороняясь, стреляли в них.
Он замолчал, как будто предъявил обвинение, и ждал, что старики будут оправдываться. Незаметный старичок с тусклым лицом вдруг поднялся в середине круга, повернул к Кондратию бледное, измученное лицо и закричал:
— Мы все боялись отца контрабанды. Мы всегда у него в долгу. У меня два сына ушли в Китай и не вернулись. Если бы я сказал хоть одно слово, он выгнал бы меня здесь на траву, как барана. Куда я должен идти? Без юрты, без коня, без детей, которые повели бы меня, старого человека.
В ответ на слова старика сплошным воплем загремели голоса, перебивая друг друга. Все чуть ли не обвиняли Кондратия.
— Ты был далеко, а Байзак близко!
— Ты заплатил наши долги Байзаку?
Старик замолчал и сел на место. Оса не пожелал сразу же ответить на вопрос. Наоборот, он сам продолжал спрашивать:
— Отец контрабанды взял других пастухов и послал их в долину. Летом там много мух и жарко как на огне. Люди долины имеют плохой кумыс, испорченный от долгого пути. Они не едят мяса и потому худые как палки. Но он заставлял этих людей работать на опийных полях. С утра до позднего вечера они кланялись каждому цветку и собирали опий по капле. Что они получили за это?. Пусть они скажут.
Гробовое молчание повисло над всей толпой.
— Пусть они придут и похвалятся, — с язвительной улыбкой сказал Оса, — сколько каждый из них получил ударов по спине от Байзака. Пусть придут они, худые, голодные, похожие на вьючных ослов, которые прошли через большой перевал. Я буду слушать их плач об отце контрабанды.
Несколько минут прошло в молчании.
Вдруг какой-то старик вскочил. Его речь дышала страстным негодованием. Он бил себя в грудь после каждой фразы и оглядывал остальных.
— Отец контрабанды — хозяин всего скота, — сказал старейшина. — Завтра Зеленая Оса, уйдет отсюда. Кто будет хозяин на тысячу верст? Отец контрабанды. Когда мы хотели сеять пшеницу, мы не имели земли. Поэтому мы работали на опийных полях.
Помолчав минуту, он закричал снова:
— Что будет с теми, кто стрелял в пограничников? Мы все теперь обречены. Мужчин возьмет Кок-Ару! Останутся женщины и дети. Алла, мы погибнем в этих горах!
Он замолчал и сел.
Теперь наступил момент, которого Кондратий так долго ждал. Поэтому он громко и медленно проговорил:
— Кто придет в долину, получит землю. Это говорю я, Кок-Ару. Но нельзя сеять пшеницу и бегать по го рам, как архар. Если же захотите сеять опий, то казенная контора будет его покупать, но вы должны торопиться, или землю возьмут другие.
Он замолчал, улыбнулся и спокойно сидел, не обращая никакого внимания на адский шум, который поднялся кругом. Он думал о том, что опийная контора будет наводнена плантаторами, которые по крайней мере первые годы будут честно выполнять свои обязательства… Десятки голосов исступленно кричали, обвиняя его в издевательстве и укоряя за насмешку над погибающими людьми, но он сидел и молчал.
— Мы не знали, что ты можешь дать землю, но у нас были мужчины! Теперь ты даешь нам землю, но берешь наших мужчин! Ты делаешь нехорошо, ты смеешься, над людьми, которые должны умереть с голоду!
— Я ни над кем не смеюсь, — отвечал Кондратий, и никто не умрет с голоду. Со мной поедут лишь пять человек, которые были с отцом контрабанды. Пусть остальные идут работать и никогда не приближаются к границе!
Радостный крик толпы покрыл его слова.
Он хотел говорить и не мог. Тогда он закричал на ухо Будаю, стараясь перекричать гул, визг и крики:
— Кажется, все-таки я отнял у Байзака этих людей.
По всему пастбищу стоял гул. Люди бегали в разные стороны, как будто гонялись в перегонки. С юрт поспешно срывали кошмы, вели верблюдов, разбирали остовы юрт, похожие на просвечивающий скелет, и растаскивали их по палочке. На земле оставались правильные втоптанные круги с пятнами золы от очагов. Гремели посудой, увязывали скарб, тороплива сгоняли в одно место стада, и над всей этой возней стояли непрерывающиеся гам и крик. Пограничники переглядывались и ухмылялись.
— Ишь ты, поддали жару-то.
— Бегут. Лучше, чем от пули!
— Побежишь за землей-то! На свободу от Байзака!
Будай обнял Марианну, подошел и весело проговорил:
— Ты благополучно закончил экспедицию, ты забил все склады конторы опием и разгромил контрабандистов!
Он протянул руку своему другу, но лицо Кондратия омрачилось.
— Я разорил главу контрабанды, но это только половина дела. Я должен как-то воспользоваться нашей победой. Теперь Байзак нищий. Помнишь, ты сам говорил, что, если он обеднеет, все его враги подымутся против него, но это пока не так. Контрабандисты все равно будут группироваться вокруг него, и я не знаю как, но я должен разрушить его авторитет.
Кондратий замолчал и вместе с Марианной пошел посмотреть на Алы. Юноша был бледен от боли, но улыбался и не стонал. Калыча и несколько джигитов не отходили от него. Недалеко в больших котлах варилась баранина для отряда. В медных кунганах кипятили чай, и вкусный горьковатый дым тянулся далеко по пастбищу. Пригревшись на солнышке, один из пограничников достал иглу и тщательно штопал штаны.
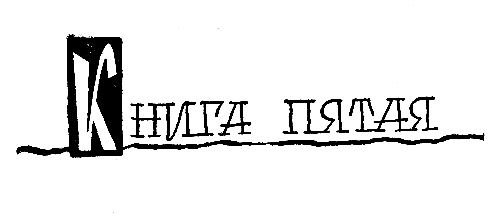
Книга пятая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Глава I СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ
Снова потянулись дни в непрерывном конном беге. Всадники Джантая шли впереди. С утра до вечера слышался говор в тесной толпе, которая где-то внизу словно перебирала в быстром беге конскими ногами. Следом рысью шли носилки, в которых лежали раненые. На двух лошадях плавно покачивались гибкие длинные шесты. Бледный Алы, потом Марианна с перевязанными руками и гигант Юлдаш. Длинные носилки колыхались вереницей, а по бокам ехали всадники. Они поили раненых кумысом и угощали последней карамелью, которую выискал Саламатин в недрах «чихауза». Кондратий шел только по благополучным долинам. Он избегал даже незначительных перевалов.
Высокие холмы из сплошной глины дышали жаром, вызывая испарину по всему телу. Желтая пыль клубилась под копытами коней и покрывала желтым налетом одежду и лица. Потом приходила молчаливая душная ночь.
С каждым днем отряд спускался все ниже и ниже. Люди томились в тяжелом сне, а с первыми лучами солнца возобновлялся бег вниз, и опять носилки плавно покачивались и, как будто скользя, сворачивали за холмы. Кони шли легко, не сбавляя рыси. Пологие спуски открывались за каждым холмом, и перед путниками развертывались красные, желтые пространства глины с зелеными пятнами пастбищ. Предстояло около восьмисот верст пути, и Оса рассчитывал покрыть все расстояние в две недели. Будай словно вернулся к жизни за эти дни. Он все время был около Марианны. Целыми часами, пока она спала, убаюкиваемая плавным качанием носилок, Будай рядом покачивался в седле. Он поправлял покрывало из легкого шелка, закрывавшее ей лицо, подавал ей кумыс, когда она просыпалась, и, не отрываясь, глядел на ее бледное лицо. Пограничники сочувственно перемигивались и держались поодаль, чтобы не мешать. Но если встречались родниковая вода или кислый щавель, который едят от жажды, кто-нибудь из них догонял и со словами: «Товарищ командир!» — протягивал Будаю.
Через несколько дней топочущая толпа в триста человек спустилась версты на полторы. Лица горели от солнечного жара, как будто после зимы сразу пришло жгучее лето. Ненужные кожухи и чапаны завьючили позади седел, и неуклюжие фигуры всадников стали тонкими и гибкими. Снеговые горы проходили в стороне, и ледники далеко вверху, казалось, поворачивались на одном месте. Теперь их прохладному ветерку были рады, как свежей воде. Бесконечные ручьи и речонки беспрестанно пересекали дорогу. Небо стало темно-синим и теплым. Когда спустились еще ниже, ущелья стали глубокими и начались звериные тропы. На карте они были обозначены как большие проезжие дороги. Оса злился, часами выгадывая путь. Он не хотел ни малейшего риска и в то же время торопился. Мерный топот коней тянулся до конца дня. На пологих местах пестрая перемешанная орда пограничников и джигитов шла развернутым строем: на тропах вытягивались гуськом, не останавливаясь и не замедляя бега.
Перед вечером по черно-синему небу разливалось кровавое зарево и плыли золотые облака с расплавленными краями. Косые лучи солнца на поворотах над пропастью касались всадников, а кони оставались в тени. Темное ущелье от мрака казалось бездонным провалом, а над ним на повороте вдруг ярко выступала фигура всадника в цветном халате пли в зеленой гимнастерке. Один за другим они мелькали, освещенные до мельчайших подробностей, и мгновенно за поворотом исчезали в темноте. За каждым слышался только лязг копыт. Продольные тени сни-;у все гуще закрывали расщелины скал. Тогда Оса выбирал безопасную лужайку над пропастью и разбивал лагерь.
Близко и мирно звенел ручей. Пока успевали развьючить лошадей и уложить раненых, наступала полная темнота. Зеленоватый свет луны стлался белыми полотнами по ребрам скал, дрожал бронзовым туманом над пропастью и делал мертвенно-бледными лица людей. Отрывистые голоса, фырканье коней, пущенных на траву, — все казалось необычайным и таинственным. Марианна и Калыча шли и усаживались около Алы. Потом вспыхивал костер, грели чай и жадно пили его, обжигая рот и наслаждаясь запахом дыма, который напоминал жилье.
Марианна ожила. Вокруг были такие близкие, родные люди! И улыбающийся на носилках Алы, и хмурый, грозный Джантай, сидевший по целым часам у изголовья сына, и смутные, таинственные фигуры часовых, скользившие над бездной по опасной тропе. Джанмурчи пел о подвигах молодого батыра, о блестящих глазах Калычи, о Кок-Ару, который чуть не погиб на Черном Леднике, и про злого Ибрая, который погубил трех бойцов.
Жильные струны тосковали и радовались, грозили и тут же начинали колыбельную детскую песенку, а Марианна лежала в стороне и смотрела на огонь костра, на двигавшиеся фигуры людей. Иногда слышался лязг стремян и воркотня, когда кто-нибудь копался в сложенных седлах, стараясь найти махорку. Рядом сидел Будай и вздрагивал, слушая рассказы Марианны о пережитом, а недалеко в темноте одинокий Кок-Ару посапывал трубочкой, которая вспыхивала как огненный глаз.
Он часами сидел один и думал о Байзаке. Пограничники долго с перебранкой расстилали потники и одеяла, которые поднимались буграми от упругой гривы. Марианна и Калыча старались лечь клубочком, чтобы камень не давил бок. Марианна лежала, боясь пошевелиться и потревожить соседей, прищурив глаза, замечала над собой озабоченное, сочувственное лицо Джантая. Потом забывалась крепким сном и, открыв глаза от предутреннего холода, видела, что костер уже догорал. Около него еле было видно людей, которые лежали вповалку.
Белый дым протягивался и клубился
над пропастью. Потом туман подымался и горел зеленым и оранжевым золотом под лучами луны. Перед самым рассветом наступала холодная тьма и тишина. Только по тропе были слышны тихие голоса или покашливание часовых. Серый холодный рассвет, сырость от крупной росы будили всех. По окрику часового мужчины просыпались как один. Полуодетые джигиты в белье и пограничники перебрасывались шутками и седлали коней.
Марианна просыпалась, когда уже весь лагерь был
в движении. Она выпивала горячий, дымный чай, терпеливо переносила перевязку и через минуту снова спала
в качающихся носилках. На двенадцатый день с утра джигиты перевалили небольшой гребень.
За ними рассыпанной лавой с гиком и свистом помчались бойцы. Далеко внизу стало видно черно-синее пространство Иссык-Куля. Теперь все знали, что они дома. Джантай, ехавший рядом с Кок-Ару, вдруг тронул его ногу стременем и показал вперед. Снизу мчались всадники, рассыпанные по полю. Они держались в одну линию и летели прямо навстречу. Джантай испугался и торопливо заговорил, обращаясь к Кондратию:
— Кок-Ару, победитель должен петь свою победу!
Оса ничего не понимал, но лицо его стало тревожным и озабоченным. Он знал, как много значит обычай
в Азии. Джантай продолжал:
— Они выставят певца, который будет смеяться над нами. Если мы не победим их в песне, они отвернутся от нашей славы. Таков обычай. Они будут помогать контрабандистам. Если аллах даровал победу воину, то уста его открыты и так же грозны, как и меч в руке.
Оса внимательно слушал и пыхтел трубкой. Он решил быть любезным и выиграть время, чтобы осмотреться и выйти из затруднения. Всадники приближались головоломным карьером, растянув поперек пути длинную веревку.
— Кок-Ару, не переходи аркана, — сказал Джантай.
И Кок-Ару на всем скаку осадил коня.
Какой-то молодой человек в вывороченной меховой шапке весело приблизился. За ним ехал другой, постарше. Передний всадник оскалился во весь рот так, что его узкие глаза заплыли. Он ехал, приветливо протянув правую руку вперед для рукопожатия. Оса незаметно глянул на Джантая. По сморщенному лицу старика мелькнул испуг. Оса понял. Выпрямившись в седле, он проехал мимо протянутой руки, глядя вперед перед собой. Потом он так же проехал мимо второго приветствовавшего его всадника. Оглянувшись, он, к своей великой радости, увидел, что Джантай сделал то же самое. Сзади раздались крик и одобрительный хохот встречавших.
— Ты молодец, — сказал Джантай, — ты избавился от унижения: это были шуты, которых выставили навстречу. Я хотел предупредить тебя, но не успел.
Встречавшие громко издевались над неудачей паясничавших скоморохов. Кондратий решил быть еще более осмотрительным. Всадник, с которым он не поздоровался, обогнал его, слез с коня, взял его лошадь под уздцы и с покорным, почтительным видом повел коня в сторону. Джантай утвердительно кивнул головой, и Кондратий не противился. Он понял, что его зовут в гости. Весь отряд свернул за ним.
Через несколько сот шагов в котловине открылось становище. Оно имело вид спокойный, благополучный. На бугре паслось стадо; над белыми большими юртами вился дым, но все население-мужчины, женщины, дети- стояло толпой и ожидало гостей. Впереди были старики верхами на отличных лошадях. Старик с длинной белой бородой, в парчовом серебряном халате, выехал вперед и подал руку Кондратию. Кавалерист улыбнулся. Теперь он не нуждался в подсказке. Он увидел, что вся толпа ждала какого-то зрелища.
На траве были разостланы ковры. Джигиты Джантая тесной толпой на конях наполовину окружили это небольшое пространство. Все население юрт столпилось с другой стороны. Приветливо улыбаясь, старик с одутловатым желтым лицом показал рукой Кондратию на свободное место.
— Откупитесь! Откупитесь! — кричали и визжали жены и дочери хозяев.
Джантай важно покачал головой в знак отрицания и пошел в круг вместе с Кондратием. Будай и пограничники последовали за ним. Вместе со стариком в парчовом халате вое уселись на ковре в круг. Из толпы хозяев вышел тщедушный юноша. Вначале он пропел несколько былинных куплетов, как это обычно бывает, когда встречают гостя. Потом без всякого предисловия сделал насмешливую гримасу и запел:
Мы видели побежденных!
Они со стыдом влачились в долину.
Они шли, как будто сзади
Их подхлестывал кнут.
На секунду певец замолк, насмешливо поглядев на Кондратия. Оса побледнел от гнева, но сдержался. Певец продолжал:
После побежденных
Мы увидели победителей.
У них были красные лица,
От солнца кожа слезла до мяса,
Часть победителей утопил Ибрай.
Победшели ловили отца контрабанды.
Не им бегать по горам, преследуя контрабанду!
Они радуются опию, который захватили,
И довольны, что видели спину контрабандиста.
Так ребенок радуется полету орла.
Взрыв хохота прервал песню. Джантай с беспокойством оглядывался. Джанмурчи с гордо поднятой головой вошел в круг, чтобы отвечать, но в толпе произошло движение и общее замешательство. Послышался ропот удивления и испуга.
Толпа расступилась, и показался Алы. Он был в одном белье, бледный как призрак. Чапан был наброшен ему на плечи. Босой, с непокрытой головой, качающийся от слабости как в день своей победы на байге, он шагнул вперед, отстранил рукой Джанмурчи и взял у него из рук инструмент. Кондратий готов был послать всех к черту и уложить Алы на носилки, но Джантай удержал его за руку и сказал:
— Бала будет петь о своей чести.
Кондратий остался сидеть. Еле перебирая струны, так как у него болело плечо, Алы запел слабым, но твердым голосом:
Два человека скакали
На кугерма-байге
И победили семьсот,
И это правда.
Ропот одобрения пронесся по толпе. Алы перевел дух и продолжал:
Зеленая Оса и тридцать орлят
Взмылись над тучей ворон!
Они били их когтями и клювами,
Пока не одержали победы.
Вороны каркали и просили пощады.
И это — тоже правда!
Он снова перевел дух, и снова громкий ропот одобрения заглушил бой жильных струн.
Робкие пастухи
С языками, длинными, как коса женщины,
Не видали мужских дел.
Они слыхали про Джаксалы,
Который был подобен скале и дубу,
Но Джаксалы убит
В честной схватке один на один!
Он замолк и, ударив несколько раз по струнам, повернулся, чтобы уйти.
Сорвавшийся неистовый гром аплодисментов и рев толпы приветствовали победителя. Щеки Алы порозовели от тщеславия. Джанмурчи бережно взял его под локоть и повел, чтобы уложить.
Джантай смеялся от радости, но продолжал сидеть. Тогда старик в парчовом халате изобразил недоумение на своем припухлом лице. Он указал рукой на своих собственных родственников, стоявших тесной толпой, и с негодованием сказал, обращаясь к Кондратию:
— Чего хотят эти люди? Они — как дети, которые смотрят на орлов в небе, спускающихся с гор, и говорят глупые слова!
Потом вскочил и с шутливым гневом закричал:
— Убирайтесь, убирайтесь!
Толпа брызнула во все стороны по пастбищу с хохотом и визгом, и состязание окончилось. Старик приветливо показал рукой на юрты. Смешанная хохочущая толпа пограничников и джигитов рассыпалась по юртам, и гости приступили к еде. Старик позвал к себе Кондратия и Джантая. Марианна и Будай последовали за. ними. Вся юрта была заставлена блюдами с едой. Тонкая высокая девушка с плоской гибкой фигурой и угловатыми плечами кланялась гостям и здоровалась за руку.
— Хорошая? — спросил старик, шурша Парчовым халатом.
Джантай закивал головой. Девушка была в самом деле красива. Ее темные влажные глаза с длинными ресницами смотрели ласково и немного насмешливо. А тонкий хищный нос с горбинкой придавал лицу слегка надменное выражение.
— Я требовал за нее пятьдесят коней, сказал старик. — Но твой сын может ее взять без калыма.
— Да, да, он сейчас же возьмет ее! — закричал Джантай, и старики схватили друг друга за руки.
Девушка вспыхнула и убежала из юрты. Кондратий расхохотался и хотел заступиться за своего юного друга, но посмотрел на Джантая и передумал. Он философски пожал плечами и сел к блюду с бараниной. А когда после обеда все стали отдыхать на шелковых одеялах, он услышал, как ворковали Марианна и Будай. Он снова запыхтел своей трубкой, и его мысли невольно вернулись к Байзаку.
Глава II ОСЕННИЙ СУД
На другой день конный бег продолжался. Джантай был встревожен. Он беспокойно оглядывался по сторонам. Кондратий поглядывал на старика, но не задал ни одного вопроса. Он узнал, что Джантай, по выражению
Саламатина, имеет неприятности в семейной жизни. Покачиваясь в седле и попыхивая трубкой, Кондратий скромно молчал, а старый разбойник оглядывался по кустам, как будто ждал Нападения. Алы и его невеста уже успели поссориться, и Алы даже, кажется, ударил ее камчой. Джантай был мрачен. До Каракола оставалось не больше сотни километров. Кондратий полагал на другой день к вечеру быть дома и теперь, как Будай, избегал насмешливо-сочувствующих взглядов пограничников.
Началась жгучая долина. От жаркого солнца растоптанная полынь приятно ударяла в голову острым, горьким ароматом. Саламатин, у которого не было никого на свете, жалобным тенором запевал украинские песни о доме, и хор подхватывал. Джантай щурился ог яркого солнца, сдвигал на глаза меховую шапку, из-под которой по морщинистым щекам струился пот, и все продолжал оглядываться.
— Он проехать хотел, — сказал наконец Джанмурчи, хитро посмеиваясь, — но теперь не может.
Проводник не договорил: на повороте внизу открылось большое становище. Джантай сдержал коня.
— Чего ты останавливаешься? — спросил Кондратий.
— Лето прошло, — отвечал разбойник, — трава уже стала желтая. Когда летом тепло, киргизы бывают далеко. Кто убьет, ничего не будет. А осенью, когда вниз уходят, старики каждому роду суд делают. Я тридцать пять лет в долину не ходил. Стариков не видел. Теперь судить будут.
— А ты не останавливайся! — сказал Оса. — Поедем со мной.
— Нельзя нарушать обычай, — твердо ответил Джантай и повернул в сторону.
Кондратий приказал Будаю вести весь отряд в город,
а сам свернул за Джаитаем. Носилки Алы тоже повернули за стариком Несколько рослых пограничников, которых выделил Будай, со спокойным любопытством ждали, что будет дальше. Вся колонна протопотала вперед и скрылась в желтой туче нависшей пыли.
— Разве можно спрятаться от народа? — сказал Джантай.
Он слез с коня и, тяжело ступая по длинной скользкой траве, пошёл в гору.
— Если я не пойду на суд, пшеницу вытопчут, воду отведут, коней раскрадут.
— Хорошо, я буду с тобой, — сказал Оса, идя за ним.
Только тут он заметил, что впереди них шел старик. Джантай, следуя за ним, продирался через колючие кусты, пока наконец они не поднялись до большого камня. Перед ними открылась небольшая ложбина, поросшая кустарником. Пять или шесть стариков, таких древних, что казалось, будто они вросли в землю, торжественно и молча сидели на камнях. Их бороды позеленели от времени. Казалось, что они сидят здесь всегда, молчаливые и неподвижные, с застывшими глазами, похожие на идолов. Парчовые халаты горели на солнце. Джантай подошел с опущенной головой, сложив руки, как подсудимый. Оса легко взбежал за ним. Дно ложбины поднималось круто вверх, и старики сидели один над другим. Командир спокойно сел на камушек и закурил трубку.
— Джантай; — слабым, детским голосом заговорил старичок, сидевший ближе других, — ты хорошо сделал, что пришел сюда. Ты соблюдаешь обычай; это хорошо. Но кровь, которую ты пролил, не высохла в нашей памяти.
Он умолк и остался по-прежнему неподвижен.
— Я покоряюсь! — сказал разбойник.
Тогда старик, сидевший на камне выше всех, начал называть какие-то имена одно за другим — киргизские и русские, китайские и дунганские. После каждого имени Джантай говорил:
— Да, я готов заплатить за его кровь!
Потом Джантай замолк и только кивал головой в знак согласия. Казалось, что это никогда не окончится. Старик шамкающим голосом бормотал наверху имена, а Джантай все кланялся. Вдруг он перебил судью и сказал:
— Этих двух людей я не убивал, они упали в пропасть. Я только взял их товары. Людей кругом не было.
Старик не стал прекословить, и его речь, состоявшая из одних имен, полилась дальше. Когда наконец он умолк, Джантай сказал:
— Больше половины этих людей я не убивал.
— Так какого же ты черта молчал! — вскричал Кондратий.
— Йэ! Кто может перебивать судью?! — со страхом спросил Джантай.
После этого совершенно неожиданно для Кондратия судья и разбойник вступили в торг Джантай отказывался от целого ряда приписываемых ему преступлений. Он ссылался на многих свидетелей, которые, оказывается, уже были известны судьям. Наконец дело свелось к тому, что Джантай обещал уплатить пятьсот баранов. Он снял шапку, вытер пот со лба и хотел уходить, но в это время один из судей сказал:
— Два дня назад твой сын обидел свою невесту. Она дочь манапа. Но, кроме того, нехорошо, когда обижают женщину. Пусть молодой человек три дня молится в мазаре, чтобы искупить вину. Так решил суд..
Джантай ухмыльнулся, поклонился и пошел к дороге.
— Что же, это хорошо! — сказал он, обращаясь к Кондратию.
Кондратий что-то пробормотал о проклятой комедии, Ко Джантай его не понял. Все молча сели на лошадей и поехали догонять отряд. Через полчаса пути они увидели у дороги глиняные развалины мазара. Здесь была могила святого. Длинный шест саженей в пять длиной поднимался из-за стены, и на шесте висел конский хвост в знак того, что это место свято. Джантай остановил коня с носилками Алы, и юноша с усилием опустился на землю.
— Ты совсем больной, — сердито сказал Оса. — Все это глупости, пусть старики сами сидят в этой дыре.
Алы упрямо улыбнулся и пошел к мазару. Джантай последовал за ним. Кондратий плюнул от злости и ударил коня камчой. Красноармейцы с сожалением поглядели на юношу и тронулись за командиром. Алы медленно вошел в мазар. Это была небольшая постройка. Высокая глиняная стена, наполовину развалившаяся от времени, окружала четырехугольным забором большую, поросшую травой могилу. Ветхая деревянная дверь в глинобитной стене была вся изъедена червоточиной. На могиле стоял глиняный кувшин с водой и лежало несколько лепешек. Алы понял, что это все его пропитание на три дня. Как надлежит кающемуся, он сел на могилу и остался неподвижен. Потом ему стало скучно. Он снял чапан, разостлал его в тени около раскаленной стены и, съев лепешку, заснул как убитый.
— Алы-батыр! — сказал женский голос.
Алы открыл глаза. Была ночь. Луна, спокойно поднявшись над мазаром, сияла вверху. Алы зажмурился и не шевелился. Холодный ужас прошел у него по всему телу. Он решил, что святой хочет с ним побеседовать. Голос звал его все более настойчиво. Алы не выдержал и открыл глаза. Через стену смотрело на него миловидное лицо Батмы. Он понял, что девушка сидит на коне, и рассердился на нее за свой испуг.
— Здравствуй!..
— Мне жаль, что ты сидишь здесь, — печально заговорила девушка, пытаясь лучше заглянуть через стену и рассмотреть Алы. — Я чуть не загнала коня, чтобы накормить тебя. Если ты позволишь, я внесу это тебе, — и она положила на верх стены сверток, который сняла с седла.
Она нагнулась и мгновенно исчезла. Потом ее лицо снова появилось над стеной, и она проговорила с улыбкой:
— Кроме того, я привезла много мяса.
— Ты пришла нарушить мой пост?
Лицо девушки исчезло. Юноша услыхал ее плач и потом хрумканье коня в темноте. Он знал, что конь должен поститься вместе с ним. Прежде чем заснуть, он тоскливо слушал, как голодный конь бил копытами в землю, но теперь решил, что шайтан хочет, чтобы он выглянул из мазара.
— Скажи, правда ли, что мой конь ест траву? — обеспокоенно спросил он.
— Да, — отвечала Батма, смеясь сквозь слезы. — Он умнее своего господина и потому ест, когда ему предлагают.
Она замолкла, потом заговорила, понизив голос:
— Я приехала к тебе, чтобы спасти твоих друзей. Я знаю, что ты их любишь, но ты сделался муллой, и я сейчас уйду.
— Куда ты уходишь? — закричал Алы.
— Мои женщины охраняют стадо, — с притворной печалью отвечала Батма. — Сейчас лунная ночь, и волков нет. Мужчины устали за день и спят. Молодые девушки ждут своих пастухов. Пастухи приходят и говорят слова любви. Я пойду к пастухам. Мой любимый стал святым, но я — не гурия и потому ухожу.
— Подожди! — закричал Алы. — Правда ли, что моим друзьям угрожает опасность?
— Байзак собирает долги. Он будет прощать всем, кто ему должен, но за это собирает их подписи против Кок-Ару. Тогда Джантай не сможет быть и одного дня на пшенице. Он уйдет в горы, и вместе с ним ты. Поэтому я пришла, чтобы предупредить тебя.
— Я, останусь здесь, — угрюмо ответил юноша.
— Джантай уйдет в горы, если несчастье случится с Кок-Ару, — сказала девушка. — Джантай никому не верит, кроме Осы. Поэтому я буду его спасать. А ты, если можешь сделаться святым за три дня, сиди здесь.
Алы видел, как ее тонкая фигура скользнула по холму, и сам, не понимая хорошенько, что делает, вышел из мазара. Девушка помогла ему подняться и лечь на носилки, взяла в повод коней и помчалась к городу. Скоро черными колоннами показались тополя и замигали огоньки домов. Они протопали по пустынным улицам и остановились около маленького домика Осы. Комната была набита народом. Пограничники и джигиты разговаривали и смеялись, а Джантай сидел в кресле, поджав под себя ноги. Когда какая-нибудь нога свешивалась, старик подтягивал ее рукой, подминал ее под себя и снова устраивался так же удобно, как на полу. Кондратий попыхивал трубкой и слушал разговоры, которые гудели по всем углам комнаты. Его жена еле успевала наливать чай из самовара такой величины, что он делал комнату похожей на чайхану.
Глава III ОХОТНИКИ ЗА БАРМАКАМИ
— Кок-Ару! Они хотят взять тебя на бармак, — коротко сказал Алы.
В комнате воцарилось молчание. Все присутствующие хорошо знали, что значат эти слова. Под всякой клеветой вместо подписи за неграмотностью прикладывается бармак. Выражение «взять на бармак» обозначало безысходную, непоправимую клевету. Сотни порабощенных, забитых пастухов подписывали по приказанию бая или манапа какую-нибудь кляузу. Целые аулы младших родственников клятвенно подтверждали клевету и брали врага на бармак. История Будая живо всплыла в памяти всех, и ни один голос не прерывал молчания в маленькой комнате.
— Кто? — спросил Джантай.
— Байзак. Он говорит, что половину опия украли, что пограничники без денег брали баранов в юртах.
— Алы, — перебил Джантай, — так они будут говорить для русских начальников, которые ничего не понимают, Но как он хочет говорить тем, кто приложит пальцы?
— Байзак простит им все долги, — отвечал юноша.
— Что же ему должны пастухи? — спросил Кондратий.
— Опий, — отвечал юноша. — Они могут заплатить скотом или деньгами, так как у них нет черного теста. Но если он простит долг, они сделаю для него все.
— Пусть при мне никогда не говорят всех этих глупостей, — твердо сказал Оса. — Мне все равно, какая сорока бегает по пастбищам с бумагой. Я отвечаю только перед законом.
Никто ему не ответил. Несколько человек тихонько вышли на улицу, не прощаясь. Остальные не разговаривали. Все были подавлены очевидной беспомощностью Осы и надвигающейся опасностью. Джантай попрощался с Кондратием и сказал, что спать он будет в чайхане. Потом вместе с сыном вышел на улицу. Они шли, тихо разговаривая о чем-то. Потом к ним присоединилась Батма. Джантай постучал в чайхану, и при тусклом свете лампы начался маслагат, а через минуту по улице бешенно промчались несколько всадников. — Это были джигиты Джантая.
— Эх, возьмут командира на бармак! — сказал Саламатин, глядя вслед всадникам.
Юлдаш, шедший рядом, вздохнул и ничего не сказал. Больше они не обмолвились ни одним словом и вошли в казарму. Сонный дневальный впустил их в чистые, но душные комнаты с каменным полом. Расставленные кровати виднелись белыми смутными пятнами, и на них под одними простынями беспокойно спали пограничники.
Друзья вышли на двор и прошли в конюшню, где большой фонарь висел под навесом и слабо освещал ближайших коней.
Животные фыркали и задумчиво вздыхали, опустив головы в ясли.
— Вы чего шляетесь? — спросил дежурный.
— Прошляешься, когда человек службу бросает, — ответил Саламатин.
Дежурный сокрушенно покачал головой и ушел в казармы. Юлдаш потрепал по шее коня и горько сказал:
— На пастбища приду, даже коня не будет, ничего не заработал. Ты знаешь, у нас от юрты к юрте и то пешком не ходят.
Потом он потрогал рукой свои штаны.
— Казенные сниму, своих нет.
— Ты Лазаря-то не пой, в таможне около тысячи премиальных получить придется, — сказал Саламатин, но потом тихо добавил: — Конечно, для твоего хозяйства это немного. Одна юрта этих денег стоит. Конечно, такая, чтоб жить можно было. Ну, лошадь там, конечно, баранов, и останешься ни при чем. Ну, вещички у тебя все-таки есть?
Юлдаш не ответил. Оба пришли в казарму, вытащили из-под кровати обитый жестью сундук, и Юлдаш достал из-за пазухи ключ. Замок звонко щелкнул два раза, и великан открыл крышку.
— Давай посмотрим приданое, — сказал Саламатин.
Он хотел ободрить товарища, но ему было не по себе.
На дворе забрезжил рассвет, и кругом поднялась суета. Полуодетые пограничники вытирались после умыванья, оправляли постели и переругивались во дворе. Юлдаш чувствовал себя оторванным от всей этой жизни и задумчиво глядел в сундук. На крышке изнутри была набита гвоздиками картинка из какого-то журнала. Из сундука крепко пахло самодельным киргизским сукнам и мылом. Поверх всего лежали старые порыжелые сапоги.
— Что же, разве и обуться не во что, берегешь? — без насмешки, деловито спросил Саламатин, потянув за носок рыжий сапог.
— Казенные сгорели, а эти сапоги я снял с него.
— С Джаксалы?
— Да.
— Ну, и здоров был, ноги-то как у медведя! — сказал Саламатин с поддельной веселостью, шмыгнув носом.
Юлдаш улыбался с печальной радостью и смотрел на свою изуродованную руку.
— Теперь конем как буду править?
— Ехать-то тебе сколько?
— Иллик чакрым. (
Пятьдесят расстояний человеческого голоса.)
— Ну, это по-вашему как будто и близко, а я так думаю, что недели три. Один этот чакрым едешь, едешь с утра до вечера, к вечеру спросишь, сколько осталось, один чакрым. Провались он совсем.
Юлдаш улыбнулся.
— Оно што главное, — заговорил Саламатин, критически перебирая и оглядывая белье и дешевенькие подтяжки, — начни костить, три года собирать будешь, а глянешь — и нет ничего.
Потом он стал рассматривать порыжелые сапоги, как будто не замечая печального взгляда Юлдаша.
— Ишь ты, каблуки железом подбиты, а До чего стер! Это он все по горам бегал. Постой-ка, постой! — продолжал он, разглядывая еле заметные кружки на железе. — Ведь это винты!
Юлдаш безразлично молчал. Саламатин вдруг поднялся с места, одним прыжком бросился к ружейной стойке.
Он стал тарахтеть какими-то цинковыми ящиками и, достав отвертку, принялся ковырять ею каблук. Саламатин был возбужден до последней степени. На лбу у него выступил пот. Юлдаш по-прежнему сидел
безразличный и неподвижный. Саламатин поддел отвертку под железную пластинку и нажал ее изо всей силы. Что-то треснуло, и Юлдаш вскочил с места. У обоих заняло дух. Железная пластинка отскочила. Внутри каблука показалась белая чистая вата.
— Коробочка железная, — пробормотал Саламатин и, глядя на кивающего в такт словам Юлдаша, дрожащими пальцами бережно вытащил вату.
В коробке не было ничего. Разочарование показалось на лице завхоза, и он как будто сразу похудел и осунулся. Потом, пощупав вату, он почувствовал что-то твердое и мгновенно стал малиновым. Бережно он высвободил из ваты два крупных, прозрачных камня, каждый величиной с горошину.
— Бриллианты! — прошептал Саламатин, глядя веселыми безумными глазами на Юлдаша.
Великан ничего не успел ответить, как завхоз взломал второй каблук. Он сделал это так поспешно, что слегка поранил себе руку. Снова вытащив вату, он так же бережно достал еще два камня.
— Алла, алла! Джаксала наследство принес! — заорал Саламатин во все горло и выбежал во двор…
Он крепко зажал пальцы в кулак, а другой рукой как клещами тащил за собой Юлдаша. Он не слышал окрика взводного и чуть не бегом бросился на улицу. В воротах он натолкнулся на Кондратия и остановился как вкопанный.
— Ты куда это летишь, как обозный конь? — холодно проговорил Кондратий и, презрительно оглядев смущенного дежурного, который прервал рапорт, медленно добавил: — Черт знает, что такое!
Как только Кондратий прошел во двор, безупречный по службе Саламатин бросился бежать вдоль по улице. Он продолжал волочить за собой Юлдаша. Оба остановились у чайханы, где ночью происходил маслагат Джантая. Золотой Рот сидел на кошме, а кругом волновалась и кричала целая толпа народа.
— Ты — конокрад! Все лошади, которых ты продаешь, имеют разное тавро? — кричал какой-то старик, наступая на «шакала» и указывая на лошадей, которые были привязаны недалеко и занимали половину улицы.
— Да, я конокрад, — спокойно сказал Золотой Рот, — и это большое горе для аллаха. Но если эти лошади принадлежат вам, окажите мне. Я подобрал их от контрабанды.
Толпа замолкла и быстро рассеялась.
Саламатин подошел к «шакалу» и долго горячо что-то ему рассказывал. Золотой Рот выслушал до конца и вскочил. Тогда Саламатин разжал левый кулак и, взяв один камень, протянул его шакалу.
— Смотри, чтобы все бармаки были здесь, — бодро сказал завхоз и хлопнул себя по карману. -
Золотой Рот что-то сказал чайханщику о своих лошадях и, не теряя времени, прыгнул в седло.
— Так смотри не обмани! На расходы у тебя теперь есть, — закричал Саламатин.
— Если обманешь — встретимся! Я скоро оставлю службу и уеду на джайляу! — крикнул вдогонку Юлдаш.
Шакал кивнул головой, ударил коня плетью и исчез за углом улицы.
— Ты поступил хорошо! — сказал Юлдаш.
— То-то, хорошо, дура, держи! — сказал великодушный завхоз и протянул два камня товарищу. — Ну, а один мне за работу, — захохотав, подмигнул он и спрятал камень в карман. — Не жалко?
Юлдаш, широко улыбаясь, отрицательно покачал головой.
— А теперь идем под арест садиться, — добродушна закончил завхоз, и приятели^бодро зашагали к казарме.
Глава IV ПОБЕДА ОСЫ
Прошло две недели. Улыбающийся, выхоленный, приветливый Байзак, с немного обожженным от горного солнца липом пришел к Кондратию.
Он два месяца пробыл в отпуску и теперь был приветлив и ласков более, чем всегда.
Кондратий, верный своему решению не делать, как он выражался, из отца контрабанды мученика и не причислять его к лику святых, встретил его приветливо и ласково. Правда, в комнате в это время, кроме Кондратия, никого не было. Друзья маленького кавалериста не обладали его железными нервами и не могли целых полчаса разговаривать спокойно с отцом контрабанды о погоде.
Приятный и любезный Оса выпроводил гостя и пошел на занятия в казарму. Казалось, это был счастливый день.
Утреннее солнце зализало обмытые ночным дождем тополя, сверкало в звенящих арыках и грело пожелтевшие осенние сады. Оса был всем доволен. Сегодня он не ругался, никого не обещал посадить за грязь под арест. Даже тараканы на кухне, приводившие его в бешенство, как будто попрятались куда-то.
Маленький, безупречно опрятный, спокойный и сдержанный, как всегда, он осмотрел всю казарму. Движения его были размеренны и сдержанны, и только в зеленоватых глазах, где-то в глубине, была печаль.
Кондратий знал, что авторитет отца контрабанды остался нерушимым и что он, Кондратий, несмотря на всю борьбу, потерпел полное поражение. Винтовки в стойках блестели, как стеклышко. Оса прошел на конюшню. Вдруг дежурный побледнел. Два коня еле могли отдышаться, переводя опавшими боками. С головы до копыт они были обрызганы махрой грязью.
— Саламатин, Бердыбаев! — холодно закричал Кондратий.
Пограничники переглянулись. Не вычистить коня было самое тяжелое преступление по службе, которого Кондратий не прощал никогда. Кроме того, было совершенно очевидно, что оба пограничника ночью во время дождя ездили так много, что едва не загнали обоих коней.
— Дрыхнут, товарищ командир! — с возмущением в голосе отрапортовал дежурный, приложив руку к фуражке.
Через минуту, сонные и не успевшие как следует прийти в себя, Юлдаш и Саламатин стояли перед Кондратием. На их лицах был испуг, но в то же время они еле заметно улыбались насмешливо и лукаво.
— Опять под арест? — грозно спросил Кондратий и, не получив ответа, добавил: — На гаутпвахту на две недели!
Потом он приказал начать занятия и, недовольный и мрачный, вышел на улицу. Грязные мальчишки играли в пыли. Гуси и утки поласкались в арыках. Оса прошел на улицу, которая вся представляла собою ряд кузниц. Эта улица имела такое же значение, как доки в портовом городе.
Здесь приводили в порядок все необходимое для дальнего пути: подковывали коней, чинили телеги, готовили колеса, ковали ободья, и у каждой кузницы толпился народ. Оса свернул за угол и скоро оказался у опийной конторы. Выбритый смуглый Феофан в расшитой белой косоворотке с расстегнутым воротом сиял своим круглым лицом и, как всегда, был похож на мальчика со взморья. Он приветливо протянул руку Кондратию, и они поздоровались.
— Ха-ха-ха!.. — медленно рассмеялся Феофан. — Очень рад вас видеть! Ну, и надавали вы нам работы — все сушильни я превратил в склады, а загорели как, батюшки! Пройдемте в комнату.
Кондратий вошел и сел. В опийной конторе было пустынно. Сезон окончился, урожай опия был сдан, и пустые комнаты, освобожденные от толпы, казались большими. Только стены и чисто вымытые полы были пропитаны сладким дурманом опия, кислым запахом чапанов и острого конского пота. Феофан задал несколько вопросов об экспедиции. Кондратий ответил сдержанно и неохотно.
— Я звал вас вот по какому делу… — начал Феофан.
Он подробно и долго стал развивать мысль о кооперации среди возделывателей опия.
— Вы понимаете, — говорил Феофан, — если мы проведем кооперирование, то будем иметь дело не с отдельными лицами, а с коллективами. Тогда отпадет всякая возможность эксплуатации бедняков. И мы изживем контрабанду в самый короткий срок. Но это только половина дела. Люди будут иметь постоянную работу, и можно будет бороться с этой чертовой нищетой, которая переворачивает все кверху дном.
Кондратий выслушал до конца, и Феофан спросил:
— Вы дадите мне несколько конных, чтобы они раз везли по аулам объявление о кооперативах? Как только земледельцы будут объединены, главари останутся без людей. Это легко провести, так как рядовой контрабандист получает гроши. Вы знаете это.
Кондратий задумчиво кивал головой и глядел в пыльное окно, по которому звенели мухи. Вдруг на улице послышался шум. Он был так необычен в это время, после сдачи урожая, что оба встали и подошли к окну. Гул все приближался и рос. Отдельные голоса сливались в какой-то сумасшедший крик. Кондратий распахнул окно и выглянул.
Из боковой улицы хлынула пестрая толпа. Кого только тут не было: пешие и конные местные жители и пограничники, кузнецы и праздные зеваки с базара. При виде Кондратия в толпе закричали, загикали. Поднялся один сплошной вой. Оса ничего не понимал. Люди бесновались, размахивая руками, и старались что-то объяснить. Разгоряченные лица глядели из толпы вытаращенными глазами. Какие-то незнакомые люди, старые и молодые, толстые и тонкие, поспешно слезали с коней и перли на крыльцо.
Толпа ввалилась в комнаты и затопила всю контору. Гомон и крик был такой, что разобраться в происходящем было совершенно невозможно. Оса пробовал кричать, на его голос тонул в воплях бесновавшейся толпы. Где-то в тесных рядах позади началась давка, перешедшая в драку. В середине толпы на улице Кондратий увидел Саламатина и Юлдаша, которые должны были сидеть под арестом. Они гарцевали на грязных лошадях и слонялись с толпой вместо того, чтобы сидеть на гауптвахте. Оса побелел от бешенства и, замахав им рукой, стал звать их, но оба сделали вид, что не заметили его распоряжения.
Толпа вытолкнула вперед несколько человек. Джантай и Алы тащили за собой кого-то. Человек упирался, хватался за других и отворачивал лицо. Наконец все разразились таким хохотом, что стекла задребезжали, и перед Кондратием предстал Байзак. Он был общипан, помят, имел довольно жалкий вид. Стараясь храбриться, он улыбался. В его улыбке была смесь наглости и трусости.
— Вот, вот! — кричал, захлебываясь, Джантай.
Он пробирался к Кондратию, размахивая какой-то бумагой. Алы, красный и злой, что-то кричал Байзаку, но: Оса даже вблизи не мог разобрать, что именно.
— Бармаки, бармаки! — закричал Джантай у самого уха.
Толпа ревела и хохотала. Кондратий поднял руку, и через несколько минут стало тихо. Тогда несколько пастухов-киргизов обступили его и заговорили наперебой.
— Мы должны были ему деньги и потому на чистой бумаге прикладывали пальцы, — заговорил один.
Его лоб лоснился от пота, он дико таращил глаза.
Кондратий не успел его дослушать, как другой схватил кавалериста за плечи, повернул к себе и стал кричать, продолжая рассказ первого.
— Когда мы приложили пальцы, то он вместо счета денег написал, что мы его выбрали председателем. Теперь он нас совсем ограбит!
Кричавший вцепился руками в Кондратия, чтобы договорить до конца, но его силой оторвали от командира. Кто-то новый, с серебряной серьгой в ухе, продолжал рассказ.
— Золотой Рот сказал нам, что мы выбрали Байзака, а мы этого и не знали. Мы Байзака не выбирали! Байзак тут, и бумага тут. Только он один против всех! Ударь Байзака по голове!
Байзак оглядывал всех, как затравленный волк. Он смотрел исподлобья и тянул Кондратия за рукав. Он хотел что-то сказать. Но тут в первый раз за семь лет кто-то вслух, всенародно, при нем выкрикнул его грозное прозвище:
— Отец контрабанды!
Толпа подхватила эти слова, сопровождая их бранью и таким свистом, что уши резало.
Кондратий вспомнил знаменитый ответ старейшин и, помахав рукой, заставил толпу замолчать. Потом он встал на табурет, чтобы его лицо видели все, и, мягко улыбнувшись, сказал:
— Какой отец контрабанды? Отец контрабанды умер!
При этом он показал на Байзака, который стоял рядом.
Громовой хохот потряс здание, и Кондратий понял, что он нанес первый удар авторитету Байзака, потому что здесь могут простить все, но не глупое, позорное положение. Теперь Кондратий увидел, что он не в состоянии утихомирить толпу. Пограничники протолкались к нему и стали вытеснять всех на улицу. Когда в комнате стало сравнительно тихо, Кондратий поднял бумагу кверху и спокойно сказал:
— Я передам ее следователю. В ней больше правды, чем в бумаге о взятке Будая. Как ты думаешь, Байзак? — И, не дождавшись ответа, добавил про себя: — К тому же писал ее ты сам, и потому тебя не будут считать мучеником.
Байзак снова потянул его за рукав. Оса понял, что он хочет говорить наедине, и отрицательно покачал головой.
— Говори здесь, или ни одно твое слово не попадет в мои уши.
— Теперь я должен буду купить деревянную чашку для собирания милостыни, — с отчаянием сказал Байзак. — Я умру с голоду.
Кондратий медлил с ответом. Лицо его стало твердым и жестоким, а зеленоватые глаза ядовито глядели на Байзака. Джантай с удовольствием оглядывался кругом, как бы призывая свидетелей, и смеялся. Он с наслаждением смаковал каждое слово и ронял их медленно одно за другим.
— Ты — ненужный человек, я дам тебе денег на эту чашку.
Джантай, Алы, Байзак и целая толпа пограничников смотрели на Кондратия, ожидая его решения. Снаружи у опийной конторы шумела толпа, которая и не думала расходиться. Совсем наоборот! Новость о том, что Байзак стал ненужным человеком, собирала все новых любопытных. В толпе говорили о всех его неудачах, о том, что он потерял опий и теперь мужчины не пойдут за ним через границу, о том, что Джантай пришел на русскую пшеницу и будет защищать Кок-Ару; борясь с контрабандой. Находились и такие, которые говорили, что Байзаку никаких долгов платить не надо, потому что на него и так все работал почти задаром. Вея прибыль от контрабанды шла ему.
В углу в комнате оживленно шептались Юлдаш и Саламатин.
— Зря бриллиант истратили, — торопливо убеждал завхоз. — Он, видишь, в председатели опять хотел пролезть, а его никто и не выбирал, и коней загнали зря, и сидеть будем зря. Добеги до этого шакала, возьми ты у него назад камень.
Юлдаш отрицательно покачал головой.
— Золотой Рот сделал большое дело. Сперва были приложены бармаки на чистую бумагу. Ты слышал, как рассказывали люди, а потом Золотой Рот узнал, что написал Байзак, и украл эту бумагу. И рассказал им. Никогда они не узнали бы, что Байзак сам себя выбрал. Больше половины из них живет на джайляу. За одну ночь Золотой Рот и чайханщик оповестили всех. Они загнали несколько лошадей. Золотой Рот — молодец.
— Ну, тогда другое дело, — недовольно пробурчал завхоз.
Около крыльца конторы сидел на корточках Джанмурчи. Он рассказывал про Черный Ледник. Вокруг него на земле важно сидели престарелые наездники. Это были люди испытанные и поседевшие в странствованиях. Их ничто не интересовало, кроме дорог, потому что у всех был скот, который приходилось перегонять с одного пастбища на другое, и они умели ценить чужое мужество. Джанмурчи сидел посреди старейших как почетный гость и рассказывал про храбрость Кох-Ару. Такие же разговоры шли по всем углам улицы, и тут же имя Кок-Ару делалось легендарным и грозным. А пограничник все стоял в конторе посреди комнаты и молчал. Наконец, медленно раскурив трубку, он заговорил, как бы думая вслух:
— Отец контрабанды имел много людей. Сейчас ему отрезали все когти и посадили на цепь, как волка. У него было много денег. Целый сарай опия. Тысяча лошадей и много верблюдов для того, чтобы ходить через границу. Почему люди боялись его? Почему, голодные, с ружьями в руках, они возили его опий и работали на его тайных полях? — Он на минуту замолк и потом ответил самому себе: — Потому, что все думали, что он очень умный. Умнее Будая, умнее Кок-Ару. Умнее всех. Завтра Отец контрабанды пройдет по базару. Его змеиный язык прошипит, что вчерашний день прошел, что все эти унижения были необходимы, а неудачи он может преодолеть. Он напомнит всем, что он — отец контрабанды и что он очень умный. И ему поверят. И опять он наберет людей!
Оса замолк и задумчиво выпускал клубы дыма.
— Я не буду этого делать, — просто сказал Байзак.
— Я тебе не верю, — так же просто ответил Оса.
Джантай расхохотался и горячо заговорил:
— Алы — человек молодой, красивый. Ему надо очень долго жить. Но в него всадили пулю, и Алы чуть не умер. Кто виноват? Байзак.
— Джантай, что сделал бы ты, если бы мы в горах поймали Байзака? — спросил Кондратий.
Лицо Байзака стало желтым, и пот выступил на его щеках.
— Я заставил бы его нести во рту живую мышь целый день, и потом убил бы его, — с живостью отвечал Джантай.
— Вот видишь, Байзак, — сказал Оса. — Я гораздо добрее его и не хочу тебе так много зла. Но я клянусь тебе, что я обороню от тебя границу. И ты не соберешь больше людей. Поэтому я хочу, чтобы сказка о твоем уме развеялась, как дым костра. Ты поедешь в гости по юртам с Джантаем и будешь как слуга Джанмурчи и Будая, у которых ты похитил женщин. При чужих людях, которые приехали на выборы, ты сегодня расскажешь обо всем, как ты послал Ибрая и он погубил несколько человек на тропинке, но мы пошли дальше; как ты хотел за жизнь женщины и юноши вернуть опий и остановить наших коней; но мы пошли дальше. Одним словом, ты расскажешь обо всем. Там будут старейшины многих родов. При них целый день и всю ночь ты будешь твердить, что ты жалеешь, что налгал на Будая и носил опий через границу. Тогда все люди увидят, что нельзя больше с тобой возить контрабанду, потому что ты сам не веришь в себя. Если же об этом скажем мы, то завтра же ты откажешься от всего, и многие тебе поверят!
Байзак молчал. Потом он достал платок, вытер пот струившийся с лица, и спросил:,- Что ты обещаешь мне за позор этого дня?
— Ничего, — сказал Кондратий, пожимая плечами,
Байзак повернулся, чтобы уйти. Джантай схватил его за руку, но Оса сказал:
— Отец, не держи его. Ему нужно много времени, чтобы набрать на базаре милостыни на обед.
— Правда, ты человек умный, — беспомощно сказал Байзак и остановился. — Ты сразу понял, что я лгу и уйти мне некуда.
На минуту он замолчал. Потам заискивающим голосом добавил:
— Может быть, ты не передашь следователю этой бумаги? Тогда я буду верно служить тебе.
— Сейчас же я отдам ее следователю, — засмеялся Оса.
— Он меня арестует, — в отчаянии сказал Байзак.
— Правда, но перед этим ты поедешь в гости, — насмешливо сказал Кондратий.
Минуту все молчали. Потом Байзак тихо и безнадежно заговорил.
— Что стоит человек-бедняк? Кок-Ару, ты заплатишь мне, если я принесу тебе весь остальной опий и скажу имена всех, кто ходил со мной за перевалы?
— Заплачу, — спокойно сказал Кондратий и снова неумолимо добавил: — Но, кроме этого, ты поедешь в гости.
Байзак кивнул головой и, шатаясь, вышел на крыльцо. Затихшая толпа мгновенно пришла в движение. Джан., тай и Алы последовали за Байзаком, Кондратий остался в комнате и, спокойно пуская клубы дыма, глядел в окно. Байзаку подвели ободранную клячонку, из тех, ка каких обычно возят пойманных конокрадов задом наперед. Он сел на нее, и толпа смолкла. Байзак ударил себя в грудь и, тронув лошадь шагом, громко нараспев сказал:
— Напрасно я лгал на Будая и возил опий!
Рев и свист покрыл его слова. Толпа тронулась вдоль
по улице в сторону базара.
— Вот это здорово, — радостно сказал Феофан, который до сих пор не проронил ни одного слова. — Лет десять у нас не будет контрабанды. Ведь теперь ни одни черт не пойдет.
Оса задумчиво продолжал курить и молчал.
— Ну, а в гости не поедете? — полюбопытствовал Феофан.
Отвращение передернуло лицо Кондратия.
— Конечно, нет, и Будай не поедет. Довольно того, что он покажется при Джантае! Теперь я разрушил авторитет Байзака!
Он повернулся, чтобы уходить. На улице было тихо. Вся толпа ушла на базар.
— Куда вы спешите? — спросил Феофан. — Оставайтесь обедать. Все прошло так хорошо. — И он медленно, как всегда, с расстановкой рассмеялся.
Кондратий скучающим взглядом окинул пустую комнату, любезно поблагодарил и сказал:
— Я с удовольствием остался бы пообедать. Но сегодня вечером я уезжаю в разъезд…
Он пожал руку Феофану, повернулся, мелькнул зеленой гимнастеркой в освещенном квадрате открытой двери, и в соседней пустой комнате послышались его четкие шаги и звон шпор.
Александр Константинович Тараданкин
Игорь Михайлович Фесенко
Второй раунд
Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал контракт на весь этот срок.
Э. Хемингуэй
Вместо пролога
Генерал-майор Рейнгард Гелен — начальник отдела нацистской военной разведки, именуемого «Иностранные армии Востока» — еще в сорок четвертом году пришел к выводу, что гибель Третьего рейха близка и неизбежна. В панической сумятице, царившей в Германии того времени, он был одним из немногих, кто не потерял головы перед грозящим возмездием и начал действовать.
Гелен разрабатывает план создания «вервольфа»
[8] и ухода наиболее перспективных сотрудников в глубокое подполье. План удостаивается похвалы Гиммлера, докладывается Гитлеру: его создателю жалуют чин генерал-лейтенанта.
По этому плану, в условиях строжайшей тайны, была спешно изготовлена многокилометровая микрофотопленка картотеки агентуры руководимого Геленом отдела. Ее упаковали в металлические кассеты и тщательно запаяли.
Темной февральской ночью сорок пятого года, под аккомпанемент артиллерийской канонады, из небольшого городка Цоссен под Берлином, где дислоцировался штаб сухопутных сил вермахта, вышло три крытых грузовика, сопровождаемых бронемашиной. Секретный транспорт без труда преодолел горную с частыми перевалами дорогу и добрался до местечка Мисбах в Верхней Баварии. Грузовики и бронемашину отпустили. Люди, похожие, судя по костюмам, на альпинистов, взвалили на плечи тяжелые рюкзаки и тотчас отправились в горы.
Ненастной грозовой ночью путешественники достигли горного приюта — хижины, именуемой Элендслам
[9]. Здесь глава группы, — а это был не кто иной, как Рейнгард Гелен, — сопровождаемый двумя помощниками и эсэсовцами-охранниками, убрали металлические кассеты в продолговатый ящик и замуровали его в заранее подготовленный тайник. За поздним ужином, как потом стало известно, охранники «неожиданно» почувствовали себя плохо и вскоре скончались. Их трупы были сброшены в пропасть…
В Элендсламе оставшиеся в живых «туристы» находились больше двух месяцев, радио давало им возможность быть в курсе событий. Когда же стало ясно, что военные действия прекратились, Гелен приказал своим сообщникам спускаться с гор и сдаваться в плен… Но… только американцам. Сам же он и несколько особо доверенных сотрудников покинули горное убежище несколькими днями позже. Оказавшись в расположении моторизованного полка седьмой американской армии, Гелен потребовал, чтобы его тотчас отвезли к командованию части, а когда эта встреча произошла, попросил без промедления передать его руководству американской разведки.
Ждать не пришлось, Гелену предоставили машину и эскорт военной полиции, которой был дан категорический приказ выполнять все распоряжения таинственного немца.
И вот — последний этап эстафеты: Гелен принят генералом Патерсоном — видным руководителем Си-Ай-Си — американской контрразведки, обеспечивающей безопасность американской армии в Германии.
— Я надеюсь, господин Гелен, вы не испытывали в пути затруднений? — спросил американец немецкого коллегу.
— Спасибо, господин генерал, все было абсолютно благополучно.
— Ну, что ж, прекрасно. Отдохните, я не буду беспокоить вас. А позже поговорим.
— Искренне благодарю за участие, за то, что вы приютили нас. При возможности передайте президенту Трумэну нашу глубокую признательность. Мы знаем и помним, что именно он сказал: «Если мы увидим, что побеждают русские, то поможем немцам».
— Увы, — развел руками Патерсон, — поверьте, то, что произошло после Сталинградской битвы, а затем в конце войны, не входило в наши планы…
На следующее утро, узнав о высокопоставленном «пленнике», в Висбаден прибыл главный резидент ОСС
[10] в Европе (впоследствии шеф ЦРУ) Аллен Даллес. Это ускорило ход событий. В тот же день Гелен и несколько его ближайших сотрудников с наиболее ценными разделами фильмотеки фашистской агентуры специальным самолетом были отправлены в Вашингтон.
И снова — теплая встреча. В весьма узком кругу руководителей американской разведки, а именно: главы американской стратегической разведки генерала Уильяма Донована, его заместителя генерала Магрудера, теоретика американской разведки профессора Шермона Кента и некоторых других лиц Гелен доложил о своих «сокровищах» и буквально ослепил новых хозяев широтой профессиональных познаний и обилием информации о Советском Союзе. Резюмируя свой доклад, Гелен предложил создать крупные резидентуры для разведывательной работы и организации саботажа в Восточной Европе, по добыванию, обработке сведений, касающихся СССР.
Боссы американской разведки могли только мечтать о таком предложении и без долгих размышлений пошли навстречу пожеланиям набивавшего себе цену немецкого генерала.
А у того были свои условия и среди прочих такие:
— Личный состав и, прежде всего, руководящие кадры создаваемой службы комплектуют только из немцев. Исключение — осведомители и агенты, вербуемые в странах — объектах.
— Ни Гелену, ни любому его сотруднику ни прямо, ни косвенно не поручаются задачи, направленные против «германских интересов», причем интересы эти определяются самим Геленом.
— Как только Западная Германия станет независимым государством и обретет суверенитет, Гелен и его аппарат перейдет на службу новому германскому государству.
Так в те дни, когда главы четырех великих держав во дворце Цецилиенхсф в Потсдаме сели за круглый стол, чтобы раз и навсегда покончить с фашизмом, разметать вечно тлеющий очаг войны в Европе, в Вашингтоне с ведома одного из членов большой четверки президента Америки Гарри Трумэна был сделан первый шаг к началу холодной войны и еще войны невидимой, тайной, направленной против Советского Союза и стран, которые были намерены идти дорогой социализма. Некоторые матерые нацисты получили возможность не только уйти от возмездия, но и действовать. Впрочем, действовать несмотря на оговорки Гелена, не только по его указанию.
Глава первая
1
— Я пригласил вас, чтобы узнать, как вы отдохнули. Готовы ли вы ехать в Брюссель?
— Благодарю, генерал. Готов. Сельская идиллия, копание в земле, конечно, прекрасно укрепляют нервы, но, признаюсь, последние дни я уже жил предстоящим делом… Хотелось сесть в машину и примчаться в Ренсбург
[11].
— Значит, вы готовы? Это приятно слышать. Уверен в ваших будущих успехах. Я имею в виду ваш опыт и то, что вы уже бывали там. Это было…
— Летом пятьдесят шестого года, вместе с покойным канцлером. Русские были чрезвычайно гостеприимны. Нам отвели одну из лучших московских гостиниц — «Советскую». Нас «угостили» «Лебединым озером» и поездками по городу. Впрочем, мы имели возможность совершать и пешие прогулки, что было крайне полезно…
— А как ваш язык? Я имею в виду русский.
— Та поездка порадовала меня. Я сходил за прибалта. Однако воспользоваться пребыванием в Москве для более основательной работы не удалось. Полагали, что нас обложила русская контрразведка. Свыше приказали быть предельно осторожными. В основном мне тогда вменили в обязанность контролировать деятельность офицеров управления A-I и А-III.
— Теперь вы будете выступать, так сказать, в новом качестве. Прежде всего полная самостоятельность и совершенно ясная цель. Я не знакомился с деталями, но кажется, к объекту, который интересует наших атлантических компаньонов, у вас определились удобные подходы.
— Это верно. Кое-что успел сделать мой агент.
— Да, да, я смотрел ваш доклад. А как вы решили туда добираться?
— Наиболее удобный трамплин — Скандинавия. После Брюсселя несколько дней побуду в Осло и в Стокгольме, и уж потом — Москва.
— Прекрасно. Хотите сигару?
— Нет, генерал. Скоро исполнится двадцать лет, как погиб мой друг и коллега Пауль Хаазе. Я дал тогда клятву никогда больше не курить, а пить лишь в случаях крайней необходимости. И все для того, чтобы подольше сохранить силы, здоровье ради нашей великой борьбы. Пока, как вы знаете, я верен клятве.
— Вы сказали это так, словно хотите и меня убедить отказаться от всех этих приятных пороков. Но я искренне восхищаюсь вашей твердостью. Желаю успеха и жду приятных сообщений.
— Да, генерал…
2
Голова побаливала, слегка мутило, и настроение у Петрова было препаршивое. Если завернуть домой переодеться и принять холодный душ, он опоздает на редакционную планерку, а главный этого не любит. Придется ехать так, в вечернем костюме, крахмальной рубашке и галстуке, тугим кольцом давившем шею.
Вчера пришлось принарядиться, близкий приятель выдавал дочь замуж. Свадьбу устроили на даче. Было весело, шумно и хмельно. И вот теперь…
…Петров потрогал рукой щетину на щеках, толкнул дверь и оказался в большом редакторском кабинете. У входа и стен, конечно, свободных мест уже не оказалось, и ему волей-неволей пришлось сесть за длинный приставной стол, рядом с членами редакционной коллегии.
Когда все вопросы были обсуждены и перечислены все «проколы» и «фитили» минувшего номера, начали планировать полосы следующего. Редактор неожиданно сказал, обращаясь к Петрову:
— Смотрю я, Александр Михайлович, и думаю, что ты больше других сегодня подготовлен представлять нашу газету на пресс-конференции в Сокольниках. Что там работает международная выставка, ты, конечно, знаешь. Вот приглашение. Все! Возражений не принимаю.
— Да мне легче отсюда прямым ходом на Курилы, нежели на пресс-конференцию, — взмолился Петров. Но главный ничего не хотел слушать и, переходя к следующему вопросу, заметил:
— Ничего, сделаешь строк сорок.
Выйдя из кабинета, Петров первым делом решил побриться. Спустился на первый этаж, и скоро Маша, которая стригла и брила его уже добрый десяток лет, выслушивала его отчет о вчерашней свадьбе и диком сегодняшнем невезении.
В Сокольники Александр Михайлович приехал к самому началу пресс-конференции, и потому некогда было забежать в буфет, чтобы выпить бутылочку пивка, о которой мечтал всю дорогу.
Председатель выставочного комитета, объявив об открытии выставки, сделал короткое заявление для печати. Затем выступали представители фирм, участвующих в выставке. Блокнот Петрова заполнялся цифрами, фамилиями, названиями. Впору было ехать и отстукать отчет на машинке, но коллеги начали задавать вопросы, и время тянулось утомительно медленно.
Наконец, председатель поблагодарил присутствующих за внимание. Петров одним из первых вышел на галерею и устремился к буфету. Бутылка холодного пива и бутерброды с икрой подняли ему настроение. Он взял еще бутылку и бутерброд.
— Разрешите? — Около столика с тем же набором в руках, что и у него, стоял мужчина лет пятидесяти — верхнюю половину лица скрывали большие ультрамодные темные очки.
— Пожалуйста, прошу вас, — отодвинулся Петров, давая место.
Мужчина кивком поблагодарил и, прежде чем приступить к еде, снял очки и тщательно протер стекла платком.
«Интересно, где я его встречал? Где?» — отходя от столика, подумал Петров и стал вспоминать, где же именно. Особенно знакомыми показались глаза — внимательные, водянисто-стального цвета — и разлет белесых бровей. «Может быть, тоже журналист, и я видел его на подобных встречах?» Нет, своих московских коллег Александр Михайлович хорошо знал. С этим же встречался где-то в другом месте. «Вот, если бы он не надел так быстро очки, непременно узнал», — подумал Петров, досадуя на свою память, которая его редко подводила. Но эти глаза он видел, определенно видел, и очень близко. И с ними было связано что-то неприятное.
И вдруг — словно укол иглы: «Лютце? Не может быть?! — Петров замедлил шаг. — Чертовщина какая-то. Ведь прямого сходства нет. Только глаза и брови». Александр Михайлович обернулся и, закуривая, посмотрел в сторону стола, от которого только что отошел.
Человек ел бутерброд и рассматривал посетителей маленького бара. «Нет, не Лютце», — успокоился Петров. В это время легкая конвульсия пробежала по правой щеке незнакомца, чуть дернулась мочка уха. Петров вспомнил, что видел и этот нервный тик. И все же гнал от себя навязчивую мысль. «Наверно, ошибся. Но разве возможно, чтобы у двух разных людей были так похожи глаза? И одна и та же конвульсия? Лютце? Еще посмотрю». Александр Михайлович встал за колонну. Мужчина допил пиво, посмотрел на часы и неторопливо Проследовал в павильон выставки. Он шел от экспоната к экспонату, читал таблички и пояснения, брал со стендов красочные глянцевые проспекты фирм, рекламирующих свои изделия. Петров перешел вслед за ним в другой павильон. Здесь человек остановился и опять начал протирать очки. Делал это скорее по привычке, чем по необходимости. Откуда-то сбоку, из-за группы экскурсантов неожиданно вынырнул долговязый человек в замшевой куртке с большой кожаной сумкой-кофром, какие носят фотокорреспонденты. Он остановился рядом с незнакомцем, заинтересовавшим Петрова, и они некоторое время рассматривали друг друга Потом отошли в сторону и о чем-то заговорили. Долговязый достал из кармана клочок бумаги, скорее всего, визитную карточку, отдал ее, поклонившись, пошел прочь.
Александр Михайлович преследовал своего незнакомца до выхода, а потом — до остановки такси. И был очень раздосадован, что быстро подошла машина. Хлопнула дверца, и человек, столь похожий на того, кто в свое время был его лютым врагом, исчез. Настроение испортилось. Бросив недокуренную сигарету, Петров зашагал по аллее к метро.
Закончив дела в редакции, Александр Михайлович провел остаток дня в борьбе с самим собой, пытаясь прогнать воспоминание о встрече в Сокольниках. А ночью долго не мог уснуть, поднимался, курил и, наконец, решил утром все рассказать о встрече Фомину. Может быть, он ошибается, и Фомин далее посмеется над ним, но сообщить о встрече он обязан, иначе не обретет покоя.
3
Полковник Фомин, войдя в кабинет, по обыкновению распахнул окно. Город давно проснулся. Его разноголосый шум сюда почти не долетал. Он скорее угадывался по движению бесконечной вереницы машин и пешеходов на большой столичной магистрали. Особняк стоял в глубине двора за стволами вековых, разлапистых деревьев.
С тех пор как руководство стало требовать, чтобы сотрудники не засиживались на службе, если на то не было особых причин, он приезжал в управление задолго до начала занятий. В эти утренние часы он не спеша многое успевал сделать и многое как следует обдумать. Дела захватывали его целиком, он не замечал дня. Иной раз он ворчал на жизнь, но тут же ловил себя на мысли, что работой своей дорожит и гордится. И был доволен тем, что сын его избрал то же дело.
Фомин разложил на столе свежие газеты, журналы. Глаза скользили по заголовкам. Крупным шрифтом редакции выделяли статьи, которые считали наиболее важными, наиболее интересными или даже сенсационными.
«Правда» сообщала о скоростных плавках череповецких металлургов, о ходе социалистического соревнования машиностроителей и пуске нового участка Каракумского канала. На полях страны зреет хороший урожай. «Березка» путешествует по Южной Америке. В Москве выступает чехословацкая эстрада. Открылась международная выставка в Сокольниках.
Обширной была международная информация. И почти во всех газетах мелькало слово «инфляция». Корреспонденты из многих капиталистических стран сообщали о валютной лихорадке, продолжающемся падении курса доллара, экономической депрессии, растущей безработице. Печатались высказывания общественных и политических деятелей о созыве общеевропейского совещания по проблемам безопасности и сотрудничества. Прогрессивная общественность Федеративной Республики Германии выступала в поддержку правительства, требуя скорейшей ратификации договоров с Советским Союзом и Польшей. А Франц-Иозеф Штраус, предводитель ХСС и председатель ХДС Рейнер Барцель вели оголтелую кампанию против «восточных договоров», открыто высказывая свои претензии на восточные земли и пересмотр существующих границ. Они, эти лидеры правых партий, как бы подхватили лозунги недавнего «фюрера» неофашистской НДП Адольфа фон Таддена, провалившегося с реваншистскими планами и бесславно сошедшего с политических подмостков. Впрочем, неофашисты продолжали существовать и действовать.
Фомин от души посмеялся, читая помещенный в «Правде» фельетон по поводу того, что газета западногерманского короля прессы Акселя Шпрингера «Ди вельт», заплатив двести пятьдесят тысяч марок, купила право печатать выходящую в издательстве «Фон Хазе унд Келер» книгу «Мемуаров Гелена». В западной прессе поднялась, мол, шумиха главным образом потому, что в мемуарах содержалось нечто «новое» о судьбе Мартина Бормана, ближайшего помощника Гитлера. После войны много писалось о том, что Борман бежал в Латинскую Америку, сделал пластическую операцию, совершенно изменившую его внешность, и живет там до сих пор.
И вот, в «мемуарах» Гелена, по словам американского агентства Ассошиэйтед Пресс, пишется, что Борман-де бежал к русским, когда советские войска окружили бункер Гитлера в последние дни войны, и «получил убежище в Советском Союзе, что он был русским шпионом и умер в СССР».
«Кому потребовалась очередная фальшивка? — думал Фомин. — Не иначе она была состряпана в одной из диверсионно-пропагандистских служб западногерманской реакции. Состряпана до того нелепо, что даже газета «Нью-Йорк таймс» с определенностью заявляла: «Издание этих мемуаров несомненно будут приветствовать враги восточной политики Западной Германии Вилли Брандта — политики улучшения отношений с Советским блоком».
Да, из кожи лезет вон, ни с чем не считается Шпрингер, лишь бы подпустить яду в души людей и прежде всего соотечественников, в большинстве своем поддерживающих политику мира и сотрудничества со странами социализма.
Фомин в свое время интересовался биографией этого оголтелого врага Советской страны. Шпрингер сотрудничал в гитлеровском информационном агентстве и был связан с молодым Геленом. После войны Шпрингер пошел в услужение к английским и американским оккупационным властям, а Гелен, как известно, тесно сотрудничал с американцами и стал хозяином Пуллаха под Мюнхеном. Знаменитого Пуллаха.
От своих чехословацких коллег Фомин был наслышан о том, как в период событий лета шестьдесят восьмого года Пуллах пытался осуществить план «Организации охвата ЧССР», поддерживал контрреволюционеров-путчистов. На границе заполнялись особые списки на каждого, кто ехал в Чехословакию и из нее. С границы списки попадали в президиум баварской пограничной полиции в Мюнхен, на Кенингштрассе, 17. А оттуда курьером в Пуллах.
Фомин знал о существовании Пуллаха и был довольно хорошо осведомлен о деятельности его обитателей еще с той поры, когда сразу после войны работал в Энбурге. В Пуллахе размещалась святая святых западногерманской разводки, скромно именуемая — генеральная дирекция или, позднее, БНД — федеральная разведывательная служба ФРГ, непосредственно подчиненная федеральному канцлеру. Она, как известно, располагала годовым бюджетом свыше ста миллионов марок и пятью тысячами сотрудников, специализировавшихся преимущественно на шпионаже в социалистических странах. В Пуллахе фильтровались списки лиц, которые могли бы стать потенциальными информаторами и быть завербованными разведкой.
Место Гелена, ушедшего в отставку, занял его друг и ученик, работавший с ним в войну в отделе «Иностранные армии Востока», генерал-лейтенант Герхард Вессель. Тот самый Вессель, который долгие годы представлял подобную службу в НАТО.
А вот и о НАТО. Еженедельник «За рубежом» давал перепечатку Комментария вашингтонского журнала «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт»: «В отношении между Соединенными Штатами и их западноевропейскими союзниками вырабатывается своего рода «новый курс». По словам европейцев, они понимают теперь, как им следует готовиться к торгам с сегодняшней Америкой, весьма непохожей на ту страну, партнерами которой они были на протяжении четверти века.
Они обнаруживают, что Соединенные Штаты призывают их увеличить долю бремени во имя решения проблем НАТО и идти на большие уступки. Многие западноевропейские страны признают, что речь идет о фактическом нажиме со стороны США.
В Западной Европе вызывает чувство тревоги и более жесткая, более эгоистическая политика США в остальных вопросах. Премьер-министр Великобритании выразил беспокойство по поводу растущей тенденции правительства США действовать в одностороннем порядке, без консультации с союзниками».
Но внутренние конфликты стран НАТО, однако, не влияли пока на существо деятельности этого агрессивного блока. Продолжалась гонка вооружения, строились новые базы, проводились совместные маневры и шла тайная война — та, на одном из участков фронта которой, стоял он, Фомин…
Отложив в сторону газеты, Фомин достал из сейфа папку с документами. На некоторых бумагах он делал короткие пометки в два — три слова или просто расписывался, к другим подкалывал карточки и писал обстоятельные резолюции.
Именно такой резолюцией он сопроводил документ из ГДР. Коллеги сообщали о том, что, по их данным, полученным от друзей, из Ренсбурга-Брюсселя через Скандинавские страны в Советский Союз должен проследовать крупный агент — предположительно имеющий отношение к разведывательному управлению верховного командования вооруженными силами НАТО в Европе. Ни фамилии, ни каких-либо примет указано не было.
«Сведений не густо, — подумал Фомин, — сколько их таких туристов едет транзитом через Скандинавию». В углу карточки он поставил крупную букву «К», обвел ее кружком — контроль, и расписал, что нужно сделать.
Зазвонил телефон.
— Евгений Николаевич? — услышал он в трубке.
— Да, я.
— Приветствую. Но сомневаюсь, что узнаете.
— Александр Михайлович? Петров?
— Точно. Еще помните?
— Помню… Какими судьбами? Частенько читаю твои статьи, — решился перейти на «ты» Фомин.
— Евгений Николаевич, не сможешь уделить мне несколько минут? Дело, понимаешь ли, на мой взгляд, экстраординарное. Даже очень, если все так, как я думаю. Сможешь принять?
— Давай, приходи часиков в двенадцать в нашу приемную. Найдешь?
— Найду.
Фомин положил трубку. Интересно, что заставило вспомнить о нем бывшего пограничника? Может быть, тему ищет? Но почему тогда тревога в голосе и предупреждение о деле исключительно серьезном?
4
Без десяти двенадцать Фомин вышел в приемную и тут же увидел Петрова, поднявшегося со стула
ему навстречу.
— Давненько не встречались, Александр Михайлович, — протянул руку Фомин. — Теряем старые связи.
— Не было удобного случая, — устало улыбнулся Петров.
— А футбол?! Последний раз, помнится, мы виделись на футболе, что-нибудь года три назад.
— Точно, на «Динамо».
— А потом ты выдал мне звонок: собирались по грибы. И все. Молчок. Ты куда-то умчался в командировку. Ну, да ладно. Что там у тебя стряслось?
— Можно где-нибудь поговорить с глазу на глаз?
— Конечно. — Фомин провел Петрова в кабинет.
— Не знаю даже, с чего начать, — Петров развел руками. — И верится, понимаешь, и не верится. Ночь не спал, такая чертовщина: вдруг, думаю, ошибся… Одним словом, встретил я на выставке в Сокольниках Лютце. Того типа, который бежал у нас на автостраде летом сорок седьмого. Помнишь, Евгений Николаевич?
— Исключительный был случай. А ты не ошибся? Давай-ка все по порядку.
— Утром, после планерки предложили мне съездить в Сокольники на открытие итальянской выставки. Я, прямо скажем, не большой любитель писать такие отчеты. А тут, мол, очень важно, интересно, красиво, эффектно и прочее. Одним словом, просидел я честно всю пресс-конференцию, а потом зашел в буфет выпить пива. Стою у столика, пью. Подходит мужчина. В летах. Отлично одет. Очки модные такие, темные, в большой оправе. Снял он их на секунду, и я его узнал. Вообще, «узнал», конечно, не то слово. Глаза и брови его показались мне знакомыми. Жутко знакомыми. Не поверил сначала и решил я его, Евгений Николаевич, от себя не отпускать. Сел, как говорят, ему на хвост. Все разглядываю: внешность, лицо не копия Лютце, но у него так же дергалась щека и ухо. Ты помнишь, у Лютце бывало такое. Небольшая конвульсия. Ну и пошел я за ним.
— А он не пытался освободиться от тебя? — нахмурился Фомин. — Не обратил на тебя внимания?
— Нет, я осторожно. Не думаю, что он заметил. Потом он сел в такси…
— И все?
— И все.
— Ты хорошо сделал, что зашел, — Фомин встал и, подойдя к Петрову, положил ему на плечо руку. — Спасибо, дружище. Сигнал, должен признаться, не совсем неожиданный. Все может быть… Сегодня же займусь. Визит Лютце, если он жив и здоров, в общем-то не исключен. Кому он только теперь служит? Да, встретить Лютце — это, конечно, интересно. Постарел он небось? Ведь четверть века — срок немалый.
— Конечно. И мы с тобой не помолодели, — покачал головой Петров. — Бегут годы. А у него вроде и лицо другое стало, только глаза те же.
— Вот попробуй, докажи сейчас, что он — это он. И конечно уж, Лютце теперь не Лютце…
Вышли вместе. Фомин немного проводил Петрова. Вернувшись к себе, вписал в блокнот несколько вопросов, перечислил детали, которые сообщил ему журналист. Что ж, может быть, это и есть тот «возможный гость», о котором сообщили друзья. Все может быть.
Фомин взял ручку и, хотя с момента событий, затронутых в беседе прошло двадцать пять лет, по памяти написал имя и год рождения Лютце. Затем попросил секретаря срочно поднять дело из архива.
Плотная коричневая папка, изрядно потертая — в свое время ее брали частенько: любопытный и поучительный пример операции с незавершенным концом. На папке его, Фомина, рукой было выведено: «Дело № 62, на Макса Лютце, он же…»
Полистал пожелтевшие страницы: постановления, протоколы, материалы экспертиз, кое-что напечатано на машинке, многое написано от руки. И его почерк, и не его. «С годами и почерк у нас меняется», — подумал Фомин, облокотился на стол, прикрыл глаза рукой и надолго застыл в такой позе. Потом стал вчитываться в документы, вспоминая, как и по какому поводу они были написаны.
Это было удивительное время. Только закончилась война, и человечество еще жило светлой радостью победы. Рубцевались в сердцах раны, нанесенные величайшей в истории трагедией, и миллионам людей казалось, что уже никогда и никто не осмелится нарушить этот прекрасный, завоеванный такой кровью и такими страданиями мир.
Но это только казалось. Он, Фомин, был поставлен на такой участок, где война не прекращалась ни на минуту. С рубежа, на котором он очутился, отчетливо проглядывалось движение сил, противостоящих миру, плетущих сети шпионажа и диверсий против его страны и государств, народы которых решили идти путем социализма.
События тех дней с поразительной ясностью вставали перед ним.
Он увидел красные черепичные крыши и шпили немецких городов за густой стеной зелени. И бетонные автострады, серым широким полотном скользящие под машину. Лесопарки с прямыми, как струны, просеками. Битый кирпич руин, хранящих запах дыма, и тихие дворики, заплывшие ароматами цветущих роз, и стены, сплошь увитые плющом.
И везде люди. И все они разные.
Прежде всего он стал думать о своих друзьях, с удивлением отмечая, что с трудом восстанавливает в памяти их лица. Даже досадовал на себя за это. Но что сделаешь — прошло столько лет.
Кторов, человек, которого тогда в Энбурге видел и слышал каждый день, у кого учился и кому старался подражать. Казалось бы, закроешь глаза — и увидишь, как на фотографии. Так нет: помнил только седую прядь и его усталые глаза, очень внимательные.
Рощин. Кто-то говорил, что он командует пограничным отрядом в Туркмении. Широкоплечий, быстрый и точный Рощин. А лицо забыл. Только зубы — ровные, крепкие зубы, когда тот улыбался. Смеялся Рощин раскатисто, заразительно.
А Гудков? Стал крупным архитектором, видел его по телевидению, в кинохронике, читал его статью в «Огоньке». Несколько раз говорил по телефону. А вот встретиться так и не пришлось…
Скиталец. Совсем тогда юным был лейтенант. Краснел, как ребенок, при грубом слове. А последний раз встретил — мужик что надо, изменился, видно, и характером; стал строже, собранней. Скитальца он хорошо себе представил, потому что недавно виделся с ним.
«Эх, Скиталец, Скиталец, — подумал Фомин, — если бы ты тогда не ошибся, лежало бы это дело с прекрасной пометкой на обложке: «Закончено тогда-то». Впрочем, можно ли тебя винить… в той ситуации, пожалуй, каждый бы…»
А враги?
Он напряг память, пытаясь вспомнить Лютце. Нет, не получалось…
А как же Петров? Это, пожалуй, можно объяснить: если бы я сам увидел Лютце, непременно тут же бы вспомнил. Так уж устроен человеческий мозг. Ведь уже, кажется, случалось так.
Каким же ты был тогда, господин Макс… Курт… Ганс, — у тебя было много имен. Какое ты носишь сейчас?..
Глава вторая
1
Ночь выдалась на редкость теплой и тихой, лучше не придумаешь для несения дозорной службы: иди себе да слушай тишину. Вокруг такой покой, что нет-нет да и начинают тяжелеть веки. Только к утру подул свежий ветерок, и тогда поползли по спине холодные веселые мурашки, а скулы начала потягивать нервная зевота.
— Пойдем поживее, — сказал товарищам старшина Петров и прибавил шагу.
Его наряд, спаренный с двумя служащими пограничной немецкой полиции — парнями только-только начавшими постигать службу, — за ночь обошел все положенные ему маршруты и теперь возвращался в комендатуру. Оттуда, судя по времени, им навстречу уже вышла смена и теперь, с минуты на минуту, должна была появиться. Шли по узенькой тропке, кланяясь нависшим веткам кустарника, шли зелеными росистыми полянами, окунаясь в сырое дыхание низин.
А справа была межзональная граница, полоса, проложенная войной два года назад, определенная Потсдамским соглашением 1945 года. С тех пор как Петров приехал сюда, многое изменилось. Местные жители, немцы, вначале смотрели выжидательно на русских солдат в зеленых фуражках и погонах, стараясь понять, что это за род войск и чего от них следует ожидать? Но шло время — привыкли. А когда увидели, что рядом с этими русскими стали ходить их молодые соотечественники, прониклись к людям в зеленых фуражках доверием. Среди местных жителей у Петрова завелись даже друзья, благо он довольно хорошо знал немецкий.
Утро быстро высветило небо. Лес, еще несколько минут назад казавшийся сплошным забором, начал редеть, деревья словно отодвинулись друг от друга.
— Товарищ старшина, — тихо окликнул сзади солдат.
Петров обернулся и посмотрел туда, куда указал рукой пограничник. Через кустарник от границы шел человек. Шел не прячась, открыто, демонстративно. Увидев солдат, замахал руками, направляясь к ним.
— Здравствуй, комрады! — громко и радостно крикнул он, когда подошел ближе. — Я до вас. Мне треба в город по очень важному делу, — быстро заговорил он, мешая русские, польские и украинские слова.
— Стой, — перебил его Петров. — Руки вверх!.. Оружие?
— Нет, — сказал незнакомец, однако послушно поднял руки и без тени обиды дал себя обыскать, даже кивнул одобряюще: мол, раз так надо, давайте.
— Зачем в город? — спросил Петров.
— К пану коменданту. Мне нужно много ему говорить. Да, да, поверьте. Я рабочий, поляк, Сигизмунд Вышпольский. Можно, комрады, я до вашего пана начальника… Я маю важный документ про шпиона.
— Мне ничего объяснять не надо, — сказал Петров. — В комендатуру мы вас и без вашей просьбы отведем. Там все и расскажете. Руки за спину и идите вперед!
Поляк кивнул, поднял с земли свой прорезиненный плащ, брошенный при обыске, перекинул его через плечо и, заложив руки за спину, пошел по тропинке, сопровождаемый пограничниками.
Навстречу шла смена…
2
Дежурство подходило к концу, голова была тяжелой, и Фомину так хотелось забыться хоть на минутку. Он решительно встал и растворил все окна приемной. Вместе с утренней прохладой в комнату ворвались свежие запахи цветов и деревьев. Душистый сквозняк взбодрил, голове стало легче.
Большой город, такой шумный в будни, сегодня еще не просыпался. Воскресенье. Люди отдыхали. Лишь редкие трамваи медленнее, чем обычно, словно крадучись, проезжали по улицам.
Особняк бежавшего на Запад, преуспевавшего при Гитлере медика-фашиста не был приспособлен под учреждение. Однако с этим приходилось мириться. За три недели до конца войны город разрушили бессмысленные к тому времени бомбардировки англо-американской авиации. Теперь людям остро не хватало жилья, и трудно было подыскать помещение для служебных целей. Помпезный особняк пришлось несколько перестроить, переоборудовать.
Фомин сидел в комнате, до того просторной, что никак не мог к ней привыкнуть. Он уже много раз придумывал проект самоуплотнения: разгородить бы.
Хрипло заурчал телефон:
— Капитан Фомин слушает, — глаза остановились на крошечном табло, вмонтированном в аппарат, оно предупреждало: «Внимание, код! Внимание, код!»
— Здравствуй, Евгений Николаевич, — узнал он голос Рощина, заместителя начальника комендатуры Мариенборн. — Не разбудил?..
— Не положено дежурным спать, товарищ старший лейтенант. А ты, Саша, чего в такую рань?..
— Тоже дежурю. Служба наша, брат, такая. И дело есть срочное.
— Что там у вас стряслось?
— Находится у меня тут некто Вышпольский. Рассказывает любопытные вещи, только касаются они вас. Если не возражаешь, я тотчас пошлю его со старшиной Петровым. Он, кстати, и привел сюда этого Вышпольского от границы.
— Значит, с той стороны?.. Присылай, конечно. Сейчас распоряжусь, чтобы пропустили в проходной.
Фомин вызвал караульного начальника.
3
— Товарищ капитан, мною доставлен к вам задержанный Вышпольский, — доложил Петров. — Вот документы, — и он положил на стол большой серый конверт.
— Спасибо, старшина — Фомин пожал Петрову руку. Они были старые друзья-знакомые, если можно так назвать двух людей, которым часто приводилось встречаться по работе и делать общее дело, нередко связанное с опасностями и риском для жизни. Сдружили их и совсем не служебные обстоятельства: оба любили стихи, остальным поэтам предпочитали Пушкина, Есенина и Блока, оба сами пытались писать. А однажды Петров доверил Фомину пухлую тетрадь, исписанную бисерным почерком, и капитан не без удовольствия прочитал несколько рассказов и цикл военных стихов старшины-пограничника. Но своим литературным увлечениям они, увы, могли отдаваться лишь в редкие часы. Чаще встречались вот так по службе.
— Разрешите идти? — спросил Петров.
— Да, можете возвращаться в комендатуру. Отдыхайте. Ведь вы с ночного дежурства…
Вышпольский был высокий, широкоплечий с довольно приятным открытым лицом, лет двадцати пяти — двадцати семи. На нем — потертый коричневый костюм, темная, неопределенного цвета рубашка, поношенные желтые полуботинки.
— Садитесь. Мне доложили, что вы хотите сделать какое-то заявление, — сказал Фомин.
— Точно так, пан капитан! — поднявшись со стула, по-военному вытянулся Вышпольский.
— Вставать не нужно, садитесь, — перешел на немецкий Фомин. — Прежде, чем сделать заявление, расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы? Откуда? Что привело вас к нам?
— Да, понятно. Я, Сигизмунд Вышпольский, национальность — поляк, мне двадцать шесть лет. В конце сорок третьего года нацисты угнали меня и мою мать в Германию. До конца войны мы работали у крупного землевладельца на юге Баварии. Потом, когда это стало можно, перебрались в Ганновер, а там нас определили в лагерь для перемещенных лиц. Мать сильно болела. Несмотря на все мои хлопоты, выехать на родину не удалось…
Вышпольский говорил уверенно, смотрел прямо в глаза Фомину. Немецкий язык, видимо, изучил хорошо, и польский акцент был мало заметен. «Даже слишком хорош его немецкий язык», — думал капитан. Он не перебивал, делая короткие записи в блокноте.
— Лагерная администрация, — продолжал Вышпольский, — не поощряла желающих уехать на родину. Кое-кого из тех, кто особенно настаивал на этом, находили с пробитыми головами или поломанными ребрами. Но свободно можно было завербоваться на урановые разработки или медные рудники в Африку. Будь я один, может, и поискал бы пути к дому, но когда рядом больная мать…
Рассказ Вышпольского звучал искренне.
— Хорошо. Теперь расскажите о причинах, побудивших вас перейти межзональную границу, — попросил Фомин и пододвинул Вышпольскому сигареты. Тот неторопливо размял сигарету и с удовольствием сделал несколько глубоких затяжек. Потом положил сигарету на пепельницу. Долго молчал, опустив голову. Фомин терпеливо ждал.
— Я узнал, — заговорил наконец Вышпольский, — что день — два назад межзональную границу нелегально перешел Генрих Мевис. В прошлом он полковник немецкой армии.
— Кто этот Мевис? Что вы о нем знаете?
— В период оккупации Польши он был начальником отдела управления гаулейтора Польши Франка… Если не ошибаюсь, этот отдел занимался розыском и вывозом оборудования и стратегических материалов… Но не это привело меня к вам, — поляк заметно волновался. — Мне кажется, что теперь Мевис работает на англичан… то есть является английским шпионом… Я принес тут карту… Она в конверте, который передал вам пограничник. Может быть, конечно, не мое дело ввязываться в эту историю. Но я думал… — Вышпольский пожал плечами и умолк.
Фомин достал из конверта сложенную в несколько раз карту, развернул. Бегло глянув, понял, что документ любопытный: владелец ее проявлял повышенный интерес к военным объектам и к советской администрации. На карте были обозначены места дислокации советских воинских частей, комендатур, акционерных обществ.
— Объясните, как эта карта попала к вам? И что, собственно, побудило вас принести ее нам? И еще, известно ли вам, где сейчас находится ее владелец?
Перехватив взгляд Вышпольского, брошенный сначала на истлевшую сигарету, а затем на раскрытый портсигар, Фомин ободряюще сказал:
— Берите, берите…
— Спасибо, — поляк закурил. — Если разрешите, сначала о том, как я встретился с Мевисом. Вам тогда многое станет понятно.
— Пожалуйста.
— Там, в Ганновере я не имел постоянной работы. Иногда помогал хозяину авторемонтной мастерской на Принц-Альбертштрассе. Мыл, заправлял автомашины, выполнял мелкие слесарные работы. Как-то, это было примерно в марте, к мастерской подкатил спортивный автомобиль. Его владелец попросил сделать профилактику и заправить машину. Человек этот показался мне знакомым, но я никак не мог припомнить, где до этого его видел. Он отдал хозяину ключи и сказал, чтобы машину подали к дому номер двадцать два на той же улице.
Когда все было сделано, я вызвался отогнать машину заказчику. Хозяин машины угостил меня сигаретой, дал марку на чай и уехал. Возвращаясь в мастерскую, я, наконец, вспомнил, где его видел… Разрешите стакан воды? — прервал рассказ Вышпольский.
— Пожалуйста. «А ведь на интересном месте оборвал, — заметил про себя Фомин. — Заинтриговать хочет, что ли?» — Он бы не смог поручиться, что пауза Вышпольского была умышленной, и все же решил сделать ответный ход — отложить разговор. Когда поляк, выпив стакан, неторопливо наполнил второй, и начал пить мелкими глотками, Фомин уже утвердился в своем предположении, что тот намеренно продлевает паузу.
— Прошу прощения, — сказал он. — Вы, наверно, не завтракали, а я даже не спросил об этом…
— Ничего, ничего, я еще могу потерпеть, — смущенно сказал Вышпольский. — Продолжать?
— Нет, нет, позавтракайте, отдохните, часок — другой, и тогда мы снова встретимся…
Проводив с дежурным солдатом Вышпольского в отведенное для него помещение, распорядившись о завтраке, Фомин и сам пошел подкрепиться. День был воскресный, и ему не хотелось беспокоить начальство, не закончив разговора с задержанным. Час — другой в данном случае вряд ли важны. Посмотрев на часы, наметил продолжить разговор в 9.30…
За завтраком думал о поляке. В общем, он оставил у Фомина довольно приятное впечатление и хотелось верить тому, что он говорил. И в то же время Фомин где-то интуитивно угадывал игру. Хотя бы эта пауза, будто по сценарию. «Ну, а почему бы ему не порисоваться, пришел-то не просто так, не с пустым разговором. И где-то в каждом человеке сидит чувство собственной значимости, которую порой хочется подчеркнуть. Вот я и полез в область психологии, — остановил себя Фомин — ведь это начало и будет время разобраться»…
— Это было в сорок третьем, — начал рассказ Вышпольский, когда они встретились вновь. — Я работал тогда подручным слесаря в авторемонтной мастерской на автостраде Варшава — Кенигсберг… Рассказывать подробней или мелкие детали не нужны?
— Her, детали представляют интерес, — спокойно ответил Фомин, — точнее указывайте даты, имена.
— Так вот, в начале сорок третьего к нам в мастерскую заехала большая черная машина «мерседес-8». Ее сопровождало несколько мотоциклистов-автоматчиков. Из машины вышел немецкий офицер, по знакам различия — полковник саперных войск. Хозяин мой, пан Ковальский, залебезил, засуетился перед такой важной персоной. Полковник на польском языке потребовал срочно отремонтировать крепление задней рессоры, а сам вместе с адъютантом зашел в ресторанчик при автостанции.
Мастера Закревский, Чепик и я по приказанию хозяина закатили машину на яму. Работали быстро, потому что и сами хотели поскорее избавиться от такого клиента. Закончив ремонт, туг же доложили. Полковник сел в машину и уехал. А пан Чепик сказал: «Знаете, кто он такой? Это Генрих Мевис, руководитель организованного грабежа польской земли. Его молодчики забирают здесь наше сырье, техническое оборудование».
Вышпольский вздохнул, поерзал на стуле.
— Теперь скажите, не странно ли получается, пан капитан? Прошло столько лет, с фашизмом, как известно, покончено, а я — польский рабочий, угнанный на чужбину, вынужден, как и четыре года назад, за кусок хлеба прислуживать нацисту, грабителю моей родины.
— Думаю, что вам это было весьма неприятно, — согласился Фомин. — И что же вы решили сделать?
— Я решил действовать, пан капитан. Из газет я знал, что шли судебные процессы над военными преступниками. Подумал: английская военная администрация заинтересуется Мевисом. Написал письмо, изложив в нем известные мне факты. Однако мне не ответили. Но я продолжал следить за ним. Узнал, что он приехал сюда недавно и, что меня больше всего поразило, оказалось — теперь он вовсе не Мевис, а Ганс Иоахим Клюге, коммерсант. Я отправил вторичное заявление — преступник, мол, скрывается под вымышленной фамилией. Но послание мое снова осталось без ответа.
Фомин видел в глазах Вышпольского неподдельную ярость.
— Чем же завершились ваши старания?
— О, это еще длинная история. Я не утомил вас?
— Продолжайте.
— Выдался удобный случай, я подогнал машину к его подъезду, вышла девушка. Я сказал ей комплимент, и мы разговорились. Она оказалась служанкой Клюге, оплатила счет и забрала ключи. Потом как-то утром снова встретил ее у подъезда, опять поболтали. Короче говоря, я стал встречаться с Эльзой, так ее звали. Но о своем хозяине она не могла ничего рассказать, работала у него недавно.
Однажды я решился зайти к Эльзе. Клюге не было дома. Она испугалась, сказала, что хозяин не велел никого в его отсутствие пускать в дом. Я говорю ей: к тебе пришел, а не к нему и зашел в комнату, которую она убирала. Очевидно, это был кабинет. И что бы вы думали: на стене, над письменным столом вижу висит большая фотография Мевиса в полковничьей форме. А потом увидел на столе эту карту, и очень она меня заинтересовала.
— Как же вам удалось ее взять? — спросил Фомин.
— Это произошло не сразу. Вначале я стал заигрывать с Эльзой. А когда она куда-то вышла, заглянул в карту и понял все. И то, почему мои письма остались без ответа. Как по той пословице — ворон ворону глаз не выклюет. Он был англичанам свой, этот полковник. И еще, пан капитан. На секретере лежал перзонен-аусвайс
[12] на имя Клюге, выданный — я успел посмотреть и хорошо запомнил — полицией Вернигероде, города, который, как я знал, находится в восточной зоне.
Дня через два, когда я снова зашел к Эльзе, она рассказала, что хозяин уехал и что можно побыть вместе. Вот тогда я и взял карту, которая по-прежнему лежала на столе, но была уже вот так удобно сложена. — Вышпольский кивнул на карту. — В ту же ночь решил идти сюда… Дальше вам все известно.
— Сколько примерно Мевису-Клюге лет?
— Сорок два — сорок пять.
— Вы сможете изложить на бумаге все, что мне рассказали?
— Да, конечно.
Фомин отвел Вышпольского в кабинет, который находился напротив комнаты дежурного, положил перед ним стопку чистой бумаги и ручку.
— Что за человек? — спросил Фомина прибывший его сменить лейтенант Скиталец.
— Заявитель. И, надо сказать, интересный… Если все, что он мне сейчас рассказал, правда, к нам в зону должен пожаловать знатный гость. Если уже не пожаловал.
4
— Извините, товарищ полковник, что беспокою вас в воскресный день. Только что закончил беседу с неким Вышпольским, — и Фомин коротко изложил начальнику суть дела.
— Через час — полтора буду, — сказал полковник Кторов. — А вы пока свяжитесь с нашими коллегами в Вернигероде. И еще проверьте, значится ли Клюге в полиции…
Фомин позвонил в Вернигероде, зашел к дежурному.
— Послушай, Скиталец, я приведу этого парня к тебе, а сам минут на двадцать отлучусь. Побреюсь и приму душ. Нельзя с такой щетиной и неумытому браться за серьезное дело.
— Вас понял. Действуйте! — улыбнулся лейтенант. — А заявителя даже не нужно пересаживать ко мне, пусть сидит там, в комнате, и пишет. Просто я открою двери.
— Просьба. Вызови, пожалуйста, переводчика с польского. Лучше всего Шуру.
…Дома, в которых жили сотрудники, находились на той же улице. Через каких-нибудь полчаса Фомин вернулся чисто выбритым и бодрым, словно и не было бессонной ночи. Он успел и переодеться. Серый костюм, белая рубашка очень шли ему, подчеркивая ровный загар. Это оценила переводчица Шура Александрова, которая уже сидела за своим столиком и переводила заявление поляка, деловито отстукивая его на машинке.
— Доброе утро, Евгений Николаевич. Какой вы сегодня элегантный, — улыбнулась она. — Словно на свидание собрались.
— Суворов, Шурочка, обязывал своих генералов идти в бой, как на парад, выбритыми и в отутюженных мундирах. — Фомин взглянул на отпечатанные страницы. — Все разбираете? Вопросов нет?
— Да, все понятно, Евгений Николаевич. Поляк уже заканчивает писать. А я быстро.
Заглянул к Скитальцу.
— Товарищ дежурный, как он допишет, — кивнул на комнату, где находился Вышпольский, — отправь его отдыхать. А я к начальству.
— Да-да, полковник уже спрашивал.
Кторов пригласил Фомина сесть и первым долгом взял карту.
— Надеюсь, дактилоскопические отпечатки сделаны, и с ней можно обращаться смело?
— Да, конечно, Георгий Васильевич.
Развернув карту, полковник спросил:
— Запросили Вернигероде? Что там известно об этом Клюге?
— Говорил с майором Гудковым. Он пообещал все быстро выяснить.
— А что заявитель? Как ведет себя?
— Вполне уверенно и, на мой взгляд, искренне. О его поведении я пока еще не сделал окончательного заключения.
Скиталец принес с машинки последние листы перевода, и Кторов стал читать заявление Вышпольского.
— Любопытно, — сказал он. — Ну, а что вы думаете о Мевисе-Клюге?
— Если судить по заявлению поляка, фигура важная. Возможно — связник. Мало вероятно, чтобы англичане использовали его в качестве рядового шпиона.
— Возможно, возможно, — Кторов постукивал по карте карандашом, — однако, вызывает сомнение, как это один человек ухитрился вести наблюдение за таким обширным районом. Ну ладно, подождем, что сообщат из Вернигероде. А пока, чтобы не терять времени, давайте сюда вашего молодца.
Через несколько минут Фомин ввел поляка.
— Здравствуйте, господин Вышпольский, — сказал Кторов. — Проходите, садитесь.
— Спасибо, пан… — Вышпольский вопросительно глядел на Фомина. Кторов был в штатском.
— Полковник, — подсказал Фомин.
— Да, спасибо, пан полковник, — почтительно повторил Вышпольский и опустился в глубокое кресло у письменного стола.
— Трудно было переходить границу?
— Нет, пан полковник, не очень. С той стороны она охраняется плохо.
— Как добирались до границы?
— На попутных машинах, а потом пешком.
— Из вашего заявления я понял, что ваша матушка сейчас в Ганновере?
— Да.
— Чем она занимается?
— Я рассказывал пану капитану. У нее больные легкие — по этой причине мы и застряли в Ганновере. Из-за ее болезни нам и разрешили переехать в город из лагеря для перемещенных лиц.
— Она где-нибудь работает? — повторил вопрос Кторов.
— В небольшом частном ателье — мама хорошая портниха-модельер. Когда она немного оправилась от болезни, нашла эту работу. Платят, правда, мало, но все же деньги.
— Есть ли у вас родственники в Польше?
— Нет, пан полковник. Отец погиб еще в сороковом году. Теперь больше никого. Когда меня отправляли в Германию, мать не захотела разлучаться и поехала со мной.
— Вы сможете задержаться у нас день — другой?
— Смогу. Я думаю, меня там никто не станет искать. Мать я предупредил, что поехал по делам в Берлин.
— Хорошо. — Кторов встал. — Евгений Николаевич, устройте нашего гостя в гостиницу, пусть отдохнет. — И обращаясь к Вышпольскому: — Когда отоспитесь, посмотрите город, сходите в кино. В общем, располагайте сегодня своим временем, а завтра к одиннадцати часам приходите. Продолжим беседу.
— Спасибо, пан полковник, я все понял. Я действительно сильно устал.
— Ну что ж, Станислав, пойдемте?.. — пригласил его Фомин. Тот улыбнулся, расценив дружеское обращение капитана как выражение доверия.
Когда Фомин вернулся из гостиницы, Скиталец предупредил:
— Георгий Васильевич передал, чтобы вы не отлучались — сюда едет майор Гудков.
— Значит, что-то нашел, коль едет сам, — обрадовался Фомин. — Я пойду прилягу. Как майор приедет, разбуди.
— Хорошо.
Но заснуть не удалось. Скоро в ворота дома вкатила машина.
— Ну что там, Павел Николаевич? — нетерпеливо встретил Гудкова Фомин.
— Не спеши, — вытер потный лоб майор. — Расскажу все сразу у начальства. Душно сегодня…
Кторов пригласил офицеров.
— Вот, Георгий Васильевич, — Гудков достал из папки отпечатанный на машинке лист бумаги и положил на стол. Кторов стал читать вслух.
— «По сведениям Вернигеродской полиции значится проживающим Ганс Иоахим Клюге, 1903 года рождения, уроженец города Гамбурга, по профессии инженер-механик. По неуточненным данным в период войны служил в тодтовской организации
[13]. В настоящее время работает корреспондентом газеты «Дойче вохе». В Вернигероде появился незадолго до конца войны, купил виллу с участком у вдовы Краузе, которая уехала к родным под Мюнхен (в связи с этим опросить ее не представилось возможным). Дома Клюге бывает редко, раза два в месяц, преимущественно в выходные дни. Остальное время находится в Берлине. На вилле постоянно живет некая Грета Эшке, пожилая женщина, которая ведет хозяйство Клюге и смотрит за садом. Удалось заполучить берлинский адрес Клюге…»
— Через кого получены эти сведения? — спросил Кторов.
— Все сложилось очень удачно: внук домоправительницы Клюге работает в полицейском участке. Хороший и неболтливый малый. Он спозаранку забежал к бабке и в разговоре с ней установил многие интересующие нас данные, прихватил там и визитную карточку Клюге. Вот она, — Гудков протянул Кторову белый квадратик плотной бумаги, на котором готической вязью было начертано: «Ганс Иоахим Клюге — журналист». — И еще, Георгий Васильевич. Уезжая, я поручил товарищам организовать за домом Клюге наблюдение.
— Отлично, Павел Николаевич. А теперь ознакомьтесь вот с этим, — Кторов достал из сейфа заявление Вышпольского.
Гудков прочитал.
— Все понятно.
— Ваши предложения, товарищи? — спросил Кторов.
— Мне думается, Клюге надо негласно снять, — сказал Фомин. — Документы журналиста дают ему большую свободу передвижения по зоне. Если Клюге — связник, то, пользуясь этой возможностью, он, видимо, не устанавливает точных дат встреч со своей агентурой и его задержание не вызовет у его людей подозрений. Если же он одиночка, то задержание его вообще пройдет незаметно. Согласно справке из Вернигероде Клюге дома бывает по воскресным дням. В случае его появления нужно задержать немедленно. Если же он сегодня не объявится, целесообразно завтра искать его в Берлине.
— А ваше мнение, Павел Николаевич? — спросил Гудкова Кторов.
— Согласен с Фоминым.
— И я присоединяюсь, — сказал полковник. — Только до завтра ждать не следует. Сейчас же свяжитесь с нашими товарищами в Берлине и попросите их навести все необходимые справки о Клюге по месту его работы и жительства. Одновременно запросите наших друзей в Польше: известен ли им Мевис-Клюге?
5
Вернувшись домой, Фомин увидел спящего Гудкова. Когда вышли от Кторова, Фомин дал ему ключи от своей квартиры и посоветовал отдохнуть, пока он сделает распоряжения и отправит шифровку. Гудков добросовестно выполнял рекомендацию друга и безмятежно похрапывал: «Пусть спит», — решил Фомин к потихоньку прошел в кухню. Засучил рукава и принялся хозяйничать, а через полчаса обед был готов. Тогда он вошел в комнату и поднял жалюзи на окнах. В комнату брызнуло солнце. Гудков заворочался, медленно, словно раздумывая, открыл глаза. Потом рывком поднялся, пробурчав:
— От сна еще никто не умирал.
— Что прикажете, герр майор? — с поклоном спросил Фомин, перебросив через руку кухонное полотенце. — Выполняем все заказы.
— Отлично, — надул щеки Гудков. — Подайте-ка мне жареное ухо слона с гренками.
Фомин ответил словами анекдота:
— Сожалею, но гренки кончились. Есть фирменное блюдо — «холостяцкая глазунья».
— Согласен.
Обедали быстро, по-солдатски.
— Как сын? — спросил Гудков.
— Спасибо. Серега растет молодцом. На днях получил от бабушки письмо. Вот фотография. — Фомин достал из пиджака, висящего на спинке стула, открытку: мальчуган в белом костюмчике, рядом на веревочке игрушечный грузовик.
— Похож, браг, он на тебя. Вылитый, — сказал Гудков, возвращая снимок. — Такой же лобастый, как папа. Ему теперь третий год?
— Четвертый, — Фомин вздохнул и убрал фотографию. — Получил из университета ответ: разрешили сдавать госэкзамены и защищать диплом досрочно. Так что я теперь без одной минуты юрист. Поеду домой, тогда уж и нагуляюсь с сыном.
«Милый ты мой человек, — подумал о Фомине Гудков. — И жить-то не жил, а горестей на твою долю выпало не по годам. Потерял отца, потом жену. Все снес молча, не раскис, не сдал характером. И работа эта адова не сделала тебя сухим и жестким. И нашел силу продолжать учебу…»
— Ну что, нам, наверно, пора, — сказал Фомин…
Когда вернулись в отдел, Скиталец торопливо сказал:
— Где вы запропастились? Машина готова. Касаткин ждет.
— Спасибо за хлопоты. Мы поехали, — сказал Фомин. — Если завтра к десяти не вернусь, не забудь встретить Вышпольского. Что с ним делать дальше — объяснит Георгий Васильевич. Бывай.
— Желаю удачи, — кивнул Скиталец, в душе сожалея, что не едет с Фоминым и Гудковым на поиски вражеского агента, такого, как ему казалось, таинственного и ловкого.
Глава третья
1
Совершенно секретно
Британская разведывательная служба
Сэр!
Приступил к выполнению варианта II — «Эльба-Аяксы». Операция развивается успешно.
С уважением майор Э. Старк
Ганновер
Перечитав текст сообщения, Старк запечатал бумагу в конверт, вызвал секретаря и приказал немедленно отправить. Потом подошел к большой карте провинции Саксония-Анхальт, занимавшей почти половину стены, и стал изучать район города Энбурга. «Игра» началась, и участвовали в ней не простые пешки. Какие же фигуры противопоставит ему противник?
Сделав пометки в блокноте, Старк убрал документы в сейф и, уходя, бросил секретарю:
— Анни, меня сегодня здесь не будет. Передайте Брауну: если потребуюсь, пусть звонит на виллу.
Час спустя Старк был в своей загородной резиденции. Хотелось узнать, вернулся ли человек Брауна, которого они ждали с таким нетерпением. Но Браун молчал. Нетерпение взяло верх: «Если гора не идет к Магомету…», завертел диск телефона.
— Ральф? Здравствуйте. Слышу вас очень плохо. Познакомился сегодня с досье этого Лютце. Мне кажется, он то, что нужно. Вы сможете его пригласить? Хорошо бы к вечеру… Что?.. Нет ли старика?.. Он звонил. Пока все собирается. Так значит, я жду. Всего хорошего…
Солнечные лучи, пронизывая листву дикого винограда, закрывавшую окно, дрожащими бликами легли: а паркет кабинета. Старк достал сигарету, закурил, подошел к окну. Из сада, перебивая запах дыма, легкий ветерок доносил аромат цветов. По достоинству оценив работу садовника, державшего все в идеальном порядке, Старк подумал, что подошла пора и его подключить к делу, хватит ему заниматься цветами.
Придя к такому заключению, Старк вернулся к столу, где лежал листок бумаги. Его энбургский агент сообщал: «У хозяина гостиницы «Каркут» узнал, что в ней останавливался интересующий нас господин. Несколько дней назад он выбыл».
«Выбыл?» Старк гнал от себя мысль, что «Потомок» арестован. Тщательно разработанная операция «Аяксы», на которую он возлагал большие надежды, пока что не вытанцовывалась… А если тот провалился?.. Разорвется звено цепи, и выполнение важнейшего задания придется отложить на неопределенный срок.
То, что обещал приехать Стюарт, не беспокоило. Шеф трезво смотрел на вещи: неудача так неудача — тут уж ничего не поделаешь. Старк даже признался себе, что ждет шефа с нетерпением, хотелось поделиться некоторыми мыслями, планами, сомнениями.
2
— Несколько дней будете моим гостем. — Приглашение Старка звучало как приказ.
Сидящий против него человек молча кивнул, спокойно продолжая потягивать через соломинку коктейль.
— Вас, господин Лютце, здесь познакомят с кое-какими техническими новинками. Они не только послужат вашей безопасности, но и помогут действовать.
Опять лишь вежливый наклон головы.
— Моего гостя не обвинишь в болтливости, — подумал Старк, раскуривая сигару и продолжая изучать собеседника, который все больше нравился ему. Вот он, уцелевший представитель нацистской элиты — типичный потемок легендарного Зигфрида, — размышлял Старк, — к тому же еще и красив…»
Лютце действительно можно было назвать красивым, если бы не вытянутый вперед тяжелый подбородок. Старк обратил еще внимание на едва заметное подергивание правой щеки и мочки уха. Это было не часто, но при этом лицо Лютце на миг становилось злым и неприятным.
— Ну, кажется, мы в достаточной мере познакомились, — закончил разговор Старк и нажал кнопку. — Вам конечно, хочется отдохнуть с дороги, привести себя в порядок? Горничная покажет Башу комнату. Все, что касается ужина или напитков закажите ей. По вполне понятным причинам не рекомендую вступать в близкий контакт с обитателями дома. Утром встретимся и обсудим в деталях существо дела.
— Вы меня звали, господня Старк? — вошла молодая миловидная женщина.
— Да, Берта. Это мой гость. Что надо делать, вы знаете.
— Благодарю, господин Старк, — Лютце поднялся с кресла. — Мне действительно нужно как следует отдохнуть. Еще вчера я был высоко в горах, в Швейцарии, и признаюсь, мне стоило немалого труда добраться сюда. Думаю, несколько часов крепкого сна восстановят мои силы. Спасибо. До завтра, — Лютце поклонился и вышел вслед за горничной.

Оставшись один, Старк выкинул соломку, залпом осушил бокал и подошел к бару. Поколдовав над винами и соками, приготовил себе еще один коктейль и сел в кресло. Он не зажигал свет, и окружающие предметы, словно призраки, постепенно растворились в сиреневом полумраке.
Сначала Старк думал о немце, о том, как здорово тот вышколен, и что гитлеровская разведка умела готовить кадры. Потом мысль каким-то странным образом перескочила на его, Старка, собственную персону… Жизнь решала за него. Как и многие его предки, Старк кончил Итонский колледж
[14], который поставлял правительству ее величества верных защитников интересов британской короны. На семейном совете постановили, что Эдвард должен проявить свои способности на дипломатическом поприще. Однако провидению было угодно распорядиться иначе. В один из туманных, дождливых дней октября тридцать седьмого года, когда даже привыкшие ко всему лондонцы неохотно покидали свои квартиры, молодого Старка пригласили в персональный отдел министерства иностранных дел, где высокопоставленный чиновник представил его человеку, который отрекомендовался подполковником Стюартом.
После непродолжительной беседы Стюарт привез Старка в один из особняков Риджент парка в Вестсайде
[15]. Там в тиши уютной гостиной у жарко горящего камина Стюарт, продолжая начатый разговор, сказал:
— Я тоже итонец, только выпуска двадцатого года, — и они с Эдвардом стали вспоминать преподавателей, профессоров. Как сообщники, от души смеялись над проделками студентов прошлых лет и теперешних. Их беседа лилась непринужденно. Лишь позже Стюарт перевел разговор на деловой тон, придав ему конфиденциальный характер.
Обрисовывая Эдварду политическую обстановку в Европе и на международной арене, он коснулся интересов Англии и заговорил о верных людях, которые ей нужны.
— Прошло время, когда мы могли позволить себе роскошь использовать для работы в святая святых империи — разведке, людей без учета сословия и воспитания, — объяснял ему Стюарт. — Нам необходимо уметь защищать свои интересы, положение в обществе, оберегать людей, так сказать, стоящих у руководства этого общества. Это вовсе не означает, что нужно самим лезть в самое пекло. Отнюдь. Но руководить должны мы. Вы разделяете мое мнение?
Эдвард тогда проникся уважением к подполковнику и самому себе — он в числе избранников, ему оказывают доверие. К тому же перспективы, нарисованные Стюартом, вполне устраивали Эдварда. На вопрос, готов ли он послужить отечеству на этом ответственном поприще, Старк дал утвердительный ответ, иначе говоря — принял предложение. Потом разговор перешел на частности. Выяснилось, что для будущей его деятельности знаний, полученных в колледже, явно недостаточно, и он в ближайшее время должен будет выехать на север страны в специальное училище.
Когда Эдвард вышел из особняка, дождь прекратился. Оранжевый циферблат вестминстерских часов, словно луна, медленно плыл сквозь туман. Было сыро и холодно.
Дома, не вдаваясь в подробности, Старк рассказал что в Уайт-холле ему предложили вполне приличную работу, близкую к той, которую он для себя избрал, следуя настояниям семейного совета.
На другой день Эдвард предъявил домашним длинный список вещей, которые ему понадобятся, пока он будет учиться. Все это было воспринято как должное, и он уехал в школу.
Так начался его путь разведчика.
Всегда — и когда его учили, и потом — среди его врагов значились немцы. И этот Лютце совсем недавно тоже был врагом, и произойди их встреча раньше, они рвали бы друг другу глотку. Где-то в глубине души Старк испытывал жалость к Лютце — потерять свою страну, искать хозяев, чтобы только мстить за крушение безумных надежд… Старк всегда считал Гитлера авантюристом. И вот такие, как Лютце, — жертвы его авантюры. Но в конце концов они оба стоят сейчас по эту сторону черты, за которой находится коммунистическая Россия и, как последнее время стала писать печать Запада, ее сателлиты.
Резкий телефонный звонок вывел Старка из дремотного состояния:
— Хелло! Старк! — пророкотал знакомый голос шефа.
— Слушаю вас, сэр.
— Вы заждались? Так я все же прилечу. Видимо, завтра…
— Буду рад вас видеть, сэр…
Положив трубку, Старк взял в холодильнике бутылку содовой и отпил из горлышка половину. Потом извлек из сейфа папку с документами, стал листать их: нужно было готовиться к предстоящей встрече с генералом Стюартом…
3
Мощный «вандерер» вырвался из тесноты городских улиц на бетонированную дорогу и, словно радуясь приволью, помчал быстро и легко. Шоссе было прямым, по его сторонам росли черешневые деревья, кое-где черешня созрела и ее собирали.
Фомин и Гудков молчали, глядя на серую ленту дороги, мчавшуюся им навстречу. Иногда шоссе стремглав перескакивал заяц. Тогда они привставали, провожая косого взглядом. На недавних полях войны
зайцев развелось великое множество, они выскакивали на дороги, подвергая себя смертельной опасности и заставляя нервничать шоферов.
Но вот на пути городок. Сброшена скорость. Неширокие улицы, вымощенные крупным булыжником, делали замысловато крутые повороты. Дома с узкими, как бойницы, окнами, казались маленькими серыми крепостями. Древний городок-гномик, обойденный вниманием истории, оказавшийся в стороне от железнодорожных магистралей и важных автострад, не располагал сколько-нибудь значительной промышленностью, а потому не получил развития.
— Половина пути позади, — сказал Гудков, когда машина миновала городок.
Вдали показался шпиль Вернигеродского замка, который, словно страж, уже более двух с половиной веков охраняет ворота в одно из самых благодатных мест Германии — предгорья Гарца.
— Богата Германия памятниками старины, — заметил Фомин.
— Это точно, — согласился Гудков. — Скоро полтора года, как тут живу, и каждый день открываю все новые прелести архитектуры. Хожу по городу и любуюсь или не соглашаюсь с древними зодчими. А в общем-то здорово. Особенно красив, знаешь, дом напротив ратуши — «Готический дом», так его называют горожане. Лет сто ему. А ратуша? В таком виде, как теперь, стоит сил с 1538 года — ценнейшая архитектурной реликвия…
По тому, как оживился Гудков, было видно, «сел» он на любимого конька. Зодчество было его увлечением, делом, которому при других обстоятельствах была бы посвящена жизнь.
— Ты ко мне заезжай почаще, — приглашал он Фомина, — я покажу тебе, брат, такие чудеса… Например, церковь Святого Сильвестрия, построенную в тринадцатом веке! А!.. Или здание Гаденштедтшес хауса… Дай бог памяти, 1543 года рождения. Но прекрасней всего этот замок. Сто двадцать метров над городом, смотрит на все свысока. Построили его в 1680 году, потом несколько раз перестраивали и окончательно реконструировали в 1883…
— Сколько же Вернигероде лет?
— Если верить летописи, городом он стал в 1229 году.
— До сих пор не понимаю, почему ты стал контрразведчиком?.. Ты же прирожденный архитектор, — рассмеялся Фомин.
— Женя, не смейся, и не дотрагивайся — это хрустальная мечта моей юности — так, кажется, говорил небезызвестный тебе Остап Бендер. Но, увы, если бы наши отцы и мы всегда делали то, что хотели, а не то, что диктовала жизнь и было нужно родной стране, людям… Тогда, дорогой, я, быть может, сейчас не сидел бы в этом городе. А ты в Энбурге. Больше тою, какой-нибудь герр Мольтке или Грабе наводил бы гитлеровский «новый порядок» в моем родном Владимире… Однако подъезжаем.
Несколько поворотов, и машина остановилась у полосатой будки. Часовой узнал Гудкова, поднял шлагбаум. Навстречу из дома вышел старший лейтенант.
— Что нового, Козлов? — спросил Гудков.
— Без перемен, товарищ майор. Продолжаем наблюдать за домом Клюге, ничего подозрительного не замечено. Заходил полицейский Краузе и просил передать вам, что недели две — три назад к его бабушке от имени Клюге заходил неизвестный, внимательно осмотрел дом, сад, подсобные строения и уехал.
— Любопытно. Очень любопытно. Это уже новое… Для чего приезжал сюда этот тип, как ты думаешь? — Гудков посмотрел на Фомина.
Тот пожал плечами.
— Не думает ли Клюге избавиться от своей виллы и стряхнуть прах с ног своих? Впрочем, нет. Вряд ли. Быть разъездным корреспондентом газеты — отличное прикрытие. И вилла, я думаю, тоже не помеха.
— Слишком мало мы пока знаем.
— Каким образом Клюге ухитряется так часто посещать Ганновер и даже жить в нем? Тебе это не кажется странным? Должен же он отчитываться редакции, где бывает… Впрочем, не будем гадать. Завтра, надеюсь, все выяснится. Сейчас восемнадцать часов. Не исключено, что еще сегодня он сюда заглянет… Подождем.
Дожидаться сигнала о появлении Клюге решили у Гудкова, благо дом его был рядом. За ужином, а потом за беседой и шахматами время летело быстро, незаметно опустил свой синий полог летний вечер. Жена Гудкова Мария Николаевна, не желая мешать друзьям, ушла отдыхать.
— Пожалуй, брат, ждать дольше нет смысла, — заметил Гудков.
— Да. Если за час — полтора ничего не прояснится, выедем в Берлин. К восьми, глядишь, и доберемся. Тебе, может быть, ехать со мной и не надо. Поручи кому-нибудь. Да и Касаткин в таких делах не новичок.
— Ладно, там будет видно. — И немного подумав: — Пожалуй, все же поеду я сам.
Они собрались и пошли в отдел.
— Все без изменения, товарищ майор, — доложил Козлов, когда Гудков с Фоминым пришли к дежурному. — Посты мы сменили. Оставили всего один, а со стороны сада сняли совсем.
— Правильно, — одобрил Гудков. — Но после шести утра восстановите, когда придет первый поезд. А сейчас вызовите Смирнова.
Смирнов не заставил себя ждать. Гудков объяснил капитану, что, если в их отсутствие появится Клюге, следует немедленно его задержать и доставить в Энбург.
— И пожалуйста, — попросил Фомин, — позвоните в округ, доложите, что мы выехали с Павлом Николаевичем в Берлин.
На автостраде Фомин включил приемник: зазвучала ленивая джазовая мелодия, долго играли какое-то печальное танго, его сменила бойкая ритмичная песенка, голос певца сопровождай переборы гитары и утробное урчание саксофона. Порой настройка сбивалась, и вместе с музыкой эфир приносил всплески разрядов, посвист, смех, разноязыкий говор.
Луна взобралась высоко. За окном вставали темные заборы перелесков, звонко стучали переплеты мостов. Миновали заспанный пустынный городок, в котором улицы были, словно ущелья.
Фомин не заметил, как уснул. Еще раньше задремал Гудков. Касаткин, хорошо отдохнувший в Вернигероде, уверенно вел автомобиль, изредка поглядывая на заснувшего капитана, голова которого покачивалась в такт движению. Свет фар вырвал из темноты знак объезда — автострада в этом месте в войну была разрушена и пока не восстановлена. Мягко притормозив, чтобы не потревожить пассажиров, Касаткин съехал с насыпи в сторону, но, когда стал возвращаться на дорогу, машину все же сильно тряхнуло. Фомин проснулся, поежился.
— Сколько же я этак? — спросил он. — Часа два небось, светает уже. Что же ты не разбудил? Так и последние известия из Москвы прозеваем. Вовремя я… — Он включил приемник.
Впереди показались темные силуэты строений. От них на дорогу шагнул человек и поднял руку. Касаткин вопросительно поглядел на капитана.
— Что будем делать?
— Остановите.
Машина затормозила. Незнакомец, взглянув на номер, видимо, понял, что перед ним представители военной администрации.
— Прошу прощения, — развел руками. — Я думал, это частная…
— И все-таки, что случилось? — спросил Фомин.
— Нет, нет. — Мужчина отступил на шаг, но туг же заговорил: — Жена оступилась. Вставала с постели… А она, понимаете ли, беременная. Ну, у нее и началось… Теперь не знаю, как отвезти в больницу. Бегаю тут, и ни одной машины…
— Где ваша жена? Она может ходить?
— Вы серьезно! — недоверчиво спросил немец.
— Давайте же скорее, — сказал Фомин.
Немец побежал к дому и почти тут же вышел, поддерживая под руку хрупкую маленькую женщину. Гудков распахнул дверцу и отодвинулся, давая место.
Касаткин повел машину на предельной скорости, стараясь мягче обходить неровности дороги, Женщина сидела, откинув голову, закусив губы.
Стало совсем светло. Солнце окрасило розовым светом верхушки деревьев, на траве засверкала роса.
— Говорите, куда ехать, — сказал Фомин, когда машина свернула с автострады у окраины городка.
— Немного дальше и направо. Здесь рядом, — сказал немец. — Вон то серое здание.
На крыльцо вышла сестра в белой косынке, помогла женщине подняться по ступеням. Супруг зашел в больницу вместе с ними и тут же вернулся, растерянно улыбаясь:
— Спасибо, геноссе. Марина и я очень благодарны вам…
— Желаем здорового малыша, и чтобы он никогда не знал, отчего происходит такое, — Фомин кивнул на разрушенный бомбой дом.
— Да, — с жаром подхватил немец. — Война — величайшее зло. Поверьте, далеко не все в Германии хотели той войны… Извините, спасибо, — он смущенно шагнул вперед и нерешительно протянул руку. Фомин пожал ее.
— Касаткин, садись рядом, отдохни. Я сам поведу, — сказал Фомин.
— Что вы, товарищ капитан, — запротестовал было водитель, но, видя, как решительно Фомин открыл дверцу, подчинился и освободил ему место.
И опять помчались улицами. Толкая перед собой двухколесную тачку, навстречу шел мусорщик, гасил газовые фонари. По тротуарам брели ранние прохожие. Кое-где на подоконниках хозяйки уже развесили толстые перины.
Остаток пути до Берлина — немногим более ста километров — покрыли за полтора часа, промчав мимо радиостанции, аэродрома Шенефельд, через Кепеник в Карлсхорст.
4
— Будете завтракать? — вместо приветствия спросил оперативный дежурный. — Буфет уже открыт.
— Нет, спасибо, потом, — сказал Фомин. — Лучше скажите, что сделано по нашей шифровке?
— Должен вас огорчить. Клюге до прошлой пятницы действительно работал разъездным корреспондентом «Дойче вохе». В субботу неожиданно взял расчет. Установили это буквально перед вашим приездом наши коллеги из народной полиции. Живет ли Клюге по адресу, указанному в шифрограмме, еще не выяснено, но значится там. Никаких компрометирующих материалов на него нет. Вот, собственно, и все. Что будем делать?
— Нужно немедленно ехать к нему на квартиру. Может быть, он еще дома?
Дежурный позвонил в участок и попросил выделить полицейского для срочной операции.
— Участок, между прочим, находится почти рядом с домом Клюге, — объяснил он. — Если понадобится еще какая-либо помощь, сообщите туда. Руководство в курсе дела.
Как только машина подъехала к участку, к ней подошел молодой человек в штатском и спросил:
— Капитан Фомин? — Получив утвердительный ответ, представился: — Вахмайстер полиции Отто Линденау.
— Садитесь, геноссе Линденау. Вас проинструктировали?
— Да, начальник приказал оказать вам содействие в проверке и задержании какого-то человека.
— Это некто Иоахим Клюге. Вы подниметесь к нему в квартиру. Если Клюге дома, объясните ему, кто вы, и попросите предъявить документы. Мы пойдем следом, будем действовать в зависимости от обстоятельств. Вам понятно?
— Да, геноссе капитан.
В той части улицы, где жил Клюге, дома сравнительно мало пострадали от бомбежек. Линденау отыскал нужный подъезд, но входная дверь оказалась запертой. По обеим ее сторонам из стены торчали пуговки звонков, вставочки с номерами квартир и фамилиями владельцев. Вставка жильца седьмой квартиры пустовала. Линденау вынул из кармана связку ключей, попробовал один, другой, наконец нашел подходящий, мягко нажал ручку, и дверь открылась.
«Предусмотрительный парень», — отметил про себя Фомин.
Лифта в доме не было. И они стали медленно подниматься по лестнице. Остановились на площадке третьего этажа против квартиры номер семь. Прислушались: тишина. Линденау осторожно нажал дверную ручку. Она не поддавалась. И вдруг…
— Кто там? — спросил из-за двери приглушенный голос.
— Полиция. Откройте!
— Одну минутку. Я только оденусь.
Они прождали несколько минут, но никто дверь не открывал.
— Господин Клюге, скоро вы там?! — Линденау нетерпеливо подергал ручку.
— Павел Николаевич, сходи к Касаткину за монтажной лопаткой. А мы пока попробуем так…
Фомин навалился на дверь. Полицейский стал помогать ему, но усилия были тщетны.
— На! — Запыхавшийся Гудков протянул Фомину лопатку.
Не без труда тот просунул лопатку в узенькую щель и начал раздвигать ее. Потом сильно ударил дверь плечом, и она распахнулась. Офицеры вбежали в квартиру. Столовая, спальня… На полу открытый чемодан, но никого нет. Дверь на кухню заперта. Гудков ударил ее ногой, сорвав защелку.
— А, черт, бежал! — крикнул он, метнувшись к раскрытому окну, из которого вниз свисала веревка. — Вон он! Смотри!
Фомин увидел в окно, как, прихрамывая, через дворик к машине спешил человек.
— Бежим! — Гудков буквально скатился по лестнице.
— Геноссе Линденау, останьтесь… и квартиру возьмите под охрану, — попросил вахмайстера Фомин и побежал вслед за майором.
Когда выбежали на улицу, увидели, как метрах в ста от них из двора выехал серый автомобиль.
— Вперед, Касаткин! — крикнул Фомин. Гудков уже был в машине. — Нужно догнать. Жми, дорогой!
…Сильные руки шофера уверенно кидали баранку на поворотах. Тяжелый «вандерер», сначала было отстававший, начал медленно нагонять машину Клюге. Нарушая правила, тот погнал машину под знак, запрещающий въезд в улицу. Пришлось проделать то же. Сбоку показался большой автофургон. Касаткин засигналил, идя ему наперерез. Водитель фургона сразу затормозил, поняв, что гонка эта не случайна.
Клюге отлично вел машину, и мастерству его можно было позавидовать: он заезжал на тротуары, делал головокружительные петли по разбитым улочкам и улицам, которые, судя по всему, хорошо знал. Клюге пробивался из города на берлинское кольцо, рассчитывая, видимо, где-нибудь в районе Шенефельда проскочить в западный сектор. Так, во всяком случае, полагали и Фомин и Гудков.
И вот — кольцо. Оно пустынно. Более легкая машина Клюге опять стала отрываться. «Вандереру» сложнее было набирать скорость, но наконец и он взял свое и стал настигать серый автомобиль.
Фомин волновался: еще десять минут, и Клюге, бросив машину, может скрыться за изгородь: в районе Шенефельда секторальная граница идет рядом с кольцом. И тогда ищи ветра в поле…
— Давай, Касаткин, давай, друг! — повторял Фомин.

В окна со свистом врывался ветер, мотор пел на одной ноте. И все же расстояние сокращалось очень медленно. Добрых двести метров разделяли их, и времени просто не оставалось. Рядом американский сектор. «Эх, была не была!» — Фомин решительно отстегнул зажимы и отодвинул назад переднюю часть крыши. Встречный поток ветра показался упругим, как струя воды. Глазам было больно смотреть.
Колодка маузера привычно прижата к плечу. Найдена наконец удобная точка. Фомин нажал спусковой крючок. Выстрелов за гулом мотора он почти не слышал, ощутил лишь легкие толчки. «Раз, два… — считал он про себя. — Нужно попасть в правое задние колесо». Серая машина вдруг резко вильнула вправо, едва не свалившись в канаву, потом, затормозив, накренилась в ту же сторону и встала.
Открылась дверца, Клюге буквально вывалился из нее и, заметно прихрамывая побежал к забору из колючей проволоки, отделяющему восточный сектор от западного.
Заскрежетал тормозами «вандерер».
— Стой! — выскочив из машины, крикнул Фомин. — Стой! — лихорадочно думая, что еще можно предпринять, он бежал за Клюге.
Тот остановился и вдруг, согнувшись вперед, упал на землю, держась за колено. Фомин был уже близко, увидел его лицо, искаженное болью и злобой.
— Зачем было так спешить, господин Клюге? И прыгать из окна? Поднимайтесь! И руки, руки!.. Павел Николаевич, помоги, посмотри, нет ли чего лишнего в карманах у господина.
Кроме личных документов и сигарет, в карманах Клюге ничего не оказалось. Офицеры с трудом довели ею до машины: ногу он повредил сильно и волочил, постанывая. Осмотрели автомобиль. В правой части багажника чернело несколько отверстий — промахи. Но одна из пуль достигла цели: изжеванная резина клочьями висела на ободе.
— Замените баллон и поезжайте на этой машине, — дал Фомин распоряжение Касаткину. — А я поведу нашу. Посмотрите, есть у него запаска?
Касаткин открыл багажник.
— Есть. Все в порядке. Я мигом.
— Мы подождем. — Фомин подошел к «вандереру», в котором уже сидел Клюге под присмотром Гудкова. — Как вы думаете, Павел Николаевич, что, если нам в Берлин не возвращаться? Позволим товарищам с дороги, они доделают что нужно.
Так и решили.
5
— Садитесь, — сказал Кторов. — Только прошу вас: рассказывать не спешите, покурите и соберитесь с мыслями. Время теперь значения по имеет. — И, подавая пример, он стал неторопливо разминать сигарету.
Фомин и Гудков переглянулись и, вздохнув, дескать, делать нечего, когда так требует начальство, опустились в кресла и закурили. Кторов походил по комнате, сложил в шкаф какие-то книги, разобрал папки и, убрав некоторые в ящик, навел порядок на письменном столе. Потом загасил сигарету.
— Итак, я слушаю.
Фомин доложил коротко и складно. Даже самому понравилось, и Гудков кивнул одобрительно. Но полковник поморщился.
— Все хорошо, что хорошо кончается. И победителей, как говорится, не судят. Но при задержании совершить такую грубую ошибку?.. Удивляюсь… Вас двое, шофер, да еще криминалиста дали, судя по вашему рассказу, толкового. Целая армия!.. И вдруг, без всякой проверки, не обеспечив тылов, не осмотревшись, сразу в квартиру?.. Явный просчет, Евгений Николаевич, и не будь его, не пришлось бы устраивать эти гонки, да еще со стрельбой.
— Вы правы, Георгий Васильевич, — Фомин покраснел, — мы поспешили. Знаете, как-то сбило с толку сообщение об увольнении Клюге и отсутствие таблички, указывающей, что он проживает в этом доме.
— Ну, ладно, — уже миролюбиво сказал Кторов, — наука на будущее. А теперь отдыхайте. Вы, Павел Николаевич, если хотите, можете сразу ехать домой. Решайте сами. Но вам будет задание: теперь, когда Клюге задержан, квартиру его в Вернигероде следует тщательно обыскать и приглядывать за ней вместе с товарищами из народной полиции.
— Понятно, товарищ полковник. Оставаться не буду. Пообедаю — и к себе.
— И помните наш договор об экскурсии в Лейпциг. Зная ваше пристрастие к истории и архитектуре, рассчитываем видеть вас своим экскурсоводом.
— Что смогу, то с удовольствием. Я и сам не прочь побывать там еще раз. Ну, крестный, — повернулся Гудков к Фомину, — надеюсь, накормите меня обедом.
— Крестный? Как прикажете понимать? — Кторов удивленно посмотрел на Фомина.
— В прямом, так сказать, смысле, — улыбнулся Гудков, — Фомин у нас действительно крестный папа. — И он рассказал о дорожном происшествии.
— Если исходить из соображений чисто служебных и строго, то это нарушение. Ведь вы находились на ответственном задании, на котором нельзя отвлекаться ничем второстепенным. Но если рассматривать ваш поступок с позиций гуманности… — Кторов с теплотой посмотрел на Фомина, — с позиций человеколюбия, то это, друзья, хорошо. «Не чувствуешь любви к людям — сиди смирно, занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми». Знаете, кто это сказал?.. Нет? Великий Толстой. А вспомнил я эго потому, что наша работа немыслима без любви к людям, к людям, которых мы обязаны оградить от бед… Отдыхайте. — Кторов встал, давая понять, что разговор окончен. — А мне тут еще дел допоздна. — И он проводил офицеров до двери.
6
Фомин раскрыл папку с материалами Клюге. За сутки с небольшим их скопилось достаточно. Здесь были и весьма важные документы, подтверждающие, что задержанный действительно был полковником немецкой армии и его настоящее имя Ганс Иоахим Мевис. Удалось обнаружить его именное оружие. И еще пришла телеграмма из Варшавы: «Полковник Ганс Иоахим Мевис с апреля 1942 года по ноябрь 1943 года работал в аппарате имперского наместника в Польше — Франка. Разыскивается органами государственной безопасности Польши, как военный преступник».
«С этого и надо начать разговор, — думал Фомин. — Мевис-Клюге, пожалуй, охотней всего расскажет о своих преступлениях в Польше. К тому же их он взвалит на руководство вермахта, как это уже бывало на судебных процессах. Сознавшись в малом, попытается скрыть сегодняшнюю свою роль — шпионаж».
Итак, заявление Вышпольского подтвердилось полностью.
Пора приступать к допросу.
…Клюге вошел прихрамывая, с достоинством поклонился и сел. За пять часов, что они не виделись, он заметно изменился, лицо осунулось, глаза лихорадочно блестели.
— Как ваша нога? — спросил Фомин.
— Благодарю. Врач определил растяжение сухожилия и еще ушиб, сделал перевязку. Но теперь мне значительно лучше.
— Вы чувствуете себя достаточно хорошо, чтобы отвечать на вопросы, господин Мевис?
— К вашим услугам, господин офицер.
— Почему вы, словно вор, бежали из собственной квартиры? Да еще таким средневековым способом?
— Другого выхода не было. А этот способ давал мне некоторую надежду… Во всяком случае я выигрывал время и если бы не отличная стрельба, как знать…
— Спасибо за комплимент, господин Мевис, но это уже следствие. Меня же интересуют причины бегства?
— Вы уже дважды называли мою настоящую фамилию. Вот вам и причина. Вас несомненно интересует моя деятельность в Польше?
Фомин кивнул.
— Да, я действительно Ганс Иоахим Мевис. Родился в Берлине в девятьсот втором году. Кадровый военный. Все мои предки верой и правдой служили фатерлянду. В тридцать седьмом году закончил военно-инженерную академию, служил в полевых частях. В сороковом году меня перевели на Бендлерштрассе
[16]. В сорок втором — направили в Польшу в распоряжение господина Франка. Там я находился до ноября сорок третьего…
— Чем конкретно вы занимались в период пребывания в Польше?
— Конфискацией технического оборудования и стратегических материалов.
— Точнее, планомерным грабежом национальных Богатств Польши? — заметил Фомин.
— Если хотите, называйте так.
— Продолжайте.
— Из Польши меня вернули в управление. К тому времени многие стали понимать, что война проиграна. Вынашивалась надежда договориться с вашими союзниками. Но, увы… Когда стало ясно, что катастрофа близка, я через своего друга получил документы на имя Клюге. До этого по случаю приобрел в Вернигероде небольшой участок земли с виллой. Откровенно говоря, я никогда не думал, что окажусь в советской зоне оккупации. Мне, признаюсь, лучше было, конечно, исчезнуть. Я даже позаботился об этом: примерно в марте в «Берлинер Альгемайне» появилось сообщение о моей гибели во время налета союзной авиации. В начале апреля с отличными документами и чистой биографией я поселился в Вернигероде. Вот, пожалуй, и все. Деваться, так сказать, некуда, и я понимаю, что нужно быть откровенным до конца.
— А ваша журналистская карьера?..
— После войны, когда все утряслось, устроился на работу разъездным корреспондентом в «Дойче вохе», исправно работал, никак в общем-то не думая, что мною могут заинтересоваться оккупационные власти.
— Даже забыли о том, что действия руководимых вами в Польше людей носили откровенный вооруженный бандитизм в отношении целой нации?..
— Я военный. Привык подчиняться приказам и свято выполнял свой долг…
— Старая песня, господин Мевис. Долг, честь, приказ, — перебил его Фомин. — Все это уже звучало в Нюрнберге. И если уж вы не чувствовали себя виноватым, тогда почему так поспешно бежали от нас, рискуя сломать шею?
— Процессы над некоторыми пойми прежними коллегами напугали меня. У нас с вами разные точки зрения на эти вопросы. К тому же мой высокий офицерский чин. Знакомство с вами не входило в мои планы. Надо было убираться в более тихое место.
— И это же заставило вас уволиться с работы? Куда же вы собирались?
— Хотел тихо жить в Вернигероде, вести хозяйство. Журналистика все же слишком беспокойная профессия…
— На сегодня довольно. Слушайте внимательно, — Фомин прочитал протокол. — Все верно?
— Да.
— Я могу написать, что протокол с ваших слов записан верно и прочитан вам на немецком языке?
— Бесспорно, господин офицер.
— Распишитесь, — Фомин подвинул ему листы протокола и ручку.
Размашисто подписав протокол, Мевис выпрямился и вытянул руки по швам.
— Господин офицер, ни могу ли я воспользоваться вашей любезностью и взять с собой две — три сигареты?
— Возьмите все. — Фомин пододвинул пачку к краю стола.
— Благодарю. — Мевис четко, по-военному, повернулся и тут же, охнув, присел. Смущенно посмотрел на Фомина и, прихрамывая, пошел впереди конвоира.
Глава четвертая
1
«Пуллах — 6 километров». Пауль Хаазе, или, как его называли его бывшие коллеги, «Железный Пауль», облегченно вздохнул, увидев на дороге этот указатель. Он продолжал гнать машину. У шоссе замелькали щиты, предупреждающие, что въезд запрещен и что за нарушение — смерть… Но, несмотря на эти грозные предостережения, Хаазе даже прибавил скорость и вскоре оказался перед массивными воротами, от которых в обе стороны протянулся высоченный каменный забор.
Едва автомобиль затормозил у ворот, рядом с ними отворилась небольшая калитка, и вышел человек в военной форме без знаков различия. Хаазе назвал ему свой личный номер, под которым значился в этом ведомстве, вылез из машины, передал паспорт. Человек ушел, и Хаазе остался ждать. Только теперь он почувствовал усталость; болела голова, ныли плечи, руки. Ноги были точно ватные и еле держали его, очень хотелось лечь. Прошло около четверти часа, прежде чем вернулся дежурный и разрешил часовому пропустить автомобиль и его хозяина. Часовой в свою очередь неторопливо и бесцеремонно осмотрел машину и лишь тогда медленно ушел с дороги, нажал в стене какую-то кнопку — металлические створки ворот раздвинулись — и жестом показал, что можно ехать.
— Господин Бэтхер сможет принять вас не раньше одиннадцати. Я доложу ему. В вашем распоряжении четыре часа, — сообщил Хаазе дежурный. — Отдохните пока в гостинице.
Молчаливый, с отличной солдатской выправкой, портье подал ему ключ от номера. «Год — два назад такого порядка здесь еще не было», — удовлетворенно отметил про себя Хаазе. В номере он разделся, повесил костюм в шкаф, разобрал постель и через несколько минут крепко спал…
В приемную Бэтхера Хаазе явился свежий и бодрый, словно и не было ночной десятичасовой гонки. В одиннадцать с минутами двери кабинета распахнулись, и Бэтхер приветливо пригласил его к себе.
— Садитесь. Рад видеть. Но, признаюсь, не понимаю, что заставило вас приехать вот так — без вызова.
— Извините, но мне захотелось лично передать вам приятную для вас весть и, кроме того, я доставил интересовавшие вас материалы на Старка.
— За материалы спасибо. А весть?
— Вчера на вилле Старка, которому я «преданно» служу, появился один из наших людей.
— Кто он? Цель приезда?
— «Барон».
— «Барон»?! — Бэтхер потер руки. — Ну, спасибо, господин Хаазе. Это действительно подарок. Продолжайте.
— Как я понял, Старк собирается его направить в Энбург, для выполнения какого-то особо важного задания. У меня есть предположение, что там у Старка провалилось несколько агентов. К сожалению, они нам не все известны.
— Меня не удивляет, что «Барон» до сих пор не появлялся. Очевидно, были обстоятельства. Однако от присяги его никто не освобождал, и он, я думаю, в недалеком будущем сам появится у нас. А с англичанами у него, видимо, сложные отношения. Мне помнится, он отправил на тот свет не менее дюжины английских летчиков. Впрочем, — Бэтхер поднялся с кресла, — мы поможем «Барону». Установите с ним связь, передайте мой привет и, если игра действительно стоящая, идите при необходимости к нему в партнеры. Он ценный человек, сберегайте его. Такие, как он, — будущее Германии. Ну, а все остальное, я думаю, ясно. Будьте осторожны, чтобы у англичан не возникло недоверия к нему. Вы поняли? После возвращения явитесь ко мне вместе. Старком я займусь сам. Нам пора познакомиться.
— Слушаюсь, — Хаазе вытянулся и пожал протянутую руку.
Это был приказ к немедленному действию, и час спустя машина Хаазе уже мчалась в обратном направлении. Он был доволен встречей с шефом и чувствовал себя героем — сделано дело. Радовало его и другое: порядок в Пуллахе свидетельствовал, что немецкая разведка вновь, и уже в который раз, словно птица Феникс, возродилась из пепла войны. И не только возродилась, но и начинает действовать, игнорируя англичан и, видимо, выходя мало-помалу из-под опеки американцев, которые вначале считали себя вроде бы хозяевами. «Все идет отлично», — заключил Хаазе.
2
На виллу он вернулся поздно ночью. Своим ключом отпер ворота, поставил машину в гараж и сразу же прошел в комнату Берты.
— Где новенький? — тихо спросил он, разбудив девушку.
— Вы, наверно, имеете в виду господина Лютце? Так назвал его господин Старк. Его поместили в покоях старого барона. А господина Старка нет, он уехал в город.
— Тем лучше. Вы мне не нужны, спите, — сказал Хаазе, видя, что Берта собирается встать.
В коридоре второго этажа Хаазе остановился и прислушался: все было тихо, немногочисленные обитатели виллы крепко спали. Толстый ковер заглушал его шаги. Перед дверью комнаты, где находился Лютце, он снова огляделся и медленно повернул ручку. Она легко поддалась. Войдя в комнату, Хаазе плотно прикрыл за собой дверь, включил ночник у постели. Желтоватый свет осветил лицо спавшего.
— Макс! — Пауль слегка потряс Лютце за плечо.
Тот едва заметно приоткрыл глаза, и в то же мгновенье они широко распахнулись.
— Одевайся и иди за мной, — сказал Хаазе.
Лютце улыбнулся, молча сел в постели и быстро натянул брюки и рубашку. Словно два призрака, они бесшумно спустились в подвал, миновали длинный, слабо освещенный коридор, в конце которого Хаазе открыл какую-то дверь. Оки очутились в большой, со вкусом отделанной, хорошо освещенной комнате с дорогой, удобной мебелью.
— Заходи и располагайся, — Хаазе показал рукой на кресла. — Здесь нам никто не помешает И перестань таращить глаза. Можешь потрогать меня и убедиться, что я не выходец с того света. Лучше закури, Макс. Или перекусим? Я чертовски хочу есть. Только вернулся из Пуллаха. Схожу на кухню и принесу что-нибудь. Ты будешь?
— Нет, спасибо.
— Как знаешь.
Хаазе быстро вернулся с большим подносом, уставленным тарелками с закуской: холодный цыпленок, масло, сыр, ветчина, картофель, отваренная цветная капуста.
— Будет и выпивка, — скосил он глаза. — Присаживайся ближе. Ну, вот отлично! — Достал из шкафа бутылку «мартини» восемнадцатого года, разлил по рюмкам.
Лютце выпил, но есть все же не стал. Молча ждал, пока Хаазе утолит свой голод и наконец что-нибудь объяснит. Но Хаазе начал разговор, не закончив трапезы.
— Прежде всего, привет тебе от господина Бэтхера. Он просил напомнить, что от присяги тебя никто не освобождал.
— Германия превыше всего! — Лютце даже привстал. — Пауль, ты знаешь, я всегда готов служить ей, и только ей.
— Иного от тебя и не ждал, Макс. Однако к делу — времени у нас не много. Любезный хозяин может скоро вернуться и помешать нашей беседе. Поэтому ответь на главное — тебя посылают: когда, куда и зачем?
— Через пару дней в Берлин. Потом рейс в Энбург. По сведениям Старка, там находится лаборатория, в которой выполняют очень серьезный заказ русских. Я еще плохо себе представляю, о чем речь, но англичане здорово взбудоражены.
— Ну что же — это тем более интересно. Кто с тобой?
— Судя по всему, я отправляюсь один.
— Господин Бэтхер дал мне указание всячески способствовать твоей работе и помочь тебе там. Если встретятся затруднения, сообщи немедленно. И да будет тебе известно, я управляющий Штольцев — истинных хозяев этого имения. У меня есть возможность беспрепятственного проезда по всем зонам, в том числе, и по русской. Пиши по адресу, запоминай: Ганновер, абонементный ящик 2235-Х. О письме я буду знать немедленно. Вот, пожалуй, и все. А сейчас, дорогой Макс, нам лучше всего разойтись. Обоим необходимо отдохнуть…
Лютце долго не мог заснуть. Слишком уж много впечатлений за минувшие двое суток. Мысли наслаивались одна на другую. И главное, что он почувствовал сейчас, — удовлетворение: он вновь служит делу, к которому его приобщили с мальчишеских лет и которому он поклялся быть верным до конца жизни.
3
В тишине раннего утра пистолетные выстрелы звучали резко, словно удары бича. Изящным движением фокусника Лютце положил «вальтер» на барьер, неторопливо опустил манжету белоснежной сорочки и только тогда последовал вслед за Огарком к мишени.
— Блестяще! — восхитился англичанин. — Ничего не скажешь — все семь в яблочке.
— Мое ремесло, — улыбнулся Лютце. — Однако на него сейчас ограниченный спрос. Надеюсь, еще настанут дни, когда… — Узкие губы сжались. Заметив, как внимательно наблюдает за ним Старк, Лютце не отвел глаз, напротив — послал навстречу холодный, как сталь клинка, взгляд. — В радиусе тридцати метров подобраться ко мне практически невозможно. Но вы обещали познакомить меня с каким-то новым оружием.
Старк сделал знак следовать за ним. Они вошли в дом. В кабинете англичанин открыл тяжелую дверь стенного металлического шкафа и достал пару обычных замшевых перчаток.
— Вот, посмотрите, в них не только можно работать. Это и оружие, — он протянул одну из перчаток Лютце, и тот стал внимательно разглядывать и ощупывать ее. — В швах волоски медной проволоки, — объяснял Старк. Он погладил перчатку рукой. — Вот эти миниатюрные батарейки присоединяем к катушке, дающей импульс тока высокого напряжения, далее он идет по проводам к перчатке. Надеваем ее, застегиваем кнопку, и оружие к бою готово. Оно надежно и безотказно — проверено. Есть, кстати, батареи помощней. Если взять вот эти, — Старк достал из ящика кирпичики величиной со спичечную коробку, — то при рукопожатии или объятии, ваш противник либо впадает в глубокое обморочное состояние, либо немедленно умирает от паралича сердца.
— Остроумно, но не ново. Мы пользовались подобными штучками при допросах, — заметил Лютце, снимая с руки перчатку. — Но это все средства. Вы же пока очень скупо сообщили мне о цели.
— Сейчас перейдем и к цели, — самодовольно заметил Старк, в душе ликуя, что вынудил все же этого немца задать вопрос. — Садитесь и слушайте. — Старк уселся в кресло напротив и, откинувшись на спинку, стал излагать подробности дела.
… За все время, пока говорил англичанин, Лютце ни разу не перебил его вопросом, а тот объяснял добрых полчаса. Наконец, закончив инструктаж, Старк встал и подошел к шкафу.
— Чуть не забыл. Вот этой пилкой из особого сплава можно за несколько минут перепилить железный прут толщиной в три пальца. Полагаю, что такие пилки могут вам пригодиться. Итак, повторяю, в Энбурге начнете с того, что свяжетесь с моим агентом. На первое время можете у него обосноваться. Адрес запомнили? Хорошо. Далее, найдете Гельмута, кличка «Дункель». Работает в гараже, обслуживающем акционерное общество, изредка — комендатуру. Передайте, как и в первом случае, привет от дяди Боба и скажите, что «Лоцмана» не будет. Запоминайте его адрес, его я вам еще ни называл: Энбург, Монте-Карлоштрассе, одиннадцать, квартира два. «Дункель» — проверенный агент, и довериться ему можно целиком. Ну, вот теперь все, — Старк тяжело вздохнул. — Наговорились мы достаточно. Отдыхайте. Если возникнет какой-либо вопрос, завтра на него отвечу. А послезавтра утром — в путь.
Проводив Лютце, Старк заторопился. Во время его разговора с немцем звонила Мари, раскапризничалась и потребовала, чтоб он немедленно приехал. В душе он даже был рад этому звонку, пора, черт возьми, встряхнуться, разгрузить голову от дел. Если еще пожалует шеф, тогда вообще не выбраться…
4
Старк с трудом поднял тяжелые веки. Кажется, вчера здорово перехватил: в голове гудело, во рту пересохло. «Сейчас бы бутылку содовой», — подумал он. Но даже шевелиться не хотелось, не было сил. Не поднимая головы от подушки, он наблюдал за пылинками, плавающими в солнечных лучиках. Шторы были прикрыты, и свет врывался через узенькие щелочки, слегка освещая большую, хорошо знакомую комнату. На диване, креслах, на столе валялась вперемешку мужская и женская одежда. Изящная дамская туфелька стояла рядом с пустой бутылкой из-под шампанского.
Скосил глаза и стал разглядывать Мари. Подложив под щеку ладошку, она чему-то улыбалась во сне. Даже безалаберный образ жизни не снял с ее лица нежный здоровый румянец. Тени от смеженных ресниц едва заметной синевой ложились на щеки. Хороша — ничего не скажешь! И кто бы мог подумать, что за внешностью невинной девушки скрывается многоопытная, дерзкая и капризная женщина. Испорченность Мари и привлекала и отталкивала Старка. Больше того, его пугала эта его привязанность к ней. Традиции семейной добропорядочности свято охранялись многими поколениями Старков. Мимолетная, случайная встреча мужчинам прощалась. Но так… чтобы надолго, чтобы под угрозой развала была семья — этого не допускалось.
Связь с молодой баронессой продолжалась уже более года. Не находя в себе сил расстаться с ней, он до сих пор откладывал переезд сюда Ирен и маленького Робби и лишь изредка, наездами бывал дома.
Тихо позвал:
— Мари!
Она лениво открыла глаза, улыбнулась.
— У тебя где-то была содовая. Принеси, пожалуйста, — попросил он.
— Да, Эд, — она встала с постели и, зная, что он любуется ее телом, фигурой, медленно покинула на себя прозрачный пеньюар, неторопливо вышла из спальни.
Старк прикрыл глаза — так было легче…
— Возьми, — протянула Мари подернутую инеем бутылку, из которой с легким потрескиванием вылетали пузырьки газа. — А это пирамидон.
Он покорно раскрыл губы. Потом с великим наслаждением, не сдерживаясь, громадными глотками выпил всю бутылку и облегченно вздохнул. Ледяная вода освежила рот, горло, остудила горящий желудок. Стук молоточков в голове мало-помалу стал затихать. Старк осторожно поднялся и прошел в ванную. Побрился, принял холодный душ и тогда, освеженный, вошел в столовую. Мари разливала кофе.
Пил маленькими глотками, ощущая, как крепкий напиток окончательно возвращает ясность голове.
— Теперь я словно новорожденный и готов начать все сначала, — поднялся из-за стола Старк.
— Эд, мне скучно, не пропадай надолго, — кокетливо надула губки Мари.
— Нет, дорогая. Послезавтра, в субботу утром, я пришлю за тобой машину, и мы два дня проведем вместе.
Он поцеловал ее. А уже сбегая по лестнице, начал думать о делах: о скором приезде шефа, о молчании «Потомка», о Лютце, на которого делал большую ставку, может быть, самую крупную за время работы здесь.
Вернувшись на виллу, Старк потом почти весь день занимался немцем: сам проверял готовность его документов, снаряжения. Это выходило из обычных правил майора, но в Лютце он, почему-то поворил, не отдавая себе отчета, почему.
Вечером сделал последнее напутствие.
— Мы знакомы кое с какими деталями вашей биографии, которые говорят о том, что вы отнюдь не всегда были в дружбе с англичанами. Но высоко ценим ваш опыт и умение в любых условиях добиваться желаемой цели. А сейчас и, я надеюсь, впредь они надолго будут у нас общими. Итак, для облегчения вашей задачи, была проведена акция: мы сделали попытку внедрить в конструкторское бюро в Энбурге нашего агента. Если все завершится успешно, он будет передан в ваше распоряжение. Кроме того, для отвлечения внимания советской контрразведки, вокруг бюро будет работать еще ряд агентов — так, мелкая сошка, не способная решить главного. По прибытии в Энбург абонируйте почтовый ящик. Вся корреспонденция будет идти на него. И конечно, только при помощи шифра и тайнописи. В воскресенье утром, — продолжал Старк, — межзональным поездом, пассажиры которого не подлежат проверке на КПП Мариенборн
[17], выедете в Берлин. На станции Цоо
[18] сойдете. В воскресной толпе проще затеряться. Ну, как говорили древние римляне, — жребий брошен! Желаю удачи…
Глава пятая
1
Отстучав звонкую дробь на станционных стрелках, скорый берлинский поезд остановился у крытой платформы Энбургского вокзала. Разом, шумно высыпав на перрон, пассажиры столпились у багажного вагона, в ожидании своих вещей.
Людской поток вынес Лютце на привокзальную площадь, которая сильно изменилась с тех пор, когда он был тут. Постоял, прикидывая, куда лучше идти. Решив не торопиться, он пересек трамвайные пути и сел на скамейку в сквере.
Да, это место было памятно ему. Именно это место, а не площадь и вокзал, исковерканные войной и еще полностью не восстановленные.
…Год тридцать восьмой. Вечерний поезд Берлин — Ганновер. Лютце получил тогда свой первый отпуск после успешного окончания училища в Фалкенбурге. Приехал навестить родной город. Не жить в нем, а навестить, ибо, кроме дорогих могил, ничего сюда не влекло: близких у него тут не осталось. Нужно было распродать недвижимость, оставшуюся в наследство, иначе он не стал бы тратить столь драгоценное время, заезжать сюда, в тот раз…
Да…
Лютце бросил окурок, встал. В поезде он оставил проводнику чемодан для сдачи в камеру хранения и теперь налегке, с перекинутым через плечо макинтошем, не спеша, пошел к центру. С горечью отмечал про себя, какие неизлечимые раны нанесла городу война. Даже тщательно выметенные улицы и аккуратно уложенный при разборке развалин кирпич не могли сгладить картины пережитых юродом потрясений. Многие дома смотрели на мир пустыми глазницами окон.
Разглядывая пешеходов, их одежду и лица, витрины магазинов, он пытался определить, чем же эти люди и город отличаются от таких же людей и городов там, в Западной Германии. Отметил, что ведется большое строительство, восстановление и ремонт зданий. Об этом красноречиво свидетельствовали стальные руки кранов над крышами, разноцветные кирпичные заплаты на домах, а то и целиком новые стены. И еще повсюду непонятные для него плакаты с призывами к «борьбе за скорейшее строительство». Лютце кривил губы: коммунистическая манера пропаганды. Еще он обратил внимание на то, что в городе не было солдат и военных патрульных машин, от которых тесно во всех без исключения крупных городах Запада. Такое впечатление, будто русские вовсе не считали себя победителями, как англичане и американцы, всегда старающиеся подчеркнуть это.
«Русские ведут себя здесь тише, спокойнее, а значит, уверены в себе, значит, у них порядок. А порядка в стане противника разведчики всегда должны бояться. И еще это, не иначе, психологический маневр, рассчитанный на то, что немцы уверуют в их лояльность: мы, мол, предоставляем вам самостоятельность. Ловко! Может быть, кто и клюнет на подобную приманку, только не немцы. Для немцев враг всегда останется врагом. И я, Лютце, здесь именно для того, чтобы доказать это».
Показалась серая громада, неизвестно каким чудом уцелевшей гостиницы.
Осколки снарядов и бомб оставили на ее стенах рябины, но сама она устояла. Увидев рекламу ресторана, сулящую посетителям за сравнительно невысокую, хотя и коммерческую цену хороший обед, Лютце вдруг почувствовал, что здорово проголодался.
В холле ресторана остановился перед зеркалом, тщательно причесался, осмотревшись при этом, нет ли кого-нибудь за спиной. Отыскал в зале одиноко стоящий столик. Сразу же с профессиональной улыбкой подошел кельнер, мирно беседовавший до того с барменам, подал меню, привычным жестом стряхивая со скатерти несуществующие крошки. Лютце удивился обилию блюд. Сделал заказ, поинтересовался лишь, действительно ли есть все русские вина, указанные в карте. Получив утвердительный ответ, небрежно бросил меню на стол и попросил тройную порцию водки и бутылку лимонада.
Ел медленно, смакуя, оценив мастерство повара. Водка, слегка затуманившая голову, сняла нервное напряжение и тревогу, преследовавшую его с момента посадки в поезд на станции Цоо. Вспомнились напутствия Старка. «Вздумал учить, наставлял, как мальчишку. — Лютце досадливо поморщился. — Теперь бы без помех найти эту «Сильву» и немного отдохнуть».
А дальше?.. Дальше лучше всего остаться одному. До конца дней своих Лютце обещал себе помнить одну из двадцати заповедей, которые завещали ему многоопытные преподаватели: «Не доверяй никому. Разведчик, твердо следующий этому правилу, гарантирован от провала. В разведке тот, кто живет один, живет дольше».
Если бы он только знал, какой опасности подвергал его Старк, скрывший при инструктаже, что агент, к которому он идет на связь, практически не проверен, Лютце ни за что бы не стал рисковать.
Посмотрел на часы: до вечера еще далеко.
Выжидая свой час, Лютце забрел на стадион и устроился на пустой скамейке. На футбольном поле кипели страсти. Играли не профессиональные команды. Играли скверно, но слабую технику восполнял азарт.
А память ворошила картины прошлого, его детство в этом городе.
…Ученик частной гимназии Мюллера, в которой учились только дети состоятельных родителей, он — ревностный член гитлерюгенда, признанный нападающий футбольной команды. Играл на этом поле… И здесь же проходили факельные шествия: местные и приезжие вожаки гитлеровской молодежи произносили блистательные, будоражащие речи о великом счастье молодых немцев жить во времена новых крестовых походов, в эпоху великих завоеваний необходимого для Великой Германии жизненного пространства…
Свисток судьи возвестил конец игры. Лютце пошел через парк, в котором уже зажигались фонари, достиг широкой улицы, на ней, сразу же за поворотом, должно было быть кафе «Рассвет» — он видел его еще днем и теперь шел уверенно.
Небольшое уютное помещение, летняя веранда, увитая плющом. Живая изгородь густого кустарника и плюща надежно защищала отдыхающих от посторонних глаз и городской пыли. Судя по всему, кафе пользовалось популярностью у молодых горожан. Лютце еле сумел найти стул в дальнем углу. Кельнерши ни минуты не стояли на месте, многие посетители называли их по именам. Вино, пиво, мороженое, прохладительные напитки — несложный набор заказов. На крошечной сцене оркестр наигрывал танцевальные мелодии.
Но вот к микрофону подошла девушка, которую встретили аплодисментами. Ее, как видно, ждали многие. Зазвучала неаполитанская песенка…
«Она!» — определил Лютце, вспоминая портрет, который ему показали в Ганновере.
Исполнение каждой новой вещи зал встречал шумным одобрением. Он поймал себя на мысли, что певица действительно заслуживала похвалы: не сильный, но хорошо поставленный голос приятного тембра, четкая дикция, скупые, но выразительные движения. Да, ему, Лютце, определенно нравилось, как она пела.
Лютце достал блокнот, вырвал листок.
«Фрейлейн, написавший эти строки будет ждать вас на углу Лейпцигерштрассе и Шенебекерштрассе после работы. Хорошо, если сможете освободиться пораньше. Привет от дяди Боба».
Лютце свернул бумажку и, подозвав кельнершу, попросил ее передать записку фрейлейн Лотте. Кельнерша с сомнением покачала головой, однако записку взяла и отнесла певице. Лютце видел, что та, не читая, опустила ее в карман.
2
— Как держится Мевис? Оправдались ли наши предположения? — спросил Кторов Фомина, пришедшего с утренним докладом.
— Оправдались, Георгий Васильевич. Он далек от мысли, что нам известна его связь с англичанами. На допросе вел себя спокойно, даже пытался каламбурить по поводу информации о своей гибели, опубликованной в газетах.
— Избитый прием. Мне помнится, как в конце войны шведская газета «Экспрессен» писала, что после нашего успешного наступления на Берлин среди нацистской верхушки появилось значительное число покойников и что союзникам, мол, не просто будет проверить их списки. Газеты назвали несколько фамилий, которые мы взяли на заметку, а потом, проверив, убедились… Ну ладно об этом. А как он сам расценивает свою деятельность в Польше? — поинтересовался Кторов.
— Пытался обелить себя тем, что он-де солдат и был обязан выполнять приказы командования.
— Рассеять иллюзии ему помогут потом наши польские друзья. А нам хорошо было бы выяснить, где находятся в настоящее время его ближайшие сотрудники, хотя маловероятно, что он скажет. Но поинтересоваться все же нужно, попробуйте, что из этого выйдет. Может быть, чтоб быстрее развязать узел, так и начать переход к главной теме?..
Фомин пошел к себе и попросил привести к нему Мевиса.
— Ну что же, продолжим разговор, — сказал капитан, когда немец, раскланявшись, сел на стул. — Назовите ваших ближайших сотрудников, где по вашим сведениям, очи сейчас могут быть?
— Вы имеете в виду Польшу?
— Да. А вы иначе поняли мой вопрос?
— Нет, — замялся, улыбаясь, Мевис, — я просто уточнил… Увы, ничего конкретного не скажу. Коллеги оказались дальновиднее меня и осели на Западе, где военная администрация не так щепетильна в вопросах трофейного имущества. Я плохо сориентировался, понадеялся на новый паспорт и вынужден теперь сидеть здесь перед вами.
— Значит, ни о ком ничего не знаете? Что ж, тогда начнем наш главный разговор. Вы задержаны за шпионскую деятельность, направленную против Советской Армии и оккупационных властей в пользу английской разведки.
— Что? — вытаращил глаза Мевис. — Вздор! — и тут же, осекшись, понизил тон, процедил: — Мне просто непонятно, о чем вы говорите?.. О, мой бог, — вздохнул, всплеснув руками.
— Допустим, все это, как вы утверждаете, вздор. Тогда объясните, кому принадлежит квартира по адресу: Ганновер, Принц-Альбертштрассе, 22.
— Это адрес моего родственника, у которого… — он на мгновение замялся, — у которого я останавливался, бывая в Ганновере по делам газеты.
Мевис говорил теперь медленно, сдержанно и убедительно, нарочито глядя в глаза. Капитан оценил эту способность немца не терять самообладания. «Только надолго ли тебя хватит?» — подумал Фомин и достал карту, которую принес Вышпольский.
— Это ваша вещь?
Сложная гамма чувств отразилась на лице Мевиса: сначала удивление, потом растерянность. Он приподнялся на стуле.
— Успокойтесь, Мевис. И не будем зря терять времени. Вам знакома такая наука — дактилоскопия? Так вот, на карте, помимо многих других следов, есть следы ваших пальцев. Вот они в увеличенном виде. Стоит ли вам запираться…
Мевис шумно вздохнул, вытер ладонью пот со лба.
— Пожалуй, вы правы… Пишите, — выразительно поглядел на папку, лежащую на углу стола. — Но что же еэм рассказывать? Я даже не представляю, в какой мере вам известна моя биография. И откуда? Я не подлежал денацификации и отправке в лагерь, на меня не заводили дела. В Вернигероде меня не знали. Так все же, с чего начинать?
Фомин не ответил, давая Мевису «плыть» самому.
— Видимо, в первую очередь вас интересует моя вербовка? Все в общем-то сложилось довольно нелепо. Однажды я поехал в Ганновер, желая выяснить, живет ли там, как и прежде, моя близкая приятельница. Какому-то томми
[19] приглянулся мой мотоцикл, и он украл его у меня на глазах Черт меня дернул тогда, и я пошел в английскую комендатуру жаловаться. Меня задержали. А дальше — все до глупости примитивно. Я оказался на допросе у английского майора, и тот без обиняков заявил, что английской разведке известно мое прошлое. Предложил, вернее, порекомендовал в весьма суровом тоне быть их агентом.
— И вы тут же дали согласие. Как все просто…
— У меня не было выхода. — Мевис развел руками. — Что я мог поделать?
— Дальше?
— Дальше. Наш альянс скрепили соответствующей подпиской, в которой, в частности, мне присваивался псевдоним «Журналист». Люди они оказались более чем просвещенные и даже знали, что раньше я имел пристрастие к журналистике, выступал в военной печати. Так, собственно, определилась моя профессия. Позже мы детально обсудили, что я должен делать, какую информацию поставлять, оговорили и способы связи. Тогда же мне посоветовали устроиться на работу в «Дойче вохе» и обещали свое содействие. — Когда все это произошло?
— До раздела Германии на зоны. Мой новый шеф тогда уже знал, что по соглашению большой четверки район Вернигероде, занимаемый в ту пору американскими войсками, отойдет русским. Так что мне, жителю советской оккупационной зоны да еще корреспонденту газеты, будет чрезвычайно легко и безопасно собирать информацию. Так обстояло дело. Ну, а дальше все произошли как он предсказывал. Рекомендательные письма, хорошо оформленные документы и деньги помогли мне сравнительно легко выполнить наш план. С его же помощью я приобрел автомашину. Разъезжая по зоне, я собирал интересующие шефа сведения довольно усердно. Впрочем, это видно по карте.
— Кто помогал вам в этом?
— Вы хотите знать, были ли у меня помощники? Нет, господин офицер, можете поверить, помощников у меня не было. Все наблюдения я проводил лично, данные записывал в специальном блокноте. Лишь для уточнения некоторых деталей я действовал «втемную», расспрашивая своих соотечественников, но не больше. Информацию лично передавал майору Старку на конспиративной квартире в Ганновере или ездил к нему на виллу.
— Когда последний раз вы встречались с, ним?
— Месяца три назад. Признаюсь это была не теплая встреча. Настало новое время, и англичане стали заигрывать с нами. И я, полковник немецкой армии, зная об этом, не мог мириться с ролью, которую мне отвел Старк в начавшейся игре. На последней встрече я заявил об этом. Наши отношения обострились. С того дня я с ним больше не встречался, однако задания продолжал выполнять.
— Где находятся средства для тайнописи, документы?
— Блокнот, копии материалов, которые я передавал Старку, хранятся на квартире в Ганновере.
— А точнее?
— Я теряюсь в догадках, как попала сюда карта. Неужели это могла сделать Эльза, моя служанка?
— Точнее объясните, где находятся документы.
— Один из ящиков письменного стола оборудован под сейф. В нем я их и храню. Но они вряд ли досягаемы для вас. Карта же, я думаю, это следствие моей неосторожности, иначе бы она не оказалась на вашем столе. Теперь, конечно, поздно заниматься самобичеванием. Простите, господин офицер, я могу задать вопрос?
— Задавайте.
— Будут ли приняты во внимание мои откровенные показания на следствии?
— Суд учтет. — «И этот не лучше других — начинает торговаться и искать для себя смягчающие обстоятельства», — подумал Фомин.
3
Лотта вошла в комнатку отдыха музыкантов, посмотрела на себя в зеркало. Открыла окно в парк — хотелось свежего воздуха. Прополоскала горло и, сделав несколько дыхательных упражнений, опустилась в кресло. До следующего выхода — полчаса. Вынимая платок, наткнулась на бумажку. Записки не были для нее новостью, получала их постоянно и уже привыкла. Как правило, в них просили о встрече. Она развернула бумажку.
Сердце взволнованно застучало. Что это?! Увидела в зеркале, как сильно побледнела. Она так страшилась всегда этого… А иногда успокаивала себя, надеясь, что о ней забыли. И вот…
Значит, сегодня, сейчас она должна будет встретиться с посланцем господина Старка. Отказаться?.. Нет, раз уж это неизбежно — надо набраться сил, смелости и идти. В конце концов нужно все сказать, что она думает, и навсегда покончить с этим. Слегка подкрасив губы, Лотта направилась к двери. Навстречу ей ввалилась шумная компания музыкантов, товарищей по работе.
— Послушай, Вальтер, — обратилась она к руководителю ансамбля. — Мне сегодня нездоровится, и если ты не возражаешь, я закончу свое выступление несколько раньше.
— Да, ты бледна, Лотта. Отдохни. Выйди еще раз — и хватит. Скажи, чем закончишь выступление?
— «Не преследуй меня, уйди» — шлягер, который вчера репетировали.
…Зазвучавшая в зале мелодия песенки, которую она должна была исполнить, вывела Лотту из оцепенения. Она вышла на сцену, глаза искали среди танцующих и сидящих за столиками того, кто был автором этой страшной записки. Но разве можно узнать незнакомого…
Без обычного подъема пропела песенку и ушла.
…«А этот шлягер «Не преследуй меня…» не в мой ли адрес», — подумал Лютце. Он спустился с веранды и встал в тени развесистого дерева. Через четверть часа с сумочкой в руках прошла Лотта. По другой стороне улицы Лютце последовал за ней. Так они и шли до места встречи. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, он решился приблизиться.
— Добрый вечер, фрейлейн! Я от дяди Боба, — сказал он, приподняв шляпу.
— Добрый вечер, — ответила Лотта. — Что от меня требуется?
— На первое время только приют, а дальше будет видно по обстоятельствам, — ответил Лютце, оценив самообладание девушки.
— Хорошо. На несколько дней вы можете остановиться у меня. Я снимаю небольшую квартиру, и моя хозяйка сейчас уехала на побережье.
— Ну и прекрасно. За это время я вполне смогу устроиться, — обрадовался Лютце, что проблема жилья разрешилась так просто. — Где вы живете?
— В районе Вильгельмштадта. В квартире изолированный вход — это удобно.
— Послушайте, Лотта. Вы разрешите мне вас так называть, да?
— Пожалуйста.
— Я сегодня целый день на ногах и порядком устал. Не взять ли такси, чтобы быстрее.
— Хорошо. Здесь недалеко стоянка. Впрочем, вон идет свободный таксомотор. — Лотта подняла руку, и машина затормозила. — На Боргштрассе! — сказала она шоферу.
Ехали молча. Когда автомобиль свернул в переулок, Лотта попросила остановиться у дома, от верхних этажей которого остались лишь стены и сквозь пустые квадраты окон проглядывали звезды. Лютце расплатился, и они еошли в подъезд. В бельэтаже Лотта достала ключ и открыла дверь.
— Проходите. Раздевайтесь тут, в прихожей, а я пока задерну в комнате шторы.
Комната мало чем отличалась от обычных гостиных в домах среднего достатка. Диван, полумягкие стулья в чехлах, люстра, затянутая марлей. Явно не гармонировала с окружающей обстановкой — большая двуспальная кровать в углу, отгороженная ширмой. Пока Лютце осваивался, Лотта успела переодеться.
— Если хотите помыться, есть ванная. А я пока успею постелить вам на этом диване.
— Благодарю, — сказал Лютце.
Сквозь шум воды он услышал, как Лотта несколько раз прошла из комнаты в кухню и обратно. Затем все смолкло.
4
— Кто у полковника? — спросил Фомин дежурного.
— Проходите, он один.
Кторов что-то писал, жестом показал Фомину на кресло. Закончив, вызвал машинистку и попросил перепечатать документ.
— С Мевисом придется расстаться, Евгений Николаевич, — сказал он, отодвигая от себя бумаги. Пришла шифровка: польские товарищи просят передать его им для предания суду как военного преступника. Наше руководство дало согласие.
— Этого следовало ожидать, Георгий Васильевич.
— Как он ведет себя?
— Приперт фактами, обмяк. Вот, почитайте протоколы, — Фомин пододвинул полковнику папку.
— Орешек в общем-то не из трудных, — заметил Кторов, быстро пробежав глазами протокол. — Но вам нужно будет еще повидаться с ним. Уточните, что он еще знает о наших противниках: к чему проявляют особый интерес, может быть, ему известны какие-нибудь конспиративные квартиры, пройдитесь, кстати, по его связям с офицерами вермахта.
— Вечером, Георгий Васильевич, постараюсь это сделать. Меня настораживает, почему Старк так легко выпустил Мевиса, то есть оставил его вроде бы на произвол судьбы. Не дорожил им, что ли? Ведь если рассудить, Мевис был хорошо законспирирован, имел такие возможности…
— Это можно в какой-то мере объяснить показаниями самого Мевиса. Помните, он говорит о заигрывании наших недавних союзников с немцами. Это вам один из ответов. Кроме того, у Старка могли быть в отношении Мевиса другие планы. Вот что, будете его допрашивать, предложите нарисовать подробный план квартиры в Ганновере. И непременно уточните, действительно ли у него над столом в кабинете висит его фотография, о которой упоминал Вышпольский.
— Вы думаете. Георгий Васильевич, что с Вышпольским не все чисто?
— Э, дружок мой, — прищурив глаз, улыбнулся Кторов. — Торопитесь медленно, говаривал Козьма Прутков. В понедельник, когда вас не было, я беседовал с ним. Кое-что в его поведении, прямо скажем, мне не понравилось. Настораживает. О человеке, грабившем его родину, думает, возмущается, а о возвращении домой даже не хлопочет. А говорил мать…
— Да нет, Георгий Васильевич. Вышпольский производит на меня хорошее впечатление. И эта карта. Впрочем…
— Вот именно, «впрочем». Я тоже хотел, чтобы он в конечном счете оказался хорошим честным парнем. Но, право, появились вопросы, на которые нужно суметь ответить: почему он не поехал в Вернигеродскую комендатуру, а явился сюда, к нам, в Энбург? Хотя из той же карты видно, что в Вернигероде комендатура есть и до нее значительно проще было добраться. Доверяя — проверяй, Евгений Николаевич. А потом уж больно смущает меня одно обстоятельство: один раз, да еще мимолетом, видел Вышпольский Мевиса в полковничей форме и запомнил так, что сразу признал его в цивильной одежде, через несколько лет. Я попросил приглядеть за ним товарищей из народной полиции. Вот читайте рапорт их сотрудника.
«Докладываю, что принятый мною 10 июля с.г. в 11.30 под наблюдение молодой человек 25–27 лет, круглолицый, русоволосый, одет в темно-серый костюм, темную рубашку, на ногах — желтые полуботинки, особых примет не имеет, проследовал от гостиницы на трамвайную остановку. В вагоне маршрута № 3 доехал до Марксплац, оттуда отправился пешком к Берлинерштрассе. Дважды прошел мимо дома номер шесть, стараясь заглянуть внутрь двора. Потом вернулся в парк, пообедал в кафе и пошел на пляж — купался, загорал. Вечером посетил кинотеатр, в 22.30 пришел в гостиницу и больше из помещения не выходил».
— Вы полагаете, Георгий Васильевич, Старк решил въехать к нам верхом на Мевисе?
— А почему бы и нет? Мевис с ним не в ладу. Думается, Старк не дорожил им, да еще после того, как он стал выходить из повиновения. Передавать Мевиса Польше как военного преступника он, понятно, не стал бы — можно испортить отношения с немцами. И тогда решил пожертвовать фигуру. Мы можем так рассуждать?
— Вообще-то, конечно…
— Но Старк — это, дорогой Евгений Николаевич, не вся английская разведка. Объективности ради надо сказать, что в период войны Интеллидженс сервис
[20] провела ряд очень удачных агентурных комбинаций. Так сказать, с живыми и даже мертвыми. Например, перед высадкой английских войск в Италии, зная, что испанские власти находятся в тесном контакте с гитлеровской разведкой, англичане выбросили со своей подводной лодки в районе Кадикского залива труп в форме британского морского офицера. В карманах этого офицера находились «секретные письма», специально сфабрикованные разведкой. Письма были адресованы ряду высших английских военачальников. Труп был, конечно натуральный. А письма — сплошной дезинформацией. Однако сработали без ошибки. «Секреты» попали куда надо, и реакция, сами понимаете, была той, на какую рассчитывали англичане. Слышали о таком деле? — улыбнулся Кторов.
— ?! — Фомин пожал плечами.
— Однако вернемся к нашему разговору. Порассуждаем еще. Какой объект у нас им может быть особенно интересен?
— Скорее всего — конструкторское бюро.
— Допустим, что они ищут к нему подходы. Может быть такая ситуация? И вот — Вышпольский. Чем не кандидатура? Зарекомендовал себя у советской администрации выдачей военного преступника. Старк вполне мог полагать, что мы клюнем на такую приманку. А если это так, Вышпольский сделал неосмотрительный шаг — очертя голову бросился к объекту, если это, конечно, не случайность. Так ли, иначе, если появляется сомнение, если какие-то даже незначительные факты выстраиваются в некоторой последовательности, значит, покоя у нас быть не должно. Согласны? Итак, заканчивайте с Мевисом. Утром вместе поговорим с Вышпольским. Когда он придет, позвоните. Я сам зайду к вам.
Фомин поймал себя на том, что несколько сбит с толку. Завершение дела Вышпольского ему уже казалось ясным и простым.
5
На смену короткой летней ночи пришло тихое солнечное утро. За окном слышались шаги, говор и смех рабочих, спешивших к проходной вагоностроительного завода, что находился неподалеку. Тихо потрескивал не выключенный с вечера радиоприемник. Почти всю ночь Лотта не спала. Усталой встретила утро. Лежать с открытыми глазами было больше невмоготу, она встала и прошла в ванную комнату. Прохладный душ освежил ее. Поставив на малый огонь кофейник, выбежала из дома к ближайшему магазинчику купить чего-нибудь к завтраку. Когда вернулась, гость уже встал.
— Завтрак на столе, — пригласила она.
— Доброе утро, Лотта. Благодарю.

Теперь при ярком дневном свете она наконец как следует рассмотрела его: худощавый, жилистый, выше среднего роста, гладко зачесанные назад светлые волосы, высокий, с ранними морщинами лоб. Из-под густых бровей смотрели серые, холодные глаза. Она определила, что лет ему не больше тридцати. Лютце в свою очередь отметил, что хозяйка чертовски хороша, шапка темно-медных волос прекрасно гармонировала с большими серыми глазами, затененными длинными черными ресницами. Она была хорошо сложена, он обратил внимание на ее длинные стройные ноги. «Девушка пошлостей не любит», — вспомнил он предостережения Старка.
Лотта решила теперь же, за завтраком, выяснить, что именно от нее ждут.
— Что же я должна буду делать? Может быть, гость теперь скажет? Предупрежу заранее, что знакомых, которые интересуют господина Старка, у меня так и не появилось. Живу довольно однообразно, почти все свободное время посвящаю музыкальному самообразованию.
— Если нет знакомых, так будут, — отрезал Лютце. — Осмотрюсь, и тогда продолжим наш разговор. Пока приму это к сведению. В свою очередь постараюсь Бас не очень обременять. Никаких заданий для вас я не привез. Прошу лишь запомнить следующее. Я ваш кузен Макс Лютце. Приехал из Мекленбургской провинции подыскать здесь работу — моя специальность конструктор-механик по двигателям внутреннего сгорания. Особо любопытным можете сказать, что я был в русском плену, в настоящее время являюсь членом ЛДП
[21].
Лотта кивнула, долила кофе в чашку гостя.
— Дальше, — продолжал Лютце. — Мне необходимы ключи для беспрепятственного прихода в дом. Обслуживать «своего кузена» особенно по утрам, придется вам, Лотта. А поэтому попрошу держать в доме некоторый запас продуктов. — С этими словами он прошел в комнату, вынул из кармана пиджака бумажник и положил перед Лоттой несколько крупных банкнот. — Лучше, если нас будут реже встречать вместе. — Не отдавая себе отчета почему, он начинал злиться. Наверное, на него действовало безмятежно-спокойное поведение Лотты. — Учтите, я не люблю лишних вопросов!
— Хорошо, — односложно сказала девушка, подошла к стеклянному шкафу, достала ключ от входной двери и положила перед новоявленным «кузеном». Тот, не откладывая, проверил, как работает замок.
Лотта не успела еще закончить уборку, как жилец ушел. Тогда она села в кресло и разрыдалась.
Глава шестая
1
В дверях Фомин мельком взглянул на часы — пять минут десятого. Кторов стоял, склонившись над столом.
— Вы меня спрашивали?
— Да.
Фомин увидел на столе развернутую большого масштаба план-карту Ганновера.
— Знаете, Евгений Николаевич, у меня создалось впечатление, что Мевис нам что-то не договаривает. Я не ставлю это вам в вину, в данной ситуации из него больше ничего не вытянешь. Но было бы очень любопытно посмотреть, что лежит у него в сейфе? А? Как вы думаете?
— А разрешат? — спросил Фомин.
— Уже разрешили, Евгений Николаевич. Правда, на первых порах сомневались, что такая поездка вызывается оперативной необходимостью. Мевис, мол, рассказал все, что знал. Я не согласился с этим доводом, и вы ведь тоже не хотите верить, что Старк так легко отдал нам отлично законспирированного агента. Потом Вышпольский. Не мешает еще лишний раз его проверить, кое-что узнать о нем на той стороне. Я еще сам не знаю, как это осуществить. Надо подумать. В конечном итоге со мной согласились, тем более, как вы сейчас узнаете, ситуация для поездки более чем благоприятная.
Кторов сел в кресло и показал Фомину на соседнее.
— Итак, Евгений Николаевич, главная ваша задача проникнуть в квартиру и сейф Мевиса. Задача попутная, повторяю: попутная — по мере возможности приглядеться к комендатуре и если удастся, к отделу Старка. Попытайтесь выяснить обстановку вокруг его оффиса, «потолкаться». Но все это только при абсолютно благоприятном исходе первой части. Уходите от всяких осложнений и… никакой самодеятельности.
Это — задачи.
Теперь о средствах, которые помогут вам выполнить их. Нашей комендатурой получено письмо от одного немецкого патриота, который сообщает, что в ганноверской тюрьме оказался советский гражданин — Владимир Сигизмундович Никольский. Английские оккупационные власти задержали его, усомнившись в его советском гражданстве. Вот вам возможность, точнее, основание, в случае необходимости, объяснить цель своего приезда в Ганновер. Покажете письмо, потребуете свидания с Никольским. Англичане, видимо, будут препятствовать встрече. Вы проявите настойчивость. Как вести себя в таких обстоятельствах, вы понимаете… Но займетесь всем этим делом только при необходимости. Никольского так или иначе вызволит Репатриационный комитет.
— «Не насиловать обстоятельства, иначе обстоятельства начнут насиловать тебя», — сказал Фомин, зная что это один из любимых афоризмов его начальника.
— Вот-вот, — улыбнулся Кторов, — как раз такой случай. А потому, чтобы было вам полегче там, я помимо заданий дам вам кучу наставлений. Да еще заставлю повторять их вслух. Как тот дрессировщик из довоенного анекдота: «Скажи, «дядя»! Знаете? Нет?.. В общем, дрессировщик пытался научить попугая говорить слово «дядя», и по целым дням вдалбливал ему: «Скажи, «дядя»!» Но попугай упорно молчал. Однажды дрессировщик возвращается вечером с концерта, слышит за дверью: «Скажи, «дядя»! Скажи, «дядя»!» Вошел, смотрит, попугай долбит клювом по голове кролика и упорно повторяет эти слова. А кролик уже чуть жив…
Рассмеялись. И как-то проще пошел разговор.
Кторов умел разрежать атмосферу официальности неожиданной шуткой, чувство юмора полковник считал одним из прекрасных человеческих достоинств. Шутка, легкое подтрунивание порой действительно снимают напряжение. Фомин знал по опыту, что не уверенные в себе люди юмора остерегаются, тот же, кто трудолюбив, смел и способен, как правило, куда более непринужден, остроумен, умеет незлобливо посмеяться над ближними и себя не обойти. И с такими проще и лучше работается.
А Кторов перешел на детали, которые в общем-то были известны и понятны, но их никогда не вредно напомнить; одеться так, чтобы не выделяться из среды, подумать и порепетировать новую «роль», что и где прочитать…
— Зайдите к Соколову, у него, я знаю, есть весьма подробная справка о распорядке работы в Ганноверской комендатуре. И подскочите на заставу, там оперработник отлично знает свое дело и, если не ошибаюсь, ваш приятель. Выясните, какова обстановка на границе, что известно пограничным подразделениям и народной полиции о сопредельном районе. Как охраняется и патрулируется граница с той стороны. Предусмотрите варианты возвращения, минуя КПП, на тот случай, если придется уходить вопреки желаниям хозяев. И еще — техническая сторона дела. На какой машине лучше ехать?
— Думаю, подойдет спортивный БМВ. У него приличная скорость.
— Согласен. И, как говорится, с богом. Готовьтесь. И вот что: я позвоню Алексееву. Он выдаст вам колечко или перстенек. Не повредит.
Кторов говорил все это со спокойствием человека, мысленно не раз прошедшего путь, который его подчиненному предстояло пройти. И Фомин чувствовал — Кторов волнуется.
2
Десятки сообщений, справок, указаний. Толстая папка, которую непременно надо всю просмотреть. Новые бумаги, новые дела, а значит, и новые заботы. Кторов и не заметил, как пролетел день. За окном сумерки.
«А где же Фомин? Почему он так долго не идет?» — Кторов поймал себя на том, что все эти часы только и думал о будущей операции.
Наконец, дверь отворилась, и капитан спросил разрешения войти.
— Да, конечно. — Полковник молча оглядел Фомина. «Как много зависит от прически и костюма, — думал он. — Кажется, все то же, и вместе с тем…» Теперь волосы Фомина были зачесаны назад, их разделяла тоненькая светлая ниточка пробора, от этого худощавое, загорелое лицо его стало каким-то другим. — Надо отдать должное парикмахеру, — сказал Кторов, — честно потрудился.
— С парикмахером — конфуз, — рассмеялся Фомин. — Специально ездил в район Вильгельмштадта, подальше от нас. Сажусь в кресло, а он сразу же: «Стрижечка у господина русская». Пришлось придумывать, что работаю в Доме офицеров переводчиком. Попробовал-де там постричься, но не понравилось, и вот хочу вернуть себе свою европейскую прическу. Как видите, старик постарался.
— А перстенек подобрали?
— Да, вот, — вытянул руку Фомин.
— А что? Вполне… В глазах немцев, дорогой мой, это означает известное благополучие и респектабельность. — Кторов задумчиво глядел на Фомина. — А известно вам, откуда пошел этот почему-то забытый сейчас у нас обычай — носить перстень, обручальное кольцо? Все вообще-то пошло с обручальных колец.
Когда Кторов что-то вспоминал и сосредоточивался, густые брови его сдвигались, как бы отгораживали от лица высокий лоб с копной волос, щедро пересыпанных серебром. А рука в этих случаях, зажав карандаш, начинала выстукивать по бумаге замысловатые ритмы. Бот и сейчас Георгий Васильевич, прежде чем ответить на им же поставленный вопрос, поиграл с карандашом и медленно опустил его в бронзовый стакан на столе. Ожидая, что расскажет начальник, Фомин любовался этим человеком, которого глубоко уважал и которому пытался подражать.
Казалось бы, сейчас, когда оба заняты подготовкой к такому важному делу, полковник не должен бы отвлекаться мелочами. Но так случалось уже не раз, и Фомин потом убеждался, что эти разрядки были удивительно к месту: своеобразные антракты перед тем, как начнется главное действие.
На Кторове был темно-серый, широкого покроя пиджак и черный галстук, любимый, — он надевал его чаще других. Элегантно, строго одевался полковник. Воспитание? Да, воспитание жизнью. Фомин знал, что Георгий Васильевич — потомственный питерский рабочий. В 1930 году блестяще окончил исторический факультет Ленинградского университета, но преподавателем не стал. Его сразу же мобилизовали на работу в органы государственной безопасности. Потом была война, и Кторов, почти не выходя во второй эшелон, находился на самых опасных рубежах невидимого фронта. Он принадлежал к той славной плеяде чекистов-дзержинцев, которые, целиком отдавая себя работе, тратили свою энергию мудро, расчетливо, с предельной пользой для дела.
— Так, значит, о кольцах, — повторил Кторов. — По мнению Симеона Салунского — жил такой святой летописец в пятнадцатом веке, — жениху должно надевать железное кольцо в знак «силы мужа», а невесте — золотое, в знак «ее нелепости и непорочности». По церковнославянскому «Требнику» иначе: жениху «должно быть даваемо кольцо золотое, а невесте серебряное» для обозначения преимущества мужа над женою и обязанности жены повиноваться мужу.
А вообще-то биография кольца связана с историей обручения и относится к тому периоду, когда уплата выкупа за девушку перестала сопровождаться немедленной выдачей невесты жениху или главе его семьи. Брак распался на несколько самостоятельных бытовых, религиозных и юридических актов. На Руси после Петра Первого обручение сохранилось как определенный церковный обряд и как часть венчания. В этом случае кольцо из всех его древнейших символов, а таковых было много, выражало крепость, прочность данного договора, его нерасторжимость, чистоту и непорочность. Возможно, кольца обрученных рассматривались, как защита от зла… Я вас не утомил? — взглянул на часы Кторов.
— Что бы, Георгий Васильевич, — очень любопытно. Сколько скрывается под маленьким колечком. Глубокая история…
— Я ведь по образованию историк. А потом, интересно. Но мы, кажется, отвлеклись. Давайте-ка теперь проверим все еще раз. Личные бумаги и документы на автомобиль у вас в полном порядке, — я их просмотрел. Записка к служанке есть. Лучше, конечно, чтобы служанки не оказалось дома. Впрочем, встреча с ней вам не опасна. Записка Мевиса — вещь абсолютно надежная. А он, конечно, догадался, зачем нам все это нужно?
— Опять пытался торговаться. Просил учесть правдивость и добровольность показаний и, так сказать, соучастие в предстоящем деле.
— Что он рассказал нового о Старке?
— Пожалуй, нового не очень много. Его отдел, сокращенно Си-Ин-Тим, официально значится как отдел по учету и репатриации перемещенных лиц при Ганноверской комендатуре. Заместитель у Старка тоже майор — некий Браун.
— Да, да, это я знаю. Значит, ничего не изменилось. Что еще?
— Мевис назвал прямые номера телефонов на вилле и в комендатуре. Если ему верить, то с пятницы до понедельника Старка в городе не бывает. Отдел размещен на втором этаже, направо от главного входа. Перед входом — часовой из служащих военной полиции и немецкий полицейский. Дежурят машины МР, есть функ-вагоны
[22]. Вход в комендатуру совершенно свободный. В коридорах и в помещении, где работают сотрудники Старка, всегда толчется много людей: немцы, перемещенные. Кабинет Старка и его заместителя от входа по левую сторону коридора, третья дверь. К ним можно войти только через приемную секретаря-стенографистки и переводчицы. Мевис полагает, что обе эти дамы — англичанки, но не уверен в этом. Вот и все, что удалось узнать. Интересные данные дал Соколов.
— Какие?
— Старку подчинена группа так называемой похоронной команды.
— А-а, гробокопатели! Как же, помню. Это они здорово придумали: под видом розыска погибших подданных его величества разъезжать по зоне и преспокойно собирать информацию. Нашему противнику никак нельзя отказать в остроумии. Не так ли? Без малого полгода его люди болтались здесь.
— Да, еще такая подробность, Георгий Васильевич, Мевис склонен считать — и мне думается, что он прав — основной отдел находится где-то в другом месте, скорее всего, на той частной вилле, о которой он упоминал раньше. Здесь, в Ганновере же, этакий проверочно-фильтрационный пункт для первичной обработки агентуры.
— Я тут без вас еще раз «проиграл» всю операцию, — сказал Кторов. — Подумал над «узкими» местами, которые могут вызвать некоторые осложнения и опять-таки встречу с официальными лицами. Она ведь не исключена даже в доме Мевиса. Мало ли, что могло произойти там за эти дни. Так вот, в конце концов вы всегда можете сказать, что с господином Клюге лично знакомы. — Кторов улыбнулся. — Ведь это в самом деле так — знакомы… Он, допустим, узнав о вашей поездке в Ганновер, попросил оказать ему небольшую любезность: привезти что-нибудь. Придумайте что. Трудно доказать, что этого не было. Пока они смогут что-то проверить, пройдет время. К тому же вы лицо официальное, неприкосновенное, у вас есть приличное алиби. Теперь о Вышпольском. Помните, в своем показании он называл адрес авторемонтной мастерской, в которой работал.
— Да, на Принц-Альбертштрассе. Там же, где дом Мевиса.
— А что, если вам заглянуть туда по дороге. Ведь рядом, заехать на одну минутку. Спросить Станислава. Ну, допустим, завезли ему должок…
— Значит, вы все-таки считаете, что его следует проверить? Мне, признаюсь, это и в голову не пришло. В самом деле, удобный случай. А что, если захватить фотографию Вышпольского, показать на станции, мол, этот парень у вас работал?
— Можно, конечно, и фотографию показать. Но тогда придумайте другую версию. Тут уж должок не подходит, тут надо вести речь о хорошем знакомом. А вообще действовать осторожнее, чтобы «уши не торчали», чтобы все было убедительно. И потом фотографию сразу уничтожьте, чтобы при вас ее не было — это ведь документ.
— Постараюсь, чтобы все было убедительно.
— Знаете что: с Вышпольского и начинайте. А потом остальное…
3
Дома Фомин снова, в который уже раз развернул план Ганновера, повторил маршрут, по которому завтра должен был ехать. Гася лампу, встретился взглядом с молодой женщиной, смотревшей на него с фотографии на стене.
«Эх, Натка, Натка».
За окном шумели деревья, чем-то напоминая морской прибой. Он лежал, не закрывая глаз, вспоминал тот настоящий шум морских волн и тот теплый, весенний дождь, Наташу с его кителем на плечах и самого себя, до нитки промокшего, но безмерно счастливого.
Это была их первая встреча вне стен госпитального корпуса, когда врачи разрешили ему наконец выходить на прогулки. Он потом старался забираться подальше от неугомонной братии выздоравливающих, чтобы побыть наедине: облюбовал бухточку за скалами и часами сидел на валуне, любуясь морем и вдыхая свежий, настоянный на водорослях воздух. К вечеру, после дежурства, туда прибегала Наташа. И если успевала сменить форму на пестрое шелковое платье, становилась похожей на школьницу.
Медицинская комиссия сочла необходимым поле госпиталя направить Фомина на два месяца в местный санаторий. С трудом удалось выхлопотать у начальника разрешение только питаться в санатории. А жить он стал у Наташи в маленьком домике, густо увитом виноградной лозой. Свадьба была скромной. Пришли две ее подруги и пожилой симпатичный подполковник — начальник хирургического отделения, в котором она работала.
Пора их короткого счастья была наполнена суровыми тревогами войны, первых ее, самых тяжелых лет, когда враг был еще силен и продолжал наступать. И все же это были необыкновенные дни, которых Фомин не знал ни до, ни после — было яркое солнце, ласковые шепоты и мечты о будущем. Теплое море и благодатный берег Абхазии — все тогда принадлежало им.
Фомин выздоравливал. А вначале никто и не верил, что он сможет вернуться на фронт. Пуля пробила грудь навылет, прошла на полсантиметра выше сердца. Первые дни в госпитале были очень тяжелыми. И тогда появилась Наташа. Это было замечательно, что там оказалась эта девушка… Его Наташка.
Уезжая в действующую армию, он знал, что будет отцом. Мысли об этом переполняли гордостью. Ему казалось, что он стал сразу намного старше и намного сильней, а сердце щемило грустью расставания.
Осенью сорок третьего года Наташа родила сына. Бросать госпиталь не захотела, списалась с матерью Евгения, и та приехала в Гагру, чтобы быть с маленьким Сережкой. Мать написала ему, что очень рада, ибо до этого она почти два года жила одна со своей скорбью — отец Евгения погиб, защищая Москву. В Гагре они были до конца сорок четвертого, когда Сережка подрос и окреп, Наташа перевезла всех в Москву и потом…
Потом был морозный январь, тот январь сорок пятого года, когда Евгений впервые увидел сына и в последний раз Наташу. Через несколько дней после этой встречи начальник санитарного поезда, где служила капитан медицинской службы Наталья Сергеевна Фомина, сообщил, что эшелон их был разбит вражеской авиацией на территории Польши, шестого февраля…
«Заставьте себя хорошенько выспаться», — вспомнил Фомин наставления Кторова.
«Буду считать — это иногда помогает». Он уснул, не досчитав до тысячи. И тогда к нему опять пришла Наташа. Они купались в море. Большая волна накрыла их, закружила, завертела, с силой выбросила на каменистый берет. Глаза у Наташи были испуганные, а лицо смеялось…
Проснулся сразу, будто кто-то толкнул в бок. Слепил солнечный лучик, проколовший штору. Пора!
Гимнастика, бритье, уборка и завтрак — все привычно, рассчитано по минутам. И еще новая забота — уложить волосы, как вчера.
Через полчаса он уже выезжал из гаража.
— Евгений Николаевич, — окликнул его механик, — одну минутку, чуть не забыл. Когда ремонтировали машину, ту, что вы на днях пригнали, ребята под запаской нашли вот эту штуку, — и он подал в окно коробку из-под сигар.
Фомин открыл — она была доверху наполнена стальными «ежами».
— Спасибо. Я прихвачу это с собой, — сказал Фомин, пряча коробку под сиденье. — Приеду — тогда разберусь.
«Этот Мевис совсем не прост, и только очевидная безвыходность положения заставила его говорить правду, вернее — полуправду, — размышлял капитан. — Ареста он, конечно, не ждал. Иначе бы этот сюрприз держал под рукой, а не в багажнике. Тогда кто знает, чем кончилась бы та погоня на кольце. Двух таких «ежиков» вполне достаточно, чтобы машина осталась без колес. Старый, но многократно испытанный, способ».
4
Каждый раз на автостраде, проезжая эти места, Фомин любовался величественной панорамой Энбургской крепости, построенной на берегу вечно спешащей куда-то реки, более четырех веков назад. Вспомнилось, как весной он с Георгием Васильевичем и его сыновьями излазали казематы этой крепости. Искали по описаниям застенки, в которых томился в неволе грузинский поэт Давид Гурамишвили.
В крепости Кторов рассказал ему о том, как Давид в 1729 году приехал в свите царя Вахтанга VI в Москву, принял русское подданство, вступил в Грузинский гусарский полк. В начале семилетней
войны Гурамишвили попал в плен к пруссакам и несколько лет томился в неволе, здесь, в этой крепости. Но ни цепи, ни толстые стены не смогли удержать поэта. Он бежал и возвратился в полк. Получив отставку, Гурамишвили доживал жизнь в захолустном Миргороде, никогда не у видев больше своей родины, но любовь к ней, к своему народу сохранил до конца жизни и воспел в стихах.
И тогда уже, в который раз, Кторов поразил его своей блестящей памятью: Георгий Васильевич легко называл даты, имена. После его рассказа Фомин выписал из Москвы томик стихов Гурамишвили…
Горячий воздух, поднимаясь над разогретой лентой бетона, становился видимым, живым. Скоро впереди показались строения Мариенборна — пограничного передаточного пункта. На высокой мачте реял на ветру флаг Советского Союза, а дальше — флаг Великобритании. Фомин поставил машину «в затылок» автомобилю, с шофером которого разговаривали советский пограничник и представитель народной полиции. Потом вся группа подошла к нему. Дежурный контрольно-пропускного пункта, знакомый ефрейтор, приложил руку к козырьку: «Прошу предъявить документы». Полицейский, удивительно точно воспроизводя интонацию пограничника, перевел требование на немецкий.
Фомин снял темные очки, протянул документы. Пограничник невозмутимо проверил их и, кинув руку к козырьку, вернул.
Линия границы — позади. Снова шлагбаум. Посередине автострады стоял длинный барак. У обочины дороги — фанерный щит на трех языках, объявляющий путешественникам, что они въезжают в английскую зону оккупации. А рядом — табличка со стрелкой: «Ганновер — 67 км». Два английских солдата в расстегнутых на груди форменных рубахах, заправленных в короткие шорты, проверили документы.
— Давай, давай, пошел! — сказал один из них и хлопнул рукой по крыше машины.
В полутора километрах от пограничного пункта Фомин увидел на автостраде человека — тот неуверенно поднял руку. Фомин притормозил.
— Простите, вы не в Ганновер?
— Садитесь, — открыл дверцу Фомин.
— Был в Бранденбурге у родственников, — объяснил человек, устраиваясь рядом.
— Без пропуска?
— А зачем он мне, пропуск? — засмеялся пассажир. — И без него можно.
— Вы здешний?
— Нет, я с Севера. А пропуск — ерунда. Обратите внимание, шестьдесят пятый километр. Видите, поворот на Кирхгоф.
— Да, а что?
— Здесь рядом идет полевая дорога — видите? Так вот, по ней, минуя контрольно-пропускной, свободно можно пересечь границу. Езжай хоть целой колонкой, никто не остановит.
— Ерунда, — бросил Фомин. — Не может этого быть.
— Что значит, не может быть. Неделю назад я проехал тут на грузовике, и хоть бы кому дело… У меня, знаете ли, приятель перебрался жить в восточную зону.
Пассажир вдруг умолк, скосил глаза на Фомина, спохватившись, что слишком разоткровенничался с незнакомцем.
Фомин невозмутимо вел машину, всем своим видом говоря, что сказанное его ею интересует. На некоторое время воцарилось молчание. Разряжая паузу, Фомин достал сигареты, закурил сам, угостил попутчика. Стрелка спидометра не опускалась ниже ста километров. Вскоре слева от шоссе в белой дымке открылась панорама большого города. Серая полоса автострады тянулась дальше. Фомин свернул в предместье, ощутимо искромсанное войной. Да и весь Ганновер был изрядно разрушен. На Кайзерплац высадил, немца.
5
Вспоминая схему маршрута, ехал медленно, держась ближе к тротуару. На улицах, среди гражданских костюмов часто мелькала форма английских солдат. Забавно и непривычно выглядели шотландские стрелки, здоровенные парни, одетые в куртки и коротенькие, до колен, клетчатые юбочки. У трамвайной остановки группа шотландцев пыталась завести знакомство с двумя пухленькими фрау.
«Проверим на всякий случай, где сейчас находится господин Старк», — подумал Фомин, разыскивая в кармане монету. Затормозил у будки телефона-автомата Абонент не отвечал. Недовольно крякнув, автомат возвратил монету.
Тогда он вторично набрал номер секретаря Старка. Услышал длинные, воющие гудки. Трубку не брали и уже, когда Фомин готов был ее положить, раздался щелчок.
— Вас слушают, — сказал низкий женский голос.
— Будьте любезны, соедините меня с господином Старком, — попросил Фомин.
— Господина Старка нет.
— Ах, как жаль. Он скоро будет?..
— Сомневаюсь. Позвоните лучше завтра с утра.
— Спасибо, — поблагодарил Фомин невидимую собеседницу, которая дала ему столь ценную информацию. Задача в значительной мере упрощалась. Еще немного подержал трубку, слушая частые низкого тона сигналы. «У нас они тоненькие!», — почему-то подумал он, уже садясь в машину.
А вот и Принц-Альбертштрассе.
По объяснениям Мевиса, полученным накануне, Фомин быстро разыскал мастерскую Это, кстати, оказалось не сложно. У ворот висело объявление и тариф оплаты за различные виды ремонта. Проехав мастерскую, он поставил машину, вернулся и вошел во двор. У машины с поднятым капотом на корточках сидел парень в комбинезоне и чего-то завинчивал…
— Мне бы Станислава… — спросил его Фомич. — Не подскажете, как его найти?
— Станислава? — Парень поднялся, вытирая руки тряпкой. — Это поляка, что ли? Так он уже недели две не появляется. А вам зачем?
— Да приятель он мой. Сказали, что тут работает. Хочу повидать. Вот этого самого. — Фомин вынул фотографию.
— Ну-ка, ну-ка, — сказал парень, склонил голову. — Это не Станислав. У нас другой работал. А как фамилия вашего Станислава?
— Вышпольский, — сказал Фомин.
— И у нашего, кажется, такая фамилия. Я, правда, знаю не точно. Ведь он тут не постоянно работает. Только на фотографии это не он. Может, ваш работает на какой-нибудь другой станции?
— На Принц-Альбертштрассе.
— Здесь больше нет таких мастерских.
— Вот беда, — Фомин изобразил на лице разочарование — Значит, ошибка, неправильно мне объяснили.
— Значит, неправильно, — согласился парень. — Извините, у меня спешная работа. — И он снова присел на корточки.
«Вот так Вышпольский, — думал Фомин, садясь в машину. — А мне ведь казалось, что все так ясно. И Кторов сначала молчал. Ну, конечно, ждал, что я сам догадаюсь копнуть поглубже…»
Фомин очень мелко изорвал фотографию и, немного отъехав, на ходу выбросил обрывки в окно.
Дом номер двадцать два он нашел сразу. Поднялся на третий этаж, нажал кнопку звонка квартиры шесть. За дверью было тихо, позвонил снова. Никто не выходил. Он собирался уже вставить ключ в замочную скважину, как вдруг дверь открылась. На пороге стояла девушка. Голова ее была покрыта полотенцем. Судя по этому, она только вышла из ванны.
— Вам кого? — недовольно спросила она.
Фомин решительно шагнул в прихожую.
— Добрый день, фрейлейн Эльза! Очень хорошо, что я вас застал. Господин Клюге просил передать вам привет и эту записку. — Фомин закрыл за собой дверь.
Смысл его слов до Эльзы дошел не сразу. Она, медленно шевеля губами, прочитала записку:
— Пожалуйста, я покажу, где находится его письменный стол.
В сопровождении Эльзы он прошел в кабинет Клюге и открыл дверцу левой тумбы письменного стола, а затем маленькую дверцу сейфа.
— О, я этого не знала, — изумилась Эльза, — хозяин, значит, вам рассказал где что? Извините, я на минутку, приведу себя в порядок.
Фомин стал быстро просматривать и откладывать в сторону документы, представляющие, на его взгляд, оперативный интерес. Таких набралось больше десятка, рукописных и отпечатанных на машинке. Когда он уложил отобранные бумаги в свой бювар, в комнату вернулась Эльза. Она успела причесаться и переодеться.
— Все, что господин Клюге просил меня привезти, я взял, — сказал он. — И, пожалуй, могу ехать.
— Как скоро вы увидите моего хозяина?
— Завтра обязательно.
— Вы не будете столь любезны передать ему кое-что? В общем-то мелочь: две — три пары носков и платки. Прошлый раз я не успела ему приготовить.
— Это меня нисколько не обременит, милая фрейлейн.
Девушка ушла. Фомин еще раз оглядел стены кабинета. Внимание привлекла фотография хозяина. «Здесь ты был куда моложе, — подумал Фомин. — Взгляд твердый, лицо надменное. Так-то вот», — кивнул портрету и прошел на кухню, где Эльза уже перевязывала тесьмой небольшой пакет.
— У меня все готово, вот, пожалуйста.
— Вашему хозяину это действительно не мешает, — заметил Фомин. — Он будет тронут вашей заботой. Всего хорошего, фрейлейн. Да, чуть не забыл: вам привет от Станислава.
— Какого Станислава? — недоуменно спросила Эльза.
— Станислава из автомастерской.
— Я не знаю никакого Станислава, господин…
— Может быть. Может быть… — улыбнулся ей Фомин. — Тогда, значит, он имел в виду не вас, а другую Эльзу. Будьте здоровы.
— До свидания. Передайте господину Клюге, что дома все в порядке. Почты не было, и никто не заходил. Счета за починку костюма и брюк я оплатила, и у меня еще есть деньги…
— Хорошо, непременно все передам, — кивнул Фомин и закрыл за собой дверь.
Кажется, все сошло хорошо. Теперь быстрее домой.
Уже в машине Фомин подумал, что, пожалуй, имеет право заехать в комендатуру и, как говорил Кторов, потолкаться там, посмотреть, что к чему: с господином Старком и его людьми еще придется встречаться, поэтому совсем неплохо увидеть кое-что самому.
Без труда нашел комендатуру. Увидел часового в белой металлической каске, перепоясанного белым же широким ремнем, с короткоствольной винтовкой за спиной. У дома стояли военные джипы, легковые машины различных марок. У дверей толпились люди.
Спрятав бювар под коврик на полу автомобиля, Фомин запер дверцы и не спеша направился к входу. Часовой скользнул по нему рассеянным взглядом.
Поднимаясь по лестнице, Фомин не оставлял без внимания деталей помещения, присматривался к людям, военным и штатским — последних было даже больше. На четвертом этаже потолкался среди посетителей, прочел таблички на дверях, потом спустился на второй этаж и свернул налево в широкий коридор. Людей тут было меньше. Несколько человек сидело за журнальными столиками; двое что-то сосредоточенно писали. Прошелся в конец коридора, вернулся обратно. Постоял перед дверью с табличкой. Пунктуальные англичане хорошо знали характер не менее пунктуальных и дисциплинированных немцев, беспрекословно выполняющих команду коротенького слова «Ферботен»
[23]. «Меня это не касается, поэтому зайдем», — решил Фомин.
Слегка постучав в дверь, сразу нажал ручку. В комнате у широко раскрытого венецианского окна стоял большой письменный стол, напротив — другой, поменьше. Рыжеволосая женщина перебирала бумаги. Глаза цепко ловили все, что было вокруг: дверца сейфа в стене, толстый ковер, на полу, надписи на дверях, налево вход к Старку, направо — к Брауну. Пахло крепким табаком и духами.
— Добрый день, — поклонился он. — Могу я видеть господина Старка?
Женщина подняла голову. И тут же раздался отрывистый звонок. Указав Фомину на кресло, она скрылась в кабинете Брауна.
«Тут, за маленьким столиком, наверное, сидит переводчица», — отметил он. Рыжеволосая — за письменным. Обратил внимание на выдвижной ящик с машинкой. На приставном столике — три телефонных аппарата, сифон с водой. Широко раскрытая красная дамская сумка.
Рыжеволосая вернулась. Заправила в машинку какой-то документ, несколько раз стукнула по клавишам, что-то подтерла резинкой и снова зашла к Брауну, плотно притворив за собой дверь.
Мгновенно оказавшись у стола, Фомин взглянул на копию документа, лежащего рядом с машинкой. «Британская разведывательная служба. Совершенно секретно», — прочел он в углу листа. И, не раздумывая, схватил копирку и сунул в карман.
Когда секретарша появилась снова, он уже сидел в кресле и безмятежно курил.
— Что вам угодно? — наконец обратилась она к нему приятным мелодичным голосом. Мягкий выговор выдавал в ней скорее саксонку, нежели англичанку.
Фомин повторил свой вопрос о Старке.
— Вам повезло, — она улыбнулась. Ей импонировал белозубый молодой человек, его спортивный вид. Оно старалась быть любезной. — Господин Старк звонил, он скоро должен быть. Зайдите через час.
«Эта встреча мне ни к чему», — подумал Фомин.
На углу у комендатуры долго пришлось ждать, пока пройдет поток автомобилей. А тут еще большой черный лимузин, бесцеремонно нарушив правила, развернулся, преградив дорогу другим. Регулировщик, видимо, знал, чей это автомобиль, и взмахнул жезлом, притормаживая поток. Лимузин пронесся мимо машины Фомина к комендатуре, взвизгнув тормозами, вылез на тротуар, заставив отскочить в сторону часового.
Как же удивился Фомин, когда увидел, что из машины вышла Эльза, а за ней высокий мужчина. Вариант никак не предусмотренный планом. «Сейчас могут начаться осложнения, — подумал Фомин. — В лучшем случае в запасе у меня десять минут».
Машина, словно скакун, которому дали шенкеля, рванулась вперед «Спокойно, дружок, — тут же сказал он себе. — Пока не очень спеши, иначе полиция сцапает тебя за превышение скорости. — Сбросил газ. — Главное — вырваться из города. Кто этот мужчина? Не сам ли Старк? Значит, Эльза сообщила о его визите к ней. Конечно, сообщила — зачем бы тогда привезли ее в комендатуру? Конечно, границу сейчас же закроют. Ну, ничего, выберусь, пока они опомнятся…»

Он стал вспоминать оперативную обстановку на межзональной границе, с которой знакомил его Рощин, перебрал в уме возможные варианты проезда, минуя КПП. Вспомнил и то, что болтал в дороге немец, которого он подвез.
Автострада. Наконец-то! И сравнительно свободна. Он нажал на газ и соседние машины словно остановились. Глаза непроизвольно ловили цифры на километровых столбах, счет шел в обратном порядке, определяя километры до границы. И когда казалось — вот уже можно свободно вздохнуть — он услышал сзади сирену автомобиля военной полиции. Включил компрессор принудительной подачи бензина. «А может, это еще не погоня? Может, не я их цель?»
Крутой подъем. Прежде чем нырнуть с гребня вниз, Фомин обернулся. Теперь рассеялись все сомнения: сзади шла знакомая большая черная машина, а следом — два полицейских джипа. Они-то и подавали тревожные сигналы.
Преследовали, конечно, его. В перерывах между душераздирающими воющими сигналами, мощный громкоговоритель приказывал всем водителям остановить машины и не мешать их движению. И ему тоже приказывали остановиться.
Как бы не так! Дорога впереди, на его счастье, была совершенно свободной, и он все дальше отрывался от преследователей.
Стрелка спидометра, чуть вздрагивая, стояла у цифры 160. Только бы не подвела, выдержала эту гонку машина. Еще семь — восемь минут, и поворот на Кирхгоф. Правда, дорога там пойдет хуже. Мысль работала лихорадочно. А если?.. Если на повороте подбросить им ежей, их собственных ежей, — вспомнил Фомин о сигарной коробке. Он совсем забыл о них. Нет, это в самом деле здорово, что у него есть ежи. И ему стало даже весело. Знал бы Старк, когда снабжал Мевиса этими игрушками, куда они могут пойти!..
Километровые столбы отсчитывали расстояние до поворота «5», «3», «2»… Пора! Выключив компрессор, Фомин стал притормаживать. Разрыв между его машиной и преследователями сразу же заметно сократился. Рука достает коробку: горсть, еще горсть. Он виляет, рассыпая по шоссе ежи…
Все! Опять можно прибавить скорость. Сзади скрежет тормозов, короткие взрывы лопающихся автомобильных шин. Значит, они слишком поздно заметили препятствие. А вот — долгожданный съезд.
«Что и требовалось доказать», — удовлетворенно подумал Фомин, ныряя в густую, тенистую рощу.
6
Пинком распахнув дверь, в приемную ворвался Старк. Браун, диктовавший стенографистке, обернулся и недоуменно посмотрел на разгневанного начальника.
— Вам не удалось догнать этого типа?
— Это же черт знает что! Русский агент!.. Теперь я не сомневаюсь, что это — русский агент, — кипел Старк. — И так дерзко!..
— Я понимаю ваше состояние, сэр, — радостно сказал Браун, чувствуя, что вставляет шпильку своему патрону. — Обидно, конечно… Ушел, не оставив визитной карточки. Но стоит ли так расстраиваться, Эдвард? В самом деле?..
— Видели бы вы, Браун, как этот парень водит автомобиль — профессиональный гонщик может позавидовать. А у границы, на повороте, подложил нам свинью. — Старк достал из кармана завернутую в платок стальную колючку.
— Не свинью подложил, а ежа, причем нашего производства, — заметил Браун.
— Слава богу, что мы успели сбросить скорость, иначе бы без хлопот могли угодить к праотцам… Ладно, идемте ко мне. Анни, позовите сюда эту курочку. Придется заняться с ней и как следует допросить об этом парне. Хотя бы уточнить приметы. А то лепечет: «Интересный сероглазый блондин». Может быть, его видел еще кто-нибудь из наших?
— Извините, господин майор. Вы так спешили, что я не успела вам доложить. За несколько минут до вашего приезда заходил молодой человек, который, как мне кажется, по вашим отрывочным замечаниям… Он очень похож, те же приметы…
— Что?! О-о! Черт вас побери, Штаубе! — взорвался Старк. — Неужели ваш рыжий котелок не сварил, что нужно, хотя бы спрашивать, кто сюда заходит?! Вы забываете, Анна, где работаете! Здесь вам не салон мод. С ума можно сойти!.. Идемте, Браун, и давайте сюда эту девчонку.
Браун, заглянув в кабинет Старка, вернулся:
— Послушайте, Анни, вы проверьте свой стол. Что вы делали, когда у вас был этот молодой человек?
— Давала вам на подпись тот документ, для Берлина. Исправляла ошибки.
— Проверьте тщательнее все: копии, копирку, где, например, та, последняя.
Анни закуривала, при этих словах спичка едва заметно дрогнула в ее руках, но она тут же овладела собой, выпустив густое облако дыма.
— Копирка? Я ее сожгла. Видите пепел? — показала она на пепельницу, в которой еще утром случайно сгорела какая-то бумажка.
Как только Браун вернулся в кабинет Старка, Анни в изнеможении рухнула на стул, стала лихорадочно перебирать бумаги. Да, копирки не было! Хотя она хорошо помнила, что, подготовив документ, отложила ее в сторону, так как по инструкции все документы с грифом «секретно» и копировальная бумага с закладок должны непременно возвращаться исполнителю. Хорошо еще, что ей доверяли самой сжигать копирку, иначе бы… Страшно подумать, что было бы… Значит, тот молодой парень выкрал копирку, пока она была у Брауна…
«Теперь только молчать, — решила она, — молчать, и все. Ей совершенно все равно, что будет с теми, о которых шла речь в документе. Ей наплевать на все, она не знает этих людей. Иначе…»
Анни Штаубе задохнулась при мысли, что с ней произойдет, если… признаться сейчас. Старк может арестовать и посадить ее в тюрьму. Тогда прощай благополучие, возможность уехать в Англию. Анни решила молчать, что бы там ни было, и успокоилась, приняв такое решение.
7
В разогретом воздухе носились запахи цветов, разомлевшей травы. Сильнее других смолистый запах лиственницы. Хорошо накатанная лесная дорога вывела к небольшому мостику, За ним начиналась советская зона.
Словно из-под земли на дороге выросли фигуры пограничников и служащих народной полиции. Несмотря на то что один из пограничников хорошо знал Фомина, он проверил документы, несколько удивленный не совсем обычным маршрутом для переезда границы.
— Обстоятельства, друг, — вытирая пот, объяснил Фомин. — Скажите-ка лучше, как быстрее проехать на заставу…
Четверть часа спустя Фомин сидел в небольшом чистеньком кабинете Рощина.
— Ну вот, видишь, — радостно приветствовал его Рощин, довольный тем, что хоть как-то смог помочь товарищу своим инструктажем и объяснениями перед операцией. — Трусил?
— Откровенно говори, поволновался, теперь жди английских гостей.
— Гостей встретим. А Георгий Васильевич уже о тебе справлялся: не проезжал ли?
— Доложи в отдел, что через час буду дома.
Часы показывали половину третьего, когда он поднялся в приемную полковника.
— Ну, молодец, Женя, — Кторов шел ему навстречу. — Молодец, ничего не скажешь. — Он усадил Фомина в кресло. — Только что звонил Рощин. На КПП приходил английский комендант и еще какой-то штатский. Заявили, что преследуют важного преступника, которого наши пограничники, дескать, беспрепятственно пропустили на машине через границу. Сообщили номер машины, потребовали разыскать. Рощин вполне резонно ответил: что прежде, чем оказаться у нас, преследуемый переехал границу с вашей стороны. Выходит, мы должны исправлять ваши ошибки?.. Короче говоря, на границе порядок. А теперь выкладывай, что там приключилось. Все, до мельчайших подробностей.
8
Цепенея от страха, Эльза сидела на краешке стула, маленькая и пришибленная рядом с огромным письменным столом Старка.
— Ну, фрейлейн, рассказывайте, что делал у вас на квартире этот человек?.. Как там вы его называли? Симпатичным?
Эльза сбивчиво и путано начала объяснять…
— Вы не сказали, почему вы сразу не доложили мне, не позвонили сюда?
— Он сослался на господина Клюге, и у него был ключ от стола и записка. Я думала вы знаете…
Браун хотел еще что-то спросить у Эльзы, но Старк его остановил.
— Достаточно. Идите домой, Эльза, и продолжайте смотреть за квартирой. Она теперь поступает в полное распоряжение английской комендатуры. Всем, кто будет интересоваться вашим хозяином, отвечайте, что он скоро приедет. Берите визитные карточки или спрашивайте, что нужно передать господину Клюге. О каждом таком посещении немедленно ставьте в известность нас. И не будьте больше такой дурой, Эльза. Этак вас обманет какой-нибудь пройдоха… Понятно?
— Да, сэр.
— Ступайте.
«Гроза миновала», — поняла Эльза и спросила:
— Извините, господин, а мне оплатят работу?
— Оплатят. Деньги вам дадут здесь, у нас. И старайтесь…
Обрадованная и окончательно успокоенная, Эльза ушла.
— Зачем вам теперь эта квартира, Эдвард? — спросил Браун. — Русским она известна. И вряд ли они навестят ее снова.
— У меня, Ральф, на этот счет имеются кое-какие предположения, точнее, подозрения, и я хочу их перепроверить. Откровенно говоря, сейчас меня не столько уже волнуют русские — они сделали свое дело — сколько немцы. Вам известно, почему мы с шефом решили пожертвовать «Журналистом»?
— Что, Гелен?
— Да. Хотя в этом я окончательно не уверен. Геленовская разведка с легкой руки Си-Ай-Эй
[24] настолько обнаглела, что начинает работать против нас. А наши союзники в лице господина Даллеса смотрят на эти «шалости» сквозь пальцы. И я уверен, что немцы в конце концов обойдут не только нас, но и американцев. Немцы есть немцы и в первую очередь думают о себе, о своем, так сказать, возрождении. Я чувствую, пора с этим разобраться и указать им на их место. Забылись, черт возьми…
— Верно, Эдвард, и это совершенно меняет дело. Немцев следует поймать за руку, и, кроме задания Эльзе, я думаю, следует установить за домом наблюдение. Вы имеете представление о документах, которые увез русский?
— Даже понятия не имел, что они там хранились. Скорей всего, это копии донесении, которые он нам представлял. Вы же знаете педантизм и аккуратность немцев. Но Клюге старый осел, не профессионал. В общем, с его «провалом» в любом случае цель достигнута, и она оправдывает средства. Прискорбно, конечно, что мы упустили этого визитера, но ставлю против вашей коробки «Клея»
[25] бутылку «Белой лошади»
[26], что русские клюнули на приманку. А получив неоспоримое подтверждение, что Клюге — наш человек, они безусловно будут верить «Потомку».
— Согласен. И хочу, чтобы вы выиграли. Но откуда такая уверенность?
— Получил от «Потомка» открытку. Пишет, что все идет, как нельзя успешно.
— Старику об этом уже известно?
— Пока нет. Я получил открытку после его звонка. Не сегодня-завтра он придет сам, и это будет для него приятным сюрпризом. Операция «Аяксы» утверждалась им.
— Да, Эдвард. Я все забываю спросить, что за информация получена вами о бюро в Энбурге, которым вы так усиленно занимаетесь в последнее время?
— Я не успел проинформировать вас, Ральф, вы уезжали. Речь идет о людях, которые там работают, но это только усиливает нашу заинтересованность. Бот посмотрите… — Старк покопался в бумагах. — Сообщение нашего военного атташе в Москве. Недели три назад он летел до Берлина с группой советских инженеров, Русских не обвинишь в болтливости, но ему удалось записать несколько имен и фамилий. Оки должны разъехаться по разным предприятиям зоны. Трое, и среди них некий Денисов. — Старк посмотрел документ и еще раз медленно прочел, — Де-ни-сов, — словно взвешивая фамилию. — Далее речь о каком-то бюро. Заметьте, опять бюро. А на днях, после разговора с полковником Блейком, я понял, что этой организацией заинтересовались на Даунинг-стрит
[27]. Стюарта приглашали туда. Думаю, у них имеются и другие источники. Ему предложили выяснить все возможное. И, как видите, я усиленно занимаюсь всем этим. Успел кое-что перепроверить. Бюро действительно есть. «Аяксы» — попытка проникнуть в него. Поэтому я забрал у вас Лютце — он будет глазной фигурой в нашей игре. И еще расконсервирую резидентуру «Лоцмана». Нечего ему вертеться в Ланкастерхаузе
[28]. С минуты на минуту я жду его. Все это и еще кое-какие ориентировки я вам сейчас дам. Ознакомьтесь с ними.
Глава седьмая
1
— А, Фердман! Проходите, рад видеть вас таким цветущим. Бы еще раздобрели? Чересчур увлекаетесь пивом…
Старк встречал своего давнего подручного приветливо и не скупился на добрые слова.
— Здравствуйте, господин майор. И я искренно рад видеть вас таким бодрым и здоровым, — вскинул ладоши прибывший. Тяжелым, по размашистым шагом он пересек большой кабинет, направляясь к Старку, ждавшему его у стола с протянутой рукой.
— Садитесь. Давненько не было у меня здесь человека, столь любящего и понимающего жизнь во всех ее проявлениях.
Фердман удовлетворенно хрюкнул, услышав такую оценку. Это был крупный мужчина лет сорока пяти, с гладко выбритой квадратной головой, большеносый и толстогубый, маленькие глаза прятались под выдвинутыми вперед массивными надбровными дугами. Развалившись в кресле, он достал платок и обтер голову и лицо.
— Жарко, черт возьми, как в Африке. Думал, растоплюсь, пока на солнцепеке ловил такси. Тут я вроде бы в гостях…
— Надеюсь, у вас все благополучно, — сказал Старк, нажимая кнопку вызова секретаря. — Принесите виски и содовую, Анни. И фужеры побольше, — крикнул он. — Я знаю, Альфред, что охладит вас. А пока вот это… Прошу, угощайтесь.
— О, «Гавана», — восхитился Фердман, обнюхивая темно-коричневую длинную сигару.
«Тоже мне аристократ! Заметил этикетку, а выдает себя за знатока», — подумал Старк.
Фердман тем временем пододвинул настольную «гильотину». Крошечный металлический нож, щелкнув, отрубил кончик сигары. Зажег спичку, раскурил сигару и, полузакрыв глаза, картинно выражая блаженство, сделал несколько глубоких затяжек.
Вернулась Анни. На подносе — бутылки виски, содовой и ваза с матовыми кубиками льда. Уходя, она включила вентилятор. Волны взбудораженного пропеллером воздуха обрушились с потолка вниз, разгоняя табачный дым.
— Разбавляйте по своему вкусу… За встречу! — поднял бокал Старк.
— За встречу! — эхом отозвался Фердман и стал цедить сквозь стиснутые зубы ледяную жидкость.
— А теперь перейдем к делу, Альфред, — сказал Старк, поставив пустой фужер на стол. — Сразу же к делу, не теряя времени. Есть необходимость, и притом срочная, активизировать деятельность вашей энбургской резидентуры. Цель — установить задачи, которые решает недавно созданное там конструкторское бюро. Речь идет о совместной разработке советскими и восточно-германскими инженерами так называемой Х-конструкции. Вы хорошо знаете Энбург и…
— Не каждая хозяйка знает так свою квартиру, как я Энбург, — перебил Фердман.
Старк сердито посмотрел на немца.
— Перестаньте хвастать, Фердман. Слушайте. Наиболее подходящая кандидатура для выяснения всех этих дел — «Финн». Он, безусловно, должен знать, о чем идет речь. Что касается «Дункеля», его трогать запрещаю. Такого агента у вас на связи никогда не было. Не только фамилию, но и кличку его забудьте. Надеюсь, понятно?
— Понял и принял к сведению.
— Заставьте как следует работать женскую агентуру. Дайте задание повертеться около работников бюро, завести знакомства. Встряхните официантку из Дома офицеров, надеюсь, она еще не «покраснела»?
— Нет, как можно. Она у меня вот где, — Фердман сжал похожие на сардельки пальцы в кулак, страшный огромный кулак, которым можно было убить быка. Старк далее отметил про себя, что не хотел бы оказаться в таких лапах.
— Тем лучше, Фердман. Обещайте им все что угодно: выезд к нам, деньги. Деньгами не скупитесь и меньше присваивайте. Вам и так достается больше всех. Не жадничайте…
Фердман хотел было возразить, но Старк предостерегающе поднял руку:
— Ладно, я вас знаю… — Сказав это, Старк достал из стола тугую пачку немецких марок и бросил перед Фердманом. — Здесь пять тысяч. Задаток. Давайте расписку. Впрочем, передадите ее секретарю. Если нужно изготовить какие-либо документы…
— О документах но беспокойтесь. Имею надежнее, чем самые настоящие, — Фердман спрятал деньги в карман.
— Отлично. Теперь вот что необходимо выяснить, что за немцы работают в этом бюро? И русские: каждый в отдельности. Особенно Денисов. Мы полагаем, он и руководитель группы. Максимум через десять дней жду вас назад. Без результатов не возвращайтесь, Альфред. Узнайте хотя бы в общих чертих, не обязательно все сразу. Ну хотя бы состав бюро, и что это за штука Х-конструкция…
2
Лютце неторопливо шел по улице, запоминая детали района, где придется теперь жить. Сначала он направился в сторону, противоположную той, откуда вечером они приехали с Лоттой на такси. Чувство раздражения, вызнанное последней беседой с ней, все еще но улеглось. Певичка с первого же дня попыталась ему внушить, чтобы на нее не очень-то рассчитывали. Но это уж его дело, и, если появится необходимость, он сумеет заставить ее подчиниться.
Переулок упирался в здание, от которого остались одни стены. Тропинка через горы щебня вела к арке, через нее Лютце прошел на большую улицу, прочел на указателе: «Оттоштрассе». «Она и раньше так называлась», — вспомнил он. Вернувшись домой, с удовлетворением отметил, что с площадки второго этажа можно без хлопот проникнуть во двор наполовину разрушенного и необитаемого дома и сразу же оказаться на широкой Шенеберкерштрассе. Для этого потребуется лишь небольшая лестница, чтобы спуститься со второго этажа.
Закончив эту разведку, Лютце отправился на трамвайную остановку. Снова знакомые места. Вот зоологический сад. Он изрядно пострадал от бомбежек. А дальше — обгоревшее здание цирка, с которым связано так много воспоминаний о детстве. В доме, где раньше было шикарное варьете, теперь открыт ресторан советской администрации.
Сошел с трамвая, не доезжая до парка. В этот утренний час людей в нем почти не было, лишь два старичка садовника возились у клумбы. Тенистая аллея вывела к реке с мутной, неспокойной водой. Все будило воспоминания, далее этот гранитный парапет набережной, с которого он однажды одетым прыгнул в воду на спор с мальчишками. Потом дома его наказали.
Вот стены и сторожевые башни городской крепости. Тут он когда-то играл в Зигфриде, из картона делал рыцарские доспехи. Подошел к собору. Налеты англо-американской авиации не затронули его, и в этом Лютце хотелось видеть руку всевышнего. Собор возвышался серой громадой над крепостью и деревьями парка. Узкие окна бесстрастно взирали на мир. Повинуясь необъяснимым чувствам, — Лютце никогда не причислял себя к сентиментальным, — он снял шляпу и вошел в храм. В холодном сумраке различил молящихся: это были в основном пожилые люди. С молитвенниками в руках они тихо сидели на скамейках, печальные и отрешенные от всего. Постоял недолго в притворе и, не оглядываясь, быстро пошел прочь, к жилым кварталам города.
3
— Вам не кажется, что было бы целесообразней сразу покинуть город, — заметил Кторов. — Мы же договорились — посмотреть лишь так, бегло. Чтобы иметь общее представление. А вы?..
— Я вначале тоже так думал, Георгий Васильевич. Но когда удалось без особых осложнений выяснить о Вышпольском и заполучить документы Клюге, я решил зайти в комендатуру. Походил, потолкался, беспечность невообразимая. Я даже удивился. Вы говорите: относись к врагу всегда серьезно, никогда не считай его глупее себя. Но, честное слово, там у них такая толчея. Я перепроверил себя, не ошибаюсь ли. Перед тем как идти туда, выяснил, что Старка нет. Это придало мне решимости. Ну, ведь все окончилось удачно. Удачно же?
— Заладили — удачно, удачно, — сердито перебил его Кторов. — Хорошо, что удачно. Ну, а дальше.
— Дальше? Когда увидел Эльзу у комендатуры, понял, что не так уж все хорошо, как казалось, что появление мое не осталось в тайне. И еще копирка…
Кторов поморщился.
— Георгий Васильевич, это была мгновенная реакция на ошибку, на небрежность противника. Такая возможность…
— Понимаю и осуждаю! Потому что ваша поспешная реакция могла привести черт знает к чему. — Кторов сердито воткнул карандаш в стаканчик письменного прибора. — Ну ладно, беритесь за документы. Вы хоть знаете, что привезли.
— Мельком просмотрел еще там, у стола Клюге. В основном это копии его донесений. Есть материалы, в которых надо разобраться, не поймешь сразу, о чем в них речь. А вот копирка, Георгий Васильевич… Думаю, в ней что-нибудь важное, хоть, кроме грифа, я ничего не успел прочитать. И может быть, риск окажется оправданным. А потом ругайте меня, наказывайте, но я не мог удержаться, и момент был удобный. Вы же сами не раз напоминали нам: «Надо учитывать момент и быть смелым и решительным».
— Все так. Ни вы опять оправдываетесь, хоть прекрасно понимаете — эта ваша «реакция» могла обойтись нам очень дорого. — Щеки Кторова слегка порозовели — признак явного волнения. — Достаточно, Евгений Николаевич. Закончим на этом. — Он снял трубку. — Провоторов? Зайдите, пожалуйста. — И осторожно развернул копирку.
— Случай, Георгий Васильевич, был все же очень подходящим, — вздохнул Фомин.
— Да разве мы отрицаем роль случайности? — уже примирительно отозвался полковник. — Диалектика говорит: «Необходимость прокладывает себе путь сквозь толпу случайностей». Но не следует, однако, устраивать охоту за случайностями.
В кабинет вошел майор Провоторов.
— Вот этот молодой человек, — сказал Кторов, — не совсем случайно нашел лист копировальной бумаги. И, не имея на то достаточных оснований… — полковник весело посмотрел на Фомина, хочет нас убедить, что листок этот представляет значительный интерес. Пусть ваши чародеи поколдуют и разгадают, что на нем начертано.
Провоторов извлек из кармана пинцет и, ухватив за уголок копирку, подошел к окну. Несколько минут внимательно изучал бумагу на свет, потом, вернувшись к столу, очень лоеко и бережно, аккуратно расправив ее, уложил между двумя листами чистой плотной бумага.
— Хорошо еще, что вы не использовали это в качестве носового платка. Помято и потерто изрядно. Но оттиск просматривается отчетливо. — Взглянул на часы. — Надеюсь, после обеда я смогу доложить вам его содержание.
— Прекрасно. А вы, Евгений Николаевич, займитесь пока остальными бумагами. Если, конечно, пришли в себя после путешествия.
— Какой сейчас отдых, я не успокоюсь, пока все не пересмотрю.
— Тогда за дело!
…Изучая документы, Фомин и не заметил, как прошел перерыв, и если бы не Скиталец, принесший ему бутерброд, так и остался бы голодным. Но за это время он укрепился во мнении, что «Журналист», хотя и пытался освещать довольно широкий круг вопросов военно-экономического характера, по существу был малопросвещенным агентом. Донесения носили чисто информационный характер, основанный на личных наблюдениях. Лишь одно сообщение представляло несомненный интерес. Оно касалось фотографий, сделанных в отсеках модернизированного советского танка, недавно поступившего на вооружение. Фомин пометил в блокноте; уточнить, каким путем могли быть получены эти снимки. Потом несколько раз перечитал копию короткого письма, адресованного «господину фон Г…» Письмо приподнимало завесу над совершенно новой деятальностью «Журналиста». Он писал:
«Господин фон Г…
Почтительно докладываю, что в соответствии с договоренностью, высылаю со связным копии моих донесений, представленных на протяжении 1945–1947 гг. в распоряжение Э.С.
Ваш Клюге.
Ганновер.
P.S. Привратник на вилле Альберт Цискэ — ефрейтор «СС» из охраны Заксенхаузена. Садов-пик Отто Мюллер был в России. Оба имеют причины скрываться от русских властей.
Особый интерес представляет молодая баронесса Мари Эрика фон Штольц, которая по моим предположениям находится со Старком в интимных отношениях».
Как не хотелось Фомину немедленно опросить Мевиса, но прежде нужно было посоветоваться с Кторовым. Фомин убрал документы в сейф и пошел к Провоторову.
— Материал действительно интересен, — сказал майор. — Я попросил полковника задержаться. Через пяток, минут все будет готово. Пойдем вместе.
Кторов ждал их. Провоторов молча положил перед ним текст перевода, второй экземпляр дал Фомину.
В правом углу указывалась степень секретности документа, в левом стоял штамп-Британская разведывательная служба. Ниже текст:
«Сэр!
Прошу Ваших указаний — откомандировать в наше распоряжение резидента Фердмана Адольфа — псевдоним «Лоцман», проживает Берлин, Адлем, 8. Его агентура, особенно Юлиан Бломберг, псевдоним «Финч», переводчик технического отдела Энбургского бургомистрата, крайне необходим для выполнения I части акции «Дельфин». Позволю себе заметить, что «Лоцман» ранее находился в распоряжении нашего отдела и был передан в Берлин временно.
С почтением майор Э. Старк».
— Любопытно. Что вы думаете по этому поводу? — спросил Кторов.
— Не знаю, что и думать, — пожал плечами Фомин. — Поднимают законсервированную агентуру? Может быть, опять конструкторское бюро?..
— И я так считаю. Нужно было ждать, что они зашевелятся. Приезд наших инженеров и прочее… Коль скоро, Евгений Николаевич, вы хозяин этих материалов, вам и карты в руки. Доложим руководству и примемся за дело. Займитесь этими «Лоцманом» и «Финном» и берите бюро под свою опеку. Подключите Скитальца и шире привлекайте к работе наших коллег из полиции. Без них нам просто не обойтись. А начинайте с плана. Когда подготовите — посоветуемся. Эта атака, затеваемая противником, может быть, даже целая серия, сводится к одной цели — прикрыть главную фигуру. Будем считать это предположением, но, как вы понимаете, сидеть в обороне нельзя. Активнее, наступательнее думайте, Евгений Николаевич. Впрочем, мы будем все этим заниматься.
4
Особняк был обнесен высокой железной оградой. Лютце даже удивился, как это здание и забор уцелели в таком хаосе разрушений; соседние дома лежали в руинах. По фасаду особняка окна первого этажа были закрыты решеткой. Лютце прошел мимо дома. Увидел, что в проходной дежурит полицейский. Вернулся. На стоянке перед особняком стояло несколько легковых автомобилей различных марок — от «оппеля» тридцать четвертого года до последней модели БМВ. Уловив момент, Лютце резко свернул в проход между развалинами. Его интересовало — можно ли проникнуть во двор с другой стороны.
Скрытый за разбитыми стенами и штабелями кирпичей, Лютце наблюдал почти два часа, но ничего существенного для себя не извлек. Небольшой чистенький сад и здесь был обнесен новым высоким кирпичным забором, поверху в несколько рядов была натянута колючая проволока. Сменился полицейский у проходной. Приезжала машина с продуктами. В половине первого сотрудники группами стали выходить через двор на обеденный перерыв. Без пяти минут час проходную миновал полицейский вахмистр и прошел в помещение, а оттуда вышел другой служащий полиции.
«Значит, постов два, — отметил Лютце, — и меняются они в разное время». Ему уже давно хотелось есть, ноги затекли, но он продолжал наблюдения. В два часа дня сменился полицейский в проходной, в четыре — разошлись служащие, в пять — сменился постовой внутри помещения. Одновременно с ним вышли две женщины. «Посты меняются каждые два часа, а женщины, верно, уборщицы», — подытожил Лютце.
Полицейский его не интересовал. Еще днем из своего укрытия он заметил, что участок находится неподалеку, на противоположной стороне улицы. «А вот женщины…» — у него где-то подсознательно мелькнула мысль о возможности знакомства с какой-либо из них, выскользнув из развалин, он последовал за ними.
Обрывки разговора, которые он расслышал, подтвердили его догадку — это были действительно уборщицы. Одну из них, молоденькую, звали Ангелиной. Она обращалась к своей собеседнице, женщине уже в годах, почтительно, называла ее госпожа Грабе. На ней-то Лютце и остановил свой выбор.
В ресторане за обедом он неторопливо перебрал в уме все сведения, которые сумел собрать за день. Что они давали ему? Некоторую ориентировку. Особняк усиленно охраняется снаружи и внутри. Проникнуть далее во двор, минуя охрану, невозможно. Лезть через забор из колючей проволоки — нелепо. Вот и все. Вот разве только Грабе?.. Правда, он знал лишь, что имя ее Марта и проследил, где живет. Мало, очень мало.
По пути домой Лютце зашел в аптеку, купил таблетки от головной боли и снотворное. Лотты дома не было.
Лютце переоделся в пижаму, достал блокнот и аккуратно вывел на листе:
«Дорогой отец!
Доехал благополучно. Кузина встретила хорошо. Видел покупку. Внешне дом сохранился, но побывать в нем не удалось. Он закрыт. Ищу кого-либо из владельцев, чтобы осмотреть внутри. Мой номер: Энбург, 163–13.
Твой Макс».
На конверте Лютце указал западноберлинский адрес. Еще он написал на обычной открытке несколько слов в Ганновер обладателю абонементного ящика 2235-Х.
5
Утром Фомину сообщили, что Вышпольский в приемной и ждет вызова. Фомин позвонил Кторову и напомнил о его
желании присутствовать на допросе. Полковник тотчас пришел и попросил протоколы допросов Мевиса.
— Так… Фотография в деле есть. Это хорошо, — заметил Кторов, листая протокол. — Ага, вот откуда Вышпольскому известен факт поломки автомобиля. И это, значит, имело место… Легенда продумана детально. Ну что же, зовите вашего «поляка».
Дежурный ввел Вышпольского. Широко улыбаясь, он поздоровался с офицерами, как со старыми знакомыми.
— Не слишком ли загостились у нас? — спросил Фомин.
— Мне здесь нравится, пан капитан. Я хорошо отдохнул, осмотрел город. Нашлась бы подходящая работа, я с радостью остался, привез маму, хоть понимаю, что это не просто. Отсюда легче будет потом уехать на родину… Извините, я разболтался, а у вас дела… Удалось ли пану капитану поймать Мевиса?
— Да, ваше заявление о Мевисе-Клюге целиком подтвердилось. Он действительно военный преступник и английский шпион. Правда, в ходе расследования возник вопрос, который при вашей помощи можно легко разрешить…
Вышпольский подался вперед. И лицо, и глаза его говорили о неподдельной радости.
«Умелый актер, — подумал Кторов, — а на первый взгляд этакий простачок…»
— В ходе допроса Мевиса-Клюге, — продолжал Фомин, — выяснилось, что у него на квартире в Ганновере хранятся интересные документы. Он утверждает, что они в письменном столе. Вы знаете, где он стоит?
— Конечно, помню, — ответил Вышпольский.
— Вот бумага, ручка, — нарисуйте подробный план квартиры, расположение мебели, чтобы решить, как лучше добраться до его документов. Помогите нам.
На какую-то сотую долю секунды Вышпольский задумался. Потом решительно пододвинул к себе бумагу и начал рисовать.
Фомин поднялся со стула, прошелся по кабинету, хотел было заглянуть через плечо Вышпольского, что тот рисует, но под укоризненным взглядом Кторова отступил и сел.
— Вот! — подал через стол план квартиры Мевиса Вышпольский. Расположение комнат указано правильно, определил Фомин, но мебель стоит явно не там. Он передал листок Кторову.
— Вы не ошиблись? — опросил Вышпольского Кторов.
— Нет, был в этой квартире всего несколько дней назад.
— А если мы устроим вам очную ставку с Мевисом-Клюге, он вас узнает?
Вышпольский задумался.
— Но скажу наверняка, по думаю, что узнает.
— Оставим пока этот вопрос, — сказал Кторов, листая протоколы допросов.
— Слушайте меня внимательно. Я прочту показания Мевиса:
«В один из предпоследних приездов, с месяц назад, я приобрел кабинетный гарнитур. Произвел некоторую перестановку; перенес кабинет в спальню, мне так было удобней. Так указано на плане. Над письменным столом, как и раньше, висит фотография, о происхождении которой я показывал».
Кторов сделал длинную паузу, дав возможность Вышпольскому осмыслить услышанное.
— Ну, что вы на это скажете.
Вышпольский удивленно посмотрел на Фомина, потом на Кторова, пожал плечами.
— Право, я удивлен. Я не мог ошибиться. Разве что в некоторых деталях.
— Значит, лжет Мевис?
— Я не пойму, зачем ему это надо? Но я точно помню план, и мебель стояла так, как я нарисовал.
— Нет, вы недостаточно хорошо ознакомились с квартирой Мевиса. Или у вас были старые данные.
— А потом еще Эльза… — сказал Фомин.
— Что Эльза?..
— Она не числит вас среди своих знакомых…
— Откуда вы это взяли?
— Она сама сказала мне об этом, — спокойно заметил Фомин.
— Вам?!.
— Да, мне. Я знаком с ней и вчера был в Ганновере.
Вышпольский побледнел. Оборот дела был для него так крут, что он не смог пересилить волнения.
— Но она, впрочем, могла вам в этом и не признаться, — сделал он попытку найти объяснение. — Женщина есть женщина.
— Но вас не признали и на авторемонтной станции на Принц-Альбертштрассе.
— Это провокация, господин капитан. — Он гневно посмотрел на Фомина. — Я, кажется, не давал основания так со мной обращаться. Вам каждый скажет на станции, что на ней работал Станислав Вышпольский, то есть — я.
— Станислав Вышпольский — да. Но не вы, а другой, тот, которого кто-то упрятал ради того, чтобы придать правдивость вашей легенде. Далее случай проверки вашего алиби был предусмотрен. Но по фотографии, вот по этой вашей фотографии — на станции вас не признали. — Фомин поднял со стола снимок. — Это, как видите, тоже ваши шефы не предусмотрели. Так же, как подвели с мебелью в квартире Мевиса.
— Это провокация, — повторил Вышпольский. — Вы обманываете меня.
— Ну, что же, придется пригласить сюда хозяина квартиры. Устроим очную ставку. Евгений Николаевич, пусть приведут Мевиса…
— Нет, не надо! — вырвалось у Вышпольского.
— Будете говорить? — спросил Кторов, чувствуя, что тот прижат к стенке. — Зачем же отпираться. Обидно, конечно, все было так хорошо придумано: выдача Мевиса и прочее… Но советую лгать. Дальнейшей ложью можно только усугубить свое положение. Стоит ли вам рисковать? Выкладывайте-ка все начистоту…
Вышпольский рукавом пиджака вытер пот с лица.
— Да, пан полковник, — сказал он наконец, — я никак не предполагал… — он смотрел на Кторова, словно ожидая от него поддержки. — Но я должен вам объяснить.
— Не обольщайтесь, — сказал Кторов. — И не торопитесь пересказывать нам отредактированную Старком легенду. Ведь вас направил сюда Эдвард Старк?
— Да.
— Рассказываете. С каким заданием шли. К кому? Как связываетесь с Ганновером?
Вышпольский заговорил не сразу, вздыхал, мотал годовой. Попросил закурить. Наконец начал:
— Предполагалось, что я приобрету доверие комендатуры. Потом устроюсь работать где-нибудь здесь… А пока о том, что мне удалось сделать, я должен сообщать на абонементный ящик Ганноверского почтамта.
— В адрес вашей матери? — спросил Фомин.
— Да, якобы для моей матери… — Вышпольский сидел, опустив голову, тер виски и говорил медленно, словно вспоминая. — В целом эта операция называется «Аяксы», сокращенно А2С… Я рассказываю все, что знаю…
— «Аяксы»? Что это значит, — спросил Кторов.
— Формула А2С означает, что в акции принимают участие два агента. Второй — это я, — проваливает первого — Мевиса, обеспечивая себе тем самым доверие властей и возможность внедрения в этой зоне. Так во всяком случае я понимаю это дело… Мевис о своей роли в этой игре ничего не знал.
— Задумано неплохо, — улыбнулся Кторов. — но звучит слишком парадоксально — «Аяксы». Два неразлучных друга, героя, сражавшихся плечом к плечу в греческом войске против троянцев. И вот — новая трактовка Аяксов, где один умышленно предает другого, чтобы обеспечить свое, так сказать, благополучие! Хороши «друзья»! Вам не кажется, Вышпольский, что в самом шифре операции, в которой бы участвуете, звучит насмешка над вами?
— Я не знаком, пан полковник, с греческой мифологией и впервые от вас узнал, что это значит.
— А жаль. Итак, часть первую своего задания вы, надо сказать, провели успешно. А что вы предприняли для выполнения части второй?
— В понедельник утром опустил открытку, в которой написал: «Мама, все прекрасно. Надеюсь скоро получить работу по специальности. Тогда приеду за тобой. Стась». Так я написал, пан полковник. Вы видите, я ничего не скрываю и очень прошу это учесть, пан полковник…
— Учтем, — бросил Кторов. — Почему Старк должен поверить, что сообщение поступило именно от вас?
— Старку знаком мой почерк…
6
Детина охранник увидел приближающийся на большой скорости автомобиль, поспешно открыл створки ворот, вытянулся по стойке «смирно». Звонко разбрызгивая гравий, машина остановилась у подъезда. Шофер выскочил, предупредительно открыл дверцу. Приезжий — высокий, сухопарый человек в годах, легко поднялся по лестнице. Служитель почтительно поклонился, принял дорожное пальто и шляпу. Уверенной походкой человек через холл направился к тяжелой, темного резного дуба, двери и толкнул ее. Старк стремительно поднялся навстречу гостю.
— Хелло, Эдвард! Как поживаете? — бодро проговорил приезжий и первый протянул руку.
— Благодарю, сэр, — Старк стоял навытяжку, ожидая, когда гость сядет. А тот, чуть сутулясь, ходил по кабинету, движениями бывалого спортсмена разминая затекшие от длительной поездки ноги. Седой, коротко остриженный, с серовато-зелеными глазами, увеличенными большими стеклами очков без оправы, с подбородком упрямца, Стюарт чем-то был похож на профессора колледжа. Темно-синий, свободного покроя костюм скрадывал выправку военного.
— Бокал шампанского, сэр? — услужливо спросил Старк.
— С удовольствием.
Майор отворил дверцу книжного шкафа, за ней в стену был вмонтирован бар-холодильник.
— У вас отличное шампанское, мой друг, — сказал Стюарт, отпив глоток.
— Из довоенных запасов. Но хорошо сохранилось. Досталось мне вместе с этим имением. Мы арендуем его у барона Штольца.
— Як вам ненадолго, — сказал Стюарт. — Проездом в Берлин. Поэтому сразу докладывайте. Как развивается операция «Аяксы»?
Хотя внутренне Старк давно готовил себя к неприятному разговору с генералом, сейчас он не без волнения рассказал о ходе операции и непредвиденных осложнениях. Почему-то перестали поступать донесения от Вышпольского, хотя вначале все шло хорошо. Казалось, русские клюнули на Мевиса.
Стюарт слушал, не перебивая. Только постукивание сухих длинных пальцев о полированную поверхность подлокотников кресла выдавало его раздражение. Когда же Старк сообщил о том, как русский агент побывал на квартире Мевиса-Клюге и посетил комендатуру, всегда бесстрастно-снисходительный шеф не выдержал и прервал его:
— Ну, это уж черт знает что! Я понимаю, операция могла по каким-то причинам провалиться. Но дать хозяйничать русским у себя в доме?! Уму непостижимо? Я начинаю сомневаться в ваших способностях, майор! Стыдно подумать, но неужели я в вас так безнадежно ошибся? Теперь я оказываюсь в идиотском положении. Меня приглашал к себе адмирал и настоятельно предлагал перепроверить данные атташе о Х-конструкции. А бы до сих пор толчетесь на месте?
Старк молчал, открывая и закрывая зажигалку.
— Хорошо, — уже более спокойным тоном сказал Стюарт, — надеюсь, вы не сидели сложа руки и подготовили что-нибудь?
Гроза миновала.
— Так точно, сэр, — встал Старк. — Разрешите, я доложу вам план операции «Гладиатор», я возлагаю на нее все наши надежды.
— Докладывайте.
Старк, вначале торопливо, а затем все спокойнее и четче стал излагать Стюарту сущность плана, который сводился к нескольким вариантам проникновения Лютце в помещение конструкторского бюро и получению материалов. Лютце давались самые широкие полномочия, вербовка служащих бюро, подкуп сотрудников. Вся остальная агентура, имеющаяся в Энбурге, будет брошена на обеспечение этой операции, на отвлечение сил работников русской контрразведки от главного действующего лица. Ради достижения цели могут даже быть некоторые потери, по за счет «мелкой рыбешки», которая подбрасывается им, Старком, в чужой водоем.
— Вы уверены, что этот Лютце справится с задачей? — строго спросил Стюарт.
Бесспорно. Его способности не вызывают сомнений. Биография его безупречна, на его счету немало подвигов, для своих прежних хозяев, разумеется. Это кадровый представитель «Черного ордена»
[29]. К тому же он человек, обуреваемый жаждой реванша и, если хотите, антикоммунист, фанатик.
— План «Гладиатор» не исключает других мер по этому делу, о чем, я надеюсь, в скором времени от вас услышать. — Генерал поднялся с кресла. — По вашей просьбе вам возвращен резидент «Лоцман»: надеюсь, он уже в деле? Предупреждаю, майор, провалы принесут вам серьезные неприятности. А теперь я погуляю в саду, пока вы пригласите меня обедать. Потом немного отдохну — и в путь…
Вкусный обед, несколько бокалов хорошего шампанского привели шефа в прекрасное расположению духа. Он мною шутил и благосклонно воспринял распоряжение Старка, чтоб ему в машину положили корзину с шампанским.
«Кажется, на этот раз пронесло», — облегченно вздохнул Старк, провожая взглядом автомобиль, увозивший генерала.
Глава восьмая
1
Две таблетки снотворного помогли: Лютце хорошо выспался. Он даже не слышал, как пришла вечером Лотта. Неторопливо оделся. У дверей Лотты на секунду задержался, прислушиваясь, не проснулась ли хозяйка: в комнате у нее все было тихо. «Тем лучше», — подумал он.
На стоянке такси, в этот ранний час пассажиров не было, и шоферы дремали в кабинах. Лютце приглядел машину поновее и без спроса сел на заднее сиденье. Шофер встрепенулся:
— Куда желаете?
— Шенебек.
Серое полотно шоссе замелькало черными заплатами недавнего ремонта. Лютце непроизвольно считал их, определяя их по шуму, когда днище кузова начинали бомбардировать мелкие камешки.
На окраине городка Лютце остановил машину и решил дальше пройти пешком. Война обошла Шенебек стороной, и глаза тут отдыхали от уже примелькавшихся картин разрушения. Уцелел знаменитый завод, который издавна поставлял для всей Европы ружейные припасы, и не менее знаменитая фабрика детских колясок. Лютце вышел на тесную площадь, в углу которой примостилась заправочная станция с красной вывеской «Крамер и сын». И сразу увидел человека, ради которого ехал сюда. Крамер рассеянно посмотрел было в его сторону, но тут же нагнулся и стал копаться в моторе автомобиля. Лютце не спеша подошел и остановился в двух шагах от него.
— Алло, Карл. Добрый день!
Крамер обернулся, светло-голубые глаза его широко раскрылись, выражая удивление и радость. И тут же он бросился в раскрытые объятия. По тому, как встретил его Карл, Лютце почувствовал: бывший приятель искренне рад встрече.
— Какими судьбами?.. А я считал — ты на Западе, — сказал он.
— Не все сразу и не так шумно, — Лютце кивнул на машину. — Сколько времени ты будешь еще копаться в чреве этого ископаемого?
— Да вообще не к спеху. Работы пустяк, — Крамер постучал ногтем в окно станции, откуда выскочил подросток. — Мой старший, — с гордостью представил он и доверительно сказал мальчику: — Займись один этим делом. Меня сегодня не будет.
— Да, папа.
Они пошли. Карл обнял Лютце за спину.
— Надеюсь, ты не забыл дорогу?..
— Нет, все помню. Вот здесь за поворотом твой дом.
— Правильно, и мы уже пришли, — Крамер открыл ключом калитку.
— Тебе здорово повезло, Карл. Все по-старому, все цело. Ого! Я вижу, даже сохранилась машина…
Поднялись по чистенькой лестнице на второй этаж.
— Посмотри-ка, Лизи, кого я тебе привел, — крикнул Крамер, пропуская вперед Лютце.
— Вы здесь? В Восточной зоне? Это действительно неожиданность, — всплеснула руками женщина. — Да еще у нас, в Шенебеке. Прошу в гостиную.
Скоро на столе появилась слегка запотевшая бутылка вина и хрустальные бокалы на тоненьких, длинных ножках. После взаимных расспросов о близких знакомых, о том, кто и где находится, Лизи, сославшись на домашние дела, ушла. Когда затихли ее шаги, Лютце пристально посмотрел на Крамера.
— Ты, конечно, понимаешь, Карл, что мое появление в Восточной зоне не вызвано одним желанием видеть тебя, хотя я очень и очень рад нашей встрече. В Энбург меня привело одно небольшое дело, разумеется, коммерческое. Для его проведения мне необходимо официально иметь место работы. Жилье у меня на первое время есть. А вот работа… Я надеюсь, ты мне поможешь?
Карл не торопился с ответом, обстоятельно обдумывая ситуацию. Наконец сказал:
— Буду откровенен. Меня совершенно не интересует, зачем ты приехал в Восточную зону и как ты намерен здесь жить. Для окружающих, если так нужно, я не знаю тебя и не знал. А работа? Пожалуйста. Я собираюсь восстанавливать заправочную станцию на автостраде Энбург — Берлин. Если хочешь, укажу тебе подрядчиков — переговоры веди от моего имени. Дам доверенность, а тем самым и свидетельство о работе. Когда приступишь к восстановлению станции, изредка, один раз в две недели, буду приезжать проверять, как идут, йела. Твоя забота — организовать.
— Лучшего не нужно. Спасибо. Однако, чтобы не возникло никаких сомнений, я попрошу тебя сегодня же дать объявление в энбургский «Морген блат», что тебе на временную работу требуется инженер-строитель. Если завтра такое объявление появится в газете, следует, что доверенность и прочие документы ты должен подписать послезавтрашним числом. И учти: человек, которого ты когда-то знал — умер. Его нет. Есть Макс Лютце. Понял? Не забудь предупредить Лизи.
— Без сомненья, тем более что это в моих интересах.
— Да, Карл, вопрос: ты знаешь здесь, наверно, всех владельцев автомобилей. Не укажешь ли человека, который может сдать в аренду машину? Я хорошо заплачу.
— Трудно, но выполнимо, — ответил Крамер. — Это будет стоить не менее ста марок в неделю.
— Ерунда. Деньги у меня есть.
— Если тебе подойдет, могу предложить свою. Она в отличном состоянии. Резина совершенно новая, мотор тоже.
— Мой бог! О лучшем я не мечтал.
Они заполнили необходимые документы для аренды машины, потом заехали в рекламный отдел газеты, сдали объявление и побывали на станции, которая подлежала восстановлению. Оттуда Лютце поехал прямо домой.
Карл не обманул: машина оказалась действительно в отличном состоянии. Лютне был доволен — день выдался на редкость удачным. И потом было приятно сознавать, что настоящие друзья всегда остаются друзьями.
Вечер Лютце провел дома, решив с утра отправиться по адресам строительных фирм, которые назвал ему Карл. Все складывалось прекрасно, у него теперь появилось надежное прикрытие, а не какая-нибудь липа.
Дожидаться Лотту он не стал, улегся в постель, уверенный на этот раз, что уснет без снотворных; возбуждение, нервная напряженность первых дней прошла.
2
— Приведите арестованного.
Фомин отметил про себя, что выглядел Мевис свежее и был чисто выбрит — успел освоиться со своим положением.
Фомин не спеша достал из ящика документы и положил справа от себя, ближе к Мевису. Тот нетерпеливо приподнялся на стуле:
— Я вижу знакомые бумаги, — изобразил подобие улыбки. — Ваша контрразведывательная служба работает исключительно оперативно.
— Спасибо. Значит, и мы, оказывается, кое-что можем…
— Справедливо, справедливо, — угодливо откликнулся Мевис. — Сначала мы считали себя умнее всех и сильнее всех. Но потом… Когда я некоторое время работал в управлении сухопутных сил вермахта, мне приходилось встречаться по службе с одним видным чиновником из Третьего ОКВ
[30]. Мы были приятелями. Однажды он по-дружески рассказал мне, что Гитлер якобы спустя несколько месяцев после начала войны с Россией признал серьезные просчеты, допущенные германской разведкой в опенке военно-экономического потенциала СССР. А он, как известно, не сомневался в нашем полном превосходстве…
— Скажите, Мевис, не этому ли вашему знакомому из ОКВ адресовано письмо, копию которого я нашел у вас в столе?
— Вы? — Мевис приподнялся на стуле. — Вы сами были у меня на квартире?! И все так просто, словно прогулка?!
— Да, а теперь сижу и спрашиваю вас. И моху передать привет от фрейлейн Эльзы, очень заботливая девушка. Прислала вам посылку. И еще вам привет от Анни, секретаря господина Старка…
— Ничего не понимаю. Уж не ваши ли это люди?
— Так ответьте насчет знакомого из ОКВ. Он?..
Мевис, не дожидаясь нового вопроса, стал рассказывать:
— С бароном Фридрихом фон Гебауэртом, высокопоставленным абверовцем из отдела «Иностранные армии Востока», я познакомился еще в сорок первом, когда начал работать на Бендлерштрассе. Представляв ему кое-какую информацию. После возвращения из Польши наша связь продолжалась. Не скрою, по его рекомендации и при его непосредственной помощи мне благополучно удалось отбыть на тот свет и вернуться обратно живым в образе Клюге, — Мевис нерешительно улыбнулся, желая убедиться, что своей откровенностью и каламбуром произвел впечатление на Фомина. Тот кивнул, дескать, продолжайте.
— Месяца за три до конца войны мы было потеряли друг друга из вида, но в мае этого года Гебауэрт напомнил о себе открыткой, пригласил встретиться.
— Встреча состоялась?
— Да, в июне в гостинице «Новый Адлон» в Мюнхене. Беседа носила дружески-конфиденциальный характер. Барон, учитывая наше старое знакомство, доверительно сообщил, что генералом Геленом — это его начальник — еще в сорок четвертом году был разработан план перехода ведущей части сотрудников отдела с архивами и картотекой в глубокое, отлично законспирированное, подполье, дабы впоследствии можно было создать ядро для возрождения германской разведки. План этот был реализован и с июня сорок пятого года с помощью американцев из ОСС
[31] начал проводиться в жизнь.
«Вот теперь ты поешь в полный голос», — удовлетворенно отметил Фомин. Мевис уже не прикидывался новичком в делах разведки, бедным, обманутым полковником.
— Какова была цель той встречи?
— Барон предложил мне оставить еженедельник и перейти работать к нему в Мюнхен, в качестве эксперта-советника по Польше. Я принял предложение Гебауэрта и тогда же доложил ему о своей связи с английской разведкой. Барон обрадовался и сказал, пусть все остается как есть, все может пригодиться, хоть главная сила сейчас Америка, на которую пока и делается ставка.
— Что еще вам предложил барон, — спросил Фомин, листая копии донесений Мевиса. — Рассказывайте подробнее, чтобы потом не возвращаться.
— Мой бог, поверьте, я ничего не пропускаю, — поспешил заверить Мевис. — Гебауэрт поручил мне подобрать подходящие кандидатуры на вербовку агентов из числа немцев с боевым военным прошлым, обслуживающих людей Старка.
— А вы вместо этого начали конфликтовать с англичанином. Ай-яй-яй, какая неосмотрительность… И кого же вы подобрали барону?
— На вилле Старка привратником некий Циске Альберт из бывшей дивизии СС «Мертвая голова», части которой несли охранную службу в концлагере Заксенхаузен. По моим сведениям, Циске лично участвовал в расстрелах заключенных лагеря. В прошлом он житель Энбурга. Садовник Мюллер Отто, железнодорожный чиновник, во время войны занимал пост начальника крупного железнодорожного узла на юге России. Не знаю, насколько это верно, семья Мюллера и сейчас живет в Стендале… Вы учитываете мою откровенность?..
Фомин, не ответив, спросил:
— Теперь о сотрудниках геленовской разведки, о лицах, связанных с нею. И еще, весьма любопытно: каким образом вам удалось заполучить фотографию боевых отсеков нашего нового танка?
— Что касается первой части вопроса… Увы, господин офицер, кроме Гебауэрта, я никого не знал. Слишком законспирированы всегда были эти люди и их деятельность.
Дверь отворилась — в кабинет вошел Кторов. Фомин поднялся ему навстречу. Мевис встал со стула:
— Добрый вечер. Сидите, — кивнул он в сторону немца. — Скоро закончите? — спросил Фомина.
— Остался один вопрос.
— Продолжайте, — полковник сел за стол, Фомин подвинул ему документы.
— Так, я слушаю вас, дальше, — сказал он Мевису.
— Это как раз тот случай, о котором мне меньше всего хотелось бы говорить: пострадает невинная девушка.
— Ерунда, — сказал Фомин. — Она знала, на что шла, если согласилась выполнять ваши задания. Не надо разыгрывать джентльмена…
— Извините. Ну, дело вообще-то было так. Около Ванцлебена дислоцируется танковая часть. Наезжал в город — кажется, это было в начале февраля, — я установил деловой контакт с девицей Урзулой Шумахер, кельнершей офицерской столовой. Дальше все было довольно банально. Это очаровательное и без предрассудков существо познакомилось с механиком-танкистом. Ну и… залезть с ним в танк для нее оказалось так же легко и просто, как… в постель. Потом она вернула мне сумочку с вмонтированным в нее фотоаппаратом и получила от меня подарок. Больше я с ней не встречался. Дело было сделано…
— Георгий Васильевич, я закончил, — сказал Фомин. — У вас будут вопросы?
— Нет.
3
Строительные материалы в городе достать было почти невозможно, Лютце пришлось объездить немало адресов, пока он сумел договориться с одной маленькой фирмой о выполнении работы. К деньгам, которые дал ему Карл, пришлось добавить солидную сумму. Это его, впрочем, не смущало, ибо достигалось главное — он получал обеспеченную реальностью работу. К тому же эта работа давала ему возможность свободно распоряжаться своим временем. Столь благоприятного стечения обстоятельств они со Старком даже не могли и предугадать, планируя его легализацию в Восточной зоне. Теперь он мог целиком посвятить себя заданию.
Несколько дней, вооружившись мощным биноклем, скрывался он в руинах домов, камень за камнем изучал двор дома, где помещалось бюро, гадая, за что зацепиться. Наконец его внимание привлекла круглая крышка сливного колодца в углу двора. «Из колодца непременно где-то должен быть выход, — подумал Лютце, — и не иначе, он соединен под землей ходом с дренажной системой». Лютце стал искать и вскоре нашел такой же колодец на параллельной улице. Ночью проверил, слазил в трубу, и то, что увидел, подкрепляло правильность его догадки: чьи-то заботливые руки предусмотрительно перегородили проход толстой металлической решеткой. Однако это не смутило Лютце: прутья можно перепилить. А тогда…
«Между сменой полицейских два часа… и, если проникнуть во двор в самом начале дежурства и убрать постовых… — мысль лихорадочно работала. — Так или иначе, документы разыскать успею. Только бы определить, в какой комнате расположен нужный сейф, в специальном он помещении или в обычном кабинете? И есть ли сигнализация? Нужно поскорее с кем-то завязать знакомство».
Он стал подбирать кандидатуру.
Наблюдая за служащими, Лютце обратил внимание на молодого человека лет двадцати пяти, который приезжал на работу в стареньком ДКВ
[32]. Тот всегда с беспокойством оглядывал баллоны, пробовал их рукой, ударами башмака. Заметив это, Лютце специально прошел мимо машины служащего и убедился, что баллоны — старые, потрескавшиеся, со стертым протектором. К концу рабочего дня Лютце подъехал к Берлинерштрассе, куда обычно от бюро выезжали машины, и дождался знакомого автомобиля, пристроился сзади. В конце улицы «Охотник», как окрестил Лютце владельца машины за тирольскую шляпу с пером, остановился у продовольственного магазина. Что-то купил. Следуя за ним дальше, Лютце по понтонному мосту переехал реку, проводив «Охотника» домой. Мало-помалу созрел план, по мнению Лютце, вполне осуществимый.
Расставшись с «Охотником», Лютце объехал несколько автостанций, и на одной ему удалось, хоть и по баснословно дорогой цене, приобрести две сравнительно новые камеры.
Теперь — надо было ждать случая. Пока же он счел своевременным проверить полученный от Старка адрес.
4
Фомин и Кторов остались одни.
— Большего он нам, пожалуй, не даст, — заметил Кторов. — Мевис выложился основательно, старался что есть сил и сам боялся запутаться. Очень хочет реабилитировать себя в наших глазах. Англичане даже не могли предположить, какой сделали нам ценный подарок. Я, однако, полагаю, что «союзнички» пронюхали о его связи с Геленом. В этом, если хотите, был свой расчет так сказать, свалить с больной головы на здоровую. А?
— Но теперь у них голова болит и за Вышпольского.
— Это, Евгений Николаевич, тоже не главный актер в труппе, хоть роль ему отводилась не малая. И беда наша, что мы не в курсе замыслов Старка, знаем лишь, что он один из главных наших противников и наметил определенный объект. Нужно искать, рассуждать и готовиться к новым операциям врага, чтобы они не застали нас врасплох. Так вот. На Гебауэрта составьте подробную справку — пусть Мевис покопается в памяти и назовет еще какие-нибудь детали, поинтересуйтесь характерными приметами, привычками и ориентируйте Центр. Деятельность геленовских подручных заслуживает пристального внимания. Завтра проведем по этому поводу совещание.
Попутно завершайте дело Вышпольского. Одна, весьма любопытная деталь. Наш врач обнаружил ее только вчера, проводя очередной осмотр. На левом предплечье Вышпольского крошечный шрам. Предполагаю, след пластической операции, дабы скрыть принадлежность к СС
[33]. Рапорт врача я вам передам.
— С Вышпольским я думаю поступить так: сфотографирую и объясню ему, что фотографию посылаю для опубликования: в польской печати на опознание по указанному им месту жительства. Психологически это должно подействовать.
— Попробуйте. Да… еще одна просьба, — уже собравшись уходить, сказал Кторов. — Пригласите к себе Денисова или зайдите к нему и предупредите, что бюро, а следовательно, и он сам, и его коллеги, находятся в сфере активного интереса английской разведки. Так прямо и скажите, пусть будут осмотрительней. И сам он особенно. Могут быть провокации. Один пусть никуда за пределы города не выезжает. Они живут в комендантском городке? Проверьте их окружение, посмотрите, кто шофер и прочее… А коллегам из Ванцлебена сообщите об этой Урсуле Шумахер. Пусть займутся ею и кстати всыпят тому любвеобильному механику.
5
Лютце разыскал нужный дом и квартиру. Дверь открыла девочка лет десяти.
— Я хотел бы видеть господина Келлера, — сказал он.
— Дяди Стефана нет дома, но он скоро придет. Если господин желает, может войти и подождать.
Он потрепал девочку по щеке и вошел в квартиру.
— Пожалуйста, сюда, — она проводила его в небольшую, уставленную дорогой мебелью, аккуратно убранную комнату. — Садитесь, — маленькая хозяйка, явно подражая кому-то из взрослых, предложила ему журналы и ушла.
Лютце стал листать журналы. Прошло добрых полчаса, прежде чем хлопнула входная дверь, и раздался голос девочки:
— Дядя Стефан, вас ждет какой-то господин. Я пригласила его в комнату.
— Молодец, Лу. Я зною, ты по ударишь в грязь лицом. Интересно, кто же забрался в нашу берлогу? — При этих словах дверь широко распахнулась, и в комнату вошел высокий, грузный человек. Сощурился и заметил: — Мы, кажется, раньше не встречались. Чем обязан вашему визиту?
— Добрый вечер, господин Келлер, — поднялся со стула Лютце. — Привет от дяди Боба, — и тихо добавил: — «Дункель».
Хозяин строго, оценивающе взглянул на гостя и мягко, нараспев произнес:
— Вечер добрый. Спасибо за привет. Как здоровье дяди?
— Ничего, здоров. Кто есть в квартире, кроме девочки? Можно ли здесь продолжать разговор?
— Вполне. Кроме моей племянницы — никого. Можете говорить.
— С этого часа вы, Келлер, поступаете в мог распоряжение и будете выполнять только мои указания. Ясно?
— Так точно, — по-военному вытянулся «Дункель». — Извините, господин…
— Лютце. Макс Лютце… Вы по-прежнему работаете там же?
— В гараже советской комендатуры.
— Я это имел в виду. Кого сейчас обслуживает гараж?
— Машины в большинстве разгонные: куда пошлют. Ну, а если подробней, приходится бывать в распоряжении акционерных общести, военторга, Дома офицеров, на промышленных объектах, в бургомистрате. Пожалуй, все… Старший офицерский состав комендатуры ездит на персональных машинах. Правда, иногда нам приходится возить командированных сюда, тех, кто приезжает из других городов…
— Стоп, — Лютце поднял руку. — Вам не знакома фамилия — Денисов? Он не так давно прибыл сюда из России.
— Господин Денисов? Как же, знаю, несколько раз возил. И с ним еще какого-то Виктора, постарше. Последний раз — вчера утром.
— Расскажите, и поподробней. Что вам о нем известно?
— Русский, как и все, вежливый, любопытный, не жадный — угощает сигаретами. Вполне прилично владеет немецким. Можно с ним поболтать. Внешне?.. Высокий, широкоплечий, человек еще молодой, — дополнил после некоторого раздумья «Дункель». — В общем, приятный парень. Все, пожалуй.
— Как насчет шнапса? Посещает кафе, варьете? Не интересовался ли женщинами?
— Обедают они, как правило, в ресторане Дома офицеров. Чтобы они пили, я не замечал, хотя однажды завозил Денисова в военторг, где он покупал вино. Вчера спрашивал, далеко ли до Лейпцига, как я понял, собирается в следующее воскресенье ехать туда на экскурсию.
— Может быть с вами?
— Обычно в таких поездках используется автобус.
— Вы смогли бы сделать фотографию Денисова?
— С фотографией знаком, и у меня есть фотоаппарат. Но в общем-то я так, любитель.
— Когда вас вызывают на работу?
— Советские учреждения начинают с девяти. Я прихожу в гараж; к восьми, чтобы подготовить машину.
— Завтра утром в половине восьмого встретимся на углу, около военторга, это, насколько мне известно, недалеко от вашего гаража. Получите камеру, которой легко и незаметно сможете сделать фотографии Денисова и его коллеги. Тот нам тоже может пригодиться. Постарайтесь почаще ездить с этими «товарищами», особенно с Денисовым.
— Но это от меня не зависит.
— Старайтесь понравиться, и будут чаще вызывать вас. Запоминайте все до последних мелочей. Жаль, что вы не знаете русского. Если до воскресенья не успеете сфотографировать Денисова, может быть, вам придется выехать в Лейпциг. Но это разговор особый. Вот пятьсот марок, позже получите еще.
— Благодарю, господин Лютце, — сказал Келлер. — Все будет выполнено.
— Тогда до завтра. Провожать не нужно — найду дорогу сам.
«С «Дункелем» удачно, — рассуждал Лютце, шагая по улице. — И если действительно русский конструктор собирается в Лейпциг, надо убедить Лотту поехать и познакомиться с Денисовым. Только бы зацепиться за него, а там… И этот «Дункель» производит отрадное впечатление: из тех, кто всегда готов участвовать в любом деле. Одним словом, пока все гладко. Но одному становится трудновато. По времени, сегодня должен появиться Пауль. Тогда он возьмет на себя часть забот. Надо проверить, если приехал, он меня уже ждет».
В баре было многолюдно. Хаазе сидел у стойки спиной к двери, но это не помешало ему в зеркальной стенке буфета увидеть Лютце, который сел за отдельный столик в дальнем углу зала.
— «Мартини» вот за тот столик, — бросил он бармену и направился к Лютце.
— Почему такая недовольная мина, Макс, или вы не рады моему приезду? А я — то, старый дурак, спешил, как новобранец на первое свидание с Гретхен.
— Зачем так поспешно и открыто, Пауль. Не надо забывать…
— Бросьте учить своего бывшего наставника. Я пришел раньше и достаточно хорошо огляделся.
Кельнер поставил перед ними «мартини», бокалы и бутылку «брамбаха».
— Я остановился здесь, — сказал Хаазе. — Может быть, поднимемся ко мне?
— Здесь вполне уютно, и, я надеюсь, нам не помешают. Ждал тебя с нетерпением. И сразу введу в курс дела. О себе: легализовался, имею отличную крышу, под которую при нужде могу устроить и тебя. В активе два помощника — люди Старка. Один «Дункель», оставляет хорошее впечатление. Второй, вернее, вторая — не очень. Но, я надеюсь, вес образуется. Задание мое ты знаешь, поэтому слушай короткий отчет. Наметил одного парня из служащих бюро. Если не сорвется, в воскресенье с ним познакомлюсь. Установлю, чем он занимается, чем дышит, попробую прибрать к рукам. Кроме того, совсем неожиданно удалось выйти на русского инженера. Я тебе о нем говорил.
— Минутку, Макс, — перебил его Хаазе. — Человек, которого Старк направил для попытки внедрения в бюро, надо думать, провалился.
— Жаль, я все же питал надежду его разыскать тут. А может быть, это к лучшему; Я не очень-то доверяю людям, которых готовил не сам.
— Тоже верно. Теперь растолкуй своему старому приятелю, какую роль ты отводишь мне?
— Если намеченная мною вербовка сорвется или парень окажется неподходящим, а выбирать, откровенно говоря, не из чего и нет времени, тебе придется помочь мне проникнуть в бюро самому. Скорее всего мы сделаем это смеете.
— Сделаем.
— Я буквально разрываюсь на части. В будущее воскресенье, как выяснил, этот русский собирается на экскурсию в Лейпциг. К сожалению, не один, а с компанией. Я намереваюсь подставить ему Лотту — это агент Старка и моя квартирохозяйка. Сегодня я дал задание «Дункелю» сделать его фотографии. Если это удастся до воскресенья, вы поедете с Лоттой в Лейпциг. Там она попробует познакомиться с русским прямо на экскурсии.
— А машина с западным номером? И слишком шикарна.
— Машину для этой цели достанем. Ты знаком с Энбургом?
— Не очень, — ответил Хаазе.
— Завтра тебе было бы не лишне как следует осмотреться. Бомбежки принесли много изменений. Нам обоим необходимо хорошо знать город. Я дам тебе и адрес нашего главного объекта. Приглядишься попристальней. Возможно, я что-нибудь упустил.
— Когда встретимся?
— Завтра вечером. Только не здесь, чтобы не примелькаться. Лучше в ресторане главного вокзала, и добираться мне туда ближе. Я расскажу, что удалось сделать, и вместе подумаем о дальнейшем.
— Вот именно, Макс, о дальнейшем. Вашего теперешнего хозяина и всех этих англичан, французов, даже американцев будем считать временными. Они заботятся о себе, мы — о себе. Наш шеф просил помнить это и передал тебе пожелание успехов.
— Дорогой Пауль, — задумчиво проговорил Лютце. — Только так, и не иначе.
6
— Все очень просто. Наводите на объект и нажимайте вот здесь.
— Не беспокойтесь, господин Лютце, я понял. Будет исполнено. — «Дункель» положил крошечную, чуть больше спичечной коробки, фотокамеру в боковой карман.
— Когда кончаете рабочий день?
— Обычно в пять. Иногда приходится немного задерживаться.
— Нет ли у вас на примете человека, который дал бы на прокат автомобиль на день — другой?
— Были бы деньги.
— Позаботьтесь, чтобы к воскресенью машина была. Пусть хозяин даст доверенность на имя… Нет, имя мы подставим сами. Помните, главное — мне крайне необходима фотография Денисова. И еще — желательно получить хотя бы грубый план комнат в здании бюро. Это возможно?
— Попытаюсь. Неделю назад там работали маляры — одного я знаю.
— Завтра между шестью и семью часами вечера жду вас в старом парке у беседки Аполлона. Знаете?
— Я коренной энбуржец, — ответил «Дункель».
У Лютце чуть было не вырвалось: «Я тоже», но он вовремя остановил себя. «Дункелю» знать этого не надо.
— Если по каким-либо причинам не смогу прийти, ждите здесь же послезавтра, — строго сказал Лютце. — Вот вам еще двести марок, на машину. До завтра.
«А теперь нужно подготовиться к встрече с «Охотником», — подумал Лютце, когда «Дункель» скрылся за углом. — Теперь важен темп. Темп в сочетании с расчетом. Не следует терять драгоценное время, нужно готовить сразу все варианты. Хоть у русских, кажется, есть пословица «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь», но в данном случае не следует упускать из поля зрения ни одного «зайца», чтобы в нужный момент поймать самого глупого»…
7
«Дункель» довольно хмыкнул в кулак и достал из кармана аппарат и сложенный вчетверо листок тонкой бумаги.
— Здесь Денисов и план расположения комнат бюро. Узнал про экскурсию — русские собираются выехать в воскресенье в девять. Хотят как будто посетить памятник Битвы народов. Автобус принадлежит русской контрразведке.
— Контрразведка, говорите, — щека Лютце нервно дернулась. — Ну что же, не отказываться же нам… Машина нужна к восьми.
— Если хотите, она будет сегодня.
— Пожалуй, так даже лучше. Вечером подгоните ее к варьете «Вибо». Вы хорошо поработали, Келлер. Я доволен, — он достал конверт. — Здесь триста… Вы не заняты в воскресенье?
— Отдыхаю.
— Нет, отдыхать вам не придется. Утренним поездом выедете в Лейпциг. Надо успеть попасть к памятнику раньше «наших экскурсантов». Проследите, с кем будет Денисов. Только сделайте так, чтобы ни они, ни другие вас не увидели. Вы понимаете?
— Понятно, господин Лютце.
— Когда русские поедут назад, не задерживайтесь. Мне будет нужен результат ваших наблюдений. До вечера.
— До вечера, — поклонился «Дункель».
Теперь Лютце не терпелось посмотреть, что же наснимал «Дункель». Лотта была дома и уже собиралась в свое кафе.
— Вы не возражаете, если я ненадолго займу кухню? — спросил Лютце.
— Пожалуйста. На сколько угодно. Мне пора уходить.
— Когда вы рассчитываете быть сегодня дома?
— А в чем дело?
— У меня к вам небольшой, но серьезный разговор. По возможности не задерживайтесь и возвращайтесь пораньше. Я буду ждать вас.
— Если меня ничто не задержит, я вернусь, как обычно.
— Лучше, если без «если», — бросил Лютце. Заперев дверь кухни, он опустил жалюзи и принялся колдовать над пленкой.
Давненько ему не приходилось самому заниматься этой работой. Да и условия были далеко не идеальные. Однако труды увенчались успехом, и часа через два он имел несколько довольно приличных фотографий Денисова.
«А этот русский инженер действительно симпатичный парень, «Дункель» прав», — отметил Лютце, разглядывая липкие снимки. Он разложил их на бумаге, чтобы они быстрее высохли, и стал ждать Лотту. Приготовил к заварке кофе, расставил приборы.
Она вернулась даже несколько раньше обычного. Молчаливая и встревоженная, «Ждет разговора», — заключил Лютце, приглашая ее к столу.
— Надеюсь, кофе снимет усталость и поможет вам быть предельно внимательной.
Лотта послушно села к столу, отхлебнула кофе и поставила чашку, давая понять, что она готова слушать.
— Пришло время, Лотта, — сказал Лютце, — выполнить обязательство, данное вами в свое время господину Старку…
— Никаких обязательств вообще-то не было, — тихо ответила она, опустив голову. — Он просто помог мне…
— В поручении, которое я вам дам, — словно не услышав ее слов, продолжал Лютце, — ничего сложного нет. Особенно с вашей внешностью.
— Зачем же так? — Она сделала протестующий жест.
— Вот фотография человека, — Лютце строго на нее посмотрел. — Вам нужно будет с ним познакомиться и затем постараться закрепить знакомство. — Лютце видел, как бледнеет Лотта. — Этот человек — русский. Инженер Денисов Виктор Сергеевич. Говорят, весьма славный парень и умница. Так что вы ничего не потеряете…
Он ободряюще улыбнулся. А Лотта еще сильнее побледнела, съежилась, словно or холода.
— Успокойтесь. Все ровно отступить вам нельзя! — жестко сказал Лютце. — Завтра утром, без четверти девять, тут рядом, на Ауэрштрассе, вас будет
ждать машина. Шофер доставит вас в Лейпциг. Туда же должны приехать на экскурсию Денисов с группой русских. Для знакомства с ним есть очень простой и, мне кажется, безотказный способ…
— Что все это значит? — вырвалось у Лотты.
— То, что вы слышите. И хватит эмоций. Слушайте дальше: они пойдут осматривать памятник Битвы народов. Вы последуете туда же, а когда окажетесь рядом, я имею в виду Денисова… Не мне, впрочем, учить вас, как это делается, когда женщина хочет познакомиться и очаровать. Ну, черт возьми: уроните платок, сумочку, оступитесь, вскрикните… Пусть он поспешит вам на помощь. Или еще что-нибудь придумайте. Вы же актриса. Вернетесь на той же машине. Да, возьмите себя в руки! — Лютце встал из-за стола. — Честное слово, я считал вас разумнее и смелее. Сидите и думайте. А я сейчас уйду. Меня не ждите. Завтра вечером я сам найду вас. Но запомните, — в голосе его слышалась угроза, — срыва не должно быть. Вы меня поняли?..
Она молча кивнула.
— Ну вот. Так-то лучше.
Даже тогда, когда он фамильярно потрепал ее по щеке, она не протестовала, а лишь снова послушно кивнула.
— Не забудьте, без четверти девять…
8
Лютце вошел в огромное и полупустое кафе главного вокзала. Отыскал глазами Хаазе. Подсел к нему. Убедившись, что за соседними столиками никого нет, достал фотографии.
— Вот Денисов.
— Приятное лицо. А? Его бы живым, да с собой. Помнишь, как тогда со Скорцени в Италии. Только тогда мы спасали своего. — Вскинул брови. — Увы, не те времена. Вернее, не времена, а противник.
— Да, — у Лютце дернулась щека. — То было дело экстракласса. Оно еще войдет в историю. — Лютце посмотрел на часы. — Через полчаса встречаюсь с человеком, который пригонит тебе машину. Ты — шофер. Тебе заплатили, и ты едешь. И все.
— А как Лотта?
— Я говорил с ней. Пауль, ты должен знать: я ей не очень-то доверяю, поэтому осторожней. Но лучшего ничего нет. Имей в виду — автобус, на котором поедут экскурсанты, принадлежит русской контрразведке. Денисов их гость. Неплохое начало для игры в кошки-мышки. Но согласись, преимущество на нашей стороне: мы знаем, что нам нужно, а они о нас, надеюсь, не догадываются. Во всяком случае не знают в лицо. Предстоящую операцию условно назовем «Лейпциг». Как ты думаешь, стоит сообщить о ней Старку?
— Это не повредит, а еще больше поднимет тебя в его глазах: не сидишь сложа руки…
Глава девятая
1
В воскресенье с первыми лучами солнца Лютце занял свой наблюдательный пост неподалеку от дома «Охотника». Прошел час. Город просыпался, улицы начали оживать, появились пешеходы, машины, а нужный ему человек все еще не показывался. «Неужели так и проторчит все воскресенье в своем курятнике», — злился Лютце.
Когда он уже терял терпение, «Охотник» наконец вышел из дома в своей неизменной тирольской шляпе, вывел из гаража машину и поехал к центру. Лютце последовал за ним.
На углу Берлинерштрассе и Лейпцигерштрассе «Охотника», как выяснилось, ждала молодая симпатичная женщина. Он подсадил ее рядом в кабину и по набережной повел автомобиль к пляжу. Не останавливаясь, уверенно проскочил до лесной опушки, видимо, в знакомое, давно облюбованное место в тени деревьев.
«Ну что ж, купаться, так купаться», — про себя проговорил Лютце, проехал чуть дальше и укрылся под старым широколапым дубом, выбрав точку, из которой ему было удобно наблюдать за парочкой. Молодые люди вышли из машины уже в купальных костюмах, взявшись за руки, как дети, побрели на песчаную отмель реки.
«Пора!» — решил Лютце, когда те забрались в воду. Через кустарник по тропинке он вышел почти к самой машине «Охотника». Вокруг — никого. Три быстрых шага, пригнулся, и вот уже несколько крошечных проколов в баллоне — гарантия, что скоро отсюда парочка домой не доберется. И тогда… Тогда «Охотник» может с радостью принять его «помощь». Если, конечно, у него не найдется запасной камеры…
Лютце вернулся к своей машине, сделал два небольших глотка коньяку, разделся, постелил коврик, улегся на нем и задремал.
Не без труда удалось ему стряхнуть с себя теплую, тягучую лень; посмотрел туда, где стояла машина «Охотника». Ну вот и свершилось: тот сидел на корточках и безуспешно пытался отыскать причину беды. Купание смыло остатки сонливости. Выйдя из реки, Лютце повалился на горячий песок и тут же увидел, что «Охотник» направляется к его автомобилю. «Рыбка плывет в сети. Значит, пора и мне на сцену». Лютце, отряхивая песок, пошел к машине.
— Хелло! Геноссе! — окликнул его «Охотник». — Послушайте, у меня неприятности. Баллоны, знаете ли… Наверное, от жары отошли заплатки. Старые. У вас нет запасной камеры? Взаимообразно, разумеется. Мне бы только доплестись до Энбурга…
— Считайте, вам повезло, — участливо отозвался Лютце. — Вчера раздобыл пару камер. Сами знаете, какая это удача в наше время. А еще у меня есть и запасное колесо… Сейчас взгляну, захватил ли я его.
Лютце открыл багажник и радостно крикнул:
— Эй! Как вас…
— Вернер Факлер, инженер.
— Вот что, Вернер, берите баллонный ключ и отворачивайте колесо сами. А вот вам и запасная камера.
Скоро Вернер стоял перед Лютце с запасным колесом и камерой, не зная, как вести себя дальше со столь любезным, неожиданным спасителем.
— Как я вас разыщу?
— Визитных карточек при себе нет. Придется запомнить: Макс Лютце, строитель-подрядчик. Впрочем, лучше дайте мне ваши координаты. Я разыщу. — Он достал карандаш и блокнот. Факлер продиктовал уже знакомый Лютце адрес.
— Может быть, я оставлю вам расписку, — предложил он.
— Я вам доверяю. Сразу видно интеллигентного человека. Ну, что мы стоим? Кладите все в машину и поехали к вашему кабриолету.
— Большое спасибо. Вы так меня обяжете… — рассыпался в благодарности Факлер.
Скоро общими усилиями машину его привели в порядок, после чего все вместе пошли к реке смыть пыль и грязь, окунуться еще разок перед отъездом.
— Ну что ж, время к обеду, — стал торопливо прощаться Лютце. — Голоден как волк, мечтаю где-нибудь поскорее перекусить. Только не решил, где это лучше сделать?..
— Можно и сообща, — оживился Факлер. — Вы не против? А что ты на это скажешь, Берта?
— Я «за», — улыбнулась девушка.
— Прекрасно, — сказал Факлер. — Есть тут отличное заведение, где вкусно готовят.
2
Все, кто хотел ехать в Лейпциг, собирались у большого автобуса. Его к восьми часам утра подогнали к воротам отдела. День обещал быть жарким. Высоко в светло-голубом небе застряло несколько белых облачных барашков. Будто испугавшись высоты, на которую забрались, они боялись шевельнуться. Ветер еще не проснулся, и стояла ласковая тишина, пряно пахло отдохнувшей за ночь зеленью.
Подошли две легковые машины. Одна привезла работников комендатуры, из другой вышли Енок с женой, его секретарь Августа и вахмайстер Бухгольц. Их пригласил на экскурсию Фомин и теперь поспешил навстречу, оставив на попечение Скитальца пограничников Рощина и Петрова.
— Ну, вот и чудесно, все в сборе, — подошел к автобусу Кторов. — А где главный экскурсовод?
— Здесь я, — отозвался Гудков.
— А наших гостей я знаю не всех, поэтому представляюсь: Кторов Георгий Васильевич.
В ответ послышались фамилии, имена.
— Денисов Виктор, — и после секундного колебания, — Сергеевич.
— Слышал и рад познакомиться. — Кторов пожал руку молодому человеку, который сразу же ему понравился: высоколобая голова с густой каштановой шевелюрой, приятный мягкий овал лица, задумчивые серые глаза, ладная, крепкая фигура, уверенные движения.
— Приветствую вас, геноссе Георгий, — подошел Енок, представил полковнику жену и сослуживцев.
Кторов и Гудков, согласившись быть гидами, сели впереди, около шофера. Как только автобус вырвался за город, Кторов сказал:
— У нас, друзья, полтора часа в запасе. Давайте в дороге вспомним, что нам известно о Лейпциге, его прошлом. Пусть каждый скажет, что он знает. Итак: в каком году был основан город?..
В автобусе воцарилась тишина.
— Ну, начинайте вы, что ли, Павел Николаевич, — обратился Кторов к Гудкову. — Выручайте команду.
— Если верить историкам, примерно пять тысяч лет назад, здесь, в междуречье Плайсе и Эльстер, селились первые люди каменного века. А тысячу лет назад возникло поселение. Примерно в середине двенадцатого века оно превратилось в город.
— Кто следующий?
Краснея от смущения, руку подняла Шурочка Александрова.
— В Лейпциге, — сказала она, — дважды в год, весной и осенью, проводятся известные всему миру ярмарки.
— Верно, хорошо, — поддержал Гудков. — Кто еще?
— Теперь разрешите мне, — встал Кторов. — Условимся так: дальше каждый будет рассказывать все, что он знает о памятниках, которые мы увидим. А сейчас, друзья, мы проезжаем пригород Лейпцига — Пробстхайд. Здесь неоднократно бывал Владимир Ильич и здесь в тысяча девятисотом году вышел первый номер ленинской «Искры». Лейпциг был одним из важных центров рабочего движения Германии. Здесь создавали свои труды Август Бебель и Вильгельм Либкнехт. Здесь родился выдающийся немецкий революционер Карл Либкнехт.
Шоссейная дорога втянулась в большом, шумным город, где улицы и дома напоминали о недавней жестокой войне.
— Это главный Лейпцигский вокзал, — принял у Кторова эстафету Гудков. — Строился он тринадцать лет: с девятьсот второго по девятьсот пятнадцатый. Длина здания более трехсот метров. Вокзал, крупнейший в Европе, тупиковый — к нему подходит двадцать шесть путей.
А это — Старая ратуша, — продолжал он, когда автобус выехал на площадь. — Здание построено в середине шестнадцатого века под наблюдением архитектора Лоттера. Дальше видно здание Старой биржи, ему лет триста.
— Разрешите добавить, — попросил Енок, сильно, по-берлински грассируя. — Я на немецком, ничего?
— Конечно, конечно!..
— Строительные леса закрыли нам прекрасный памятник великому немецкому поэту Гете, — сказал Енок. — Он был студентом Лейпцигского университета. Налево Медлерпассаж и всемирно известный ресторан «Погреб Ауэрбаха». Смотрите, две скульптурных группы… Узнали?.. Нет?.. Одна — Фауст и Мефистофель, а другая — заколдованные студенты…
Теперь смотрите сюда — церковь Томас-Кирхе — тринадцатый век. — И Енок перешел на русский. — В ней — прах самый великий музыкант и композитор Германии Иоганн Себастьян Бах! — при этом Енок многозначительно поднял палец, и все зааплодировали, выражая благодарность рассказчику.
— Прибываем, друзья, — поднялся Гудков. — Мы въезжаем на туристскую площадку перед памятником Битвы народов. Он воздвигнут в память разгрома под Лейпцигом в октябре 1813 года французских войск. Строился с 1900 по 1913 год на средства стран-участниц битвы. Высота памятника — девяносто один метр, внутри есть символическая усыпальница, зал славы, наверху — площадка, с которой просматриваются окрестности. Проход на площадку по лестнице, которая находится внутри стены памятника. Дальше увидите сами. Пожалуй, все…
— Давайте решим, сколько будем находиться здесь. Как, часа хватит? — спросил Кторов.
Все согласились.
— Тогда собираемся здесь в двенадцать тридцать. Пойдем еще осматривать русскую церковь.
Сначала шли все вместе, но скоро, как это обычно бывает на подобных экскурсиях, распались на маленькие группки…
3
Ресторан назывался «Черный медведь». В зале было уютно и немноголюдно. Пока Факлер заказывал обед, Берта привела себя в порядок, слегка припудрилась, подкрасила губы, а Лютце любовался окружающим пейзажем: ресторан стоял на высоком берегу реки, и веранда, сплошь увитая диким виноградом, буквально висела над ней. От реки тянуло приятной прохладой.
— Прекрасно, — вслух одобрил Лютце и ресторан, и окружающий его пейзаж, а за одно — удачу свою. Все получилось как он того желал. — Прекрасно, — повторил он, отпив глоток из бокала…
Обед получился шикарным, а бутылка крепкого столового вина настроила на веселый лад. Лютце заказал кофе и коньяк, а для Берты — ликер. Со стороны могло показаться, что они давние и близкие друзья, таким легким и непринужденным был разговор. Они шутили, смеялись, вспоминали всякие веселые истории из жизни автомобилистов. Постепенно начало темнеть. Загадочным стал недалекий лес. Из-за него взошла большущая оранжевая луна.
— Еще по двойной порции коньяку и ликер для фрейлейн, — распорядился Лютце.
Вернер стал было отказываться, но Лютце получил поддержку Берты, которая сказала, что вечер чудесен иона с удовольствием посидит еще часок. Коньяк начинал действовать на Вернера, он стал многословным. Лютце исподволь наблюдал за ним. Но слишком мало они были знакомы, чтобы без опаски спрашивать о работе и делах. «Не торопись, — останавливал он себя, — не то-ро-пись». И все же Лютце был доволен: он достиг главного — познакомился с нужным ему человеком.
Уплатив свою долю за обед, Лютце отвел все попытки Факлера вместе с ним рассчитаться за коньяк и ликер. Тогда инженер стал приглашать в гости.
— Послушайте, Вернер, мне хочется еще немного посидеть тут. И пожалуй, не стоит сейчас ехать к вам, — он многозначительно посмотрел на Берту. — Еще одна запасная камера, на всякий случай, у меня есть. Если не возражаете, завтра вечером заеду.
— Конечно, Макс. Я буду дома около пяти часов, — сказал Факлер. — Приезжайте.
Новые знакомые расстались друзьями.
4
Лотта откинулась на спинку сидрнья и отрешенно смотрела на дорогу. Крупный заяц, большими скачками перебежавший автостраду, сел на обочине на задние лапы и, поводя длинными ушами, зачарованно смотрел вслед машине. Лотта повернула голову и следила за живым серым столбиком, пока его не скрыл поворот. Она не заметила, как машина въехала в город, и очнулась, лишь когда молчаливый всю дорогу шофер сказал:
— Вон там, видите, — это и есть знаменитый памятник, куда мне приказано вас доставить.
— Спасибо. Ждите меня тут. Я скоро вернусь… Ну, что-нибудь, через час.
— Слушаюсь. Мне все равно: уплачено за весь день.
Неподалеку стоял автобус. Он только что подошел: из него, неторопливо разминаясь, выходили пассажиры. Лотта из-за машины наблюдала за шумной, веселой группой, в центре которой кто-то что-то объяснял. Потом группа направилась к памятнику, рассыпаясь по пути на небольшие компании. Тогда Лотт увидела его — цель своей поездки. «Пора», — подумала она и тоже пошла к памятнику.
Сначала Денисов и его спутники кружили внизу, задирали головы, шумно делясь впечатлениями. Лотта держалась в отдалении, считая более удобным приблизиться к русским, когда они войдут внутрь. В той же компании она определила нескольких немцев.
Ей вдруг стало страшно: «Боже мой, что я такого сделала, почему я должна слепо повиноваться этому Лютце?» — И тут же вспомнила но стальные, беспощадные глаза, властный голос. Нет, сейчас она выполнит то, что он велел.
Экскурсанты вошли в зал славы. Служитель предложил подняться на вершину памятника, предупреждая, что подъем не из легких, что туда ведут несколько сотен крутых ступенек, и если у кого больное сердце, то лучше остаться внизу.
Лотта приблизилась к группе и поймала на себя взгляд Денисова. Чтобы как-то отвлечься от неприятных мыслей, она стала усердно занимать себя осмотром памятника, его очень оригинальной внутренней отделкой. Потом случилось так, что Денисов оказался рядом — он шел так близко, что она ощущала его дыхание на затылке, а когда действительно оступилась, он поддержал ее за локоть. Потом были ступеньки. Много каменных ступеней. Тяжело дыша, люди вышли на небольшую площадку. Наверху было тесно.
Лотта облокотилась на каменный парапет. Вокруг лежал большой разноцветный город. За домами и пустырями, в районах, особенно пострадавших от войны, зелеными холмиками вставала пышная зелень — пустыри заросли бурьяном, скрывая руины. Она посмотрела вниз. От подножья памятника лучами расходились аллеи, по которым медленно ползли похожие на букашек люди, а серые ленты шоссе были заполнены машинами, величиной со спичечный коробок.
Голова закружилась. Высота начала манить, затягивать… В ушах зазвучали слова Лютце: «Уроните платочек… Вы же актриса… Не мне вас учить…» Не отдавая себе отчета, она оттолкнула перила и стала как-то боком опускаться на площадку.
— Вам плохо? — Сильные руки подхватили ее.
— Спасибо, — Лотта закрыла глаза. Головокружение прошло. Только не проходил леденящий страх от мысли, что кто-то незримый, могучий, как гетевский Мефистофель, руководит событиями: она должна была охотиться за человеком, а он, этот человек, сам шел ей навстречу и все время оказывался рядом.
— Давайте я помогу вам сойти вниз, — по-немецки, не сразу находя слова, сказал Денисов. — Идите за мной и держитесь за плечо.
Он шел медленно, чтобы Лотта не оступилась, а внизу проводил к скамейке.
— Извините… По моей вине вам не удалось полюбоваться городом, — проговорила Лотта.
— Ничего, — Денисов сел рядом. — Я успел все рассмотреть. Теперь только бы не разминуться с товарищами. Есть здесь еще русская церковь. Говорят, это очень интересно…
— Не знаю. Я тоже приехала на экскурсию и здесь впервые. Я из Энбурга.
— Я тоже из Энбурга. А вообще я из России, москвич. Понимаете? И кажется, я где-то видел вас раньше?
— Возможно, в ресторане на Гаубтдштрассе. Я выступаю с «Голубым джазом».
— Очень может быть. Я однажды ходил туда с приятелем. О-о! Конечно! Теперь обязательно зайду еще раз.
— Заходите, буду рада. Завтра приходите. Я спою что-нибудь специально для вас. — Лотта чувствовала неловкость, сознавая, что этот человек все больше ей нравится, и происходящее совершенно не вязалось с внутренним протестом, который она ощущала, отправляясь в Лейпциг. — Ну вот, спасибо, мне стало лучше. А вам пора идти, а то разминетесь со своими друзьями.
— Да вон они, — показал Денисов вслед удалявшейся группе и встал. — Ну что же, не премину воспользоваться вашим приглашением…
— Как и памятник Битвы народов, — догоняя группу, услышал Денисов голос Гудкова, — церковь святого Алексия открыта в столетний юбилей сражения при Лейпциге, в память о погибших здесь двадцати двух тысячах русских солдат и офицеров. Построена эта жемчужина русского зодчества по проекту архитектора Покровского, безвестными российскими умельцами. Средства собрали благодарные потомки. Какой-то эсэсовский генерал приказал ободрать позолоту с купола, но теперь ее, как видите, восстановили. Внутри — богатая роспись, иконостас, боевые знамена частей, участвовавших в сражении.
Привлеченные рассказом, к группе Гудкова присоединилось несколько советских военнослужащих. Один из них спросил:
— Простите, вы не скажете, к какому стилю относится эта постройка?
— Отчего же, — улыбнулся Гудков, — церковь построена в московском стиле и напоминает храм Вознесения. Вопросы еще есть? — Он оглядел экскурсантов. — Нет, тогда пройдемте внутрь. Обратите внимание на иконостас, — продолжил он, когда слушатели собрались около него. — Высота иконостаса восемнадцать метров. Вся роспись выполнена московским мастером Емельяновым, учеником Васнецова. Часть его написана в древнерусской манере, часть — копии с икон, написанных в разное время самим Васнецовым. Теперь кто хочет пусть пройдет поближе и рассмотрит роспись, а затем можно спуститься в цокольную часть, где захоронены несколько героев этой битвы.
5
Независимо от результатов знакомства с Факлером и того, чего добьется Лотта, Лютце решил не откладывать попытки проникнуть в конструкторское бюро.
В тот же воскресный вечер он задумал произвести глубокую разведку. Заехал домой. Лотта еще не вернулась, и, как не интересно было ему узнать о результатах поездки в Лейпциг, ждать ее не стал, погнал машину по темным улицам. Фонари восстановили лишь там, где дома были целы, редкие прохожие освещали себе путь фонариками. Лютце остановился в заранее присмотренном месте — точно над крышкой сливного колодца. Не выходя из машины переоделся в легкий комбинезон и резиновые сапоги. Наклеил на переднее стекло белый кружок со знаком красного креста — так спокойнее, кто будет обращать внимание на автомашину врача — ночной вызов.
Достал саквояж с инструментами, лопатку и фонарь, крючком приподнял крышку, отодвинул ее в сторону. Потом вполз под машину и стал спускаться в черный провал колодца. Сырые, остро пахнущие ржавчиной скобы выскальзывали из рук, ноги то и дело срывались. Наконец он достиг дна и только тогда зажег фонарь: в стороны от колодца расходились огромные трубы-коридоры, наполовину заполненные затхлой зловонной жидкостью. Он определил направление и пошел, едва вытягивая ноги из грязи, вот и знакомая уже решетчатая дверь. Прежде чем приступить к работе, закурил: несколько глубоких затяжек — и окурок сигареты с шипением шлепнулся в воду.
Дело оказалось сложнее, чем он предполагал, — прутья, толщиной в палец, были из твердой стали, такой же оказалась и дужка замка, которую он решил перепилить. Сюда почти не поступал свежий воздух. Лютце делал частые передышки, от непривычной работы, повторения одних и тех же движений сводило руки. Наконец дужка поддалась и лопнула под нажимом вставленного внутрь напильника. Он стащил замок со скобы. Взглянул на часы: перепиливание заняло более пятидесяти минут. Стал отгребать песок и мелкие камни, мешавшие открыть дверь. Комбинезон отсырел, и казалось, что смрадная жижа, просочившись под него, обжигала тело. От затхлого, застоявшегося воздуха к горлу подкатывалась тошнота, и он чувствовал — еще немного и его начнет рвать.

Наконец, дверь удалось отодвинуть и Лютце протиснулся в щель. Через несколько шагов в свете фонаря он увидел над головой жерло невысокого колодца. «Тот ли?» Полез вверх и осторожно, плечами приподнял чугунную крышку. Да, расчет оказался верным, колодец был тот самый — в глубине двора конструкторского бюро. На фоне ночного неба он узнал контуры здания и удовлетворенно отметил, что густой кустарник хорошо скрывает его от полицейского в проходной будке.
«Ну что ж, на сегодня хватит», — подумал Лютце, опустил крышку и пошел назад…
6
По дороге домой Фомин и Денисов в автобусе сели рядом. Сначала был разговор об увиденном за день, о замечательных памятниках этой страны, о великих ее людях, трудолюбивом и талантливом народе, давшем человечеству так много гениальных; творении. Речь шла и о недавней войне, принесшей столько бед и разрушений Европе.
Низко над землей перед самым автобусом пролетела стайка куропаток. И тут же охотники принялись спорить о ружьях. А Фомин и Денисов вдруг выяснили, что оба поклонники рыбалки. И начали сетовать на недостаток времени, и у того, и у другого его всегда было в обрез. Но решили, однако, что обязательно, вопреки всем и вся, должны в мерную же субботу поехать ловить рыбу.
— Приглашаю на правах старожила, — сказал Фомин, — знаю отличные места с карпами и даже угрями.
— Ловил форель, тайменей на Урале, таскал щук и сомов, а вот угрей не приходилось, — сказал Денисов.
— Ну вот, еще один довод в пользу нашей рыбалки.
— Странно, — потер веки Денисов, — в автобусе меня иногда укачивает, а в самолете — великолепно. И знаете, люблю высоту — чувствуешь себя этаким демоном, «летя над грешною землей»… Удивляюсь людям, которых высота пугает. Утром, между прочим, на экскурсии у одной девушки закружилась голова, и мне пришлось проводить ее вниз.
— Что-то не заметил вашего исчезновения. Когда это было?
— Перед тем как стали спускаться. — Денисов улыбнулся. — Очень милое создание и, между прочим, из Энбурга, певица. Поет в «Голубом джазе» в ресторане.
Я ее как-то слышал. Произвела приятное впечатление…
— Знаю такой оркестр. Иногда его приглашают к нам в Дом офицеров. А она… Постойте, припоминаю: тоненькая такая, рыжеволосая. Верно?
— Точнее, медноволосая, — поправил Денисов.
— Смотрите-ка, разглядели даже оттенки. Ну и ну! — Фомин рассмеялся. — А она, что же, интересовалась вами?
— Напротив. Я сам проявил инициативу. За свою галантность там, на верхотуре, приглашен завтра вечером послушать ее.
— Меня возьмете с собой, Виктор Сергеевич?
— Охотно, о чем разговор. Только, чур, не бросать мне перчатку.
Они рассмеялись. Впереди замелькали огни — автобус въезжал в Энбург.
— Вообще-то, — уже серьезно сказал Фомин, — нам нужно встретиться с вами и поговорить. Мы располагаем сведениями, что наши бывшие союзники проявляют повышенный интерес к работам бюро и прежде всего, видимо, к той работе, которую ведете вы совместно с немецкими товарищами. В ближайшие дни обязательно повидаемся, я кое-что расскажу, и вам тогда многое будет понятно.
— Вот тебе на, не успел приехать, как оказался в сфере чьих-то интересов. Веселая жизнь!
— Веселого мало, Виктор Сергеевич, — хмуро заметил Фомин.
Глава десятая
1
— Твое лицо непроницаемо, но глаза… Глаза выдают. Все прошло успешно, не так ли? — сказал Хаазе.
— Да, Пауль. В который раз убеждаюсь, чем проще, даже примитивней комбинация, тем лучший она дает эффект. Я познакомился с «Охотником», его невестой и теперь в любой день желанный для него гость. В ближайшее время воспользуюсь своим правом. Заполучить агента, а вместе с ним интересующие нас материалы — это значит убить двух зайцев одним выстрелом. И лучше, чем лезть напролом. Думаю, «Охотника» я обломаю.
— По моим наблюдениям, а видел я, надо сказать, не много, у твоей «Курочки» тоже все в порядке. Во всяком случае они очень мило ворковали, — сказал Хаазе.
— Сегодня я увижу человека, которого посылал присмотреть за ней. Но если ты видел их вместе — значит, дело пошло. Меня беспокоят ее попытки сохранить независимость. Старк недостаточно ее школил. Придется мне, не откладывая на потом, заняться дрессировкой. Может быть, она клюнет на подарок, который я для нее приготовил? Посмотрим. Но если будет вести себя так дальше и ничего не добьется с Денисовым, ее придется убрать. И потом, я решил, независимо от результатов разговора с ней, с этой квартиры нужно съезжать. Так для нас будет спокойней. А теперь, — Лютце посмотрел на часы, — мне пора трогаться. Давай ключи. Верну автомобиль хозяину.
— Постой, Макс. Это риск. Не лучше ли мне самому отвезти тебя? Доверенность-то у меня.
— Ты прав.
Минут десять спустя их машина остановилась невдалеке от центрального входа в парк. Хаазе, отдав ключи, пошел к остановке трамвая, а Лютце в глубь парка, где его должен был ждать «Дункель».
В нескольких метрах от старой беседки, служившей во все времена надежным укрытием от непогоды мечтателям и влюбленным, словно страж стоял белокаменный Аполлон. Лютце зашел в пустую беседку, прислонился плечом к колонне. «Интересно, куда девалась, да и жива ли вообще голубоглазая Рози, его первое увлечение». Лютце стало как-то не по себе. Одиноко и грустно. Эго удивило его, а он-то думал, что давным-давно освободился от всяких сантиментов.
Зашуршал гравий. «Дункель» подходил к беседке.
— Прошу извинить. Немного опоздал, — сказал он.
— Ничего, сядем. Рассказывайте.
— Пташка очень ловко сделала свое дело, и павлин распустил хвост. Он помог ей спуститься вниз, подвел к скамейке, посидел рядом несколько минут. Они что-то там говорили, я не расслышал. Это, собственно, все. Но девка чертовски хороша. Мне кажется, я ее где-то встречал.
Пропустив последнее замечание «Дункеля», Лютце сказал:
— Отлично, «Дункель»
[34]. Будучи темным, вы приносите каждый раз светлые вести, — скаламбурил он. — Продолжайте следить за Денисовым. Встретимся через неделю. Здесь же. Если будете нужны раньше, сам найду вас. Вот ключи от автомобиля. Доверенность я уничтожил. А это — особая награда — «Кемл», — Лютце протянул пачку сигарет в целлофановой обертке. — Идите. Я останусь.
Когда Лютце вышел из парка, машины уже не было.
2
В отличие от Мевиса Вышпольский выглядел откровенно растерянным, хотя внешне не опустился, тоже был тщательно выбрит и аккуратно причесан.
— Вас фотографировали? — спросил Фомин.
— Да, пан капитан. Только я не понимаю, зачем это?
— Чтобы отправить фотографии в польскую прессу и установить, действительно ли вы тот, за кого себя выдаете. Ведь нового о себе вы ничего пока не говорите…
— Нового? Я ничего больше не могу рассказать. Проверяйте.
— А шрам на предплечье левой руки по форме очень что-то напоминает…
— Шрам?.. Осколочное ранение… В феврале 1945 года попал под бомбежку…
— Лжете вы все, Вышпольский. Это след от буквы. Такая татуировка есть у всех, кто служил в «СС», независимо от рангов. И между прочим, только военные и медики, столь к месту употребляют слово «осколочный». Я не собираюсь вас уговаривать, сами осложняете свое положение… Недостаточно подумали, не готовы давать правдивые показания. Перенесем разговор на завтра. Подумайте еще, вспомните…
3
…Не спалось, как ни искал удобную позу. Все казалось, что вот сейчас придет сюда этот русский капитан и скажет: «Долго еще будете нас обманывать, господни Вышпольский. Ведь мне все о вас известно. И то, что фамилия ваша Курц, и как вы в России…»
Утомленный бессонницей и нервным напряжением, мозг не способен уже был бороться с кошмарами. И последние слова капитана звучали как приказ: «Подумайте еще, вспомните…» Он не хотел вспоминать, но едва закрывал глаза, как память воскрешала события недавнего прошлого, когда он был в России.
«Подумайте еще, вспомните…»
Отчетливо вспоминалась картина: он сидит у окна в жарко натопленной избе и смотрит сквозь запотевшее, плачущее крупными каплями стекло, на багровый русский восход. Протирает стекло и смотрит. В небе черными зловещими хлопьями кружатся вороны.
У дверей избы, лицом к стене лежит человек, голова которого обвернута бурой от крови повязкой. Советский офицер был раненым взят в плен, допрос не дал результата. Курц обозлен.
В белом облаке холодного воздуха в дом ввалился обер-лейтенант «СС» Фишер, приказывает ему, Курцу, пристрелить пленного. Курц поднимает русского, и тот, шатаясь, идет на улицу.
Вдали слышны вздохи артиллерийской канонады. Русский выпрямляется и бросает в лицо Курцу: «Слышишь гром, сволочь! Это мои братья. И где бы ты ни был, возмездие найдет тебя!» Курц нажимает курок, длинная очередь в грудь, в лицо…
Курц обходит труп и почему-то чувствует, что боится его, словно русский еще может встать и пойти вслед за ним, как тень.
И та же изба, и новые расстрелы. И новые тени… Много теней…
Через годы, через страхи войны они шли за ним. И он всегда боялся их и, боясь, совершал новые преступления…
— Нет! Нет! — вскакивает с постели Курц, озираясь, не подслушивают ли его.
«А может быть, он бредил и все говорил вслух? Нет, — убеждает он себя, — свидетелей нет, а сам он не скажет». Он ходит по камере, опять ложится, пытается уснуть. Но все повторяется сначала: «Слышишь гром, сволочь! Это мои братья!»…
4
Утром, в одиннадцать, как и было условлено, Фомин входил в серое массивное здание Энбургского полицайпрезидиума. Франц Енок уже ждал его.
— Здравствуйте, геноссе Евгений, — радушно приветствовал он Фомина. — Какие новости? Как чувствуете себя после прогулки в Лейпциг?
— Отлично, на мой взгляд, было все очень здорово. Столько посмотрели, да и просто отдохнули, отдохнули от дел.
— Верно, верно. Наши товарищи тоже остались довольными. Так что вас привело ко мне? Рассказывайте, — он усадил Фомина в удобное низкое кресло, около круглого журнального столика, и сам сел напротив.
— Дело в общем-то довольно обычное, — сказал Фомин, — выявили очередных военных преступников, только они на той стороне… А тут у них есть родственники. Один бывший охранник из Заксенхаузека — Альберт Циске, семья его живет где-то здесь, в Энбурге, второй…
Всегда выдержанный, вежливый Енок гневно привстал над креслом.
— Альберт Циске! Вам удалось нащупать «Заику»? Да, вы этого, конечно, не можете знать. «Заика» — прозвище, которое заключенные дали этому садисту и убийце…
Фомин заметил, как разволновался Енок. Вспомнил слышанное от товарищей: Енок около двенадцати лет провел в концлагерях и три последних — в Заксенхаузене. У него были свои давние счеты с фашизмом. Рабочие Энбурга и Ландтаг Саксонии не случайно назначили Енока в органы народной полиции. Буквально с первых послевоенных дней он принимал активное участие в работе новых, демократических органов управления, горячо выступал за объединение коммунистов и социалистов в одну партию — Социалистическую единую партию Германии.
— Значит, вы знаете Циске?
— И еще сотни таких, как он. Познакомился когда был мальчишкой, — Енок перекладывал на столе какие-то бумаги. Затем несколько успокоившись, сел, закурил. — Пятнадцатилетним, не пожелав быть батраком баронессы фон Штольц, я, геноссе Евгений, ушел от родителей и поступил учеником слесаря на железной дороге в Ганновере. Там познакомился с коммунистами. В тридцать втором, — какое это было время, вы знаете, — партия поручила мне работу среди членов союза коммунистической молодежи Энбурга, и я переехал сюда. Вот тогда мне и привелось впервые столкнуться с этим молодчиком. Циске был активистом «Стального шлема»
[35], участвовал в бандитских налетах на рабочие клубы, спортивные организации.
Однажды меня арестовали. Я получил красный треугольник
[36], и начались мытарства по тюрьмам и лагерям. В сорок втором году в Заксенхаузене я снова встретился с Циске. Он меня не узнал, но следы его внимания я ношу. — Енок постучал пальцем по вставным зубам. — Этим я целиком обязан ему. «Заика» был свиреп — участвовал в расстрелах, избивал заключенных. А перед концом войны исчез. И вот, благодаря вам, мы знаем, что он жив и где искать его. Немало людей, узников Заксенхаузена, смогут засвидетельствовать преступления Циске…
Енок замолчал, задумался. «Сколько же перенес этот не старый еще человек, — думал Фомин. — И пронес сквозь ужасы гитлеровских застенков чистоту сердца, верность коммунистическим идеалам. Хорошо, что судьба этой части Германии находится теперь в надежных руках».
— А кто второй? — спросил после некоторой паузы Енок.
— Отто Мюллер, бывший железнодорожный служащий. Его семья живет, если данные точны, в Стендале.
Енок сделал пометку в блокноте.
— Спасибо, геноссе Фомин. Мы тотчас же ими займемся. Вы сейчас оказываете нам огромную услугу, помогая установить, где находятся чины, подобные двум этим преступникам. Ведь мы практически только учимся вести борьбу с ними, наши органы безопасности, так сказать, в младенческом возрасте. Но все впереди…
5
— Браво, девочка, браво! Вы не только хорошая певица, но и прирожденная актриса. Это вам, — Лютце протянул Лотте букет роз и открыл маленькую черную коробочку, в которой соблазнительно светился аметистовым глазом золотой перстенек.
— Ну что вы, право. Все произошло само собой. И мне действительно стало плохо. А господин Денисов оказался рядом…
Только теперь до нее дошел смысл слов Лютце. Значит, за ней следили?
— Не скромничайте, Лотта. Расскажите-ка лучше, о чем вы говорили?
— Он мне помог добраться до скамейки, посидел рядом, пока мне не стало лучше. Был внимателен и любезен. Я сказала ему, что пою в джазе и пригласила его посетить наше кафе. Он скоро ушел к своей группе. Все.
— Для начала неплохо. Надеюсь, он выполнит свое обещание. И тогда, Лотта, вот тогда проявите побольше настойчивости. Предложите ему свои услуги — покажите город, памятники. Постарайтесь ему понравиться.
— Если такая возможность представится… — пробормотала Лотта.
— Все в ваших руках, дорогая. Но только… — Лютце нехорошо улыбнулся, — только не вздумайте увлечься всерьез. Это не входит в мои планы. Вскружите ему голову, чтобы он по забыл все на свете. Ясно?
Лотта обреченно кивнула. Она не услышала, когда Лютце ушел. Стояла у окна, уцепившись в штору и ничего не видя перед собой, думала, что такой человек сдержит свое слово и не замедлит привести угрозу в исполнение. И конечно, интерес Лютце к Денисову вызван враждебными намерениями. Что же делать? Что?
«Лишь бы только пришел этот Денисов, а там, а там она знает, что надо делать», — наконец Лотта стряхнула оцепенение, поборола в себе чувство страха.
6
Утром на письменном столе Фомин обнаружил записку дежурного: «Вышпольский просится на допрос».
Любопытно, что он надумал? Распорядился привести арестованного.
— Тысячу раз был прав господин оберст, когда упомянул здесь о парадоксах, — явно заранее подготовленной фразой начал Вышпольский.
Капитан еще отметил про себя, что арестованный употребил слово «господин оберст». Это было уже что-то новое.
— Вы будете рассказывать. Так я вас понял?
— Да.
— Пожалуйста.
Фомин разложил перед собой листки чистой бумаги.
— Весной сорок первого года при зачислении меня в «СС» врач, делая наколку, говорил: «Эта буква может спасти вам жизнь, если в случае ранения нужно будет срочно переливать кровь». На самом деле эта буква послужила лишней уликой к моему разоблачению, к тому, чтобы из меня вообще была выпущена кровь. Парадокс? Да, я буду говорить только правду.
Произнося и эту, видимо, не раз обдуманную в камере фразу, Вышпольский ловил глазами взгляд Фомина, пытаясь угадать по нему, как реагирует капитан.
— Я уже обращал ваше внимание раньше и повторяю, что только чистосердечное признание может облегчить ваше положение. Предупреждаю, теперь вам поверить труднее вдвойне. Вы сами к нам пришли, чтобы запутать, обмануть нас. И вы же хотите в чем-то убедить меня. Не запутайтесь еще больше. Мой вам совет.
— Мне трудно объяснить, господин капитан. Но другого выхода у меня теперь нет. Я не имею права больше ничего путать. Я в самом деле не тот, за кого себя выдавал. В действительности я обершарфюрер
[37] дивизии «Викинг» Фридрих Мария Курц. Родился в двадцать первом году в Дюссельдорфе, там и сейчас живут мои мать и сестра. В конце тридцать девятого меня взяли в специальное офицерское училище. Закончить его не пришлось, выпустили досрочно в конце сорок второго, присвоили звание обершарфюрера. Прибыл под Сталинград. Командование бросило нас — несколько полевых батальонов — для борьбы с партизанами, поэтому в окружение и плен с армией Паулюса не попал.
В конце сорок третьего года меня тяжело контузило. После госпиталя оказался в специальной команде аэродрома под Лейпцигом. Там я пробыл до конца войны и попал в плен к американцам…
— Как же вы стали агентом английской разведки?
— После лагеря, когда вернулся домой. Надо было что-то делать, помогать семье, а специальности нет. Угодил в ганноверскую тюрьму. Там меня и нашел господин Старк, — вздохнул Вышпольский. — У него прошел специальную подготовку: обучился микрофотографии, тайнописи, работе на коротковолновом радиопередатчике. Выполнял разовые поручения, и мной, вообще-то, были довольны.
— Что еще скажете про операцию «Аяксы»?
— «Аяксы», по существу, первое серьезное задание. Если бы мне удалось здесь закрепиться, я должен был найти подступы к конструкторскому бюро. Потом предполагалось, что ко мне придет человек Старка, под началом которого я в дальнейшем должен был работать. Вот все, господин капитан, и это, уже чистая правда…
— Теперь показания близки к истине. На сегодня довольно. А чтобы не скучать до следующего свидания, припомните пункты, где действовало ваше подразделение. Я имею в виду главным образом территорию Советского Союза…
7
— Геноссе Фомин?..
— Да, фрейлейн Августа, это я. — Фомин узнал голос секретаря Енока.
— Минутку. Соединяю с оптаилюнглатером
[38].
И знакомый баритон Енока:
— Добрый день, геноссе Евгений. Получены сведения о Мюллере и Циске. Хотелось бы посоветоваться. Если есть время, подъезжайте.
Фомин вызвал машину и через полчаса был у Енока.
— За сутки мы кое-что успели, — раскрывая новенькую папку, сказал Енок. — Семья Циске — жена, дочь и зять живут в районе Вильгельмштадта. Занимаются огородничеством. Удалось заполучить копию текста письма, только что отправленного фрау Циске своему супругу. В нем она напоминает, что их горячо любимому внуку исполняется год. Они надеются, что дедушка сумеет приехать навестить его и привезет западные подарки. Я думаю, что Циске приедет. А это его портрет.
Перед Фоминым легла фотография человека с очень характерными приметами. Тонкая длинная шея. Непомерно широкие плечи. И узкая дынеобразная голова, словно по ошибке, попала она на эти плечи. Робко, недоуменно улыбаясь, Циске держал на коленях белый кружевной сверток, из которого выглядывало сморщенное личико ребенка. На обороте стояла надпись: «Папочке Ади
[39]».
— Какое умиротворенно-добродушное лицо у этого убийцы, — усмехнулся Енок.
— К этой идиллистической картине как нельзя кстати подходит поговорка: «Когда дьявол стареет, он становится сентиментальным».
— Что верно, то верно, — кивнул Енок и закурил. — Теперь о нашем плане. Пусть вас не удивляет: к задержанию Циске я привлекаю много людей. Упускать его нельзя. Он опасен и может впоследствии причинить нам немало бед. Я рассматриваю его не только как агента иностранной разведки, а еще как лютого врага немецкого народа, одного из тех, кто всегда будет пакостить и мешать социалистическому развитию нашей страны. Всей страны — я имею в виду Германию в целом. Практически раскол налицо. Англичане, американцы и осмелевшие под их покровительством капиталисты западной части страны дружно поют о создании Федеративной Германии по ту сторону границы. Я помню, еще в октябре 1945 года Конрад Аденауэр заявил американскому корреспонденту: «Самое лучшее состояло бы в том, чтобы немедленно образовать из трех западных зон федеральное государство». Что ж если так случится, мы будем создавать здесь свое социалистическое государство.
Но вернемся к Циске… — Енок задумался. — Взять его тихо, без борьбы вряд ли удастся. У этого зверя клыки всегда наготове, он знает, что его ждет. Как, впрочем, и Мюллер. В архивах железнодорожной дирекции нам
удалось разыскать его личное дело. Хотите взглянуть?
…Тонкая папка из твердого темно-серого картона. Вверху у самого обреза, распластав крылья, нес паучью свастику черный орел. Ниже стояло: «Энбургская железнодорожная дирекция, личное дело № 201 — Мюллер Отто». Внутри к первой странице скобкой прикреплена небольшая фотография: лысеющий мужчина средних лет с темными широкими бровями и маленькими прищуренными глазками. Над тонкогубым ртом усики а ля фюрер. Над левым карманом форменного френча значок члена нацистской партии. Дело заканчивалось приказом, в котором говорилось, что Мюллер командируется в распоряжение железнодорожного управления, на Украину. Между последней страницей и обложкой лежал листок, исписанный мелким, неразборчивым почерком, письмо Мюллера к начальнику отдела дирекции. Он сообщает, что является комендантом крупного железнодорожного узла Долгенцово.
Когда Фомин закрыл дело, Енок сказал:
— Наши коллеги из Стендаля передали, что три недели назад Мюллер был дома. Приезжал навестить мать. Окружающим неизвестны истинные причины, заставляющие его жить на Западе. Он же мотивирует тем, что имеет хорошо оплачиваемую работу. Попытаемся вывести его сюда, и не сомневаюсь, что скоро оба будут в наших руках.
— Можно будет взять ненадолго личное дело Мюллера? — спросил Фомин.
— Пожалуйста, я и приготовил его для вас…
— И еще, геноссе Енок, хорошо бы собрать на него и его родственников и знакомых подробные, характеризующие их, сведения…
8
От дежурного Фомин узнал, что Кторов занят и освободится не скоро. Тогда он поднялся к Провоторову и попросил его изготовить несколько копий с фотокарточки Мюллера. В секретариате посмотрел по дислокации, куда следует посылать запрос.
— Позови, как освободится, — попросил он дежурного, кивнув на дверь кторовского кабинета.
Прошел к себе и стал листать бюллетень внутригерманской информации. Содержанке его материалов перекликалось с тем, о чем только что говорил Енок. В них писалось о новых выступлениях Курта Шумахера, который все еще надеялся расколоть единство действий Социалистической единой партии Германии. Практически он играл в дудку американских и английских политиков, которые никак не хотели расстаться с идеей превращения Германии в плацдарм борьбы с коммунизмом и социализмом. В зонах по ту сторону границы буквально с первых послевоенных дней началось подавление народной инициативы создать демократическое антифашистское государство, и совсем не случайно администрация английской и американской зон так охотно пошла на их объединение в так называемую Бизонию. Бизония становилась первым рубежом восстановления вермахта, Фомин знал много фактов тому, знал, что подняли голову те, кто еще вчера боялись даже заикнуться о своих связях с нацистами. И они уже пытались навязывать людям свое мнение и даже диктовать.
Прочитал Фомин не без интереса зарубежные отзывы о деятельности советской военной администрации и о ее добрых контактах с немецкими органами самоуправления и демократическими организациями. Англичанин Гордон Шаффер, находившийся продолжительное время в советской оккупационной зоне, писал: «Между русскими и немцами сложилось подлинное сотрудничество, не такое, как между победителями и побежденными, а как между товарищами по работе». А лейбористский депутат английского парламента заявил: «Я восхищаюсь работой советских оккупационных властей, которые с такой внимательностью и с такой большой гуманностью направляют жизнь в своей зоне и предоставляют демократическим силам в своей зоне полную свободу действий. Русские генералы, стоящие во главе администрации, произвели на меня такое впечатление: это люди, полностью освоившиеся со своими обязанностями, помогающие всеми силами немецкому народу при восстановлении народного хозяйства и гордые успехами, достигнутыми под их руководством».
Дежурный, позвонивший Фомину, сказал, что Кторов, отпустив сотрудников, сразу же ушел домой.
— Эх, жалость какая. А я надеялся еще с ним потолковать. Думал поработать завтра.
— Тебе тоже давно пора отдыхать, — сказал дежурный. — Уже шесть, а сегодня суббота. Отдыхать брат, тоже нужно, а то ног поешь не будешь. Сходи лучше в кино. За мое здоровье…
— Надеюсь, найдете дорогу без меня. Счастливо, — пожелал Фомин Скитальцу и его девушке, когда они вышли из кинотеатра, и побрел по аллее.
Почему-то стало очень тоскливо. Охватило чувство одиночества. Оно приходило к нему нередко в не заполненные работой часы. И он очень, обрадовался, когда на скамейке у фонтана увидел Кторова.
— Что, не спится? Мне в вашем возрасте нужно было только добраться до постели и тогда… — Кторов присвистнул.
— Да нет, был в кино. Потом решил побродить тут.
— Присаживайтесь. Я после ужина вздремнул, да перехватил лишку. Мои спят, а я, как и вы, колоброжу. Да и вечер хорош.
Фомин сел рядом.
— Георгий Васильевич, мне не удалось попасть к вам. Я хотел…
— Стоп! Давайте договоримся — о работе ни слова.
Они посидели молча, наслаждаясь прохладой по-южному темной ночи. Ветерок обдавал их мелкими брызгами, сбитыми с водяных струй фонтана.
— Теперь бы в самый раз стаканчик — другой крепкого чая, — заметил Кторов.
— Так это же мигом. Пойдемте ко мне, и я напою вас чаем. С преотличным вареньем.
— А не поздно? — Кторов посмотрел на светящиеся стрелки часов. — Двенадцатый… Поздновато, но, пожалуй, идемте.
Пока Фомин готовил на кухне чай, расставлял посуду, Кторов взял с тахты томик стихов Гете, открыл заложенную страницу. «Быть человеком — значит быть борцом»…
«Успевает и читать. Молодчина», — стал рассматривать корешки книг. Фенимор Купер и Джек Лондон. Рядом стояли учебники по государственному праву, психологии и, совсем неожиданно, толстенный том Плутарха на немецком языке.
— Прошу, у меня все готово.
Кторов оглянулся.
— Женя, да вы хлебосол. Ужин царский. Откуда вся эта прелесть?
На столе, в окружении фужеров и чашек, красовалась бутылка массандровского муската, ваза с яблоками, варенье.
— Мама все. Вино и варенье прислала еще к майским праздникам. Это клюква. Она знает — мое любимое. Открыть все как-то не было подходящего случая. Вот и дождалось.
— Что скажет гостеприимный хозяин о партии в шахматы? — спросил Кторов, отдав должное и вину, и чаю с вареньем.
— С удовольствием.
Они устроились на тахте, подолгу обдумывали каждый ход. Фигуры Фомина вскоре явно начали теснить шахматное войско начальника.
— Вам не кажется, Евгений Николаевич, сделав очередной ход, сказал Кторов, — что в игре со Старком мы пока находимся в положении защищающихся. А пора бы заставить противника, как говорится, плясать под свою дудку. Нам нельзя дольше сидеть и ждать, раскинув сети.
— Последние дни были какие-то сумасшедшие. Но я думал. Может быть, Мюллер?
— Мюллер? — Кторов долго не отвечал, то ли обдумывая позицию, то ли замечание Фомина. — Мюллер, — повторил он. — Не исключаю. Посмотрим, что сообщат из Днепропетровска. Но в лучшем случае — это полумера. Край, так сказать, круга, а нам нужно войти в самую середину.
— Шах, Теорий Васильевич, — объявил Фомин.
— И конец близок. Тут, видно, уже не вывернуться. Ваша взяла. Давайте еще. Мне думается, — безо всякого перехода продолжил Кторов, — что такой серединой могла быть Штаубе. Что остановились? Расставляйте, расставляете. — Он едва заметно, уголками губ, улыбнулся, наблюдая растерянно вопросительное выражение лица партнера.
— Середина-то, середина, Георгий Васильевич, но до нее трудно, ох как трудно добраться.
— А вы не ищите легких путей. Забудьте, что контрразведка — это только оборона. В принципе — оборона, верно, но ведь самый лучший вид обороны — наступление, хорошо продуманное и организованное. Вот видите, — огорченно заметил он, — опять вы меня прижали — зазевался. Сам запретил говорить о работе и сам же… И опять продул. И поделом мне. — Кторов повалил своего короля. — И как только не стыдно. Без зазрения совести дважды обыграть начальника. Ну ничего, в отместку я вам подкинул на воскресенье задачку. Со Штаубе. Здорово?!
Глава одиннадцатая
1
— Вам не следует печалиться. Все складывается удачно, фрейлейн Мари. Хорошо, что Старк позвонил сам и торопится. Вы тут, так сказать, ни при чем и не переживайте.
— Но я потеряю его теперь, господин Бэтхер.
— Понимаю, Старк интересный мужчина и, возможно, искренне увлечен вами. Но не более. А вы, баронесса, кажется, забыли о нашей растерзанной родине. Германия должна восстать из пепла и вернуть себе прежнюю силу и величие, я уже не говорю о границах. И ваш Старк весьма нам пригодится в будущем. Впрочем, он не первый кирпич в фундаменте, который сейчас закладывается. Я сказал больше, чем следовало бы. И хватит об этом. Не распускайте нюни, вы же немка, аристократка, черт вас возьми. Скажите лучше, сколько ему потребуется времени, чтобы добраться сюда.
— Минут пятнадцать — двадцать.
— Служанки, надеюсь, нет дома?
— После нашего вчерашнего разговора я отпустила ее на весь день.
— Ну, вот и молодчина. Теперь просьба: сразу, как познакомите нас, уйдите к себе. Мы поговорим с ним конфиденциально.
— Понятно, господин Бэтхер, — Мари прислушалась. — Кажется, он.
На лестнице послышались шаги, требовательно прозвучал звонок.
— Готова? — вместо приветствия спросил Старк, переступая порог холла. — О, да ты не одна, — он поморщился, увидев через открытую дверь спину сидящего в кресле человека.
— Я хотела предупредить тебя, но ты не стал ничего слушать и бросил трубку, — заворковала Мари. — Это давний друг нашей семьи. Проходи, я познакомлю вас. Ну же…
Так и не сумев подавить раздражение, Старк вошел в комнату. Гость Мари с достоинством поднялся навстречу. Худощавый, выше среднего роста, с выправкой военного, он изучающе и не очень приветливо посмотрел в глаза Старка.
— Майор Эдвард Старк. С кем имею честь?
— Очень приятно, — ответил немец, но имени своего не назвал и, к удивлению Старка, обратился к Мари: — Идите к себе. Если понадобитесь, я позову. Очень приятно, господин майор, — повторил он, вновь устремляя на Старка свой холодный сверлящий взгляд. — Садитесь, поговорим, — он одернул пиджак и легко откинулся в кресло. Отличного покроя костюм из темного твида шел ему, это Старк отметил., как и то, что перед ним был кадровый военный. А друг семьи Мари спокойно закончил свой странный монолог: — Не буду возражать, если вы будете называть меня просто полковник.
Старк почувствовал, что в нем начинает закипать бешенство от такого бесцеремонного обращения. Он едва удержался от резкости и лишь спросил:
— Простите, полковник какой армии? Уж не немецкой ли? О существовании такой я давно не слышал. И потом, не слишком ли вы молоды для столь высокого звания?
Немец пропустил колкость мимо ушей.
— Садитесь же, майор. Мы принадлежим к одному роду войск, только разных армий. А звания? Их дают за дела, а не за возраст.
— Все-таки армий? Вы хотите сказать, что мы коллеги? Приятно. Хотя я не понимаю, зачем я вам понадобился здесь. Вы с таким же успехом могли заехать ко мне в оффис.
— Видите ли, Эдвард, — тихо сказал немец, — завтра мне некогда. Я сегодня хочу закончить свои дела. Сейчас вы все поймете. Только возьмите себя в руки и перестаньте злиться.
Старк почувствовал вдруг, как засосало под ложечкой и в животе появилось ощущение щемящей пустоты и холода. Что-то подобное было в детстве на качелях, когда взлетал выше обычного. Что? Страх? Но отчего? Он, однако, сел на стул.
— Прекрасно, коллега, посидите и послушайте, — немец говорил тоном старшего. — Интересно, как будет реагировать генерал Стюарт на сообщение о том, что содержание вашего сейфа и сейфа вашего заместителя с некоторых пор не является для нас секретом? Полюбуйтесь — вот фотокопии ваших наиболее секретных документов. — Полковник раскрыл лежавший перед ним на столе крокодиловой кожи бювар и бросил перед Старком пачку фотографий.
Старку ничего не оставалось, как посмотреть их. Он делал над собой усилие, чтобы скрыть дрожание рук. Проклятый бош действительно располагал секретными сведениями его отдела из сейфов комендатуры. Начало разговора не оставило никаких сомнений в намерениях немца. Старк полностью осознал опасность, нависшую над ним, и это придало ему силы. Он посмотрел в глаза немцу, снисходительно усмехнулся:
— Только-то и всего? Вы непростительно наивны, полковник. Это мелкие козыри.
— В чем же эта наивность? — Бэтхер насторожился. Добыча явно не желала добровольно идти в расставленные им сети.
— Оффис в комендатуре — лишь крыша. Стал бы я держать немок у себя в отделе? Что же касается материалов, — Старк кивнул на фотографии, — у меня, конечно, могут возникнуть неприятности. Но ведь и вам не поздоровится. Ваша самоуверенность вас опять погубит. Документы? Ерунда! О чем в них речь: полтора — два десятка агентов — ваших же соотечественников. Удивляет другое. Ваша наглость. Разве вы перешли на собственное обеспечение? Разве не для нас таскаете каштаны из огня и более не нуждаетесь в наших подачках?
Старку казалась, что он обретал утраченную было позицию, что уже он наступающая сторона.
— Вспомните-ка, коллега, — теперь он неприкрыто издевался над своим противником. — Кто уберег вас от галстука, который русские с удовольствием надели бы на вашу шею? Ну? Неужели вы всерьез надеялись извлечь пользу из того, что вам удалось похозяйничать в наших сейфах? Достаточно одного моего слова, и от вас не останется следа. Причем в данной ситуации интересы мои и американцев совпадут. Не забывайте, что кто-кто, а мы еще союзники. Вы зарвались… Теперь еще! Вы имеете хоть какое-нибудь понятие о создающемся при активных стараниях американцев Атлантическом союзе? В нем, судя по всему, придется поработать и разведчикам. И мне, и вам, и американцам. Предполагается целая коалиция стран Запада против коммунистических стран.
— А вы знаете, чья это была идея? Немца. Арнольда Рехберга — одного из рурских королей. Еще в сорок шестом году он вместе с генералом Гофманом предложил план, который связал бы Великобританию, Францию и Германию против страны большевиков. Пакт должна была бы подкрепить гигантская финансовая сила США…
— Если вы знаете это, то какого черта вбиваете клин в наши отношения. Вы же лезете в петлю, полковник. И, навредив мне, вы сами окажетесь в глупейшем положении. Вам этого вмешательства не простят.
Старк шел в психическую атаку, но немец был невозмутим и спокойно выслушал гневную тираду.
— Не спешите, господин майор. Политику, конечно, со счетов не сбросишь. Но я не собираюсь менять русло начатого разговора. — Он сделал предостерегающий жест рукой. — Речь идет о вас, только о вас. Мы в курсе ваших финансовых дел — я имею в виду семью Старков, — они ведь далеко не блестящи. Видимость благополучия вам удается создавать лишь за счет приданого жены, а шансы на будущее — надежда продвинуться по службе. Поэтому не усугубляйте своих дел…
— Ого, какой вираж, — ударил себя по колену Старк. — Что там еще?
Немец встал, приоткрыл дверь, попросил:
— Мари, пожалуйста, кофе и что-нибудь не очень крепкое.
Она не заставила ждать и быстро, словно ожидала этого, внесла поднос с дымящимся кофе, бутылкой ликера и крошечными рюмками.
— Позволю себе еще порассуждать, — сказал полковник, когда Мари вышла из комнаты. — Посмотрите вот это. Довольно пикантно, не правда ли? Но это уже для миссис Старк, — немец, жестом опытного картежника, веером развернул колоду фотографий. — Как вы находите эти козыри?
Старк побледнел. Попадись хоть один из этих снимков на глаза Ирен — их семейной жизни конец. Старый, избитый прием, но, как правило, действует безотказно. Мысли одна неприятнее другой роились в его голове. Какова Мари? Черт возьми, но почему, почему он так затянул эту связь? Любовь?.. Страсть?.. Сантименты!.. Полковник, давая своему противнику время в полной мере осмыслить глубину тупика, в который он загнал его, налил несколько капель ликера себе в кофе и, откинувшись на спинку кресла, стал отпивать маленькими глотками.
— Дьявольщина какая-то, — выдавил из себя Старк.
— И это еще не конец, — немец вновь отпил глоток кофе. — Некоторые снимки могут вдруг оказаться в каком-нибудь заведении. Ну и описание, как развлекаются офицеры английской разведки, представители, так сказать, старейшей английской аристократии? Полагаю, что не только вам, о вас уже речь не идет — вы мертвец, а вашему братцу, даже отцу вашей супруги придется оставить политическую деятельность: одному в правительстве господина Этли, если не ошибаюсь, а другому у консерваторов. И вряд ли они когда-нибудь еще появятся на политическом горизонте.
Старк молчал, стараясь привести в порядок мысли. Все больше ненавидел немца, его ненапускное спокойствие, его бесцветные жесткие глаза и чувствовал свое бессилие чем-либо выразить эту ненависть. Он понял, что получил удар, от которого никогда не оправится. Он сам не раз бывал в положении ловца, наблюдавшего, как жертва тщетно пытается уйти из уготовленной ей западни. И тогда торжествовал свою победу, любовался ее беспомощностью и от этого сам себе казался сильней. И опять щекочущий ветерок под сердцем, словно летишь на качелях.
— Глупо отчаиваться и заниматься самоистязанием, Старк, — теперь уже успокаивал его полковник, — собственно говоря, ничего особенного не произошло. Все может остаться на своих местах. Буквально все. И честь Британии не пострадает. И ваша. Вы в полной безопасности.
— Что вам наконец от меня нужно?
— Сущие пустяки. Добрые отношения со Стюартом дадут вам возможность в скором времени вернуться домой. Там, используя свое влияние на брата, — а он имеет вес в теперешних правительственных кругах, — заставьте его поубавить ораторский пыл на трибунах и на страницах газеты, совладельцем которой является ваш тесть. Ваш брат продолжает метать громы и молнии в адрес варваров-немцев. Смешно! Пусть берет пример с господина Черчилля, прозорливости которого можно позавидовать. Его блестящая речь в Фултоне… Короче, всеми возможными средствами вы начнете пропагандировать идею, что истинные враги англичан на Востоке, а не бедные и несчастные немцы. Нам надо помочь, иначе погибнет европейская цивилизация. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Надеюсь, вам ясно.
— И это все? — спросил Старк. — И ничего о работе моего ведомства?
— Боже вас упаси! К чему нам это? Здесь мы и так найдем с вами общий язык.
— Будьте великодушны, полковник, не лишайте меня сразу двух квалифицированных сотрудниц. Кто?..
Бэтхер весело рассмеялся. Вопрос Старка — это белый флаг, свидетельство о капитуляции противника.
— Пожалуйста. Вы даже правы. Больше она мне не нужна. Катрин Рейнеке — стенографистка. Кличка — «Стелла»… Но не будьте с ней строги, Эдвард… А теперь мне придется вас немного огорчить. Составим один документик. Так, знаете ли, будет вернее. Я продиктую.
«Чисто он меня скрутил, — признался себе Старк, уже без злобы, пододвигая бумагу и вечное перо, приготовленные полковником. — А что? В конце концов мы действительно оба стоим по эту сторону черты, за которой находится коммунистическая Россия и ее сателлиты… И еще — очень может быть, придется работать сообща. Хотя бы в этом Атлантическом союзе, который так старательно сбивают американцы».
И напряжение упало, как тяжелый мешок с плеч.
— Диктуйте, — сказал Старк.
2
— Вижу, вам не терпится поделиться соображениями в связи с новой задачей. — встретил Фомина Кторов. — Докладывайте, а я похожу и послушаю.
Фомин вкратце сообщил о последних показаниях Вышпольского-Курца. И тут же перешел к главному, к беседе, которая состоялась у него с Еноком. Потом достал листок бумаги.
— Это о Бломберге.
Кторов взял справку и прочел: «Переводчик технической группы бургомистрата Бломберг Юлиан Карлович, 1890 года рождения, немец, русского происхождения, родился и до 1940 года проживал в г. Риге. Накануне войны переехал на жительство в Энбург. С 1941 по 1945 год — переводчик в железнодорожной дирекции. С августа 1945 года — переводчик технического отдела бургомистрата. По мнению коллег, вполне лоялен. Женат на госпоже Мари Эрих Палевски 1900 года рождения, проживает в собственном доме на Шиллерштрассе, 5 (бывшая Герингштрассе)».
— Я договорился, они его задержат, — сказал Фомин. — В зависимости от того, как он поведет себя на допросе, решим сообща, что делать с ним дальше.
— Ну что же, согласен. И очень хорошо, что наши отношения с народной полицией становятся крепче. Сообща мы сильнее, нам легче распознать военных преступников, тех, кто мешает спокойно жить людям, и меньше опасности проворонить очередного посланца «дяди Боба». Картина как будто прояснилась: мы теперь знаем, что вся эта канитель с Мевисом и Курцем лишь отвлекающие маневры. Поэтому подробно ориентируйте наших друзей по существу всех имеющихся у нас материалов. Енок и его служба точнее определят свои возможности, решат, где поставить кордоны, чтобы исключить утечку информации о бюро и усилить его охрану, И вы сами внимательно относитесь к любому сигналу от них.
— Понятно, Георгий Васильевич.
— Что касается вашего желания участвовать в аресте Циске — я в этом не вижу необходимости. «Овчина не стоит выделки». Сотрудники Енока великолепно справятся с этим сами. Они доказали уже свою самостоятельность и оперативность. А нам здесь, дружок, находиться не вечно. Именно Еноку и таким, как он, придется в дальнейшем самим стоять на переднем фронте борьбы. Когда же станет вопрос о Мюллере, это другое дело. Это пожалуйста. Вы связались с Днепропетровском?
— Да. Они обещали сразу же все подготовить и сообщить.
— Коль заговорили о Мюллере, должен заметить, что в данном случае вы пока не проявили должной изобретательности.
— ?!
— Да, да. Судите сами: приобрести Мюллера, несомненно легче и проще, чем, скажем, ту же Штаубе. Мюллера без труда и практически в любое время можно вывести к нам в зону. Против него есть, я в этом не сомневаюсь, компрометирующие материалы. Здесь, наконец, живет его семья, а следовательно, существуют привязанности… Желание быстрей обезвредить врага мешает нам порой за кустарником увидеть лес. Именно так у вас и случилось, Евгений Николаевич. А лес за кустами есть. Вербовка Штаубе сложная штука. И вместе с тем, мне думается, вполне возможная. Для ее осуществления следует подобрать кого-либо из немецких коллег. А почему?
— Так сказать, чисто психологический расчет, — не совсем уверенно отметил Фомин.
— Не так сказать, а совершенно точно. Штаубе легче пойдет навстречу предложению своего соотечественника. А пойти ей придется. Агентура, которая значится в этом списке, на месте. И Штаубе на месте, ее не тронули. Значит, она скрыла исчезновение копирки от своих шефов. А раз так, если ей предъявить фотографию копирки, перевод текста на английском и немецком языках, она капитулирует, побоится разоблачения и вынуждена будет принять наше предложение. Иного выхода у нее, собственно говоря, нет… Согласны? Или есть сомнения?
— Да все верно, Георгий Васильевич, какие сомнения. Нужно действовать.
— Тогда за работу. Подберите вместе с Еноком наиболее опытного работника. Енок, впрочем, сам скажет кого. И вытяните у Мевиса все, что еще можно. Пока он здесь. А Скиталец пусть напишет постановление о передаче его органам госбезопасности Польши и отправит дело Курца в трибунал. Скиталец должен усвоить, что чекистская работа, ото не только решение головоломок, преследование, гонки с препятствиями. Надо ему постигать и скрупулезную работу с перышком в руках. А вы за счет этого получите резерв времени. Вот программа на ближайшие дни, — устало улыбнулся Кторов. — Может быть, она и великовата, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Когда Фомин возвращался к себе, то еще на лестнице услышал, что в кабинете надрывается телефон. Поднял трубку.
— Можете нас поздравить, геноссе Евгений, — сказал Енок. — Сегодня ночью взяли Циске. На подходе к дому. Оказал бешеное сопротивление, но все обошлось благополучно.
— Поздравляю. Новость действительно приятная, и я понимаю, что вас она порадовала не меньше, чем меня.
— Если наши расчеты верны, думаю, завтра иметь еще одно сообщение: о задержании Мюллера. Ему отправлена нужная телеграмма. Надеемся, что клюнет. Доложите обо всем Георгию Васильевичу.
— Непременно, геноссе Енок!
Кторов удивился быстрому возвращению Фомина.
— Что-нибудь случилось?
— Да, очень хорошая новость, — и передал свой разговор с Еноком.
— Вот видите. Вы рвались в бой, а подчиненные Енока прекрасно справились с задачей. И пусть немецкий суд судит Циске. Свидетелей из числа советских граждан разыскать трудно, а бывших узников Заксенхаузена, по словам Енока, включая ого самого, сколько угодно. Им и карты в руки. Для нас показания Циске могут представлять интерес только в той части, где речь пойдет о Ганновере. Может быть, он расскажет что-нибудь конкретное о деятельности Старка, о той же Штаубе. А теперь совет, как использовать вечерний досуг, если не соберетесь в кино или не будете тренироваться к очередной шахматной встрече с начальством. Я ведь надеюсь взять реванш, — весело сказал Кторов. — Не сегодня, конечно. Когда будет поспокойнее… Если будет…
— Слушаю совет.
— Возьмите у дежурного на вечерок желтую папку. Он знает какую. В ней любопытные материалы. Не вредно почитать для общей ориентации.
…Фомин пришел домой, прихватив папку, о которой упоминал Кторов. Поужинав, стал листать аккуратно подшитые материалы и та к увлекся, что пропустил время ночного выпуска московских известий по радио, которые всегда слушал. В папке были сообщения информационных бюро, последние газетные и журнальные статьи, сводки, в которых анализировалось положение в Германии, Западной и Восточной. Почти везде присутствовало выражение — «холодная война».
Западные газеты, в том числе американские и английские, на чем свет стоит ругали американского генерала Тельфорда Тейлора
[40], того самого американского обвинителя, который произнес в 1946 году на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками блистательную речь, требуя осудить не только таких главарей, как Йодль, Редер, Дениц и Кейтель, а признать немецкий генеральный штаб в целом преступной организацией. Тейлор говорил: «Если сбить с дерева отравленные плоды, то этим будет достигнуто немногое Гораздо труднее выкорчевать это дерево со всеми его корнями. Однако только это в конечном счете приведет к добру. Деревом, которое принесло эти плоды, является немецкий милитаризм… Если он выступит опять, то не обязательно сделает это под эгидой нацизма. Немецкие милитаристы свяжут свою судьбу с судьбой любого человека или любой пар гни, которые сделают ставку на восстановление немецкой военной мощи».
Фомин прочитал в одной из справок эти замечательные слова Тейлора и сравнил их с тем, что он говорил теперь, когда шли процессы над монополиями. Тейлор извлек из германских сейфов такие обличительные документы, что их обнародование могло прозвучать, как взрыв атомной бомбы. Собственно говоря, так уже и случилось, хоть не были известны детали. Документы эти говорили о том, что в пору войны крупнейшие германские финансовые и политические воротилы имели тесный контакт с тузами американского и английского бизнеса. Поднялся шум. «Как можно судить деловых людей, свободное предпринимательство», — писали реакционные буржуазные газеты, ведь Тейлор замахивался не на отдельных монополистов, а на весь мир большого бизнеса. И Тейлору заткнули рот. Он не сказал того, что мог.
Немецким нацистским дельцам оказывал покровительство международный капитализм. И он же люто негодовал, что в Восточной Германии шла широкая экспроприация собственности монополистов, военных преступников и активных нацистов. Их предприятия стали достоянием народа.
Фомин с удовлетворением прочитал сводку, что в Восточной Германии экспроприированы предприятия, на долю которых приходилось более сорока процентов промышленной продукции, что ликвидировано полуфеодальное и крупнопомещичье землевладение и почти 600 тысяч семей трудящихся крестьян и сельскохозяйственных рабочих получили землю. Руководимые Социалистической единой партией Германии, государственные органы антифашистско-демократического строя перерастали в органы рабоче-крестьянской власти, очищаясь от лиц, сотрудничавших с фашизмом.
Трудовой народ Восточной Германии все больше включался в работу комиссии по денацификации, помогая им выявлять бывших гитлеровцев. Фомин нашел справку, в которой сообщалось, что в Восточной Германии уже на 1 января 1947 года 18 061 активный нацист из 18 328, привлеченных к суду, был осужден.
Иная картина была в Западной Германии. Там многие бывшие преступники нашли покровителей. Свидетельством тому была разгорающаяся «тайная война», на передовом рубеже которой оказался сейчас он, Фомин, А его противниками, как и прежде, были эти Циске, Клюге, Курцы и Мюллеры, и разница была только в том, что шли они теперь не с барабанным боем, засучив рукава, а точно змеи, старались тихо и незаметно пролезть в любую щель. И каждый нес в своем жале смертоносный яд.
«Кто же будет следующим моим противником, — думал Фомин, возвращаясь мыслями к своим делам. — Кто?..»
3
В сумерках, когда тонкие удилища-фонари зажелтели над рекой, Лютце подъехал к домику Вернера Факлера. В одном из окон сквозь шторы тускло пробивался свет. Лютце нажал кнопку звонка. Через минуту щелкнул автоматический запор калитки, а на пороге дома появилась долговязая фигура хозяина.
— Здравствуйте, Макс, — спустился он по ступенькам, навстречу гостю, — а я уж стал думать, что вы оставили мне камеры в память о прекрасно проведенном вечере.
— На что не пойдешь ради приятного знакомства, — в тон ответил Лютце. — Они мне действительно не к спеху, — он остановился у крыльца с видом человека, который ждет, что сейчас его пригласят в дом. Несколько смущенно Факлер жестом пригласил войти.
— Располагайтесь, — он провел Лютце в просторную кухню, которая, видимо, одновременно служила и столовой. — Извините, я сейчас…
— Если вы заняты, не обращайте на меня внимания, — последовал за хозяином Лютце. — Я подожду. А еще лучше посижу тут с вами, если не возражаете.
Факлер с явной неохотой пропустил настойчивого гостя в комнату.
— О! — удивленно воскликнул Лютце. — Да у вас тут целая радиостанция!
На столе, у противоположной от дверей стены, поблескивал никелированными ручками настройки радиопередатчик. Тут же — телеграфный ключ, таблицы, карты. В углу на верстаке, заваленном радиодеталями, стоял приемник. Комната была невелика. Два окна, прикрытые жалюзи, выходили в садик и на гараж.
— Если бы я знал, что вы так заняты, я бы не зашел, — заметил Лютце. Он закурил, опустился в качалку и принялся изучать цветную литографию на стене.
…По безбрежному морю катились огромные серо-свинцовые волны. На гребне, в клочьях белой пены, темно-зеленое пятно — лавровый венок, оплетенный черно-бело-красной лентой. Над картиной висела большая фотография офицера-подводника в траурной рамке.
«Отлично, — подумал Лютце, — тема для разговора, в котором можно прощупать хозяина».
По комнате распространился специфический запах горелого провода. Чертыхаясь, Факлер выключил приемник, тронул что-то паяльником, потом выдернул вилку из штепселя. Повернулся к Лютце:
— Теперь я свободен, Макс. Извините, ради бога. В двадцать два часа у меня сеанс с радиолюбителем из Шверина. Закрутился с проверкой приемника, все что-то шалит. Могу возвратить вам камеры. Идемте в гараж. Я поменяю.
— Не беспокойтесь, Вернер. Они мне сейчас действительно не нужны. Сделайте это, когда будете свободны.
— Вы серьезно? А то я чувствую себя виноватым… Тогда у нас есть время, и надеюсь, вы не откажетесь от чашки кофе?
— Великолепно, — принял предложение Лютце. — А у меня в машине завалялась бутылка шнапса.
Пока Лютце ходил к машине, Факлер успел прикрыть дверь в комнату, где находилась рация, и расставил посуду на кухне.
«Что это — недоверие или аккуратность?» — глянув на закрытую дверь, подумал Лютце, разворачивая сверток с вином и сендвичами.
— Заваривать кофе пока не буду. Воспользуемся дарами природы, — сказал Факлер, опуская на стол большую хрустальную вазу, полную янтарных слив и красных блестящих, словно восковых, яблок.
— Позвольте вас спросить, Вернер, — Лютце кивнул на дверь комнаты, — как это власти разрешают вам пользоваться передатчиком?
— Да будет вам известно, мой дорогой спаситель, что я в этих местах один из лучших коротковолновиков. Власти об этом знают, и нет ничего удивительного, что полиция, с ведома русской комендатуры, предоставила мне право пользоваться передатчиком. Кстати, таких, как я, в одном Энбурге человек пять. А что вас, собственно, это заинтересовало? Вы что тоже причастны к племени одержимых радио.
— В некотором роде. Но больше меня захватывает автомобиль.
После третьей рюмки Факлер заметно опьянел. Голос его стал резче, движения развязнее.
— Благодаря моему мастерству, Макс, — расхвастался он, — я имею честь сидеть здесь с вами и пить шнапс, хотя свободно мог бы кормить собой рыб, как это сделал мой брат.
— Там, на стене, фотография брата?
— Да, он был штурман субмарины. Его лодку потопили русские в Северном море.
— За светлую память родных и близких, — прочувственно произнес Лютце, поднимая рюмку, — за павших на полях сражений, Да будет вечен истинно немецкий дух!
— Дух, дух! — криво улыбнулся Факлер. — Зачем его вспоминать? Много он помог, этот дух, когда русские громили наши армии.
— Вы многого не знаете, Вернер, — мягко заметил Лютце. — Уже тогда, когда крах наш был неминуем, умные люди… — вы не будете возражать, если я назову их надеждой нации, — эти люди думали о возрождении Германии, утраченных надеждах рейха, если хотите. И сейчас на Западе зреют силы, которые со временем ринутся в бой, чтобы вернуть наш престиж, освободить эту часть страны от коммунистов, вернуть фатерлянду отторгнутые земли, — Лютце, говоря это, внимательно наблюдал, как воспринимает его слова Факлер. — Они там, а мы здесь, дорогой Вернер, ежедневно, ежечасно должны ждать, больше того, готовить минуту свершения и всячески помогать им. А вы? Я плохо разбираюсь в людях… Но ведь вы немец, Вернер, и вы, вместо того, чтобы сопротивляться, помогаете русским. Какой же вы, к черту, немец?..
— Я немец, Макс. Но не совсем понимаю, почему у нас пошел такой разговор. Я ведь тоже воевал. Всю войну прослужил радистом на базе подводных лодок на острове Рюген, слышали вы о таком? — В глазах Факлера появилось осмысленное выражение, потом недоумение. — Работаю на русских? Да, работаю. И еще на себя. Занимаюсь любимым делом. А вообще-то хватит. Я не хочу больше войны. Довольно.
Он залпом осушил рюмку, закурил, откинулся на спинку стула. Тряхнул головой, с непоследовательностью пьяного продолжил:
— А русские молодцы. Они еще преподнесут такой сюрприз своим союзникам, что те ошалеют. Тогда даже далекая Америка не будет для них далекой.
— Чепуха. Что даст им такую возможность? — как можно равнодушнее спросил Лютце.
— Не знаю тонкостей, но кое-что для этого делается у нас… У них золотые головы, Макс. В самом деле. Это умные ребята. Особенно Денисов, есть среди них такой инженер.
— Где это — у нас, Вернер? Чем вы, собственно, занимаетесь, а впрочем, это и не важно. Но вы противоречите сами себе. Вы что-то делаете, а они, узнав о вашей работе, немедленно дали своего контролера, этого Денисова.
— Не угадали, Макс. Денисов в своей области видный специалист. Мы работаем сообща, выполняем заказ, он же приехал по нашей просьбе, чтобы помочь кое в чем разобраться. И мне даже жалко, что он уедет обратно. Симпатичный, знаете ли, человек. И совсем молодой, не больше тридцати, и уже видный ученый.
— Когда он уезжает? — видя, что Факлер захмелел, перестал осторожничать Лютце.
— Уедет, как только закончит… — Факлер ухмыльнулся, погрозил Лютце пальцем. — Уж очень вы любопытны, мой дорогой. Есть вещи, которые не говорят даже друзьям. Я и так сегодня разболтался. А нас недавно предупредили поменьше рассказывать о том, чем занимаемся. Хоть это безобидные приборы и вообще… Заварю-ка я кофе…
Он поднялся и начал возиться у плиты. Уронил кастрюлю…
«Пожалуй, я слишком прямолинеен. Надо действовать более осторожно. Хорошо, что парень пьян и завтра все забудет, — подумал Лютце. — Впрочем, пока он в таком состоянии, надо попробовать вытянуть из него еще что-нибудь. А потом припугнуть. Он, чувствуется, не из смелых».
Факлер вернулся к столу, разлил кофе по чашкам. Они молча пили густой, сваренный по-турецки кофе, аромат которого повис в кухне, пересилив табачный дым.
— Чем же все-таки вам приходится заниматься на своей таинственной работе? — решил подзадорить хозяина Лютце.
— Я математик, и это моя первая и самая главная страсть, и уж потом — радио. Математика это, Макс, больше чем поэзия! Даже Берта не всегда может оторвать меня от формул. Смешно самому, но я и с женитьбой тяну, потому что жена убежит от меня, увидев, как я ночами крадусь к столу, к своим расчетам. Это, конечно, секрет, Макс. И вы меня не выдадите. Женщинам, конечно.
— Вы со странностями, Вернер, болтаете чепуху о каких-то расчетах…
— Это еще один мой личный секрет, — Факлер опьянел, и даже крепкий кофе не взбодрил его: глаза закрывались, голова клонилась набок. — Пытаюсь решить собственную маленькую проблему… А из маленьких складываются большие.
— Пожалуй, поеду, — поднялся с места Лютце. — Я засиделся.
Факлер глянул на часы:
— Я все равно опоздал. На сеанс теперь выходить бесполезно. Может быть, посидите еще, Макс? Не хотите? Ну, пойдемте, я провожу вас.
— Не нужно. Ложитесь-ка лучше в постель. Вы захмелели, Вернер. Я вас еще навещу…
«Вечер прошел не зря — удалось узнать много любопытных вещей. Они, правда, настораживают, — рассуждал Лютце, колеся по пустынным улицам. — Но так или иначе, он идет к цели сразу тремя путями. Через Вернера, через Лотту — Денисова и прямым путем проникновения в бюро. Теперь важно не оступиться. Надо продолжать подготовку и быть терпеливым.
Терпеливым? А что, если посмотреть, какие это расчеты держит у себя Вернер? Возможно, в известной мере они приоткроют завесу над работами бюро, и он, Лютце, отправит Старку столь желаемую информацию, а заодно — получит твердые гарантии, что этот розовеющий немец обретет «коричневый оттенок». Конечно же, так и нужно сделать. И привлечь к делу Хаазе: присмотрит за русскими, прикроет тыл. Русская контрразведка, судя по словам Вернера, настороже, и народная полиция, конечно тоже. Как он сказал: «Нас предупредили меньше рассказывать о том, чем занимаемся».
Итак, попробуем начать активные действия с добычи расчетов Вернера!»
4
Фомин застал Енока за весьма странным занятием — он сосредоточенно разглядывал какие-то каракули: головоногий человечек и над ним круг с шипами, изображающий солнце.
— Упражнение племянника, — сказал Енок. — Рисунок для дяди. Сунул мне в карман. Он сказал, что этот человечек — я. Похож? — Рассмеялся. — А как ваш сын?
— Спасибо. Растет, здоров, и тоже рисует картинки. Бабушка регулярно их присылает. Я почти год не видел своего Сережку. Надеюсь, к осени удастся побывать дома. Что новенького?
— Все, как обычно, геноссе Евгений. Жаль, что сутки нельзя увеличить ну хотя бы еще на три-четыре часа. В моей жизни столько времени ушло впустую — страшно подумать. Теперь наверстываю, учусь сам и других учу. По-доброму завидую тем, кто моложе. И говорят, нужно еще иногда отдыхать, развлекаться. Вчера удалось послушать в Потсдаме ваш знаменитый ансамбль Александрова — блестяще! Это искусство высшего класса. Пожалуй, ни у одной армии мира ничего подобного нет. Не знаю, можно ли кого ему противопоставить.
— А ведь пробовали… В сорок пятом году ансамбль Александрова выступал перед военнослужащими союзных армий. Генерал Бредли — вы знаете, конечно, начальник штаба американской армии, решил тоже показать класс. И не нашел ничего лучше, как на самолете привезти из Парижа скрипача Хейфица. Обрядил ею в солдатскую форму и выпустил на сцену, как представителя своей армии. Хейфиц, конечно, великий скрипач, но форма его сковывала, мешала, и выступление оказалось далеко не тем, какого можно было от него ждать.
Между прочим, недели три назад в Берлине я тоже приятно отдохнул. Во Фридрихштадпаласе посмотрел «Трехгрошовую оперу» Брехта в его постановке. Здорово! Да, времени, конечно, маловато.
— Брехт! Брехт! — наша гордость и надежда. Он закладывает основы реалистического направления в нашем театральном искусстве.
Зазвенел телефон. Енок с кем-то спорил, доказывал. А когда повесил трубку, убрал рисунок в стол.
— Ну вот и поговорить нам не дали о вещах приятных. Так что же, вызвать Циске?
— Подождите. У меня к вам очень серьезный разговор. — И Фомин изложил Еноку разработанный им и Кторовым оперативный план вербовки Штаубе.
— Думаю, что получится, — согласился Енок. — Я — за! И люди есть, которые справятся с этим делом. Через два дня выскажу вам свои соображения…
Потом привели Циске. Он вначале все отрицал. Бледный, едва сдерживая волнение, Енок стал напоминать ему о прошлых встречах. И тогда Циске прорвало. Злобно тараща глаза, он выкрикнул:
— Жаль, что я не узнал тебя там, в Заксенхаузене, красная собака. Ты бы ползал передо мною на коленях, моля о смерти, как о жизни.
Евгений видел, какого труда стоило Еноку удержаться и не вступить в перебранку с Циске, не реагировать на его слова. Енок надавил кнопку и вызвал конвоиров.
— Вот такие зверюги стерегли нас в лагере, геноссе Евгений, — сказал Енок, мало-помалу успокаиваясь. — Мы будем судить его в присутствии бывших узников Заксенхаузена — там, где он совершал свои злодеяния. Думаю, у него ненадолго хватит этой ярости. Он скиснет и еще начнет каяться. Будете разговаривать с Мюллером?
— Нет, с вашего разрешения, я заберу его с собой. Преступления совершены им на моей Родине. И судить будут там, где он их совершал.
— Это справедливо, геноссе Фомин. Вот его документы. Теперь о Бломберге. Ваша просьба
выполнена. — Енок положил на стол листок бумаги.
«22-го в 17.00, — прочитал Фомин, — я, совместно с коллегами, осуществил наблюдение за Бломбергом Юлианом, который вышел из собственного дома по Шиллерштрассе, 5 в сопровождении супруги госпожи Бломберг. Она проводила его к трамвайной остановке, где он сел в маршрут 11.
Бломберг доехал до главного вокзала, зашел в кассы, приобрел билет до станции Айзенах, после чего купил газету и прошел в зал ожидания № 2. За несколько минут до прихода поезда я подсел к господину Бломбергу, предъявил ему значок КРИПО
[41] и предложил следовать за мной. Спокойно, без тени тревоги, он спросил меня: не ошибаюсь ли я в своих действиях, и, удовлетворившись моим ответом, проследовал за мной к машине и был доставлен в помещение полицайпрезидиума. В пути Бломберг никаких вопросов не задавал. Вахмайстер Аксельман, дублировавший наблюдение, доложил, что задержание Бломберга на вокзале прошло незамеченным для окружающей публики.
Обервахмайстер Г. Бухгольц».
— Значит, Бломберг здесь. Его можно пригласить сюда, геноссе Енок?
— Конечно. Сейчас, — Енок позвонил по телефону, и полицейский ввел в кабинет старика в темно-сером, потертом, но опрятном, отглаженном костюме: над высоким лбом, обильно изрезанном морщинами, топорщился седой ежик, а брови были рыжие, похожие на гусениц. Бломберг выглядел значительно старше своих пятидесяти семи лет.
Енок предложил ему сесть.
— Спасибо, — Бломберг привычным движением поддернул складки брюк, сел и окинул кабинет безучастным взглядом.
«Он действительно удивительно спокоен, — отметил про себя Фомин. — Что это? Уверенность в нашей неосведомленности или полное безразличие к своей судьбе? Если последнее, то это опасно».
— Как вы считаете, господин Бломберг, почему вас доставили сюда? — спросил Фомин.
— Я достаточно пожил, господа, и много видел, чтобы чему-нибудь удивляться. Если вы сочли мой арест необходимым, значит, так надо.
— Вы уверены, что оснований нет? — спросил Енок.
— Все в руках божьих. Но вины за мной перед вами действительно нет.
— Мы не станем сейчас углубляться в дебри вашей биографии. Она нам хорошо известна. Надеюсь, вы достаточно разумны, чтобы правдиво ответить на все вопросы. У нас есть неоспоримые доказательства вашего сотрудничества с английской разведкой и того, что вы находитесь на связи у резидента по кличке «Лоцман», — сказал Фомин.
Лишь подрагивание тяжелых век указывало на то, что слова достигли цели.
— Расскажите, как вас завербовали. Когда и где вы последний раз встречались с «Лоцманом»? Когда должны увидеться вновь?
Сидя в той же позе и не поднимая глаз, Бломберг заговорил глухим голосом, спокойно и бесстрастно:
— Постараюсь оправдать ваши надежды, господа. Вам, верно, известно, что с сорок первого по сорок пятый год я работал переводчиком при лагере военнопленных, обслуживающих железнодорожную дирекцию. Внутренними делами в лагере занимался гестаповец Альфред Фердман — он и есть «Лоцман», который вас интересует. Я был его осведомителем. С приходом англичан, точнее после краха Гитлера, Фердман очень скоро нашел себе новых покровителей. Мы поменяли хозяев. В начале сорок седьмого, не желая встречи с вами, он выехал, насколько мне известно, с помощью англичан в Западный Берлин. Сначала приезжал частенько, но за последние полгода был здесь всего один раз. Так во всяком случае знаю я.
— Имеете ли с ним связь?
— Изредка получаю открытки. Отвечаю тем же. Его абонементный адрес вы найдете в моей записной книжке. Работая переводчиком отдела бургомистрата, я информировал Фердмана о всех мерах советской военной администрации, связанных с промышленностью. Его интересовала именно промышленность. А если судить по вознаграждениям — моей информацией были довольны.
— О чем вы думали, Бломберг, когда решили продолжить свою связь с Фердманом? — спросил Фомин. — Это путь шпионажа, и, в конечном итоге, вы вредили не нам, — я имею в виду советскую военную администрацию, — а прежде всего своему народу, который и так настрадался из-за фашистских авантюр и войн, навязанных Гитлером Европе. Вы ведь работали на англичан и изменили своей родине, которая приняла вас, забыв о прошлом, дала вам права гражданства, а в недалеком будущем смогла бы обеспечить и старость.
— Я не Гамлет, господа. Но вопрос тогда стоял именно так: «Быть или не быть?» Отказаться от настойчивых предложений Фердмана означало для меня пополнить лагерь военнопленных еще на одну единицу. Принять предложение означало «быть». Иначе говоря — жить. А жизнь, господа, даже на коленях, все-таки жизнь. Нет, я не герой, господа. Приход сюда русских не мог изменить моего подневольного положения. Отступать было некуда. Я имел здесь жену, дом — все, чтобы в конце своего пути пожить спокойно. Теперь я понимаю, что все это были иллюзии, ибо, как гласит русская поговорка: «Сколько веревочке не виться, а конец будет». Я знал, чем это грозит и все-таки надеялся, что участь провала обойдет меня. Если бы я хоть чем-нибудь мог искупить свою вину, — неожиданно закончил Бломберг. — В самом деле, господа. Я говорю это искренно, и главное — крови людей на моей совести нет.
Голос его упал почти до шепота.
— Вы знаете кого-либо из лиц, связанных с Фердманом? — спросил Енок.
— Из числа бывших военнопленных — да. Но это бесполезно, их здесь давно нет. Разъехались в разные стороны, и среди жителей города их нет. Хотя… Если судить по осведомленности Фердмана в ряде вопросов, то у него здесь есть помощники. Только я, увы, их не знаю.
Бломберг умолк.
— Хотите еще что-либо добавить, — спросил Фомин после долгой паузы.
— Я все рассказал. Если интересуют детали, могу дополнить.
— Детали интересуют, но лучше напишите все это. Сейчас вам дадут письменные принадлежности, и, поскольку вы хорошо знаете русский язык, напишите по-русски, — добавил Фомин.
— Вы не оставите мне небольшой надежды? — обратился к нему Бломберг. — Я постараюсь…
— Пишите, а там посмотрим.
Бломберга увели.
— Ваше мнение? — спросил Фомин Енока.
— Старик препаршивый. По шпорит, мне кажется, правду. Да и чего ему теперь скрывать. Он не глуп, совсем не глуп и понимает, чем может себя хоть как-то реабилитировать. Глядишь, и пожалеют…
— Но пока подождем выдавать ему такой вексель. Тем сильнее окажет на него воздействие наше последующее предложение. Другого пути заполучить «Лоцмана» у нас нет. Конечно, очень жаль, что мы не знаем о времени его следующего появления здесь, но ждать его можно в любой день. Хорошо бы подобрать три-четыре бригады на тот случай, если получим сигнал о его приезде.
— Такие парни у меня найдутся. Несколько человек недавно вернулись со специальных курсов. Есть и «старички», имеющие опыт конспирации и борьбы с гестапо, за которых я ручаюсь и уверен, что они справятся.
5
Полковник Герхард Бэтхер вернулся в Пуллах, довольный результатами поездки. Гелен несомненно отметит такой успех. С генералом Рейнгардом Геленом Бэтхера связывала не только многолетняя совместная работа. Полковник был одним из тех, кто еще в 1944 году помогал генералу осуществлять его далеко идущие замыслы. Теперь Бэтхер имел право в любое время, без предварительного доклада, заходить к своему шефу. Более того, наедине он называл своего всесильного начальника просто Рейнгардом, а тот, в свою очередь, звал его Герхардом.
В приемной вышколенный адъютант стремительно поднялся и застыл в немом приветствии. Молча кивнув ему, Бэтхер отворил тяжелую дверь кабинета-сейфа.
Единственным украшением кабинета была маска кайзера Фридриха. За огромным письменным столом, углубившись в чтение бумаг, сидел ничем не примечательный человек, если не считать черных усов — примета, от которой всегда легко избавиться. Рядом на столе лежали большие, в дорогой черепаховой оправе, темные очки. Гелен надевал их каждый раз, когда выходил на улицу, независимо от времени — днем или вечером. Он всячески старался окружить себя ореолом таинственности. Туманны для непосвященных его дела, во всем пасмурная непроницаемость. Это как-то оправдывало уже приставшую к нему кличку «Серый генерал».
— Добрый день, Рейнгард, — Бэтхер устало опустился в кресло.
— Вы только вернулись?
— Да, решил сразу же доложить о результатах поездки, а уж потом пойду отдохнуть и… Признаюсь, меня беспокоит Леди. Я уже говорил о ней — это моя королевская борзая. Позавчера псина перестала есть, нос горячий. Я разговаривал с Гретой по телефону, она вызывала врача…
Бэтхер прекрасно понимал, что Гелена крайне интересуют результаты его рейда в Ганновер, однако выдержка шефа была железной, и он не изменял своему правилу не торопиться. Тогда Бэтхер сам начал задавать вопросы.
— Надеюсь, наш Бобби не догадался о том, что мы, не испросив у него на то разрешения, задумали пощупать лордов?
— Бобби?.. — так они называли между собой прикомандированного к ним представителя американской разведки. — Он даже не звонил эти дни. Торжествует победу, которую я ему организовал. И вообще после «Богемии»
[42] я предложил ему без особой необходимости меня не беспокоить. Он, как видите, придерживается этого условия. А вы мне хотите что-то рассказать, Герхард?
— Мы в значительной мере были в курсе материалов, которые получали англичане от своей агентуры, я их систематизировал. Явился с ними к Старку. Я вам уже говорил, что его брат, член парламента, имеет широкие связи в правительственных кругах. Моих козырей оказалось более чем достаточно. Так или иначе, он наш. Я, правда, окончательно еще не решил, как лучше его использовать. Пожалуй, целесообразней подождать, чтобы он оказывал нам услуги, когда вернется домой. Там, на острове, от него будет значительно больше пользы. А пока англичане и он верны себе и пытаются загребать жар нашими руками.
— Вы хотели сказать руками некоторых немцев.
— Все равно меня это раздражает.
— Успокойтесь, Герхард, — заметил Гелен, — неужели я испытываю удовольствие, доставая из огня каштаны американцам? — Он поднялся. — Но главное ведь не в этом. Мы выжили и сумели, мой друг, распространить свое влияние за пределы существующих ныне границ. Я имею в виду не только Восточную Германию. И тогда американцы, которым уже сейчас мы даем далеко не все, перестанут быть хозяевами положения. Теперь мы научены многому и будем осмотрительны. Мы проиграли войну, но в политическом аспекте… У нас сейчас опять появились определенные шансы. Состояние напряженности между Востоком и Западом уже изменило отношение к нам западных держав. И мы отвоевываем политическую самостоятельность в действиях. Разных мастей Старки, английские, американские, французские и прочие, нам в этом даже помогут. А возможно, мы поработаем с ними в одной упряжке. Побольше выдержки, Герхард.
Когда отдохнете, я вас познакомлю с докладом Скорцени
[43] по Испании. Он пишет, что там, на улице Гойи
[44] нашли прибежище немало наших коллег. Там, кстати, объявился Ахим Остер-младший. Помните, его отец служил у нашего адмирала и был крупнейшим специалистом по испанским делам. В общем-то есть не только Остер-младший. Так что нам, дорогой, будет на кого опереться. Но я, кажется, заговорил вас. Идите отдыхайте.
Бэтхер ушел несколько сконфуженный и огорченный тем, что своим рассказом шеф в значительной степени принизил его заслуги. «Что ж, такому умению поставить на место своих подчиненных, даже друзей, надо поучиться», — отметил он.
6
«Ну вот и опять завертелось колесо, — думал Фокин, возвращаясь от Енока. — Не успели закончить дела с «Аяксами», как на арену выплыл такой солидный противник, как «Лоцман», да еще с сетью агентуры (если подтвердится предположение Бломберга). А эти куда хотят? Тоже пролезть в конструкторское бюро? Может быть, этот Фердман — «Лоцман» и есть главная фигура в большой игре, которую ведет Старк?» И один ли Старк? Согласно сводкам, которые поступали от советских органов контрразведки, все большую активность проявляло ведомство Гелена. Да и американцы не чурались бывших гитлеровцев, норовили заполучить себе в агенты маститых военных преступников.
Свои резидентуры создавали и те, кто даже не имел отношения к разведывательным органам — дельцы, бежавшие на запад, те, у которых были в Восточной Германии экспроприированы предприятия. Эти старались организовать саботажи, будоражить умы людей всевозможной клеветой на народную власть. И во всех этих хитросплетениях совсем не легко было разобраться и определить: кто есть кто?
Фомин вспомнил, как еще осенью 1946 года был фальсифицирован и распространен некий приказ СВАГ
[45] № 139, согласно которому акционерные общества конфискации якобы не подлежали. «Приказ», как потом выяснилось, был сфабрикован в Западном Берлине концернами «АЭГ», «Телефункен» и «Сименс». Какую же бучу подняла тогда вся буржуазная пресса. А в это время под шумок эти и другие концерны стремились пристроить в административные органы Восточной Германии своих представителей и с их помощью саботировать передачу монополистических предприятий в руки народа.
С тех пор обстановка значительно разрядилась, и правительства земель набрали силу, а немецкая экономическая комиссия стала подлинным центром руководства страны. Однако политическая борьба не прекращалась ни на минуту.
Запад пропагандировал так называемый «план Маршалла». Под предлогом помощи народам Европы кредитами и поставками товаров, американские монополии хотели завоевать себе экономическое господство в этой части света, а заодно подавить революционное движение. В июле 1947 года Центральный секретариат СЕПГ разоблачил истинные цели «плана Маршалла». В заявлении вспоминался горький опыт, который уже имел рабочий класс Германии в двадцатые годы. Американские займы привели тогда к кризису, фашизму и войне.
«Последствия новой американской политики займов будут такими же роковым, если не хуже, — говорилось в заявлении СЕПГ. — Промышленный запад Германии включается в за йодный блок, угрожающий миру. Власть германских монополий остается неприкосновенной. Вместо немецкой мирной экономики возникает новый центр господства реакционных и жаждущих войны элементов. Вместо права рабочих на участие в руководстве экономическим строительством появится наемное рабство в интересах иностранных и немецких монополистов».
Фомин, которому по долгу службы надлежало быть хорошо информированным обо всем, что делалось здесь, в Германии, в свое время завел себе личное досье, куда собирал наиболее важные, на его взгляд, статьи и заметки из газет и журналов. Поступать так рекомендовал офицерам Кторов. Теперь досье Фомина разрослось в несколько увесистых папок и обрело систему — материалы он классифицировал по тематике и легко находил то, в чем вдруг появлялась необходимость. Это было нечто большее, чем простое чтение прессы; он приучил себя к анализу происходящих событий. А многое из того, что хранилось в досье, запоминал довольно основательно: фамилии различных деятелей, названия городов и организаций, важные положения, различные государственные документы. Делал Фомин и выписки из желтой папки, документы в которой комплектовались полковником и периодически давались офицерам отдела для общей ориентации. Но это были не просто ориентации, а одна из форм политической учебы, в которой материалами служили первоисточники.
«Если хотите знать противника, необходимо знать, что он думает, как он думает и каким богам поклоняется», — говорил Кторов своим сотрудникам.
Теперь, рассуждая о своей работе и предстоящих делах, Фомин довольно четко представлял себе политическую обстановку, в которой приходилось действовать ему и Еноку. На основании этой обстановки можно было делать некоторые выводы и о людях, о сдвигах в психологии тех или иных противников, в зависимости от обстоятельств, в которые они попадали. Сейчас ему представлялись понятным;: позиция и поведение Бломберга. Старик не был чужд анализу политических событий и уже раньше, еще до своего ареста, начал пересматривать свои жизненные принципы.
Правда, слишком смело было бы предполагать, что у Бломберга сразу, вот так, вдруг сменились взгляды на то, кто ему враг, кто друг. И все же Бломберг не мог не видеть того, что происходило вокруг, не мог оставаться равнодушным к усилиям, принимаемым тем же бургомистратом в налаживании жизни. В сознании Бломберга намечался перелом. Фомин знал уже много примеров, когда люди сами приходили с повинной, рассказывая о своих грехах и ошибках, приходили потому, что хотели жить иначе, чем раньше. И не только жить, но и мыслить.
«Что скажет Кторов?» — думал Фомин, положив на стол начальника протокол допроса. А Кторов не торопился, читал медленно, возвращаясь и перечитывая некоторые места. Наконец, задумчиво посмотрел на Фомина.
— Хотите, я угадаю, что вы сейчас думаете?.. Вы ждете, чтобы я сказал: «Старику хочется верить».
— Да, Георгий Васильевич… Но почему вы так решили?
— Ничего сложного. Протокол оставляет такое впечатление — Бломбергу и в самом деле некуда отступать. Да он и не хочет, видимо, и потому ничего не скрывает… А по выражению вашего лица я догадался, чего вы ждете. Ведь со мной вам не нужно играть в прятки, не так ли? Ну, хорошо. Каково ваше окончательное решение?
— В первый момент мне казалось, что ему все глубоко безразлично. Вел себя инертно, бесстрастно. Потом разговорился и даже спросил, не может ли быть нам полезен. Естественно, никаких авансов мы не дали. Предложили написать подробно о своей деятельности, дать перечень сведений, переданных резиденту, и прочее… Если он узнает, что мы намерены прибегнуть к его помощи…
— Я все понял, — улыбнулся Кторов. — Ну, что же, попробуйте ему поверить. А Енок?
— Он тоже склонен к тому, что Бломберг постарается заслужить наше доверие в надежде получить свободу. А потом, Георгий Васильевич, у нас не такой уж большой выбор возможностей. Точнее, всего единственная возможность. Без Бломберга у нас не будет Фердмана. Его никто не знает, фотографии его нет. Брать Бломберга под наблюдение, устанавливать и проверять все его связи бессмысленно. Так мы цели не достигнем. Фердман тем временем появится, соберет материал и улепетнет обратно. Да еще если узнает о провале Бломберга… Попробуй потом выуди его!..
— Не нужно меня убеждать. Я же сказал — действуйте. — Мюллер, как вы понимаете, все равно для этой роли не подошел бы. А ведь признайтесь, вы, — впрочем, и я тоже — питали некоторые надежды, пока не встретились с ним. Мерзкий тип, по которому давно плачет петля. Мюллера этапируйте на Украину. Вы читали письмо железнодорожников?
— Читал. Мурашки по коже.
— Вот пусть и ответит за все свои преступления.
Глава двенадцатая
1
Теперь, когда ставки были сделаны и рулетка стремительно закрутилась, Лютце с досадой думал о тех обязанностях, которые он на себя взял в начале своего прибытия в Энбург. Хотя без них он бы не чувствовал себя спокойным, не имел бы прикрытия. Пришло время сдавать работу Крамеру.
— Никак не думал, Макс, что ты сумеешь так быстро управиться, — Карл не без удовольствия осматривал восстановленную станцию. — Ты не представляешь себе, как я доволен и как благодарен тебе, дружище. Завтра же зарегистрирую станцию у властей, и дело мое расширится. Сколько ты еще думаешь пробыть здесь?
— Примерно неделю. А может быть, и две.
— Заедем ко мне, отпразднуем это маленькое событие, — предложил Карл.
— С удовольствием, — сказал Лютце, — ведь других дел у меня нет. Я теперь вроде бы безработный. Подумай и об этом…
Остаток дня Лютце вынужден был провести у старого приятеля, хоть его так и подмывало встать и уйти. Удерживало одно — нужно было задержать у себя документы, удостоверяющие его работу в Энбурге. Кончилось тем, что Лютце их не вернул. Да Крамер и не настаивал, решив, что Макс лучше знает, когда это сделать.
Вечером Лютце не поленился отправиться на другой конец города и проехал мимо дома Факлера. Окно в кабинете едва светилось, хозяин, видимо, работал. «Трудись, трудись, — процедил сквозь зубы Лютце. — Скоро вез это мне пригодится. А может быть, и ты сам захочешь поработать на меня, одержимый радист-любитель?»
Возвращаясь к себе, он с сожалением думал о том, что не успел прощупать Факлера на «золотой крючок» и выяснить степень его податливости. Тогда было бы, конечно, много проще. Но уж слишком мало времени было в его, Лютце, распоряжении.
Дома он тщательно проверил полученный от Старка бесшумный пистолет, достал и примерил электрические перчатки — гордость английского патрона. Особенно внимательно Лютце отобрал отмычки. «Попробуем войти без спроса и разведать, а там будет видно… Итак, завтра…»
2
— Когда, Евгений Николаевич, я услышал в трубке ваш голос, сразу вспомнил наш разговор в автобусе, — сказал Денисов. — Решил, что в этом вес дело. Верно? Приехал незамедлительно. Просвещайте меня.
— Все верно, Виктор Сергеевич. Но речь вовсе не идет о соблюдении каких-то абстрактных осторожностей, тут вещи конкретные. Прошлый раз я скользь упомянул, что английская разведка проявляет повышенный интерес к работам бюро. Теперь нам стало известно, что она интересуется лично вами. Да, да, представьте себе.
— Право, не замечал…
— Возможно, Виктор Сергеевич. Вы увлечены своим делом и многого могли не замечать. Кстати, это и делается обычно так, чтобы не было заметно. А потом — с той поры, как закончилась война, уже прошел значительный срок — мы добреем, притупляется внимание, и не та, что в войну, острота восприятия окружающего, и прежде всего людей, в поле зрения которых мы попадаем. К сожалению, я не могу вам дать ничего кроме ординарного, но верного совета: будьте предельно бдительны.
— Вы знаете, кто именно угрожает мне?
— Если бы мы знали, кто, милый мой Виктор Сергеевич, — печально улыбнулся Фомин. — Если бы только знали… Как бы тогда было просто…
— Круг лиц, с кем я встречаюсь, ограничен. — В глазах Денисова была досада и озабоченность. — Давайте разберемся. Из местных изредка бываю на квартире у профессора Шарфа. Это прекрасный человек: известный ученый, антифашист, бывший узник гитлеровских лагерей. На работе?.. Там постоянно вижусь лишь с некоторыми сотрудниками бюро. Их имена, надеюсь, вам известны. Больше у меня знакомых среди немцев тут нет. Пожалуй, можете еще включить сюда шоферов, которые меня возят, и ту милую девушку. Ну ту, помните, когда ездили в Лейпциг?..
— Ту, которой стало дурно на башне… Вы заходили к ней?
— Нет. Уехал в командировку, был на разных предприятиях, где выполняются наши заказы. А ее мы ведь собирались навестить вдвоем, — улыбнулся Денисов. — Вот так. Выходит, что я нигде и не бывал здесь после Лейпцига, кроме Дома офицеров: там изредка балуюсь на бильярде.
— Ну бог с ними, с вашими знакомыми, — сказал Фомин, — мне важно было сказать вам, что вами интересуются. А кто — я думаю, выясним сообща. Теперь же от дел грешных к человеческим страстям. Пора дать бой рыбе! Как смотрите, если в ближайшую субботу махнуть на рыбалку?..
Фомин проводил Денисова, а сам пошел ужинать. «Не мешало бы на время прикрепить к Денисову постоянного шофера, — думал он по дороге в столовую. — Кого-нибудь из наших или пограничников. Может быть, Петрова? Отличный парень. Сегодня же надо договориться об этом с Кторовым».
3
В предполуденный час этот, утопающий в зелени, уголок города был тихим и пустынным. Остановив машину, Лютце увидел лишь двух стариков, которые, удаляясь, брели в тени деревьев.
Вход в дом Факлера был скрыт густым кустарником и не просматривался с улицы. «Осторожность не помешает», — Лютце надел перчатки, полученные от Старка. Ему без труда удалось открыть калитку, но с замком от входной двери пришлось изрядно повозиться.
Притворив за собой дверь, он обошел квартиру. Сейчас, днем, он мог лучше разглядеть ее. Трудно было поверить, что в ней живет одинокий мужчина, такой крутом царил идеальный порядок и чистота. Непреодолимой преградой на пути к желанной цели стала массивная дверь в кабинет. В нее был врезан сложный замок, против которого отмычки Лютце оказались бессильными. Взломать — значит, оставить следы, а это никак не входило в его расчеты. Надо было искать другой выход.
Досадуя на непредвиденную задержку, Лютце стал заглядывать в многочисленные ящики шкафа, занимавшего добрую половину кухни. В одном из них обнаружил связку ключей, однако среди всех нужного ему не оказалось. Беглый осмотр отделения, где хранились продукты, неожиданно принес успех — на полке, рядом с банкой суррогатного кофе, лежал длинный, плоский ключ. «Тебе, как всегда, везет, одинокий счастливчик», — улыбнулся Лютце, когда замок мягко щелкнул. Привыкнув к полумраку, Лютце подошел к окну, выходящему в сад, и поднял жалюзи.
Широкая полоса солнечного света поделила комнату пополам… Взглянув на часы, Лютце стал обследовать ящики письменного стола. В первом же наткнулся на желтую папку в твердом коленкоровом переплете. Открыл, на плотном листе четким каллиграфическим почерком было выведено: «Некоторые дополнительные расчеты К2ХС-Б». Ниже шли совершенно непонятные ему формулы и заметки, пересыпанные столь же непонятными терминами. Он подсчитал листки — двенадцать. Чепуха — десять минут работы. Перенес вертящийся стул от верстака к окну. Здесь света было достаточно. Вынул из кармана «Минокс»
[46].
Легкие щелчки, шуршание переворачиваемых листов… И вдруг!..
— Теперь мне понятно, почему вы были столь любознательны, милейший Макс.
Лютце от неожиданности чуть не выронил аппарат. На пороге с толстой суковатой палкой в руке стоял Факлер.
— Если не ошибаюсь, — продолжал Факлер, — это выглядит примерно так: «Ах, здравствуйте, мы вас не ждали», — он шагнул в комнату. — Значит, не понадобись мне сейчас один расчет, вы спокойно распорядились бы моими материалами. Не так ли?
— Я очень сожалею, — хрипло выдавил Лютце, — но мне пришлось зайти, когда вас не было, — он взял аппарат в левую руку и положил его на подоконник, опустив правую в карман.
Это не ускользнуло от внимания Вернера.
— Не пытайтесь доставать оружие, — крикнул Вернер. — Я прикончу вас этой дубиной, — он угрожающе поднял палку над головой.
— Какое оружие? — принужденно улыбнулся Лютце, надавив рычажок переключателя. — Вот, смотрите, — он медленно вытащил руку из кармана и раскрыл ладонь, — на мне, как вы видите, только перчатки. И потом, я пытался договориться, но вы оказались слишком розовым немцем, мой дорогой. Вы совершили грандиозную ошибку, решив, что с проигрышем войны, проиграно будущее великой Германии. Мы еще возьмем реванш, и есть люди…
— Ах ты, гестаповская сволочь! — Факлер, замахнувшись палкой, бросился на Лютце.
— Зря спешишь на тот свет, мой мальчик, — Лютце выскользнул из-под удара и нырком кинулся на Факлера.
Факлер вскрикнул и упал мешком, по телу пробежала конвульсия, несколько раз судорожно глотнул воздух и затих. Лицо начало принимать землистый оттенок, широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели в потолок. Мутная слезинка сорвалась с уголка глаза и сползла к виску.
— Ты зря спешил на тот свет, мой мальчик, — повторил Лютце, словно Факлер еще мог его слышать, и отпустил руку инженера. Она глухо ударилась об пол.
«Безобидные на вид перчатки оказались куда лучше пистолета. Тихо и никаких следов. Ай да англичанин! — Лютце осторожно отключил батарейки. — Что дальше? С радиолюбителем все очень просто. Легче и правдоподобнее всего инсценировать несчастный случай. Как быть с бумагами? Если о них кто-либо знал, брать их нельзя. Обойдусь пленкой», — решил он.
Пересняв оставшиеся страницы, Лютце положил папку в стол, поставил на место стул. Осторожно, чтобы труп не касался пола, подтащил его к столу, на котором стоял подготовленный к проверке радиопередатчик, и посадил в кресло. Безжизненное тело было непослушным, и Лютце с трудом удалось придать ему желаемую позу. Затем он вложил в левую руку мертвеца пинцет, а пальцы правой положил на шасси.

Включил передатчик, раздался легкий треск, мертвец дернулся.
«Дадим, пожалуй, на сцену побольше света, — он поднял жалюзи второго окна и еще раз все внимательно проверил, не осталось ли каких улик. На блестящем чистотой паркете проявились пыльные отпечатки следов. Полотенцем, взятым в ванной, Лютце протер полы. Остановился у дверей, окинул взглядом комнату, страшный маскарад и, довольный делом своих рук, покинул дом.
Единственно, что вызывало беспокойство — машина у дома. Ее следовало бы загнать в гараж;, так она бросается в глаза и если простоит долго…
Но он не захотел больше испытывать судьбу, кто-нибудь из соседей увидит, и тогда…
И опять ему чертовски везло: улица была пустынна.
4
— Скажите, Шура, от Енока ничего не поступало? — заглянул Фомин в секретариат.
— Есть. Вот в этой папке. Перевод я уже сделала. Он взял бумаги.
«Секретно.
Полицайпрезидиум, отдел К-5, Энбург.
По официальным данным, имеющимся в полицейском участке № 6, известно следующее: фрейлейн Лотта Бор на жительство в Энбург прибыла в октябре 1945 года из Шербургдорфа, округ Ганновер, где работала по найму. Сведений о принадлежности фрейлейн к молодежным националистическим женским организациям нет. С декабря 1945 года по февраль 1946 года фрейлейн Бор пела в варьете Тиволи, а затем перешла в молодежный «Голубой джаз», где работает и теперь. Коллеги характеризуют фрейлейн доброй и отзывчивой. К демократическим преобразованиям в стране относится исключительно лояльно, как и к властям».
«Маловато, — почесал затылок Фомин. — Любопытно только, что заставило ее приехать из Ганновера в Энбург? Почему именно захотела в советскую зону? Впрочем, тогда здесь вообще никаких зон не было.
Да, фрейлейн, — рассуждал Фомин, — интересно, что вы такое есть и что-то у вас на уме? Короткая встреча с Денисовым заставляет нас задумываться и рассуждать… Может быть, вы прекрасный человек, но вот слово «Ганновер» в справке. Ваша профессия открывает широкие возможности: джаз приглашают в Дом офицеров, в воинские части. Внешне вы красивы. Вы скромны. Вот и Денисов утверждает это, говорит, что сам был инициатором знакомства. Чего, увы, теперь не проверишь. А проверить необходимо. И если вы окажетесь ни к чему не причастными, милая фрейлейн, мы будем только рады».
Фомин вздохнул и взял другое письмо Енока. В нем была информация о мерах, принятых для усиления охраны конструкторского бюро, в том числе о введении дополнительных постов в районе объекта.
5
Дело Бломберга обсуждали сообща Енок, фомин и Скиталец. Так посоветовал Кторов.
— Мне думается, — сказал Енок, — Бломберг с радостью ухватится за спасательную соломинку. Я присмотрелся к нему за эти дни. За собой он особых грехов не видит и надеется на нашу милость. К тому же я перечитал его заявление с перечнем переданных «Лоцману» сведений. Они ведь довольно поверхностны, без деталей: а кое-что просто взято из нашей печати. Старик не очень усердствовал, зарабатывая у Фердмана. Если считать, конечно, что он написал нам правду, ничего не скрывая.
— Дайте-ка мне еще раз взглянуть, — попросил Фомин.
Енок пододвинул ему стопку бумаги, исписанную крупно, четко, с соблюдением старинной русской орфографии и с «ятью». У Енока остался немецкий перевод. Читая, Фомин передавал листы Скитальцу.
— Вы правы, геноссе Енок. Если здесь все правдиво, то ценность собранной им информации невелика, хотя и обширна. Заметим, что тут нет ни слова о бюро. Или он о нем не знал, что маловероятно, или, догадываясь, какое значение мы ему придаем, решил ничего не писать.
— Я имею, геноссе Евгений, одно предложение. Не знаю, как вы к нему отнесетесь? Что, если пригласить супругу Бломберга? Мне сказали, что она неглупая энергичная женщина, имеет на мужа влияние, хотя и мало посвящена в его дела. Не вдаваясь в подробности, расскажем ей о преступлении Бломберга и дадим понять, что ее семейная жизнь в дальнейшем целиком зависит от того, как будет вести себя муж. В ее лице мы можем получить сильнейшего союзника.
— Возможно, — согласился Фомин. — Это даже интересно. Как считаете? — обратился он к Скитальцу.
— Я мало искушен в таких делах, но то, что говорит геноссе Енок, действительно интересно.
— Я пошлю за ней сотрудника, — предложил Енок. — Он потихоньку, без шума, спокойно ее пригласит. Попросит, чтобы никому не говорила, что ее вызывают в полицию. И распоряжусь, чтобы доставили и Бломберга.
Бломберга привели раньше. Он производил жалкое впечатление. Борода отросла, и поэтому он казался еще старше. Опускаясь на стул, не забыл, однако, подтянуть складку брюк.
— Готовы продолжить разговор? — спросил Фомин.
— Готов, — ответил Бломберг.
— Фердман — это настоящая фамилия «Лоцмана»?
— Насколько мне известно, настоящая.
— Ваша жена знает его?
— Да, раза три — четыре он был у меня дома. Я представил его, как своего сослуживца.
— В ваших показаниях нет ничего о бюро профессора Шааде?
— Я недавно узнал о его существовании. Оно не подчиняется бургомистрату и находится в ведении немецкой экономической комиссии. Поэтому о нем я ничего и не сообщал.
— Вы состояли в национал-социалистской партии?
— Нет. Мне была чужда ее идеология.
— Слова, господин Бломберг! — заметил Енок.
— Сожалею, но ничем не могу доказать правдивость своих слов. Но я, не афишируя, конечно, этого, никогда не разделял взглядов нацистов.
— Ну, а если мы дадим вам возможность доказать свою искренность? — спросил Скиталец и, спохватившись, посмотрел на Енока и Фомина — не поспешил ли, мол с вопросом.
— Попробуйте поверить, — сказал Бломберг. — Дайте доказать — я докажу. Сделаю все, что в моих силах, господа.
— Попробуем, — Фомин переглянулся с товарищами. — Помогите нам задержать и разоблачить Фердмана.
— Я готов. Но где и как? Научите?
— Как? Мы решим вместе. Где? Тоже обсудим. Когда?.. — Фомин закурил, немного волнуясь. — В ближайшие дни Фердман должен появиться здесь, в городе, — он протянул Бломбергу портсигар. Тот закурил, закашлялся и тут же отложил сигарету:
— Простите, я не курю. Если так, постарайтесь мне поверить. Скажите, что нужно сделать, и будь он проклят…
— Как Фердман связывался с вами последнее время?
— Звонил по телефону, и мы договаривались о встрече. Происходили они в разных местах: в кафе, пивных, парках, вокзалах. Я передавал готовый материал. Если обстановка позволяла, он его перечитывал, уточнял детали. Если было неудобно, я передавал сообщения на словах. Даты следующих встреч, места встреч он никогда не назначал. Он очень осторожен.
— Как часто он давал о себе знать?
— Примерно раз в десять, иногда в пятнадцать дней. Бывало, что он звонил и приказывал встретиться с ним на следующий день после того, как мы с ним уже встречались. Фердман хитер и здоров, как бык. Его, господа, не легко будет взять.
— Сколько примерно проходило времени между его телефонным звонком и вашей встречей?
— Как правило, звонил он незадолго до конца рабочего дня. Прежде чем подойти ко мне, он, я не сомневаюсь в этом, тщательно проверяет, все ли вокруг спокойно. Раньше, до конца войны, он носил прическу и усики а-ля фюрер. Теперь он лысеет, и голова, и лицо ею гладко выбриты. Носит темные очки. Еще одна особенность: Фердман — левша.
— Господин Бломберг, сейчас сюда придет ваша жена. Мы расскажем кое-что о ваших делах, и вы в ее присутствии пообещаете, что поможете нам в задержании Фердмана. После этого мы, в свою очередь, гарантируем вам свободу. Если…
— Жена? При чем тут жена? — Бломберг всплеснул руками. — Зачем… Господа, еще раз прошу, попытайтесь поверить мне, дайте мне возможность…
В комнату вошел сотрудник и доложил Еноку, что госпожа Бломберг в приемной.
6
— Здравия желаю, товарищ капитан! — прервал мысли Фомина знакомый голос. Рядом, широко улыбаясь, стоял старшина Петров почему-то в штатском.
— Здравствуйте, Петров. Что за маскарад?
— Уже несколько дней в новом качестве. Приказали надеть этот цивильный костюм. Я теперь шофер Виктора Сергеевича Денисова и его товарищей… Живу тут у вас, вместе с вашими ребятами.
— Ну и отлично, нравится вам на новом месте?
— Я доволен. Движение — есть жизнь, — улыбнулся Петров. — Больше вижу.
— А как стихи?
— Пишу, в газете недавно напечатали. И еще мою статью про друзей. Вернее, очерк. Готовлюсь, Евгений Николаевич, как вы советовали, в университет на факультет журналистики. А там, что получится.
— Молодчина. А стихи дали бы почитать. Есть что-нибудь новенькое?
— Вообще-то есть. Только когда уж вам стихи читать. Несколько раз заходил — вы все куда-то ездите. Вид, я гляжу, у вас усталый. Работы небось хватает.
— Да, хватает, Саша. А где сейчас Виктор Сергеевич?
— В ресторане Дома офицеров. Мы приехали ужинать. Я-то правда, уже поел в подразделении, а он только теперь собрался.
— Тогда я сейчас его разыщу. Я тоже голоден, как волк.
Фомин не сразу нашел Денисова в огромном зале. Тот сиротливо сидел в углу за пустым столиком и озабоченно изучал меню.
Денисов вскинул голову:
— Вот здорово. Присаживайтесь, пожалуйста. А то скучаю, понимаете ли, и обслуживать что-то сегодня не торопятся. Даже Москва вспомнилась. — Денисов рассмеялся. — А ведь верно: московские официанты — народ медлительный. Ждать всегда долго приходится. А вы разве холостяк? В прошлый раз не спросил…
— Да как вам сказать, — Фомин потупился. — Есть у меня сын Сережка, мать… Да я вам потом расскажу.
— А я одиночка-переросток, привык вот так по-казенному — то в столовой, то в ресторане, — с печальной иронией заметил Денисов. — Правда, не моя тут вина. Работы было всегда невпроворот. Война… Вы сегодня свободны? Может быть, сходим вместе с кино? Честное слово, давайте вместе. А?.. Я проезжал мимо клуба, там скопище народу. Идет новый фильм Бориса Барнета «Подвиг разведчика», в главной роли Кадочников. О ваших коллегах, Евгений Николаевич. Пойдем?
— Когда вы думаете пойти?
— Сразу после ужина.
— Решено. Между прочим, после того, как вы сказали, что делал этот фильм Барнет, мне просто необходимо его посмотреть…
— Почему так?
— Я знаком с семьей Барнетов и с детства люблю фильмы Бориса Васильевича. Кажется, к нам идет официантка.
…Они едва успели к началу сеанса. Смотрели с интересом, волновались, перешептывались. Фильм понравился. Он явно имел успех у большинства зрителей. Выходили шумно, со спорами. Одни утверждали, что все вымысел, другие уверяли, что это правда.
— Не выпить ли нам по кружечке пива? — предложил Фомин.
— После такой духоты, охотно. Они зашли в первый же бар.
— Значит, вы знакомы с Барнетом? — спросил Денисов.
— Да. Я словно дома побывал, обрадовался, когда увидел на экране такое знакомое лицо Бориса Васильевича. Хоть он и играет тут врага Кюна… Большой талант, согласитесь — и сценарист, и режиссер, и артист. И добрейшей души человек. Когда-то мы жили в одной квартире. Перед войной он часто и подолгу работал дома. Помню, переделывал сценарий «Старого наездника». И мы, то есть я, его племянник Тошка, его мать и сестра, были первыми слушателями сценария. Он закончил снимать картину перед самой войной. Приехал однажды за своими, ну и нас с мамой взял и повез всех в Дом кино на просмотр. Отличная была комедия. Но началась война, и фильм на экраны не вышел.
Елена Алексеевна, его мать, рассказывала нам, что у них бывал не раз Маяковский, даже пытался ухаживать за женой Бориса Васильевича. Была такая актриса Наталья Глан. Стерва, каких мало, потом эмигрировала в Америку. Заходил к ним и знаменитый дядя Гиляй. Оставил о себе вечную память. В большой комнате, — дом наш старый, — сохранился камин. Он взял однажды и, шутя, свил каминные щипцы. Так они и лежали на каминной решетке. Собственно, в этом доме я впервые мальчишкой познакомился с творчеством Гиляровского. У Елены Алексеевны хранились его дарственные книги «Мои скитания», «Москва и москвичи». Первые издания. Эх! Давно мы дома не были…
Денисов уловил в голосе Фомина грустные нотки.
— Если бы вы знали, Евгений Николаевич, как мне близка и понятна ваша тоска по дому. Я и сам так соскучился по Москве… Бесконечные разъезды. В последние годы если заглядывал туда — не больше как на денек. Тоска по родине — это, знаете ли, болезнь. Как она по-научному называется, ностальгия, кажется? Помните, что писал Маяковский, о котором вы тут вспоминали:
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.
— Вам-то недолго ждать встречи с Родиной, — сказал Фомин.
— Признаться, я рад, что это случится скоро. Уже разговаривал с Москвой, доложил о результатах первых удачных испытаний. Начальство согласилось на мое возвращение. Думаю, что еще неделя и уеду.
— А мне еще придется поработать здесь. Надо помочь немецким друзьям корчевать остатки фашистской нечисти. Если не мы, то кто же?
Глава тринадцатая
1
Денисов встал поздно. Продолжительная ночная поездка в машине утомила. В городе стояла сухая, сонливая духота. Угнетало чувство одиночества, скука. Его коллеги еще вчера уехали на экскурсию в Дрезден. Эх, чего торопился! Лучше бы остался в том маленьком приморском городишке, а не тащился в Энбург. И немецкий коллега настойчиво и любезно уговаривал его остаться. Там, по крайней мере, можно было вдоволь накупаться в море.
«Позвоню-ка Фомину, — подумал Денисов. — Сыграем в шахматы, а еще лучше где-нибудь размяться, поиграть в волейбол».
Но до Фомина он не дозвонился. Того ни дома, ни на работе не оказалось. Стал было искать Петрова, но вспомнил, что отпустил его на весь день.
«Позавтракаю и махну на пляж», — решил Денисов. Он бывал там с товарищами раза два, но то с товарищами… А предупреждение Фомина?.. Бог с ним. Ничего не случится.
Такси поймал сравнительно быстро,
попросил водителя подъехать к Дому офицеров.
— Подождите, я скоро, — и он пошел в буфет купить бутербродов и пива, чтобы дотянуть до обеда.
— Здравствуйте, — остановил его у входа женский голос.
Обернулся и увидел девушку, которую встретил тогда в Лейпциге. Голубое узкое платье очень шло ей, подчеркивая красоту фигуры. Денисов даже растерялся, не зная, как себя вести, что говорить. Она поняла это, улыбнулась:
— Помните? Лейпциг?.. А я ведь ждала вас на следующий вечер и была огорчена, что вы не пришли.
— Обстоятельства… Я уезжал в командировку. — Денисов замялся, переступая с ноги на ногу. А потом спросил: — Вы куда-то собрались?
Она удивленно посмотрела на него, повела плечами:
— Особых планов нет.
— Великолепно. А как бы вы отнеслись к предложению пойти на пляж. То есть поехать. Меня ждет такси. Вы, наверно, знаете, где здесь хорошие места?
— Что, прямо сейчас?
— Ну, конечно. Если это вам удобно. Вот прямо так — взять и поехать.
Она постояла в нерешительности, задумалась.
— Решайте?
— Вообще-то я хорошо знаю места…
— Значит, решено. Садитесь в машину, а я сейчас.
Лотта не успела опомниться, а Денисов уже сбегал по лестнице с кульками и бутылками. Отворил дверцу, вывалил все на сиденье.
— Устраивайтесь.
…После довольно долгих поисков они приглядели место на опушке тенистой рощицы неподалеку от реки. На самом берегу было тесно. Денисов отпустил такси, расстелил на траве махровую простыню, закопал бутылки в песок, наломал веток и укрыл ими свертки.
— Ну вот, — сказал он, — теперь давайте же наконец знакомиться. — И представился: — Денисов Виктор, как вы, наверно, давно догадались, русский.
— Лотта, — она положила руку в протянутую ладонь.
— Теперь, кажется, все в порядке. Садитесь, Лотта. Раз уж мы на пляже, давайте будем принимать, так сказать, пляжный вид.
— Пожалуйста, — она пожала плечами.
Денисов начал было раздеваться, но спохватился:
— Хорош же я! Вот ведь голова! — хлопнул себя по лбу. — Я, как всегда, недогадлив. Извините… Вы без купального костюма? Мы же могли бы заехать к вам, что же вы не подсказали?..
— О, нет, нет. Все хорошо… Он, пожалуй, мне сегодня не понадобится.
Воцарилась пауза. Она села рядом, расправляя складки юбки, вялым движением поправила прическу, рука чуть дрожала.
— Да, неловко получилось, — сказал наконец Денисов. — А здесь нельзя взять костюм напрокат?
— Можно. Только, пожалуйста, не хлопочите, Виктор. Пожалуйста…
Она улыбнулась, но улыбка получилась какая-то вымученная. В настроении девушки, он почувствовал, произошла перемена. Опять наступила томительная пауза… Лотта сидела опустив голову и молчала.
— Хотите пива? — неожиданно для себя спросил Денисов, не зная, как прервать неловкое молчание.
— Нет, спасибо, — тихо сказала Лотта. — Я хотела бы… Вы можете выслушать меня?
— Конечно. Что-нибудь произошло?
— Произошло. Не сейчас. Много раньше. Не удивляйтесь ничему. — Она опять грустно улыбнулась. — Вы услышите исповедь… Да, исповедь. Все равно это когда-нибудь должно было произойти. Все равно бы…
К ее ногам подкатился большой разноцветный мяч. Белокурый мальчуган в матросской курточке подбежал и в нерешительности остановился, не зная, как быть.
— Держи, малыш! — Лотта подкинула мяч, мальчик засмеялся, схватил его и, перебирая толстенькими ножками, побежал к реке, откуда его звала молодая женщина.
Лотта задумалась.
…Разбитая танками и машинами дорога. Выбоины, наполненные до краев холодной грязной водой. Колонна усталых женщин и девушек и окрики солдат: «Шнель, шнель!»
Потом, огороженная ржавой проволокой территория товарной станции и состав дырявых вагонов. Женщина с мальчуганом на руках, одетым в выцветшую матросскую курточку. Она опустила малыша на землю, он побежал и засмеялся. И от этого смеха всем стало не по себе. Мать бросилась вслед за ним: «Стой! Назад!» — закричал ей конвоир. Не повинуясь окрику, женщина продолжала бежать за мальчиком.
Фашист угрожающе поднял автомат. Женщина остановилась, а малыш встал перед ней, разведя ручонки.
Короткая очередь. Мальчик упал. «Господи, что же такое делается! Господи! — пронзительно разорвал тишину тонкий женский голос. — Господи!..» Несчастная мать с воплем бросилась на фашиста. И снова короткая очередь…
Лотта подняла голову. Мальчик в матросской курточке играл с мячом и звонко, заразительно смеялся.
Денисов заметил, что Лотта волнуется, в чем же она хочет исповедоваться ему?
— Рассказ будет долгий и, простите, подробный, — сказала она вдруг на чистейшем русском языке. — Я должна…
— Вы говорите по-русски? — перебил ее Денисов и привстал от неожиданности. Он был готов к чему угодно, к любому разговору и повороту событий, он даже был насторожен после того, как изменилось настроение Лотты и после ее предупреждения о долгом рассказе. Но чтобы она заговорила по-русски…
— Я знала, что это вас удивит, — спокойно сказала Лотта. — Но пожалуйста, вы слушайте меня, а дальше можете поступать, как хотите…
Денисов пригладил волосы и несколько неуверенно сказал:
— Ну что же, рассказывайте.
— Я русская — Людмила Николаевна Борисова. Отец был бухгалтером Одесского горсовета, мама — учительница немецкого языка в школе. Они погибли в первые дни войны при бомбежке. Мне не было тогда семнадцати. Во время осады города я помогала в больнице. А когда в Одессу ворвались немцы, попала в облаву. Нас, большую группу девушек и женщин, угнали в Германию. Меня отдали или продали, — не знаю, как точно определить, — в поместье барона фон Штольца, как я потом узнала, крупного промышленника. Управляющий имением этих Штольцев, отбирая на работу русских, взял меня с собой, потому что я знала немецкий язык. Так все началось…
Денисов ожесточенно грыз ветку. И Лотта, словно боясь, что он сейчас встанет и уйдет не дослушав, заторопилась.
— В имении меня отдали в распоряжение экономки Марты, и я стала горничной баронессы. Это было время, когда тыловые немцы почувствовали наконец, что такое война. Спасаясь от бомбежек баронесса с дочерью больше жили в Швейцарии Марта и ее муж относились ко мне хорошо. В порыве откровенности она проговорилась, что сына ее нацисты держат в концлагере и что он, наверное, коммунист.
Перед концом войны всех, кто работал у барона, отправили в лагерь. А меня Марта оставила. Не знаю, как ей удалось получить для меня паспорт на имя Лотты Бор.
«Зачем она мне это рассказывает? — нервничал Денисов. — И почему сейчас? Могла бы раньше рассказать — в комендатуре? И зачем столько времени скрывала русское происхождение?»
Он чувствовал, что это еще не главное. Он смотрел на нее и пугался ее глаз. Теперь они были не печальные, как раньше, а решительные, какие-то дикие.
— После войны, — продолжала Лотта, — виллу Штольцев занял английский майор Эдвард Старк. Нас он выселил на хутор и привез своих слуг. Это было уже в конце сорок пятого. Однажды меня вызвали к Старку. Он встретил приветливо и, как выяснилось, все знал обо мне и о моем паспорте на чужое имя. Он спросил: «Почему вы изменили Родине, почему не вернулись домой?» Я растерялась и ответила, что собиралась домой, но не знаю, к кому обращаться. «Я готов помочь. — сказал он, — но кто вам поверит. Вы теперь немка. А если и поверят, что вы русская, то все равно сошлют в Сибирь». Старк дал мне газету «Посев»
[47] на русском языке. В ней рассказывалось, как в СССР преследуют тех, кто был угнан в Германию и вернулся. Вы не представляете охватившее меня отчаяние. Я только и жила мечтой вернуться домой. И вдруг такое… Вы верите мне?..
Денисов не ответил.
Лотта вздохнула, в ее глазах блестели слезы.
— Через несколько дней, — снова заговорила она, — Старк позвал меня, начал успокаивать, что не все еще потеряно, и, если я выполню его небольшое поручение, он выдаст мне документы, которые объяснят все, что со мной произошло, и я смогу вернуться домой. Но вначале мне, дескать, нужно выехать в Энбург и привыкнуть к новым советским порядкам, устроиться на работу к русским, не выдавая своей национальности. Ну, скажем, переводчицей в комендатуру или в какую-либо воинскую часть, возможно, в акционерное общество «Дерунафт». Потом он пришлет своего человека, и тот скажет мне, как быть дальше. И тогда я попаду в Россию. Мне не с кем было посоветоваться, я согласилась, хотя уже тогда подумала, что может быть найдутся другие пути на Родину.
Я уехала в Энбург. Старк дал мне деньги на дорогу, сказал, что, если я не захочу в дальнейшем иметь с ним дела, то смогу вернуть ему долг, и с этим все кончится.
Я уже говорила, старики, приютившие меня, были очень добры. Когда хозяев не было дома, Марта разрешала мне играть на рояле — в Одессе я занималась в музыкальной школе и училась пению. В Энбурге я не стала искать работу там, где рекомендовал Старк, устроилась в «Тиволи». Сначала работала кельнершей, как-то спела — музыкантам понравилось, и они взяли меня в джаз. Я написала Старку, что могла бы вернуть ему деньги, и даже попросила совета, как мне поступать дальше, чтобы уехать домой. Ответ страшно напугал меня. Я поняла, что попалась в ловушку. До этого я думала: если он англичанин — они же были союзниками СССР в войне — то он даст добрый совет. И что же…
У нее задрожали губы, и она прикрыла рот рукой, стараясь пересилить себя и не разрыдаться.
— Недавно оттуда пришел человек. Просил приютить на несколько дней. Я опять смалодушничала и разрешила. Это была моя очередная глупость. Человек этот дал понять, что я игрушка в их руках и что они, как хотят, могут распоряжаться мною. Я ire находила себе места. И тут… — она со страхом глядела на Денисова. — Только поймите правильно… Помните поездку в Лейпциг? Ту самую… Так вот, вечером в субботу, он пришел и показал вашу фотографию. Он приказал мне поехать в Лейпциг и любыми средствами… Одним словом, он требовал, чтобы я познакомилась с вами…
Денисов вскочил как ужаленный. Лотта схватила его за руку, удерживая.
— Нет-нет, я ведь ничего не сделала… Вспомните, Виктор. Все получилось само собой, и мне тогда было действительно плохо. Поверьте! Я в тот день чуть не покончила с собой. И еще раньше я твердо решила рассказать всю правду о себе, об этом Максе — так он назвался. Он страшный человек и, наверное, задумал против вас что-то ужасное. А я не хочу… Я так просила вас прийти. Я так ждала вас… Ну, конечно, откуда вы могли знать, что это так важно…
2
— Алло! Говорит начальник К-5, Енок. Прошу геноссе Фомина. Произошло чрезвычайное происшествие, и он нам очень нужен.
— Сейчас разыщем, — сказал дежурный.
Капитана нашли в архиве. Узнав, что звонит Енок, он стремглав помчался к дежурному.
— Геноссе Енок? Что случилось. Что!.. — Дежурный видел, как поползли вверх брови Фомина. — Инженер Факлер? Понятно. Сейчас же выезжаю.
«Кого бы взять с собой? — подумал капитан. — Скитальца нет. — Увидел в окно старшину Петрова. — Хорошо, если он не занят с Денисовым». Сбежал во двор.
— Саша, хотите поехать со мной?
— С удовольствием, товарищ капитан, — выпалил Петров, даже не спрашивая, куда его приглашают.
— Виктор Сергеевич вас не будет искать?
— Нет, сегодня я свободен.
— Наденьте штатский костюм и возьмите оружие. Доложите дежурному, что это мой приказ, и бегом! Я жду в машине.
Через четверть часа они уже входили в кабинет оптайлюнглайтера.
— Едем. Там нас ждут криминалисты и сотрудники полицейского участка, — сказал Енок.
Мишины остановились у небольшого, скрытого кустарником домика. За калиткой дежурил полицейский. В кухне, куда их проводили, допрашивали молодую женщину, всхлипывающую, с распухшими от слез глазами. Сотрудник полиции деловито отстукивал показания на портативной машинке.
Начальник криминального отделения участка коротко доложил существо дела. Берта — невеста Вернера Факлера — должна была встретиться с ним, он сам назначил свидание, но не пришел. Тогда она приехала сюда. У калитки стояла его машина, и она подумала, что он дома. Однако на ее звонки никто не открыл. Тогда она перелезла через забор. Дверь в дом оказалась запертой. Берта обошла кругом и увидела, что жалюзи на окнах кабинета Факлера подняты. Фрейлейн заглянула в окно — Вернер сидел без движения в странной позе.
Она принялась стучать, но он даже не пошевелился. После этого фрейлейн Берта прибежала в участок.
— Когда мы взломали замок и вошли сюда, сразу стало ясно, что господин Факлер мертв, — закончил объяснение криминалист. — К осмотру помещения и трупа мы не приступали, ждали вас.
Енок, врач и Фомин остановились на пороге комнаты. Пахло паленым. Вернер сидел, уронив голову в раскрытый радиопередатчик. Его левая рука с зажатым в ней пинцетом лежала на трансформаторе, правая, затекшая, фиолетового цвета с растопыренными пальцами свисала вниз.
К горлу подступила тошнота, и Фомин закурил. Его примеру последовали и остальные, кроме доктора, который первым шагнул вперед.
— Минутку, — остановил его Енок, — пусть вначале эксперт снимет отпечатки. А уж потом мы…
— Извините, — сказал доктор, расправляя на пальцах резиновые перчатки.
На столе продолжал гудеть трансформатор, раскаленные лампы приемника источали жар. Доктор с помощью Енока и полицейского осторожно опустил тело Факлера на пол.
Раскрыли окна. Дышать стало легче. Не вмешиваясь в работу эксперта, Фомин осмотрел комнату, где обнаружили труп, потом перешел в другую, но ничего подозрительного, никаких следов борьбы не нашел. Ничего существенного не дал пока и осмотр трупа.
— Смерть наступила мгновенно, от удара током, — констатировал врач. — Посмотрите, как прикипел пинцет к ладони. Я предполагаю, он нечаянно коснулся анода, а правую держал у шасси. Получилась замкнутая цепь. Результат налицо. Минутку… Достаньте-ка из сумки мою лупу… Удивительно… — разглядывая руку через стекло, медленно проговорил он. — Ладонь обожжена. Это понятно. Но вот что-то не сходится…
— Разрешите, — Фомин взял у эксперта лупу.
На тыльной стороне кисти Вернера, где кожа была значительно мягче и тоньше, ясно выделялись едва заметные вмятины. На них обратил внимание и Енок, вслед за Фоминым осмотревший руку убитого.
— Закройте труп и пригласите фрейлейн Берту, — сказал он. — Надо кое-что выяснить.
Девушка вошла, стараясь не смотреть в сторону накрытого простыней тела Факлера.
— Извините, фрейлейн. Но это печальная необходимость. Вы часто бывали здесь?
Она кивнула.
— Тогда внимательно посмотрите вокруг, все ли тут на своем месте?
Она обвела комнату взглядом, перебегая глазами с предмета на предмет.
— Как будто все на своих местах. Я убирала здесь два дня назад. Завтра или послезавтра должна приехать мать Вернера. Она гостит у сестры в Севенемюнде.
— Ваш жених был левша? — спросил Фомин.
— Нет.
— Спасибо. Выйдите пока, — попросил он Берту. — Пораженной оказалась левая рука, геноссе Енок. И это вызывает недоумение, когда мы знаем, что погибший не был левшой. Мне помнится, у всех электриков и радистов существует что-то вроде неписаного закона. Когда работаешь под напряжением без защитных средств, левая рука должна находиться за спиной. Факлер должен был соблюдать это правило.
— И потом эти вмятины на коже… А может быть, мы имеем дело с тщательно замаскированным преступлением? — раздумывая, сказал Енок.
— Может быть, но это нужно еще проверить. Факлер мог и пренебречь личной безопасностью. Тогда — случайность. И вот еще что… — Фомин теребил затылок — В делах, связанных с самоубийством или убийством, одной версии, даже когда все кажется ясным, недостаточно.
— У нас еще мало опыта, геноссе Фомин, — заметил Енок. — А в нашем деле, кроме энтузиазма и желания как можно лучше служить своему народу, нужен еще и опыт. Но так ли?
— Понимаю, геноссе Енок.
— Послушайте, геноссе Фомин, а не может ли отсюда тянуться ниточка к бюро. Ведь Факлер там работал. Может быть, Фердман?
— Может быть, — согласился Фомин. — Давайте закончим разговор с фрейлейн.
Берга сидела в гостиной, отрешенно глядела в окно и плакала.
— Простите, фрейлейн, что беспокоим вас своими вопросами, но нам крайне необходимо выяснить истинные причины смерти господина Факлера. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить: господин Факлер не рассказывал вам случайно о каких-либо своих врагах или новых знакомых? Может быть, он был последнее время чем-нибудь расстроен?
— Нет. Не помню таких разговоров. И настроение у него было хорошее. Насчет знакомых?.. Не знаю, может ли иметь к этому отношение. В воскресенье на пляже мы познакомились с господином Максом — я запомнила, что он какой-то подрядчик. Вместе провели вечер, обедали.
— При каких же обстоятельствах произошло знакомство?
— Мы сами были инициаторами. Камеры на автомобиле Вернера старые. Отказали сразу две. Мы не могли ехать. Вернер пошел искать, у кого бы взять взаймы. И нашел этого Макса.
— А вы смогли бы описать его внешность?
— Пожалуй, да. Приятный такой мужчина, — чисто по-женски начала Берта, — выше среднего роста, блондин, светлоглазый, лоб высокий, лицо худощавое, загорелое… Наверное, все. Да, еще — его машина марки ДКВ, серого цвета. Одет он был в светлые брюки и белую рубашку.
— Господин Факлер потом встречался с ним?
— Вернер говорил, что этот Макс к нему заезжал за камерами. Это, пожалуй, все… Да, больше ничего не знаю.
— Фрейлейн, у меня к вам просьба. Вернее, совет, — сказал Фомин. — Не исключено, что этот господин еще встретится с вами. Возможно, он приедет на похороны. Где бы эта встреча ни произошла, не говорите, что мы интересовались им.
— Вы подозреваете этого Макса?
— Все может быть, фрейлейн. Если удастся, запомните номер его машины. Вероятно, он спросит о причинах смерти господина Факлера, скажете: что, как вам сказали в полиции, Вернер погиб от собственной неосторожности.
— Вы подозреваете этого Макса? — снова спросила Берта.
— Мы должны найти преступника, — сказал Енок.
— Не беспокойтесь, — она понимающе посмотрела на него и кивнула Фомину. — Я найду в себе силы. Я понимаю и сделаю все так, чтобы у него не возникло подозрения, будь он самим дьяволом.
— По этим телефонам вы обязательно найдете кого-нибудь из нас, — протянул ей Фомин листочек бумаги.
— Благодарю. Вы не скажете, как будет дальше?
— Тело господина Факлера отвезут в морг, проведут экспертизу, и оно будет находиться там до приезда его матери. Вы обещали сообщить ей о постигшем ее горе.
— Да, да. Я иду, — тяжело вздохнула Берта и направилась к выходу.
— Геноссе Енок, хотя приметы, прямо сказать, никакие, раздайте их на всякий случай вашим сотрудникам, — сказал Фомин. — Будем искать.
3
— Что делать дальше? — спросил Лотту Денисов, а сам подумал: «Нужно немедленно ехать к Фомину. Он же предупреждал, а я еще, телок этакий, подшучивал над ним».
Денисов начал быстро одеваться за спиной Лотты, которая лежала на траве и плакала, жалкая и беспомощная.
— Успокойтесь. Я знаю, что делать. Простите, я буду называть вас теперь Людмилой. Вы молодец, что все это рассказали. Действительно, надо спешить. У меня есть знакомый, он бесспорно подскажет вам, как быть. Вставайте и возьмите себя в руки. Сейчас нам важнее всего быстро поймать такси.
Они подошли к шоссе. Свободных машин, как назло, не было. Денисов поднимал руку всем без разбора автомобилям. И когда они решили было идти к автобусной остановке, подвернулся таксомотор. Забрались на заднее сиденье и всю дорогу ехали молча. Денисов держал в своей ладони холодную, вялую руку Людмилы. Она глядела вперед, будто его и не было рядом…
Правильно ли он ведет себя после всего, что произошло? Может быть, так нельзя, и он просто размазня, хлюпик, тряпка, сентиментальный слюнтяй. Денисов нашел еще с пяток нелестных для себя эпитетов, но от этого не становилось легче. Сердце не ожесточалось.
«Лотта — Людмила, Лотта — Людмила», — повторял он про себя, сам не зная почему. Ему было жаль ее и хотелось помочь, успокоить.
В проходной отдела контрразведки Денисов, назвав себя, попросил срочно найти Фомина, сказал, что он нужен ему по неотложному и очень серьезному делу.
— Евгения Николаевича нет, — сказал вахтер. — Если хотите, обратитесь к дежурному офицеру. Сейчас я вас соединю, — он набрал номер и протянул трубку.
— Скоро ли вернется капитан Фомин? — спросил Денисов.
— Точно не знаю. Может, к вечеру.
— Жаль. Вот, что я вас попрошу: пожалуйста, непременно передайте ему, чтобы в любое время — вечером, ночью, рано утром, когда он только вернется, я жду его звонка. Я — это инженер Денисов. Это крайне важно. Скажите, Денисов, мол, очень взволнован одним сообщением.
Он вышел, в такси его ждала Людмила.
— Нам не повезло. Знакомого моего нет. Придется подождать, может быть, до завтра. Только выше голову, прошу вас. Вы даже не представляете, как все будет отлично. Я твердо верю, что в ближайшее время вы будете дома, на родине. Отбросьте всякие мрачные мысли. Я сегодня вас не оставлю одну. Сейчас едем обедать в «Глорию».
4
Фомин, не заходя к себе, прошел в приемную, и, не обращая внимания на предостережение дежурного, открыл дверь в кабинет Кторова.
— Георгий Васильевич, — начал он с порога, но тут же замолчал. Кторов говорил с кем-то по прямому проводу. — Извините…
Продолжая слушать собеседника, Кторов приглашающе помахал рукой. Капитан тихо вошел и сел на стул. Прошло минут пять, прежде чем полковник закончил разговор.
— Ну, как, поостыли?
— Извините, Георгий Васильевич, слишком интересная новость.
— Выкладывайте вашу новость.
— В бюро с помощью Енока я установил контакт с несколькими служащими. Создали, так сказать, свой боевой актив для повышения бдительности и взаимоконтооля. История с загадочной гибелью Факлера оправдывает такие меры. Насторожил нас рассказ рабочего макетной мастерской. Он вспомнил, что неделю назад уборщица бюро Грабе интересовалась, где расположены номера сейфов, ну там, где указан год их выпуска, серии. Сказала, будто ее покойный муж работал на заводе, где изготовляли сейфы, и что, может быть, он и эти делал, которые она каждый день протирает. Рабочий сказал ей, что все эти цифры внутри и даже назвал некоторые номера. А потом подумал, что сейфы-то все послевоенного выпуска и Грабе в этом прекрасно могла разобраться сама. Он еще никак не ожидал от фрау такой сентиментальности: сварливая, мол, и грубая баба. И вдруг муж — номера…
Хоть факт этот на первый взгляд и пустяковый, но сейчас я решил брать под контроль буквально любой сигнал. С адресом этой Грабе я заехал в полицию, там мне дали в помощь оперативного работника Блютнера. И он установил, что представляет собой эта сентиментальная вдовушка. На проверку оказалось, что муж ее был булочником и погиб в самый последний момент войны, в фольксштурме. — Фомин сделал паузу, стараясь понять, какой эффект произвел его рассказ на начальство, заметил озорные искорки в глазах Кторова.
— Ну-ну, — сказал полковник, — договаривайте.
— В общем, Георгий Васильевич, у нее на квартире несколько дней назад останавливался мужчина, приметы которого очень сходятся с приметами Макса. И машина той же марки, что называла невеста Факлера. Соседям по лестничной площадке Грабе сказала, что это племянник мужа.
— Что же вы решили предпринять?
— Организовали засаду силами полиции. Подождем…
— Думаете задержать его без проверки?
— Да, Георгий Васильевич, мне кажется, мы на верном пути. Смотрите, сколько данных сходятся в один узел. А если ждать, вдруг уедет от нее этот «племянничек»?
— Н-да… Основания поторопиться есть. Наступательные меры, как видите, начали приносить плоды. Я имею в виду все: и усиление охраны, и Бломберга, и, главное, ваши контакты с людьми. Результат — сегодняшняя, очень ценная информация. Теперь можно делать некоторые выводы. И знаете какие?..
— Агентурная группа?..
— Да. Хорошо организованная агентурная группа. Возможно, даже не одна. И в какой-то мере мы можем определить их задачи.
— Одну, скорее всего, возглавляет Фердман, — сказал Фомин. — Он, мне думается, только вступает в игру, присматривается, ищет подхода. Сначала я посчитал, что Фердман и Макс одно лицо. Но приметы их не сходятся. Макс — это уже другое дело. И нужно отдать ему должное — это смелый и решительный противник, наделенный, мне думается, широкими полномочиями. Сегодняшняя информация указывает, что смерть Факлера — его рук дело. Как вы считаете?
— Скорее всего, так. Его комбинация с камерами проста и остроумна: никакой инициативы — Факлер сам пришел к нему. И если бы не прокол в камерах, как знать, обратили бы мы на него внимание. Я не беру в расчет материалы, полученные сегодня. Но он спешит, Евгений Николаевич. Очень спешит. Иначе он лучше изучил бы беднягу Факлера, поискал бы более безопасное и спокойное решение, но он спешил, и, возможно, при первом же конфликте, — какой-то конфликт, разумеется, был, — он убрал Факлера со своего пути. Как он его убрал? Это вопрос. Но убийство, а оно, бесспорно, имело место, обставлено хорошо. Фактически мы его предполагаем. А что слышно о невесте Факлера? Она не звонила?
— Пока нет.
— Это к лучшему. Значит, он не ищет с ней встречи. Значит, надеется, что убедил нас в несчастном случае. Теперь сейфы. Коль скоро Макс ими заинтересовался, — будем считать, что Грабе выполняла его волю, не исключается возможность попытки проникнуть в бюро. Правда я пока не представляю себе, как это они собираются сделать? Вам, Евгений Николаевич, тоже не плохо бы все разузнать об этих сейфах. Где изготавливаются, кем. Ключи подбирает, что ли, этот Макс? Возможно, ухватимся за какую-нибудь ниточку.
— Я сделаю это завтра же.
— Может быть, сегодня? Не надо терять времени. Мы должны идти впереди событий, управлять ими…
Когда Фомин выходил из кабинета начальника, дежурный окликнул его:
— Вчера вас искал Денисов, просил срочно позвонить.
— Вчера?
— Ну да. Вы сейчас так промчались к начальству… Фомин набрал номер.
— Что там у вас стряслось, Виктор Сергеевич? Когда я вернулся? Поздно вечером. Почему жаль? Вы едете с Людой? Простите, с какой Людой? Что?! Ну, конечно… Я жду вас.
— Час от часу не легче, — пробормотал Фомин и стремглав влетел в кабинет Кторова.
— Георгий Васильевич! Потрясающая новость: певица Лотта Бор оказалась вдруг Людмилой Борисовой.
— Лотта Бор?
— Ну, та певица из молодежного джаза. Помните, я вам докладывал…
Не было десяти, когда Денисов вошел к Фомину, пропустив вперед девушку, лицо которой выражало беспокойство и растерянность. И хотя Фомин был готов услышать что-то необычное, ее первые слова заставили его насторожиться. Он пригласил стенографистку. Денисов своими разъяснениями только мешал и вносил сумятицу в без того путаный рассказ девушки.
— Виктор Сергеевич, — сказал капитан. — Пусть гражданка Борисова расскажет все сама. Поверьте, она лучше с этим справится. Вы только отвлекаете ее от деталей, которые мне могут пригодиться.
— Хорошо, хорошо, — Денисов махнул рукой и сел в дальнем углу.
Понимая, что перед ней следователь и что его интересуют только факты, Людмила без отступлений и своих умозаключений поведала Фомину свою одиссею. Потом стала отвечать на его вопросы.
— Так, значит, фамилии он не называл. Имя Макс. И все… Прямо скажем, Людмила, маловато. А его энбургские связи?.. Я имею в виду его знакомых, они вам известны?
— Нет. Я никого не знаю.
— А куда он переехал от вас?
— Тоже не знаю. Он не баловал меня доверием. Старался любыми средствами подчинить себе. Хотя, как только он появился, в первой же нашей беседе я дала ему понять, что помощницы из меня не получится, что знакомых, которые могут его заинтересовать, у меня нет и что я нигде не бываю, кроме своей работы.
Дома встречались мы редко и, как правило, по утрам. Между прочим, уезжая, он предупредил, что, возможно, еще вернется. Он говорил, что я ему еще понадоблюсь.
— Конечно, ведь так или иначе, вы все же выполнили его поручение и познакомились с Денисовым.
— Нет! Нет! Она тут ни при чем! — горячо вступился Денисов.
— Не мешайте, Виктор Сергеевич, — оборвал его Фомин. — Я обязан все выяснить сам.
— Там, в Лейпциге, я даже забыла о приказании Макса, — сказала Людмила. — А потом… потом подумала, когда вернусь, скажу, что знакомство не удалось. И все. Поверьте, я всем своим существом противилась участию в этом каком-то очень странном и я чувствовала — нехорошем деле. Но мне действительно тогда стало плохо наверху — закружилась голова. Виктор Сергеевич оказался рядом и помог. Я не устраивала никакого спектакля.
— Спектакля?
— Да, это выражение Макса.
— Что было потом?
— Я вернулась вечером довольно поздно. Пришел Макс, принес подарок и поздравил с отличным, по его мнению, выполнением задания. Тогда я поняла, что за мной следили его люди, а может быть, и он сам, но я этого не заметила. Потом, когда он настаивал на моих свиданиях с Виктором Сергеевичем, я на свой страх и риск врала, что встретиться с Денисовым больше никак не удается. Ко мне в кафе он не приходит. Не знаю, так ли это, но мне казалось, что он мне поверил. Ну вот. А потом он забрал какие-то вещи и предупредил, что за чемоданом, который остается, от его имени придет человек.
— А на чем он приезжал?
— Был какой-то автомобиль. Он появился у него не сразу. На второй или третий день после его приезда ко мне. В тот раз он приезжал именно на автомобиле.
— Если бы нам номер! — Фомин сказал это с явной досадой.
— А я ведь его вам, наверно, скажу, — задумалась Борисова. — Да, да. Наш разговор происходил на кухне, окна в переулок. Когда машина разворачивалась, я отчетливо видела Макса. И мне еще бросился в глаза уже знакомый ее номер. «Шестьдесят девять, двадцать три, двадцать три…» Я видела этот номер и раньше, наверно, в нашем переулке, где он оставлял машину. Только тогда я не знала, чья она. Это почти точно, у меня хорошая зрительная память, это профессиональная необходимость запоминать слова песен, ноты. А тут еще такое сочетание, двойное повторение цифр. Ошибка может быть только вначале — шестьдесят девять. Но я думаю, что не ошиблась.
— Это же замечательно — иметь такую зрительную память! — первый раз за время разговора Фомин улыбался. — Ну, просто здорово, если вы не ошиблись. Вот видите, Виктор Сергеевич, есть зацепочка. Даже не зацепочка, а целый крючок. И теперь последний вопрос. Почему вы, Людмила Николаевна, не пришли к нам раньше? В данном случае я не имею в виду именно нас — органы государственной безопасности. Ну, хотя бы, в нашу комендатуру?
— Даже не знаю, что вам ответить. Вначале плохо понимала, что происходит, верила словам Старка. Потом KdK-то смирилась со своим положением. И где-то надеялась, что меня оставят в покое. И вот-грубый нажим Макса вызвал взрыв негодования, протест. А его приказ, — это был уже самый настоящий приказ, — познакомиться с Виктором Сергеевичем страшно напугал меня. Спорить с Максом я не отважилась, но решила, что для меня наилучший выход-это познакомиться и сразу все объяснить Виктору Сергеевичу. Только так я могла оградить советского человека от грозящей ему опасности. Если вы задержите Макса, то сможете проверить и убедиться, что я рассказала правду…
— На сегодня хватит, — Фомин заторопился. — Во избежание всяких осложнений с Денисовым пока не встречайтесь. За себя не беспокойтесь, мы вас в обиду не дадим. С Максом, если он появится, ведите себя, как прежде. Даст какое-либо поручение — не отказывайтесь. Вот на бумажке мой номер телефона, запомните его и порвите и, чуть что, немедленно звоните. Только осторожнее. Если услышите женский голос, спросите: «Кто у телефона?» Ответят: «Александра Алексеевна». Тогда смело передайте ей все. Ну, и последнее: хорошо, что наконец решились прийти к нам. Правда, было бы лучше, если это случилось раньше. О вашем будущем поговорим позже, когда отыщем Макса…
— Вы не представляете себе, какой груз свалился с моих плеч. — И она вдруг разрыдалась.
— Крепитесь, Людмила. Вам сейчас надо держать себя в руках, — сказал ей Фомин. И обращаясь к Денисову: — Дорогой Виктор Сергеевич, вы теперь поняли, какая вокруг вас идет кутерьма? Очень прошу быть осторожней. Два — три дня из городка не выходите. Вы, между прочим, можете поработать дома, кого надо, вызовете. Если обстановка изменится — я сообщу.
— Повинуюсь… — Денисов всплеснул руками.
5
— Ишь, как проняло господ англичан, коль скоро они, не считаясь с потерями, пачками засылают к нам сюда свою агентуру. Удивительное любопытство к делам своих бывших союзников. Еле успеваем поворачиваться. Весь отдел на ногах. Но ваша «птица», пожалуй, самая крупная. И прежде всего этот Макс. Есть у вас какой-нибудь план его розысков?
— Пока в общих чертах. Все налезает одно на другое. Наши оперативники на ногах. Договорились с Еноком о совместных действиях. У них есть четыре или пять спецмашин, оборудованных двусторонней радиосвязью. Раздадим участникам операции словесный портрет Макса. Его уже размножают. Полиции сообщим номер и марку его машины. Можно будет дополнительно пустить мотоциклетные патрули. Сам вместе с Еноком буду на спецмашине в центре района. С собой возьму еще кого-нибудь из взвода охраны. Может быть, Петрова. Он свободен, потому что Денисова я попросил не отлучаться из городка, посадил, так сказать, под домашний арест.
— А меня вы не хотите использовать? — не то шутя, не то серьезно спросил Кторов.
— Нет, почему же? — смутился Фомин. — Но я думал…
— Думали, как я убедился, хорошо. Ну, да ладно, я найду себе место, только держать меня в курсе всех дел. На всякий случай соберу вам в помощь резерв. Мало ли, как обернется дело. Вероятнее всего, Макса засечет или даже задержит полиция. Предупредите Енока, что он нам нужен живым.
6
Енок отдал все распоряжения, и теперь оставалось ждать. Он очень обрадовался приходу Фомина.
— Как их сразу прорвало, — сказал Енок, словно присутствовал при разговоре, который только что шел в кабинете Кторова, — новости так и сыпались в последние дни. Между прочим, пока мы охотимся за этим Максом, может решиться и дело с Бломбергом. Он направлен в трехдневную «командировку» в Айзенах. По истечении этого срока «Лоцман» охотнее пойдет на встречу.
— А Грабе?
— Дом под наблюдением. Ее пока не трогаем, чтобы не спугнуть «племянника».
Беседу то и дело прерывал дежурный радист, докладывая о ходе розыска. Правда, пока обнадеживающих сообщений не поступало. Енок и Фомин спустились было в буфет перекусить, но их тотчас позвали в аппаратную. Усиленный репродуктором голос докладывал:
— Внимание! Внимание! Говорит ФП-2. Говорит ФП-2. В восемнадцать тридцать в районе ресторана «Шварцадлер» встречен разыскиваемый автомобиль марки ДКВ-1000. Двухместный кабриолет, номерной знак — шестьдесят девять, двадцать три, двадцать три. Направляется к городу. Перехожу на прием. Перехожу на прием…
Енок взял микрофон.
— Говорит ФП-центр. Вас понял. Задержите автомобиль до въезда в город. Повторяю. Задержите автомобиль до въезда в город. ФП-3, ФП-4 — немедленно следуйте на перехват в район понтонного моста. Пассажиров взять живыми. ФП-2 систематически докладывать о ходе преследования на Центральную. Я выезжаю навстречу.
— Вы поедете со мной? — спросил Енок Фомина.
— Да. А моя машина будет идти следом. Потом посмотрим по обстановке.
7
— Ты не считаешь, Пауль, что нам пора заканчивать свои дела? Откровенно говоря, мне здесь порядком надоело. Чертовски медленно плетется время. Всего только начало седьмого.
— Не мешало бы поспать хоть немного.
— Да, ночь будет тяжелой. И за нее нужно все успеть.
— Поедем к тебе. Нам обязательно нужно отдохнуть.
Хаазе, сидевший лицом к входу в ресторан, сдвинул брови.
— Смотри, сюда пожаловала полиция.
— Заехала выпить кофе, — невозмутимо заметил Лютце. — Эти новые шнапса на работе не пьют. Ну ладно, иди вперед. Я расплачусь…
Едва машина Лютце, обогнув рощу, выехала на дорогу, как из-за поворота показался полицейский автомобиль.
— А ведь эти молодчики идут за нами, — сказал Лютце. — Приготовь пистолет, Пауль, все может случиться.
— В чем дело? — перегнулся с заднего сиденья Хаазе.
— Приготовь пистолет, говорю. Здесь есть боковая дорога, старая трасса для верховой езды. Она намного короче. А перед мостом снова выведет нас на шоссе.
Резкий поворот, и машина нырнула в зеленый коридор с неширокой, но ровной и прямой, как стрела, грунтовой дорожкой.
— Если и они свернули на эту тропку, дело дрянь. Нам во что бы то ни стало надо пробиться в город. Там в развалинах легче скрыться. Бросим машину и уйдем поодиночке. А здесь нас затравят, как зайцев. Попробую оторваться.
Лютце до отказа выжал газ. Машина заметно прибавила скорость. Полицейскому «оппелю» на столь узкой полосе труднее было идти ровно, и все же вскоре автомобиль полиции начал настигать машину Лютце.
— Стреляй, Пауль! Тут удобней всего, не то на большой дороге они нас прижмут.
Рукояткой пистолета Хаазе пробил заднее целлулоидное окошко и послал несколько пуль в радиатор полицейского автомобиля.
— Внимание! Внимание! Я ФП-2, я ФП-2. Преследуемый отстреливается. У меня пробит радиатор, машина вышла из строя. Повторяю приметы: двухместный кабриолет ДКВ-1000. Перед мостом должен вернуться на магистраль. Через несколько минут будет в городе. Все. Перехожу на прием.
— Я ФП-центр. Вас понял. Спасибо.
Полицейский румфунквагон
[48] Енока пошел к понтонному мосту через реку. Фомин пересел в свою машину, хорошо зная район старой крепости, он решил перекрыть небольшую, недавно расчищенную от завалов улочку, что выходила почти прямо на мост. С магистрали преступник мог по его расчетам метнуться и в развалины.
На развилке Фомин попросил Петрова взять левее набережной и остановиться. И тут же увидел, как с трассы на набережную стремительно свернул двухместный автомобиль и серой тенью нырнул в переулок.
— Вперед, Саша! Жми! А потом вправо, попробуем перехватить!
— Вечером в одиннадцать у меня, — предупредил Лютне.
Хаазе ловко, на ходу, выскочил из машины, захлопнув дверцу.
Крутой поворот бросил автомобиль Макса на кучку гальки. Он крутанул баранку в другую сторону, выехал на мостовую и тут же резко затормозил: «Ловушка, Попался!» Метрах в сорока, перегородив улицу, стояла машина, а рядом — человек в штатском и военный в зеленой фуражке.
Решение пришло мгновенно: пустил машину. Рядом с большим кирпичным завалом радиатор со скрежетом уткнулся в стену. Вскочив на стойку крыши, Лютце оказался в проеме окна разбитого здания. Теперь быстрее…
Осколок кирпича, срезанный пулей, больно ткнул Фомина в щеку. «Вот и возьми живым». — подумал он, прижав платок к кровоточащей царапине. Снова его обсыпало кирпичной крупой…
Фомин достал пистолет и дал несколько выстрелов туда, откуда мгновенье назад блеснула огненная вспышка. Слышал, как сзади подошли еще машины, и под ногами бегущих людей зашуршал сыпучий камень. Кто-то вскрикнул, Фомин обернулся и увидел рядом молодого солдата-пограничника. Он лежал на земле, прижимая руку к груди.
— Вот сволочь! — вырвалось у Фомина. Он схватил автомат солдата и полоснул очередь по черным провалам окон, откуда, по его расчетам, велась стрельба. Подбежали Петров и полицейский, и тоже начали стрелять из пистолетов.
— Осторожнее! — крикнул Фомин. Он наконец увидел преступника. Человек в сером костюме перебегал по обугленной черепичной кровле сарая. — Не стрелять! Петров, подсади!
Старшина подставил спину, и Фомину удалось оседлать толстую балку, выступавшую из стены. Выглянул на крышу, но она уже была пуста. Сжимая в руке пистолет, Фомин поднялся на гребень и метрах в пятнадцати от себя заметил наконец ползущего на четвереньках человека.
— Стой! Буду стрелять! — предупредил Фомин. Человек выпрямился и тут же, нелепо взмахнув руками, вместе с грудой черепицы рухнул вниз.
Сделав несколько шагов в сторону образовавшегося в крыше провала. Фомин почувствовал, что тоже летит вниз. Ноги увязли в песке, и пистолет выскользнул из руки. Не поднимаясь с колен, задыхаясь от пыли, он шарил вокруг себя в надежде отыскать оружие. И тут увидел противника, который приземлился менее удачно и вставал с трудом.
«Макс, — сразу определил Фомин: приметы сходились. — А где же его пистолет? Тоже выронил… Тоже ищет…»
Тот зверем смотрел на Фомина, все еще шарившего в песке. Вдруг на его лице появилось подобие улыбки. Он сунул руки в карман, потом стал натягивать перчатки и решительно двинулся на Фомина…
8
Поплутав в развалинах, Хаазе уперся в глухую стену. Срывая ногти, взобрался на ее каменный хребет и спрыгнул вниз, уже по другую сторону. Узколицый высокий человек в темной сутане глядел на него бесцветными, глубоко запавшими под седые лохматые брови глазами и беззвучно шамкал губами. За стеной в отдалении прозвучало несколько выстрелов.
— Это русские, они преследуют меня, святой отец.
— Следуй за мной, — сказал старик.
Шаркая, монах быстро пошел по каменным плитам дорожки. Они долго шли через сад, пока снова не оказались у каменной стены. Старик отпер ключом низенькую из толстых досок дверь ни осеняя Хаазе широким крестом, сказал:
— Бог тебя привел сюда. Иди с богом.
Дверь захлопнулась. Хаазе платком обтер расцарапанные, кровоточащие ладони, стряхнул грязь с брюк и пиджака и, спрятав руки в карманы, торопливо зашагал по узкой улице, определив по башням городской крепости, где центр.
«Машину бы сейчас», — подумал он. Из-за поворота, как по заказу, вывернуло такси, на крыше горел белый огонек: «свободно».
— К зоосаду, — бросил Хаазе, с облегчением откидываясь на спинку сиденья. Теперь можно было отдышаться. И хотелось поскорее узнать, что с Максом и почему стреляли? Что означали те выстрелы? Хаазе в душе надеялся, что Лютце удалось уйти от преследователей. Он хотел этого, ибо нес за него ответственность перед шефом. «Но раз уж стреляли — значит, была схватка, — рассуждал он, — и если Макса взяли, то обязательно повезут в русскую контрразведку. А может быть, в полицию? Нет, скорее всего в контрразведку…»
Расплатившись с шофером, Хаазе вышел у сквера и зашагал по улице к зеленому забору, за которым, — он знал,
это по словам Лютце, — находилась контрразведка. У ворот остановились два автомобиля — зеленый полицейский и черная малолитражка с советским номером. Ворота открылись, и машины въехали внутрь.
«Макса, наверно, взяли. — Спокойным, ровным шагом Хаазе прошел мимо ворот. — А куда тогда делась его машина?» Минут через пятнадцать проследовал в обратную сторону. Из проходной вышел пожилой мужчина в темно-синем комбинезоне. Хаазе последовал за ним.
9
Внимание Фомина сосредоточилось на светло-коричневых перчатках Макса: «Зачем ему вдруг перчатки?.. Зачем?.. Непонятно… Поэтому и думаю об этом. Чепуха какая-то… Сейчас, в такую минуту, занимаюсь нелепыми разгадками. Он сильнее меня, но более грузный…» И тут до сознания Фомина дошло страшное назначение перчаток. Вспомнил недавний разговор и зеленоватый листок информационного бюллетеня… Холодные мурашки побежали по спине, лоб покрылся испариной. Он не боялся открытой схватки, физической борьбы, в которой бы соревновались ловкость и сила. Он был достаточно подготовлен для этого. Но перчатки?!
А тот, вытянув вперед руки, не спеша, словно наслаждаясь растерянностью беззащитной жертвы, медленно шел на него. Фомин заметил, как нервно дергалась щека и ухо противника.
«Все ужасно глупо… Даже кирпича поднять не успею». А пальцы сами собой, неосознанно, захватили пригоршню песка. Еще миг — он швырнул песок в глаза противника, уже изготовившегося к решающему прыжку.
Все произошло молниеносно. Фомин еще не сообразил, как действовать дальше, а тот мотал головой, будто хотел что-то вытряхнуть из нее, плевался, не смея дотронуться руками до собственного лица, силился открыть глаза и не мог. Потом медленно поднял руки к вискам:
— Думаешь взял меня?! Черта с два! Смотри, как умирает настоящий немец…

Фомин сделал пружинистый шаг вперед, припал на левую ногу и резко послал кулак в подбородок Макса, вкладывая в этот удар всю свою силу. Он слышал, как лязгнули зубы его противника, видел, как, обмякнув, тот начал валиться. Еще удар… И тут же все заслонила нестерпимая острая боль в кисти. Фомин еле сдержался, чтобы не закричать, но предчувствие новой опасности вернуло ему самообладание:
— Осторожно, Петров! Не прикасайся к его рукам!
Старшина, никак не ожидавший этого отчаянного окрика, отпрянул назад.
— Что такое? Я хотел его…
— В перчатках смерть, — сквозь зубы процедил Фомин. — Посмотри, в рукавах должны быть провода — оборви их…
Голова закружилась. Только теперь Фомин заметил, что левый рукав его пиджака потемнел, стал бурым. «Это что же? Кровь? Теперь это уже не страшно», — подымал он.
— И верно, были провода, — Петров поднял над головой перчатки.
Бандит зашевелился, Енок ловко защелкнул на его руках браслетки наручников.
— А ведь вы ранены, товарищ капитан! — склонился к Фомину Петров и, желая подбодрить, заметил: — Лихо вы его!.. Ну-ка, давайте пиджак снимем, Евгений Николаевич. Я перевяжу, — он стал помогать. С треском разорвал набухшую кровью рубашку, обтер платком кровь и начал быстро бинтовать, успокаивая. — Ничего, в мякоть. Это мигом доктора залечат…
— А где второй?
— Что второй? — не понял Петров.
— В машине их было двое…
… Хаазе шел за человеком до тех пор, пока тот не вошел в дверь небольшого локаля
[49]. Решил тоже зайти. По тому, как встретил человека хозяин, можно было определить, что это его постоянный гость.
Хаазе устроился за соседним столиком и заказал кружку. А тот, посасывая пиво, неторопливо разговаривал с хозяином и соседом, тоже, видимо, здешним завсегдатаем. Скоро Хаазе знал, что фамилия интересующего его человека Зепп и что он автомеханик, живет где-то рядом, чуть ли не в соседнем доме. «Нужно как можно скорее завести с ним знакомство, — подумал Хаазе, — глядишь, что-нибудь и получится».
А старик не спешил. Он заказал еще кружку пива и продолжал беседовать с хозяином, выкурил сигарету и только тогда направился к выходу. Хаазе тоже вышел и был очень раздосадован: старик Зепп зашел в следующий же подъезд.
«Догнать его?.. Глупо. Черт с ним! Попробую завтра, — решил Хаазе. — А пока подыщу себе новое жилье. Спокойней всего, наверно, будет в мотеле на автостраде. Там встречный круговорот транзитных жильцов, в их массе легче затеряться».
Глава четырнадцатая
1
Кторов дождался, когда все приглашенные на совещание расселись по местам. Заговорил тихо, давая понять, что пора перейти к делу.
— Анализ последних событий заставляет нас, товарищи, быть предельно внимательными. И хотя это является обязательным и постоянно действующим условием нашей службы вообще, я напоминаю вам об этом. Мы с вами свидетели активизации деятельности против нас иностранных разведок. Но если раньше, еще недавно, я имею в виду послевоенный период, главными действующими лицами были американцы и англичане, то теперь прибавилась еще геленовская разведка. Не далее, как в этом месяце, мы уже имели «удовольствие» беседовать с ее представителями, задержанными здесь, в Восточной зоне. Сейчас заканчиваем довольно сложное и запутанное дело.
Поскольку и впредь нам, видимо, придется сталкиваться с этим ведомством, я счел необходимым сообщить вам о нем некоторые сведения. Прежде всего о самом Гелене. Что это за фигура? — Кторов встал из-за стола и пошел вдоль него. — После разгрома фашистских армий под Москвой, когда положение немецких войск на советско-германском фронте осложнилось, немецкий генеральный штаб пришел к выводу, что он не имеет сколько-нибудь проверенной информации о Красной Армии и промышленном потенциале нашего государства. Тогда-то по требованию генерала Гальдера на должность начальника отдела «Иностранные армии Востока», который в первую очередь должен был поставлять всю информацию о наших военных возможностях, был назначен его адъютант подполковник Гелен, которому он очень доверял.
Здесь я должен сделать небольшое отступление и напомнить о действиях наших недавних союзников. Вам, наверное, известно, как в разное время господа Донован
[50] и Даллес
[51] через Канариса
[52], Кальтенбруннера
[53] и других главарей фашистской разведки пытались договориться между собой о сепаратном мире. Разгром фашистских войск под Сталинградом и стремительное наступление наших армий сделало эти переговоры невозможными, а пути реставрации угодных Америке и Англии режимов в странах Восточной Европы — отрезанными.
Но вот совершенно неожиданно, правда отнюдь не случайно, американской разведке весной победного 1945 года удалось заполучить фильмотеку агентуры отдела «Иностранные армии Востока». Передал ее начальник отдела, уже генерал-лейтенант Рейнхард Гелен.
Кторов на какое-то мгновение задумался, вернулся к столу, открыл блокнот, посмотрел что-то в нем и продолжил:
— Итак, Рейнхард Гелен. Я позволю себе повториться и проследить его карьеру сначала. Во французской кампании 1939 года он принимает участие в качестве офицера связи при главнокомандующем ОКХ фон Браухиче. Затем начальник генерального штаба ОКХ генерал-полковник Гальдер, о котором я упоминал, делает его своим адъютантом. Но уже в октябре 1940 года 38-летний майор Гелен покидает эту блестящую должность и назначается руководителем группы «Восток» оперативного управления генштаба, разрабатывающего «план Барбаросса» — план нападения на Советский Союз.
Кторов, отойдя от стола, открыл шкаф и достал несколько свернутых в рулон больших ватманских листов. Нашел среди них то, что нужно, и, протянув Скитальцу, попросил:
— Развесьте, пожалуйста, эту схему. Я вожу ее давно. Это, товарищи, структурное построение германского верховного командования и абвера. Думаю, что всем полезно вспомнить историю, впрочем, недавнюю, тем более, если она имеет прямое отношение к нашей профессии. Молодым работникам, кто подключился к нашим делам недавно, полезно вдвойне.
Когда Скиталец повесил схему и расправил упругую, стремящуюся снова свернуться в рулон, бумагу, Кторов взял со стола металлическую линейку и, пользуясь ею как указкой, продолжил:
— Общая структура германского командования к началу второй мировой войны выглядела следующим образом. На вершине военной иерархии, именуемой ОКВ, стоял верховный главнокомандующий вооруженными силами — Гитлер со своим личным военным штабом и штабом оперативного руководства. Затем шли три главных командования вооруженных сил со своими генеральными штабами: сухопутных войск — ОКХ, военно-воздушных — сил ОКЛ и военно-морских сил — ОКМ. Если ранее, до образования ОКБ, абвер являлся одним из отделов штаба сухопутных сил, то теперь он стал третьим отделом верховного штаба.
Объяснив далее функции штабов, Кторов особо остановился на отделе «Иностранные армии Востока», ибо отсюда вышел Гелен, о котором он делал сегодня информацию.
Закончив исторический экскурс, он сказал:
— Гелен оправдал рекомендацию Гальдера. Он оказался хорошим организатором и не менее ловким дипломатом, так как сохранил отличные отношения со своим бывшим шефом, с Канарисом, и в то же время пользовался расположением Гиммлера. Позже Гелен становится настолько заметной фигурой в резиденции «Анна»
[54], что ему предоставляется право лично посещать гитлеровскую ставку «Вольфшанце» и докладывать фюреру всю информацию о Красной Армии. Теперь вам ясно, сколь головокружительную карьеру сделал Гелен.
Кторов снял схему, сел за стол и, выдвинув ящик, достал большой конверт.
— Вот, посмотрите фотографию сотрудников отдела. Крестиком отмечен Гелен.
Фотография пошла по рукам.
— А покрупней снимков нет? — спросил кто-то из сотрудников. — Уж больно он тут неприметный, серый.
— Есть, но там он в защитных очках. Нужно отметить его удивительную способность избегать фотообъектива и находиться в тени. Так, в тени он разрабатывал свои планы и надеялся не только сохранить свою жизнь, но и снова принять участие в невидимой войне против нашей Родины. И Гелен сделал ставку на покровительство американской разведки. Там были оговорены условия их общей тайной войны против Советского Союза и государств Европы, которые решили пойти путем социализма. О результатах этих контактов мы можем судить по целой серии операций, которые проводились и проводятся против нас. Проводятся и сейчас, в чем имели мы возможность убедиться.
— Вы имеете в виду этого немца, с которым возится Фомин, — вставил Скиталец, раньше других стараясь показать свою осведомленность.
— Не возится, а работает, — строго заметил Кторов. — И дело это само по себе не из простых.
Скиталец покраснел, поняв, что поторопился и допустил бестактность. А Кторов продолжал:
— Так ли, иначе, но в нашем районе мы имеем сигналы об активизации геленовской разведки. И некий полковник Мевис, которым занимался Фомин и которого имел в виду наш лейтенант, был практически двойником, работая на англичан — на Старка, был связан и с Геленом, бесспорно считая его главным своим хозяином.
Так что, товарищи, будем предельно внимательны. Нам теперь следует при ведении дел более детально разбираться: кто есть кто и откуда дует ветер… — Кторов внимательно оглядел сидевших. — Не исключено, что разведки наших противников пробуют объединить силы, например, в военных приготовлениях. Мы с вами как-то разбирали ситуации в связи с идеей создания западными державами так называемого Атлантического союза — чисто военного союза против нас. Нам всем, товарищи, должно быть в курсе мировой политики. Не упускайте ни одной возможности для занятий, читайте, размышляйте, сопоставляйте. Вот, собственно говоря, и все, ради чего я собрал вас сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста. Можно курить.
Защелкали портсигары и зажигалки. Возникли короткие «баталии» из-за пепельниц. В кабинете нарастал гул голосов, в котором можно было уловить лишь некоторые фразы и слова.
— Значит, товарищи, все ясно? Вопросов нет? Тогда еще два слова, — вновь поднялся Кторов.
Разговоры утихли.
— Читая докладные записки, планы, оперативные документы, я с удовлетворением отмечаю все возрастающее ваше мастерство. Хотя некоторые меры, используемые вами, еще далеки от совершенства и несут в себе скорее оборонительный, нежели наступательный характер. Вы должны понять и объяснить своим подчиненным, что чекист нашего времени человек, хорошо владеющий не только определенными навыками и приемами, всесторонне подготовленный инженер разведывательного и контрразведывательного дела, а и боец, который может и должен, успешно парируя удары противника, наносить их сам. Уметь навязать ему, образно говоря, «встречный бой», построенный на точном расчете, предвидении вероятных действий противника, — закончил Кторов.
— Разрешите? — поднялся Гудков.
— Пожалуйста, Павел Николаевич.
— Мне кажется, товарищи мы должны шире общаться с местным населением, приобретать как можно больше друзей. Этот процесс уже идет. Но чтобы нам лучше понимать друг друга, нужно изучать язык, историческое прошлое немецкого народа. И люди, которые далеко еще не все поняли и не видит конечных целей развития своей страны, сами пойдут к нам со своими сомнениями и заботами.
Гудков сел.
— Георгий Васильевич, можно мне?
— Слушаем вас, Евгений Николаевич.
— Моя рекомендация в первую очередь относится к тем товарищам, которым по роду своих обязанностей приходится работать в контакте с сотрудниками отделов криминальной полиции. Недавно я проводил совместное расследование довольно запутанного убийства. Желания и энтузиазма работать у наших коллег хоть отбавляй, а знаний недостаточно. Они стремятся перенять и осмыслить каждый наш шаг и поступок. Поэтому, участвуя в совместной работе, пусть это будет предотвращение диверсии, или расследование убийства, или просто поручение установить то или иное лицо, не будьте официальными администраторами. Старайтесь объяснить каждое свое действие, чем оно продиктовано. И вы увидите, какие это прилежные ученики и благодарные слушатели. Тем более, — закончил Фомин, — опыта у большинства сидящих здесь не занимать.
— Вы будто прочитали мои мысли, — улыбнулся Кторов. — К сказанному хочу лишь добавить. В нашей зоне, товарищи, происходят величайшие, по существу революционные преобразования. На заре нашего государства Владимир Ильич говорил: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Имея богатый опыт, мы, как сказал Фомин, должны учить наших коллег умению защищать те демократические преобразования, которые принесла им наша славная армия. Только в этом случае мы сможем выполнить здесь сбою интернациональную миссию, возложенную на нас партией и правительством. Все, товарищи.
Кторов закончил совещание. Кивнул Фомину:
— Как чувствуете себя, Евгений Николаевич?
Капитан поднял забинтованную руку.
— Работать можете? Этак ведь не выйдешь на ринг.
— Ничего. Пустяки. Пока обхожусь одной…
2
«Какого черта они меня не вызывают?» — Лютце злился, теряя терпение. Ему хотелось, чтобы то, что неминуемо должно было произойти, случилось побыстрее. Он, раскачиваясь, широкими шагами мерил каменный пол камеры. Уж лучше двигаться хоть так, чем, цепенея, выжидать минуту, когда за тобой придут. С момента ареста прошло четыре дня, а им никто и не интересовался. Словно забыли, «В чем же дело? Может быть, он, тот русский, болен? Ведь, помнится, я подстрелил его. Но тогда бы мной занялся кто-нибудь другой?..»
Да, ему фатально не повезло. Сначала эта проклятая прогорелая крыша. Потом — нужно же было, чтобы под руку этому находчивому парню попал песок, сделавший его, опытного в таких стычках бойца, слепым котенком. И удар в подбородок — Лютце болезненно поморщился, трогая припухшую челюсть.
Загремел засов.
«Кажется идут, — Лютце встал у стены. — Может быть, сейчас?..»
Конвоир отворил дверь камеры и знаком предложил ему заложить руки за спину. Потом были длинный коридор и лестница.
В кабинете за столом сидел офицер. Лютце не сразу признал в нем своего преследователя, форма делала его внушительней и старше.
— Садитесь, — сказал офицер.
— Спасибо, — Лютце выжал подобие улыбки, небрежно бросил: — Если не ошибаюсь, вам я обязан честью оказаться в таком положении?
Помня напутствия Кторова беречь силы, Фомин сразу же «предписал» себе сдержанность, терпение, невозмутимость. После длинной паузы ответил:
— Да, вы не ошиблись. Я в меру своих сил позаботился, чтобы вы оказались тут. А что касается вашего положения, то это обычный финал для людей такого сорта, как вы. Я имею в виду вашу профессию — убийства и шпионаж.
Лютце поморщился:
— Поберегите, не знаю, как вас величать, эти душещипательные слова для слабонервных. — На Фомина в упор смотрели серо-голубые, наглые глаза.
— В детстве у нас это называлось игрой в гляделки, — сказал Фомин, — но у вас это получается куда как грознее.
«Я опытнее вас, милейший, — думал между тем Лютне, — и вести себя буду, как сочту нужным».
— Хочу вас предупредить, — сказал он, — что успел примириться с мыслью о неизбежной своей кончине. Вы помешали прийти к ней более достойно. Но теперь убедитесь, что словесная дуэль бесполезна. Мне нечего терять, не о чем жалеть, а значит — некого и нечего бояться. — Лютце зло осклабился. — Так что работка вам предстоит нелегкая.
Фомин закурил. Не дожидаясь приглашения, Лютце протянул руку к сигаретам. Фомин достал из стола новую пачку и положил перед ним! Некоторое время они молча дымили, продолжая откровенно, в упор рассматривать друг друга.
Фомин отметил манерность в движениях руки, держащей сигарету, в излишне жадных и резких глотках дыма. Волнение Лютце можно было прочесть и в том, как настойчиво он продолжал смотреть в глаза следователя. Левая сторона лица его, от подбородка и вверх, была украшена темно-фиолетовым синяком. Фомин посмотрел на свои все еще опухшие в суставах пальцы. Ну, что же, пора начинать. Он пододвинул к себе бланк протокола допроса, снял колпачок с авторучки и задал тот обязательный вопрос, которым начинается всякое следствие.
— Фамилия?
Лютце долго молчал, потом усмехнулся:
— Макс Шварц, если это вас устраивает, если нет, тогда Румпель, а если и это не подходит — доктор Геббельс.
— Меня больше устраивает настоящая фамилия.
— О, господи, скажите же в конце концов, как мне вас величать. Если не ошибаюсь, господин капитан?
— Не ошибаетесь.
— Прекрасно. Так вот, господин капитан, такие вещи, как настоящая фамилия мы не обязаны хранить в памяти. Мы их прочно забываем. Навсегда.
— А вы все-таки попытайтесь вспомнить. И стоит ли паясничать? Вы же не в цирке и не на эстраде… И как мы выяснили — вы не клоун…
— И рад бы вспомнить, но…
— Помочь?
С недоумением и интересом Лютце измерил офицера взглядом.
«Знает что-нибудь или?.. — задумался он. — Возможно, за эти четыре дня им удалось что-либо узнать. Может быть, взяли Пауля? Это было бы прискорбно. Но вряд ли: Пауль ушел до того, как обложили меня… Чепуха. Ничего ему неизвестно, этому капитану, тем более прошлое: даже в отделе «Иностранные армии Востока» немногие были посвящены в мои прежние дела», — решил он.
— Вы напрасно стараетесь, — пренебрежительно сказал Лютце. — Память моя не сговорчива.
— И все же попробуем…
В голосе капитана не было ни настойчивости, ни тем более требования, он разговаривал с ним словно с нашалившим ребенком, тоном человека, который не сомневается, что сейчас будет раскаяние. И это бесило Лютце. Он почему-то стал думать о последствиях, хоть раньше это его мало заботило. «Да, ответственность усугублялась тем, что одного из русских он, кажется, отправил к праотцам. Лучше было бы после этого не попадаться. Конечно, пощады не будет… Плевать! Он же не трус! Но… Одно дело — мгновенно убить себя в горячке борьбы и совсем другое — ждать и думать о том, когда тебя поставят к стенке». Он снова закурил:
— Что ж, капитан, попробуйте. Посмотрю, что у вас получится.
— На первых порах запишем так, как значится в ваших документах.
— Пожалуйста, пишите: Макс Лютце, девятнадцатого года. Родился в Дуйсбурге. Родственников не имею. Капитан вермахта, ваш тезка по званию…
— Чем занимаетесь, где проживали последнее время?
Еще в камере, в ожидании допроса, Лютце продумал, от чего он будет отказываться, отрицать. Певичку не назовет. Эта пора его пребывания в Энбурге вряд ли кому известна. О хозяйке новой квартиры придется сказать. Она обыкновенная баба, ничего особого не знает. Да и ничего еще не успела сделать. Карл? Там все в порядке. Этот и под дулом пистолета будет стоять на своем и не вспомнит их прежнего знакомства. Тогда он легко отвертится. И все же голову сверлила мысль: где же он допустил ошибку?
— Повторите ваш вопрос, — поднял голову Лютце. — Я не понял.
— Очень понятный был вопрос. Чем занимались и где проживали последнее время? — так же спокойно повторил Фомин.
— Был посредником строительных работ. Недавно закончил ремонт автостанции. Подыскивал новую работу. Снимал комнату у госпожи Грабе на Майсенштрассе, 2.
— Какую работу считаете постоянной: ту, что только назвали, или ту, о которой предпочитаете молчать? Имею в виду задание, полученное вами.
— При наличии у вас моих документов и улик, которыми вы располагаете, — Лютце потрогал свою челюсть, — молчать, пожалуй, нет смысла. Первая работа, могу вам доложить, вполне официальная. Это могут подтвердить и свидетели…
«Черт возьми! Как узнать, вызывали они Карла или нет», — мучительно думал Лютце и продолжал:
— Ну, а что касается второй — то одно небольшое дельце, что-то вроде воскресной прогулки…
— Если я не ошибаюсь, целью этой прогулки было специальное бюро?
— Да.
Лютце был достаточно искусный разведчик и отлично понимав, что отрицать в данной ситуации свою причастность к деятельности английской разведки, проявляющей повышенный интерес к энбургскому объединенному конструкторскому бюро, нелепо. Тут нужно было попытаться поиграть в правдивость. И это могло в дальнейшем пригодиться, хотя бы ради спасения своей шкуры.
— Ближайший ваш хозяин майор Старк? — спросил Фомин.
— Не столько Старк, сколько его деньги. Вы знаете, деньги — это океан, в котором тонут страх, совесть, любовь и честь.
— Если глядеть на деньги с позиции таких людей, как вы, возможно, и так. Но совесть, любовь и честь помогла нам разгромить армии Гитлера, показать миру порочность и несостоятельность фашистской идеологии.
— Не собираетесь ли вы, господин капитан, преподавать мне социалистическую мораль? Мне, для которого вечный мрак ада всегда был ближе, чем атмосфера чистилища?
— Нет, не собираюсь, но напомнить кое-что могу. Бисмарка, например. Надеюсь слышали о таком?
— Допустим.
— Так вот, Бисмарк настойчиво советовал жить в мире с Россией. Были и другие трезвые головы. Бывший командующий рейхсвера генерал фон Сект предупреждал: «Если Германия начнет войну против России, то она будет вести безнадежную войну».
— Оба мертвецы, — цинично заметил Лютце.
— Уважение к живым начинается с уважения к памяти мертвых.
— Кто хорошо служит родине, не нуждается в предках, — криво ухмыльнулся Лютце. — Вы любите загадки. Ну так как же?.. Осечка, господин капитан?
— Нет, почему же?.. — Фомин отвечал медленно, лихорадочно стараясь вспомнить, чьи же слова привел Лютце. Ведь он читал их где-то. И очень обрадовался, когда вспомнил: это же Вольтер, конечно же, Вольтер!..
— Мне кажется, господин Лютце, что Вольтер, говоря эти слова, имел в виду вовсе не вас, а скорее меня. Мало того, что я здесь защищаю интересы своей Родины, своего народа, я выполняю еще интернациональный долг по отношению к вашим соотечественникам, помогая им, впервые в истории немецкого народа, строить истинно демократическое государство. Вы же боретесь против своего народа, и к вам больше подходит определение Сенеки: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».
Лютце поморщился. Этот русский не так-то прост, как показалось ему на первый взгляд.
«Первый этап психологической схватки, кажется, за мной, — внутренне торжествовал Фомин. — Но даст ли плоды это соревнование?» — И он продолжал:
— Помнится, вы перефразировали Данте, говоря, что ад вам ближе атмосферы чистилища. Вы продолжаете настаивать на этом?
— Вы предлагаете чистилище? А если откажусь?..
— Рекомендую вспомнить Делакруа «о тесном жилище, где нет даже снов».
— Ого, точки твердо поставлены над «и». Что нужно, чтобы не сойти в это пристанище?
— Думаю, что уже можно закончить состязание в изящной словесности и перейти к делу. Задание? Откуда прибыли? С кем связаны, что успели сделать?
«Может быть, стоит продолжать выкручиваться, — думал Лютце. — Нужно рассказывать то, что им бесспорно известно. Или станет известно».
— Прибыл из Ганновера. Задание: получить исчерпывающую информацию о деятельности уже упоминавшегося вами бюро, желательно было заполучить и результаты изысканий бюро. Для прикрытия устроился посредником по строительству к хозяину небольшой автофирмы Карл Крамер из Шенебека. Я восстанавливал ему автостанцию, бензоколонки. А главное, конечно, искал пути проникновения в бюро. Вначале преуспевал: моя квартирохозяйка, как вы, видимо, знаете, работает уборщицей в бюро. Через нее, конечно, «втемную» я получил данные о расположении комнат, системы охраны. Подготовил себе проход через сливной колодец. В понедельник должен был сделать первую попытку, но, значит, где-то ошибся. Иначе, откуда вы обо мне узнали и загнали, как зайца? — Лютце решил опять закинуть крючок, чтобы узнать, что послужило причиной его провала. — Наверное, хозяйка проболталась о моих интересах?.. Так?..
Фомин улыбнулся про себя, отметив неуклюжий ход противника, и продолжал:
— Все техническое снаряжение и задание вы получали от Старка?
— Да. И деньги тоже.
— С кем связаны в Энбурге?
— Работал, как я уже говорил, в одиночку. Можете проверять, если…
— Вернер Факлер — это тоже ваша работа?
— Не понимаю. При чем тут… — «А нужно ли здесь открываться или нет? — подумал Лютце. — Откроюсь Ведь Берта все равно опознает меня, если ее вызовут. Откроюсь». — При чем тут господин Факлер, — сказал он. — Я случайно познакомился с ним на пляже. Однажды заезжал к нему домой. Собирался заехать еще, да вы помешали… Я понимаю… Это он вам рассказал обо мне?..
3
Прошло два дня, прежде чем Хаазе вновь удалось выследить Зеппа и сопроводить до локаля. Тогда он подогнал сюда свою машину и, подняв капот, сделал вид, что копается в моторе. В такой позе его и застал старик. Как только тот поравнялся с машиной, Хаазе попросил:
— Послушай, приятель, помоги: крутани-ка ручку. Вероятно, сбилось зажигание.
— Зажигание, говоришь? — Зепп подошел, взглядом знатока окинул машину: — Спортивный «хорьх» — прекрасный аппарат. Нужно только немного заботиться о нем. Крутить я не буду. Давай наоборот. Я постарше.
Хаазе повиновался.
— Черт тебя знает, — заметил Зепп. — Словно нарочно кто залез к тебе в трамблер. Ну, ничего, сейчас наладим…
Когда «поломка» была устранена, Хаазе хлопнул старика по плечу:
— Шнапс за мной, где тут можно его достать?
— Далеко не ходить, — Зепп указал на пивную.
Хозяин весело смеялся, пока Зепп рассказывал ему, как заработав случайно выпивку. Хаазе заказал два двойных шнапса и пива.
— Видно денежного человека, — констатировал Зепп.
— Трикотажный коммерсант.
— Ого! Не с Запада случайно?
— С Запада.
— Ну, как там?
— Хорошо, говорят, где нас ист. А вообще жить можно везде, когда есть деньги или золотые руки, как у тебя. Мастер ты, я вижу, хороший, а работы подходящей, сдается мне, не имеешь.
— Отчего же? Имею постоянную. И платят прилично. Нам со старухой за глаза хватает. Даже откладываем.
— Где же это так у вас хорошо? — Хаазе повторил заказ.
— На Порзештрассе.
— Где, где?
— Я забыл, что вы нездешний. Ну, в общем, там находится ГПУ, русская контрразведка.
— Ух ты! Знал бы, не остановил тебя. И кем же ты там? Не начальником случайно?
Старик захихикал, а с ним и хозяин. Хаазе тоже поддержал их. Наконец Зепп ответил:
— Старший автомеханик в гараже я там.
— А я бы ни за что не согласился возиться с ними. Силой бы не заставили. Все равно, как гестапо. Страха не оберешься.
— Э, нет, ты зря, парень. Вполне приличные ребята. Вежливые, веселые, одна беда — неизлечимые трезвенники. — Зепп заулыбался, довольный своей шуткой. — И представьте себе, совсем не чванятся. Заходят в мастерскую, обязательно здороваются, за руку, — Зепп поднял указательный палец, — не то что те молодчики, о которых вы вспомнили. Те никого за людей не считали. Между прочим, хотя я и немец, но тех всех бы передушил. Некоторые еще по земле ходят, да исподтишка кусаются.
— Их, правда, потихоньку ловят, — вставил хозяин.
— Неужто и сейчас еще ловят? — удивленно воскликнул Хаазе.
— А что ты думаешь! — сердито сказал Зепп. — Здесь никакого нет секрета. Вон у нас на днях одного такого поймали. Отстреливался, коровий сын.
— И попал в кого? — подзадоривал захмелевшего старика Хаазе.
— Убил молодого пария. Сегодня хоронили.
Хаазе поднялся.
— Ну, спасибо, старик, за ремонт. Я поеду, а то ты страшные вещи рассказываешь. Может быть, еще загляну. Проезжаю тут почти ежедневно.
Он быстро погнал машину, словно желая скоростью развеять невеселые мысли. Итак, конечно, это Лютце арестован. Из русского подвала ему не выкарабкаться. А что может поделать он, Хаазе? Пожалуй, пора уносить отсюда ноги, неровен час — и сам попадешься.
Он заехал в ресторанчик, поужинал, и это немного улучшило его настроение. Возвращаясь в мотель, решил подождать еще пару деньков. Лютце один из тех, кто стоит хорошей игры и риска.
«Наверно, среди обслуживающего персонала есть немцы, и не такие красные, как этот Зепп, — рассуждал Хаазе. — Надо проверить. Между прочим, узнать это можно у того же старика Только найти для встречи вполне правдоподобный повод и покрепче его накачать».
4
Бломберг позвонил Еноку, едва тот приехал на работу, и попросил о немедленной встрече. Есть, мол, новости.
— Ждите у почты. У главного входа. Я там найду вас, — сказал Енок и тотчас связался со Скитальцем.
На встречу они приехали вместе.
— Господа, он здесь, — сказал Бломберг. — Вчера вечером, когда я возвращался с работы, Фердман подошел ко мне на улице и пригласил зайти в локаль. Это на Шварценвальдештрассе. Откровенно говоря, в первый момент я даже испугался: появился, думаю, точно по заказу. Ну, как всегда, для начала обменялись общими новостями, потом он потребовал раздобыть ему списки немецких сотрудников того конструкторского бюро, о котором вы говорили, и возможные данные о работах, которые в нем ведутся.
— И что же вы?
— Ответил, что с такими сложными делами вряд ли смогу сейчас справиться. Необходимо-де время подумать, как это сделать. Он объявил мне, что вознаграждение будет высоким, — этого раньше с ним не случалось. Установил мне срок — пять дней, сказал, что звонить не будет, а сам встретит где-нибудь на улице. И вот смотрите, — Бломберг достал пачку денег, — дал мне задаток — 500 марок.
— Да, теперь будет не просто, — вздохнул Скиталец. — Звонить не будет, подойдет сам. Хорошо хоть срок установил — пять дней.
— Это срок условный, геноссе, — заметил Енок, — но задача наша действительно осложнилась. Искать Фердмана по приметам в городе с многотысячным населением, все равно что ловить кильку в сети для акул.
— Вообще-то время для обдумывания он нам отпустил. Найдем выход. Завтра, господин Бломберг, в десять утра встретимся здесь же. Мы придем с готовым решением.
— Я все сделаю, как вы прикажете.
Разговор происходил у одного из столиков зала почты, где народу было немного. При этом каждый делал вид, что заполняет какой-то бланк — обычные посетители. Когда Енок и Скиталец направились к выходу, Бломберг пошел рядом.
— Вы не опасаетесь, что Фердман увидит нас вместе? — спросил Енок.
— Нет. Зачем ему следить за мной. Мы слишком давно сотрудничаем. И у него нет оснований не доверять мне.
Они расстались у дверей. Садясь в машину, увидели, как чуть сгорбившись Бломберг медленно, словно совершая моцион, пошел в сторону бургомистрата.
— С чего начнем? — спросил Скиталец Енока, когда они вернулись в управление народной полиции.
— Знаете, геноссе лейтенант, давайте так: пусть при встрече Бломберг расскажет Фердману, что предпринял шаги для получения нужных ему материалов и что они попадут к нему через день — другой. Пока же, чтобы не спугнуть «Лоцмана», пусть старик передаст ему какие-нибудь незначительные сведения. Посоветуемся потом, что ему подсунуть. Воспользовавшись этой встречей, наши сотрудники возьмут «Лоцмана» под наблюдение. Попробуем узнать, где он живет, его связи и в подходящий момент задержим.
— Задержать нужно с поличным, — сказал Скиталец.
— Ну, это уже потом. У меня, между прочим, есть одна идея. Почему бы нам не арестовать его на квартире Бломберга?
— Да, но в последнее время Фердман у него не бывал. Обратите внимание, даже точно не обуславливает встречи.
— А мы заставим его пойти к Бломбергу. Оставляем старика дома. На работу тот, допустим, не идет. Фердман его не видит. В чем дело? Звонит на работу. Там ему сообщают: Бломберг болен. А время не ждет. И Фердман вынужден будет сам пойти в нашу ловушку. Ну что?
— В общем, — годится! — забыв о том, что дал себе обещание держаться солидно, Скиталец широко улыбнулся и потер ладонью о ладонь. — Интересно получается. Да, нет, просто здорово!
— Сегодня надо посоветоваться с капитаном Фоминым. Он просил рассказывать ему обо всем, что имеет отношение к бюро. Фердмана интересует бюро. И сведения, сведения… Нужно составить «сведения» для этого Фердмана. Поможем Бломбергу отработать свои деньги, — улыбнулся Енок.
— Как вы думаете, геноссе Енок, тот тип, которого арестовал капитан Фомин, и Фердман из одной компании?
— Наверно, так. Геноссе Кторов думает, что так. Но это легко проверить.
— Как? — удивленно посмотрел на Енока Скиталец.
— Просто нужно суметь изловить Фердмана.
— Просто?.. Ха!.. Вы шутник, товарищ Енок.
И оба рассмеялись.
5
Вечером Фомин снова вызвал арестованного на допрос. Решил идти в лобовую атаку, ибо фактов было предостаточно.
— Вы великолепно знаете, Лютце, что Факлер мертв. Он в чем-то не согласился с вами?
— Мертв? — изумился Лютце. — Как же так? Ай-ай-ай! Он мне показался симпатичным человеком, и невесту жалко. Я знаком с ней — очень славная. Что с ним произошло?
— Погиб от ваших перчаток, Лютце.
— Напрасно, капитан. Такое надо доказать. Признаюсь, я готовил мальчика и был на пути к успеху. И мне он был нужен живой. Ваше сообщение для меня полная неожиданность.
— Дайте срок, все докажем, господин Лютце. И вашу вину, и вину ваших соучастников…
Фомин ничего не прочел на лице Лютце при своих последних словах. А хотел. Поэтому и сказал о соучастниках. «Ведь был же второй. Тогда в машине был с ним еще кто-то, кто стрелял в полицейских. Где этот второй? И нельзя спросить прямо…»
— Можно взять сигарету? — потянулся к столу Лютце.
— Да, возьмите.
— В моем бумажнике, между прочим, была солидная сумма денег. На питание я не могу пожаловаться. Оно меня устраивает. Но без сигарет, господин капитан, я не могу. Вы не распорядитесь приобрести для меня несколько пачек?
— Сигареты входят в рацион арестованного. И если вам не хватает, я скажу, чтобы его удвоили. Что же касается денег, то вы знаете — они целы и внесены в опись.
Вечерний допрос не принес новостей. Лютце твердо стоял на своей непричастности к убийству Факлера и признавал только те связи, которые были выявлены в предыдущем разговоре. Впрочем Фомин и не ждал, что его противник так сразу, вдруг разговорится.
Кторов, которому капитан занес прочитать документы, посмотрел на него с откровенным сочувствием.
— Устали? Я вижу. И не нравится мне ваш вид в последнее время: нос да глаза. Отдохнуть надо. Вот немного управимся и поедете отдыхать к сыну. Обязательно вас отправлю.
Кторов читал показания, подчеркивая наиболее любопытные, с его точки зрения, места.
— Сейчас должны подъехать Енок и Скиталец. Они не дозвонились вам. Посмотрим с ними, что нам дал сегодняшний день, — сказал полковник. — А пока, Евгений Николаевич, мое мнение: Лютне кадровый, хорошо обученный разведчик. Держится он, как видите, уверенно и не скрывает своей профессии. Чувствуется что он образован, получил воспитание, опытен… Где он получил этот опыт? Попробуйте установить его истинное лицо. Тут главное терпение, и поэтому не торопитесь. Это, правда, я вам всегда говорю.
— Я вам признаюсь, Георгий Васильевич, не разберусь, с какого бока к нему подобраться. На что сделать упор?
— Мне кажется, вы правильно начали. С убийства Факлера. Вот и докажите, что он убил инженера. Материалов достаточно. С одной стороны, это усугубляет его вину, с другой — заставит быть откровеннее. Всеми путями ищите его связи. Нам очень важны его связи. О Борисовой с ним не заговаривайте. Только если сам скажет. Квартирохозяйка Грабе, невеста Факлера, Крамер — вот ваш круг, и пока все. Пошлите его фотографии и отпечатки пальцев в Берлин. Там в нашей больнице лежит бывший инспектор персонального отдела, иначе говоря, отдела кадров специальных учебных заведений абвера. Может быть, он знает Лютце?
— События последних месяцев, Георгий Васильевич, — бесспорно звенья одной цепи… И тут, конечно, смешались интересы и наших бывших союзников, и геленовского ведомства. Это прямо относится к тому, о чем шел у нас разговор на последнем совещании…
— Бывшие наши союзнички делают вид, что не замечают, как слетаются бежавшие было за тридевять земель гитлеровские приспешники. Черных ворон маскируют под голубков. И среди тех, с кем нам приходится встречаться, многие имеют, в той или иной степени, отношение к геленовской компании. Так что, пытайтесь установить, каким богам молится этот Лютце…
В дверь заглянул дежурный.
— К вам Скиталец и начальник пятого отдела народной полиции.
Енок и особенно Скиталец были чем-то встревожены.
— Все пошло совсем не так, как мы тогда намечали, — торопливо сказал лейтенант. — Бломберг еще не успел «заболеть»: мы ведь решили выждать день и, наверное, совершили ошибку…
— Вчера после работы, — продолжил Енок, — только Бломберг вышел из бургомистрата, к нему подошел Фердман, не выдержав обещанного срока. Хорошо еще, что мои сотрудники оказались на месте и… Колоритная фигура. Вот, полюбуйтесь, геноссе Кторов, — Енок положил на стол конверт со снимками.
Фотографий было несколько. Вот «Лоцман» и Бломберг идут по улице. Сидят в пивной. Запечатлен и момент, когда Фердман получает от Бломберга какие-то бумаги. И наконец, лицо крупным планом.
— Это удача, друзья, большая удача, — сказал Кторов. — Физиономия запоминающаяся. Но продолжайте…
— После встречи с Бломбергом была зафиксирована встреча «Лоцмана» с некой Фукс. Это официантка из ресторана Дома офицеров. — Енок выложил на стол еще одну фотографию.
— Дальше?
— Дальше, геноссе Кторов, начинаются сплошные неприятности. Мои сотрудники, так хорошо справившиеся с фотографированием, потеряли «Лоцмана». Это случилось после встречи с Эрикой Фукс. Ведь мы прошлый раз договорились подольше походить за ним, постараться выявить его связи. Но после этой Фукс… Они проводили его до главного вокзала, и там в сутолоке он скрылся.
— Вы полагаете, что он ушел, обнаружив слежку.
— Не думаю, — сказал Скиталец. — Мы разбирались. Это случайность, которую можно отнести за счет… я бы сказал, за счет излишней осторожности. Товарищи из полиции слишком далеко его отпустили, а там толпа.
— Ошибку будем пытаться исправить, — сказал Енок. — Сегодня Фердман обещал найти Бломберга. А Бломберг, как мы с ним и условились, пообещал к вечеру вручить Фердману «материалы», о которых тот так мечтает. Я направляю к этому времени туда группу сотрудников, и они задержат Фердмана. Если, конечно, он появится: Фердман такая бестия, что и не угадаешь, какой шаг он сделает. Вдруг он не объявится?
— То есть, обязательно объявится, — заметил Фомин, — документы-то ему обещаны.
— Скажите, геноссе Енок, ваши сотрудники справятся с задержанием «Лоцмана»? Минутку терпения, Евгений Николаевич, — предупредил Кторов попытку Фомина ответить за своего немецкого товарища. — Ваше мнение я знаю. Вы, конечно, скажете — «да». Но я хочу знать мнение товарища Енока и лейтенанта Скитальца.
— Думаю, что так, — сказал Енок. — Но было бы хорошо, если бы в операции участвовал кто-нибудь из ваших офицеров. Нам нужна оперативная консультация. А с остальным делом справимся.
— Хорошо. Как видите, Евгений Николаевич, я тоже «за». Вашим помощником, геноссе Енок, остается лейтенант Скиталец.
— Очень хорошо. Лейтенант в курсе событий. И мы с ним успели подружиться.
Глава пятнадцатая
1
— Все в сборе? — Енок оглядел сотрудников, вызванных на совещание. — Не вижу Шварценберга?
— Он выехал на происшествие, — доложил начальник отделения Бухгольц.
— Я собрал вас, товарищи, чтобы информировать о задачах, которые ставит перед нашим отделом земельное руководство и руководство СЕПГ. Помимо уголовных дел нам приходится заниматься и вопросами государственной безопасности. Потсдамские соглашения, как вы знаете, западными державами саботируются, в Западной Германии образована так называемая Бизония. Как грибы растут под всевозможными прикрытиями шпионские организации — «Союз свободных юристов», «Группа борьбы с бесчеловечностью» и другие. Как бы они там ни назывались, их основная деятельность — подрывная работа. Против нас, против демократических преобразований, проводимых в этой части Германии, против советской военной администрации.
Не далее как вчера я имел беседу с руководством советской контрразведки. Передавая материалы на группу шпионов, товарищи
напомнили мне, что советские оккупационные власти не будут находиться у нас вечно, что мы должны скорее приобретать навыки и опыт борьбы против врагов нашего демократического строя.
Так вот, советская администрация, работники советских органов государственной безопасности оказывают нам сейчас помощь и советом и опытом, который передают на конкретных делах. Многие наши товарищи успешно сотрудничают с ними. Я имею в виду, например, Бухгольца и его отделение.
Сейчас я проинформирую вас о новом, очень важном деле, касающемся нашего города, а следовательно, и нашей сферы влияния. Речь идет о резидентуре некоего Фердмана. Это бывший гестаповец. Матерый и злобный враг, на счету которого и кровь невинных людей и предательства, сейчас, как стало известно, работает на английскую разведку. В Энбурге он сумел сплести довольно обширную агентурную сеть, ее нам и следует выявить и ликвидировать.
К сожалению, мы сделали несколько промахов… Нашим надо было выследить Фердмана, установить его связи, а мы на первых же шагах потеряли его… Пока исправить ошибку не удалось. Вы, обервахмайстер, лучше других знакомы с обстоятельствами дела, — обратился Енок к Бухгольцу. — Расскажите коллегам о нем…
2
После опроса свидетелей, проходивших по делу, предъявленных Лютце неопровержимых доказательств, он вынужден был признаться в убийстве Факлера. В самом деле, было нелепо запираться, когда в разбитой машине обнаружили искусно припрятанную микропленку с расчетами Факлера, а эксперты вместе с врачами определили, что смерть его последовала от применения перчаток, снятых с убийцы при его задержании. После этого Лютце как воды в рот набрал.
Но вот пришло любопытнейшее известие из Берлина, которое позволило Фомину вести следствие дальше. Кюме, бывший работник персонального отдела, высказал предположение, что на фотографии изображен капитан Зандлер. Утверждать он не мог, ибо с тех пор, как он видел капитана в последний раз, прошло семь лет, и что тогда, раньше, он был в военной форме.
А был он тогда сотрудником отдела «Иностранные армии Востока» и специализировался по Красной Армии, считался одним из перспективных офицеров Гелена, его пригитлеровского периода.
— Я только что разговаривал с начальником следственного отдела в Берлине, — сказал Фомину Кторов. — Кюме чувствует сейчас себя вполне удовлетворительно. Берлин заинтересовался вашим подопечными находит целесообразным побыстрее провести его очную ставку с Кюме.
— Лютце категорически отрицает свою принадлежность к абверу и утверждает, что никаких школ не кончал. Объясняет, что общевойсковую подготовку проходил в военном училище, а специальную — у Старка.
— Вы не назвали ему фамилии Кюме и Зандлера?
— Нет, конечно. Я решил вначале посоветоваться с вами.
— И отлично. Тем больше будет неожиданностей для Лютце.
— Когда выезжать на очную ставку?
— Нет, Евгений Николаевич, очную ставку пошлем провести Скитальца. Ему нужна практика. Товарищи из следственного отдела народ опытный, помогут. Материалы и вопросник подготовьте вместе. Даю на все сутки. Со Скитальцем поедет Касаткин или старшина Петров. Распорядитесь, чтобы готовили «мерседес». А вы помогите Еноку. Рассудите: Лютце у нас в руках, а Фердман пока…
Несколько расстроенный, Фомин вызвал Скитальца.
— Все обделаем в лучшем виде, Евгений Николаевич, — обрадовался лейтенант. — Между прочим, я еще не был в Берлине.
— «Обделывают» темные делишки, а вам следует выполнить все точно, быть очень внимательным. Помните, это разведчик многоопытный… Проследите, пожалуйста, чтобы арестованного привели в порядок, побрили Пусть он почистит и выгладит платье. А вы как следует изучите дело.
Скиталец густо покраснел, но, лихо козырнув, пошел выполнять распоряжения и готовиться к командировке.
3
Зепп долго не показывался, и Хаазе уже отчаялся встретить его, хоть частенько заглядывал в пивную. Прошло десять дней с тех пор, как арестовали Лютце, но узнать о нем пока ничего не удалось.
Опять, кажется, напрасно ждал. По времени Зепп работу давно должен был закончить — Хаазе бросил на стойку деньги за пиво. Направился к выходу и в дверях нос к носу столкнулся со стариком.
— А я, парень, так и решил, что ты здесь, увидев твою машину. Опять, думаю, приехал за помощью к Зеппу? А?..
— Нет, старина, машина в порядке. Просто мне все чертовски надоело. Про коммерцию я прошлый раз подзагнул. Время куда-то надо девать. Девочки меня не интересуют. Вот и заехал. А ты куда запропал? Я уже хотел уезжать.
— Дела, парень, дела. А Зепп начал сдавать, — старик тяжело опустился на кресло. — Да ведь и пора. Мне как-никак далеко за шестьдесят.
— Никогда бы не подумал, вид у тебя бравый, — польстил Пауль.
Тем временем хозяин поставил им на стол по кружке пива и в толстых граненых рюмках шнапс.
— Послушай, Ганс, достань-ка там из своих тайных запасов по паре сосисок. Чертовски хочется жрать. Дали срочную работу, подготовить, понимаешь, одну машину — не успел пообедать.
— Грузовую? — спросил Хаазе.
— Легковую. Восьмиместный «мерседес»-дизель. Пойдет в Берлин.
— Кому вдруг понадобился такой танк?
— И то верно — танк, — подхватил старик. — Каждый раз, когда нужно везти всяких там, кому война не надоела, готовят ее. На месте русского начальства я бы их в свинячий фургон…
— Кого же повезут? — смело спросил Хаазе, видя, что Зепп захмелел.
— Чего не знаю, того не знаю. Да и зачем мне это нужно? К чему совать нос туда, куда не следует?
«Действительно, откуда этот старый осел может знать, — подумал Хаазе. — Но и на этом спасибо. Может быть, это и есть тот единственный шанс. — Надо только все продумать», — Хаазе посмотрел на часы.
Выпили еще по рюмке.
— Ну что же, как не хорошо мне здесь, а пора ехать. Прощай, старина! — Он подозвал хозяина. — Сколько с нас. Плачу за все.
Из пивной Хаазе отправился к комендатуре, выбирать место, куда удобней, не вызывая подозрений, поставить завтра машину и откуда лучше вести наблюдение за выездом. Дизель он узнает издалека, а там будет видно. Лишь бы поменьше охраны. Игра стоит свеч. Из пистолета он бил влет чаек. Из восьми шесть были его. Весь вопрос, куда повезут, когда и кого? Скорее всего русские выедут утром. Значит, мне нужно караулить их пораньше.
Заправив и проверив машину на станции, он лег отдыхать, чтобы как следует выспаться. Завтра может потребоваться вся ею выдержка, верность глаза и твердость руки.
4
«Что, черт возьми, могло произойти с этим старым ублюдком», — выругался про себя Фердман, захлопывая дверцы телефонной будки. И было чему злиться. «Финн»», на встречу с которым он возлагал большие надежды, вдруг так некстати заболел и когда появится на работе, неизвестно. Может быть, рискнуть и зайти к нему домой? Нет, подожду день — другой. Время еще есть.
Приняв такое решение, Фердман на ходу прыгнул в трамвай, идущий в район Плауэнберга, где у него были другие дела.
5
— Геноссе Енок, соединяю вас с вахмайстером Ределем, — сказала Августа и скрылась за дверью.
— Шеф, ничего не вышло, — докладывал Редель. — Он не появлялся. Правда, я имею сведения, что незадолго до конца рабочего дня кто-то справлялся о Бломберге. Но был ли это Фердман — неизвестно.
— Ничего не сделаешь, давайте ждать. Теперь только терпение. Может быть, появится к вечеру?..
Ни вечером, ни на следующий день Фердман не появился. Ни в бургомистраге, ни дома у Бломберга. Енок и его товарищи склонны были думать, что Фердман все-таки обнаружил за собой слежку и скрылся. Но постов решили пока не снимать. Так же считал и Фомин, которому об этом доложил лейтенант Скиталец. Под вечер он позвонил Еноку и сказал, что ненадолго уезжает и пока, если что, надлежит связываться с капитаном Фоминым.
«Если что… — думал Енок. — Уж скорее бы случилось это «если что»…
6
— Карл, — тихонько окликнул Юргенс своего напарника. — Посмотри: впереди на противоположной стороне — один тип удивительно похож на Фердмана.
Блютнер кивнул:
— Он! Это он и есть. Я хорошо запомнил его прошлый раз, когда он улизнул. И запомнил эту тяжелую, размашистую походку.
Фердман уверенно прошагал по переулку, мимо каменного сарая, откуда они вели наблюдение, за улицей и домом Бломберга.
— Надо предупредить Бертольда, сказал Юргенс. — Фердман раз уж появился здесь, обязательно вернется.
Блютнер достал из кармана небольшую коробочку, слегка придавил пальцем одну из кнопок, сказал: «Бертольд, внимание, внимание! Я, Блютнер. Появился Фердман. Следите за улицей. Будьте готовы…»
«Понял. Мы готовы, — тихо ответил из ящичка голос Бертольда Ределя. — Остаюсь на связи, держи нас в курсе».
Блютнер не ошибся. Не прошло и двух минут, как в полумраке вечерних сумерков вновь замаячила фигура Фердмана. Теперь он шел медленно, словно погруженный в собственные думы. Пройдя вдоль невысокого забора, остановился у калитки. Немного постоял, потом вдруг круто повернулся и пошел прочь.
Это было так неожиданно, что Блютнер, наблюдавший за ним, на мгновенье растерялся. Но тут же торопливо проговорил в микрофон:
— Алло, Бертольд, Фердмана будто кто-то спугнул. Идет в сторону Шиллерштрассе. Мы постараемся обогнать его садами и встретить на углу. А вы выходите и следуйте за ним. Нам вдвоем не уследить…
Блютнер, а за ним Юргенс выскользнули из своей засады и что было сил побежали к темному забору кустарника. Через минуту — другую они оказались далеко впереди Фердмана. Вот он дошел до перекрестка, остановился, закурил, посмотрел по сторонам и пошел дальше. На оживленной улице наблюдать за ним было значительно легче. Следуя на незначительном расстоянии друг за другом, дошли до трамвайной остановки.
Вошли в тот же, что и Фердман, вагон трамвая и доехали до Вильгельмштадта. Там Фердман сошел и направился в сторону крепости. Здесь прохожих почти не было. Блютнер и Юргенс дали ему возможность уйти подальше и только тогда двинулись следом. Начал накрапывать дождь. Фердман миновал крепость, надел на ходу плащ и зашагал вдоль монастырской стены. И здесь резко повернул к дверям маленькой часовни.
— Мы здесь, — услышал Блютнер голос Ределя. — Вы с Юргенсом пройдете вперед и укроетесь в кустах. Фердман, наверное, слышал наши шаги, и, если никто мимо не пройдет, это может показаться подозрительным. Пройдите мимо часовни, а потом потихоньку назад. А мы начнем действовать.
Отправив вперед товарищей, Редель со своим напарником подобрались к самому входу в часовню и стали ждать. Время шло, а Фердман и не думал выходить. Дождик пошел сильнее.
Редель не выдержал и включил передатчик.
— Алло, Блютнер, как ваши дела?
— Мы вернулись и мокнем рядом. Пока никого не видели. Думаю, что надо ждать. Прием.
— Хорошо, ждем, — согласился Редель. — Приемника не выключай. Слушай, а может быть, из часовни есть еще какой-нибудь выход?
— Не думаю.
Прошло еще минут пятнадцать. Фердман так и не появился.
— Карл, — позвал Редель товарища. — Ждать больше нет смысла. Давай так: без особого шума, но сразу входим в часовню. Иди к дверям.
Редель первым подошел к двери, дождался товарищей. Перехватив пистолет в левую руку, он достал из кармана фонарик и перешагнул порог. Яркий кружок света, дважды обежав небольшую квадратную комнату, выхватил из темноты лишь распятую фигуру Христа и две каменные скамьи по бокам входа. Больше в помещении ничего не было.
— Что за чертовщина, куда он мог деться?.. Ты что-нибудь понимаешь? — спросил Карл Ределя.
— Я собственными глазами видел, как он нырнул сюда, — ответил Блютнер. — Давай как следует все осмотрим. Не мог же он пройти сквозь стену.
Теперь уже четыре светлых кружочка бегали по полу и стенам часовни, ощупывали каждый выступ, каждую щель. Редель перегнулся через железную решетку, огораживающую полукруг перед распятием, и увидел на полу сырой след от башмака, а рядом с распятием — другой.
— А дождь-то нам на руку, — сказал он. — Даю голову на отсечение, это следы Фердмана. Смотрите, — лучик фонаря остановился на отпечатке. — Где-то здесь есть потайной ход.
Он перешагнул ограду и начал изучать крест и стену, на которой висело распятие. Стена как стена, ничего подозрительного, кирпич к кирпичу, щелей не видно. Он потрогав распятие — оно было плотно укреплено. Но где-то ведь должен быть секрет. Фердман не мог исчезнуть, словно привидение. Редель стал ощупывать детали скульптуры, поднял руки, дотянулся до головы и вдруг почувствовал, что голова Христа под нажимом слегка опускается вниз. Редель попросил товарищей посветить ему и с силой, двумя руками, надавил на голову скульптуры.
— Смотрите! — воскликнул Блютнер. — Стена раздвигается!
Он ошибся. Стена не раздвигалась, а поворачивался квадрат, на котором висело распятие, образуя довольно широкую щель, сквозь которую без помехи мог пройти человек.
— Ну, что, пойдем за ним в преисподнюю? — перешел на шепот Редель.
— В рай или в ад — все равно, — сказал Блютнер. — Важно его найти.
— Тогда, вперед! Светить буду я один. — Редель шагнул в темный провал щели.
Крутая лестница привела их на тесную площадку-тамбур, дальше начинался узкий коридор. По команде Ределя все остановились, затаили дыхание, прислушались. Ничто не нарушало мрачной тишины подземелья. Пошли дальше. Метров через сорок коридор расширился. Лучик фонарика натолкнулся на дверь. За ней была еще дверь и еще… словно коридор тюрьмы. Редель, сделав знак «внимание», дернул ручку ближайшей двери, она неожиданно легко открылась. Штоф с пистолетом в руке шагнул в комнату. Никого. Огляделись. Все примитивно просто — пол и потолок были выложены крупным камнем. Прямо напротив входа — стол, скамейки, по бокам — два топчана. На стене небольшое распятие. С потолка свисал жестяной абажур с лампочкой.
— Убежище святых отцов. И дьяволов, — шепотом сказал Редель. — И Фердман где-то здесь. Давайте проверим все кельи. Только тихо.
Они прошли по коридору еще несколько метров, погасив фонари, и вдруг увидели тоненькую ниточку света, струившегося из замочной скважины. За дверью кто-то насвистывал мотив «Роземунды». Видимо, человек чувствовал себя здесь как дома.
— Приготовились. Блютнер пойдешь последним, — отдал команду Редель. — Открывай.
Дверь широко распахнулась. Редель вбежал первым, направив пистолет на сидящего за столом человека.

Это был Фердман. Он дико вытаращил глаза и рывком бросил стол навстречу Ределю. Настольная лампа погасла, помещение погрузилось в темноту. Сзади, кто-то из его товарищей зажег фонарик. Отскакивая в сторону от падающего стола, Редель успел заметить, что Фердман бросился вправо, к прямоугольнику двери. Толкнув пистолет в карман, Редель рванулся наперерез и сразу же отлетел в сторону, сбитый мощным ударом кулака. В то же мгновенье на плечах у Фердмана повисли Юргенс и Карл. Вскочив, Редель наткнулся на кучу барахтавшихся тел. Не сразу определил где кто, наконец захватив руку Фердмана, вывернул ее и заломил назад. Рыча от боли, Фердман уткнулся носом в пол.
— Карл, браслеты!
Блютнер ловко накинул и тут же защелкнул на руках Фердмана наручники.
Теперь можно было спокойно осмотреться. Редель нашел упавшую лампу, вставил штепсель в розетку. Вспыхнул желтоватый свет.
— Ну что, кажется, все благополучно? — спросил он друзей.
— Если не считать, что этот слон едва не свернул мне челюсть, — заметил Карл. — И у тебя нос в крови.
— Вставайте, пол холодный, простудитесь, — сказал Фердману Редель. — Помоги ему, Юргенс, а мы осмотрим мышеловку.
Осмотр помещения ничего не дал. Тщательно прибрав комнату, чтобы не оставалось следов борьбы, Редель попросил Блютнера подняться наверх и вызвать машину.
— Сюда мы еще вернемся и, надеюсь, познакомимся кое с кем из ваших приятелей, — бросил он Фердману. — А пока следуйте за этим молодым человеком.
Выключив лампу, Редель последним вышел из кельи. Скоро все сидели в часовне, ожидая машину. Распятие Христос вновь занял свое обычное место и бесстрастно взирал на людей.
7
На работу Фомин пришел очень рано, но уже застал у себя в кабинете Скитальца, с нетерпением его ожидавшего.
— Два раза насквозь, — сказал Скиталец.
Фомин сначала не понял, о чем это говорит лейтенант. Но потом увидел на столе дело Лютце и улыбнулся.
— Ну и какое мнение?
— Помучил он вас, Евгений Николаевич. И вы его…
— Однако, как видите, «недомучил». Иначе не пришлось бы везти его в Берлин. Вот, например, до сих пор не ясно, где его напарник, тот, который был с ним в машине?
— А разве такой был?
— В том-то и дело, что был. Не мог же Лютце одновременно и вести машину и, пробив заднее стекло, стрелять по полицейским?
— А может быть, это и был тот Фердман, которого мы ждем?
— Может быть. Вот вас провожу и позвоню Еноку. Узнаю, как там идут дела.
— Дежурный говорил мне, что под утро вас кто-то спрашивал оттуда.
— Ну хорошо, давайте сначала с вами «прорепетируем», а потом я свяжусь с Еноком.
Скиталец волновался. И Фомин понимал состояние молодого коллеги, которому впервые доверено провести столь серьезное дело — очную ставку двух таких, с профессиональной точки зрения, интересных «объектов». Фомин проверил папку с документами и остался доволен. Скиталец постарался: все находилось в идеальном порядке. Понравился и окончательный вариант плана проведения допроса.
— Ну что же, можно и в путь, — сказал Фомин. — Сядете рядом с шофером. Так лучше. А Лютце посадим на откидное кресло, чтобы у него за спиной находился Петров и солдат.
Когда все заняли свои места, Фомин посмотрел на часы.
— Сейчас девять, думаю, к двенадцати будете на месте и сразу доложите Тарасенко, только не гони, — предупредил Фомин водителя, зная его пристрастие к быстрой езде. — Сегодня сыро. — Пожал руку Петрову. — А ты, Саша, приглядывай за ним. — подмигнул, — у тебя опыт…
Выпустив синие клубы дыма, машина медленно выкатилась со двора.
«Вот и еще одно дело движется к логическому завершению, — думал Фомин, возвращаясь к себе. — В этой операции, в общем, если разобраться, смело и широко задуманной, противник крупно проиграл. И конечно, захочет отыграться. И уж, наверно, знает о том, что Лютце провалился. Может быть, знает от того, второго, который до сих пор остался для него, Фомина, загадкой и которого нужно еще найти. И надо побыстрее заканчивать с Фердманом. И довести до конца работу по вербовке Штаубе. А потом… Потом съездить домой, в Москву. Ведь Кторов обещал… Может быть, они еще уедут вместе с Денисовым, работа которого здесь подходит к концу».
К немалому удовольствию Фомина, быстро и благополучно решился вопрос с Борисовой. По согласованию с вышестоящими инстанциями следствие против нее было прекращено. Учли ее искренность и роль, которую она сыграла в задержании Лютце. И Фомин уже готовил бумаги на выдачу Борисовой советских документов. «Интересно, как сложится дальше ее судьба».
Он набрал номер телефона Енока.
— Мне кто-то звонил от вас?.. Что? Виктория?! Это же прекрасно, геноссе Енок!.. Познакомиться с Фердманом? Конечно, хочу. Давайте часика через два — три, я тут дождусь одного результата…
Глава шестнадцатая
1
С утра моросил противный мелкий дождь, но Хаазе не сетовал на непогоду, она ему была даже на руку. На улицах людей было мало, да и те шли нахохлившись под капюшонами плащей или укрывшись зонтами. Даже полисмен покинул свое обычное место посреди перекрестка, спрятался под грибок на углу.
В начале десятого ворота комендатуры распахнулись, из них выкатился большой черный лимузин. «Старик не обманул, — машина m самая, — удовлетворенно подумал Хаазе. — Теперь надо только выяснить, кого везут. Если русские докопались до его донышка — птица он для них заметная и какой-нибудь «шеф» в Берлине захотел с ним познакомиться поближе».
Хаазе не составило труда сосчитать, что в машине вместе с водителем находилось пять человек. Он включил мотор и поехал метрах в ста сзади.
Вскоре «мерседес» миновал последнюю городскую улицу и, выйдя на автостраду, ведущую в Берлин, резко увеличил скорость (Значит, точно, в Берлин, — отметил про себя Хаазе. — Значит, впереди минимум три часа дороги, и время будет работать не на меня: чем ближе Берлин, тем дальше от границы». Хаазе прикинул, что интенсивность движения невелика: за полчаса, что они ехали, навстречу прошло всего три машины, обогнали — четыре грузовых и одну легковую. Если все сложится удачно, операция, которую он задумал, займет две — три минуты. При таком движении аварию смогут обнаружить через пять — десять, а то и через пятнадцать минут. Пятнадцать минут — это на его машине двадцать километров.
Все! Надо действовать. Он развернул смотровое зеркало так, чтобы обгоняемая машина находилась как можно дальше в поле его зрения, прибавил газ и стал обходить «мерседес». Пассажиры не обратили внимания, что из промчавшегося мимо автомобиля на них смотрели изучающие глаза, холодные, расчетливые, глаза хищника, готовящегося к прыжку. Хаазе узнал профиль Лютце, сидевшего на откидном кресле. За его спиной — двое военных.
Руки крепче сжали баранку. «Значит, риск оправдан. А если так, то он знает как надо рисковать». Отворачивая назад зеркальце, Хаазе встретился со своим взглядом: округлившиеся глаза, побелевшие от нервного напряжения щеки и нос. «Старею, — подумал Хаазе, — нервы не те, что прежде». Повел плечами, прогоняя холодок, пробежавший по спине. Он давил газ, стараясь подальше уйти вперед.
Скоро начался длинный пологий подъем, ограниченный справа довольно крутым откосом. «Лучше не придумаешь, — решил Хаазе, — на гребне самое удобное место». «Мерседес» был далеко позади и полз по дороге крошечной точкой.
Плавно притормозив, Хаазе осторожно переехал газон, надвое разделявший автостраду, и остановил автомобиль с левой стороны бетонного полотна. Не выключая мотора, вылез из машины и зашагал назад, к вершине подъема. Укрылся в кустах, откуда дорога хорошо просматривалась. Кроме «мерседеса», на ней не было машин.
— Бог с нами, — тихо воскликнул Хаазе. Вытащил пистолет, тщательно проверил его и стал ждать. Слух обострился, и все-таки он не уловил момента приближения машины, а увидел хромированную сетку радиатора.
Секунда… и плавно, так, как он всегда учил курсантов, Хаазе нажал спуск. Оглушительно выстрелил баллон. Тяжелый лимузин, накренившись влево, на скорости выскочил на газон и, ломая деревца, опрокинулся набок. Из машины никто не вылезал. Хаазе подбежал, заглянул внутрь: пассажиры не подавали признаков жизни. Лютце был придавлен телом солдата. Хаазе рванул дверцу, сдвинул солдата в сторону и стал вытаскивать Лютце. Это ему удалось. Подхватил на руки и понес.
Как часто бывает в автомобильных катастрофах, шофер пострадал меньше других. Он первым пришел в сознание, выполз из машины и мешком упал на газон, рука его скребла кобуру пистолета. Хаазе заметив это, положил Лютце на землю и побежал назад. Тяжелый кулак обрушился на голову водителя. Тот сразу обмяк.
Хаазе положил пистолет шофера в карман и поспешил к Лютце. Скоро его спортивная машина сорвалась с места. Перевалив гребень, быстро набрала скорость. Лютце открыл глаза и дико озирался. Наконец, взгляд его принял осмысленное выражение, он выпрямился на сиденье, несколько раз резко тряхнул головой:
— Видел твою машину и ждал — что-то будет. Напрягся и ждал. И все же не уловил момента, когда нас понесло в сторону. Прикури мне сигарету.
Лишь теперь Хаазе вспомнил, что на Лютце наручники. Достал сигарету, не отрывая глаз от шоссе, прикурил, воткнул ее в рот Лютце, закурил сам.
— До сих пор не верится, Макс, что все так легко получилось. Просто повезло. А браслеты — плевое дело, проскочим автостанцию, и я сниму их. Как себя чувствуешь? У тебя все цело?
— Ребра болят. Грудью ударился о переднее сиденье. И еще нога: подвернул, наверное. И голова гудит, как колокол.
Лютце говорил медленно и с таким спокойствием, словно ничего не произошло. Хаазе даже позавидовал такому самообладанию друга и сам стал понемногу успокаиваться. Попросил:
— Посмотри: сзади никого нет?
Делая над собой усилие, морщась, Лютце повернулся. Чаще, чем обычно, у него дергалась щека.
— Чисто. И встречных пока нет. Мы родились в сорочках, Пауль.
Промелькнул мотель. От него дорога уходила в сторону Энбурга. Хаазе остановился. Достал связку ключей, стал подбирать бородку и скоро отомкнул замок наручников.
— Фу, черт возьми, — Лютце затряс кистями, — затекли.
— Возьми, — Хаазе протянул ему пистолет.
— Советский? «Тэ-тэ». Откуда?
— Прихватил у шофера. Ему он вряд ли понадобится, а тебе, как знать.
— Спасибо, Пауль. Ты истинный друг. Вот моя рука. Помни, она никогда тебя не обманет, старина. Сердце, кошелек — все в твоем распоряжении. А будет нужно, не пожалею жизни.
— Ладно. Там будет видно, Макс. Рассчитаемся. Надеюсь, когда-нибудь вспомнишь…
2
Прошло больше часа после контрольного времени, которое Фомин определил Скитальцу для доставки Лютце в Берлин. Наконец, долгожданный звонок. Голос Петрова звучал глухо и подавленно:
— Евгений Николаевич. ЧП: на шестьдесят седьмом километре на пашу машину совершено нападение. Произошла катастрофа — преступник бежал.
— Бежал?! — Фомин вскочил со стула. — Что же вы смотрели? — Он еле сдержал себя, чтобы не обрушить на голову старшины поток проклятий. — А где лейтенант?
— Жив. Мы перевернулись и сначала были без сознания. А потом ничего…
— На чем и куда он мог бежать? — перебил Петрова Фомин.
— Они, на верно, едут в сторону границы на машине марки «хорьх-8», серого цвета. Номер западный. Это точно. Но мы были в таком состоянии, что не успели… Он нас сначала обогнал и ушел вперед. А потом… Я звоню с автостанции. Тут сказали, что серый «хорьх-8» был здесь с час назад.
— Вы-то все целы?
— Да, в общем, живы. А машина здорово помята.
— Понял. Давайте поскорее выбирайтесь сами.
«Вот он, второй, — подумал Фомин. — Надо было сразу искать второго». Бросил трубку, посмотрел на часы. Выбежал из кабинета.
— Как люди? — спросил полковник, выслушав сбивчивый доклад.
— По словам Петрова, живы.
— Выходит, недооценили мы наших противников. Вскружили голову легкие успехи. Лютце — птица крупнее, чем мы полагали, коль скоро они рискнули совершить нападение на машину советской военной администрации.
Фомин видел, что Кторову большого усилия воли стоило оставаться спокойным и выдержанным. Карандаш энергичней обычного стучал по столу. Полковник положил перед собой лист бумаги.
— Не будем терять драгоценных минут. Немедленно организуйте розыск. Подключите к операции все, что можно.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — вытянулся Фомин, проклиная в душе и Лютце, и себя за то, что не настоял на командировке и отпустил Скитальца. Впрочем, лейтенанта винить он не мог, так как не знал подробностей происшедшего.
Первым делом Фомин связался с пограничниками. Те обещали усилить охрану района и подключить к розыску пограничную полицию. Потом позвонил Еноку. Он был на месте и сказал, что тотчас дает команду начать поиск преступников силами полиции округа.
3
На попутной машине Петров вернулся с автостанции к месту катастрофы. Скиталец, с фиолетовым кровоподтеком на лбу и заплывшим глазом осматривал район нападения на машину. Он уже нашел по следам место, где лежал в засаде человек, простреливший им баллон, определил и стоянку автомобиля. Теперь уже не было сомнения, что это «хорьх». как они и думали вначале. Петров по дороге успел переговорить и с шоферами машин, которые ехали со стороны Берлина. Те сказали, что «хорьха» не встречали. Значит, это могла быть та самая серая машина, что промчалась мимо автостанции в сторону Энбурга, а может быть, и границы.
— Вот здесь он, гад, развернулся на газоне, — держась за голову, рассуждал Скиталец.
Вид у него был растерзанный: синяк на лбу стал еще больше, кровоточила губа. Он ходил хромая, так же, как и Петров. У лейтенанта болело плечо и колено, каждое движение давалось с трудом, причиняя острую боль. Солдат, тоже получивший травмы, возился с Тарасенко.
Водитель долго находился в бессознательном состоянии и очнулся позже других. Он жаловался на боли в груди — видно сильно ударился о баранку. Наконец, и он немного оправился и стал вспоминать кое-какие приметы нападавшего. Подтвердил, что видел автомобиль марки «хорьх-8», кабриолет.
Тарасенко протянул руку к кобуре:
— Пистолет. Он забрал у меня пистолет.
— Сможете вести машину? — спросил Скиталец.
— Попробую. Если машина цела…
— Цела, — сказал Петров. — Я уже осмотрел. Только нужно сменить баллон и перевернуть ее. Попросим помощи у проезжих шоферов. Я поведу.
Машина, хотя и основательно помятая, скоро стояла на шоссе. Петров сел за руль и, включив мотор, тихо тронул с места.
4
Полковник нервничал, шагал по приемной. Он уже доложил о происшествии в Берлин, и там теперь тоже ждали вестей о том, как идут розыски. Каждый раз, когда раздавался звонок, Кторов стремительно подходил к столу. Однако это были не те звонки, которых они ждали. Потом пали поступать сообщения далеко не утешительные: дежурный полицайпрезидиума передал телефонограмму, что на автостраде полицейский патруль пытался задержать за превышение скорости автомобиль марки «хорьх-8», но водитель указанной машины на требование патруля остановиться, открыл стрельбу. В результате один из мотоциклистов серьезно ранен.
Потом позвонил Енок и сказал, что движение по автостраде, на вероятном пути следования бандитов, перекрыто, навстречу им пущены две полицейские машины и наряд мотоциклистов.
— Эти сволочи прекрасно все понимают и теперь будут стараться обходить посты или идти через них с боем. И что уже совершенно ясно: они рвутся к границе, где, мне кажется, и развернутся основные события, если не сумеем их задержать раньше.
— Разрешите выехать туда, Георгий Васильевич? — спросил Фомин.
— Поезжайте.
5
— Еще километров двадцать, и нас прихватят. Наверно, уже ждут русские пограничники и полиция, — сказал Лютце.
— Не пора ли, Макс, бросать машину. Она выдает. Дальше можно и пешком.
— Пешком? — Лютце хлопнул себя по ноге и тут же присвистнул: — У меня идея. Прижми-ка этого мотоциклиста.
Хаазе начал замедлять ход, оттесняя мотоциклиста к краю дороги. Тот возмущенно замахал рукой и, не понимая, что происходит, затормозил. «Хорьх» остановился рядом.
— Пауль, выходи скорее! — сказал Лютце. — Дай ключ, документы на машину. Сейчас все поймешь. Захвати, что нам может понадобиться и что нельзя оставлять им.
Не дожидаясь Хаазе, он, прихрамывая, подошел к мотоциклисту.
— Вы что сошли с ума? — начал было разгневанный мотоциклист, но Лютце перебил его:
— Слушай, парень, времени у нас нет. Вот ключ от этого автомобиля, а это документы. Давай сюда свои. Что ты хлопаешь глазами — «хорьх» твой. И быстрее, приятель.
— Ну как же это? — растерянно спросил владелец мотоцикла.
— Так… И еще небольшая просьба: ты поедешь в машине. В ней тепло. Поэтому сними куртку и шлем. Сам видишь, я одет легко, меня может продуть.
Молодой мотоциклист начал испуганно отказываться от неожиданной сделки, которую ему так грубо навязывали, понимая, что дело не чисто.
— Ну, пошевеливайся, сосунок! — крикнул Лютце и ткнул ему под ребро пистолетом.
Столь убедительный аргумент сразу подействовал на парня, и он тотчас сбросил кожанку и шлем.
— Теперь ты сядешь в машину и съедешь вниз! Понял? Вот сюда и дальше прямо по полю, в сторону деревни или к дьяволу в гости… — говоря это, Лютце успел натянуть на себя куртку и шлем. — Попробуешь увильнуть, — продолжил он, — получишь гостинец в спину. Ясно? Пошел!
Молодой человек послушно сел в машину и съехал с автострады на ржаное поле. Потом притормозил, остановился.
Лютце выстрелил в воздух, и автомобиль сразу же снова поехал.
Вся операция отняла не более трех минут.
— Здорово! — оценил ее Хаазе. — Ты сможешь вести?
Вместо ответа Лютце занял место впереди. Не успели они отъехать и трех километров, как им встретился полицейский автомобиль.
— В чем дело? — затормозил Лютце, выполняя требование остановиться.
— Вам не попадался тут серый «хорьх»? — приоткрыв дверцу, спросил полицейский вахмистр.
— Встречался. Километрах в десяти. Кажется, «хорьх-8», — Лютце махнул в сторону.
— Спасибо! — полицейская машина рванулась вперед.
— Еще одно препятствие позади, — крикнул Хаазе. И опять замелькали по сторонам перелески, ржаные и картофельные поля. Лютце выжимал из старенького мотора все, что было возможно. Крутой поворот, и они увидели, что метрах в пятистах впереди автостраду перегородили две грузовые автомашины. Рядом стояла группа солдат в зеленых фуражках, и люди в форме немецкой пограничной полиции.
— Бежим! — крикнул Лютце. — Я знаю эти места. До границы не больше километра и кругом лес. Прорвемся.
Он отбросил в сторону мотоцикл и кубарем скатился вниз, в кусты. Хаазе за ним.
«Только бы перешагнуть границу. А там мы у себя, и никакой черт нам не страшен», — думал Лютце. Он бежал, забыв о боли в груди, и вспоминал школьную закалку — ненавистные тогда кроссы. Бежал прихрамывая, оставив далеко позади Хаазе.
— Макс, старина, подожди, — окликнул тот. — Я ведь уже не мальчик.
Лютце сбавил шаг. И когда Хаазе догнал его, стал объяснять:
— Сейчас начнется лощина, пойдем по ней. Она подходит к самой границе. Я тут еще в детстве бывал. Держись, дружище, — подбодрил он.
Тишину прошила длинная автоматная очередь. Стреляли откуда-то издалека. Пули просвистели высоко над головами. Лес наполнился треском ломающихся веток, голосами.
«Стреляют выше, хотят взять живым, — подумал Лютце. — Так даже лучше — больше шансов уйти».
— Не отставай, Пауль! Здесь всего полтораста метров, — крикнул он. — А терять нам нечего! Быстрее!
Но и пограничники видели, что преступники могут уйти. Короткие, злые очереди трещали уже кругом, пули сбивали листья, ветки, впивались в деревья. Теперь с ними решили не церемониться.
Хаазе вскрикнул. Лютце оглянулся и увидел, что тот тяжело припадает на правую ногу.
— Держись! Мы почти дома!
И тут справа от них из кустов высыпала группа пограничников и полицейских. Перебегая от дерева к дереву, они окружали их. Лютце дал несколько выстрелов.
— Бери левее, — крикнул Лютце и послал пулю в ближайшую к Хаазе фигуру. Полицейский упал. Лютце, задыхаясь от бега, разбрызгивая воду, перебрался через ручей, оглянулся. Хаазе еле полз, и его уже нагоняли двое пограничников. «Если ждать, то конец обоим, — подумал Лютце. — Бросить его — значит, оставить свидетеля».
— Прости, друг, — вслух сказал Лютце, словно Хаазе мог его слышать. — Это не входило в мои планы, — но… — Лютце на миг затаил дыхание, прицелился…
Хаазе затравленно оглядывался, понимая, что уйти ему уже не удастся. «Если бы Макс не убежал так далеко вперед. Может быть, он еще успел», — подумал он.
— Ма-а-акс! — хрипло крикнул Хаазе, страшным напряжением воли заставив себя сделать еще несколько шагов. Он увидел, как обернулся Лютце, и у него даже затеплилась надежда. «Но почему он поднял пистолет?.. — Потом острая боль огнем вспыхнула в груди. — Неужели?.. — мелькнуло в угасающем сознании. — И это тот, кого он спас…»
Полицейский из пограничной полиции послал на выстрел несколько коротких очередей.
— Отставить! — крикнул ему по-немецки Рощин, подбегая к распростертому на земле Хаазе. — Поздно, преступник за границей…
6
Как ни спешил Фомин, он прибыл на место, когда все уже было кончено. В изоляторе врач безуспешно пытался помочь тяжелораненому, подобранному у границы.
— Это не Лютце, — сказал Фомин Рощину. — Что с ним?
— На подходе к границе его ранили в ногу. А тот сначала помогал ему, а потом выстрелил и сам успел уйти. При обыске нашли межзональный паспорт на имя Пауля Хаазе, водительские права, деньги и записную книжку. Все у меня. Хочешь взглянуть?
— Потом. Надежда есть? — обратился Фомин к врачу.
— Нет, мало вероятно. Делаю, что могу. — И он ввел иглу шприца в руку раненого.
Через несколько секунд тот открыл глаза и смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Даже вспышка блица фотоаппарата не вызвала у него реакции.
— Как вы себя чувствуете, Хаазе? — громко и отчетливо выговаривая слова, спросил Фомин.
Хаазе перевел на него взгляд.
— Песня спета, — прохрипел он. На губах запузырилась кровавая пена, но глаза не выражали ни страха, ни отчаяния. Потом в них появились злые огоньки. — Будь он проклят, барон… Курт фон Зандлер… — Хаазе заворочался на постели. — Убийца… — Глаза Хаазе начали тускнеть, он дернулся в предсмертной агонии.
— Что он сказал? Я не понял первое слово, — спросил Рощин.
— Послал проклятие в адрес барона Зандлера. Лютце — кличка, вымышленная фамилия, а Курт фон Зандлер настоящая. Значит, этот Хаазе и был тот второй… И спас своего убийцу, того, кто в последний момент не пожелал иметь свидетеля. Почти по Достоевскому: один гад съел другую гадину.
— Да, такие и мать родную не пожалеют, — сказал Рощин и отвернулся.
— Все, — доктор закрыл веки умершего.
Офицеры вышли из комнаты.
— Поздновато сообщили, — глухо заметил Рощин. — Они были уже вблизи границы, мы только-только успевали перекрыть…
7
— Чем закончилось, знаю, — остановил полковник доклад Фомина. — Повторите детали.
— Умерший назвал Лютце — Зандлером, бароном, Куртом фон Зандлером.
— Значит, подтверждается. Кюме тоже опознал на фотографии Зандлера. Собирайтесь в Берлин и допросите его. Возможно, он знал и второго. Вот рапорт Скитальца. Винить его нельзя Нападение было, надо отдать должное покойному, отчаянно смелое, дерзкое. За нами, конечно, следили. Трудно поверить, что все это он один… Нет ли среди обслуживающего персонала их агентуры. Надо это проверить.
8
Пока привели Кюме, Фомину коротко рассказали все, что было известно о нем. После ареста долго упорствовал и показаний почти не давал. Потом случилось непредвиденное — в тюрьме у него произошел сильный приступ язвы и прободение желудка. В госпитале сделали операцию. Произошел резкий перелом в настроении Кюме. Он начал рассказывать много интересного, давать показания…
Кюме оказался высоким пожилым человеком, с желтым, болезненным лицом, старался подчеркнуть свою военную выправку. После обычных в таких обстоятельствах вводных слов, Фомин предъявил немцу лист протокола, где в числе других — первой слева, была приклеена фотография Пауля Хаазе, сделанная за несколько минут до его смерти. Спросил, знает ли Кюме кого-либо.
Кюме указал на снимок и назвал фамилию Пауля Хаазе — бывшего инструктора физкультуры и стрелкового дела специальной разведывательной школы «Орденсбург Крессензее», сказал, что Хаазе активный нацист. Близко с ним он знаком не был.
— С Хаазе был вот этот, — Фомин подал фотографию Лютце.
— Аналогичный протокол мне уже показывали. Тогда я высказал предположение, что это барон Курт фон Зандлер. Теперь, если они были вместе, я могу подтвердить, что это действительно он. Один из лучших выпускников «Орденсбург Крессензее», впоследствии сотрудник отдела «Иностранные армии Востока», хорошо знал русский язык. Блестящий молодой человек из старинной немецкой аристократии. Режиму фюрера, его идеалам был предан фанатично. Немногим известны его клички «Барон» и «Отшельник».
— Почему еще и «Отшельник»? — спросил Фомин.
— Любил работать в одиночку, придерживаясь одной из заповедей школы: «В разведке тот, кто живет один, живет дольше».
9
Линия границы была позади. Сзади слышались голоса, но Лютце знал, что за ним уже не гонятся. Однако старался уйти подальше от границы. Наконец, остановился перевести дух. Один глаз не видел, он протер его ладонью, она была в крови. Достал платок и тщательно обтер лоб и щеку, потом глаз. Значит, глаз цел, это кровь залила его.
Никто из пограничников не видел, что посланные наугад пули достигли цели — одна попала Лютце в плечо, а другая слегка зацепила голову. Он и сам в горячке не обратил внимания на то, что ранен, бежал, падал, натыкался на деревья, ветки больно хлестали его по лицу. Теперь, когда он лег на землю и отдышался, стала ощущаться и жгучая боль в плече.
«Жив! — подумал он. — Главное — жив! Только поскорее бы добраться до какого-нибудь жилья».
Он встал и, зажимая рану, пошел на запад.
— Стой! — на тропинке, по которой он шел, стояли двое в форме полицейских Бизонии.
— Перевяжите и немедленно доставьте меня в Ганновер, в комендатуру! — Он не сомневался, что распоряжение будет выполнено. «Пусть Старк подлечит его, а тогда…»
Глава семнадцатая
1
«Итак, кто же вы теперь: Ганс, Вильгельм или Вернер?.. И неужели же почти четверть века спустя судьба действительно снова сведет нас? — думал полковник Фомин, убирая в конверт фотографии Лютце-Зандлера. — И чья рука направляет теперь вас на новые преступления? Английская разведка?.. Тогда они делали на вас крупную ставку, но просчитались. Старк и его помощники старательно плели агентурные сети, пытались проводить хитроумные операции, давая им романтические названия. Но они были вовремя разгаданы и пресечены, а исполнители главных ролей Мевис, Курц и резидент Фердман понесли заслуженную кару. Уже тогда вы были матерым шпионом, Курт фон Зандлер, и вам одному удалось уйти от возмездия. «Отшельник» — любитель работать в одиночку. Мало вероятного, что вас можно было увидеть среди тех, кто цепляет на цивильные пиджаки снятые со старых мундиров гитлеровские награды и, беснуясь, требуют реванша. Вы были человеком действия, «Барон», и, как того требует ваша профессия, предпочитали оставаться в тени. Так если это все же вы пожаловали к нам в гости, кто теперь ваш хозяин?..»
Да, много воспоминаний разбудил в нем тревожный сигнал Петрова. Такие сообщения не оставляются без проверки, так же как безымянная ориентировка друзей о выезде в СССР крупного натовского разведчика. «Кому же доверить это дело?» Перебрав в уме своих сотрудников, Фомин остановил выбор на капитане Михайлове.
Позвонил, попросил зайти.
— Хочу поручить вам, Юрий Михайлович, одну работу. Вот тут у меня лежит дело, которым я занимался более двадцати лет назад, еще в период зарождения Германской Демократической Республики. Был я тогда, как понимаете, чуть-чуть помоложе. Я имею в виду, моложе вас, — улыбнулся Фомин. — Ну так вот, если сигнал, который мы получили, подтвердится, нам с вами придется вступить в борьбу с умным, ловким, высокой шпионской квалификации противником, в послужном списке которого немало побед, круто замешанных не только на крови наших людей, но и своих соотечественников, даже коллег.
Ознакомление с материалами отнимет у вас, прямо скажем, много времени. Дело пухлое и сложное. И этим займетесь не сейчас — позже. А пока вам предстоит, используя все наши возможности, выяснить, кто из граждан ФРГ и Бельгии в настоящее время находится у нас в Москве. И нет ли среди них барона Курта фон Зандлера. Надежды встретить такую фамилию, я больше чем убежден в этом, у нас почти нет. И все же посмотрите. В свое время этот господин заявил мне, что такие вещи, как настоящая фамилия, он не обязан хранить в памяти, что он вообще все прежние свои фамилии, как и легенды-биографии прочно забывает. Навсегда. Правда, он не подозревает, что нам и в самом деле известна его настоящая фамилия. Вот его фотографии двадцатилетней давности. Сейчас этому человеку уже за пятьдесят. Я очень на вас надеюсь, Юрий Михайлович, иначе бы не задал такого мудреного ребуса.
— Решали ведь уже такие задачки, Евгений Николаевич, — забирая со стола снимки, сказал Михайлов.
— Э-э-э. Не скажите, — покачал головой Фомин. — Зандлер-Лютце — это, брат, штука! Уравнение со всеми неизвестными. — Полковник мягко постукивал карандашом по бумаге. — Однако у нас есть и постоянно действующие козыри. Один из них — заблуждение любого преступника, даже пусть он будет мастером шпионажа экстракласса, — надежда, что время, подобно волне смывает следы. А следы остаются, дактилоскопические отпечатки и некоторые другие характерные приметы. У этого человека их, правда, немного, вот я специально перечислял их на этой бумажке. Когда будете беседовать с обслуживающим персоналом гостиниц, обратите их внимание на темные очки, мне назвали эти очки модными, даже ультрамодными. Он их старается не снимать. Вообще-то ничего особого в этом нет. Сейчас многие такие носят. Особо обращаю вате внимание: иногда у него слегка дергается правая щека и мочка уха — хронический нервный тик. Примерно вот так… И еще — знает русский язык. Но применяет ли его — вопрос.
— Когда предположительно он приехал в Москву?
— Имеется у меня тут еще одна ориентировка и если, грубо говоря, ее притянуть к этому делу, то что-нибудь в середине августа. Но это предположительно, так же, как и понятие «он». Сигнал мог оказаться ложным.
— Все понятно, товарищ полковник. Отправлюсь на поиски немедленно.
«Он» или не «он»? Как гамлетовская проблема — «Быть или не быть?» — занимала мысли Фомина. А если «он», зачем пожаловал к нам? Что хочет увидеть? Или кого? Может быть, старых знакомых? Не меня, конечно. И не Петрова. А вот Денисовых… Вернее, Денисову. Вполне вероятно… Ну, допустим. Зандлер в Москве решил проверить, куда делась его хорошенькая «помощница», некогда принявшая привет от «дяди Боба». На следствии он не упомянул ее, а мы не спрашивали. Им, вполне вероятно, известна ее дальнейшая судьба. И они могут предположить, что «Лотта» скрыла от мужа свою связь как с Лютце-Зандлером, так и со Старком. И тогда… Черт возьми, — Фомин встал и зашагал по комнате. Еще не известно, он ли это, а я уже свожу вместе старые персонажи давно сошедшей со сцены и не доигранной до конца пьесы. И делаю это так, словно не минуло двадцати с лишним лет, словно я прежний капитан Фомин, на попечении которого энбургское конструкторское бюро, и Денисов, и… А версия вместе с тем вполне логичная: Зандлер, кого бы он сейчас здесь ни представлял, может попытаться шантажировать Людмилу Николаевну, припугнуть прошлым, в надежде заставить работать на себя. Тогда нужно опередить его. В первую очередь следует, пожалуй, позвонить Виктору Сергеевичу и рассказать о возможном появлении на их горизонте такого «гостя». Все теперь зависит от результатов проверки».
Сам не зная почему, Фомин уже оставил сомнения, мучившие его вначале. В нем все больше крепла уверенность, что бывший пограничник не ошибся.
2
У ворот Новодевичьего монастыря резко затормозила «Волга» с шахматными клеточками на боках. За лобовым стеклом вспыхнул зеленый огонек. Пассажир начал расплачиваться с шофером, а его спутница, открыв дверцу, легко выпорхнула на тротуар. Девушка была модно, со вкусом одета, короткая юбка подчеркивала стройность ног. Она, не оборачиваясь, шла с той уверенностью, которая присуща интересным женщинам, знающим себе цену и то, что на них обращают внимание. Мужчине пришлось идти быстрым шагом, чтобы догнать ее. Скромный серый костюм плотно облегал его сильную спортивную фигуру. Волосы, щедро пересыпанные серебром, свидетельствовали, что он уже не молод. Мужчина ничем не выделялся, кроме, пожалуй, больших очков, закрывавших чуть ли не половину лица.
Они прошли под аркой на территорию монастыря к старому кладбищу.
— Мы приехали значительно раньше, — сказал мужчина, взглянув на часы. — Может быть, воспользуемся этим и осмотрим музей? Я никогда тут не был.
— Пойдемте вниз, в подвал. Я знаю, там находится могила сестры царя Петра Первого — царевны Софьи и некоторых его сановных бояр. Интересно, как они выглядели? А в музее я уже была. Кроме старинных нарядов да нескольких икон, там нет ничего интересного.
— Мне все равно, куда идти, лишь бы скорее шло время. Между прочим, в нашем распоряжении почти час.
Никто из посетителей музея не обратил внимания на эту пару. Вместе с тем, если бы любопытный глаз понаблюдал за ними, то наверняка удивился бы их поведению. Из музея они вышли порознь, словно незнакомые. Девушка не спеша проследовала на территорию кладбища, останавливаясь у памятников, читая надписи на надгробьях. Мужчина отстал и шел на значительном расстоянии, не обращая на нее никакого внимания. На кладбище царила обычная тишина, люди говорили вполголоса, да их и было немного в этот ранний час.
Девушка остановилась в тени густой акации, рядом со скамейкой, укрытой зеленью, на которой сидел молодой человек и что-то рисовал в блокноте. Казалось, он всецело поглощен своим занятием, и ни на что не реагирует. Стоило, однако, девушке выйти из-за кустов, он сразу отложил блокнот.
— Эрна, дорогая, наконец-то.
— Я вижу, ты рад, — улыбнулась она, подавая руку.
Он поцеловал ее, потянул к себе:
— Садись, Эрна. Здесь так чудесно, как в беседке. И нет посторонних глаз.
Но он ошибся, полагая, что их не видят. Из-за кустов выглянул недавний спутник девушки. Он выбрал удобную позицию и приник глазом к видоискателю фотокамеры.
— Я выполнил твою просьбу, Эрна. Достать эту книгу оказалось делом нелегким, она почему-то совершенно исчезла с прилавков и стала библиографической редкостью. И понятно. Ее расхватали такие же любители путешествий, как твой дядюшка. В ней обозначены не только автострады, но даже шоссейные дороги большинства областей Союза. Жаль, что вы не на машине. Тогда бы он еще больше оценил эту книгу.
— Спасибо, Мишель. Дядя будет очень доволен. А это… Получай. От меня. Я просила дядю, и он привез, — протянула картонную коробку-футляр, — раскрой.
Он вынул плоский, черного цвета с серой отделкой, поблескивающий никелированными ручками, портативный магнитофон.
— По словам дяди, это последняя модель, — объяснила девушка. — У него четыре дорожки и два дополнительных выносных динамика. Они тоже здесь. Бон там, сзади, нажми кнопку.
Глаз фотоаппарата зафиксировал из-за кустов обмен подарками.
Молодой человек отодвинул панельку. В углублении, плотно прижатые друг к другу, действительно лежали два миниатюрных динамика.
— Значит, он еще и стереофонический?
— Да, очевидно. А это пленка. Правда, всего четыре бобины, но на каждой из них по 1200 метров. Это тоже новая пленка. Он и от сети может работать.
— Вот уже спасибо, Эрна. Не знаю, что и сказать. Я мечтал именно о таком. Во всех комиссионных завел знакомых, но о подобном и думать не смел. У нас, черт возьми, наверно, никогда не научатся делать такие вещи. Только шумим: давай, давай, все, мол, самое лучшее! А на деле…
— Ну, зачем же так. Потерпи, Мишель. Надо уметь ждать и надеяться, — сказала она многозначительно. — Ты еще будешь иметь все. И самого лучшего качества, — прислонилась щекой к его щеке. — Ты талантливый и хороший.
— Пустое… Когда-то это еще будет? — обнял Эрну, посмотрел ей в глаза. — Мне хотелось бы верить… Но ты мне нужна теперь. Теперь, понимаешь, а не завтра. Я люблю тебя, Эрна. А чувствую себя бессильным, глупым мечтателем. И ничего не могу поделать, ничего предложить тебе. Разве двухкомнатную квартиру. Да и то она принадлежит матери. А так ведь просто чепуха получается: случайные встречи тайком… — Он хотел ее поцеловать, но она выскользнула из-под его руки.
— Что ты, Мишель, дорогой. Ты забываешь — мы ведь на кладбище. Кощунство. — Шаловливо прижала душистую ладошку к его губам. — Надеяться и ждать. Я же говорила. А теперь ответь мне, как ты решил? Мы едем?
— Чего ты спрашиваешь? Ну конечно! Да! И еще тысячу раз да! Я готов за тобой хоть на край света!..
— Вот и умница. А теперь я пойду. Через три дня мы встретимся в Риге, вечером между шестью и семью часами, у памятника Райнису. Это в парке. Ведь ты говорил, что бывал там?
— Да, я очень люблю Ригу.
— Мы чудесно проведем несколько дней вместе. Опять, как там, на юге… А теперь не сердись. Мне пора.
— Так скоро? Посиди еще, хоть минутку.
— Прости, не могу. Надо спешить. Меня в гостинице ждет дядя. Он хотя и очень добр ко мне, но не любит ждать. Будет беспокоиться. Это ты в Москве дома, а мы — в чужой стране. Он будет беспокоиться, — Эрна встала, поглядела по сторонам. — А ты и в самом деле нашел очаровательный и уединенный уголок. И эта старинная железная скамья… Обрати внимание на ее правую заднюю ножку.
Он встал, не выпуская ее руки.
— Ничего особенного, ничем не отличается от трех других.
— Не в этом дело. Посмотри и запомни. Так надо…
— Посмотрел и запомнил. Хотя не пойму, зачем.
— Потом поймешь. — Эрна гибким движением прижалась к нему, поцеловала в губы и решительно зашагала прочь, грациозно покачиваясь на высоких каблучках.
Проводив Эрну взглядом, он нагнулся и посмотрел на ножку скамейки. Пожал плечами. Потом покрутил барабанчики магнитофона. Повесил его на ремешок.
Взял коробку под мышку и, довольный, вышел на аллею, ведущую к выходу.
У ворот столкнулся с кудлатым парнем в цветастой рубашке навыпуск. Тот загородил ему дорогу. Подняв глаза, узнал старого приятеля Бориса Хряпина.
— Лугунов? Привет, старик! — сказал тот. — Чего здесь?
— Так, гуляю.
— Один? Нашел место.
— А ты?
— Я с попутчиками… Разные прочие шведы. — Хряпин подмигнул. — Деловой контакт. Просили показать Новодевичье, и вообще…
— Не бросил это дело? Смотри, не погори, как Венька.
— У меня, старик, приличные родители. И вообще… А как твоя маман?
— Спасибо. — Лугунову хотелось скорее уйти от Хряпина. Встреча эта вызывала у него внутренний протест и тоскливые воспоминания, когда они были в одной компании с Венькой, а тот напропалую фарцовал. Лугунов тогда занимал в их кругу незавидную роль переводчика. Они делали дела, а он старался оставаться в стороне, хоть от доли не отказывался. Но спорил, останавливал. «Ты же у нас отличник, — еще язвил тогда Венька, — а что делать нам, вечным двоечникам, изгнанникам со студенческой скамьи». Он злился, но дружбу с ними не бросал. А Боб Хряпин еще говорил: «Мы же не Родину продаем, а торгуем тряпками. Чудак, мама устала снабжать тебя грошами». Венька, наглый и циничный, никогда не нравился ему, но он был заводила и организатор разных веселых вечеринок, и Лугунов не делал попыток оставить его компанию. А еще их, всех троих, связывали общие и, как им казалось, независимые взгляды на жизнь.
— Эх ты, какую штучку раздобыл. — Глаза Хряпина разгорелись, когда он увидел магнитофон. — А говоришь, бросил…
— Подарок.
— Темнишь, старик. Может, сторгуемся?
— Нет-нет.
— Ну, как хочешь. Адью своей маман.
Лугунов пожал потную, липкую руку Хряпина и, когда тот побежал к своим «шведам», брезгливо вытер ее о штаны. «Как хорошо, что наши дороги разошлись», — подумал он и вышел за ворота.
3
Эрна, столь торопливо распрощавшаяся с Лугуновым, видимо, не так уж спешила к своему дядюшке в гостиницу. Покружив у памятников, вышла на новое кладбище и, встретившись со своим недавним попутчиком, пошла в сторону гостиницы «Юность». Скоро они сидели в ресторане, отдавая дань русской кухне. Между первым и вторым блюдом мужчина раскрыл фотокамеру и извлек готовые фотографии. Последовательно были зафиксированы наиболее интересные эпизоды недавнего свидания молодых людей.
— Молодец, Эрна, — убирая снимки, сказал мужчина. — Значит, он будет в Риге?
— Да, все так, как вы хотели. И он, кажется, всерьез ждет новых любовных похождений со взбалмошной девицей, у которой весьма состоятельный дядя. Но…
— Есть вопрос? Разрешаю. Один.
— Почему именно Рига? Там мало интересного. И море холодное.
— Моя дорогая, жизнь складывается не из одних развлечений, а в Риге у нас — дела. И сделает их, кстати, наш мальчик. Это укрепит в дальнейшем его привязанность к нам.
— Вы считаете, сделанного недостаточно?
— Это все хорошо. Но, чем больше он завязнет тетерь, тем крепче будет привязан к нам в будущем.
4
Михайлов спешил. Ему не терпелось доложить полковнику о результатах поездки. Выскочив из машины, он не стал дожидаться лифта, у которого скопился народ, а свернул на лестницу, шагая через две ступени.
Фомин был у себя.
— Отдышитесь, — сказал он. — Зачем бегать по лестнице? Спешить надо медленно.
Михайлов разложил свои записи.
— Можно, Евгений Николаевич?
— Можно, только спокойнее.
— Ничего похожего на Зандлера установить мне не удалось. Фамилия эта, как я выяснил в справочниках, довольно распространенная. Бароны такие были и не одна ветвь… Но к нам за последние годы в гости не приезжали. В общем, Зандлера нет.
— Этого следовало ожидать. А что еще?
— Из тех, кто в какой-то мере схож с интересующим нас лицом, я отобрал шесть человек. В основном отдыхающие по путевкам «Интуриста». Двое из них позавчера выехали в Ялту, где хотят пробыть недели две. Есть коммерсанты из Бельгии и ФРГ. Как указано в их паспортах — Гутман и Квалик. Возраст их подходит. Двое находятся в Москве, уже побывали на юге. Вернулись. Теперь собираются в Ленинград — взяли билеты. Это — директор гимназии Фишер и второй — Крайкемаер, коммерсант. И еще двое. Вернее, один. Сегодня утром с племянницей он вылетел в Киев, затем посетит Ригу и Ленинград. Потом вернутся в Москву. Сходство — опять только одно — возраст.
Приметы Фишера, если их сравнивать с фотографиями, что вы мне дали, более всего похожи на Лютце — Зандлера. Но тоже так… умозрительно.
Тот, что с племянницей из Бельгии Иоганн Гартенфельд, здесь совсем недавно. Его племянница, Эрна Гартенфельд, приехала на двадцать дней раньше и успела побывать на Черноморском побережье.
— Меньше, чем мало, но лучше, чем ничего. Что будете делать дальше?
— Что у кого здесь было — проверить трудно. А то, что будет, можно проследить. Свяжусь с товарищами из Ялты, Киева, Риги, Ленинграда. Попрошу помощи.
— Хорошо. И познакомьтесь как следует с делом, теперь у вас есть время. Утром обязательно побывайте в адресном бюро. Договоритесь, чтобы адресные карточки на Денисовых — подробнее о них вы узнаете из материалов дела — на время из картотеки изъяли. Это для того, чтобы исключить для Зандлера-Лютце возможность узнать их адрес.
— Значит, вы считаете, эти Денисовы могут кого-то заинтересовать?
— Могут. Виктор Сергеевич Денисов — крупный ученый, академик, а его жена… Ну ладно, разберетесь. Еще что?
— Попробую заполучить отпечатки пальцев Фишера и Крайкемаера. Я узнал, что они собираются пойти в театр. Заказывали билеты. Если сегодня не сделаю, то что-нибудь придумаю завтра обязательно.
— Только будьте осторожны, очень осторожны, чтобы не задеть как-либо невзначай их достоинство. Уж такие складываются исключительные обстоятельства, что мы должны это сделать, но нельзя обидеть ни в чем не повинных. Потом разнесут черт те что…
5
— Я не предполагала, дядя, что город так красив, — заключила Эрна, когда они, заставив шофера такси поколесить по улицам, вышли наконец из машины на площади перед гостиницей «Рига».
— Твоим восторгам не будет предела, когда ты познакомишься с Юрмалой — так теперь называется Рижское взморье, — сказал ее спутник.
После небольших формальностей Гартенфельд и его племянница оказались в отличном смежном номере. Перелет, длившийся менее двух часов, их не утомил. Положив вещи, они тут же спустились в ресторан.
— Теперь я хочу гулять, и только гулять, дядя Иоганн, — игриво щелкнула пальчиками Эрна. — Честное слово, я раньше никогда не предполагала, что в России так вкусно и обильно едят. Если к этому прибавить прекрасный воздух и безделие, я безобразно располнею. Полнота, как вы понимаете, мне ни к чему. Предлагаю побольше гулять.
— Я тоже не очень-то хочу выходить из формы, — заметил Гартенфельд, — а посему принимаю твое предложение.
После обеда в холле гостиницы они купили путеводитель по Риге и, прихватив фотоаппараты, отправились бродить по городу.
Официант, подававший им вечером ужин, услышав, что его клиенты оживленно обменивались впечатлениями, спросил:
— Вам понравилась наша Рига?
— О, великолепно, — ответила племянница. — Правда, мы успели побывать лишь в кафедральном соборе и музее. Но и этого достаточно, чтобы делиться впечатлениями весь вечер.
— Завтра Юрмала, — наметил программу дядя Иоганн, — предварительно осмотрим памятник Райнису. Я знаю его только по описанию…
Официант одобрительно кивнул, а придя на кухню, поделился с коллегами, что обслуживал очень хорошо говорящих по-русски, приятных иностранцев: дядю и племянницу, людей бесспорно интеллигентных и общительных. Ему польстило, что осмотр Риги они начинают с памятника Райнису.
— Их интересует латышская культура, — заключил официант.
6
— Вы плохо спали? У вас усталый вид.
— Вчера засиделся здесь, Евгений Николаевич. Листал дело-роман!.. И Лютце-Зандлер, я вам скажу… Действительно, ас. Переговорил с Киевом. Там дядя и племянница были всего сутки и сегодня в первой половине дня вылетели в Ригу. Гутман и Квалик отдыхают и ведут себя пристойно. И последнее: удалось снять отпечатки Фишера, находятся на экспертизе. После этого круг розыска сократится.
— Не плохо, совсем не плохо. За сутки вам многое удалось. Но это первый и пока еще весьма нетвердый шаг на пути, который нам с вами, Юрий Михайлович, предстоит…
Фомин пододвинул к себе объемистый том дела Лютце-Зандлера, задумчиво перевязал тесемки. Отодвинул его на край стола.
— Я был помоложе вас, Юрий Михайлович, когда вместе с немецкими коммунистами и с демократически настроенными людьми принимал участие в послевоенной перестройке Восточной Германии. Мы мечтали о будущем. Мы верили, что сумеем навсегда разделаться с бациллой фашизма. Мы сделали все что могли, и сейчас я радуюсь успехам Германской Демократической Республики не меньше, чем трудовым и политическим победам нашей страны. ГДР вопреки отчаянным противодействиям некоторых наших бывших союзников и некоторых кругов ФРГ вышла на мировую арену, как сильное социалистическое государство, с которым приходится считаться и которое невозможно не уважать.
Фомин встал из-за стола и зашагал по кабинету.
— У меня остались в ГДР хорошие друзья, например, живет там такой человек — Енок, с которым мы переписываемся и поныне. Он уже на пенсии. Мы с ним провели немало интересных и важных дел… А еще вахмайстер Бертольд Редель — ныне майор государственной безопасности ГДР, отличный парень. Недавно получил от него письмо.
Фомин вернулся к столу, взял лежавший на нем лист, скрепленный с конвертом. Вот послушайте, что он пишет:
«…Наступило время, когда западные немцы, повернувшись к Советскому Союзу, увидели вместо потенциального врага доброжелательного соседа по многоквартирному дому, именуемому земным шаром. Многие из них поняли, что их судьба и судьба мира в прямом и переносном смысле связана с вашей великой страной, а это пророческие мысли Ленина, это его прозорливая идея о существовании двух миров, как единственно возможной, хотя и временной альтернативе. И как следствие этого поворота — заключение договоров между вами и ФРГ. Нормализация наших чисто немецких отношений».
Фомин вопросительно посмотрел на Михайлова.
— Он тысячу раз прав, Евгений Николаевич.
— Конечно, прав. Но борьба там предстоит еще не малая. Реакционеры всех мастей и оттенков всячески пытаются помешать нормализации обстановки в Европе.
Фомин снова прошелся по кабинету.
— Когда докладывал генералу о нашем деле, он посоветовал проштудировать последние справочные материалы по НАТО, и прежде всего по деятельности объединенных сил в области разведки. Посмотрите наши досье, прочитайте газеты. Небезынтересен поворот в официальной политике ФРГ. Она мало устраивает и расходится с интересами тех, кто стоит у руководства западногерманской разведки, да и бундесвера тоже. И хоть Гелена уже нет, кадры его несомненно находятся в действии. Их в НАТО хватает, кое-кого туда привлек приемник Гелена Вессель, когда работал там в штабе.
— Я знаю, вы уже имели с ними дело, — сказал Михайлов. — И кажется, недавно.
— Вы имеете в виду того двойника? Да, но он больше служил англичанам. После той истории, как известно, некоторым из посольства Великобритании пришлось выехать из СССР в двадцать четыре часа.
— Лютце тоже служил англичанам.
— И Гелену. Только нам тогда не удалось все выяснить до конца. Но мне думается, он был одним из незаурядных кадровых мастеров геленовской разведки…
Но вернемся в ФРГ. Вы обратили внимание: в телеграмме от наших друзей, между прочим, кроме Брюсселя, указан еще и Ренсбург. А это натовская база в ФРГ. Вот и получается, что в то время, как прогрессивная часть западных немцев делает усилие разрядить политическую атмосферу в Европе и стремится жить с нами в дружбе, другая…
— Вы полагаете, Евгений Николаевич, что этот агент НАТО немец?
— Очень может быть. А Зандлер тоже немец, и уж конечно, он не из тех, кто поддерживает нынешнюю политику своего правительства.
— Смотря кого: вон их министр обороны Гельмут Шмидт оповестил о грандиозных военных учениях в семьдесят втором году и чуть ли не о всеобщей мобилизации в связи с этим.
— Все так, — вздохнул Фомин. — Некоторые, к сожалению, быстро забывают уроки истории, слишком быстро. Вспомните события в Чехословакии и бурю, поднятую вокруг этого всеми службами антисоветской пропаганды. И была пора, когда кое-кто забыл вещие слова патриота Чехословакии Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны»…
Нам с вами этот призыв особенно понятен, дорогой. Поскольку не прекращается тайная война против нашей страны и братских социалистических государств.
Фомин встал.
— А теперь вопрос по существу дела: вы были в адресном бюро?
— Да, Евгений Николаевич, там полная договоренность. Учитывая исключительность ситуации — карточку временно сняли.
7
Старший лейтенант Паже собрался было идти в порт, где у него были дела, когда его пригласил к себе полковник Пинкулис.
«Что бы это могло быть, — думал он, спускаясь по лестнице. Старик ведь знает мои планы на сегодня». Сотрудники между собой называли «стариком» начальника отдела Альберта Мартыновича Пинкулиса, светловолосого великана, которому еще не исполнилось пятидесяти. В слово «старик» в данном случае вкладывались сразу несколько понятий: и то, что он был старшим по чину и патриархом по возрасту, и то, что любил незлобно поворчать, но чаще по делам, не имеющим отношения к службе.
— Заходите и садитесь, мазила, — встретил Паже полковник. — Что же вы вчера опростоволосились? Я бы на месте тренера с треском вышиб вас из команды. И это на последней минуте…
— Сам не знаю, как получилось, — начал оправдываться Паже. — Два штрафных броска и оба мимо корзины. Если хотя бы один уложил…
— Если бы, да кабы… — махнул рукой полковник. — Нервы подвели. А хорошие нервы очень важны в нашей профессии. Ну ладно, будем надеяться, что промахи у вас могут случаться только в баскетболе. Вызвал я вас вовсе не для того, чтобы отчитывать за неудачные броски…
Пинкулис достал из папки лист бумаги.
— Есть неотложное дело. Звонили из Москвы, наших товарищей интересует одна парочка. Туристы из Бельгии. Некий Иоганн Гартенфельд и его племянница Эрна. Вчера они прибыли к нам, остановились в гостинице «Рига». Поезжайте и присмотритесь к ним. Пробудут они здесь, как я узнал, три — четыре дня. Возьмите себе в помощь кого-нибудь от Тушлиса. Одному там не справиться. Возьмите эту бумагу — в ней все сказано — изучите и действуйте…
Когда Паже приехал в гостиницу, дяди с племянницей там уже не оказалось. Не без труда ему удалось разузнать, что Гартенфельды рано утром ушли или, вернее всего, уехали на пляж. Перед отъездом они позавтракали в кафетерии при ресторане и расспрашивали официанта, как туда быстрее всего добраться. Как выяснилось, этот же официант обслуживал их накануне за ужином и они, разговорившись с ним, сказали, что собираются осматривать памятники, а потом поехать в Юрмалу.
«В Юрмале искать их бесполезно», — прикинул Паже и решил на сегодня хотя бы выяснить, когда они вернутся.
В гостиницу они приехали поздно вечером и сразу же заперлись в своих номерах. Паже оставалось ждать утра.
8
Лугунов бывал в Риге не раз и достаточно хорошо ориентировался в городе. Прямо с вокзала — поезд прибыл рано утром — он поехал на взморье, рассчитывая, как всякий «дикарь», обосноваться там у какой-нибудь хозяйки. Отыскать жилье оказалось, однако, совсем не просто. Он долго бродил по зеленым улочкам, стучался в дома, спрашивал редких прохожих, никто не мог ничего посоветовать. В Прибалтике стояла необычайно теплая погода, и наплыв отпускников был велик как никогда.
Гигантская подкова песчаного пляжа до отказа была заполнена отдыхающими. Он пешком прошел Булдури, Дзинтари и лишь в Майори, когда совершенно потерял надежду найти пристанище, ему улыбнулась удача. Пожилой латыш, к которому он обратился, критически осмотрел его и спросил:
— Студент?
Лугунов, обозленный неудачами, хотел было ответить, что это, мол, не имеет отношения к его просьбе, но передумал и, заставив себя улыбнуться, сказал:
— Был студентом. Теперь, как это пишется в газетах, молодой специалист, инженер.
— Тогда иди за мной, — бросил латыш и, шаркая сандалиями, не оборачиваясь, пошел по улице.
«Старик не очень-то приветливый», — отметил Лугунов, но повиновался. Свернули в узкий проулок и вскоре остановились перед калиткой. Провожатый широко распахнул ее, пропуская Лугунова вперед. По тропинке через кустарник они подошли к аккуратному домику. Старик громко крикнул:
— Власта! Иди-ка сюда. Привел тебе жильца.
Из дверей дома выплыла крупная женщина в белом переднике с засученными по локоть рукавами темной кофты. Строго оглядела Лугунова. Несмотря на свой извечный апломб и самоуверенность, Лугунов нерешительно затоптался под ее суровым взглядом.
— Надолго? — спросила она.
— На десять дней, — не задумываясь, ответил он.
— На десять? Можно. Внук уехал, вернется через две недели. Ваша комната здесь, — она указала рукой аз маленькую пристройку. — Там есть отдельный вход. Пойдемте, посмотрите.
Комната была невелика: одну стену почти целиком занимало окно, вторая была переплетена самодельными стеллажами, на которых в идеальном порядке выстроились шеренги книг. Вся мебель состояла из небольшого стола, стула, шкафчика и низкого топчана, покрытого ковром.
— Постель найдете в этом шкафу, — сказала хозяйка. — Можете знать меня Власта Альбертовна. Умывальник и туалет за домом. — Она повернулась к двери.
— Спасибо. Власта Альбертовна. Одну минутку, пожалуйста, — удержал ее Лугунов. — Я насчет формальностей. Вот мой паспорт. И наверное, нужно сразу заплатить деньги?
— Да, прописка нужна, пусть даже на десять дней. А деньги отдадите, когда будете уезжать. — Забрав паспорт, хозяйка ушла.
«Имя действительно у нее по характеру — Власта», — отметил Лугунов. Раскрыл чемодан, вынул легкие брюки, босоножки, белую рубашку, полотенце, решил тотчас пойти на пляж, который был рядом.
Свободное местечко отыскал не сразу, разделся и с наслаждением медленно вошел в прохладное море. Купался долго, вспоминая всевозможные стили плавания, которые еще с мальчишеских лет были предметом увлечения. И то, что не давалось на Москве-реке или Клязьме, здесь, в море, выходило чудесно. Море выталкивало его, как пробку, держало, и не хотелось выходить.
Потом, зажмурясь, отдыхал на теплом песке под лучами ласкового солнца, вдыхая пряные запахи воды и хвои. Голова была легкой, и мысли легкие, думалось о том, что жизнь — стоящая штука, а он счастливчик, которому везенье даровано богом. С таким же легким чувством он пошел потом бродить по пляжу, ища занятия: поиграл в волейбол, продул партию в пинг-понг какой-то девице. В начале четвертого отправился в кафе обедать.
Теперь следовало поглядывать на часы. Мысли о предстоящей встрече прогнали недавнюю легкость и теперь будоражили тем больше, чем ближе был назначенный час.
9
Без десяти шесть, чисто выбритый и тщательно одетый, Лугунов вышел из такси у парка. Подыскал скамейку неподалеку от памятника, надеясь первым увидеть Эрну издалека, еще до того, как она заметит его. Но она появилась неожиданно и совсем с другой стороны.
— Мишель, хелло!
Он даже вздрогнул, услышав ее голос. Она стояла такая нарядная и красивая, что у него забилось сердце от гордости за себя. Он стремительно поднялся.
— Умница. Я рада, что ты приехал. Но идем, идем же. Там дядя. Я наконец познакомлю вас.
Она чмокнула Лугунова в щеку, подхватила под руку и потянула в полумрак аллеи, где на скамейке в одиночестве сидел мужчина в темных очках.
— Дядя Иоганн, вот это и есть мой друг — Михаил Лугунов.
У Лугунова почему-то засосало под ложечкой. Он представлял этого дядю и старше, и дряхлее, или, по крайней мере, этаким живчиком с брюшком и восторгами чудака-туриста.
— Иоганн Карл Гартенфельд, — дядя протянул Лугунову руку, широко улыбнулся, — по-русски можно Иван Карлович.
— Очень приятно, — ответил Лугунов, пытаясь на лице Гартенфельда прочитать его отношение к этой встрече. Но трудно было что-либо понять, ибо дядя даже не удосужился снять своих огромных темных очков, как забрало закрывавших половину лица.
— Мишель, мы только с моря и очень проголодались. Может быть, пойдем в ресторан? — спросила Эрна.
— Я не голоден, но с удовольствием побуду с вами.
Они нашли небольшое уютное кафе, которых так много в Риге. Посетителей было мало — отличная погода и теплое море допоздна удерживали на берегу отдыхающих.
— Вы что-нибудь выпьете? — спросил Лугунова Иоганн Карлович.
— Спасибо. Я вообще почти не пью. А в такую духоту предпочитаю чай.
— Похвально. В наше время среди молодых людей это редкость.
Лугунов повел плечами, в души польщенный словами Гартенфельда.
— Эрна рассказывала, что вы закончили институт, — пододвинулся к Лугунову Иоганн Карлович, когда официантка, выполнив заказ, отошла от их столика. — Где вы теперь намерены работать? Я, признаться, не очень разбираюсь, как у вас в России делается карьера, но это любопытно знать. Может быть, приведется дома разговаривать с коллегами, и я не хочу быть профаном. Вы понимаете, с каким интересом у нас относятся к вашей стране и особенно к проблемам молодежи. В странах Запада тоже немало своих проблем. Так каковы ваши жизненные планы?
— Пока меня оставили при кафедре как возможного кандидата для поступления в аспирантуру, а если не удастся, то, очевидно, буду распределен в какой-нибудь научно-исследовательский институт.
— А что вам мешает поступить в аспирантуру?
— Есть ряд причин. Нужно суметь выдержать конкурс, иметь хорошую характеристику-рекомендацию. Правда, конкурс меня не смущает. У меня диплом с отличием. Я серьезно готовился к экзаменам.
— Прекрасно, когда человек твердо уверен в своих силах. Мое глубокое убеждение, что только сильные люди могут достичь успеха. И они по праву достойны быть избранниками нового мира. Это, конечно, мое субъективное мнение. Я говорю о духе, о натуре человека, о его способностях проявить индивидуальность. Это равно относится ко всем политическим формациям.
«Правильный дядька, — с интересом смотрел Лугунов на своего собеседника. — Говорит вполне разумные вещи».
— Да, — продолжал между тем Гартенфельд. — Но мне кое-кто жаловался, что у вас тут весьма трудно проявить творческую индивидуальность. Если не брать б расчет случайной удачи. Все талантливое берется немедленно под административно-партийный контроль, и тогда боже упаси такому человеку где-нибудь… Ну, как это у вас говорят? — Гартенфельд пощелкивал пальцами. — Вспомнил! Набедокурить. Да, набедокурить. Я имею в виду, как-то необычно развлечься, или приобрести себе лишнюю машину, или как-то не так высказать свои мысли… Скажите, из-за этого ведь бывают неприятности?
— Ну, не все конечно, так мрачно, — поморщился Лугунов. — У нас люди имеют возможность выдвинуться, проявить себя так же, как и у вас, — он тут же пожалел, что вырвалось это «у вас». И тут же оправдал себя. Зачем рисоваться перед иностранцем?..
— Не поймите мои высказывания за желание вести с вами политическую полемику. Я очень высокого мнения о вашей стране и ваших достижениях… Меня просто интересуют частности. Вы сами, например, так уж уверены в своей дальнейшей карьере? И все вас понимают? И действительно, все двери для вас открыты?
— Вы знаете, — Лугунову показалось, что он нашел весьма ловкий выход из положения. — Все эти вопросы спорны. И не на один я бы не стал давать прямых ответов. Но они, представьте себе, перекликаются с мыслями моей матушки. Она мне иногда говорит: тебя не понимают, с нашими порядками ты никогда не сможешь себя проявить.
— Ваша матушка? О! Ваша матушка имеет трезвое мужское мышление. Скажите, — вернулся Гартенфельд к началу разговора, — вы говорили что-то о характеристике-рекомендации. Что это такое? Что в ней должно быть отражено — ваши деловые качества, знания или вероисповедание, взгляды, политические убеждения?
— Как вам сказать?.. Исключая вероисповедание, характеристика-рекомендация именно отвечает на эги вопросы. Склонность к ведению научно-исследовательской работы. Она дается четырехугольником деканата, и, как вы понимаете, эти люди хотят знать, кого они рекомендуют.
— Что это за четырехугольник?
— Декан, секретарь партийной организации, секретарь комсомольской и профсоюзной организаций. В общем, как у нас принято говорить, — администрация и общественные организации. Они представляют весь коллектив.
— Ну, например, у вас с кем-то из этих организаций испорчены отношения, да?
— Были некоторые трения. В деканате не все меня любили. Некоторые мои сверстники считали меня карьеристом, хотя я в моем стремлении быть лучше, быть выше других, не вижу ничего плохого.
— Абсолютно справедливо, — заметил Гартенфельд. — Серые пусть остаются сзади. Не могут все быть одинаковыми.
— И существуют еще завистники или такие, кто не терпит инакомыслящих. — Подогретый похвалой, Лугунов начал выплескивать, словно единомышленнику, свои претензии к товарищам, к институту, к людям, которые его учили, старались сделать его лучше, чем он был. — Что касается комсомола, — сказал он вдруг, — я не был комсомольцем. Меня всякие там «даешь, берешь, целина» никогда не прельщали. Мама и я считали, что главное — это отличная учеба и светлая голова. Это компенсирует все. Меня в общем-то им не в чем было упрекнуть. Учился я хорошо. А некоторые убеждения — это мое дело. Они никому не приносили вреда.
«Этот молодой человек — находка, — отметил Гартенфельд. — И были не правы те, кто считал, что мне не стоит заниматься такой мелкой, черновой работой, как вербовка студента. И Крафт не терял зря времени на выставке, заводя знакомства и подбирая кандидатуры. Он не ошибся. Побольше бы нам таких одиночек». Думая об этом, Гартенфельд продолжал с любопытством слушать разглагольствования своего молодого знакомого.
— Мой возможный научный руководитель уважаемый в институте человек, профессор, я делился с ним своими замыслами, они его заинтересовали, и он обещал кое с кем поговорить. И потом, — подбадривал сам себя Лугунов, — я участвовал в общественной работе, не раз выступал на научных конференциях, диспутах.
И тут же Лугунов вспомнил, что выступал на диспуте всего однажды, да и то был здорово побит. Он тогда пытался было развить перед товарищами по курсу мысль, что молодой и незаурядный инженер не должен отвлекаться черновой работой и строить свою карьеру по шаблону, начиная с первой ступеньки служебной лестницы. Его должны заметить и выделить среди остальных. Говоря это, он тогда прежде всего имел в виду себя. И это поняли товарищи. Он даже сослался на примеры, что некие фирмы за рубежом сразу же давали молодым и талантливым лаборатории, высокие оклады и прочее.
Его тогда высмеяли. С тех пор он затаился и решил, что не стоит лезть на рожон и ввязываться в подобные дискуссии. Своими взглядами он делился теперь с очень узкой группой приятелей и с матерью. Она-то уж его понимала и всячески поощряла его устремления, цели, которые он перед собой ставил. Главным в разговорах с матерью всегда была его карьера и умение заработать. И еще они оба любили заграничные вещи. Он восхищался шикарными автомобилями иностранных марок. Раздобывал, не считаясь с затратами, иностранные журналы с рекламными объявлениями и голыми красотками, сигареты. Нет, во всем этом он не видел ничего предосудительного…
Эрна встала из-за стола.

— Вы не возражаете, если я ненадолго покину вас. Здесь довольно душно. Пока принесут чай, я пройдусь.
И она, не дожидаясь согласия, пошла к выходу.
— Извините за любопытство, — проводив Эрну глазами, сказал Гартенфельд. — Я не случайно спрашивал именно о ваших планах, взглядах. Эрна прожужжала мне о вас все уши, говорила, что вы мечтаете побывать на Западе и вам импонируют некоторые стороны нашего образа жизни.
— Как сказать, импонируют?.. Мне бы просто хотелось, конечно, съездить в некоторые страны…
— Что вам мешает?
— Пока я не имею для этого возможностей. И кроме того, нужны средства, которых я тоже пока не имею…
— Я не знаю, чем вы так приглянулись Эрне, — Гартенфельд поправил очки, — но она выразила желание увидеть вас гостем в своем доме, Миша. — Голос его стал тихим, вкрадчивым. Я не могу, не вправе советовать, вы взрослый и умный человек, но все это возможно, если вы захотите. Скажу больше, и поймите меня правильно. Из ваших суждений я понял, что у вас, лично у вас, есть некоторые затруднения. У нас же талантливый молодой специалист может быстро сделать карьеру! В самом деле, у нас нет препятствий к этому. Допустим, захочет наш инженер или врач, или просто рабочий поехать поработать в другой стране, ну, скажем в США, в Англии, в ФРГ, — пожалуйста. Никто не запретит. Можно это и в Бельгии. И здесь бывает, конечно, важно, как начнет свою деятельность человек. Лучше приезжать не с пустыми руками. Вы понимаете меня. Правда… — Гартенфельд развел руками, — у Эрны на вас какие-то виды… Она взбалмошная девица, и мне, как родственнику… У нее кое-что есть, но она как всякая женщина порой не отдает себе отчета, поддавшись чувствам. Да-да, Миша… Все это я говорю вам, пользуясь ее отсутствием.
— Простите, Иоганн Карлович. — сказал Лугунов, совершенно сбитый с толку такими многозначительными намеками. — Я еще ничего не могу вам сказать. И не знаю, что сказала вам о наших отношениях Эрна. Но во всяком случае… — он сам удивился своему ответу, — в нахлебниках я бы не ходил. И жить на чьи-то средства тоже не собираюсь. Я долго пользовался карманом матери, но это только до поры, до времени… Я и теперь нахожу способ заработать — даю уроки неуспевающим студентам…
— Вы не так меня поняли. Миша. Вам нужно чем-то проявить себя. Когда говорил, что плохо ехать с пустыми руками, я имел в виду ваши собственные успехи, ну хотя бы вашу дипломную работу. Мне нравится, что она конкретна. Я просмотрел ее и рад, что знаю, с кем имею дело. Работа вполне может быть использована в компании, членом которой я состою. В ней есть идеи, а за идеи мы кладем некоторые суммы в банк на имя автора. В самом деле, это реально. Я могу вашу работу захватить с собой… Только смотрите, чтобы вам это не повредило. Хотите?
При этих словах у Лугунова по спине пробежал озноб. Как тогда, весной, когда связался на выставке с чертежами. Он долго тогда не находил себе места, не спал от страха, думая, что же с ним будет дальше. И вот теперь он чувствовал, что его втягивают в какую-то скверную историю…
Потупясь, Лугунов разглядывал замшевую запыленную туфлю Гартенфельда, будто в ней заключился смысл только что сказанного. Так, значит, Гартенфельд видел его работу.
Вернулась Эрна с букетом роз.
— Понюхай, какая прелесть, — ткнула букетом в лицо Лугунова. — Прекрасно, не правда ли? Здесь за углом колоссальный магазин цветов.
— Да, — согласился Лугунов, оторвав наконец взгляд от гартенфельдовского полуботинка. Эрна смотрела на него такими откровенно влюбленными глазами, что он подумал: наверное, она и есть его судьба и вообще, что он скис. Ведь после той первой встречи он готов был идти за ней хоть на край света. И потом он мечтал о новых встречах…
— Пойдемте отсюда, — предложил Гартенфельд, отодвигая пустую чашку. И, подозвав официантку, расплатился.
Они вышли из кафе и направились к парку. Мысли Лугунова продолжали лихорадочно работать. Теперь уже навязчиво возвращались к
Эрне и будущему, которое вдруг открывалось перед ним.
— Присядем, — предложил Гартенфельд, остановившись у одинокой скамейки. — Нам, я думаю, следует закончить разговор. Желание племянницы для меня почти закон. Что же вы решили? Эрна, пойди пройдись. А мы с Мишей поговорим по-мужски.
— Ну, дядя… — капризно повела плечиками Эрна, — не надо так сразу…
Она потрогала ухо Лугунова, и ему вдруг стало тепло и весело. Он точно захмелел от ее прикосновения и от собственных мыслей.
— Погуляй, Эрна. В самом деле, я хочу дать Мише добрые советы для его же пользы, — сказал Гартенфельд. У него нервно дернулась щека, и голос теперь прозвучал властно и сурово.
Эрна подчинилась.
— Вообще-то вам, молодой человек, следует подумать над всем, мною сказанным, — снова зажурчал голос дядюшки. — Это и желание Эрны, ведь она, как мне кажется, любит вас. И вспомните все, что вы уже сделали… Вы поняли меня?.. Вспомните свои услуги, оказанные некогда одному иностранцу и те небольшие просьбы Эрны… Но это частность. А главное — только у нас вы сможете получить то, о чем, как мне кажется, мечтаете. Просто так случилось, что наши интересы совпали. И принципы… от них не следует отступать… Да и некуда…
«Отступать некуда, — стучало в голове. — Некуда, некуда… Ну и пусть!.. И чего я, в самом деле?.. А там?.. Там, может быть, все по-другому… Да, если бы Эрну увидели его однокурсники, лопнули бы от зависти. А что бы сказала мама?..»
И он стал внимательно слушать, что говорил ему Гартенфельд. Сначала это были слова о его будущем. Потом об осторожности, которую он должен соблюдать. А дальше… Дальше шел уже самый натуральный инструктаж, что ему нужно будет сделать.
Эрна несколько раз обошла парк, постояла у витрины, съела мороженое и, когда снова вернулась к скамейке, услышала обращенные к ней слова Гартенфельда:
— Извини нас, тебе пришлось немного поскучать, но зато мы обстоятельно поговорили… Сейчас, пожалуй, мы пойдем домой. Уже поздно. Да и Мише далеко добираться.
Опускались сумерки. На фоне темных кустов и газонов сиротливо белели пустые скамейки.
Вышли на сияющую разноцветными огнями реклам, еще оживленную улицу Ленина. Гартенфельд первым увидел машину с зеленым огоньком, решительно шагнул с тротуара, поднял руку.
— Езжайте, Миша. Вам дальше ехать. До завтра. Как условились.
Лугунов поцеловал Эрне руку и юркнул в машину.
Как ни гнал он от себя страхи, как ни успокаивал, нервное напряжение от разговора с Гартенфельдом не проходило. За переездом остановил машину и расплатился, решив дальше добираться пешком.
Узенькие улочки Юрмалы, оживленные в дневное время, сейчас были пустынными. Не встретил даже обычных для ночных часов влюбленных парочек. Приткнувшись к тротуарам, дремали автомобили. Шаги разносились гулким эхом. Это пугало. Тогда Лугунов свернул к морю, чтобы берегом пройти до своего переулка, и здесь, неожиданно, встретился с людьми. Это были уборщики пляжа. Они, тихо переговариваясь, сносили коробки с мусором к машине с невыключенным мотором. На фиолетовом бархате моря лежала серебряная лунная дорожка. Море дышало свежестью, пряными ароматами, и его величавое спокойствие благотворно подействовало на Лугунова. Ему вдруг захотелось спать. Он сладко потянулся и зевнул.
Бесшумно прошел в свою комнату, разделся и лег. Жестковатые крахмальные простыни приятно холодили. Но скоро они почему-то стали шершавыми и душными. И он никак не мог найти удобной позы, вертелся. И совсем расхотелось спать. Широко открытыми глазами он смотрел в темноту, думал об Эрне и ее дяде, переосмысливая все, что с ним произошло. Что-то ведь явно надломилось в нем в минувший день, и он был уже не такой, как даже вчера утром.
«А как бы отнеслась мать к тому, что произошло, — подумал он. — Испугалась бы? А отец, если бы он был жив?»
По рассказам матери, он был интересный и веселый человек. Встретились они, когда матери было девятнадцать, она работала в парикмахерской на каком-то московском вокзале. Он ехал в командировку и зашел побриться. По ее рассказам, они сразу приглянулись друг другу, а через день стали мужем и женой. Ездил он без конца в какие-то экспедиции и почти не бывал дома. Последний раз приезжал уже в войну по дороге на фронт. Михаил знал из отцовских писем, которые прочитал уже взрослым, что отец любил мать глубоко и серьезно и всячески просил как молено бережнее относиться к себе и к нему, Михаилу. А потом отец пропал без вести. Товарищи сообщили, что не вернулся на базу после какого-то полета. Пособие за отца он получал до совершеннолетия.
Мать вторично замуж: не вышла, хотя, как он это понял потом, имела не одну возможность. В доме часто останавливались какие-то дяди, иногда очень солидные, которые ему нравились и дарили подарки. Вместе с ними жила еще бабушка, мамина мать, сухонькая старушка, пенсионерка, долгое время работавшая в библиотеке. Она-то и научила его читать чуть ли не в три года (потом мама всегда этим гордилась). Бабушкино ученье не прошло даром, его приняли сразу во второй класс. А потом бабушка разругалась с матерью и уехала в другой город, к своей сестре. Там и умерла.
К тому времени в дом прочно вошло благополучие. Мать была хорошим мастером-парикмахером и косметичкой. В салоне, где она работала, к ней была запись, да и дома она принимала тех, кто имел возможность платить за прием поистине бешеные деньги. Летом, как правило, ездили с матерью на юг, и с детства он знал наперечет названия самых модных курортных городов. Отличник, он поступил в институт, сдав лишь один экзамен. И сдал прекрасно. После этого он окончательно уверовал в то, что при нем всем говорила мама: он — исключительно способный, одаренный. Потом он ездил на юг и на Рижское взморье, в общем, куда ему заблагорассудится, уже один. Средства были. Стипендия отличника, пенсия, которую мать копила ему с тех пор, как он переступил порог школы…
Жизненные принципы? Тогда, на институтской дискуссии о молодых специалистах, его не поняли. Но ведь он действительно так считал. Он сказал тогда, что, пока молодой специалист у нас получит возможность самостоятельно вести свою тему, проходят многие годы. Облысеешь, пока свалишь авторитеты. Или надо прицепиться к авторитету. Другое дело за рубежом. Принес работу деловому человеку, — если талантливо, сразу схватят. И пожалуйста — и место, и солидный оклад, и комфорт. И он даже привел примеры из книг, из романов, которые все читали. В той же «Иностранной литературе». Ну, пусть там еще говорилось о всяких социальных неурядицах и борьбе с этими богатыми благодетелями. Он же не говорил тогда, что нужно обязательно служить капиталу. Можно и у нас. Только вы дайте возможность ему, пока он молод. А ему ответили, что государство, дескать, не дойная корова. И что, если есть способности, никто не задержит его взлета.
Нет, его явно не хотели понять тогда. И лепили стандартные фразы, что государство тратит деньги на его учебу, и он должен… А почему не считают чем-то ужасным там, за рубежом, когда молодой инженер, допустим, уезжает в другую страну, в ту же, допустим. Америку и быстро делает карьеру. Не карьеру Каупервуда, а ученого. Потом ведь можно вернуться домой, но уже с именем. И что тогда говорили ребята? Опять стандартная болтовня: «крало умов» и тому подобное.
А что касается Каупервуда, то это… Нет, эта карьера скорее подходила Веньке, который считал драйзеровского Френка Каупервуда своим кумиром. Жаловался — не дают развернуться, не ценят, мол, у нас деловых качеств. Тогда они много болтали с Венькой и Бобом Хряпиным на эту тему. И где-то он даже соглашался с ними. Действительно, попади такой Венька в Америку, и точно бы стал ворочать делами. И в конечном счете, деньги — дело хорошее. Это и мама так считала, и некоторые ее клиентки. Тоже тряпичницы, как Венька, а мужья их иногда занимали большие посты. Чего же они не одергивали своих жен?
А Веньку вон посадили. Хорошо еще, что Венька ничего не сказал про своего переводчика Лугунова, иначе не видать ему диплома инженера. Это уж точно — вышибли бы из института. А он ничего такого особого и не делал. И мать тогда не возражала, когда узнала об их коммерции, только предупреждала; «Поосторожнее».
Шли часы. А сна так и не было.
…Встреча с Эрной. Он ведь любит ее. Конечно, любит. Тут ведь не голый расчет, а настоящие чувства. Но скажи об этом в том же комитете комсомола — вытаращат глаза…
И Эрна любит его, нет сомнения, любит. Такой близости и таких чувств, как с ней, он никогда еще не испытывал. Ни с кем. А ведь были у него встречи с девушками. Разные были девушки. Но таких, как Эрна, не было.
Дядя Эрны?.. Теперь он для Лугунова перестал быть загадкой. И где-то подсознательно Лугунов чувствовал страх, согласившись выполнить его довольно странные поручения: встретиться, передать привет… Впрочем, это его ни к чему не обязывает. Ведь подписок он никаких не давал? Просто маленькое джентльменское соглашение, маленькая услуга…
А если нет?..
И сразу стало холодно. «Зря обольщаюсь… Я уже сказал свое «да». Что это я?.. С чертежами на выставке ведь обошлось тогда (совесть Лугунова была сговорчивой). А теперь перспективы. И Эрна».
Извечная самоуверенность придала силы. Чего, собственно, Он боится, что мучается: требовались-то, в общем, пустяки. Долго это не продлится. Аспирантуру он закончит не в три года, хватит и полтора. Надо расширить разработку экспериментальной части дипломной работы. С его знаниями, деньгами, которые, по словам Иоганна Карловича, у него будут, и Эрной, он сможет развернуться, показать себя… А тогда пусть судят. У него свои принципы.
От этих мыслей стало спокойнее — он убедил себя в правильности принятого решения.
За окном стал накрапывать дождь, Лугунов вдруг почувствовал, что сейчас уснет. И сразу словно провалился в небытие.
Глава восемнадцатая
1
Утром Паже ждал недолго. Гартенфельды встали рано. Не было восьми, когда дверь открылась и из номера вышел мужчина в темных очках и красивая белокурая девушка. Мужчина нес пляжную сумку, у девушки на плече висел фотоаппарат. Теперь нужно было дождаться сигнала товарищей о том, что Гартенфельды на пляже.
Когда такое сообщение поступило, Паже подошел к дверям номера и сравнительно быстро нашел на ручке несколько отчетливых отпечатков пальцев. Не теряя времени, он поехал в лабораторию, чтобы самому проследить за изготовлением снимков. Лишь убедившись, что они получились хорошо и принадлежат мужчине, он тоже поехал на пляж понаблюдать за дядей и племянницей.
В тот день Паже не заметил ничего такого, чтобы обращало на себя внимание в поведении этой пары. Туристы как туристы. Правда, около Гартенфельдов, вернее возле племянницы, образовался круг молодых людей. Они вместе играли в волейбол, в карты, фотографировались. Иоганн Гартенфельд старался принимать участие в играх молодежи, но он был уже приложением к племяннице, которая определенно пользовалась успехом в компании. Впрочем, Эрна не отдавала никому предпочтения.
Любопытный сигнал поступил лишь на третий день. Эрна встретилась вечером с молодым человеком, которого ранее в ее окружении не было. Выяснить, с кем встречалась Эрна, не удалось. У сотрудников Паже не оказалось под рукой машины, а незнакомец, проводивший Эрну до гостиницы, сел в подошедшее к стоянке такси и уехал. Хорошо еще, что один из сотрудников успел сделать снимок и заметить номер машины.
Паже узнал адрес шофера и съездил к нему на квартиру. Шофер вспомнил, что молодой человек, который сел вечером у гостиницы, ехал на взморье. Километрах в четырех от Булдури расплатился и пошел пешком в сторону автобусной остановки. Ничего примечательного в поведении пассажира шофер не заметил, по его мнению, это был русский и, скорее всего, приезжий, отдыхающий.
Так или иначе выяснить связь Гартенфельдов с молодым человеком не удалось, хотя по поведению Эрны было очевидным, что знакомы они хорошо. На другой день Гартенфельды опять ничем не проявили себя. Не показывался больше и тот молодой человек Все шло примитивно просто, по туристскому расписанию. Они совершили экскурсию в Кемери, осматривали развалины крепости. А вечером вдруг собрались и выехали — в Ленинград.
Такой поворот дела сбил Паже с толку. Он очень надеялся на очередную встречу дядюшки или племянницы с таинственным незнакомцем. И уж ни за что не упустил бы того. А как быть теперь, как его разыскать? Хорошо еще, что сотруднику удалось сделать снимки во время его свидания с Эрной.
Паже поехал на взморье, нашел уголок пляжа, который Гартенфельды избрали местом своего отдыха, в надежде найти кого-либо из тех, кто отдыхал вместе с ними. Ему повезло: подошли двое парней и девушка, которых он видел в компании с Гартенфельдами. Потаи рядом с ним оказалась группа крепких загорелых ребят, узнав одного из них. Паже обрадовался — теперь можно подойти и побеседовать. Спиной к нему стоял Вилис Ларис — игрок сборной баскетбольной команды Рижского университета.
Когда Ларис повернулся, Паже помахал ему рукой, подозвал, объяснил, что хотел бы узнать. Вилис сказал., что все ребята — студенты университета. Посоветовал поговорить с Алешей Мартыновым, который вернулся с практики раньше других и все эти дни проводил на пляже.
— Леша, подожди — остановил Ларис Мартынова, увидев, что тот направлялся к воде.
— В чем дело?
— Вот тут мой знакомый хочет тебя кое о чем расспросить. А я за тебя пойду искупаюсь.
— Я из милиции, — сказал Паже.
Лицо Мартынова вытянулось.
— Ничего особенного, — улыбнулся Паже, — мне нужна ваша помощь. Несколько дней тут отдыхали мужчина лет пятидесяти и девушка — иностранные туристы. Они оставили где-то здесь дорогой фотоаппарат и обнаружили это только в Ленинграде. Вы не помните, случайно, этих туристов?
— Как же, помню. Они были здесь, по-моему, еще позавчера, — Мартынов присел рядом с Паже. — У них действительно был отличный фотоаппарат и кинокамера, и транзистор. Компанейские такие люди и отлично говорят по-русски, почти без акцента. Старикан называл себя Иваном и объяснял, что у него в роду были русские и что русский язык он знает с детства, а она студентка филологического, специализируется на рус-ком.
— Среди вас, я имею в виду компанию, которая тогда их окружала, были только местные ребята или еще и приезжие?
— Наших было человек пять — те, кто ходят сюда регулярно. Когда играли в волейбол, подходили кое-кто с пляжа. Их я не знаю.
— А этого парня не встречали? — спросил Паже, открывая книгу, где была заложена фотография.
— Да вроде помню, — сказал Мартынов. — Он, по-моему, только один раз был тут. И если не ошибаюсь, назвался Михаилом. Откуда он, не знаю, но не местный. Похоже, его интересовала Эрна — племянница этого дяди Вани. Вообще-то интересная девица, за ней тогда многие пытались приударить. Но она этого Михаила ничем не выделяла. А дядюшка — ют просто не обращал на него внимания. Больше Михаил вроде бы и не появлялся.
— Спасибо, Леша, — улыбнулся Паже. — Надеюсь, ты понимаешь, что разговор наш, так сказать, конфиденциальный.
— Железно, товарищ начальник. Понимаю, служба. А фотоаппарат-то был приличный. — Мартынов пожал офицеру руку и побежал к морю…
Полковник Пинкулис, когда Паже доложил о своих неудачах на пляже и скудных сведениях, которые сумел собрать, неожиданно спокойно заметил:
— Вы сделали все, что было в ваших силах. Давайте лучше подытожим, что мы имеем. Несколько хороших отпечатков пальцев Гартенфельда и фотографию этого Миши. Маловато, конечно, но может пригодиться москвичам.
2
— Значит, Юрий Михайлович, полное разочарование? — спросил Фомин Михайлова. — А вы надеялись сразу?.. Свою работу латвийские товарищи проделали добросовестно. И уж тут не их вина, что по данным экспертизы: Федот, да не тот.
Полковник стал разглядывать присланные из Риги фотографии Гартенфельдов и молодого человека, искавшего с ними встречи. Особенно внимательно разглядывал он самого дядюшку, там, где лицо его было крупным планом. Пожал плечами.
— Да, видимо, это не Лютце. Вот если бы удалось самому его увидеть поближе… Только нужно ли теперь тратить на это время, если не совпали отпечатки пальцев — значит, кто-то другой.
— По совести говоря, Евгений Николаевич, мне почему-то казалось, что Зандлер скрывается под именем Гартенфельда.
— Ну что ж, бывает. А может быть, все-таки Петров ошибся? Шутка ли, прошло столько лет. Да, вот что я упустил: не заметили наши товарищи одной особенности, о которой я вам говорил. Он иногда делал вот так… — Фомин несколько раз быстро напряг и распустил мышцы правой щеки. — У Лютце это едва заметно, нужно присмотреться. Кстати, Петров на это и обратил внимание, потому что портретного сходства с тем, прежним Лютце он не отметил, глаза узнал, лоб и это движение. Предупредите товарищей еще раз.
— Понятно.
— И принимайтесь за проверку других. У вас еще не проверены двое. Они, помнится, вот-вот должны приехать из Ялты.
3
Людмила Николаевна посмотрела на часы. Пора было собираться на работу. Уже несколько лет она вела на общественных началах хоровой кружок в заводском Дворце культуры, и это приносило ей большое удовлетворение. Сейчас, летом, занятия проводились нерегулярно. Но в назначенные дни она приходила вечерами во дворец, к тому же дома сидеть было скучно, а там всегда ее окружали люди, молодые воспитанники, каждый со своими мечтами, заботами и даже страстями.
Людмила Николаевна сама давно уже не пела — пропал голос. Произошло это неожиданно, в пору тяжелой болезни дочери, когда девочка несколько дней была на грани жизни и смерти. Но в Людмиле Николаевне открылось второе призвание — призвание педагога, она стала учить пению других.
Сегодня ей особенно хотелось быть среди людей. Утром позвонил Виктор Сергеевич и сказал, чтобы его не ждали — задержится в командировке еще на несколько дней. Дочь Иринка была на юге и писала маме хорошие письма. Они доносили запахи моря и виноградников, где дочь, с подругами по институту, работала на практике. Скорей бы уж Виктор заканчивал свои испытания и тогда они вместе поехали к дочери, как было задумано, и провели отпуск вместе. Если бы рядом не было тети Виктора Сергеевича, Людмила Николаевна просто бы извелась от тоски.
— Мама Катя, я ушла, — сказала она, заглянув на кухню, где старушка с завидным терпением помешивала в тазу большой ложкой кипящее варенье.
— Иди, голубушка. Только не задерживайся. Скоро поспеет, чаевничать будем со свеженьким. Попробуй пенки — язык проглотишь.
Отказаться было невозможно.
Людмила Николаевна вышла на улицу. Дневная жара спала, но каменные стены, тротуары все еще дышали теплом. Даже близость Москвы-реки не давала прохлады. На улице было много народу, москвичи спешили в парки и скверы. Большие очереди вытянулись у причалов речных трамваев. Когда она переходила улицу, заметила, что за ней следом идет молодой человек. Ей показалось, что он только что встретился с ней в подъезде дома. А вот теперь торопливо шел сзади. Она обернулась, парень прошел мимо. «Наверно, новенький, из нашего дома», — решила она.
4
Лугунов вышел из автобуса на остановку раньше центрального входа в усадьбу «Архангельское». Прошел в парк, направляясь к памятнику Пушкину, у которого его должен был ждать Гартенфельд. Лугунов спешил — он опаздывал к условленному времени. Иоганн Карлович сидел на скамейке и читал газету. Лугунов сел рядом, поздоровался. Гартенфельд неторопливо свернул газету и положил в карман.
— Слушаю вас.
— По адресу, что вы мне дали, Денисовы давно не живут. Их бывшая соседка по дому — ее внучка дружит с дочерью Денисовых Ирой — рассказала, что они три года назад переехали в высотное здание, назвала адрес. Бабка попалась разговорчивая, объяснила, что ее Татьяна и Ирина учатся в одном институте и сейчас где-то на юге, под Сухуми, на практике. Я поехал по новому адресу Денисовых в высотный дом. Заходил в разные подъезды. Нашел там одну лифтершу. Сказал, что забыл номер квартиры Иры Денисовой. Она довольно-таки сердито объяснила, что Ирины нет — она на практике. И самого, мол, хозяина нет. А Людмила Николаевна, дескать, только что вышла. Хотите догоняйте и спрашивайте, что надо. Вон, она, мол. Я догнал ту, на которую она показала. Интересная, в общем-то женщина, лет сорока.
— Догонять ее вам не следовало бы, — поморщился Гартенфельд. — Лучше бы она вас не видела.
— Не подумал.
— Теперь уж ладно, постарайтесь узнать телефон. И надо выяснить, так сказать, распорядок дня Денисовой. Сегодня же. А в целом вы вполне удовлетворительно выполнили мою просьбу. И я вам обязан. Теперь телефон, и все. Я позвоню вам вечером домой. После этого настоятельно рекомендую об этой моей просьбе забыть. Совсем. Ясно? Это в ваших же интересах.
— Понимаю, — кивнул Лугунов.
— Мы встречаемся сегодня с вами последний раз. Впредь все мои просьбы к вам, а точнее — задания, — Гартенфельд сделал ударение на этом слове и, сняв очки, в упор посмотрел на Лугунова, — вы будете получать через тайник. А следовательно, туда же будете класть ваши ответы. Вы хорошо запомнили место у скамейки на кладбище? Эрна вам показывала его?
— Помню. Только я тогда не понял, зачем это нужно. Я вот нее хочу спросить вас, Иоганн Карлович… — кто вы такой? И еще…
— Не договаривайте, — оборвал его Гартенфельд. — Вы становитесь любопытным. Кто я, вас не должно интересовать. Достаточно того, что вы мой друг и сообщник, и за то, что вы уже сделали, вам грозит не один год тюрьмы, хотя бы за рижский привет от «дяди Боба», который вы так неуклюже передали. Поэтому, если хотите чистым выйти из этого положения и хорошо заработать — я не снимаю своих обещаний о поездке к ном и прочих перспективах — будьте умнее или, может быть, вы сомневаетесь?
— Нет, нет, — жалко улыбнулся Лугунов.
— Тогда я продолжу. Вот, — Гартенфельд достал из верхнего кармашка пиджака толстый и длинный плотничий гвоздь и передал его Лугунову.
Тот повертел гвоздь в руках.
— Что я с ним буду делать?
Гартенфельд взял у него гвоздь и без усилия отвернул шляпку. Внутри гвоздь оказался полым.
— Вы вставляете туго скатанный рулончик бумаги с вашим сообщением внутрь, плотно заворачиваете шляпку и вгоняете гвоздь в землю рядом с задней правой ножкой скамейки. Вот и все. Его заберут и взамен оставят другой, в котором вы найдете мои инструкции. В коробке, — Гартенфельд пододвинул Лугунову обычную на вид коробку папирос «Казбек», — фотоаппарат и запас кассет с микропленкой. Как вы потом убедитесь, кассеты легко входят в контейнер. Проявлять пленку будем мы сами. Для работы с ней не нужно специального освещения. В общем, сверху лежит инструкция. Прочтите и сожгите. Дальше вы рассказывали Эрне об изобретении одного вашего друга. Вы смогли бы переснять его?
— Трудно. Друга пригласили работать в почтовый ящик. А диссертация его хранится в секретном отделе института. Автореферат — это легче. Во всяком случае, я попытаюсь.
— Попробуйте и постарайтесь сделать это побыстрее. Через неделю мне уезжать.
— А Эрну я не увижу больше?
— Увы, мой дорогой. В будущем году вы целый месяц будете вместе. Она приедет и найдет вас, а потом поможем вам приехать к нам, если вы, конечно, не передумаете. Найдем, я думаю, способ. Купите какую-нибудь туристскую путевку. Ну хотя бы на пароходе вокруг Европы… Но все это детали. А теперь последний вопрос: как моя просьба о документах?
— Удалось достать не только паспорт, но и военный билет.
— Да вы просто молодец! — ударил себя по коленке Гартенфельд. — Зачем же вы вдруг задавали мне столько вопросов? Ну ладно. В этой пачке деньги, значительная сумма. Расходуйте осторожно, не вызывая подозрения. Помните мои наставления. Желаю удачи, мой друг. — Гартенфельд улыбнулся, — а в недалеком будущем… и родственник. Так, наверно? До свидания…
5
«Парень удачный, — подумал Гартенфельд, глядя вслед Лугунову. — В наше время просто находка». Он посмотрел на часы, поднялся и побрел в глубь парка. Недалеко от часовни, где покоился прах одной из владелиц этого роскошного дворца, он подошел к скамейке, на которой, уткнувшись носом в книгу, сидел человек.
— Если судить по портрету, княгиня была очаровательна, — обратился Гартенфельд к сидящему, так, словно они расстались пять минут назад и теперь продолжали разговор.
— Жаль, что умерла совсем молодой, — отозвался человек, отрывая взгляд от книги.
— У нас в таких случаях говорят: «Каждому свое». У вас это принято считать провидением господним. На самом же деле это жизнь с ее закономерностями. Не так ли, коллега Старк?
При этом имени незнакомец вздрогнул и осмотрелся по сторонам.
— Тс! Кларк, черт возьми! Кларк! И не иначе.
— Да, да, простите. Привычка.
— Люди нашей профессии не должны иметь привычек. Они их губят.
— Вы правы, Кларк, еще раз извините. Увидел вас — забылся. Расслабился. Вспомнил Брюссель, нашу совместную работу. Извечная немецкая сентиментальность. Уезжая, я просил дать мне надежный канал связи, но, мой бог, никак не предполагал, что это будете вы. И рад — мы опять в одной упряжке.
— Упряжка, пожалуй, одна. Верно. Но в этом заезде мне опять отводится роль пристяжной.
— Я понимаю, вам импонирует роль кучера, но он определился еще в начале скачек и порой помахивает кнутом.
— Что делать, если в упряжке не все одинаково тянут, — скривился Кларк.
— Точнее, кое-кто хочет выскочить из нее, как это сделали французы. Пожалуй, хватит об этом. Расскажите, как вы оказались здесь, а не в Бейруте. Тогда на выставке мы не смогли поговорить.
— Провалился один из моих агентов, — раздраженным тоном бросил Кларк.
Гартенфельд вопросительно посмотрел на Кларка.
— Ах да! Припоминаю. Пикантная, надо сказать, история. — В голосе Гартенфельда звучала неприкрытая насмешка.
Кларк не ответил на колкость.
— В Бейруте я чувствовал себя как дома, а здесь каждую минуту можно оказаться персоной нон грата. Особенно после знаменитого блефа «Красные шпионы в английском парламенте».
— Чувствуется ответный нажим?
— Для этого нужно быть основательно засвеченным или вести себя крайне неосмотрительно. Просто так, без оснований, не беспокоят. Они без шума выдворили тех, кто им мешал, и все. У меня во всяком случае к ним претензий нет.
— Отрадно слышать. Тем более что у меня к вам просьба. Удалось кое-что раздобыть. Но предстоит еще небольшое дело. Не хочется иметь против себя лишние улики. Полагаю, объяснять ничего не нужно. Адрес известен.
— А вы говорили — одна упряжка. — Кларк закурил.
Гартенфельд тем временем достал из бокового кармана небольшой продолговатый пакет, дополнил его полученными от Лугунова документами.
— Вот и вся почта. Учтите, Кларк, без дураков — пленка требует специальной обработки, а документы хороши лишь тогда, когда они подлинные. Ясно? И еще — не суйте нос в свои старые связи. Я пробовал установить контакт с одним из ваших, тех времен. Удивительно повезло. Этот ублюдок отправил моего человека к дьяволу.
— Вы знаете, с годами ценность собственной шкуры удивительно возрастает. Поэтому у меня и в мыслях такого не было. О документах не беспокойтесь. Через три — четыре дня они будут лежать на столе вашего, впрочем, нашего общего шефа.
— Иного я не ждал. Благодарю вас, Кларк. До встречи.
— До встречи. И не забывайте о сентиментальности.
Гартенфельд поспешил откланяться. Только в такси он облегченно вздохнул, где-то в тайниках мозга постоянно шевелилась мысль: все ли благополучно, все ли уж так в порядке?.. Сможет ли он при случае доказать свое алиби? Теперь на руках не было улик. К важнейшему шагу, который он должен был сделать и ради которого была задумана его поездка в Россию, он пришел совершенно чистым.
Дело, между прочим, предстояло рискованное, и ему нужно было вести себя предельно расчетливо. Многое, конечно, могло зависеть от случая.
Лотта!.. Она значилась нескомпрометированной. Понятие в его профессии определенное, но всегда за этим словом он усматривал неопределенность… Правда, в данном случае большинство позиций, по которым они проводились и тогда, в Ганновере, со Старком, и позднее, в Пуллахе, и совсем недавно, в Брюсселе, с его новыми «вторыми» хозяевами, Лотта оставалась, так сказать, «в активе». Иначе бы она фигурировала на следствии еще в Энбурге. Ведь она была одним из важнейших аргументов, который советская контрразведка пустила бы в ход сразу. Этого не случилось. И еще — так во всяком случае ему подсказывала его логика — если бы Лотта хоть раз обмолвилась о своих связях со Старком и с ним, вряд ли бы советская контрразведывательная служба допустила, чтобы она стала женой Денисова — крупного советского ученого. Смешно думать, что ее оставили как приманку и столько лет терпеливо ждали, что на нее клюнут.
Эти рассуждения, а он уже много раз анализировал эту ситуацию, успокаивали его, вселяли надежду на успех. Важно было только хорошо сориентироваться и действовать наверняка.
6
— Людочка, так мы не передумали… Едем на дачу? А то в городе такая духотища, я уж больно устала, да и тебе нужно отдохнуть от своих певцов. Раз уж Витя задерживается… И чувствовала ты себя не больно-то хорошо. Верно ведь?
— Едем, мама Катя. Сейчас все норовят удрать из города на природу. Не будем и мы белыми воронами… Завтра с утра и поедем.
— Вот и хорошо. А я там и огурчиков подсолю и смородинки пособираю…
— Всегда так. Собираемся отдыхать, а вы как закрутитесь опять и не найдешь на вас управу. А разве это отдых?
— В движении, говорят, жизнь…
— Я не против движения. Но ведь вас с кухни не вытащишь.
— Так я ведь как лучше хочу, — надулась тетя Катя.
— Ну хорошо, хорошо… — Людмила Николаевна обняла старушку, прижалась к ее щеке. — Я согласна. А сейчас будем пить чай со свежим вареньем. Ведь оно, кажется, у вас замечательно получилось. Пенки были такие вкусные…
7
— Товарищ Паже? Говорит Пинкулис. Зайдите ко мне и захватите с собой копии фотографий, которые мы отправляли в Москву.
В кабинете начальника за приставным столом Паже увидел грузного мужчину лет пятидесяти пяти — шестидесяти, с загорелым обветренным лицом, изрезанным морщинами. Узловатая, с въевшейся в кожу смолой рука его тяжело лежала на краешке стола.
— Давайте сюда материалы, садитесь, слушайте, это имеет прямое отношение к делу, которым вы занимались, — сказал Пинкулис. — Это Янис Юрас. Шкипер сейнера «Юлиана», — объяснил полковник. — Он рассказал мне, что неделю назад к нему зашел какой-то молодой человек и передал привет от некоего «дяди Боба». Это словесный пароль. Им в свое время пользовался для связи с агентурой английский разведчик Старк, майор Старк. Действовал такой господин с территории нынешней ФРГ в послевоенный период, и обращаясь к моряку: — Старк, если мне не изменяет память, «завербовал» вас в сорок седьмом в лагере для перемещенных под Ганновером?
— У вас прекрасная память, товарищ полковник, — хриплым басом отозвался Юрас.
— Товарищ Юрас пришел помочь нам. Он тут погорячился и допусти одну оплошность Вместо того чтобы поблагодарить того молодца за привет, поговорить с ним, так сказать, «по душам», узнать, зачем тот явился, послал «племянника дяди Боба» к чертовой бабушке, да еще пригрозил, что сведет, куда следует. Парень тот, конечно, сразу ретировался. А Юрас вот пришел к нам. Простите, товарищ Юрас, что я вас критикую. Но что делать? Вот посмотрите. — Полковник протянул фотографию. Это случайно не он?
Паже увидел, как подскочили брови рыбака.
— Он самый. Значит, вы его знаете?
— Не совсем — ответил полковник. Обернулся к старшему лейтенанту: — Приглашайте товарища Юраса к себе. Пусть он вам еще раз подробнейшим образом все расскажет. Составьте протокол опознания и зайдите с материалами ко мне.
Когда Паже и Юрас выходили из кабинета, Пинкулис снял трубку и попросил соединить его с Москвой.
8
«Интересно, сильно ли изменилась Лотта с той поры, когда была сделана эта фотография?» — Гартенфельд убрал снимок в карман, уселся в сквере двора и развернул газету. За все время пребывания в Москве он еще ни разу не был так близок к цели: ее дом, ее подъезд — Лугунов очень подробно описал все. Теперь оставалось ждать, чтобы еще раз убедиться, что Людмила Денисова именно та, которую он ищет… Он будет сидеть здесь все утро и «увлеченно» читать, пока сна не появится. Должна же она выйти из дому — в магазин или еще по каким-нибудь делам. Совсем некстати там эта тетка, с которой живет Лотта. Он специально посылал Лугунова позвонить в квартиру, назвавшись приятелем Ирины. Лугунов все это проделал в тот же вечер и доложил. Парень, кажется, был очень доволен, что им больше не придется ни встречаться, ни даже говорить по телефону.
Вспомнив поговорку: «Кто рано встает — тому принадлежит весь мир», Гартенфельд улыбнулся про себя и, казалось, углубился в чтение газеты.
Прошло более часа. Он терпеливо ждал. И наконец…
Она вышла из дверей, и он сразу узнал ее. «Лотта! Конечно, Лотта. А рядом с ней старуха! Это верно и есть та тетка, о которой говорил Лугунов. — Он продолжал сидеть и наблюдать за женщинами. — Какова Лотта! — отметил он про себя. — Как хороша и эффектна, словно четверть века — пустяк».
Людмила Николаевна и ее спутница вышли на набережную и направились к стоянке такси. Он видел, как они взяли машину.

«Предусмотрительность — великая вещь», — отметил Гартенфельд, быстро садясь в ожидавший его таксомотор, шоферу которого он дал задаток.
— Держитесь вон за той «Волгой», — наклонился он к водителю. — Сегодня я наконец накрою свою женушку и эту старую сводню-тещу, — сказал он в пространство.
Водитель, молодой парень в клетчатой ковбойке, понимающе кивнул, перекатив папиросу из одного угла рта в другой, лихо надвинул козырек форменной фуражки на лоб, и машина рванулась вперед.
Оба таксомотора почти одновременно затормозили на площади перед вокзалом.
Ему не представило большого труда оказаться в одном вагоне с Денисовыми. На станции вышел на перрон буквально за их спинами и следовал в отдалении, запоминая повороты и названия улиц. Наконец, женщины остановились у калитки, и Людмила Николаевна открыла ее своим ключом.
«Южная, 25» — проходя мимо, прочитал Гартенфельд. В конце улицы свернул в лес, обошел огороженные забором дачные участки и без труда нашел нужный ему дом. Густой кустарник дал возможность стоять незамеченным у самого забора наблюдать и даже слышать разговоры.
По обрывкам фраз он сделал вывод, что женщины решили пожить на даче несколько дней.
«Теперь нужна встреча без свидетеля, — рассуждал Гартенфельд, — придется ловить момент». Он покружил еще вблизи дома, изучая возможные варианты подхода к нему, заглянул за ограды соседних дач и, удовлетворенный, зашагал к станции, наметив следующий день для решительного шага.
9
Двор и коридоры института были похожи на муравейник. Шумными компаниями собирались бывалые студенты старших курсов, вернувшиеся из отпусков и с практики. Робко и тихо вели себя новички, сдавшие вступительные экзамены. Среди гула и суеты степенно расхаживали преподаватели, при появлении «самих» деканов шум стихал, и студенты почтительно расступались. В некоторых аудиториях еще шли экзамены последних потоков, и тут у дверей толпились с книгами и шпаргалками вконец измученные бессонными ночами и страхом абитуриенты заочных отделений.
Лугунову, недавнему выпускнику института, эта атмосфера была хорошо знакома. Миновав царство институтских аудиторий, он очутился в тихой коридорной заводи, где помещался нужный ему отдел, Лугунов знал, что начальника отдела в этот час на месте нет — обедает. За окошечком увидел круглое личико инспектора Лидочки.
— Привет, Лидок, — Лугунов поклонился и стал с улыбкой разглядывать ее. — Ты чудесно выглядишь, загорела.
— Отдыхала на Кавказе, Миша. Очень довольна. — Ей нравился этот всегда такой аккуратный и галантный парень, считавшийся, по словам студентов, одним из способных на своем курсе. — Куда ты определился? — поинтересовалась она.
— Пока при кафедре. Предложили аспирантуру. Согласился. Я к тебе по делу. Нужно посмотреть кое-что в автореферате Басова. Ты ведь знаешь, сколько я ему помогал.
Девушка помнила, что Лугунов действительно два пли три раза бывал у нее с Басовым, и что тот знакомил его с диссертацией, и они о чем-то горячо спорили. Однако выдавать секретный реферат без разрешения начальника Лида не имела права. В то же время ей не хотелось отказать Лугунову — знакомый человек сочтет еще бюрократкой.
Лугунов понял колебания девушки.
— Послушай, Лидок, всего на три минуты. Посмотрю здесь, у твоего окошка.
Поколебавшись мгновенье, она по картотеке нашла номер и принесла тонюсенькую, всего в десяток страничек брошюру.
— Иди в комнату. Если придет Василий Петрович, я сама возьму ее у тебя.
— Спасибо, — он вошел в соседнюю комнату, предназначенную для работы с секретными документами. Она была пуста. Не теряя времени, Лугунов сел спиной к дверям и, положив брошюру перед собой, стал переворачивать странички и щелкать кнопкой затвора. Через три — четыре минуты все было сделано. Положив фотоаппарат в карман, он на листке бумаги написал тему диссертации и вернулся в приемную. Лида все еще была одна.
— Привет, старушка! Вот и все. Что нужно, я посмотрел. «Аленка» за мной.
— Обойдусь, — улыбнулась девушка. — Заходи.
«Ну вот. И ничего особенного, — подумал Лугунов, спускаясь по лестнице. — В детективных романах все эти штуки обставлены куда как таинственно». Он ощупал в кармане аппарат. С дядюшкой теперь он рассчитается, страхи позади. А через год…
10
Как не захлестывала Фомина текучка, нагромождающиеся друг на друга дела и заботы, он успевал наблюдать за работой Михайлова, за каждым ходом в решении задачи, которую ему поставил. Когда дежурный по управлению сообщил, что его вызывают к аппарату из Риги по поводу недавнего запроса, Фомин слегка заволновался. «Рига как будто все уже доложила, что бы там могло произойти…»
— Мой звонок по поводу тех туристов, которыми вы интересовались, — сразу перешел к делу Пинку лис. — Кое-что есть… Зашел к нам один рыбак — Юрас и рассказал, что несколько дней назад его посетил какой-то молодой человек и передал привет от «дяди Боба», показал фотографию, где Юрас был сфотографирован в 1946 году кое с кем из английской разведки. Парень пытался установить с ним связь. Юраса в свое время немцы вывезли в Германию. Потом ходил в перемещенных. Когда вернулся домой, не стал скрывать от нас факта вербовки, До сей поры его оттуда никто не беспокоил. А тут, понимаешь, было очень все неожиданно, и Юрас отослал пришельца к дьяволу. Потом сообразил, что поторопился и пришел к нам за советом. Мы ему на всякий случай предъявили фотографию того молодца, что встречался с туристкой, и представляешь, неожиданный результат: опознал.
— Это же чудесно, Альберт Мартынович, дорогой. Это же прекрасная новость! Мы ведь чуть было иной дорогой не пошли. А теперь все на месте. Спасибо большое. Все материалы пришлите нарочным и немедленно.
Фомин попросил своего секретаря срочно разыскать Михайлова. «Петров, выходит, не ошибся! Все-таки он видел Лютце, барона Зандлера. Уж очень много общего в манере действий. И эти запоздалые приветы от «дяди Боба». Старк тогда пытался везде, куда можно затолкать свою агентуру. И возможно, делал это не без помощи Зандлера. Решили проверить, кто как живет? Через столько лет… Ну что же, если так померимся силами еще раз и значит… значит, несмотря на мои сомнения и несовпадения отпечатков пальцев, Зандлер-Лютце и Гартенфельд могут быть одним лицом».
— Где вы запропали? — встретил Фомин Михайлова, прождав его около часа. — У меня есть новость для вас.
— И у меня.
— Тогда давайте сначала вашу.
— Хорошо, Евгений Николаевич. Вы знаете, что я перепробовал «на зубок» всех наших кандидатов на роль Лютце-Зандлера и, признаюсь, зашел в тупик. Хоть бросай все и начинай сначала по новому списку. Так вот стал еще раз проверять отпечатки пальцев. С экспертами целый консилиум устроил и выявилась одна деталь. Отпечаток Гартенфельда из Риги был слабоватый, не четкий. Сначала все казалось нормальным, а вот вчера эксперт Фролов высказал предположение, что это липа.
— То есть?..
— Ну, что пальцы Гартенфельда могут быть покрыты особой пленкой с нанесенными на нее чужими отпечатками. Нам уже встречался аналогичный метод маскировки года полтора назад. Фролов и вспомнил его.
— Так, так. И все это идет навстречу моим данным…
— Каким данным, Евгений Николаевич?
— Продолжайте, потом объясню.
— Начали увеличивать отпечатки, искать. И вот на одном из пальцев — точнее, на указательном, им ведь больше всего приходится пользоваться, — покрытие немного стерлось. В этом месте вроде бы залысина. И проглянул совершенно другой узор. Я не стал вчера докладывать вам. Потому что решил еще раз проверить. И Гартенфельдов ведь я чуть не исключил ил списка. Теперь заполучили новые отпечатки пальцев Гартенфельда. И вот заключение эксперта. Пленка на том месте еще больше истерлась и проступают дактилоскопические отпечатки, похожие на сделанные вами в сорок седьмом году, — разгоряченный Михайлов вытер пот с лица.
— Спасибо, Юрий Михайлович, — Фомина охватило нетерпение, которое всегда появляется, когда чувствуешь — найдено единственно правильное решение, и ты на пути к истине.
— Но это еще не все, Евгений Николаевич, — продолжал Михайлов. — Как только мне стали известны результаты экспертизы, это вчера же — я установил за Гартенфельдом и его племянницей наблюдение. Результатов пока не знаю. Вот теперь все.
— Волнуетесь, Юрий Михайлович? — спросил Фомин.
— Волнуюсь. Честное слово, страшно волнуюсь и сам говорю себе: «Спокойствие!»
— И я волнуюсь, — признался Фомин. — И у меня для вас есть интересная новость. Молодой человек, ну тот, что встречался с Эрной в Риге, пытался установить связь с бывшим агентом Старка, который был послан к нам на длительное оседание, но рассказал нашим товарищам о вербовке. Его никто не беспокоил оттуда больше двадцати лет. И вот явился связник. Свалял старик дурака — погорячился и выгнал «племянника дяди Боба». Потом спохватился, пришел к нашим рижским коллегам. Те, на всякий случай, показали ему
фотографию этого молодца Миши. И опознал старик в таинственном знакомом Эрны Гартенфельд связника.
— Неужели Зандлер до сих пор служит англичанам?
— Сомневаюсь, — сказал Фомин. — Нам еще тогда было известно, что геленовская разведка активно прибирала к рукам англичан и даже кое-кого из американцев. Старка перевели потом в Англию, часть его бывшей агентуры постарались перехватить геленовцы, да и американцы не зевали. Я думаю, в данном случае на связь к английскому агенту мог прийти уже не английский разведчик, или… Или представитель объединенной натовской разведки, в которой активно поработал небезызвестный Вессель, друг и подручный Гелена. Я вам уже говорил об этом. Вероятнее всего, это дела НАТО. И тот разведчик, о котором нал сообщали немецкие друзья, никто иной, как мой старый знакомый Зандлер. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается?
Фомин положил перед собой чистый лист бумаги и карандашом нарисовал в центре кружок, пометив его буквами
Л−З−Г[55]. Рядом нарисовал другой, маленький с буквой
Э[56] провел от него черточку к третьему, пометив его буквой
M[57] с вопросительным знаком; подумав, отдельно от других нарисовал еще один кружок, вписал в него крупную букву
Д и поставил восклицательный и вопросительный знаки. От кружка, помеченного буквами
Л−З−Г, прочертил стрелку в сторону кружка
Д.
— Что бы там ни было, — сказал Фомин, — я не могу оставить этой мысли. Денисов и его супруга вполне могут входить в программу Зандлера-Гартенфельда. Кстати, вы узнали, где Денисов?
— Виктор Сергеевич в командировке. Вот-вот должен вернуться. Дочь его на юге. Жена и тетка Виктора Сергеевича в Москве. Сведений о том, что ими кто-то интересовался, не поступало.
— Хорошо, если мои предположения не подтвердятся. Но снимать «Д» из этой схемы пока не станем. Шпион может идти каким-то другим путем, если уже не идет. Он осторожен. Очень осторожен и жесток. Гартенфельдов теперь ни на секунду нельзя выпускать из нашего поля зрения!..
Глава девятнадцатая
1
Гартенфельд пересек коридор и без стука вошел в номер к Эрне.
— Доброе утро, дитя. Как тебе спалось?
— Доброе утро, дядя Иоганн. Спасибо. Все отлично.
— Если готова, можем отправляться завтракать.
За столиком кафе Гартенфельд всегда чувствовал себя в большей безопасности, чем в номере, считая, что в номере проще организовать подслушивание. Он сам не раз руководил операциями по расставлению «ушей» на пути следования интересовавших разведку деятелей и считал, что так может делаться повсюду. Он вообще не любил вести какие-либо разговоры в номере гостиницы, кроме самых обыденных. И здесь, в Москве, следовал этому правилу.
— Сегодня я опять отлучусь по своим делам. Меня не жди. Располагай своим временем, как сочтешь нужным. Можешь развлечься, только не с «женихом». Если даже тебя и видели с ним, то каждый новенький только рассеет внимание, и ты будешь числиться просто как веселящаяся девушка. Вечерком поедешь на кладбище. Не опоздай, оно закрывается в шесть. Заберешь посылку. Контейнер оставь. Пусть будет у него в запасе. Действуй осторожно.
— Я очень понятливая и послушная девочка, дядя Иоганн, — улыбнулась Эрна. — Мы долго еще пробудем в Москве?
— Не думаю. Во всяком случае, сегодня может многое решиться.
После завтрака, прямо из кафе, Гаргенфельд направился к ближайшей станции метро. Утренний «пик» уже миновал, и поезда подходили относительно свободными. И опять-таки, перестраховки ради, Гартенфельд проверился старым, испытанным не раз, способом. Он последним вошел в вагон и, когда автоматические двери готовы были окончательно захлопнуться, неожиданно выскочил на платформу. Огляделся, платформа была пуста, из поезда вслед за ним никто не вышел. Тогда он спокойно перешел на другую сторону платформы, сел в первый подошедший поезд и поехал на Казанский вокзал…
Эрна поднялась в номер и стала прихорашиваться перед зеркалом. На это ушел добрый час. Чтобы быстрее бежало время, она решила побродить по Москве. Весь день был в ее распоряжении, и его совсем не просто провести с пользой. Она, в который уже раз, покружила по винтовым лестницам колоколен Василия Блаженного, потом окунулась в сутолоку ГУМа и тотчас поспешила вырваться из этого огромного, переполненного людьми магазина, в котором, казалось, берут все, что есть на прилавках, точно соревнуясь, кто больше купит. «Сколько же денег у людей! — удивилась Эрна. — И сколько нужно товаров хозяевам этого предприятия, чтобы всех удовлетворить». Через подземный переход вышла на улицу Горького и надолго застряла в магазине «Березка», выбирая сувениры. С большим свертком вернулась в гостиницу обедать.
Поела с аппетитом и легла отдохнуть — одной было скучно. Когда под боком был Мишель, там на юге, было веселее, и она не беспристрастно разыгрывала роль пылкой возлюбленной, пока он совсем не обалдел… Да, сидеть в душном номере и ждать неизвестно чего… Тоска. «Может быть, не ждать и пораньше выполнить поручение «дядюшки». Если бы она действительно имела богатого дядюшку, — думала Эрна, — ей не пришлось бы выполнять роль приманки для привлечения нужных Гартенфельду людей». Впрочем, пока задания, которые он поручал, ей нравились: они не были связаны с большой опасностью и чаще граничили с развлечением. Эрна выполняла их с удовольствием.
2
— Внимание, выходит! — шепнул соседу молодой человек с раскрытой газетой в руках. Они давно уже сидели здесь, в холле гостиницы, казалось, целиком поглощенные чтением. Но в тот момент, когда белокурая девушка прошла мимо, каждый успел бросить на нее взгляд.
— Красотка, — заметил один из них. Отложил журнал и тоже покинул холл…
Эрна вышла из гостиницы. Такси на стоянке не было. Беспечно помахивая сумочкой, дошла до перекрестка, где был подземный переход, и остановилась на краю тротуара. Выбрав момент, когда милиционер повернулся к ней спиной, быстрым шагом перешла улицу, кося через плечо: не идет ли кто следом Какая-то дама средних лет с хозяйственной сумкой сделала было попытку последовать ее примеру, но милиционер взмахом жезла вернул ее обратно, а Эрне выразил свое недовольство, укоризненно покачав головой. Эрна последовала за женщиной, пока та не затерялась в потоке пешеходов.
Остановив такси, Эрна попросила отвезти ее в Лужники. А когда приехала туда, снова, как лиса, начала заметать следы: кружила по ярмарке и вышла оттуда в толпе каких-то экскурсантов. Успокоенная зашагала на кладбище и долго гуляла, прежде чем присела на скамейку. Раскрыла сумочку, из которой сразу что-то выпало. Во всяком случае так можно было понять со стороны. Словно разыскивая упавшую в зеленую траву вещицу, Эрна быстро заменила контейнер. Посидела некоторое время в скорбной задумчивости, достала зеркальце, поправила прическу и медленно побрела к выходу.
3
Как и в прошлый раз, укрытый зеленью кустов, Гартенфельд устроился в облюбованном месте. Он хорошо видел, как женщины завтракали на веранде. Потом Лотта вышла в сад и прилегла с книгой в гамаке, натянутом между соснами. Старуха около часа бродила но даче, гремела посудой на кухне, наконец, вышла с сумкой.
— Ты отдыхай, Людочка, а я схожу на рынок, куплю сметаны. Может быть, тебе чего нужно?
— Спасибо, мама Катя. У нас, кажется, все есть.
Старушка ушла, заперев за собой калитку.
Наступил момент, которого Гартенфельд ждал с таким нетерпением. Хоть на пять — десять минут ему можно было теперь остаться с Лоттой наедине. Он обследовал штакетник, нашел место, где планки легко поддались и, соскочив с гвоздей, сдвинулись в сторону, образовалось отверстие, через которое он легко мог пролезть.
— Добрый день, Лотта, — он вплотную подошел к гамаку.
Людмила Николаевна вздрогнула, резко повернулась. «Почему здесь, в ее саду, незнакомец?.. И почему — Лотта? Дома, на родине никто ее так не называл?..»
— Вы вряд ли сразу узнаете меня. — Гартенфельд снял очки. Она побледнела, встала с гамака, по нашла в себе силы сохранить спокойствие.
— Господин Макс? Или как вас теперь…
— К чему эта ирония, Лотта? Мы старые друзья, и, кажется, я не сделал вам ничего дурного. Для вас я по-прежнему Макс. Макс, и все.
— Так чем я обязана вашему столь таинственному появлению? — Людмила Николаевна немного оправилась от первого испуга, и только голос выдавал ее волнение.
— Может быть, вы пригласите меня в дом? Там: наверно, прохладнее? И мне не хотелось бы посторонних глаз.
— Прошу, пойдемте. Я, кстати, узнала вас по глазам…
Через стеклянную веранду они вошли в большую комнату, служившую гостиной и столовой. В центре стола водяным дымом курился небольшой электрический фонтанчик, источая сырой холодок.
— У вас завидные нервы, Лотта, и присутствие духа, достойное мужчины.
Людмила Николаевна хорошо сознавала, что сейчас Макс начнет игру и самое разумное — подыграть ему. Так быстрее выяснится, чего он хочет.
— Может быть, стакан горячего чая? В жару это помогает. Вот фрукты.
— Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Сегодня у меня очень мало времени.
— Что же привело вас ко мне?
— Вы по-прежнему не любите лишних разговоров, это мне всегда импонировало. Поэтому перехожу к делу. Летом сорок восьмого обстоятельства сложились так, что мне даже не удалось с вами попрощаться. Но мы внимательно следили за вами все эти годы, надеясь, что в нужный момент…
— Простите, кто «мы»? Кого вы имеете в виду? Старка?
— Он давно вне большой игры, ваш прежний босс, но он передал вас, как агента, по наследству! Так вот, мы, скажу конкретнее — я не омрачал вашего счастья много лет и позволил наслаждаться им в полную меру. Пришло время, Лотта, отблагодарить нас за это джентльменство и терпение. Но об этом позлее.
Мне не следует встречаться с вашей тетушкой. Дл и вы, наверно, того же мнения. Поэтому жду вас в понедельник вечером от восемнадцати до восемнадцати тридцати на скамейке около памятника Пушкину, с левой стороны. Мне нужно немного. Некоторые сведения о Викторе Сергеевиче. Это ведь пустяк. И еще — где находится полигон, куда он уезжает? Ведь вы жена, надеюсь он вам доверяет?
Гартенфельд замолчал, ожидая ответа.
И вдруг тишину разорвал смех, сначала тихий, приглушенный, затем откровенный, звонкий. Смеялась Людмила Николаевна. Гартенфельд был готов к чему угодно, но никак не ожидал такой реакции. Это была не истерика, а смех искренний, даже веселый.
— Послушайте, Макс, я поражена всем происходящим. Сначала ваше вторжение меня возмутило и, признаюсь, напугало. Все дальнейшее — искренне удивило. Я старалась понять, возможно ли все это — такая беспардонная уверенность. Неужели история вас ничему не научила? — Людмила Николаевна пожала плечами. — Вам не приходила в голову мысль, что я еще тогда могла сообщить обо всем представителю советских органов и в какой-то мере способствовать вашему разоблачению? Вы пытались меня запугать тем, что меня арестуют, сошлют. Вы считали меня робкой, беззащитной певичкой, своей вечной жертвой. Вам, как говорится, в тот раз помог сам дьявол. Вы бежали… Боюсь, что дважды этого не случится, господин Макс.
Теперь уже Людмила Николаевна не смеялась, а говорила резко, гневно.
Он старался не выдать душившей его злобы. Поднялся, всем своим видом показывая, что собрался уходить. Глаза его смотрели холодно и спокойно и только дернулась несколько раз щека, потянув мочку уха.
— Смотрите, не прогадайте, Лотта. Вы слишком наивно рассуждаете: у нас длинные руки, и мы не забываем и не прощаем измены. Но если…
— Полноте, господин Лютце. Вы видите, я даже знаю ту вашу фамилию. Я боялась вас потому, что была одна и беспомощна. Теперь не боюсь. Я у себя дома, в своей стране. А вы врываетесь в мой дом да еще угрожаете. Не слишком ли нагло и не думаете ли вы, что я буду молчать после вашего ухода? Сейчас я бессильна вас задержать и вызвать кого следует. Но я непременно сообщу о вас и…
— Будем считать, что разговор не состоялся, — перебил ее Лютце. — Только не советую поднимать шум. Проводите меня.
Людмила Николаевна шагнула к дверям, ведущим на веранду.
— Минутку, Лотта!
— Что еще? — Она резко обернулась.
В этот миг он сделал резкий шаг к ней и поднял какой-то предмет, похожий на большую авторучку. Послышался треск разбитой ампулы и короткий шипящий звук.
Инстинктивно прикрыв лицо руками, Людмила Николаевна привалилась к стене. Ноги подкосились, и она медленно сползла на пол. Лицо ее приняло пепельно-серый оттенок.
Убийца постоял над ней, прислушиваясь, потом перешагнул через распростертое на полу тело и вышел из дома.
4
— Эрна Гартенфельд была на кладбище Новодевичьего монастыря, посидела там на скамейке и уехала. Гадали, что ей там было нужно. Все переглядели, перещупали и нашли гвоздь, контейнер, она там его в землю воткнула. Установил и наблюдение за скамейкой. Как прикажете поступать дальше, Евгений Николаевич?
— Сейчас решим. Но вы до сих пор ничего мне не доложили о Гартенфельде.
— Он ушел из гостиницы раньше, чем мы получили распоряжение туда прибыть. И до сих пор не объявлялся.
— Плохо, Юрий Михайлович. Плохо у нас получилось. Не думаю, чтобы он изучал весь день памятники старины. Передайте товарищам: контейнера не изымать, ждать адресата. Эрну не выпускать из поля зрения. Сделайте эти распоряжения побыстрее, и мы с вами поедем в Быково.
— В Быково? На аэродром?
— Нет, к Денисовым. Я выяснил, что Людмила Николаевна на даче. Мы не в праве отказаться от версии возможного появления Гартенфельда у нее. Мы обязаны предупредить и этот ход противника. Он ищет связи со старой агентурой… Проверяет…
— У нас есть загородный адрес Денисовых?
— Да. Пятнадцать минут для инструктажа товарищей хватит?
— Вполне, Евгений Николаевич.
Когда Михайлов спустился вниз, полковник уже сидел в машине.
— В Быково, Федор Иванович, — сказал Фомин водителю, — и, пожалуйста, побыстрее.
Через час «Волга» остановилась у дачи Денисовых. Калитка была открыта, но дом пуст. Офицеры вернулись к машине, недоумевая, куда могли под вечер деться хозяева, может быть, у соседей? Из дачи напротив вышел старик в пижаме.
— Вы к Денисовым? — спросил он.
— Мы хотели повидать Людмилу Николаевну.
— С ней несчастье. Что-то с сердцем. Часа полтора назад на машине «скорой помощи» ее увезли в Москву. С ней уехала и Екатерина Ивановна.
— Что вы говорите? Как это случилось?
— Я знаю только, что Екатерина Ивановна ушла на рынок, а когда вернулась, Людмила Николаевна лежала на полу уже без сознания. Екатерина Ивановна прибежала к нам, встревоженная, просила вызвать «скорую»…
— Спасибо, — Фомин сел в машину. — Вот какие дела, Юрий Михайлович, — рассеянно сказал он. — Поехали.
Всю дорогу Фомин молчал и лишь перед управлением заметил, повернувшись к Михайлову:
— Все же странно, Гартенфельд от нас улизнул, и в это же время с Людмилой Николаевной сердечный приступ. А раньше она вроде бы и не жаловалась на сердце. Немедленно установите, куда доставлена Денисова. Узнайте новости у тех, кто отвечает за племянницу. Как только все выяснится, ко мне. Я согласую с генералом вопрос о задержании этих милых родственников. Кажется, пора.
5
Генерал Богданов знал о сигнале Петрова и был информирован о делах, связанных с «туристами». Фомин все время держал его в курсе событий. Ознакомившись с актами экспертизы и последними материалами, он не без интереса выслушал доклад полковника.
Немногим старше Фомина, с моложавым лицом, но совершенно седой, Богданов сравнительно недавно был назначен в органы государственной безопасности, однако уже достаточно глубоко вник в тонкости чекистской работы. Помогали этому большой партийный опыт, в том числе армейский, фронтовой цепкий ум, наблюдательность.
— С удовольствием отмечаю оперативность ваших товарищей, — сказал Богданов. — Все, что вам удалось выяснить, действительно любопытно. И теперь нужно так же умело довести дело до конца. И знаете, черт возьми, пусть потомки, которые будут знакомиться когда-нибудь с архивными материалами, иронически улыбнутся в наш адрес, пусть обзовут романтиками, но эту операцию я назвал бы «второй раунд». Причем, как и в первом случае, те же действующие лица. Я вас имею в виду, Евгений Николаевич.
— Это действительно наш второй раунд, Владимир Семенович. Противник матерый, его тайным рингом в течение почти тридцати лет был весь мир. Ну, а о тренерах и говорить не приходится, тут и английский СИС, и геленовское ведомство, и, возможно, ЦРУ, которое пустило крепкие корни в разведке НАТО, точнее, верховодит там.
— Да нет же, я не хозяев его в данном случае имею в виду. А его самого. Здесь ведь ваш старый противник вышел на ринг. Поэтому это и ваш, именно ваш, второй раунд с Куртом фон Зандлером. Как вы считаете?
— Вообще конечно, но…
— Вот пусть и будет «второй раунд». А теперь о задержании Гартенфельдов. План ваш и участников операции я одобряю. Но думаю, пусть вместе с Котовым, Михайловым ее осуществляет и Фомин-младший.
— Простите, Владимир Семенович, но при чем здесь лейтенант фомин? Мне даже как-то неловко говорить об этом.
— Почему неловко. А мне, наоборот, кажется, прекрасным, что вот уже год в одном управлении работают сын и отец. Сын показал себя толковым парнем, его хвалят, а отец делает вид, что ничего не знает… — Богданов улыбнулся. — «Неловко…» Гордимся же мы рабочими династиями, династиями музыкантов, ученых, актеров, которые работают вместе на одном заводе, в одном оркестре, институте, театре… А тут династия советских контрразведчиков. Мне известно, дед Сергея тоже несколько лет жизни отдал ВЧК. Кторов рассказывал… Помните такого?
— Ну как же мой учитель.
— А этот «второй раунд», — отличная практика лейтенанту. Если сочтете возможным, лично познакомьте Сергея с делом. Со всем делом Зандлера, начатым еще там, в Германии, капитаном Фоминым. Ну как, договорились?..
— Хорошо, Владимир Семенович, раз вы настаиваете…
— Ладно, настаиваю, товарищ упрямец. — И Богданов дописал в план еще одну фамилию. Поставил галочку у пункта два. — Значит, допрос «дядюшки» вы хотите поручить Михайлову?
— Я предупредил его, чтобы не торопился предъявлять улики. Зандлер наверняка попытается выкручиваться, пусть наговорит как можно больше. Нам же потом будет легче.
— Разумно. Но мне думается, улик у нас прошв него более чем достаточно. Между прочим, вы сами тоже улика… Только когда речь пойдет о прошлом, о послевоенной его деятельности и о войне с фашизмом. Тогда и выпустим нас.
— Да, он матерый гитлеровец и, конечно, не изменил своего ядовитого нутра, независимо от того, кому служит. Фашист остался фашистом, это уж точно.
— Фашизм… — Богданов задумался. — Воевали мы с ним воевали, Евгений Николаевич, а он все живет. И почва у него для этого есть. И в Америке, и в Англии, и в Италии, не говоря уже о Западной Германии И свастику не забыли, и даже портрет Гитлера на стену не возбраняется вешать. Фашизм как рак — он прорастает там, где находятся анормальные клетки, питательная среда, а это прежде всего близкие ему человеконенавистнические идеологии, национализм, сионизм и прочее там… Евгений Николаевич, что, если подключить к этому делу прессу? Пусть расскажут о деятельности этих, с позволения сказать, «туристов» и кстати вспомнят, кто он такой был этот Гартенфельд — Зандлер…
— Давайте пригласим журналистов. Это хорошо.
Богданов пододвинул к себе папку с материалами дела, открыл заложенные полосками бумаги страницы.
— Вот здесь в заявлении Петрова есть место, где тот упоминал о встрече Зандлера с неизвестным в павильоне выставки в Сокольниках. — Кто он, тот его знакомый? Вот бы узнать и как-то это использовать.
— Вообще-то это не так просто. Но напоминание о той встрече должно привести Зандлера в некоторое замешательство. Он будет думать, что с самого приезда находился иод нашим контролем.
— Разумно. Тогда считаю, мы обо всем договорились. Действуйте. И будем ждать результатов. МИД и прессу я возьму на себя. Но это позднее, когда все закончим. В исходе этого раунда, Евгений Николаевич я не сомневаюсь. Нокаут Гартенфельду вы должны обеспечить стопроцентный.
— Нокаут? Да, нужно бы. Ведь однажды он уже побывал в нокдауне. А сейчас, Владимир Семенович, я первым делом хочу съездить в больницу, навестить Денисову. Если между Зандлером и ее сердечным припадком существует связь — мы здорово опростоволосились и дали маху… Это, прямо скажем, на моей совести… Сам же думал об этом и сам же затянул…
6
— Наконец-то. Я уже начала беспокоиться. Вас так долго не было. Как ваша прогулка?
— Об этом после. Сейчас я иду покупать билеты: завтра улетаем.
— Почему такая срочность? — только теперь Эрна почувствовала тревогу в голосе Гартенфельда. — Что-нибудь случилось?
Тот включил транзистор на полную мощность, усадил Эрну рядом с собой и сказал ей в ухо:
— Никаких вопросов. Готовься к отъезду.
— Понятно. Но я могу пойти за билетами вместе с вами? Подготовиться успеем. У меня все благополучно. Контейнер сменила, пленка есть. «Жених», наверно, уже выполнил ваше задание.
— Это, увы, не компенсирует главного, — заметил Гартенфельд. — Где контейнер? Его содержимое пусть лучше будет у меня. Да в общем-то не такая уж это ценность, Эрна, если не считать, что «жених» на прочном крючке.
Глава двадцатая
1
Фомин, увидев озабоченное лицо Михайлова, поджидавшего его у дверей кабинета, спросил:
— Что удалось узнать?
— Денисова доставлена в институт кардиологии в очень тяжелом состоянии, до сих пор еще не пришла в себя. Сердечная аритмия. У постели Людмилы Николаевны все время дежурит врач. Назавтра профессор Ясников назначил консилиум.
— Вы сказали, кто вы?
— Да.
— А о нашем предположении, что это могло быть вызвано некоторыми обстоятельствами?..
— Нет, Евгений Николаевич. Об этом я ничего не говорил.
— Я сейчас поеду туда сам. Что слышно о Гартенфельде?
— Появился наконец в гостинице, взят под наблюдение. В «Метрополе» приобрел на послезавтра два билета до Стокгольма, хотел было на завтра, но свободных мест не оказалось. Самолет авиакомпании «Сабена», как я выяснил, улетает из Шереметьева в четырнадцать тридцать.
— Обратите внимание, он спешит восвояси. Если несчастный случай с Денисовой дело его рук?.. Я теперь уже не оставляю этой мысли… Значит так, ждать мы больше не имеем права. Турне Гартенфельдов придется прервать. Я скоро вернусь. Прошу вас, отдайте строжайшее распоряжение не выпускать эту парочку из поля зрения ни на минуту…
В приемной директора института Фомин лицом к лицу столкнулся с Денисовым, но тот даже не узнал его. Лишь когда Фомин потянул его руку, понял наконец, кто перед ним.
— У вас кто-нибудь болен? Здесь лежит? — спросил Денисов.
— Да. Хорошая знакомая, Виктор Сергеевич, — ваша жена. Как она?
Ответ Фомина не сразу дошел до сознания Денисова.
— Простите, я что-то не пойму. Откуда вы узнали, что с Людмилой Николаевной случилась беда и она здесь?
— Узнал. Давайте вместе зайдем к директору. Мне нужно поговорить с ним. Из нашей беседы вы, кстати, кое-что поймете… Он у себя? — обратился Фомин к секретарю.
— Леонид Александрович вышел в отделение. Должен скоро вернуться. И у него сразу же начнется консилиум, вряд ли он сможет вас принять…
Дверь отворилась и через приемную мимо них прошла в кабинет группа людей в белых халатах, продолжая на ходу беседу.
— Пойдемте, — Фомин подтолкнул Денисова к дверям.
— Извините, товарищи, я же сказала, что директор будет занят, у него консилиум. К нему нельзя, — поднялась со стула секретарь.
— Я думаю, наше присутствие только поможет вашим товарищам. Не беспокойтесь, я объясню все директору. — Фомин решительно вошел в кабинет, потянув за собой Денисова.
— Извините за вторжение, Леонид Александрович. Полковник государственной безопасности Фомин, — представился он. — Скажите, пожалуйста, вы собираетесь обсуждать состояние здоровья Денисовой?
— Да. А в чем дело?
— Мне необходимо высказать вам наши предположения. Мы, я имею в виду Комитет государственной безопасности, склонны думать, что теперешнее состояние Людмилы Николаевны могло быть вызвано приходом в ее дом убийцы.
В кабинете воцарилась мертвая тишина.
— Да, убийцы, — повторил Фомин, видя, какое впечатление произвели его слова на окружающих. — Он мог грозить ей и даже, может быть, чем-то воздействовать на нее. У господ такого copra богатый арсенал различных средств…
— Я не все понял… и вообще это страшно и неожиданно, — сказал Ясников. — Да что же мы стоим? Проходите, товарищ Фомин, — я правильно назвал вашу фамилию? И вы, Виктор Сергеевич. Садитесь… Та-ак… — Ясников нервно поправил очки. — Ваше сообщение, товарищ Фомин, в какой-то степени меняет отношение к этому случаю. Я только что смотрел ее сам и, признаться, никаких видимых повреждений не обнаружил. Да и мои коллеги. Прошу знакомиться: старшие научные сотрудники, кардиолог Лобова Нина Михайловна, Большакова Евгения Александровна — рентгенокардиолог. Они вчера ее тщательно осматривали и тоже ничего не нашли. Знакомьтесь с остальными товарищами…
— Может быть, мы были недостаточно внимательны, — заметила Лобова. — Я имею в виду чисто внешний осмотр, кожный покров… Главное для нас было сердца. В анализах особых отклонений нет. Все в пределах: нормы.
— Со стороны рентгенологических исследований тоже ничего не обнаружено. Сердце в пределах возрастной нормы. Если и что есть, то это совсем незначительная эмфизема легких. Ваша супруга не перенесла легочных заболеваний? — спросила Денисова Большакова.
— Нет. Кажется, нет. Она пела на профессиональной сцене… Это могло иметь влияние?
— Может быть…
— Аритмию могло вызвать нервное потрясение, — сказал Ясников. — И если случилось так, как предполагает товарищ Фомин… Готовые ее к дефобриляции.
— Это опасно, профессор? — спросил Денисов.
— Не беспокойтесь, Виктор Сергеевич.
Врачи вышли, и Денисов с Фоминым остались одни.
— В Москве появился Макс Лютце, — сказал полковник. — Вы припоминаете такого?
Денисов мрачно кивнул.
— Нам не сразу удалось установить, что это он, — продолжал Фомин, — и мы не могли заблаговременно предотвратить возможность его встречи с вашей женой. Мне думается, такая встреча была. И не далее как вчера. Я даже в этом уверен.
— Надеюсь, на этот раз ему не удастся уйти?
Фомин поморщился. Слова Денисова прозвучали как упрек.
— Не уйдет, — ответил он.
Денисов нервничал, ходил по кабинету, в пепельнице на столе росла горка окурков. Прошло около чага. Наконец, дверь широко распахнулась.
— Все будет в порядке, — сказал Ясников. — К вечеру, Виктор Сергеевич, вы сами сможете сказать жене несколько слов. А сейчас она устала после нашего натиска и уснула, чудесно, спокойно уснула, пока мы обсуждали внизу результаты обследования. А вам, — Ясников повернулся к Фомину, — я понимаю, не терпится узнать что-то у Людмилы Николаевны?
— Да, конечно. Но что делать, придется подождать. Если состояние Людмилы Николаевны будет лучше, я поговорю с ней завтра.
2
В управлении полковника уже ждали капитан Михайлов, майор Котов и лейтенант Фомин.
— Вот и хорошо, что вы все здесь, — сказал Фомин. — Садитесь и послушайте мой разговор с генералом.
Он поднял трубку, набрал номер и в общих чертах сообщил Богданову результаты посещения кардиологического института.
— Что говорят медики? — переспросил Фомин. — Обещали завтра дать мне возможность переговорить с ней лично… Нет, они заверяют, что все обойдется без последствий… Товарищи находятся у меня. Сейчас согласуем наши действия. Спасибо, Владимир Семенович. — Фомин положил трубку.
— Ну вот, друзья, о состоянии здоровья Денисовой вы теперь знаете. Я продолжаю считать, что скоропостижное заболевание — результат ее встречи с Гартенфельдом. Прямо генерал в этом не упрекнул, но доля нашей вины несомненно в этом есть. Скорее, моей. Ладно, к этому мы еще вернемся. Что у вас нового, Захар Петрович? — обратился он к Котову.
— Гартенфельд просил сегодня поменять билеты на более ранний рейс. А их нет. Поэтому все остается по-старому. Завтра.
— Где Гартенфельды сейчас, вам известно, Юрий Михайлович?
— Да, товарищ полковник. С ними работают. В настоящее время, — Михайлов взглянул на часы, — вернее сорок минут назад, Гартенфельды находились в Александровском саду.
— Хорошо. Захар Петрович, учтите, пожалуйста, «племянницу» нужно буквально с первой минуты изолировать от «дядюшки» и сделать все так, чтобы они не смогли перекинуться ни единым словом.
— Понятно.
— Как только их привезете, Эрну сразу ко мне. Первичный допрос Гартенфельда проведете вы, Юрий Михайлович. Мне пока не стоит ему показываться на глаза. Обедал? — спросил он Сергея. — Нет? Тогда пойдем перекусим по-семейному.
— Дома?
— Нет. Димой мы с тобой теперь не скоро попадем.
3
Трубку долго не брали. Наконец. Фомин услышал мягкий баритон:
— Слушаю вас.
— Леонид Александрович? Здравствуйте, Фомин.
— Здравствуйте, можете приезжать. Людмила Николаевна чувствует себя вполне сносно. Четвертый этаж, палата тридцать один «а». Вас пропустят. Если возникнут какие-либо вопросы по медицинской, так сказать, части, я к вашим услугам. Милости прошу.
— Сейчас приеду. Спасибо.
Пропуск был оформлен. Молоденькая миловидная сестра набросила ему на печи хрустящий крахмальный халат и повела за собой Они поднялись на лифте, потом шли по просторному коридору. Фомин старался ступать как можно тише, осторожней, хотя в этом не было особой необходимости.
— Минутку, — остановила его сестра. — Я сейчас, — и скрылась за дверью. Тут же вышла: — Пожалуйста, товарищ Фомин…
Небольшая палата была залита ярким солнечным светом. Справа стояла широкая никелированная кровать, на которой сидела Денисова.
— Увы, Евгений Николаевич, опять я доставляю вам хлопоты. Берите стул. Мне сказал о вас вчера Виктор. Я ведь вполне прилично чувствовала себя еще вчера. А сегодня очень ждала вас. Так, значит, вы знаете, кто это был?..
— Людмила Николаевна, милая, — прервал ее Фомин, — дайте мне сначала хоть посмотреть на вас — выходец вы с того света. Это за смелость, — полковник положил на постель несколько крупных гладиолусов. — Ну, как вы?
— Ой, какие чудесные. Спасибо.
Фомин пододвинул стул и сел рядом.
— Откуда же вы узнали, что это был Лютце?
— Откровенно говоря, не знал, но предполагал, что он у вас может появиться. И к сожалению, на этот раз опоздал.
— Так вы еще не знаете, как было дело? Позавчера днем… — И Денисова рассказала о том, что произошло на даче в Быкове.
— Финал. Меня очень интересует самый финал происшествия. Если вы, конечно, помните?.. — спросил Фомин.
— Он сказал «проводите». Я пошла вперед. Лютце окликнул. Я задержала шаг, обернулась. Он направил мне в лицо какую-то трубку. Кажется, это была автоматическая ручка. И все, больше я ничего не помню.
— В свое время этот господин пытался отправить меня на тот свет с помощью элегантных перчаток.
— Как?
— Да, вот так. Поправляйтесь. Когда выздоровеете, непременно нагряну к вам и все расскажу.
— С Сережей и Викторией Григорьевной. Буду ждать.
4
— Федор Иванович, в Шереметьево, — приказал Фомин, захлопывая дверь машины.
— В Шереметьево так в Шереметьево, — ответил шофер.
Они ненадолго задержались под светофором у Большого театра. А дальше почти без задержки шли до шоссе. Обогнали несколько машин, поливавших газоны и деревья. Водяные усы вспыхивали под солнцем маленькими радугами. Вымытая листва становилась лаковой.
Свежий, пахнущий нагретой землей и лесом ветерок врывался в окна.
«Тогда тоже было лето», — вспомнил Фомин.
— Несколько поворотов, и аэровокзал.
В досмотровом зале Фомин сразу увидел Сергея, одетого по-дорожному и с чемоданом. Потом отыскал глазами Михайлова. Тот стоял у стола регистрации. А вот и Котов о чем-то говорит со служащим таможни.
Фомин вновь посмотрел на Сергея. Крупные, но мягкие черты лица, серые глаза как у матери. Большой лоб. Русые, чуть волнистые волосы. Большой и сильный, и такая спокойная доброта в нем.
А может быть, это ему, отцу, так кажется? Но ведь похож. Похож на него молодого, который…
Чуть заметная улыбка тронула губы Фомина, когда он подумал: интересно, как себя почувствует Зандлер в обществе этого молодого чекиста. Может быть, увидит сходство?
В зал вошла группа пассажиров. Фомин без труда отыскал среди них Гартенфельда. Вот Гартенфельд подал свои документы. Котов взял их, посоветовался о чем-то со старшим зала. Потом Котов пригласил Гартенфельда в кабинет начальника таможни. Эрна пошла за ними, но Котов остановил ее. Минутой позже к ней подошел Михайлов, и она вместе с ним прошла в другую комнату. Туда же прошел Сергей. Все это прошло быстро и без хлопот, незаметно для окружающих.
«Кажется, все благополучно», — подумал полковник и направился к выходу.
5
Внешне Гартенфельд ничем не выражал беспокойства. Он надел на себя маску невинно оскорбленного, но сдержанного человека, который знает, что произошло недоразумение и не сомневается, что сейчас все выяснится.
А разум был в смятении. Он лихорадочно перебирал в памяти каждый свой шаг в эти последние дни, все, что могло привести его к провалу. То, что они, Гартенфельды, в чем-то разоблачены, он уже не сомневался. Но в чем?
В таких случаях русские щепетильны и безукоризненно корректны. И в особенности когда им приходится иметь дело с иностранцами. И коль скоро решились на задержание, значит, для этого имеют основания. Кто-кто, а он знал: если им известна даже десятая часть его деятельности, материалов уже больше чем достаточно для их ареста. Но в глубине души все еще жила надежда, что его старые счеты с русскими канули в Лету и чту не мог же он, старый, опытный и осторожный разведчик не заметить слежку.
Убийство Лотты? Не может быть — там все чисто его никто не видал. Об этом он позаботился.
Остается Лугунов. Допустим, Эрна растеряется и расскажет кое-что. Но это только Лугунов. Она ничего не знает о его прошлом, а о некоторых его шагах здесь не имеет никакого представления.
Они подъехали к высокому серому зданию, хорошо знакомому ему по старым фотографиям, а в Москве — по прогулкам: в первые дни приезда специально заглянул сюда, на площадь Дзержинского, чтобы посмотреть на этот дом и памятник. И тут Гартенфельд, наконец, успокоился — он собрался для новой игры.
Первый допрос покажет, как ему себя вести.
6
— Ну и жарища сегодня, — посетовал Котов, входя в кабинет. — А у вас тут прохладнее, чем на улица, и сквознячок.
Фомин кивнул на стул.
— Как дела? — спросил Фомин.
— Все в порядке, Евгений Николаевич, — без эксцессов. Ехали тоже спокойно. Единственно, о чем спросил меня Гартенфельд: узнают ли в МИДе об их задержании. Я его успокоил, сказал, что узнают немедленно. Сейчас он находится у Михайлова, а Эрна у меня в кабинете — с ней беседует Сергей. Нервничает она ужасно, в аэропорту умоляла разрешить ей поговорить с дядей, даже прослезилась.
— Я был в аэропорту, Захар Петрович. Теперь давайте по нашему плану. Я вам помогу, а к Михайлову подключусь несколько позднее. Скажите, пусть заглянет ко мне. Я хочу еще кое-что подсказать ему. Да, забыл спросить: при обыске нашли что-нибудь?
— Ничего любопытного. Если не считать весьма оригинальной ручки, изъятой у Гартенфельда.
— Заберите у Михайлова все, что касается Эрны, и, как только лейтенант окончит первичный допрос, приведите ее ко мне. Но сначала пусть обязательно зайдет сам.
Котов ушел. И вскоре уже Михайлов слушал наставления полковника.
— Он легко не расколется. Будет долго цепляться за каждую мелочь и, прежде всего, потребует объяснить причины его задержания. Скажите, что он задержан за шпионаж и предложите, на первых порах, чтобы он рассказал, кто он, с какой целью прибыл в Советский Союз. Прямой, в лоб вопрос. Но тут он уместен. В зависимости от того, как он поведет себя, будем строить свою позицию к открывать ему наши карты.
— Спеши медленно, — улыбнулся Михайлов.
— Вот именно, — кивнул Фомин.
— Признаюсь, мне не терпится сбить с него спесь, задавить фактами, чтобы…
— Нам, Юрий Михайлович, мало его подтверждения того, что мы знаем. Нам важнее выяснить, чего мы не знаем, но должны узнать непременно… Ну хорошо, идите. А я сейчас познакомлюсь с племянницей…
В кабинет, сопровождаемая Котовым и Сергеем, вошла Эрна Гартенфельд. Нерешительно встала рядом со стулом, ухватившись за его спинку.
— Садитесь, фрейлейн Гартенфельд, — пригласил Фомин. Эрна села. — На каком языке предпочитаете говорить?
— Я хорошо владею русским. — Сколько вам лет, фрейлейн?
— Это видно из моих документов. И я уже отвечала на такой вопрос. Но если так надо, я отвечу еще раз — двадцать три.
— Тому, кто на свободе, можно сказать, что это совсем немного и, как говорят, все еще впереди. Смею уверить, что у вас впереди годы тюремного заключения и, чтобы сократить срок пребывания там до разумного минимума, вам сразу нужно говорить правду, и только правду. Нам известно, что вы не Гартенфельд, а сам Гартенфельд тоже не Гартенфельд и приехали вы к нам не для отдыха и ознакомления с достопримечательностями и красотами нашей страны, а с целью шпионажа.
Эрна попыталась было что-то возразить, но полковник остановил ее:
— Не перебивайте. Слова могут лишь повредить вам, особенно если это будет неправдой. Вот доказательство вашей враждебной деятельности а нашей стране. Смотрите снимок: вы в Риге с молодым человеком, будем называть его Миша. Вот вы на Новодевичьем кладбище вынимаете контейнер со шпионскими материалами и закладываете новый. Что вы на это скажете?
Эрна, широко раскрыв глаза, молчала. Фомин видел, как боролись в ней чувства, страх перед будущим, растерянность, которые были сильнее всего, чему ее столько учили, готовя к этой поездке. Что она думает? Ждет, что еще на нее свалится?
— Значит, вы с самого начала за нами следили? — тихо спросила она, не отрывая глаз от стопки фотографий, лежавших на столе.
— Скажите, что за авторучки у вас и у вашего шефа?
— На ней два кольца, нужно набрать шифр. — Она было замялась… — Вот, вот эта моя… Только осторожно, там пленка, вернее, две кассеты и кислота… Если что, она все разъест.
— Вы знаете шифры?
— Только свой, — она назвала цифру.
Фомин набрал нужное сочетание.
— Но если вы обманули, все обернется против вас.
— Нет, — отрешенно сказала она.
Фомин нажал на головку массивной ручки. Крышечка легко снялась. Из середины выпало два цилиндрика — фотокассеты.
— Захар Петрович, это немедленно передайте в НТО. Там сумеют их проявить. Работа Миши, не так ли, фрейлейн?
Она кивнула.
— Теперь расскажите о себе.
— Подождите немного. Позвольте собраться с мыслями… Можно воды?
Фомин-младший подал ей стакан воды, и она с жадностью выпила. Потом закурила, тряхнула головой, волосы рассыпались по плечам. С решимостью сказала:
— Ну, конечно. Какой уж тут обман. Я не дура… Вас интересует, кто я и откуда? Да, я не Гартенфельд. Я Эрна Эгер. Мне действительно двадцать три года. Родилась в Кельне, там же кончила гимназию.
— Когда, кем и при каких обстоятельствах вы были привлечены к шпионской работе?
— Это произошло в моем родном городе осенью шестьдесят восьмого.
— Рассказывайте…
— На соревнованиях, — я увлекалась прыжками в воду, и у меня были приличные результаты, — тренер познакомил меня с господином Беллингом, членом правления профессионального спортклуба. Тот пригласил меня поужинать вместе. Я согласилась. После нескольких встреч Беллинг прямо спросил меня, не хотелось бы мне стать разведчицей. Он довольно подробно, в романтичных, радужных тонах рассказал, что это такое.
— И вы сразу согласились?
— Откровенно говоря, не долго колебалась. Может быть, тогда я до конца не представляла себе всю сложность будущей профессии, хотя догадывалась, что это трудно и опасно.
— Так и что сделал Беллинг?
— Беллинг представил меня господину, который отрекомендовался как Штальбах. Я тогда обратила внимание, что его безупречное произношение выдавало в нем иностранца, скорее, англичанина, или американца, овладевшего немецким языком. Мы остались вдвоем. В беседе я убедилась, что господин Штальбах хорошо знаком с моей биографией, связями, материальным положением нашей семьи. Он пришел в восторг, когда узнал, что я вполне свободно владею русским и польским языками.
Эрна снова закурила.
— Продолжайте, — сказал Фомин, выждав длинную паузу. — Что было дальше?
— Дальше? Дальше я оказалась в специальной школе. Совершенствовала знания языков. И тот, и другой, как я уже говорила, я знала с детства. Моя мать полька, к тому же прекрасно владеет русским. Помимо того, что я занималась в гимназии — я там учила французский, — она заставляла меня учить и славянские языки. Говорила, что их знание в наше время, а также знание стенографии всегда может мне пригодиться при устройстве на работу.
В школе основное внимание уделяла специальным дисциплинам. Отличная учеба поощрялась. Я получала значительные вознаграждения, хорошо одевалась и могла помогать родителям.
Для практики приезжала в Советский Союз, полтора месяца прожила в Польше. Что еще?.. Умею работать на ключе, знаю шифровальное дело, фотографию, тайнопись. Хорошо стреляю, могу водить машину любой марки…
— Вы прошли в спецшколе полный курс?
— Нет, не доучилась. Начальник школы, кажется, майор, он всегда ходил в гражданской одежде, выдавал себя за бельгийца, объявил мне, что мое обучение окончено. За отличные успехи я награждаюсь трехнедельной поездкой по Франции и Италии, затем на неделю могу заехать домой. Вернувшись из отпуска, я позвонила начальнику школы. Он велел мне ехать в пригород Брюсселя и назвал адрес, где на мое имя была оформлена небольшая квартира. Вечером того же дня приехал ко мне в сопровождении Гартенфельда. Пожелав мне успехов в работе, сказал, что впредь я поступаю в распоряжение
господина Гартенфельда и уехал, оставив нас одних.
— Раньше вы его никогда не встречали? — спросил Фомин.
— Нет. В тот раз я увидела его впервые. Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о моей жизни, похвально отозвался о моих успехах в школе, потом перешел к существу дела. Он сказал, что с этого дня я становлюсь его племянницей, что я должна твердо приучить себя к этой мысли, хорошо заучить данную мне легенду и больше говорить по-французски, ибо я теперь бельгийка. Я стала входить в роль. А он проверял, разговаривал со мной, чаще на французском и русском. Потом, как только были готовы документы, я выехала в Советский Союз. В Москве я должна была встретиться с Михаилом Лугуновым и передать ему подарок от одного его знакомого немца из Федеративной Республики. Ну, и еще понравиться ему, так сказать, стать ему близкой приятельницей, узнать его думы и «грехи».
— О Лугунове и его «грехах» расскажите подробнее, — сказал Фомин.
— Как мне известно, он работал переводчиком на какой-то международной выставке в Сокольниках. Одну иностранную фирму, вернее, представителя фирмы заинтересовал прибор в павильоне ФРГ. Его захотели приобрести, но он не продавался. Лугунов, слышавший разговор представителей фирм, вечером того же дня принес подробные чертежи прибора в расчете на вознаграждение. Уж не знаю, что он просил. Те решили подыграть нам, немцам. Лугунова вместе с чертежами привели к хозяевам прибора. Среди выставочного персонала, вы, конечно, знаете об этом, бывают и разведчики. Был такой и в тот раз. Он занялся Лугуновым. Сначала великодушно простил тому его «шалость». Потом восхищенно отозвался о выполнении чертежей, которые тот сделал, а позднее привлек его к сбору некоторой информации. Какая-то мелочь. Вот все, что я знаю о нем. Он и сам мне рассказывал. Эрна отпила глоток воды и продолжила: — В мою задачу входило, как я уже сказала, встретиться с ним, вскружить ему голову и при благоприятном исходе съездить с ним в Крым, в Севастополь. Нужно было попытаться сделать кое-какие фотографии с его помощью. Это оказалось довольно просто. Лугунов, во всяком случае я так считала, в буквальном смысле слова потерял от меня голову… Я, как это у вас принято говорить, отдыхала по люксу и индивидуальной туристской путевке первого класса. Останавливалась в Ялте, имела возможность с Лугуновым сравнительно бесконтрольно ездить по Черноморскому побережью Крыма. Бывают там, знаете ли, однодневные экскурсии. Потом вернулись в Москву. Здесь меня уже ждал господин Гартенфельд. Он расспросил, как дела с Лугуновым, сказал, что ему необходимо посетить Ригу и чтобы туда приехал и мой молодой человек, которому я выдавала большие векселя на наше общее будущее. Моя встреча с Лугуновым на Новодевичьем кладбище была зафиксирована с помощью фотоаппарата, и это, в случае чего, усугубляло его зависимое положение. Этого, собственно, и добивался господин Гартенфельд. Я предложила Лугунову выехать в Ригу, и там, как я считаю, окончательно решилась его судьба. Гартенфельд сам осуществил вербовку, после чего Лугунов выполнял его поручения.
— Какие именно? — спросил Фомин.
— Не знаю. Господин Гартенфельд любопытство не поощрял.
— Что вы еще можете рассказать о самом Гартенфельде?
— Если судить по тому, как с ним почтительно разговаривали в Брюсселе, я полагаю, что Гартенфельд человек весьма независимый, или занимает высокий пост, или на особом счету там. В Москву его привела не только те дела, в которых я принимала участие. Было что-то другое. Он говорил, что личное. Он меня в свои дела не посвящал. Любая моя попытка узнать что-либо, выходящее за рамки непосредственно моих заданий, им категорически пресекалась. Он очень властный человек.
Фомин выключил магнитофон и, поднявшись из-за стола, подошел к Эрне.
— Очень хорошо, что вы дали такие показания. Если они искренние, суд учтет при определении вам меры наказания. Захар Петрович, у вас нет вопросов к арестованной? А у вас, Сергей Евгеньевич? — Фомин посмотрел на сына.
— Совсем небольшой. Фрейлейн Эгер не сообщила нам адреса Лутунова.
Эрна удивленно посмотрела на лейтенанта.
— Я считала, он вам известен. Я знаю лишь телефон. Пожалуйста, давайте напишу, — она взяла ручку и старательно крупными цифрами написала на листке бумаги номер.
— На сегодня достаточно, — сказал Фомин-старший и приказал увести задержанную.
— Ну как, Захар Петрович, — спросил полковник, когда Эрну увели. — Тебе нравится эта девушка?
— У нее завидная рассудительность, а, в общем, в ее положении это, пожалуй, самый правильный выход — быть правдивой. Иного пути нет. И это она, кажется, поняла.
— Ну, а ты, Сергей, что скажешь?
— У нее и внешность завидная, — улыбнулся он. — Познакомишься и не задумаешься, что скрывается под такой эффектной оболочкой.
Офицеры рассмеялись.
— Ну вот, сын мой. Держи ухо востро, — Фомин встал. — Сергей, найди Лугунова сегодня же.
7
— Этого следовало ожидать, — выключил магнитофон Фомин. — А вы думали, Юрий Михайлович, что он вот так сразу все вам и выложит?
— Нет, Евгений Николаевич, я готовился к тому, что он будет всячески изворачиваться. Но начисто все отрицать!..
— Ничего удивительного. Просто вы рассчитывали, что Гартенфельд пустится в пространные объяснения, а он избрал наиболее верный для себя путь — меньше говорить. И если говорить, то самое необходимое.
— Да, но он отказывается совершенно от всего.
— То есть? Вы хотите сказать от связи с Лугуновым? Правильно. Это делается в расчете на то, что у нас неоспоримых улик об их действительных взаимоотношениях нет. Не знает он и о том, что жива Денисова. Зандлер не Эрна, на признание которой нам понадобилось практически два часа.
Итак, что мы имеем в итоге? Безупречную биографию?! В самом деле… Лугунова не помнит, хотя не исключает, что такой молодой человек был в окружении племянницы. Все? Пожалуй, пора открывать нам свои козыри. Попросите, Юрий Михайлович, чтобы его привели сюда.
Минут через десять конвоир ввел в кабинет Гартенфельда. Он внимательно посмотрел на Фомина и спокойно, даже чересчур спокойно, опустился на стул спросил безразличным тоном:
— Я еще вчера после допроса просил вернуть мне очки. Мои глаза не переносят дневного света.
«Видимо, какую-то пластическую операцию он делал? — подумал Фомин. — Но какой молодец Петров. Узнал-таки. Впрочем, сходство есть, хоть и отдаленное». — Сказал громко:
— Товарищ Михайлов, так и быть — передайте, пожалуйста, господину очки.
— Так и быть?! Не думаете ли вы, что я покончу жизнь самоубийством? — вполне искренно рассмеялся Гартенфельд. — Это непозволительная роскошь. Мы и так не жители, а гости в жизни.
— Мне помнится, однажды ваш соотечественник на моих глазах пытался сделать что-то подобное. Ему, правда, помешали, и он до сих пор благополучно здравствует, — начал Фомин.
— Непозволительная расточительность, — отозвался Гартенфельд. Теперь сквозь темные стекла очков он в упор разглядывал полковника.
— Вы правы, он всегда был расточителен, этот человек. И особенно, когда дело касалось чужих жизней.
— Простите, а какое, собственно говоря, отношение ваши воспоминания имеют к нашему разговору? Я люблю мемуары, но в сугубо домашней обстановке…
Он давно понял, кто перед ним. Понял безвыходность своего положения. Сквозь его шутливо-иронические ответы и замечания проглядывала все возрастающая тревога. Он хитрил, пытаясь выяснить, насколько осведомлены о его деятельности эти ненавистные ему люди. Невозмутимо вежливые и такие беспощадные со своими врагами.
— Я постараюсь вам еще кое-что напомнить: вы не Гартенфельд, и даже не Макс Лютце. Вы барон Курт фон Зандлер. Шпион по образованию и убийца по призванию. И как вы, наверно, знаете, с такой категорией лиц у нас разговор один. Как вы, наверное, догадались, мы старые знакомые. Хорошо вас знает и Денисова. Кстати, она жива.
Гартенфельд заметно побледнел. Однако сумел взять себя в руки, улыбнулся и старательнее обычного, выговаривая слова, ответил:
— А вы, как и прежде, любите громкие фразы. Людям нашей профессии они ни к чему. Интересно, что за доказательства у вас могут быть?
— Больше, чем достаточно, чтобы навсегда вывести вас из игры. Протокол опознания инспектора персонального отдела специальных училищ абвера Кюме вас удовлетворит? И эта конвульсия, которую не смогла убрать ваша медицина, не говоря о такой мелкой детали, как отпечатки пальцев.
Брови Гартенфельда удивленно взлетели.
— Да, да. Представьте себе. Пленка на пальцах не выдержала испытаний. Хотите еще доказательства?
— Спасибо. Вы очень любезны. И в своих рассуждениях почти правы. Я говорю — почти, потому что в одном вы ошибаетесь. Таких, как я, не уничтожают, о чем вы мне недвусмысленно дали понять. Их меняют, как вы обменяли Пауэрса и Вина. Надеюсь, обменяете и Зандлера. Тем более, выбор у вас будет большой. Я представляю теперь не одну страну.
— Не обольщайтесь. И не мечтайте об обмене. Те, кого вы назвали, не убивали наших людей, и давайте наконец перейдем к настоящему разговору. Итак, фамилия, имя, год и место рождения. — начал полковник допрос так, как он начинается при ведении любого следственного дела.
Тарианов Н.В.
Невидимые бои


Вместо предисловия
— А будет ли это интересно читателю? — спросил один из персонажей этой книги, молодой чекист, прочитав рукопись. — Ведь здесь нет ничего особенного.
Борьба с невидимым противником, империалистическими разведками, для советских чекистов дело обыденное. Незаурядными, выдающимися они считают подвиги космонавтов, изучение океанских глубин, исследование природы сложных заболеваний. Своя же большая, важная, порой важнейшая работа для них просто работа. «Ничего особенного».
И все же советские люди проявляют огромный интерес к этой теме. Поэтому книга нужна. Она показывает сложный, тонкий, иногда виртуозный труд советских чекистов, для которых жизнь — поединок с невидимым, но опасным, изобретательным, изворотливым противником.
К сожалению, пока еще нельзя показать этот труд во всех его захватывающих подробностях. Невидимые бои продолжаются. Шпионов, диверсантов, лазутчиков империализма следует, естественно, держать в неведении относительно многих видов оружия, ограждающего страну мира и социализма от их происков.
Жизнь куда проще и вместе с тем сложнее, чем самая изобретательная писательская выдумка. Жизнь, рассказанная здесь, учит. Она показывает суровую романтику чекистского поиска. Вскрывает связь между слабостями человеческой натуры и тактикой вражеской шпионской службы. Демонстрирует, как эти слабости подводят подчас людей к роковому рубежу. Это следует знать. Именно поэтому вышла в свет эта книга.
Коварство иностранных разведок не в изощренности или какой-либо утонченности их методов, приемов подрывной работы. В тех не частых случаях, когда им это удается, они орудуют в обычных, а не искусственных условиях. Чертополохи, которые удается им порой посеять на нашей земле, поднимаются, как правило, на самой обыкновенной почве. Коварство врагов мира состоит в том, что они орудуют в обычной обстановке, обычными методами и приемами, не бросающимися в глаза, тщательно замаскированными под условия места и времени. Лазутчики иностранных разведок воздействуют на «обычные» слабости человеческой натуры, характера. Культивируя эти слабости, они обращают их в изъяны, изъяны превращают в пороки, подготавливая, унавоживая почву для преступления.
Жизнь непрерывно пополняет опыт человеческий. Из множества фактов писатель выбирает самые важные, самые поучительные. Факты, положенные в основу этой книги, способствуют дальнейшему развитию у советских людей их драгоценного качества — высокой бдительности в борьбе с врагами мира — империалистическими разведками.
ДВА ГЕНЕРАЛА
Саймон докладывает президенту
Кончив читать, президент откинулся на спинку глубокого кожаного кресла. Его просторный кабинет необычной овальной формы был обставлен удобно, но деловито и даже строго. На огромном письменном столе с низкими металлическими лотками для бумаг стояла сбоку модель яхты. В молодости президент был заместителем морского министра. Корабли и их модели остались его страстью на всю жизнь.
Полузакрыв уставшие за день глаза, президент размышлял. Ему предстояло решить важный вопрос: надо ли расширять военные поставки в Советскую Россию, более полугода содрогавшуюся под ударами свирепой германской гитлеровской армии. Специальным законом конгресс дал ему право предоставлять в порядке «займа и аренды» (ленд-лиз) вооружение и предметы военного снабжения, если это отвечало государственным интересам его, президента, страны. Интересы эти требовали всяческого ослабления германской военной машины, под которой стонала уже вся Западная Европа.
В состоянии ли русская армия, Советское государство эффективно отразить германскую гитлеровскую агрессию?
Чтобы решить эту головоломку со многими неизвестными, президенту надо было знать положение дел на советских фронтах и — что главное — состояние духа советских людей. Обладают ли они достаточной волей, решимостью идти на жертвы ради победы? Любовь русских к своей земле, их преданность родине известна из истории. Но так много ходит слухов, пущенных германской пропагандой (и часто «подтверждаемых» из солидных англосаксонских источников), о слабости и «непрочности» советского строя! Ведь после нападения Гитлера на Советскую Россию генерал Маршалл выразил убеждение, что германские армии будут входить в линии обороны России «как нож в масло». Если это так, если верны эти мнения, то стоит ли тратить средства, силы, время, рискуя лишь умножить славу и трофеи гитлеровской Германии?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать — точно, определенно, не гадая, наверняка, — в чем правда и в чем неправда из того, что говорят и пишут о России в войне.
Для этого, за такими точными сведениями и послал он в Москву руководителем миссии ленд-лиза генерала Саймона. Зная, что на пути к нему, президенту, сообщения генерала могут подвергаться «обработке» и «редактированию», президент дал генералу необычное право — докладывать ему непосредственно, в Белый дом. Возможность такой связи обеспечивал особый юридический статус системы ленд-лиза, не успевший еще обрасти чрезмерным бюрократическим аппаратом. Президент был верховным главнокомандующим не только вооруженных сил, но и ленд-лиза. Представители этой системы за границей не входили ни в какие министерства — между ними и президентом не было глухих непроницаемых средостений.
Именно поэтому на столе президента лежал сейчас только что доставленный специальным курьером из Москвы доклад генерала Саймона с грифом: «Совершенно секретно. Только для президента».
Говоря откровенно, президенту нравился этот доклад: он был глубоко аргументирован, подтвержден многими фактами, содержал ссылки на серьезные источники, и прежде всего на живых конкретных советских людей, которые, высказывая свое мнение о положении дел в стране, не знали, конечно, что их слова достигнут президента.
«А он не дурак, этот Саймон, — думал президент. — Не случайно я послал его в Москву, как-никак он умеет разбираться в людях».
Президент знал: генерал способен глубоко и — что главное — правильно анализировать сложные ситуации. Его выводы обоснованны, их трудно оспаривать.
На массивном корпусе телефона мягко вспыхнула неяркая лампочка «баззер». Президент поднял трубку.
— Мистер Хопкинс пришел, мистер президент.
— Попросите его войти.
Дверь отворилась. В комнату легкой походкой вошел высокий худощавый человек в распахнутом пиджаке, под которым был виден жилет. Президент с улыбкой протянул руку вошедшему. Да, этот умный и энергичный человек был его лучшим и — что большая редкость — бескорыстным союзником в правительстве, помощником. Именно поэтому президент и поручил ему руководство управлением по осуществлению ленд-лиза.
Усевшись в кресло сбоку письменного стола, Хопкинс вопросительно взглянул на президента, на лице которого сверкнула самая белозубая, самая обаятельная улыбка во всех Соединенных Штатах Америки.
— Надо решить важный вопрос, Харри, — начал президент. — Следует ли нам продолжать поставки России по ленд-лизу? Если да, то поставки надо решительно усилить и ускорить. Если нет — их надо свертывать? Что вы думаете об этом? Да или нет?
— Да. Усиливать. Быстро усиливать и как можно сильнее убыстрять.
— Почему? — не скрывая улыбки удовлетворения, спросил президент.
— Потому что русские расколошматят этого паршивого Адольфа. Они сделают это и сами, без нашего ленд-лиза. Но сделают быстрее и обстоятельнее, если мы поможем им. Первоначальный шок, вызванный внезапностью нападения гуннов, уже прошел. Русская военная машина начинает набирать скорость.
— Точно так же думает и генерал Саймон. Вот его доклад.
Президент взял со стола доклад и принялся читать выводы генерала.
«Несмотря на колоссальные трудности, с которыми столкнулись советские войска на первом этапе военных действий, связанные с внезапным нападением полностью отмобилизованной гитлеровской армии;
несмотря на нечеловеческие лишения, на которые пошел советский народ, чтобы отмобилизовать свою Красную Армию и снабдить ее всем необходимым;
несмотря на злопыхательские «прогнозы» недоброжелателей СССР, как в лагере противников, так и в лагере союзников, о неизбежном крахе Советского Союза в ближайшее время;
временное отступление Красной Армии и лишения населения в тылу следует уподобить сжатию гигантской пружины. После надлежащей подготовки пружина развернется и нанесет смертельный удар по немецко-фашистским вооруженным силам.
Основной вывод: морально-политическое состояние воинов Красной Армии и гражданского населения отличное. Советский Союз, несомненно, способен довести войну против гитлеровской Германии до победного конца. Поэтому правительству США следует оказывать всю возможную моральную и материальную поддержку советским военным усилиям, исходя не только из необходимости выиграть войну против стран оси, но и заложить прочные основы послевоенного сотрудничества с великой Советской державой».
— О’кей, — заключил Хопкинс, когда президент, закончив чтение выводов, принялся вправлять очередную сигарету в длинный тонкий мундштук. Он курил их одну за другой.
— Завтра же пригласите к себе руководителя русской миссии снабжения и попросите его представить список того, что им нужно, — сказал президент. — Завтра на пресс-конференции я объявлю о решении увеличить поставки. После этого вы снабдите журналистов несколько более распространенными данными. В пределах военной безопасности, разумеется. После пресс-конференции ко мне, несомненно, примчится заместитель морского министра Джим Форрестол. Протестовать против моего решения. Ну а я поручу ему улучшить морское прикрытие конвоев, идущих с нашими грузами в Мурманск.
И президент протянул руку Хопкинсу.
Пресс-конференции президента происходили, как правило, в его овальном кабинете. Сюда набивалось несколько десятков взвинченных ожиданием новостей журналистов. Когда основные новости бывали уже оглашены, старший по стажу аккредитации при Белом доме корреспондент обычно говорил: «Благодарим вас, мистер президент». Распахивались двери кабинета, и корреспонденты, толкаясь, наступая друг другу на пятки, бросались к телефонам. Через несколько минут телефоны и телетайпы разносили новости по газетам и радиостанциям страны. Прав был президент. Ровно через полчаса после того, как закончилась пресс-конференция, позвонил Форрестол. Гнусоватым голосом он просил президента принять его, если можно, сегодня.
— Вот вы-то мне как раз и нужны, Джим, — веселым голосом ответил президент. — Приезжайте сейчас же.
Через несколько минут в кабинет вошел невысокий подтянутый человек с короткой полуспортивной прической и носом, сплюснутым некогда ударом кулака в боксерской перчатке.
— Мистер президент, — начал Форрестол нервно, кося глазами в сторону. — Мы делаем колоссальную, может быть, трагическую ошибку. Все, что мы отправим теперь в Россию, пропадет, окажется в руках у немцев. Погибнут молодые американцы, охраняя морские караваны, направляющиеся в Мурманск. Погибнут моряки на судах, которые попадут под удар германских субмарин…
— Мы помогаем вести войну против агрессии, которая завтра может обрушиться и на нас, Джим, — мягко сказал президент, внимательно всматриваясь в бегающие, как у кролика, глаза Форрестола.
— Конечно, разумеется, — зачастил Форрестол. — Если бы у русских был хоть какой-нибудь реальный шанс продлить свое сопротивление — я не говорю уже о победе русских, она невозможна, исключена. Мы не можем губить людей, технику, ценности…
— На войне нельзя без риска, — медленно заметил президент. — Конечно, никто не даст вам стопроцентной гарантии, что русские обязательно победят. Но они дерутся, наносят удары, чертовски энергично организуют отпор врагу. У них и мысли нет о капитуляции. Черт возьми! Они будут воевать, даже если для победы понадобится целый десяток лет!
— Это самообман, мистер президент, — вскричал Форрестол, вскакивая с кресла. — Это трагический самообман. Даже если русские и победят, в наших интересах позволить немцам обескровить их посильнее. Помните, что говорил сенатор Трумэн? «Пусть они уничтожают побольше друг друга».
— Это очень жестоко, то, о чем вы говорите, Джим, — мягко, почти ласково произнес президент. — Там гибнут дети, женщины. Я знаю, что вы банкир и вам несвойственны сентименты. Но то, что вы предлагаете, не только бездушно, но и нерасчетливо, банкирски неразумно. Я уже не говорю о том, что в свое время Россия — царская Россия — помогала молодой Америке отстаивать свою независимость. Но представьте себе, что вы, с вашим хваленым реализмом, умением «трезво» оценивать обстановку, ошибаетесь?
Представьте себе, что Россия разбивает Гитлера, как расколошматила она в свое время Наполеона. В одиночку освобождает она всю Европу от Гитлера, уничтожает гитлеризм. Красный флаг «пролетарской революции» взвивается над всей Европой…
Где тогда окажемся мы с вашим хваленым «реализмом»? Вдали от европейских берегов, в «блестящей изоляции» от Европы. А триста миллионов жителей Западной и Восточной Европы будут в стане социализма? Вот тогда уже Европу нам не освободить. В каждой стране за дело возьмутся не ненавистные оккупанты, как сейчас немцы, а местные коммунисты. Их поддержит народ, возмущенный предательством своих буржуазных правительств, их полной неспособностью — или нежеланием — предотвратить катастрофу 1939, 1940, 1941 годов. Это будет надолго, быть может, навсегда. И все потому, что Джиму Форрестолу удалось уговорить президента помочь немцам убить еще пару миллионов русских.
— Но у меня есть данные военной разведки, — усаживаясь в кресло, бормотал Форрестол. — Эти данные не только показывают — они доказывают, что русским не удастся долго держать подбородок над поверхностью воды. Гитлер захлестнет их новыми волнами вторжения. Россию поработят — она перестанет быть страной, превратится в территорию, над которой будет господствовать фашистская Германия. Как мы сумеем тогда договориться с Гитлером — властителем Европы, мистер президент?
— Очень просто, — улыбнулся президент. — Мы пошлем к нему договариваться вас, Джим. Ведь Фриц Тиссен — когда-то он оплачивал Гитлера и его гангстеров — ваш старый друг…
Кстати, — уже серьезно продолжал президент, — о каких это данных вы говорите? Откуда вы их раздобыли?
— Это доклад военно-морского атташе вице-адмирала Макдональда. Примерно то же сообщает и военный атташе генерал Дроув…
— Почему же Генри
[58] не доложил мне эти материалы?
— К сожалению, мистер президент, он, как и вы, видимо, не разделяет мнений представителя своей разведки — военного атташе в Москве.
— Вот видите, Джимми, нас, стало быть, большинство — двое против одного. Поэтому мое решение остается в полной силе. А вы сделайте-ка вот что — усильте охрану кораблей, идущих в Мурманск. Немцы каким-то образом вынюхивают через своих шпионов маршруты судов и топят их. С этим надо покончить. Во всяком случае — резко сократить потери.
— Ай-ай
[59], слушаю, сэр, — поднимаясь с кресла, завершил разговор Форрестол.
Президент протянул ему широкую теплую ладонь. А когда заместитель министра вышел, долго смотрел на закрывшуюся за ним дверь.
Два генерала
Они появились в Москве вскоре после начала Великой Отечественной войны. Бригадный генерал американской армии Роберт Саймон возглавлял военную миссию снабжения. Генерал-майор Эдвард Дроув занял пост военного атташе посольства.
Оба генерала были профессиональными военными разведчиками. Оба имели большой опыт разведывательной работы во многих странах мира. Оба специализировались по Советскому Союзу, неплохо владели русским языком.
Направляя их на работу в Москву, командование управления военной разведки «Джи-ту» главного штаба американской армии, нимало не смущаясь тем, что между СССР и США установились союзные отношения в совместной войне против гитлеровской Германии, поставило перед ними циничную задачу — развертывать активную разведывательную работу в Советском Союзе, находившуюся до этого, по их мнению, в неудовлетворительном состоянии.
Фактически задача сводилась к определению «слабых мест» военно-экономического потенциала Советской страны, недостатков в боевой подготовке и военно-технической оснащенности Советской Армии. Средствами агентурной разведки и отчасти путем личных наблюдений генералам предстояло ответить на главный вопрос, поставленный правительством: выстоят ли советские Вооруженные Силы и народ перед натиском вооруженной до зубов немецко-фашистской армии? Или же, как это предсказывали многие буржуазные государственные и военные деятели, Советская Армия будет разбита, а страна — оккупирована.
Многие руководители вооруженных сил США почти не скрывали, какой ответ им хотелось бы получить от генералов. Несмотря на то что после трагедии Пирл-Харбора военный союз с СССР был спасением для страны, сдававшей одну за другой свои позиции на Тихом океане, слепая ненависть к молодому социалистическому государству вызывала у многих генералов и адмиралов тайное сочувствие фашистским агрессорам.
Делала свое подрывное дело и гитлеровская «черная», замаскированная, тайная пропаганда, на которую не жалело средств дипломатическое ведомство Иоахима фон Риббентропа.
Наконец, за годы, прошедшие между двумя мировыми войнами, в США возникли весьма могущественные группы финансового капитала, связавшие свои надежды на коммерческий успех с внешнеполитическими завоеваниями германского монополистического капитала. Участники этой группы и связанные с нею политики незадолго до начала войны начали появляться в Вашингтоне на важных государственных постах.
К этой группе и принадлежал недоброй памяти Джеймс Винсент Форрестол. На пост заместителя морского министра, престарелого республиканца Фрэнка Нокса, он пришел в 1940 году прямо с президентского кресла в банке «Диллон, Рид и К°» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Только до 1932 года с момента окончания первой мировой войны этот банк вместе с нью-йоркским «Ферст нейшнл сити бэнк» распространил на биржах Америки облигации 40 займов для германских трестов и концернов.
В январе 1932 года тогдашний президент банка Кларенс Диллон заявил в одной из комиссий конгресса:
«За послевоенный период общая сумма займов, предоставленных через нас, — я не включаю займы, которые предоставлялись другими банкирскими домами и в которых мы участвовали небольшими суммами, — составила 1 491 228 549 долларов».
Одним из получателей этих огромных займов был стальной концерн Германии — трест «Ферейнигте штальверке» (ему досталось полтораста миллионов долларов). Глава этого треста Фриц Тиссен открыто бахвалился своими тесными связями со многими банкирами Уолл-стрита, и в частности с Диллоном. Когда его спросили однажды, как он относился к пресловутому «плану Дауэса», он ответил:
«Моя позиция определялась главным образом тем, что сказал мне американский банкир. Я имею в виду Кларенса Диллона, представлявшего банкирский дом «Диллон, Рид и К°», с которым мы были в весьма дружеских отношениях».
Тиссен финансировал движение гитлеровской партии. Впоследствии, рассорившись с нацистами, он написал книгу, название которой — «Я платил Гитлеру» — звучало горьким упреком бесноватому фюреру, напоминанием о том, что именно тиссены, флики и прочие магнаты крупного капитала Германии возвысили фашистского диктатора, открыли ему дорогу к власти.
Джеймс Форрестол был обязан банку «Диллон, Рид и К°» всей своей карьерой. Поступив в банк в 1916 году, сразу же после окончания Принстонского университета, Вине, как называли тогда будущего банкира, проявил недюжинный талант стяжателя. Уже через семь лет он был совладельцем банка, а в 1937 году сменил Кларенса Диллона на посту президента.
Уже после того как Форрестол, повинуясь таинственному побуждению, добился поста заместителя министра военно-морского флота, он был (в 1941 и 1942 годах) членом правления американского треста «Дженерал анилайн энд филм», игравшего в США роль главного филиала германской сверхмонополии — концерна «ИГ Фарбениндустри», осужденного после войны как концерн — военный преступник.
Многое из деятельности Форрестола остается пока покрытым тайной. Но известно, что он возглавлял те силы в Вашингтоне, которые активно — и небезуспешно — затягивали выполнение Соединенными Штатами их союзнического обязательства — открыть в Европе второй фронт против гитлеровской Германии. Видимо, перспектива разгрома Германии, возможная потеря капиталов, вложенных в ее промышленность, пугала его больше, чем — не исключенная теоретически — возможность военного поражения США в войне.
Именно поэтому Джеймс Форрестол присутствовал на совещании комитета по координации военной разведки, на котором обсуждался проект программного задания работникам военной и военно-морской разведки, направляемым в Москву, где в связи с войной значительно расширялся аппарат военного представительства США.
Много лет спустя в американской прессе промелькнуло сообщение, из которого стало ясно, что военный министр Генри Стимсон
[60] возражал в то время против развертывания агентурной разведывательной деятельности в СССР. Нокс держался нейтрально в этом вопросе, а Форрестол настойчиво добивался того, чтобы возможности, предоставляемые развертыванием союзнических отношений с СССР, были использованы для создания американской шпионской агентуры и для такой разведки, которая обычно ведется против военного противника. Форрестола, в частности, весьма интересовали морские подходы к крупнейшим гаваням и портам СССР.
Президент, зная нравы профессиональной военной разведки — «Джи-ту», прямо сказал генералу Саймону, что его задача широко, всесторонне, а главное, совершенно объективно и беспристрастно знакомиться с советской действительностью, глубоко анализировать и правильно оценивать настроения советских людей, деятельность их правительства по организации отпора врагу и информировать обо всем президента. Неизвестно, какие указания были даны генералу Дроуву командованием «Джи-ту». Но, судя по его деятельности в Москве, они были составлены в духе требований Форрестола.
Так появились в Москве два американских генерала. Оба — опытнейшие военные разведчики, оба хорошо подготовленные, оба в конечном счете формально подчиненные «Джи-ту».
Но была глубокая разница не только в их ориентировке и целенаправленности, а еще и в формах их официальной подчиненности.
Генерал-майор Джон Р. Дин, возглавлявший объединенную военную миссию США в Москве в 1943—1945 годах, писал впоследствии в книге «Странный союз»:
«В момент, когда был подписан первоначальный Московский протокол (в сентябре 1941 года), было решено создать в Москве американскую миссию снабжения. Руководитель миссии получил от президента инструкцию: помощь не должна сопровождаться никакими условиями, а всю программу не следует использовать в качестве рычага для получения информации от русских и о русских. Он выполнял инструкцию президента слишком буквально, и по этому вопросу возник трудный конфликт между ним и военным и морским министерствами, которые через военного и военно-морского атташе пытались получить от него важную информацию…»
Генерал Дроув, как военный атташе, отчитывался перед руководством военной разведки «Джи-ту». Генерал Саймон, как начальник военной миссии снабжения, подчинялся управлению по делам ленд-лиза, возглавляемого тогда Харри Хопкинсом. А тот отчитывался только перед президентом.
Благодаря этим важным различиям в линиях подчинения доклады и сообщения, посылавшиеся из Москвы генералом Саймоном, проходили минимальную обработку и «фильтрование». Через Хопкинса они сразу же попадали прямо на стол президента США. А информация генерала Дроува, направляемая им руководству военной разведки, перерабатывалась, дополнялась, «обогащалась» и «совершенствовалась» в духе, выгодном верхушке военного министерства. Только этот препарированный материал докладывался правительству.
Перед отъездом в СССР оба генерала получили тщательно подготовленные официальные инструкции «Джи-ту»: не верьте официальным реляциям русских. Не верьте официальным коммюнике. Не верьте советским газетам, сообщениям Совинформбюро. Русские — великие мастера пропаганды. Развертывайте агентурную сеть, вербуйте шпионов! Систематически инструктируйте их, заставляйте активно действовать, добывать нужные сведения. Проверяйте и перепроверяйте даже самые надежные данные. Наблюдайте военную деятельность русских. Ищите их слабые стороны; отыскивайте ошибки, упущения, промахи. Добывайте как можно больше конкретных военных данных. Словом, ведите дело так, будто перед вами не военный союзник, а потенциальный противник.
Множество подобных указаний и советов получили генералы перед выездом на работу в Советский Союз. Разные это были люди. Оба окончили одно и то же военное училище — Вест-Пойнт.
Офицерам сухопутных сил, выпускаемым этой «академией», прививаются в ее стенах крайне реакционные взгляды и убеждения. Удивительного тут мало — в училище, основанное еще в 1802 году, принимают, как правило, сынков богатых или, во всяком случае, состоятельных американцев. Чтобы попасть в него, надо заручиться личной письменной рекомендацией президента США или члена конгресса. В американской прессе не раз сообщалось, что конгрессмены нередко торгуют своими рекомендациями, продавая их за солидные суммы.
Вест-Пойнт находится в старой крепости на берегу Гудзона, в 50 милях от Нью-Йорка. Первый комендант этой крепости генерал Бенедикт Арнольд оставил большое черное пятно в истории своей страны. Его имя стало синонимом самой черной измены. Он был первым американским генералом, предавшим свою родину.
Во время войны за независимость в 1780 году его подкупили англичане. Арнольд передал им планы крепости, а потом и сам переметнулся на службу к британским колонизаторам. Впоследствии он стал генералом английской армии.
Здесь учились генерал Уокер и другие фашиствующие генералы-бёрчисты, участники многочисленных ультраправых организаций США. Поколения генералов и офицеров, вышедших отсюда, начинали свою карьеру в кровавых войнах против почти безоружных индейцев. Многие накапливали военный опыт в грабительских войнах XIX века против Мексики. Питомцы Вест-Пойнта лютовали в странах Центральной и Южной Америки, на Филиппинах, в Японии и Китае, в Архангельске и на советском Дальнем Востоке, на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии. Фабричная марка Вест-Пойнта «украшает» сейчас многих военных советников, карателей, проливающих кровь женщин и детей Южного Вьетнама. Хладнокровно травят они посевы, жгут напалмом жалкие хижины вьетнамцев…
Да, разные люди были эти генералы. Эдвард Дроув еще курсантом Вест-Пойнта безотказно, словно губка, впитывал в себя яд великодержавного американского шовинизма, прививаемого тщательно подобранными инструкторами. Из стен училища он вышел убежденным в великой миссионерской роли офицеров американской армии, призванных, по его мнению, обеспечить мировое господство США.
Роберт Саймон окончил Вест-Пойнт в первом десятке своего курса. Может быть, ум, способности помогли ему критически мыслить. Главное — он остался в основном порядочным человеком, несмотря на все — порой весьма тонкие — ухищрения преподавателей, оболванивших по нужному им образцу не одну сотню молодых офицеров.
В отличие от большинства своих коллег, в том числе и Дроува, Саймон верил в идеалы американской революции. Он не считал Декларацию независимости, составленную основателями республики, клочком бумаги. Демократические идеалы, воплощенные в Декларации, сохранили для него свое высокое значение. Несмотря на все стремление власть предержащих заставить американский народ забыть эти истины, Саймон помнил о них.
Это был всесторонне образованный человек. Еще в юности увлекался он классиками русской литературы, специально изучил русский язык, чтобы читать творения русских писателей в оригинале. Увлекался музыкой. Обладая незаурядными музыкальными данными, неплохо играл на рояле, скрипке. Не стал бы он офицером американской армии, не вбей его отец себе в голову, что увлечение Роберта русской литературой и музыкой не приведет к добру. Обеспокоенный отец уговорил юношу поступить в вест-пойнтское военное училище. Старик дружил с сенатором от своего штата и без труда заполучил у него нужную рекомендацию.
После окончания училища Саймона назначили в разведку «Джи-ту». Не последнюю роль при этом сыграло знание русского языка. Много лет изучал Саймон Советский Союз по материалам, поступающим в «Джи-ту» по каналам разведки. В основном это была тенденциозная, искаженная информация. Тщетными были все его попытки придать ей объективный характер, чтобы президент, как главнокомандующий вооруженными силами, получал подлинную картину, отражающую истинное положение в стране. Военное руководство, преследуя свои цели, не только не проявляло необходимой честности в своих докладах президенту, но и часто нарушало требования объективности.
Не раз собирался Саймон подать в отставку (он был уже подполковником), чтобы заняться педагогической и научной деятельностью. Но разразилась вторая мировая война. Не время было уходить из армии, пока не одержана победа над фашистской Германией и Японией.
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Саймону предложили возглавить американскую военную миссию снабжения в Москве. Он охотно согласился поехать в Москву. Саймон очень серьезно отнесся к официальному заявлению американского правительства об установлении союзнических отношений между США и СССР. Функции, которые были возложены на него перед отъездом, Саймон воспринял как специалист, давно уже изучивший Советский Союз («Теперь-то я смогу собрать объективную информацию», — думал он). Он понимал, что правительству нужна широкая, точная и достоверная картина, чтобы эффективно планировать политику своей страны, добиваясь общей победы союзников в кровавой войне. И он был преисполнен решимости выяснять эту картину не методами стандартного шпионажа, а путем глубокого и всестороннего, честного и открытого изучения советской действительности.
Перед отъездом Саймону присвоили временное звание бригадного генерала. Такая практика существует в американской армии. Она применяется во время войны при назначении на генеральские должности за границей. Это делают для того, чтобы облегчить общение с иностранными коллегами высокого ранга. Миссию снабжения в Москве должен был возглавить по меньшей мере бригадный генерал. Подходящих генералов не нашлось. Временно дали это звание подполковнику Саймону.
Дроув «оживляет работу»
Саймон и Дроув приступили к работе в Москве почти одновременно.
Начинать Дроуву было проще. В посольстве США уже существовал готовый аппарат атташата. Многочисленные заместители и помощники военного атташе уже вели активный разведывательный поиск, вынюхивая все, что удавалось, о Советской Армии.
На следующий день после своего приезда Дроув собрал на совещание всех сотрудников атташата.
Офицеры атташата обычно ходили по Москве в штатском. Они не должны были привлекать к себе внимания в по-военному суровом городе во время ежедневных прогулок — операций визуальной разведки — или при поездках по стране. Но теперь, желая продемонстрировать новому начальству военную выучку, они явились в мундирах. Полковники, подполковники, майоры, капитаны и сержанты.
Познакомившись со всеми офицерами атташата (кое-кого он знал и ранее), Дроув разрешил всем сесть. Сам же остался стоять, подчеркивая тем самым важность первого инструктивного совещания.
— Я рад, что буду работать вместе с вами в столице мирового коммунизма, — произнес генерал многозначительно. — Первое, о чем хочу предупредить вас, — не обольщайтесь нашими союзниками. Богу и судьбе угодно было поставить сейчас нашу страну и Россию рядом, на одной стороне фронта войны против Германии. Но уже сейчас надо смотреть вперед, в будущее. Когда мы разделаемся — с помощью русских — с немцами и японцами, Россия станет нашим врагом номер 1. Этот день надо готовить уже сегодня…
Офицеры переглянулись. Подобные рассуждения они слыхали не в первый раз. Но прежде это говорилось полушепотом, в узком кругу, за бутылкой отличной советской водки.
Сейчас все излагалось тоном приказа, в официальном кабинете члена союзного посольства в столице
союзного государства, на официальном совещании его аппарата.
Генерал сделал паузу, оглядывая лица участников совещания. Несколько безразличных, непроницаемых лиц, две-три пары изумленных глаз. А кое у кого глаза хищно засверкали, как у беркута, с головы которого снят охотничий колпачок.
На этих лицах и остановил свой тяжелый, неподвижный взор генерал Дроув.
— Нам предстоит оживить, реорганизовать и резко усилить разведывательную работу в этой стране. Положение военных союзников создает для нас невиданные прежде возможности для улучшения нашей работы. Надо до дна использовать все возможности для установления — и расширения — полезных контактов, подбирать кадры для вербовки… До конца использовать военную обстановку, чтобы досконально, тщательно, детально изучить военно-экономический потенциал страны, найти, определить его слабые стороны. Мы предпримем многочисленные поездки по стране. Договоримся с русским командованием о посещении фронтовых участков и прифронтовых тылов. Я ожидаю от каждого офицера целеустремленной, инициативной работы по сбору самых подробных разведывательных данных.
Вопросы? — заключил генерал.
Вопросов не было. Кивком головы военный атташе закрыл совещание.
И атташат загудел, словно пчелиный улей. Активизировались все виды разведывательной деятельности, главным образом нелегальной, агентурной.
Не брезгали ничем. Разъезжая под различными предлогами по стране, многие офицеры атташата вели себя как вражеские лазутчики. Они пытались проникать на военные объекты и базы. Фотографировали мосты, железнодорожные узлы и порты, засекали радиостанции. Ночью на улицах столицы считали танки, проходящие на фронт, изучали транзитные воинские эшелоны, идущие к фронту, где гремели тяжелые, кровавые бои с немецко-фашистскими ордами. Дело не ограничивалось визуальной разведкой. Предпринимали активные, порой наглые попытки вербовать советских людей, поначалу считавших американцев преданными союзниками в борьбе против нацистов. Убедившись в подлинных неблаговидных намерениях этих «союзничков», советские люди шли в органы безопасности государства, с негодованием протестовали против попыток эксплуатировать добрые чувства москвичей, да и жителей других городов.
Сигнал поступал за сигналом. Над гладкой поверхностью внешне корректных отношений пробивались то тут, то там повадки профессиональных шпионов. Так становились явными неблаговидные намерения людей генерала Дроува.
Советские чекисты-контрразведчики, которые с первых же дней войны вели самоотверженную борьбу против агентуры немецко-фашистских разведок, забрасываемой через линию фронта по суше, воздуху и морским путем, не могли проходить мимо этих сигналов.
Почему усиливают шпионаж работники атташата? Вряд ли правительству США нужно знать, где находятся склады артиллерийских снарядов, базы запасных полков, центры формирования новых советских дивизий. До сих пор подобными сведениями интересовалась только шпионская агентура гитлеровцев. Военная тайна, особенно во время войны, — это военная тайна. Ее надо беречь не только от врагов, но и от друзей. Нет, чекисты не могли проходить мимо. Им пришлось отвлечь часть своих сил, чтобы тщательно, всесторонне, глубоко изучить эту, мягко говоря, недозволенную деятельность союзников, решительно ограничивать ее. Ведь не было никакой уверенности, что разведывательные данные, собираемые американцами в Советском Союзе, не попадут каким-нибудь путем в генштаб гитлеровского вермахта. Ведь в Вашингтоне, и даже в Пентагоне, было много, очень много друзей Германии.
Известно, что почти на протяжении всей второй мировой войны резидент ОСС (управления стратегической службы США) в Швейцарии Аллен Даллес (будущий директор Центрального разведывательного управления) поддерживал тесную связь с начальником гестапо Гиммлером через гестаповца князя Максимилиана Гогенлое и германского вице-консула в Цюрихе Ганса Гизевиуса, являвшегося по совместительству представителем гитлеровской контрразведки («Абвер») в Швейцарии. Недавно об этом рассказал черным по белому в своей книге «ЦРУ» американский журналист Эндрю Тэлли. Книга вышла в США в 1962 году.
Еще в годы войны советская разведка была прекрасно осведомлена о сомнительных связях Аллена Даллеса, о его попытках договориться с гитлеровской Германией. Именно поэтому чекисты были настороже. Им пришлось уделять самое пристальное внимание разведывательной деятельности сотрудников американского военного атташата в Москве во время войны. Ведь их долг — тогда и теперь — предотвратить удар в спину нашей страны. А такой удар мог быть нанесен в то время с помощью шпионов, имевшихся в стане наших союзников.
Деятельность генерала Саймона не вызывала тревожных сигналов. Он явно руководствовался указаниями своего президента, а не генералов «Джи-ту». Он понимал, какой огромный трудовой и военный подвиг совершает страна. Героизм советских людей на фронте и в тылу вызывал у него уважение. Советские люди, с которыми соприкасался генерал, чувствуя это уважение, дружественно относились к нему.
Без труда завел генерал множество знакомств. Советские люди самых различных профессий охотно беседовали с ним. Он легко сходился с людьми, быстро находил интересные темы для разговора. Благоприятное впечатление производило его знание русского языка, советской литературы. Советских людей располагал глубокий, неподдельный интерес американца ко всем сторонам жизни Советской страны, его искренние, дружелюбные мнения о наших военных усилиях, героизме солдат и офицеров на фронтах Великой Отечественной войны, советского народа.
По роду своей работы генерал общался со многими офицерами Советской Армии, в том числе с такими, которые часто выезжали из Москвы на различные участки советско-германского фронта. Он и сам не раз бывал на фронте, особенно в дни, когда сражения развертывались недалеко от Москвы.
Из дружеских разговоров с советскими офицерами, как в Москве, так и на фронтах, Саймон черпал много полезных для себя сведений, в особенности о высоком моральном состоянии советских войск. Но он не пытался выведывать военные тайны.
Уже через несколько месяцев после приезда на работу в Советский Союз, вскоре после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, Саймон направил в Вашингтон свой первый большой доклад.
Навык профессионального разведчика помогал Саймону быстро устанавливать неофициальные знакомства с рядовыми советскими людьми. В разговорах с ними он узнавал мнения народа. Эти мнения подтверждали и подкрепляли сведения, почерпнутые им в беседах с официальными советскими представителями. Генерал убеждался: в этой стране существует глубокое единство народа и его правительства, Коммунистической партии. Генерал понял, что эта особенность, невозможная в капиталистических странах, составляет органическое великолепное качество людей советского общества.
Часто Саймон выезжал за город на машине. Обычно он сам сидел за рулем. Отъехав километров 40—50 от Москвы, он поворачивал обратно и подвозил желающих до города. Иногда подъезжал к загородным остановкам автобусов и на хорошем русском языке предлагал подвезти двоих-троих ожидающих до Москвы.
Обычно не успевала машина дойти до города, как Саймон уже устанавливал дружеские отношения с некоторыми попутчиками. Нередко он приглашал их заходить к нему в гости.
Был у генерала и другой способ знакомства. Достав пару билетов в театр или на концерт популярных артистов, он приходил к театру за несколько минут до начала. Одетый в штатское, он начинал присматриваться к толпившимся у подъезда охотникам до «лишнего билетика». Выбрав из обширного «контингента» любителей театра наиболее «перспективного», он предлагал ему билет. Нередко избранными оказывались солдаты или офицеры, приехавшие в Москву с фронта в отпуск или в командировку, иногда — миловидные девушки или женщины, а то и молодые рабочие или инженеры.
Постепенно Саймон перезнакомился со множеством рядовых советских людей. Некоторые из них принимали его приглашения, заходили в гости — жил он не в посольстве, а в отдельном особняке своей миссии.
Гостеприимный хозяин, Саймон любил устраивать домашние концерты, радушно встречал гостей. Садился за рояль, почти профессионально играл Чайковского, Бетховена, популярные мелодии американских композиторов. У него была обширная коллекция пластинок. Среди них — драгоценные записи Шаляпина. Поставив «Вдоль по Питерской» или «Стеньку Разина» в шаляпинском исполнении, он включал звук на полную мощность. Гремел, сотрясая весь дом, голос великого русского певца.
С первых же дней его миссии в Москве в сознании Саймона шла напряженная борьба. Этот офицер американской армии, профессиональный разведчик помнил, конечно, чего требовало от него командование: искать людей, способных изменить своей стране, побуждать их к измене, вербовать, делать шпионами, с их помощью продолжать шпионскую работу. Но Саймон не мог заниматься вербовкой агентов в стане союзника, ведущего борьбу не на жизнь, а на смерть с общим врагом — германским фашизмом.
Честное начало взяло верх. Саймон нарушил приказ «Джи-ту». Он даже не пытался привлекать советских граждан к преступному тайному сотрудничеству с американской разведкой.
Все это может показаться парадоксальным: разведчик — и борьба двух противоположных начал, колебанья, раздумья. Но ведь еще Маяковский говорил, что «американцы бывают разные…» В Соединенных Штатах есть либеральная мыслящая интеллигенция. И среди офицеров попадаются там думающие люди.
Но мы еще вернемся к этому генералу. Обратимся к его коллеге по оружию военной разведки.
Муллард не хочет сражаться
Генерал Дроув был взбешен. Сидя за своим письменным столом, он снова и снова перечитывал только что расшифрованную телеграмму из Вашингтона от командования «Джи-ту». В телеграмме говорилось примерно следующее.
Сайм прислал через Хопкинса доклад, в котором на обширном материале доказывает неизбежность военного поражения немцев, хотя они все еще стоят под Можайском. Рекомендует усилить материальное снабжение по ленд-лизу, не затягивая решать проблемы непосредственного военного сотрудничества, готовить открытие второго фронта. Доклад произвел выгодное для русских впечатление на президента. Ускорьте подготовку материалов, опровергающих рекомендации Сайма, подтверждающих тезис военной слабости, деморализации на фронте и в тылу. Ускорьте развертывание агентурной сети, выполнение программы «Невод». Ждем ваши соображения и предложения.
Слова «через Хопкинса» означали, что генералам «Джи-ту» не удалось ни перехватить доклада, ни подвергнуть его «докторированию», то есть такой обработке, при которой выхолащивалось главное, основное, черное становилось белым, «да» превращалось в «нет».
«Этот Саймон хочет сделать из него, Дроува, круглого дурака! — с яростью размышлял генерал. — Ведь его, Дроува, рекомендации прямо противоположны предложениям Сайма. И все же Сайму удалось убедить президента пренебречь мнением его официального военного представителя и принять советы этого сентиментального русофила, который и попал-то сюда только потому, что людей, знающих русский язык, среди офицеров американской армии можно было тогда пересчитать по пальцам.
«Ну, мы еще посмотрим, кто, в конце концов, возьмет верх, — думал Дроув, нервно раскуривая сигарету. — Судя по тону телеграммы, командование «Джи-ту» в этом споре — на моей стороне. У разведки есть друзья и союзники в конгрессе. Они могут оказать нажим на президента. И тогда посмотрим, чьи рекомендации приобретут больший вес. Тем более что доводы мои весьма убедительны: Красная Армия будет разбита — ведь немцы уже под Москвой, государственный аппарат почти весь в Куйбышеве. Прекратить ручеек снабжения, поступающего в советские порты, предотвратить его неминуемую потерю, это — лишь требование здравого смысла».
Возвратив шифровку ожидавшему лейтенанту, генерал позвал другого помощника и приказал ему вызвать руководителя американского военно-морского представительства в Архангельске Джорджа Мулларда и помощника военно-морского атташе при генеральном консульстве во Владивостоке Крейера.
Не ожидая их прибытия, Дроув провел совещания с работниками военного и военно-морского атташатов. На этих совещаниях генерал резко критиковал отсутствовавшего Саймона, понося его в самых резких выражениях. Делал он это не для того, чтобы вразумить своего соперника (тот вряд ли узнавал об этих «разносах»), а в целях надлежащего, как ему казалось, воспитания своих работников, привития им необходимого духа и направления в работе.
Когда приехали Муллард и Крейер, генерал, повторив для них тщательно отработанный антисаймоновский спектакль, поставил перед ними и конкретные практические задачи.
— С этим «подполковником» (только так и называл его Дроув за глаза) нам не по дороге. Военное союзничество с русскими он принимает всерьез, желает им победы в войне. Мы еще посмотрим, как и где закончится война.
Ваш долг, — продолжал Дроув, — помочь командованию «Джи-ту» добиться устранения подполковника. Для этого надо собирать все, что может опорочить его, то есть показать в истинном свете, разумеется.
С Муллардом, в официальные функции которого входила быстрая сдача советским властям грузов, поступающих в Архангельск из Америки по ленд-лизу, Дроув беседовал, кроме того, отдельно. Повторив приказ — тщательно собирать все компрометирующие материалы против Саймона, чтобы добиться его отзыва из Москвы, — генерал особо подчеркнул, что работа Мулларда по ленд-лизу — только прикрытие для выполнения его основной задачи — сбора секретных военных сведений о северных районах Советского Союза.
— Не забывайте, Муллард, — вкрадчиво тянул Дроув, — ленд-лиз для вас — только прикрытие! Он должен интересовать вас лишь с точки зрения возможностей разоблачения начальника военной миссии снабжения, а не улучшения системы поставок. И потом — где ваша агентура? Где таблицы промера Архангельского порта, где список военных заводов Архангельской области?.. Невозможно раздобыть? Ну так вот — либо вы начнете работать как следует, либо я направлю вас в действующий флот.
Муллард, побледнев, встал, вытянулся. Стакан с виски в его руке чуть заметно дрогнул.
Активизировать агентурную работу Дроув приказал и всем офицерам военно-морского атташата. Дроув был старшим атташе и руководил обоими аппаратами.
На одном из этих совещаний Дроув заявил собравшимся офицерам:
— Ваша первая обязанность — найти и завербовать людей, способных дать то, что нам нужно. Они должны помочь нам доказать, что моральное состояние русских летит к черту, что не сегодня-завтра фронт Советской Армии будет прорван и все наши «студебеккеры» попадут к немцам. Люди, уверенные в победе над немцами, нам не нужны! Кто не понимает этого — может немедля попросить перевести его к чертовой матери, в действующую армию или флот! Гарантирую немедленное удовлетворение подобных ходатайств!
«Накачивая» подобным образом своих подчиненных, Дроув тем самым признавал, что американской военной разведке не нужна была правдивая объективная информация о положении на фронте и в стране. Зато на вес золота были тенденциозные сведения, позволяющие Пентагону саботировать союзнические отношения, установившиеся между США и СССР, ставить палки в колеса еще только намечавшегося военного сотрудничества.
Подчиненные генерала Дроува, как огня боявшиеся перспективы сменить непыльную работу в посольстве и миссиях на опасную службу в действующей армии и на боевых кораблях, беспрекословно принимали строгие приказы своего ретивого шефа.
Участились групповые и индивидуальные поездки американских офицеров по Советскому Союзу, в особенности между Москвой, Архангельском и Владивостоком. Странно вели себя в пути офицеры. Можно было подумать, что они на территории не союзника, а противника. Не довольствуясь официальными данными, они скрупулезно засекали попадавшиеся по пути аэродромы, беспрестанно делали фотоснимки. Останавливаясь в городах Урала и Сибири, беззастенчиво пытались проникать на военные объекты. Получая вежливый отказ, фотографировали их с приличного расстояния с помощью телеобъективов. Особенно интересовали их эшелоны с солдатами и вооружением, идущие на восток. Напряженно всматривались они в вооружение на железнодорожных платформах, ища новые, неизвестные им типы и виды советского оружия.
Свободно владея русским языком, многие американские офицеры завязывали знакомства с попутчиками в поездах дальнего следования. Но они не расспрашивали о жизни советских людей, их думах, желаниях, их решимости ковать победу. Нет, русскую общительность и гостеприимство они пытались использовать для настойчивых, иногда наглых попыток выведать военные и оборонные тайны. Их интересовали слухи и сплетни, по которым они судили о моральном состоянии людей в советском тылу. Им надо было знать трудности снабжения городов продуктами питания, качество и количество хлеба, выпекаемого в различных районах страны. Нередко эти офицеры скрывали, что они американцы, выдавали себя за жителей прибалтийских республик (особенно те, которые говорили по-русски с акцентом). Среди пассажиров выискивали людей, выезжавших по роду своей службы в командировку в Москву, чтобы иметь возможность снова встречаться с ними и получать секретные сведения. Прежде всего искали, разумеется, людей с антисоветской гнильцой. Если не находили таких редкостных экземпляров, поступали по-другому — выдавали себя за искренних «друзей» Советского Союза, настоящих боевых союзников. Преступное любопытство пытались прикрыть дружеской любознательностью.
Лихорадочная активность американских военных разведчиков не ускользала, разумеется, от пристального внимания людей, которым доверена защита безопасности нашей страны. Участились случаи, когда рядовые советские патриоты в Москве и в городах вдоль транссибирской магистрали задерживали американских офицеров в тот момент, когда те пытались фотографировать военные объекты или нелегально проникать на них. Нередко оказывались бдительными и пассажиры в поездах, не позволяли американцам фотографировать военные объекты из окна вагона, настораживались, когда их начинали настойчиво расспрашивать о вещах, имеющих самое непосредственное отношение к обороне страны.
Всякий раз, когда советские люди задерживали этих соглядатаев, их сдавали офицерам государственной безопасности для выяснения личности. Ведь подобное поведение во время войны не могло не вызвать подозрения в том, что налицо — вражеские германские агенты.
Велико же было изумление советских людей, когда оказывалось, что шпионскими повадками отличаются люди с дипломатическими паспортами, представители союзной страны, злоупотребляющие своей неприкосновенностью. Документально засвидетельствовав их недозволенную деятельность, чекисты прерывали их путешествия. Обладателям дипломатических паспортов приходилось возвращаться в Москву. Кое-кого из таких «путешественников» — сотрудников военных атташатов США, проявивших особое рвение в своей разведывательной деятельности, пришлось вежливо выдворить из нашей страны во время войны…
«Бизнес» развертывается
В Архангельск Муллард возвратился в состоянии некоторой подавленности. Еще бы! Генерал Дроув без обиняков дал ему понять, что считает его либо бездельником, либо неспособным, бездарным разведчиком. Больше того, он пригрозил отправить его в бурные тихоокеанские воды, где уже нашли гибель многие его товарищи по Аннаполису
[61]. Если бы генерал лишь «пожевал» его, пусть при всех, публично, было бы еще полбеды. Но перспектива угодить на «консервную банку», как называли в американском флоте эсминцы, вовсе не радовала. Откровенно говоря — даже пугала.
Муллард понимал, что, если он примется рьяно выполнять приказ генерала, ему грозит провал и — в полном соответствии с международными нормами и традициями — высылка из страны. А провалившийся разведчик не может рассчитывать даже на приличную службу во флоте — от него стараются освободиться при первой же возможности. Сколько их спилось, опустилось на самое дно многоступенчатой американской социальной лестницы, исчезло из виду, просто сгинуло, этих провалившихся разведчиков!
Черт возьми, что же делать? Выполнять приказ — опасно. Не выполнять — еще опаснее. Ну, конечно, — намного опаснее. А это не оставляет выбора. Надо выполнять приказ!
Решение это Муллард принял без больших колебаний. Он не любил русских, советских людей. Их спокойная уверенность, непоколебимое сознание собственной правоты выводили его из равновесия. Откуда у них эта вера в победу? Захвачены, сожжены, обескровлены тысячи деревень, сотни городов, омертвлена вся западная часть страны. В таких условиях не ищут победы — приспосабливаются к несчастью, стараются вжиться в него, пытаются найти пути и формы соглашения с противником, идут на уступки, признавая свершившиеся факты. А эти — не сдаются! Упорно продолжают борьбу. Создают партизанские отряды, втягивают в борьбу женщин, стариков и наносят сильные удары по врагу, как раз тогда, когда по всем известным в истории правилам игра считается уже проигранной.
Нет, здесь есть что-то, чего он, Муллард, не понимает, что пугает его. Если русские способны выдержать такой потрясающий натиск, если они не только мечтают о победе, но и готовят ее — еще как готовят! — значит, это люди опасные. Слишком широко шагают. Таких надо «подрезать» просто для того, чтобы не росли слишком быстро. Если пользоваться трумэновской формулой, то давно уже настало время если и не помогать немцам, то хотя бы перестать помогать русским. Ведь эти идиоты со свастикой, кажется, просчитались. А в такой борьбе просчитаться — значит проиграть. И это не карточный проигрыш. Это потеря многого из того, что составляло современную Германию, — ее военной силы, экономического потенциала, ее «стабилизирующей роли» в Европе. Это огромные социальные потрясения на европейском континенте, потрясения, масштабы которых невозможно предвидеть.
Муллард работал некоторое время в Германии до войны. Конечно, немцы перебарщивали с этими своими штурмовиками, с обожествлением их истерика Адольфа. Но что поделаешь? Такие уж они, пруссаки, это у них в крови. Он, Муллард, конечно, не одобряет нацистских крайностей. Он посмеивался над ними — откусили больше, чем могут прожевать. Но если бы перед ним поставили категорический выбор — или немцы, или эти русские, советские, — он не стал бы колебаться. Разумеется, он, Муллард, любит свою страну. Но не настолько, чтобы ради нее кормить рыб где-нибудь в Японском море или схлопотать в живот кусок горячей шрапнели на каком-нибудь тихоокеанском острове с едва произносимым названием. Патриотизм — это хорошо. Даже очень хорошо. Но американских моряков, часто прибывающих в Архангельск в составе потрепанных, побитых конвоев, он считал неисправимыми чудаками: рискуют жизнью, чтобы доставить союзнику боеприпасы и грузовики. У военных моряков, охранявших конвои, выбора не было, им просто не везло… Но «купцы», добровольно подставлявшие борты германо-фашистским торпедам, часто погибавшие ради советских людей! Их энтузиазма, как и многого другого в этой войне, Муллард не понимал.
Нет, смерть в соленой воде или на горячем песке — не для него. Муллард энергично принялся за шпионский бизнес.
У профессионального шпиона имелись и другие причины для того, чтобы не торопиться покидать Архангельск.
Дело в том, что Ирина, Ирэн, его переводчица и секретарь, не отличалась той суровой неприступностью, которая так характерна для этих русских красавиц. Это была «знойная женщина».
Несмотря на свое американское происхождение, Ирэн имела советское гражданство. Муллард буквально вырвал ее из аппарата военно-морского атташе посольства в Москве, где она работала. Выезжая на работу в Архангельск, он взял Матунову, разругавшись с ее непосредственным начальником. Дроув помог ему — он знал, что Муллард едет буквально на «пустое место» в смысле агентурной деятельности. Не зная языка, Муллард вряд ли сможет сделать что-либо серьезное. Пусть Матунова едет с ним, помогает ему «внедряться».
Ирэн приехала в Советский Союз с родителями в 30-х годах. Ее отец по контракту участвовал в строительстве одного из тракторных заводов. Строительство было закончено, и он решил остаться в Советском Союзе: ему не хотелось пополнить собой армию безработных на родине.
Новая родина радушно приняла Ирэн. Вместе с родителями она получила советское гражданство. Без труда попала в институт иностранных языков в Москве, училась в нем за счет государства, народа — в США получить такое образование стоило бы очень дорого. Незадолго до войны Матунова устроилась переводчицей в группу военно-морского атташата посольства США.
Довольно привлекательная, Ирэн сразу же обратила на себя внимание Мулларда. Он оказывал ей многочисленные знаки внимания, «красиво» ухаживал, преподносил цветы, подарки. Началась война, стало туго с продуктами и промтоварами. Муллард, пользуясь этим, все больше опутывал молодую женщину. Вскоре Ирэн не только помогала Мулларду в работе, но и скрашивала его одиночество: долгие русские зимние ночи казались ему теперь слишком короткими. Он все реже писал письма жене. Правда, его роман с Ирэн был явной разведывательно-сексуальной авантюрой. Муллард ни на минуту не забывал, что дома, в Техасе, его ждут миловидная жена и три сына, из которых один мечтает стать пожарным, второй — полицейским, а третий — подводником.
Подарки-подачки, лживые обещания сделали свое дело. Муллард уверял Ирэн, что их роман непременно завершится браком. Он разведется с женой, вывезет Ирэн в Америку, они заживут там на славу. Ему удалось окончательно превратить женщину в свое послушное орудие во всех шпионских делах…
В Архангельске Ирэн действовала уже как активная помощница Мулларда. По его заданию она начала завязывать широкие связи среди моряков, работников Архангельского порта.
Официально задачей американского военно-морского представительства было обеспечивать быструю разгрузку прибывающих судов. Матунова с Муллардом, а часто и без него бывала в порту и портовых учреждениях. Любезная, живая, общительная, она старалась нравиться морякам, сближаться с ними. Не прочь была пофлиртовать, особенно с молодыми офицерами. Направо и налево раздавала пахучие американские сигареты: с табаком в Архангельске в то время обстояло неважно.
И вот в областное управление государственной безопасности стали поступать заявления советских граждан. В беседах с работниками порта, таможни и моряками Матунова проявляет подозрительное любопытство, задает вопросы, не имеющие никакого отношения к работе представительства.
Чекисты установили: Матунова старалась заводить знакомства и с прибывающими в Архангельск в командировку работниками различных оборонных предприятий. И им она задавала вопросы разведывательного характера.
Чекисты установили также, что с некоторыми моряками и работниками таможни Матунова завязывала мимолетные романы.
Выяснилось, что, стремясь выполнить задания Дроува, Муллард толкал свою «будущую жену» на связь с некоторыми моряками и таможенниками. Этот «нежный влюбленный» не только не возражал против сожительства Ирэн с новыми знакомыми, но даже побуждал ее к этому. Он даже подвозил Ирэн на своей машине на ее любовные свидания.
Этой женщине, запутавшейся, опустившейся, казалось, что у нее не осталось иного выхода, кроме как повиноваться Мулларду.
Наталкиваясь после кропотливого изучения какого-либо «объекта» на отпор, Матунова прекращала встречи. С небольшим же кругом людей, располагающими, как она знала, доступом к интересующим ее боссов сведениям, она продолжала упорно встречаться, стремясь закрепить отношения, перевести их в интимную фазу.
Чурсин едет кататься
После долгого предварительного изучения Матунова познакомила Мулларда с неким Чурсиным, одним из работников таможни, с которым она часто встречалась.
Вот как состоялось это знакомство.
В один из темных зимних вечеров Муллард подвез Матунову на своей машине на окраину Архангельска. Затем он вернулся в центр города, долго кружил по площадям и переулкам, явно проверяя — не следят ли за ним и его машиной.
Тем временем Матунова, встретив Чурсина, медленно прогуливалась с ним по одному из окраинных переулков.
Примерно через полчаса, убедившись в том, что опасности нет, Муллард вернулся на окраину. В заранее условленном месте он быстро взял в машину свою любовницу-помощницу и ее любовника и на большой скорости выехал на загородное шоссе.
Здесь, на шоссе, и произошло официальное «оформление» Чурсина «на должность» агента американской разведки. Именно во время этой продолжительной загородной автомобильной «прогулки» Мулларду удалось окончательно склонить таможенника к измене своей стране.
Матунова считала, что она хорошо подготовила Чурсина для решающего разговора. Тем не менее любитель легких любовных похождений перепугался до полусмерти, когда понял наконец, почему так «дьявольски мила» была с ним, ничем не примечательным служащим, эта изящная, красиво одетая женщина. Простак побледнел, когда до него полностью дошел смысл происходящего.
Муллард говорил властно и решительно. Чурсин должен немедленно приступить к систематическому сбору военно-политических сведений. Нужны все данные о работе торгового порта и военно-морских баз, подробные сводки о моральном состоянии советских моряков и населения Архангельска и области. Только теперь уразумел Чурсин, какая петля затягивается вокруг его горла. Он попытался пойти на попятный, начал отказываться от дальнейшего сотрудничества с американцами.
Видя, что не берет лисий хвост, Муллард решил показать волчьи зубы. Американский разведчик выпустил когти.
— Поздно уже вам отступать, господин Чурсин, — процедил он сквозь зубы. — Слишком глубоко вы увязли. Сведения, которые вы сообщали Ирэн на протяжении последних месяцев, навсегда связали вас с нами. Будете сопротивляться — выдадим вас вашим властям. Раздавим! Уничтожим! — орал Муллард.
— Вы не сможете доказать, что я сотрудничал с вами, — мямлил Чурсин.
— Не притворяйтесь наивным человеком, вы — простак! — небрежно бросил Муллард. — Послушайте-ка лучше вот это.
Разведчик вынул из кармана портативный магнитофон размером чуть побольше папиросной коробки, нажал белую пластмассовую кнопку. Завертелись колесики, на которых была туго намотана тонкая блестящая проволочка.
Напялив дрожащими руками миниатюрные наушники минифона, Чурсин отчетливо услышал запись своего предпоследнего разговора с Матуновой. Да, это был его голос, слегка заикающийся. Разговор записали полностью. Вот он угодливо, не скупясь на антисоветские измышления, уверяет Матунову, будто советским людям вконец осточертела война и что они ждут не дождутся, когда наконец придут немцы и наведут «настоящий порядок». Затем пошел его рассказ о кое-каких важных, секретных моментах в работе порта.
— Полагаю, вам несдобровать, если мы подарим русским эту блестящую проволочку с записью вашего не столь уж музыкального голоса, — словно гвозди вколачивал в голову Чурсина Муллард. — А к проволочке прикрепим алой ленточкой записку с вашим точным домашним или служебным адресом. Главное таможенное управление вряд ли будет вне себя от восторга, узнав об этой пикантной деятельности ее представителя.
Возможно, что на первой стадии своих отношений с Матуновой Чурсин и не представлял себе, на какую скользкую и опасную дорогу он вступал. Но теперь он понял, что американцы его крепко запутали. Конечно, еще не поздно было отступить. Если бы он пришел к работникам государственной безопасности и чистосердечно рассказал о случившемся, он мог бы еще спастись. Но на него подействовали шантажистские угрозы Мулларда. Да и по своей трусливой природе он уже, собственно, был готов предать интересы Родины, борющейся со смертельным врагом.
— Я согласен, — пробормотал он. — Что я должен делать? В чем состоит задание?
— Так-то лучше, — улыбнулся Муллард. — Слушайте внимательно, запоминайте.
Начался инструктаж.
Муллард подробно перечислил вопросы, по которым Чурсин должен был представить ему свой первый большой письменный доклад. Он называл документы, которые следовало выкрасть, переписать или сфотографировать. Выяснил во всех деталях, с кем он дружил, у кого из своих знакомых может получить интересующие американскую разведку сведения. Получив ответы Чурсина, дал подробные указания, вручил немалую сумму денег для угощения друзей только что завербованного шпиона…
Даже сегодня, через девятнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны, нельзя, к сожалению, привести все интереснейшие, тончайшие подробности этого дела. Они свидетельствуют об инициативности, остроумных, полных творческой изобретательности оперативных действиях чекистов города Архангельска.
Можно лишь сказать: с первого момента знакомства Мулларда с Чурсиным оперативные работники в результате принятых ими мер были в курсе почти всех шпионских деяний таможенного служащего.
И Муллард, и его трусливый от природы агент, скрупулезно выполнявший все указания американского военно-морского разведчика, рассчитывая, что это обеспечит его безопасность, спасет от разоблачения, конечно, не предполагали, что каждый их шаг был под контролем, что их так скоро схватят с поличным. Муллард дважды выезжал в Москву, докладывал генералу Дроуву о работе со своим новым агентом. Теперь он действовал с полного одобрения генерала и руководства «Джи-ту» в Вашингтоне.
Подполковник Борисов вступает в дело
Подполковника Борисова столкнула с Дроувом, Муллардом, Матуновой война. Возвращаясь с задания из глубокого партизанского тыла, после завершения с группой товарищей-чекистов блестящей разведывательной операции, погиб полковник Курбатов. Все было закончено — уничтожен особо свирепствующий генерал СС, в хвосте самолета за бочкой запасного авиационного масла угрюмо сопел связанный полковник германского генерального штаба, с которого не спускал глаз молодой чекист.
Самолет шел ночью. До линии фронта осталось с полсотни километров, когда внизу загавкали, захлебываясь, германские зенитки. Один из снарядов разорвался поблизости, прошил дюралевый фюзеляж осколками. У гитлеровца была начисто срезана мочка уха. А Курбатов молча повалился с длинного бокового сиденья на пол. Разорвав гимнастерку, осколок вошел в грудь под самым орденом. Чекист умер, когда его бережно укладывали на носилки на аэродроме. Николай Михайлович хорошо знал Курбатова, хотя они и не были друзьями. Смерть боевого товарища оставила свою заметину в сердце. Сколько их было там, этих заметин!
…Генерал поднял на подполковника усталые от бессонницы глаза, отвечая на приветствие, протянул широкую крепкую ладонь.
Подробный, обстоятельный доклад выслушал молча, время от времени прерывая его лаконичными вопросами. Такими же короткими и исчерпывающими были ответы Борисова. По старой чекистской привычке факты в них четко отделялись от предположений, выводы и заключения — от размышлений.
— Этот оберст, которого Сергей Курбатов приволок, оказался набит сведениями, словно гусь яблоками. Заместитель начальника разведки корпуса. Сразу же расшифровал карту — видно, боится, что мы будем мстить ему за гибель Сергея. В общем, молодчина был Курбатов. Да и ребята, что с ним в операцию летали, орлятами оказались. Особенно радист один — Кривонос. Вот сидишь здесь, работаешь, думаешь, кто сядет в это кресло, когда состаришься? Вроде некому. Ан нет, растут, растут орлята. Прибавить к их храбрости опыт да знания — и можешь, генерал, уходить отсыпаться.
Придется тебе, Николай Михайлович, принять дело, которое не довелось завершить Курбатову.
Дело это важное и тонкое. Понимаешь, кое-какие представители наших американских союзников явно злоупотребляют нашим доверием к ним. Из Архангельска поступают сигналы. Помощник морского атташе Муллард, его люди пытаются получить такие сведения, которые вовсе не нужны им для обеспечения операций по ленд-лизу. Получая вежливый, но твердый отказ от наших властей, они стараются добыть эти сведения нелегально, методами шпионажа.
Надо, соблюдая необходимый такт, внести ясность в деятельность людей генерала Дроува в Архангельске.
Генерал подробно рассказал Борисову о недозволенной нелегальной деятельности Дроува и его людей в крупнейшем северном порту.
— Приказ о передаче тебе архангельского дела уже подписан. На ознакомление с деталями дела по документам даю… — генерал взглянул на часы — было пять утра… — двадцать часов. Завтра в час ноль ноль вылетишь в Архангельск на самолете адмирала… — генерал назвал фамилию крупного морского военачальника.
— Работу на месте координируй с Коробковым (начальник управления НКГБ по области). У него уже есть немало конкретных наметок. Среди них — дело некоего Чурсина. Муллард связался с ним через переводчицу Матунову. Помощником возьмешь с собой лейтенанта Деревянко. Завтра в десять вечера у меня совещание по всему этому делу.
Генерал встал и, с неожиданной энергией пожав руку Борисову, бросил шинель на кожаный диван — пора было кончать рабочий день. Откозыряв, Николай Михайлович отправился в секретариат. Прочитав приказ, расписался, пошел в свой кабинет. Едва открыл дверь, как раздался звонок телефона.
— Докладывает лейтенант Деревянко. Когда прикажете явиться, товарищ подполковник?
…Полковник Коробков встречал Николая Михайловича на аэродроме. Они сразу же отправились в управление. По дороге Коробков ознакомил Борисова с последними событиями. Накопилось очень много фактов нелегальной деятельности американских военных представителей в Архангельске. Среди прочих дел Коробков упомянул о деле Чурсина. Оно близилось к развязке. Чурсин так и не пришел в органы госбезопасности рассказать о своих подозрительных связях с Матуновой. Более того, позавчера он около часа разъезжал в машине по загородному шоссе с Ирэн и Муллардом. Домой вернулся бледный и взволнованный. Выпил залпом два стакана виски — подарок Мулларда — и сразу же лег спать. На работе стал еще более сдержанным. Видимо, акт вербовки состоялся — Муллард вчера устроил попойку с капитаном одного из американских «купцов», прибывших недавно в порт.
В управлении Коробкову и Борисову доложили новые факты. Выслушав доклады, Коробков и Борисов засели за материалы, назначив через три часа совещание старших оперативных работников управления.
Полковник Коробков сделал подробный доклад, обобщив огромный материал, терпеливо, по крохам собранный чекистами. Касаясь дела Чурсина, отметил: этот явно готовит какой-то материал, видимо для Мулларда. Собирает секретные сведения о системе морских военных грузоперевозок, пытается раздобыть карты-лоции архангельского района. Каждый вечер пьет — спиртным его снабжает Матунова.
С обобщающими предложениями выступил подполковник Борисов. Он подчеркнул исключительно щекотливый, тонкий характер операции — Америка не враг, а военный союзник. С Муллардом следует обращаться как с гостем, который забыл, как следует вести себя в порядочном обществе. Но надо положить конец его разведывательной деятельности.
После обмена мнениями был утвержден общий план работы. В отношении Чурсина было решено: если он так и не придет с повинной и попытается передать Мулларду или Матуновой собираемые им сведения, его и Матунову — как советских граждан — задержать и — при наличии вещественных доказательств изменнической деятельности — подвергнуть аресту и суду. Мулларда, пользующегося дипломатическим иммунитетом, задержать нельзя. Но, представив документы, подтверждающие его разведывательную деятельность, можно сразу же поставить вопрос о его немедленном выдворении из страны.
Пафнутий Чурсин так и не узнал, что с того момента, как он процедил сквозь зубы «Согласен» на окончательный вопрос Мулларда, он в буквальном смысле слова держал свою судьбу в своих руках.
«Пойти к чекистам? — думал он, с трудом мысленно произнося это теперь страшное для него слово… — Затаскают по допросам, и вообще доверия потом не жди! Да и что плохого, если я кое-что сделаю этому Малому (так он называл про себя Мулларда). С него небось требуют. Да и Америка нам ведь не враг. Значит, это вовсе и не измена, а помощь союзнику. Наши небось волынят, как всегда. Пока добьешься от них чего — месяцы пройдут. А я тут — в рабочем порядке, мигом… И ему приятно, и мне неплохо… Денег вон сколько отвалили… Продуктами помогает…
Да и неизвестно еще, как война обернется. Немцы все прут, еле их под Москвой остановили. Глядишь, еще нажмут и… того. А американцы выкрутятся… С немцами договорятся. Во всяком случае, немцы их вешать не станут. Будут их суда удирать — возьмут меня. Местечко для одного найдется. Вот и будет все шито-крыто…»
И Пафнутий собирал вечерами «нужных» людей, выспрашивал у них вещи, составлявшие — он это знал — тайну Советского государства, особенно во время войны. За бутылкой водки — виски он пил сам, от гостей прятал (не заподозрили бы) — в пьяном разговоре нет-нет да и подбросит вопрос-другой.
— И где это ты, Панька, столько водки достаешь, однако? — спросил однажды лоцман Терентий Журавлев.
— Нам, таможенникам, бывает перепадает. Нет-нет да и обломится чего. В пределах закона, — солгал он и побледнел. Тревожно скосил глаз на Терентия. Но тот и не слушал вроде ответа — громовым голосом рассказывал, как проводил по Северной Двине последний караван.
Пафнутий не знал, что, видя эти попойки, многие шли к чекистам, подробно рассказывали им все, что знали. Проявляя тонкую сметку да умную догадку, высказывали предположение — может, запутался Панька, не то делает, что надо, не туда гнет. Как бы не достукался до беды.
Чекисты благодарили людей, выполнявших свой долг перед обществом, государством, бойцами, героически сражавшимися на фронтах
Отечественной войны. В ряде случаев чекистам удавалось сделать так, что сведения, поступавшие к Чурсину, не соответствовали действительности. Но некоторые важные оборонные секреты Чурсин все же добыл для Мулларда. Кое-кто из собутыльников Пафнутия оказался не в меру болтливым.
С поличным
Все было на месте, все рассчитано. Завершалась большая, сложная и тонкая работа большого коллектива людей.
Настал решающий этап — предстояло захватить преступников с поличным. Нужно было безошибочно определить момент передачи документов, не упустить его, задержать участников этой преступной операции, оформить надлежащим образом факт нарушения международного права Муллардом.
Дело это было высоко ответственное. Опоздай чекисты, увези Муллард полученный материал — и важные документы могли уйти в мешках дипломатической почты, могли попасть к врагу — ведь среди военных союзников были и германские агенты.
Если бы поторопились чекисты, взяли «ложный старт», захватили бы Чурсина до момента передачи им его шпионской «продукции», соучастие Мулларда и Матуновой в шпионской деятельности Чурсина нельзя было бы доказать. Затронь их так, наобум — посыплются протесты, разразится дипломатический скандал, враги военного союза и сотрудничества ухватятся за инцидент.
Понятно поэтому, что все участники операции — чекисты и их помощники — испытывали те же чувства, которые владеют скрипачом перед концертом, хирургом перед сложной операцией. Все готово, диагноз поставлен, к опасной опухоли проложен путь мимо важнейших органов, которые — не затронь, не прихвати скальпелем. Все готово — осталось несколько решающих движений. И вот волнение проходит, появляется уверенность, привычная способность действовать спокойно, решительно, безошибочно.
Николай Михайлович — в скромном штатском костюме — был на месте решающей схватки — в таможне. Накануне с Чурсиным встретилась Матунова.
— Все готово, — заверил ее Пафнутий, несколько уже привыкший к напряжению и даже расхрабрившийся. — Тебе не дам, тебя захватить могут. А у него — дипломатический паспорт, его не тронут.
Разработали и план передачи — Муллард будет получать на таможне несколько пакетов в коричневой «манильской бумаге». К ним Чурсин подложит и свой, в таком же конверте, который тут же передала ему Ирэн.
И вот на столе в кабинете начальника таможни, где сидел Николай Михайлович, зазвонил телефон. Муллард с Матуновой выехали, судя по всему, в таможню. Выслушав быстрый, четкий доклад, Борисов тут же положил трубку. Почти сразу же раздался новый звонок, потом еще один: да, машина шла в порт, видимо, в таможню.
— Теперь не спускать глаз с Чурсина, — приказал Борисов. — Действовать, как условлено.
В этот час Чурсина лихорадило. Его толстое лоснящееся лицо пылало жаром, руки дрожали, он держал их на столе. Перед ним, неестественно улыбаясь, стоял Муллард. Ирэн следила, как Чурсин считает пакеты в коричневой бумаге.
— Один, два, три, четыре… семь, восемь… — Кладя поверх стопки восьмой пакет, Чурсин выразительно указал на него глазами Мулларду. И тут Муллард сделал ошибку.
— Этот я возьму с собой, — сказал он по-английски, расстегивая портфель и кладя в него верхний пакет из стопки. Чурсин чуть заметно кивнул головой. — А остальные забирайте вы, Ирэн.
— Я думаю, что этот пакет принадлежит не вам, мистер Муллард, — на чистейшем английском языке сказал подполковник Борисов, подходя к Мулларду и спокойно забирая у него портфель.

Громко шлепнулись на пол пакеты из ослабевших рук Ирэн. Она опустилась на какой-то тюк.
— Это ведь наш пакет, — с потрясающим спокойствием продолжал по-русски Борисов. — Правда, Чурсин? — быстро повернулся он к таможеннику, по бокам которого уже стояли двое чекистов…
— Правда, — едва выдавил тот.
— Как это?.. Что?.. — по-русски сдавленным голосом произнес Муллард. — Переведите ему, Ирэн…
— Не надо перевода, мистер Муллард, — иронически продолжал по-английски Борисов. — Мы ведь прекрасно понимаем друг друга.
— Вы хотите меня задержать? — частил Муллард.
Ему уже чудился запах горячего машинного масла и металла на эсминце, тонущем вместе с ним у Окинавы.
Но пока Муллард шел ко дну здесь, в таможне Архангельского порта, у берегов Северной Двины.
К нему было проявлено необходимое почтение. Ему возвратили его пакеты, которые выронила Ирэн, не затрудняли никакими формальностями — ему пришлось лишь подписать акт, зафиксировавший происшедшее. Неестественно улыбаясь, Муллард повторял по-английски: «Это — недоразумение, это — недоразумение».
— Конечно, мистер Муллард, это — недоразумение, — ответил ему Борисов. — Только по недоразумению вы, представитель союзной державы, можете делать то, чем занимаются сейчас агенты врага. Интересно, как отнесутся к этой вашей деятельности в Вашингтоне?
При упоминании о своей столице Муллард сник. Ему была хорошо известна директива президента Рузвельта, запрещавшая шпионаж против Советского Союза. Мрачно поглядывал Муллард на содержимое пакета, так и не отправленного морскому министерству США.
А в пакете были важные агентурные материалы — первый письменный доклад шпиона Чурсина с подробными ответами на вопросы, подготовленные ему Муллардом. К докладу были приложены копии секретных документов. И среди них таблицы промеров глубин всех участков Архангельского порта и подходов к ним, за которыми давно охотился генерал Дроув.
Теперь Муллард окончательно потерял дар речи. Он даже забыл, что пользуется дипломатической неприкосновенностью. Он заискивал перед чекистами. Вел себя как мелкий жулик, которого схватили в тот момент, когда он запустил руку в чужой карман. !
— Ведь мы друзья, союзники, — лепетал он, немного придя в себя.
— Конечно, — ответил Борисов. — Наши страны — Друзья и союзники. Что же касается вас, мистер Муллард, то тут еще надо подумать.
Чурсин напоминал человека, которого хватил апоплексический удар. Когда он обрел наконец дар речи, он так заикался, что ничего нельзя было разобрать. Впрочем, и ему, и тем более чекистам все было понятно без дальнейших слов.
Показания Чурсина вынудили власти вскоре арестовать и Ирэн Матунову. Народный суд Архангельска осудил их обоих, приговорив к длительному тюремному заключению. От расстрела за шпионаж в военное время их спасло лишь то обстоятельство, что они шпионили в пользу «союзника», и у прокурора не было прямых доказательств, что собранные ими сведения попадали в руки немцев, хотя косвенные данные позволяли делать подобные умозаключения.
Через 48 часов после оглашения приговора Муллард был выдворен из Советского Союза. Впоследствии, по настоянию генерала Дроува, его перевели в действующий флот. Он был убит… Где бы вы думали? При взятии Окинавы.
Вслед за провалившимся Муллардом за подобные дела были выдворены из СССР и некоторые другие американские разведчики.
Шли недели и месяцы. Напрягая все силы, советский народ, наносил все новые и новые удары по гитлеровским ордам. Советские войска начали решительно продвигаться вперед, на запад. Всему миру становилось ясно, что советские Вооруженные Силы в состоянии выполнить великую миссию освобождения Европы от гитлеровского рабства в одиночку, без военного вмешательства их союзников на континенте Европы.
Только теперь начали поспешать в вашингтонских штабах. Им не улыбалась перспектива освобождения, скажем, Парижа с Востока, советскими танкистами. Впервые в Вашингтоне начали торопиться.
В книге «Странный союз», написанной в 1946 году с целью убедить американцев в том, что Советский Союз якобы не выполнял свои обязательства в качестве союзника по многим мелким вопросам, бывший руководитель объединенной военной миссии США в Москве генерал-майор Джон Р. Дин тем не менее писал:
«Всегда будут спорить о том, наша ли помощь спасла Россию от поражения».
Возможно, об этом будут спорить. Но бесспорно одно: военный подвиг, огромная военная помощь, оказанная Советским Союзом своим западным партнерам, явились решающим фактором совместной победы над озверелым врагом. Разумеется, свою скромную роль сыграл и яичный порошок, прозванный «стеттиниусом», и — в несколько большей степени — мощные «студебеккеры»: добрым словом поминают их советские солдаты, которым довелось воевать на них.
Уже цитированный нами Дин уверял в своей книге, что, добиваясь проникновения на фронты, в воинские части и на оборонные предприятия, представители непомерно разросшейся в Москве военной миссии хотели лишь установить, «эффективно ли используются» американские поставки по ленд-лизу. Но чем дальше на запад гнали советские Вооруженные Силы гитлеровские полчища, тем меньше, казалось, было оснований у генерала беспокоиться на этот счет.
Но нет, с нарастанием советских побед любопытство американских военных разведчиков не только не ослабевало, а, наоборот, усиливалось. Теперь, видимо, их уже интересовало, как советский народ, при относительно мизерной американской помощи, свершает такой огромный, исторический, небывалой силы воинский и трудовой подвиг. Причем, как правило, их интересовали не столько победы и достижения, сколько слабые стороны, нехватки, недоделки, недоработки, которые, конечно, бывали в то тяжелое, героическое, прекрасное время в жизни советских народов.
С упорством, достойным лучшего применения, на протяжении всей Великой Отечественной войны они продолжали заменять своих провалившихся профессиональных разведчиков новыми столь же незадачливыми кадрами. Но и эти не избегали участи своих предшественников. Умелые действия наших чекистов быстро и надежно пресекали их подрывную деятельность против Советского Союза.
Смерть президента Рузвельта. Победное окончание второй мировой войны. Трумэн начинает «холодную войну» против мира социализма. Американская военная разведка резко расширяет свои усилия по разведыванию военных тайн Советского Союза.
Усиливали свою бдительность и чекисты. Опираясь на помощь рядовых советских людей, они эффективно обезвреживали шпионскую агентуру.
В послевоенные годы за попытки вести шпионскую работу на территории Советского Союза были выдворены из нашей страны сотрудники военного, военно-морского и военно-воздушного атташатов посольства США — генерал-майор Гроу, капитан Дрейер, майор де Толли, капитан Медведев, подполковник Филбин, подполковник Фелчин, майор Маккини, подполковник Бенсон, капитан Строуд, капитан Мюлэ, майор Тенсей, капитан Стоккел и многие, многие другие.
Выдворялись и дипломатические сотрудники посольства, которым не давали покоя «лавры» военных разведчиков. Например, атташе посольства Лэнжелли был задержан во время конспиративной встречи с находившимся в Москве американским агентом, которому он передал инструкцию по шпионской работе, крупную сумму денег и средства тайнописи. Агент был арестован и осужден, шпионские материалы изъяты, а сам Лэнжелли выдворен из СССР. Но это уже тема для другого рассказа.
* * *
Несмотря на многочисленные и шумные провалы в шпионско-разведывательной деятельности и на то, что на протяжении всей войны генерал Дроув передавал в Вашингтон недоброкачественную, лживую информацию о советских военных усилиях и перспективах развития войны, командование «Джи-ту» оценило его рвение. Он был произведен в генерал-лейтенанты.
Сразу же после смерти президента Франклина Рузвельта, в начале 1945 года, еще до окончания войны, генерала Саймона отозвали в США. Фактически он был разжалован до своего старого звания подполковника. Не без усилий добился он назначения начальником небольшого арсенала в мелком городке одного из среднезападных штатов США.
Так американская военная разведка «Джи-ту» отомстила строптивому генералу за то, что, соблюдая кодекс воинской чести и прямое указание своего президента, он отказался заниматься агентурной работой против союзника в войне, за то, что он правильно оценил неисчерпаемые силы советского народа и его вооруженных сил. Рузвельт ценил его суждения, прислушивался к его советам.
Приход к власти в Белом доме Трумэна, отнюдь не заинтересованного в объективной оценке сил и намерений Советского Союза, дал возможность руководителям «Джи-ту» свести старые счеты с Саймоном… Вскоре после окончания войны подполковник Саймон ушел в отставку из армии. С трудом нашел он место преподавателя русского языка и литературы в небольшом колледже в Калифорнии. А горе-разведчик Дроув продолжал успешно продвигаться по иерархической лестнице Пентагона.
СУДЬБА ЧЕКИСТА
Перед рассветом
Брякнула железная дверь. Лязгнул казенный тщательно смазанный замок. Звуки эти как бы отсекали целый этап жизни подполковника Николая Михайловича Борисова, отделяя его от внешнего мира.
Несмотря на весь трагизм положения, Николай Михайлович не мог удержаться от улыбки… Он — чекист, привыкший всем и всегда смотреть прямо в глаза, ходивший по родной земле уверенной походкой, гордый победами над хитрым, коварным, изобретательным врагом, победами, в которых — он знал — были и частицы его ума, знаний, опыта, изобретательной выдумки, терпения и мужественной воли, — он, чекист, оказался в тюрьме.
Черт побери, да уж не сон ли все это? Может быть, это просто скверная шутка, неостроумная затея каких-то незнакомых шутников? Может быть, сейчас откроется захлопнувшаяся дверь и люди, которых он знал, которые долгие годы работали рядом с ним, шумно, со смехом ворвутся в камеру, посмеются вместе с ним и отвезут его домой?
Домой, где ждет его Таня…
Горькая мука, возмущение, гнев застыли в ее потемневших глазах. Сейчас сидит она без сна над мирно посапывающими девчушками, под мягким светом лампы, встречая мутный рассвет.
Она верила ему, гордилась им. И вдруг… Громовой удар. Арест. Обыск. Недоумение, промелькнувшее в глазах жены, сразу же исчезло, сменившись нежностью, уверенностью, доверием, когда он открытым, без страха взглядом ответил на ее немой вопрос. Разумеется, сейчас все выяснится. Иначе быть не может. Окончится наконец это наваждение.
Но нет, дверь крепко заперта. Никто не приходит. Он в тюремной камере. А тюрьма — это тюрьма. Железные двери. Решетки. Суровый режим. Здесь оставляют силы, здоровье, а некоторые — мужество и разум.
Утратить мужество?.. Нет. Нет. Нет. Только не это. Он сохранит мужество. Он сохранит достоинство, честь. Честь чекиста чего-нибудь да стоит, черт побери.
Она распрямляла его в сложных условиях глубоко законспирированной подпольной работы, когда одно необдуманное слово, нерассчитанный жест, неверный шаг могли привести к аресту, расстрелу без следствия и суда. Сколько шагов до смерти было в глубоком тылу фашистской Германии, куда его забросили во время войны? Пожалуй, значительно меньше четырех. Два? Три? Иногда — один шаг. Но работа шла тогда словно песня, на тугой стальной пружине нервов, на точном расчете, на сознании, что ошибаться нельзя, не имеешь права.
И не ради личной безопасности. Что значила она в мире, где ежеминутно гибли женщины, дети, где со «скорбным помертвелым взглядом» падали на землю тысячи бойцов, которым так и не привелось дострелять обойму по врагу.
— Нет, старина, там было, пожалуй, проще, — сказал себе Николай. — Ты видел перед собой врага. Его надо было раскрыть, разгадать, перехитрить, подчинить своей воле, сломить или уничтожить…
А здесь? Кто противостоит тебе? Враги? Нет, конечно. Война окончена, враг разбит, разгромлен. Друзья? Нет, это какой-то кошмар, чертовская неразбериха…
Ну, так как же ты все-таки себя чувствуешь? Боишься? Нет. Негодуешь? Пока еще, собственно, тоже нет. Скорей всего недоумеваешь… Как все-таки получилось такое?..
Спокойно, спокойно, Николай. Только не срывайся. Ты чекист. Ну-ка, разберемся во всем по порядку.
Помнишь, уходя на задание, прощаясь с командованием, друзьями, целуя детишек, обнимая припавшую на миг жену, научившуюся провожать тебя сухими блестевшими глазами, ты знал, что приложишь все силы, способности, энергию, знания, опыт, чтобы образцово, в тончайших деталях, умно и четко выполнить задание, а затем вернуться домой.
Как это великолепно — вернуться, успешно выполнив задание. Нервная настороженность, словно пес зубами державшая тебя все эти дни и часы за затылок, ослабевает, появляется блаженное ощущение покоя. Бодрит, радует, поднимает чудесное сознание выполненного долга, пульсирует радость встречи с друзьями, товарищами по боевому делу, с семьей.
Честное слово, ради этих непередаваемых ощущений стоило выносить и смертельную опасность, и тянущую усталость, и нечеловеческое напряжение. Собственно, уходя на задание, ты уже был готов к тюрьме, пытке, смерти. В конце концов, что такое смерть? Боль, обжигающая, оглушительная, а затем — небытие, точка, конец. И — в последнем мгновении — удовлетворенное сознание: ты сделал все, что мог.
И ведь так, собственно, бывало там, в тылу у врага, и по возвращении домой, после докладов и отчетов командованию, во время сорокавосьмичасового отдыха, после которого — опять «заутра бой»…
А здесь? Кто и в чем тебя обвинил? Провинностей — сознательных, преднамеренных — не было. Как будто не было и ошибок, невольных упущений или промахов. Может быть, мстительный, злобный, коварный сработал враг? Подсунул не очень разборчивым, недалеким людям фальшивку — и вот теперь…
Зачем же тогда волноваться? Все разъяснится. Наладится. Надо надеяться — скоро.
Впрочем, что же это ты? Ты ведь знаешь, что дело тут не в этом? Может быть, потому, что, помнится, до войны вот так же внезапно исчезали чекисты. Их — иногда посмертно — объявляли «врагами народа», хотя никто, собственно, так и не узнавал, отчего и почему они враги и враги ли?
Проще всего подождать. Тебя вызовут, все объяснят. Если это не недоразумение, ты будешь, во всяком случае, знать, с чем предстоит бороться — с ошибкой, ложью, наветом, клеветой? Словом, подождем — увидим. Тем более что при сложившейся ситуации другого выбора, собственно, нет.
Когда первое решение было принято, заработали обычные рефлексы чекиста. Номер камеры — «91» — он запомнил автоматически, пока надзиратель длинным тяжелым ключом открывал дверь.
Теперь — осмотреть камеру. Слева — узкая железная койка, столик. На столике — алюминиевая миска, кружка, ложка. Справа на стене — умывальник. В углу стационарная параша с проточной водой. Много позже Борисов узнал, что в тюремных условиях это была колоссальная роскошь. В других камерах зловонные параши приходилось ежедневно выносить и мыть особым раствором. Высоко, почти под потолком, окно с форточкой — дотянуться можно только до нижней кромки окна с матовым, ребристым стеклом. За открытой форточкой виднелись толстые наружные решетки, затянувшие окно.
Обстановка нехитрая. Ну-ка, посмотрим, как тут можно ходить. От двери до окна — шесть не очень широких шагов. Не так уж плохо.
Сколько же сейчас времени? Кругом глубокая ночь. Машинально Николай Михайлович попытался взглянуть на ручные часы. Но их вместе с ремнем и авторучкой изъяли при личном обыске в тюремной канцелярии, пунктуальнейшим образом оформив квитанцию.
До рассвета ходил Николай по камере. Шесть шагов до окна, шесть — обратно. Не удержался от мысли: сколько же километров придется тебе пройти по этой вот узкой протоптанной бетонной тропке, прежде чем разберутся в твоем «деле»? Километры? Десятки километров? Сотни?
Да и станут ли разбираться? Становилось ясно: задумана широкая провокация. Не против него одного. Против всей семьи.
Несколько дней назад арестовали отца — Михаила Борисова. Старый большевик, он почти полвека отдал партии. В 1902 году вступил в РСДРП. С 1904 года работал с Владимиром Ильичей в Швейцарии, затем по его заданию нелегально вернулся в Россию. Активно участвовал в первой русской революции… Годы подпольной борьбы, полные тяжелых опасностей и боевой революционной романтики… Снова эмиграция. И наконец гром Великой Октябрьской революции. Возвращение на родину. Сложная, тонкая, тяжелая в те времена дипломатическая работа во многих странах мира. Трудная, но интересная, волнующая жизнь.
До мозга костей отец был верным ленинцем. Знал Николай и другое: старого революционера вряд ли могли арестовать без высшей санкции. Значит, Абакумов и его непосредственный шеф Берия докладывали какие-то материалы наверху. Там же была получена и необходимая санкция: Сталин верил им на слово, не требуя убедительных доказательств. Теперь они действуют быстро, решительно, резко. И, как всегда, беспощадно…
На следующий день после ареста мать рассказала Николаю подробности. В тот вечер она ходила с отцом в кино. Смотрели «Реквием» — фильм о Моцарте. В полутемном подъезде дома их ждала группа оперативных работников.
Ритуал ареста был сух и официален. Поднялись в квартиру. Оперативники вели себя по-хамски. Известный подручный Абакумова косноязычный Глинкин — великий мастер на мелкие, но грязные дела — орал на Борисова, словно пьяница в кабаке. У старого заслуженного большевика он требовал «золото и ценности».
Мать показала Николаю оставленную ей копию акта обыска. Николай узнал подписи беспринципных людей, чью работу в органах госбезопасности он, да и не только он, считал позором. Все они были приближенными Абакумова. Горе-министр подбирал свое непосредственное окружение по собственному образу и подобию.
Николай прилег на жесткую койку. Все-таки надо вздремнуть, отвлечься от кошмара, свалившегося на семью, словно горная лавина. Надо собраться, мобилизовать силы для первой встречи со следователем. По закону ему обязаны в течение 48 часов предъявить обвинения.
Может быть, дело не только в отце. Может быть, дело в том, что, веря в невиновность многих чекистов, погибших в конце 30-х годов, он, Николай, принялся изучать в научных фондах библиотек литературу и опубликованные документы о деятельности первых чекистов, отдавших весь жар души, здоровье, молодость, все силы защите молодой республики от ее врагов и павших жертвами — Николай чувствовал это — жестокого произвола, навета, оговора. Свою интуицию он хотел проверить документами. Может быть, это и привлекло к нему недоброе внимание.
За этими размышлениями Николай так и не успел заснуть. С шумом открылось квадратное оконце в двери. Надзиратель громко застучал ключом в дверь. Раздалось басистое: «Подъем!» Николаю — новичку — милостиво объяснил: спать можно только до шести утра. После шести «полагается вставать и бодрствовать». Дремать запрещено даже сидя. Иначе койку уберут из камеры на весь день, до ночи. А тогда не на чем будет сидеть: либо стой, либо садись на холодный шершавый бетонный пол.
Именно потому, что смежить глаза не давали, Николаю нестерпимо захотелось спать. В первый день, проведенный им в тюрьме, он и не подозревал, что именно эта простая человеческая склонность ко сну, физиологическая потребность отдыхать несколько часов в сутки, отключившись от всего, будет безжалостно использоваться здесь как сильнейшее средство давления на его психику. Лишение заключенного нормального сна — грозное оружие в руках бессовестного следователя, сознательно добивающегося ложных показаний.
Николай не знал всего этого по очень простой причине — за годы работы в органах он не имел никакого отношения к следственной работе. Ополоснув лицо холодной водой из-под крана (водопровод в камере — великое благо!), сделал короткую, но энергичную физзарядку. Затем начал «прогулку». Шесть шагов от двери к окну, столько же обратно. Шесть шагов туда, шесть — обратно.
Через час принесли завтрак: пятьсот граммов черного хлеба, кружку морковного чая, два куска сахару (предупредили: хлеб и сахар — на целый день). Все это просунули через квадратное оконце в двери.
После завтрака властно, неумолимо потянуло ко сну. Сидя на койке, Николай задремал. Надзиратель, каждые полминуты заглядывавший в камеру через «волчок», открыв оконце в двери, строго предупредил: «Будете дремать — заберем койку!»
Николай отвернулся к окну, чтобы надзиратель не видел его глаз, и… опять задремал, монотонно отбивая такт ногой по полу. Видимо, не он первый придумал эту наивную хитрость. Оказывается, надзиратель знает все фокусы заключенных, которых лишают сна. Новое предупреждение — еще более грозное.
Николай попробовал дремать на ходу, медленно прогуливаясь по камере. Чуть не упал. Ополоснул лицо водой, пытаясь отогнать дремоту…
К концу первого дня в тюрьме Николай уже был твердо уверен в том, что сон — это высшее жизненное благо. Ради сна он готов был отказаться от пищи. С радостью отдал бы он десять лет жизни за десять минут нормального человеческого сна…
В десять вечера разрешили спать. Заснул мгновенно.
Лицом к лицу
Только на шестнадцатый день Николая вызвали наконец к следователю. Вели по галереям и этажам вдоль бесконечного ряда камер.
Долго шли по зданию тюрьмы. На этажах и переходах, в смежном здании, где размещались кабинеты следователей, Николай ни разу не встретился ни с одним арестованным. Техника предотвращения случайных встреч между заключенными была отработана до тонкостей.
Подследственный выступал по коридорам и переходам словно знатный гость — впереди шествовал один надзиратель, позади — другой. Таким караваном арестованный передвигался к следователю и обратно. Перед каждым поворотом или вблизи лестниц, то есть в наиболее вероятных местах встреч, надзиратели подавали сигналы, громко стуча ключами по металлическим пряжкам поясов или цокая языком.
У каждого поворота, у каждой лестничной площадки стояли вертикальные деревянные ящики размером с тесноватый гроб. В «гробы» заключенных запихивали, пока мимо них двигалась встречная процессия: надзиратель — арестованный — надзиратель. Заключенные — друзья и даже жены и мужья — могли годами жить в нескольких метрах друг от друга и ни разу, даже случайно, не столкнуться в коридорах или на прогулке во дворе, в специально окруженных высокими стенами боксах.
«Что ж, для шпионов, преступников, убийц такая система, видимо, нужна», — подумал Николай.
«Но ведь я не шпион и не убийца».
Идя к следователю, Николай начинал понимать: то, что происходит с ним сейчас, видимо, случилось и с теми, кого вытолкнули из жизни со страшным клеймом «враг народа». И именно это — даже не мучения, не позорная смерть, а клеймо — и было самым ужасным.
— И чтобы не случилось это ужасное, ты, Николай, будешь сражаться за свою честь, свое доброе имя. Ты не должен, не можешь проиграть битву. Это твой долг перед партией…
Конвоиры подвели заключенного к какой-то комнате, открыли дверь. Подполковник Николай Михайлович Борисов вошел в кабинет следователя. Сражение началось.
Следователь, сидевший за письменным столом, даже не взглянул на заключенного. Он что-то писал, часто заглядывая в книгу, прислоненную к пластмассовому чернильному прибору. Книга была раскрыта примерно на середине. Николай узнал учебник французского. Отпустив небрежным кивком головы конвоиров, следователь еще некоторое время что-то писал.
«Спряжения зубрит», — механически отметил Николай.
Выждав, следователь медленно поднял бесцветные глаза.
— Садитесь, Борисов, — важно сказал он, напяливая на лицо некое подобие улыбки. — Сейчас мы вами займемся.
Николай подошел было к одному из двух мягких кресел, стоявших перед столом следователя. Но сесть не успел.

— Ваше постоянное место в моем кабинете, — медленно отчеканил следователь, — будет в том углу. Это, так сказать, наш «красный угол». Для «гостей», — улыбнулся он своей идиотской остроте.
В углу кабинета стоял маленький столик со стулом. Заняв «свое постоянное место», Николай понял, что стол и стул крепко привинчены к полу. Как бы бурно ни проходил допрос, следователи всегда были надежно гарантированы от удара стулом или столом. У подследственных же, как вскоре убедился Николай (к счастью, не на собственном примере), подобных гарантий не было.
Пока следователь, морща узкий лоб, старательно заканчивал домашнее задание, Николай внимательно изучал его лицо. Где-то видел он эту неприятную надменную физиономию, эти бесцветные глаза — они не становились более привлекательными от того, что их обрамляли солидные очки в толстой роговой оправе. Следователь был в полковничьих погонах, из-под расстегнутого кителя виднелась полосатая шелковая сорочка сугубо партикулярного покроя.
В комнате витал легкий аромат дешевых духов или одеколона. В тюрьме, где, как правило, благоухает кислыми щами и карболкой, каждый новый запах фиксируется особенно обостренно.
Окно кабинета было приоткрыто, виднелась решетка. С воли, очевидно с какого-то двора, расположенного поблизости, доносились голоса играющих детей. За эти дни Николай слышал в тюрьме лишь лязг ключей, скрип стальных дверей, стук колес тележки, на которой развозят жидкие щи и кашу. Он отвык от всяких мирных нормальных звуков. Поэтому так приятно было услышать веселые детские голоса, убедиться в том, что в нескольких метрах от этой мрачной комнаты, по ту сторону высокой тюремной стены, кипит простая, хорошая человеческая жизнь.
Да, люди там, на воле, работают, учатся, ходят на собрания, вечером сидят в театрах, любят своих жен, поругивают и ласкают детей, спорят с друзьями. Знают ли, нет, подозревают ли, что за этими тюремными стенами разыгрываются тяжелые трагедии, что объектами и жертвами произвола, беззакония становятся здесь такие же честные люди, как и они сами?
Лишь несколько лет спустя узнал Николай, что в этой цепи трагических «случайностей» была своя система; что шайка авантюристов разработала сложную методику «выдачи на-гора» ложных, фальсифицированных показаний, вымогаемых — иногда выколачиваемых — из ни в чем не повинных, честных советских работников, чтобы доказать Сталину, что он окружен «шпионами» и «заговорщиками» и что только они — Берия, Абакумов и их подручные, а до них Ежов, Меркулов и другие — могут спасти вождя от уничтожения, а страну — от гибели. А ведь эти карьеристы и были подлинными заговорщиками.
Николай знал некоторых из этих напыщенных, заносчивых, но по существу мелких, жадных и эгоистичных людишек.
И они имели наглость орудовать, прикрываясь священным именем народа! «Спасая» Сталина, иезуитски, макиавеллистски играя на его страхах, они по существу докладывали ему именно то, что он хотел от них услышать…
Все это сложилось, ясно и четко, в сознании подполковника Борисова, разумеется, много позже. Тогда, глядя, как шевелит губами туповатый следователь, постигая премудрости французского языка, он начинал ощущать это еще смутно.
Спокойно, даже с какой-то внутренней усмешкой наблюдал Николай сизифовы муки полковника-студента. При всей своей туповатости и, как показали четыре года следствия, явной неспособности глубоко разбираться в людях, в их внутреннем мире, моральных качествах и достоинствах, так же, видимо, как и в слабостях и недостатках, полковник почувствовал эту усмешку. Но, оглядев хмурым, строгим взором подследственного, он продолжал свое занятие, пытаясь заставить Николая потерять терпение, утратить равновесие, сорваться.
Николай знал, что срываться нельзя. Безмятежное, без тени какой-либо глубокой мысли лицо следователя говорило ему о том, что речь идет о весьма серьезных материях. Ему вспомнилось, как погибли хорошие друзья, верные чекисты.
Игорь Кедров. Сын одного из первых чекистов, соратника Феликса Эдмундовича Дзержинского. Профессиональный революционер Михаил Сергеевич Кедров с 1901 года стал членом партии коммунистов. Юрист по образованию, он был, кроме того, еще и доктором медицины. Михаила Кедрова в 1919 году назначили членом коллегии ВЧК.
Трудной, но светлой дорогой отца шел его сын Игорь. С комсомольской работы его направили на работу в особый отдел ОГПУ. За светлый, острый как бритва ум, за талант и сильный характер, за высокую партийную принципиальность любили Игоря и старые, и молодые чекисты. Сын был достоин своего отца.
Некоторые подробности антипартийных, антигосударственных махинаций Берия каким-то образом стали известны Игорю Кедрову.
Принципиальный, стойкий коммунист, разве мог он остановиться перед тем, что Берия — его начальник — втерся в почти неограниченное доверие к Сталину.
В начале 1939 года вместе со своим товарищем по работе Володей Голубевым Игорь обратился туда, куда идут коммунисты с самым важным, с самым главным, когда ищут высшего справедливого и окончательного решения, — в Центральный Комитет партии. Они написали письма Сталину и в КПК Шкирятову. Из секретариата Сталина и лично Шкирятовым письма были переданы Берия…
Игоря Кедрова арестовали и вскоре расстреляли. Его жена Рада Мелихова осталась одна с тремя детьми, с репутацией вдовы «врага народа». Стоило ли жить после этого? Но надо было воспитывать троих детей — детей Игоря. В годы войны Рада ходила мыть полы, делала любую, самую тяжелую работу.
Страшное было не в материальных лишениях, а в том, что из жизни подло, трусливо изгнан человек, в чью чистоту, честность и преданность партии, делу коммунизма Рада верила глубоко, безраздельно. Но для людей, не знавших его так, как знала она, мужественный образ был испоганен, измаран, очернен.
Шли годы. Заявила о себе болезнь — рак. Можно было сделать операцию. Но об этом не думала Рада. Болезнь медленно подтачивала слабеющий, надломленный горем организм
[62].
Артур Христианович Артузов (Фраучи). Талантливый советский разведчик, он был одним из первых руководителей и наставников Николая. Отец Артузова — швейцарский сыровар — приехал в Россию за сорок лет до революции и поступил работать к помещику Лихачеву на его усадьбу в селе Устиново Тверской губернии. Здесь и родился Артур.
В 1903 году семья Артузовых переехала в Новгородскую губернию. Здесь, в Боровичах, отец Артура арендовал имение помещика Аничкова, жившего в то время в Париже. У Артузова было тогда уже шестеро детей. В аничковском имении прятались революционеры, скрывавшиеся от жандармов. Там же хранилось оружие, типографское оборудование. Здесь находили временное убежище М. С. Кедров, будущий член Революционного военного совета Н. И. Подвойский и другие товарищи. Мать Артура, жена М. С. Кедрова и жена Н. И. Подвойского были родными сестрами.
Артур Артузов отличался необыкновенными способностями. Блестяще окончив Новгородскую классическую гимназию, Артур успешно учился в Петербургском политехническом институте. В 1916 году он получил диплом инженера-металлурга, но почти не работал по этой специальности. Богато одаренный от природы, он хорошо рисовал, любил музыку, неплохо пел, в совершенстве знал несколько европейских языков. Он мог стать художником, оперным певцом. Но ему не суждено было пойти по пути искусства. Дружба с Михаилом Сергеевичем Кедровым привела его вскоре после Великой Октябрьской революции 1917 года в стан революции. Революция одержала верх над музами.
В 1917 году М. С. Кедров вызвал Артура в Петроград с Урала, где он работал непродолжительное время на заводе. Под идейным влиянием М. С. Кедрова и Н. И. Подвойского он уже стал человеком, душой и телом преданным делу революции.
В июле 1918 года Артур вступает в Коммунистическую партию. Вместе с М. С. Кедровым он принимает деятельное участие в разгроме английских интервентов в Архангельске, в 1920 году возглавляет сложную контрразведывательную работу на фронте борьбы против белополяков.
Феликс Эдмундович Дзержинский высоко ценил Артузова, который вскоре становится одним из ведущих руководителей советской разведки. Он лично возглавляет многие операции по ликвидации белогвардейских, эсеровских, шпионских и террористических организаций… В 1937 году жизнь Артура Артузова трагически оборвалась.
Прекрасная жизнь революционера и разведчика Артура Христиановича Артузова — тема для большого романа. Но это дело будущего.
Перед тем как казнить Артузова, подручные Берия предъявили ему фантастическое обвинение в том, что он… швейцарский шпион (!). Они требовали, чтобы он выдал им «швейцарскую агентуру», якобы действовавшую на территории СССР.
И Игорь Кедров, и Артузов (они были двоюродными братьями) держались на следствии стойко, как и подобает коммунистам перед лицом врагов. Они наотрез отказались оговаривать кого бы то ни было, клеветать на товарищей. Провокаторы, обманным путем пролезшие в партию и органы безопасности, применили к ним весь арсенал недозволенных методов следствия. Но тщетно! Не добившись от честных чекистов ложных показаний, враги их уничтожили…
Вспоминая этих замечательных коммунистов и многих других чекистов, злодейски умерщвленных Ежовым, Абакумовым и Берия, Николай Борисов, как это ни парадоксально, с нетерпением ждал начала следствия. Он хотел скорее узнать, какие фантастические «обвинения» будут предъявлены ему. Светлые образы его друга Игоря Кедрова и Артура Артузова, стоявшие перед глазами, поддерживали его в эту горькую минуту. Николай решил: сделаю все возможное, чтобы выстоять, выдержать любые провокации врагов партии, как это сделали перед лицом смерти Кедров и Артузов.
Дожидаясь, когда полковнику надоест наконец спрягать французские глаголы, Николай уже не сомневался в том, что его уничтожат — независимо от того, как пойдет его следствие. Но у него ни на секунду не пропадала вера в то, что партия, созданная Лениным, в конце концов разберется с этими провокаторами, не может не разобраться. И сметет их с лица земли. А добрые имена отца и сына Кедровых, Артузовых отца и сына (младшего Артузова тоже репрессировали), отца и сына Борисовых, тысяч других преданных Родине коммунистов будут восстановлены перед родной партией. Их детям не придется стыдиться своих родителей. Их честь останется незапятнанной. Николай не сомневался, что так оно и будет, ибо история неумолима…
«Гражданин следователь»
Закончив наконец готовить уроки, «начальник» в полковничьих погонах поднял голову. Слегка улыбнувшись, как ему казалось тонко и проницательно, он важно произнес:
— Давайте знакомиться, Николай Михайлович. Я полковник Кутинцев Виктор Семенович, ваш следователь. Мне вы можете не представляться. Я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. А главное — знаю о вас больше, чем вы сами.
Взволнованный Николай не понял тогда, каким убедительным саморазоблачением прозвучали эти слова. Это пришло ему в голову после, в камере, когда он обдумывал первую встречу с Кутинцевым.
— Товарищ Кутинцев… — начал было Николай. Но следователь жестко прервал его:
— Я вам не товарищ. Называйте меня «гражданин следователь».
— Это не имеет значения, — ответил Николай, — «гражданин» так «гражданин». Я протестую против незаконного ареста, против нарушения процессуального кодекса. Сегодня шестнадцатый день моего заключения в тюрьму. До сих пор мне не предъявлены какие-либо обвинения. Я требую встречи с прокурором, чтобы лично об этом ему сказать!
— Вы оптимист, Борисов, — с ехидцей заметил Кутинцев. — Столько лет работали в органах, а теперь делаете вид, что не знаете наших порядков! С прокурором я дам вам встречу только после окончания следствия. Да и то, если за это время вы образумитесь и начнете вести себя как следует. Обвинение я предъявлю вам сегодня — опять-таки если будете вести себя хорошо. А насчет нарушения кодекса — можете протестовать хоть до второго пришествия. Пусть вам сам бог помогает. Ха-ха-ха! Так-то, дорогой бывший подполковник органов государственной безопасности…
Разумеется, Николай понимал, что уже до следствия он лишен и своего почетного звания, и правительственных наград. Делалось все, чтобы создать ореол непогрешимости вокруг агентов Берия — уж раз они арестовали человека, значит, он виновен.
Важно, почти торжественно зачитал Кутинцев Николаю Михайловичу формулу обвинения. Внутренне Николай уже подготовился к тому, что оно будет чудовищным. Иначе разве решились бы арестовать его отца, старого революционера, и его самого? Но то, что написали черным по белому наглые провокаторы, превзошло его худшие ожидания.
Чего тут только не было!
Николая обвиняли в том, что, выполняя в годы Великой Отечественной войны боевое задание в глубоком тылу у немцев, он будто бы был завербован немецко-фашистской разведкой и не только не выполнил своего задания, но и передал немцам множество всякой информации о внутреннем положении Советского Союза и деятельности советской разведки.
После окончания войны, говорилось далее в обвинении, состряпанном провокаторами — или глупцами — из следственной части по особо важным делам, Николай, возвратившись на Родину, будто бы продолжал работать — теперь уже на американскую разведку, снабжая ее данными о структуре и методах работы советских органов безопасности. Обвинен в измене Родине!
Кровь прилила к лицу Николая, его душили гнев, возмущение.
Но что это? Следователь продолжает читать. Ошеломленный Николай слышит: его обвиняют в халатном отношении к своим чекистским служебным обязанностям. Как будто мало чудовищного обвинения в измене! Нет, это было еще не все. Оказывается, Николай будто бы знал, что его отец еще в годы дореволюционной политической эмиграции из царской России был завербован американской разведкой и чуть ли не сорок лет работал на нее. Это человек, за которым охотились охранки многих стран до революции и после нее! А его сын-чекист, зная о «шпионской деятельности» злодея отца, палец о палец не ударил, чтобы его разоблачить.
Наконец, поскольку следственная часть по особо важным делам считала, видимо, что изложенных ужасных обвинений недостаточно, чтобы добить чекиста, Николаю предъявлялось также обвинение в том, что, поступая в 1930 году на работу в органы (по комсомольской мобилизации), он прибавил к своему истинному возрасту три года. В обвинении это звучало так: «пробрался на работу в ОГПУ обманным путем».
Из всех «обвинений», перечисленных в заключении, только последнее (прибавил к своему возрасту три года) соответствовало действительности. Это «преступление», впрочем, давно уже
перестало быть «тайной»: в личном деле Николая уже много лет было подшито его собственноручное заявление с объяснением причин, по которым он прибавил себе эти самые три года.
— Признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях? — все с той же ехидной и в то же время радостной улыбкой спросил полковник Кутинцев. Его лицо сияло, как тщательно начищенный сапог.
— Нет, не признаю! Все это — ложь от начала до конца! Глубоко и неумно задуманная провокация против всей нашей семьи! Мой отец — профессиональный революционер, соратник Ленина. Меня он воспитал в духе преданности идеям нашей партии. Да, я занимался разведкой, а не «шпионажем», как об этом сказано в вашем фальшивом заключении. Но я вел разведку против фашистской Германии в глубоком подполье, на территории противника. И уж, конечно, не думал, что найдутся люди, которые столь бесстыдно измыслят фантастические и ложные обвинения против семьи старого большевика. Вы, полковник, отлично знаете, что все это грязная ложь!
— Не советую вам, Борисов, оскорблять меня при исполнении мною служебных обязанностей, — ощерился Кутинцев. Его лицо теперь напоминало голенище, собранное в гармошку.
— По сравнению с теми оскорблениями, которые вы сочли возможным написать и даже подписать, можете считать, что вас похвалили, — отрезал Николай.
— Зря вы себя так ведете, Николай Михайлович, — продолжал урезонивающим тоном Кутинцев. — Мы ведь вас все равно засудим. Ваша судьба, вообще-то говоря, предрешена. Можно было бы попытаться облегчить ее. Но для этого надо, чтобы вы чистосердечно рассказали следствию все подробности о шпионской деятельности вашего отца. И, разумеется, о вашей собственной шпионской работе. Только на этих условиях вы можете надеяться, что мы сохраним вам жизнь.
— Все, что я намеревался сказать, вы уже слышали, — ответил спокойно Николай. — Участником трагикомедии по состряпанному вами сценарию быть не собираюсь.
— Предупреждаю вас, Борисов, — начал выходить из себя Кутинцев, — с нами шутки шутить в вашем положении — наихудшая из всех возможных позиций.
— Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал.
— А почему вы, между прочим, подбирали в библиотеках материалы, литературу о так называемой революционной деятельности осужденных врагов народа? Разве для вас недостаточно того, что их осудили? Вы что, сомневаетесь в их виновности? Может быть, именно поэтому вы встречались с женой врага народа Кедрова Мелиховой?
«Вот в чем дело», — подумал Николай. Спокойно, с внутренней убежденностью ответил:
— Я не знаю и никто из других друзей Игоря не знает, в чем он был обвинен. Но я никогда не поверю, что он был предателем. Может быть, это интуиция. Но ведь она, вероятно, есть и у вас. Я не знаю, какие у вас приказы. Но думаю, что ваша интуиция должна была бы подсказать вам, что я не виновен.
— Чем больше будете упорствовать, тем больше мы вам «пришьем», — вконец разозлившись, заорал Кутинцев. — Мы заставим вас заговорить! И не таких умников обламывали! Ступайте в камеру, обдумайте все и помните: в ваших интересах подтвердить конкретными фактами все, что записано в обвинении. Иначе вам на этом свете не жить. Все!
Кутинцев остервенело ткнул пальцем в кнопку звонка. Почти мгновенно появились двое здоровенных конвоиров. Со всеми предосторожностями, исключающими какие-либо встречи в коридорах, они отвели Николая обратно в камеру.
Поединок
Потянулось «следствие». День уходил за днем. Месяц за месяцем. Кутинцев применил почти «всю катушку» принуждения. Николая не избивали. Но он не раз слыхал, как били арестованных в соседних кабинетах. Крики, стоны выводили Николая из равновесия. Ему стоило нечеловеческих усилий не броситься на помощь избиваемым. Но он знал, что ему не прорваться до соседнего кабинета: в коридоре стояли дюжие конвойные.
Кутинцев, видимо, был опытным, матерым провокатором. Добиваясь с воловьим упорством нужного ему результата, он часто «спускал» Николая раздетого, в одном нижнем белье, в карцеры-боксы, в которых можно было только стоять. Температура в боксе не поднималась выше нуля.
Выстаивая долгие часы в пронизывающем до костей холоде, Николай старался не думать о следствии, об участи, которая может постичь его. Он, например, вспоминал «Евгения Онегина» — в последний раз читал его в школьные годы… «Мой дядя самых честных правил»… Но мысль невольно снова переходила на Кутинцева. Да, действительно, это «дядя» «самых честных правил». Наверно, когда-то тоже был пионером, потом комсомольцем. Вступал в партию. Клялся в верности делу коммунизма. Неужели настолько верит он в виновность Николая, что спокойно отправляет его в этот мерзлый каменный мешок? Но ведь должна же шевельнуться в нем хотя бы маленькая, хотя бы крошечная мысль, мысленка, мыслишка: а вдруг он, Борисов, и в самом деле не виноват? Вдруг он и вправду не шпион, не изменник, а честный, преданный коммунист? Как же могу я, Кутинцев, оскорблять его, унижать, грозить ему смертью?
Нет, думал Николай, скорее всего ему такие мысли в голову не приходят. Просто он слепо верит в то, что ему говорят. И так же слепо делает своими толстыми с рыжими волосками руками ужасное, отвратительное, преступное дело. Ужасное и преступное потому, что этими вот руками, улыбаясь, иногда чуть ли не заискивающими глазами глядя в широко раскрытые потемневшие глаза Николая, заплетает он вокруг его горла петлю, чтобы затянуть ее смертной удавкой. Кутинцеву не терпится, он хочет поскорей покончить с Николаем, чтобы приняться за другого. Потому и торопит, уговаривает, чуть не умоляет «сознаться», то есть наговорить на себя.
Ему, Кутинцеву, непонятно, почему тянет, «канителит» Николай. Ведь по его, Кутинцева, мнению, было бы и ему, Николаю, «лучше» быстрее покончить со всем этим.
Исполненный горечи, презрения к подлому делу, которое сплетали вокруг него провокаторы, Николай, собственно, иногда был даже готов гневно бросить свою жизнь в морду этим тупым животным. Но нет, не так, как они хотели бы. Не согласившись с их чудовищной оскорбительной выдумкой. Он мог расстаться с правом дышать, любоваться природой, но он не может отдать им свою честь, свою гордость коммуниста. Он не отдаст свою Татьяну, не обречет ее на горе, позор, нравственные муки, преждевременную старость, нищету. Он не отдаст своих детей, своих дочурок с их теплым детским дыханием, с их мягкими ручонками. Он не отдаст провокаторам отца — боевого орла с суровым, как сама правда, взором, не отдаст матери, вот так же, согнувшись, высиживавшей часами долгие ночи в годы, когда каждый день ждали появления жандармов, полицейских, ареста, оскорблений, мук, смерти. Пока дышу, пока есть силы, пока есть разум, пока работает мозг — не сдамся. Чекисты не сдаются.
После карцера Кутинцев, считавший себя «тонким психологом», был с ним спокоен, даже «мягок». Он пытался его урезонивать: вот, дескать, причиняет человек хлопоты и себе, и другим. Тянется впустую время, идут на ветер государственные средства.
— Ведь вы же, Борисов, были когда-то коммунистом, понимаете, что надо экономить, беречь и то, и другое. Сознайтесь — и дело с концом.
— Коммунистом я буду до конца своих дней, да и после того, как они окончатся, — побледнев, тихо, усилием воли сдерживая подступивший к горлу взрыв, проговорил Николай. — А вот вы, гражданин следователь, подумали бы о том, какой коммунист вы и коммунист ли?
В первый раз за время «следствия» Кутинцев не сумел ему ответить. С его выкормленного лица медленно сползла розовая краска, глаза расширились. Видимо, до сознания этого робота начало что-то доходить.
И Кутинцев дрогнул. Он поспешно отправил Николая обратно в камеру. В тот же день по его приказу заключенному возобновили выдачу табака, которого он был лишен уже неделю за «строптивость».
Впрочем, это было сделано не потому, что Кутинцев понял всю подлость своего поведения. На следующий день табаку уже не принесли — вчерашняя «милость» была лишь утонченным садизмом — человеку, почти отвыкшему от табака и начавшему исцеляться от привычки к курению, напоминали вкус желанного зелья. В следующий раз, при возобновлении табачных выдач, Николай расходовал эту драгоценность расчетливее, растягивая подольше.
Тогда еще Николай не знал, что о ходе следствия Кутинцев часто докладывал одному из ближайших помощников Абакумова. Дико бранясь, тот устраивал следователю разнос, требовал ускорения темпов следствия. В такие дни Кутинцев встречал ослабевшего, исхудавшего Николая взором, полным «благородного» негодования. В этом взоре можно было прочесть возмущение тем, что Николай не капитулирует, подводит следователя, лишая его заслуженных им, по его мнению, наград и поощрений. Допрос шел на «резкой ноте». Но странно, чем больше нервничал Кутинцев, тем спокойней, хладнокровней становился Николай — он чувствовал, что провокация осекается, захлебывается, что если и была у Кутинцева какая-то уверенность в справедливости выдвинутых им обвинений, то теперь она теряется, покрывается трещинами, размывается, оставляя следователя подвешенным в тумане зарождавшихся сомнений.
Но это его состояние Николай скорее угадывал по нервному жесту, нетвердости тона, паузам. Кутинцев старался не обнаружить своего состояния перед Николаем. Наконец, всякое проявление внутренней неуверенности он быстро топил в нарочитой деловитости. И прежде всего — в усиленных попытках сломить Николая режимом.
Провокация захлебывается
Почти год держал следователь Николая в одиночке. Почти год он вызывал его только на ночные допросы. Мариновал до утра, отпускал с таким расчетом, чтобы на сон оставалось не более получаса — часа в сутки. Голодный паек (самый голодный из всех, какие были в тюрьме), невозможность поспать хотя бы несколько часов кряду, отсутствие простого человеческого общения, табака, книг, долгие мучительные ночи в ледяных карцерах, где приходилось стоять, — все это подкашивало силы Николая. Но следователю нужно было убить его еще и духовно. Добиться такого состояния, при котором Николай был бы готов подписать любые ложные показания за элементарную награду — возможность поспать, покурить, подержать в руках книгу, посидеть в тепле.
Тщательно, планомерно пытался Кутинцев запугать теряющего физические силы Николая. Называя действительные факты жизни Борисовых — отца и сына, Кутинцев давал этим фактам превратное толкование, домысливая свои лживые подробности к ним и требовал письменного подтверждения этих домыслов, чтобы доказать наличие в лице Борисовых ни больше ни меньше как «семейной резидентуры» иностранной разведки.
Выхватывая из обширного личного дела Николая отдельные эпизоды его разведывательной работы в фашистской Германии во время войны, Кутинцев переворачивал их с ног на голову. Однажды в Берлине Николаю удалось втянуть в компрометирующую ситуацию офицера военной фашистской разведки. Сравнительно дешево он подкупил его и в конце концов добился от него обязательства работать на Советский Союз.
Каждому понятно, что это была крайне рискованная операция. Провал грозил Николаю либо немедленным расстрелом, либо смертью от топора фашистского палача. Всю волю, всю силу глубокого убеждения в правоте своего дела, в грядущей победе Советского Союза в войне вложил Николай в эту операцию. Ему удалось сломить сперва сопротивление, а затем страхи, колебания, сомнения офицера. Офицер доставал ценнейшие сведения, которые Николай немедленно передавал домой, на Большую землю. Среди них были предварительные данные о немецко-фашистской агентуре, забрасываемой на территорию Советского Союза для шпионско-диверсионной деятельности. Агентов обезвреживали, едва только они вступали на советскую землю. За эту операцию Николай был награжден боевым орденом Красного Знамени.
В личном деле Николая операция по привлечению к разведработе офицера Г. была подробно описана, документирована. Тем не менее, вопреки хорошо известным фактам, следователь целый месяц пытался заставить Николая признаться в том, что не он завербовал немецкого офицера, а, наоборот, офицер завербовал его.
Силы Николая иссякали. Многие месяцы без нормального сна, постоянный холод, голод подтачивали его. Николаю казалось, что он живет в каком-то холодном, липком, сером тумане. Руки и ноги становились ватными. Он с трудом передвигался, с трудом говорил. Но сознание было ясным. Больше всего Николай боялся, что настанет момент, когда ему станет все равно. Все свои духовные силы напрягал он, чтобы выдержать поединок с бессовестным мучителем, по какому-то страшному недоразумению носившим форму советского полковника.
Во время битвы вокруг эпизода с вербовкой офицера Г. на все вопросы Кутинцева Николай отвечал:
— Все факты точно изложены в моем личном деле. То, что вы пытаетесь приписать мне, — чистейшая ложь! И вы это отлично знаете.
С какой бы стороны ни заходил Кутинцев, Николай держался стойко. Не действовали никакие угрозы и уговоры, никакие карцеры.
В ходе «следствия» Кутинцев часто перескакивал с одного обвинения на другое, ища маленькой трещины, лазейки в объяснениях Николая.
— Расскажите подробности о шпионской деятельности вашего отца. Это смягчит вашу собственную участь. Вам нечего упорствовать, Борисов. Отец уже рассказал нам все сам на следствии, — уговаривал Кутинцев.
— Во-первых, я вам не верю, — отвечал Николай. — А во-вторых, раз он «сам все рассказал», то чего же вы хотите от меня?
— Мы хотим проверить вашу искренность и уточнить некоторые детали. Что вы рассказывали отцу о работе нашей разведки для дальнейшей передачи американцам?
— Какой вы, в сущности, негодяй, Кутинцев, — не выдержал Николай. — Как у вас поворачивается язык обвинять в шпионаже старого большевика? Если бы такие люди, как он и сотни других профессиональных революционеров, не подготовили победу революции в нашей стране, вы бы сейчас, в лучшем случае, пасли свиней в своей деревне, вместо того чтобы, получив высшее юридическое образование, спрягать французские глаголы, готовясь либо к сдаче кандидатского минимума, либо к поездке за границу.
За этот ответ Кутинцев — в который раз! — снова «спустил» Николая в холодный карцер.
Однажды Николай попросил следователя разрешить ему получить из дома теплые лыжные брюки. Если об этом сказать жене, она передаст их для него в тюрьму. Долго не соглашался Кутинцев, но наконец смилостивился. Николаю принесли и сдали под расписку миниатюрные лыжные брюки… его жены.
Это был страшный удар. Николай понял: подобную ошибку мог допустить кто угодно, только не его Татьяна. Значит, она не дома! Неужели провокаторы арестовали и ее? Кутинцев весь год уверял его в том, что жена и обе дочери здоровы, живут дома. Значит, и это ложь! А с кем же дети! Младшей не исполнилось и двух лет, когда арестовали Николая. Старшей было семь. Где они? С кем? Что с ними? Если жена в тюрьме, то как она переносит этот тяжелый даже для здорового человека режим? Ведь у нее гипертония. Обожая детей, она болезненно оберегала их благополучие. Во время войны они уже потеряли старшую дочь — она погибла от тяжелой болезни в эвакуации… Человек редких душевных качеств, волевая женщина, Татьяна могла и не выдержать испытаний, обрушившихся на нее в тюрьме. Не надломится ли ее психика, рассудок?
Николай захватил лыжные брюки жены на очередную встречу со следователем. Показав их Кутинцеву, он потребовал объяснения. Впервые за год с лишним «знакомства» с этим неприятным типом он увидел, как Кутинцев смутился и густо покраснел.
На все вопросы Николая следователь, не глядя ему в глаза, отвечал, что произошло недоразумение. Жены не было дома, врал он, когда приехали из тюрьмы за брюками. Сестра жены по ошибке отдала не те.
Следователь жалко и бесстыдно лгал. Николай видел это, и его тревога усиливалась.
Николай знал много случаев, когда вслед за мужьями арестовывали и жен. Следователи надеялись на то, что будет легче запугать жен, чем мужей, чтобы потом запутать обоих. А министр Абакумов имел склонность вызывать на допрос арестованных жен заключенных, как правило, глубокой ночью и в нецензурных выражениях расписывать вымышленные любовные похождения их мужей. Расчет был прост: возмущенная мнимой неверностью мужа жена могла подписать любые ложные показания против него, просто для того, чтобы «отомстить». Кроме омерзения, эти ночные допросы на высоком «министерском» уровне, как правило, не вызывали у жен никаких чувств. Но Абакумову, при его скудном интеллектуальном уровне, казалось, что он ведет допрос особо тонкими, сугубо «психологическими» методами…
Камера 101
Прошел год. 365 дней. 8760 часов. Но интенсивность следствия явно слабела. Кутинцев, видимо, понял, что сломить волю Николая ему не удастся. Николай не подписал ни одного из заранее подготовленных протоколов.
Тогда следователь решил применить другую тактику. Разрешили табак и книги. Перевели в более теплую камеру. На ужин кроме ежедневного селедочного супа начали выдавать еще и по миске постной каши.
Николай набросился на книги и жадно глотал их. Так путник, измученный жаждой в пустыне, найдя оазис, захлебывается водой. Белинский, Герцен, Чернышевский, Пушкин, Горький. Николай дважды перечитал полное собрание сочинений «неистового Виссариона», трижды «Былое и думы» Герцена, по многу раз перечитывал всего Горького. Многое, конечно, уже было прочитано в юности. Но разве так читалось теперь, как в молодости, на воле? Богатство мысли революционеров и классиков прошлого переосмысливалось совсем по-другому. В их замечательных творениях Николай черпал силы для продолжения борьбы. Разрешив читать, Кутинцев не контролировал, какие книги получал узник. Тюремный библиотекарь оказался порядочным человеком: хотя разговоры с заключенными категорически запрещались служащим тюрьмы, библиотекарь вскоре начал доставлять книги по устному заказу Николая. Приносил их больше, чем разрешалось, — вместо двух-трех в неделю давал десять — пятнадцать. Книги стали для Николая подлинным праздником.
Но главное — окончилось одиночное заключение. Теперь он был вместе с Павлом Кузьминым, одним из руководящих партийных работников Ленинграда, арестованным по дутому и фальшивому «ленинградскому делу». Как и Николай, Кузьмин долго сидел в одиночке, как и он, изголодался по живому человеческому общению. Это был веселый, жизнерадостный человек. Ни жесточайший режим следствия, ни издевательства следователя не могли лишить его душевного равновесия, оптимизма.
— Еще бы одного коммуниста нам сюда. Можно было бы создать свою партгруппу, — говорил он полушутя, полусерьезно. — Партгруппу камеры № 101.
Третий коммунист не заставил себя ждать. Однажды в камеру привели Михаила Иванова. Коммунист, главный инженер главка одного из министерств РСФСР, он был плох — ослаб, упал духом. Издевательства следователя довели его до состояния почти полной прострации. Только забота, дружеская поддержка Борисова и Кузьмина спасли его от неминуемой гибели. Иванова подкормили. А главное — товарищеской поддержкой, душевными беседами привели в состояние психического равновесия. Общее несчастье сблизило, сплотило этих коммунистов.
Подолгу рассказывали они друг другу о своих женах, детях, о жизненном пути, о работе в комсомоле, партии.
— Мы должны всегда помнить, — говорил Павел Кузьмин, — мы коммунисты. Мы имеем дело с опасными провокаторами, пробравшимися в партию. Наш долг перед партией — не поддаваться на провокации, не оговаривать ни себя, ни товарищей, не подписывать фальшивых протоколов. Только так мы можем помочь партии разобраться с этими провокаторами, до конца разоблачить их. Я не думаю, что им удастся долго обманывать Центральный Комитет.
Кузьмин стал душой «парторганизации № 101», как товарищи стали себя называть. У человека оказался истинный, глубокий талант к партийной работе. Даже здесь, в сложных условиях, Павел сумел сцементировать коллектив, подбодрить товарищей, вселить в них веру в то, что партия справедлива и прозорлива. Крепко полюбили его Борисов и Иванов за непоколебимый жизнеутверждающий оптимизм.
Теперь вечерами в камере было почти уютно. Иванов дремал — надзиратели смотрели на это сквозь пальцы, видимо, тоже по приказу. Борисов и Кузьмин, сидя на койке, играли в шахматы: 2760 партий за то время, пока они были вместе.
— Ты говоришь, старые коммунисты, — негромко говорил Кузьмин. — Почему на них упал молот репрессий? Эти люди, брат, революцию делали. Для них нынешнее руководство — это еще не истина в последней инстанции. Они с Лениным работали. А Ленин — это кристальный источник веры. Читал его? Мысль какая! Ясная, чистая, что горный ручей. А как он был правдив, как откровенен с партией, с народом.
Для старых коммунистов партия — родной дом. Судьбы социализма, коммунизма — самое дорогое в жизни. Видят они, не так что-то делается — сейчас же в ЦК. А то и Сталину писали. Если их царь да жандармы не остановили, разве кто-то может их запугать?
У них огромный революционный опыт. С вершины этого опыта выступали они с советами, критиковали ошибки, упущения. Ну а эти, — Кузьмин кивал головой в сторону надзирателей, — ему, видать, шептали: ты вождь, а они что? Старье! Авторитет твой подрывают…
Лишь несколько лет спустя, в дни исторического XX съезда партии, стала ясна вся картина событий тех лет.
Наклеивая старым коммунистам ярлык «врага народа», их пытались изолировать от народа, оторвать от этой священной почвы, придававшей им силу. Подобный ярлык исключал возможность обсуждения их точки зрения — ведь с врагами не дискутируют, их бьют. И уж если «докатывались» старые коммунисты до такого падения, выходило: действительно, прав Сталин, ломая им хребты.
«Измены» старых коммунистов таким образом подтверждали «прозорливость» Сталина, «доказывали» «непогрешимость» его «предвидения» и, естественно, усиливали власть бериевской клики. Эта клика медленно прибирала к рукам человека, стоявшего во главе партии и государства. Окружая его ореолом непогрешимости, препятствовала постановке в высших органах партии насущных вопросов социалистического развития.
После XX съезда партии Николаю стало ясно, что в «случайности» его ареста была своя система. Берия нужны были жертвы. Ему было, конечно, известно, что многие чекисты начинали сознавать опасность, создаваемую для дела социализма, коммунистического строительства бериевской кликой. Они видели, что Берия пытается создать аппарат, преданный лично ему. О, у него были далеко идущие планы, у этого грязного, льстивого человека. Он мечтал о тех днях, когда «смена поколений» предоставит ему «золотой шанс». Деспотичный князек по натуре, невежественный, грубый и властолюбивый, он считал себя ничем не хуже Сталина. Он рассчитывал унаследовать его личную власть, поставить себя над партией, навязать ей свое руководство.
Несмотря на вредоносную деятельность Берия и его подручных, работа по ликвидации, обезвреживанию вражеских лазутчиков продолжалась. Подавляющее большинство чекистов — честные коммунисты, беззаветно преданные партии, Родине, делу коммунизма, — не жалели сил и часто жизни, вкладывая в доверенное им дело весь свой ум, талант, глубокие знания, творческие — поистине творческие — усилия и добиваясь серьезных успехов в защите интересов государства.
Николай знал, сколько героических дел совершили тысячи чекистов в мирное время и во время войны, охраняя безопасность советской Отчизны, мирный труд ее людей! Не случайно в народе высокое звание чекиста стало синонимом беззаветной преданности делу революции, отваги в борьбе с врагом.
Тем горше было от сознания: видимо отдельные звенья этого аппарата использовались кликой Берия — Абакумова — Меркулова для раскрытия несуществующих «заговоров», измышления несуществующих преступлений. Зарабатывая на этих, по существу провокационных, операциях, дутый, липовый авторитет, они в то же время посягали на высокий авторитет государства — ведь друзья, товарищи по работе «врагов», «разоблаченных» ими, знали, что в них нет ничего «вражеского». Массовый характер таких искусственно вызванных репрессий, порождая сомнения в справедливости Советского государства, наносил ему большой ущерб.
Что касается самих овеянных революционной славой органов ЧК, то простое устранение из них честных коммунистов считалось недостаточным. На их трагическом примере враги партии считали нужным «научить» остальных: преодолеть сомнения одних, запугать других, привлечь к себе третьих. Они смотрели вперед, эти авантюристы, — им надо было устранить надолго, навсегда свидетелей их преступлений. И они отнимали жизнь у ни в чем не повинных людей. Они хотели наглядно продемонстрировать, что каждый чекист, который попытается преградить им путь, будет уничтожен, как Игорь Кедров, — быстро и беспощадно. Многие замечательные советские разведчики и контрразведчики сложили головы в этой неравной борьбе с врагами партии и Советского государства.
Николай и раньше слышал обрывки таких историй, кровавых и трагичных. Но он, разумеется, не знал тогда, как не знали честные чекисты — а их было подавляющее большинство, — о всей грязной кухне, на которой — пока безнаказанно — вершили свои черные дела враги партии.
А пока — с ходом следствия — разрасталось, укреплялось убеждение Николая в том, что он столкнулся с чем-то огромным, сильным, чудовищным. Может быть, все это провокация врага? Ведь его коварство не знает предела — не раз развертывал враг такие чудовищные провокации, что сознание неискушенного человека не могло разгадать их, распознать их подлинный тайный смысл. Ведь истребление руководящих кадров Советской Армии во главе с талантливыми полководцами Михаилом Тухачевским, Якиром, Блюхером и многими другими было результатом чудовищной провокации, разработанной и осуществленной германской военной разведкой. Агенты фашистской разведки открыто бахвалились тем, что, подсунув Сталину — через Бенеша — фальшивые «доказательства» «виновности» военных, они добились истребления многих сот кадровых советских командиров, имевших боевой опыт гражданской войны. Когда он находился за рубежом, на опасной подпольной работе, до него доходили слухи об этой провокации. Но Николай не верил им. Чудовищной провокацией он считал не истребление красных командиров, а именно слухи о том, что их гибель — результат маневра врага. Как и большинство советских людей того времени, Николай верил в непогрешимость Сталина, считал, что он наделен сверхчеловеческой прозорливостью, ограждающей его и страну от ошибок и коварных диверсий врага. Да, контрразведка противника могла затеять сложную провокацию.
«Не может быть, чтобы провокация удалась», — думал Николай. Партии — он это знал — удавалось распутать истории и посложнее той, которая могла быть сплетена вокруг него. Правда должна победить!
Лишь несколько месяцев спустя поняли следователи свою ошибку. Стойко вели себя на допросах Борисов, Кузьмин, Иванов. Три коммуниста, крепко, дружески поддерживавшие друг друга, — это большая сила. Перед этой силой оказались бессильными провокаторы.
Кузьмина и Иванова убрали из камеры 101. Дальнейшую их судьбу Николай узнал значительно позже.
Есть счастье в битве
Все реже вызывал Кутинцев на допрос Николая. Теперь, во время их все более редких встреч, Николай чувствовал в поведении следователя растерянность. По инерции следователь еще задавал провокационные вопросы, но уже явно не надеясь на успех задуманной провокации.
Николай видел: подавлен, расстроен его следователь. Похудел. Часами высиживает на допросе, не задавая ни одного вопроса, тупо уставившись в пространство. Неужели ему уже ясно, что его подследственный ни в чем не виновен? Когда Николай обращался к нему с каким-нибудь вопросом, Кутинцев вздрагивал и, не отвечая, отсылал его в камеру.
Интуитивно Николай чувствовал: тяготит следователя отнюдь не проблема его успехов во французском — язык он окончательно забросил уже давно. Нет, дело тут явно не в этом. Что-то происходит там, на воле. Какие-то серьезные события в стране выбивают Кутинцева из привычной колеи, лишают покоя, заставляют — не впервой ли? — о чем-то размышлять. Видать, нелегки эти раздумья — не одна жизнь, наверное, на совести этого робота, если, конечно, у него еще осталась совесть.
Глядя на своего, теперь уже побежденного противника, Николай радовался. Выдержал. Не сдался. Не сломили. А ведь мог дрогнуть, упасть на колени, начать просить, умолять. И погибнуть — опозоренный, оплеванный, оскорбленный, униженный. Да, Николай, ты выполнил свой долг коммуниста-чекиста. Чекисты не сдаются. Сдаются их враги.
И тут же, туманными клубами, поднималась в душе тревога. Где Таня? Что с ней? Как она? Дети? Живы ли? Здоровы? Разумеется, ему — не осужденному преступнику, а только «подозреваемому» — не разрешали узнать об этом, чтобы усугубить, усилить, сделать невыносимой моральную пытку. Признаться, недобрыми, ох недобрыми глазами глядел в ту пору на Кутинцева Николай, хотя и знал: дело не только и не столько в нем. Это пешка, слепое нерассуждающее орудие. Впрочем, теперь в автомате зарождалось какое-то подобие мысли, какие-то чувства. Чувства ли? Скорее — страх за свою выхоленную, горячо обожаемую и тщательно ухоженную шкуру.
Радостные предчувствия волновали Николая, когда вечером сидел он в своей камере. Более вежливыми стали конвоиры, хотя они и не говорили ему, что умер Сталин, что в стране повеяло первыми запахами весны.
Сталин… Часто думал о нем Николай в эти четыре года. Сперва как о человеке, на которого — высшая, последняя надежда. Он все знает! Он не допустит жестокой несправедливости! Он разберется, поставит все на место. Но шли месяцы, годы, а ничего не становилось на место в горькой жизни Николая. И надежда сменялась упреком. Как можешь ты допустить, чтобы творилось твоим именем такое? Нет, партия и Сталин — это не одно и то же. Партия, как и народ, вечна. Партия — это самое чистое, самое лучшее, что накопило за века своей истории человечество. Как боятся нашей партии враги прогресса, враги человечества, видя, как на небывалые подвиги идут люди волей партии, во имя партии, ради ее победы, ради торжества огромной, захватывающей дух идеи счастья всего человечества. Партия строга. Партия требовательна. Но она не жестока и не бездушна. Она карает виновных и ограждает неповинных.
А может быть, все-таки так нужно? — подумал однажды Николай. Может быть, правы те, кто считает, что лучше пусть погибнут десятки неповинных, чем уйдет от ответственности, от заслуженной кары один виновный?
Как же быть? Наказывать невиновных, чтобы не ушли от кары виноватые? Или отпускать виноватых, чтобы не наказать безвинных?
Ни то, и ни другое, заключил Николай после долгих раздумий.
Нужно, чтобы не ушел от ответа ни один виновный. И чтобы не пострадал ни один неповинный. Только так может думать, так решать эту проблему наша партия.
Трудно? Да. А разве не трудно было отцам делать революцию? Отстаивать ее от душителей-белогвардейцев, Черчилля, его Антанты, японцев и американцев, пришедших было на землю Революции наводить мечом свои гнусные порядки. А разве не трудно было сотням, тысячам таких же, как ты, слугам народа, солдатам партии выполнять свой долг, погибать в застенках белогвардейских контрразведок, замертво падать в боях? Они смогли. Смог и ты — скромно, честно выполнять задания, работать вместе со своими друзьями-чекистами. Смог устоять в поединке с провокацией. Значит, сможешь ты, значит, смогут все делать так, чтобы всегда царила в мире Справедливость.
Предчувствуя близкую свободу, Николай часто заглядывал себе в душу. Как будешь теперь? Уйдешь в глубокую нору личных переживаний? Отдашься чувству обиды — чувству, собственно говоря, не очень несправедливому? Отойдешь в сторонку?
Ни в коем случае! Скорей в ряды партии! К друзьям, хотя, отгороженные от него высоким тюремным забором, и не могли они прийти на помощь ему. Нет, не было в Николае обиды. Была стальная, туго заведенная пружина. Вперед! Только вперед! Есть счастье в битве. Есть счастье в победе. Помнишь, что ответил Маркс на анкету?
— Ваше представление о счастье?
— Борьба!
Здесь, в тюрьме, ты боролся, здесь ты победил — ведь провокаторы — это враги едва ли не более опасные, чем агентура империализма. А победа над врагом — высшее счастье для человека.
Свобода пришла сразу. Во второй половине дня Николая «доставили» к новому заместителю министра государственной безопасности. Это был давний знакомый Николая по чекистской работе. Николай сидел в кресле в солидном приятном кабинете, с наслаждением вдыхая запахи дома, где работал не один десяток лет. Заместитель министра говорил с ним мягко и просто, не как с заключенным, а как с прошлым — и будущим — товарищем по работе.
— По указанию Центрального Комитета все дела на арестованных — осужденных и подследственных — пересматриваются.
Вот она, родная мать — партия. Вот ее сильная, строгая и нежная материнская рука. Дошла. Убрала, отбросила с дороги провокаторов, авантюристов, врагов. Подняла, поддержала своих сынов.
Николай не знал, что ответить заместителю министра — ведь формально он был еще заключенным. Был ли он еще «гражданином» или уже товарищем? Огромные чувства нахлынули на него, подхватили, понесли. Худой, истощенный, с распухшими суставами, он радовался не только за себя, не своей личной свободе. Нет, он радовался победе над злом, торжеству справедливости.
— Спасибо, — негромко, хрипло твердил он.
Заместитель министра понимал состояние Николая. Но он не мог скрыть от него тяжелой вести.
— Ваш отец скончался в тюрьме три месяца назад. Кровоизлияние в мозг. До конца остался он таким, как был, — коммунистом-революционером, не знающим страха.
В кабинете воцарилась тишина. Николай молчал. Заместитель министра понимал: не нужно никаких слов.
Потом он сказал, что уже послано срочное распоряжение вернуть из ссылки жену. Она здорова. Как будто здоровы и дети…
Все-таки судьба оказалась и жестокой и милостивой к нему. В конце концов все наладится. Только не распуститься. Не уронить себя в своих же глазах.
Начальнику тюрьмы было приказано освободить Николая засветло. На московские улицы уже опускались сумерки. Четыре года, 1460 дней, 35 040 часов не казались теперь Николаю такими долгими, такими бесконечными, как эти десятки минут.
Не так-то просто, оказывается, вернуть человеку волю. Нужно выполнить формальности. Суетливо возвращали Николаю его деньги — несколько десятков рублей, часы, ручку, ремень — все, что было отобрано четыре года назад. Торопились, едва не сбивая друг друга с ног, — приказ есть приказ.
Тяжелый полиартрит бросил Николая на костыли, утяжелил распухшие суставы. Прикосновение к ним вызывало острую режущую боль. Но он не ощущал сейчас боли.
Как и в день ареста, подполковник пребывал в состоянии полушока. Медленно заводил он часы, прислушивался к их тиканью: все это время они стояли. Открыл ручку, попробовал писать — чернила давно высохли. А работники тюрьмы торопили, нервно поглядывая за окно на почти стемневшее небо…
На этом, собственно, можно было бы и закончить рассказ о судьбе чекиста. Но читателя, естественно, интересует судьба остальных участников этой истории.
Кутинцеву действительно пришлось выступать на новых судебных процессах. Два раза. Первый раз бывший полковник давал свидетельские показания на суде над Абакумовым и его бандой в Ленинграде. Он уже заканчивал выступление, когда в зале появился Павел Кузьмин — исхудавший, почти черный от загара, но энергичный и подвижный. Руководитель партийной организации камеры 101 только что прибыл из Магадана. В суд пришел прямо с вокзала. Попросил слова в качестве внеочередного свидетеля. Долго, подробно, в деталях рассказывал суду о преступной деятельности Кутинцева.
— На скамье подсудимых ему сидеть, а не свидетелем выступать, — закончил свое гневное правдивое слово Кузьмин.
Тут же, в зале суда, Кутинцев был взят под стражу. В следующий, последний раз он выступал уже перед судом — ответчиком. Суд приговорил исключенного из партии соучастника преступников-провокаторов к 15 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.
Как мы уже видели, Павел Кузьмин выдержал все испытания следствия, режимной тюрьмы и лагерного заключения. Полностью реабилитированный в 1954 году, он вернулся на партийную работу.
Михаил Иванов, изолированный от своих товарищей, окончательно надломился. Он не вынес изощренных издевательств, лишился рассудка и скончался в тюрьме, так и не дождавшись реабилитации.
Четыре месяца лечения и отдыха на чудесном Рижском взморье вернули боеспособность Николаю Михайловичу. И вот полковник государственной безопасности Борисов сидит уже в своем старом кабинете строгого здания на улице Дзержинского.
Волей партии ему — в составе широкой комиссии — поручено было срочно пересмотреть дела чекистов, обвиненных их бывшим руководством в различных государственных преступлениях.
А таких дел было множество.
Многие, очень многие погибли. На Борисова смотрели с фотографии люди, которых уже не было в живых. Но партия властно требовала восстановить добрые имена сынов революции. И Борисов готовил для Центрального Комитета партии подробные справки, проекты выводов и заключений. Тяжелая, очень тяжелая работа. Но она поручена ему партией. И он выполнит ее до конца.
А впереди — новая и сложная работа по обезвреживанию опасного противника. Невидимые бои продолжались.
МИССИЯ УОТСОНА
Доброе утро
Профессор Корнелий Савельевич Михайлов проснулся очень рано: он ощущал легкое недомогание. Болеть он привык сидя. Поэтому, как это часто бывало в подобных случаях, он осторожно, стараясь не разбудить Софи, встал, натянул на пижаму халат и прошел в свой заваленный книгами кабинет.
Усевшись здесь в холодноватое кожаное кресло, профессор заново переживал события вчерашнего дня. А события эти были небывалого, прямо-таки эпохального значения. Ракетная система, в создании которой участвовал институт, возглавляемый Корнелием Савельевичем, великолепно взлетела, последовательно сбросила — в точно назначенные моменты — выработавшие топливо ступени, прошла ровно столько, сколько ей было положено — а положено было немало, — и приводнилась точно в рассчитанном районе, приведя в состояние крайнего смятения офицеров многочисленных наблюдательных судов американского военно-морского флота, «случайно» оказавшихся в этом районе, несмотря на публичное предупреждение ТАСС, а точнее, именно благодаря этому предупреждению.
Наблюдательные суда — из них так и выпирало плохо замаскированное военное происхождение — с риском угодить под последнюю ступень ракеты и порадовать тихоокеанских акул новым разнообразным меню, лезли прямо-таки на рожон в надежде поймать хотя бы осколок корпуса, чтобы узнать хоть что-нибудь о советском ракетостроении, вымахнувшем теперь далеко вперед.
С волнением вспоминал об этом профессор. А в спальне Софи, жена профессора, еще мерно дышала вздернутым, обильно намазанным заморским кремом носиком. Носик этот, собственно, и был главной причиной, по которой два года назад профессор, замордованный пятилетним вдовством, непривычно, студенчески заикаясь и краснея, предложил неизвестно как появившейся в его непосредственной близости Софье Матвеевне руку и сердце. И то и другое мало интересовало высококвалифицированную даму. Но она знала, что рука и сердце принесут ей также прекрасную квартиру, машину и солидный счет в сберегательной кассе, точных размеров которого бессребреник Михайлов даже не знал. Значительно лучше была осведомлена на этот счет его будущая супруга.
Софья Матвеевна согласилась с неприличной поспешностью. Она цепко ухватилась за предложение, и уже через пять минут все пути к отступлению — если бы он догадался отступить — были для профессора отрезаны.
Весь следующий день квартира профессора напоминала не то эвакопункт, не то таможню, не то Сухаревский рынок времен нэпа. Всюду стояли потрепанные, но с отчетливыми иноземными наклейками чемоданы, разваливающиеся от дряхлости шляпные картонки, чехлы, накидки, чехольчики.
Когда все это было водворено в просторной профессорской квартире и распихано по углам и чуланам, Софи исчезла и часа через два приволокла откуда-то в большой коробке огромного и необыкновенно наглого сибирского кота. Увидев нахальное четвероногое, Корнелий Савельевич решительно воспротивился: он терпеть не мог кошек. Кот (Софи представила его — «Адольф») не только не получил постоянной прописки, но был выселен из квартиры.
Почувствовав решительную волю профессора, Софи сделала надлежащие выводы. Сдружилась с престарелой домоправительницей Корнелия Савельевича — Анной Ефимовной, настороженно встретившей новую хозяйку в доме. Ефимовна была родственницей профессора — настолько дальней, что ни она сама, ни Корнелий Савельевич не могли припомнить точно степени их родства. Выжить из дома безобидную старушку значило бы рисковать серьезным ухудшением отношений с мужем. А заручившись ее симпатиями, Софи могла добиться по меньшей мере ее нейтралитета в семейных делах. Кроме того, предельно трудолюбивая Анна Ефимовна освобождала Софи от массы домашних забот.
Закрепив свои позиции, Софи уже без опасений принялась лакомиться новым положением. Отдав с утра все необходимые распоряжения «душечке» Анне Ефимовне, она отправлялась к одиннадцати часам в комиссионные магазины. К середине дня, в зависимости от исхода закупочной миссии, она либо принимала, либо не принимала у себя спекулянток, перепродающих заграничное барахло. Спекулянтки знали, что могут рассчитывать на солидный бизнес, если достанут модные вещи. Главное было — не попадаться на глаза профессору.
На людях Софи вела себя умно. Всегда называла мужа за глаза «профессор». Говорила о нем с восторгом и уважением. Держалась изящно, не флиртовала с молодыми кандидатами наук, всем своим поведением показывая, что она «выше этого». Словом, она казалась красивым обрамлением большого таланта заслуженного, трудолюбивого человека.
Обо всем этом думал профессор, когда, вновь
пережив события вчерашнего дня, он собирался идти бриться. В кабинет вошла Софи. Чмокнув мужа в висок, она села на диван, изящно скрестив красивые ноги в дорогих нейлоновых чулках.
— К Смолинским сегодня не поедем? Очень просила она вчера. Три раза звонила…
— Не думаю, что это мне удастся. Возможно, придется слетать кое-куда на недельку.
Зная обыкновение мужа никому не говорить, куда он выезжает, Софи тем не менее поморщилась.
— Но ведь ты не совсем здоров. Неужели нельзя отменить поездку?
— Я говорил вчера с врачом. Ничего страшного нет. Там, на месте, я даже отдохну немного.
— Что ж, соберу чемодан. Когда на аэродром?
— Думаю, в три часа. Пока еще неизвестно точно.
— Хорошо. Встречу с Аллой (известная в Москве специалистка по самым модным прическам) перенесу на завтра. Ты, надеюсь, позвонишь, когда у тебя все выяснится?
— Разумеется, — весело ответил профессор, вставая и целуя подставленный ему лоб.
Завтрак подходил к концу, когда раздался звонок — пришел шофер профессора Константин Сергеевич. Это был скромный молодой человек с мягкой застенчивой улыбкой, ловкий и сильный. По утрам он всегда поднимался в квартиру, а затем провожал профессора до машины. Привозя домой, ехал с ним в лифте до дверей его квартиры. Вежливый и предупредительный, но без тени услужливости, он часто носил за профессором его тяжелый портфель или чемоданчик. А когда однажды у подъезда какой-то пьяный верзила схватил кротко улыбавшегося профессора за отворот пальто и, дыша в лицо водочным перегаром, пробормотал: «Ну, интеллигенция, подавай-ка на пол-литра», Константин резким рывком перебросил пьяного хулигана через себя и тот только через четверть часа смог начать долгие и запутанные объяснения с милиционером, всегда дежурившим поблизости от дома.
— Хотите чаю, Константин Сергеевич? — проворковала Софи. Она давно уже поглядывала на шофера-интеллигента, особенно после того, как увидела в его руках томик стихов.
— Спасибо, Софья Матвеевна, — улыбаясь, ответил шофер. — Только что из дому. Сыт.
…Мягко щелкнул лифт, увозя профессора и его верного спутника.
И в это время в кабинете профессора раздался телефонный звонок.
— Сафо? — зарокотал в трубке томный, хрипловатый голос немолодого, но кокетливого грешника.
— Да? — недовольно отозвалась женщина. — Что тебе?
— Хочу повидаться с тобой, Сафо, — настойчиво тянул голос. — Приезжай…
— Не болтай глупости…
— Адольф скучает. Орет с утра до вечера. Лежит целыми днями на твоей старой шали. Не ест.
В трубке раздалось басистое мяуканье: судя по всему, кота пребольно дернули за хвост. Губы Софьи Матвеевны дрогнули.
— Бедненький… — протянула она. — Ну, ладно. Мой сегодня уезжает на несколько дней. Приду. Вечером. Сегодня. Привезу печеночки.
— В семь часов, — властно рокотала телефонная трубка. — Буду ждать…
Уотсон едет в Москву
Начальник отдела Р-2 Центрального разведывательного управления США Бутч Стаймастер медленно прохаживался по своему кабинету, ведя последнюю напутственную беседу с выезжавшим на работу в СССР Стивом Уотсоном.
Сидя в широком кресле перед письменным столом, Уотсон внимательно слушал шефа.
— Вам будет трудно, Стив. Чертовски трудно! Ваша работа в Германии до войны и во Франции — после нее — была детской игрушкой по сравнению с этим заданием. Германские и французские контрразведчики в подметки не годятся русским. У советской контрразведки слишком много добровольных помощников. Их нельзя купить, как покупали вы контрразведчиков в Берлине и Париже. Эти люди не продаются.
— Ну это мы еще посмотрим, — ухмыльнулся Уотсон.
— Нет, Стив. Уезжая в Россию, следует прятать самоуверенность в задний карман брюк. У русских странное отношение к деньгам. Можно подумать, что они живут на другой планете.
Стаймастер размахивал рукой. Тонкий синий дым его сигары выписывал в воздухе затейливые узоры.
— Все будет о’кей, шеф, — ответил с улыбкой Уотсон. — Ваши советы — раз, мой опыт — два, немного удачи — три. До сих пор мне везло. Думаю, что все это убережет меня от провала.
— Будем надеяться, Стив. Прикрытие у вас отличное, — продолжал Стаймастер. — «Сан геральд» слывет либеральной газетой. Как ее корреспондент, вы сможете, не вызывая подозрений, встречаться с массой людей, особенно с советскими журналистами. Главное — заводить побольше знакомств. Чем больше связей, тем труднее будет им найти ваших людей.
— О, это элементарно, сэр.
— Корреспонденции в газету присылайте умеренные. Упоминайте о яслях, детских садах, заботе о престарелых, бесплатном медицинском обслуживании, бассейнах для плавания и прочей ерунде. Русские любят такие темы. Разумеется, не увлекайтесь. Иногда «Сан геральд» будет даже печатать ваши корреспонденции. Это укрепит вашу репутацию. Чаще, конечно, печатать не будут. Тогда вы сможете в частных беседах жаловаться, что «цензура денежных тузов» не дает вам возможности рассказывать рядовым американцам «правду о советской жизни».
— Все ясно, сэр. Я буду левее «Уоркера».
— Только не перебарщивайте, Стив. Соблюдайте чувство меры. Русские не дураки. Знает бог, не дураки. У них удивительный нюх, шестое чувство на нашу агентуру и вообще на наших людей. Помните об этом! Главное — не разбрасывайтесь, не увлекайтесь мелочами.
— О нет, сэр.
— Вы не заурядный работник, Стив. Мы не требуем от вас обычной информации. Национальный совет безопасности ждет от нас и от ЮСИС резкой активизации психологической войны. В военном отношении нам трудно догнать русских и их союзников. Слишком понадеялись мы на наших «трофейных» ученых-ракетчиков. А все эти фон Брауны и другие фоны даже под давлением Гитлера и Гиммлера и то не смогли ничего сделать вовремя… Ракеты — вот наша ахиллесова пята…
— Но я думал, что охота за секретами ракет не будет моей главной задачей, — забеспокоился Уотсон.
— Вы правильно думаете, Стив, — продолжал Стаймастер. — Этим будут заниматься другие. Главное поле вашей деятельности — идеология. Исход глобальной борьбы решит сознание людей. Чьи идеи окажутся сильней, тот и победит. Конфликт между двумя мирами будет решаться в умах людей, а не на военном или экономическом поле боя. Пока что мы теряем психологическую инициативу. Наша единственная надежда теперь — подорвать Советский Союз изнутри. Чтобы усилить психологическую войну, надо срочно выявить все слабые стороны и упущения в идеологической деятельности Советов. Найти все щели и лазейки. Наша пропаганда должна влезть в эти щели, смутить умы, подорвать веру советских людей в свои силы, посеять сомнения в правильности и жизненной силе их идей. Наконец, она должна всеми возможными средствами прививать интерес к частному предпринимательству, свободной конкуренции, словом, к капитализму. И тут нам придется, разумеется, прибегать к известной идеологической косметике.
— Пока что у них неплохо получается без частного предпринимательства, особенно с ракетами, — бестактно перебил шефа Уотсон.
— Это каприз судьбы, счастливая находка, — отрезал Стаймастер. — Ваше дело найти лазейки и щели для нашей пропаганды, — продолжал он. — Нам нужно знать, что думают советские люди, как они относятся к тому, что происходит в нашей стране. Посольство с этим делом не справляется. Работают из рук вон плохо. После наших многочисленных провалов русские стали очень сдержанными, настороженными. Наши дипломаты не могут подсказывать Информационной службе ничего полезного. Эмигранты времен второй мировой войны уже выдохлись. Они безнадежно отстали от советской действительности.
— Задача ясна, шеф. Приложу все усилия.
— Этот тип по кличке Купец, которого мы передаем вам на связь, сможет вам помочь. Думаю, что он станет вашим основным источником. Через него вы сможете найти ему подобных, хотя их становится все меньше. Передал нам его Гелен вместе с другими германскими агентами. До войны очень эффективно работал на немцев. Во время войны ускользнул от них, очевидно струсил, и эти растяпы не смогли установить с ним связь. Видимо, только это и спасло его от чекистов. По нашим данным, один из германских корреспондентов в Москве пытается сейчас сблизиться с ним. Гелен, видимо, хочет забрать его обратно, поставив нас перед свершившимся фактом…
Вообще, Стив, вам надо иметь в виду, что боннская разведка, ползавшая у нас в ногах после войны, сейчас проявляет все больше самостоятельности. Восстанавливают старую агентуру, пытаются заводить новую. Больше того, эти наглецы начинают уже работать против нас. Пока мы смотрим на это сквозь пальцы — пусть порезвятся. Но наступит день, когда нам придется возиться с ними всерьез. Да, с этим Купцом немцев надо обойти. Купец наш, душой и телом. Вы покажете это ему на месте.
— Будет сделано, шеф, — ответил Уотсон. — Купец был продан нам, завернут в пакет и доставлен. Бизнес есть бизнес.
— Купец может оказаться полезен не только в вопросах идеологии. Изучите его возможности. Но не увлекайтесь, Стив. Главное — психологическая война. Митчелл даст вам пароль для связи с Купцом. Остальное зависит от вас. Изучите наши досье на американских корреспондентов в Москве. Может быть, кто-нибудь из них сможет вам помочь на месте.
— Все ясно. Будьте здоровы, шеф.
— До свидания. Проявляйте осторожность, Стив. Помните: Москва — это не Париж и не Берлин. Не вплетайте новые лавры в венок нашего противника. Их и без того не мало.
* * *
Три дня спустя в одном из крупных городов Среднего Запада Стив подписал контракт с газетой «Сан геральд» и получил корреспондентские документы. В Нью-Йорке попрощался с женой, — она побледнела, узнав, что он летит в Москву. А еще через пару дней Уотсон фланировал по Елисейским полям в Париже. Он любил Париж — кому не нравится этот замечательный город! Широкие бульвары. Узкие переулки. Монпарнас, холмы Монмартра. Базар художников у подножья храма Сакре Кер, — по вечерам здесь играет духовой оркестр пожарных в позолоченных касках.
Вечер перед отлетом в Москву Стив провел в кабаре «Голубая нота». Хозяин кабаре двухметровый толстяк Стэн был его старым другом. Стэн — бывший офицер-интендант американской армии — осел после войны в Париже, наладил широкую спекуляцию американскими сигаретами и консервами (поговаривали — и наркотиками). Сколотив деньгу, женился на черноокой одесситке и открыл свое уютное ночное предприятие. Всю ночь, не переставая, играли в нем по очереди два оркестра — лирический французский и американский «Какофония». Стэну и его помощнице жене ночной клуб приносил немалый доход.
— Не завидую тебе, Стив, — сказал на прощание хозяин «Голубой ноты», покачивая головой. — Ехать с твоей профессией в Москву по меньшей мере безрассудно.
— А я завидую, — меланхолично заметила одесситка. — Подумать только: через несколько дней он сможет, если захочет, пройтись по Дерибасовской. Ах, Одесса…
Стив «вживается»
Перелет из Парижа в Москву на ТУ-104 занял три с половиной часа. Над Брюсселем миловидная стюардесса с загнутыми кверху ресницами, в изящной синей форме начала разносить пассажирам завтрак. Рюмка армянского коньяка и превосходная зернистая икра привели несколько нервничавшего Уотсона в хорошее настроение. Завтрак почти закончился над Копенгагеном. Кофе, тоже с коньяком, пили уже над Ригой. Минут через сорок ТУ-104 начал плавно снижаться, бесшумно выпустил массивные колеса шасси и мягко сел на бетонную дорожку Шереметьевского аэродрома.
Великолепный самолет, приятная стюардесса, вкусный завтрак — такими были первые впечатления Уотсона о «советском образе жизни». «Да, — размышлял он с некоторой внутренней тревогой, — теперь русские не те, какими я знал их прежде».
Через час Уотсон зарегистрировался в гостинице «Метрополь». Горничная провела его в номер, проверила свет в ванной комнате, ушла, отказавшись от предложенных чаевых.
Уотсон открыл широкое окно. Москва… Взметнула в небо бронзовые гривы квадрига Большого театра. На большой площади высится памятник Карлу Марксу. «Да, закрутил дела старик», — подумал Уотсон, глядя на величественный монумент.
Огромный город, неизвестный и чужой. Что принесет он ему: успех, деньги или поражение и, может быть, тюрьму?
К работе в России Уотсон готовился долго и обстоятельно. Еще до войны окончил русское отделение Лондонской школы славянских языков. Школа по заслугам считалась лучше той, что имеется при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Но только теперь, через много лет после второй мировой войны, Уотсон впервые попал в Советский Союз. Язык он и теперь еще знал неплохо. Кое-какую практику дала его работа с белогвардейцами в Париже и в Берлине. В Москве он решил до поры до времени скрывать свое знание русского языка. Это, пожалуй, облегчит маскировку.
Началась бурная светская жизнь. По установившемуся обычаю появление нового человека в колонии иностранных журналистов отмечалось серией официальных приемов и неофициальных попоек. Официальные начинались в какой-нибудь семейной квартире. За виски с содовой и сухим мартини (джин с вермутом) Уотсон знакомился с корреспондентами, их женами и приятельницами. Приемы завершались в более узком составе далеко за полночь, в каком-либо холостяцком апартаменте бурной попойкой, переходящей в нечто весьма напоминающее оргию.
Иногда во время таких попоек куда-то исчезали то чей-нибудь муж, то чья-либо жена. «Осиротевший» супруг звонил во все концы города, к коллегам и к дипломатам, разыскивая заблудшую овцу. «Овца», как правило, объявлялась под утро, с серым, измятым лицом, хмурая и молчаливая. Иногда это вызывало бурные сцены, с шумными объяснениями, истеричными воплями и даже потасовками. Чаще все обходилось — дух взаимного прощения покрывал все.
Уже в первую неделю Уотсон попал под «опеку» известной контрразведчицы Алис Портер. Эта некогда немало страдавшая, а ныне просто спившаяся женщина держалась на своей последней — она это знала — работе секретаря корреспондента тем, что одновременно имела семь любовников в большой иностранной журналистской колонии. Ее задачей было следить за политическими настроениями «подопечных» и докладывать о них представителю американской тайной полиции — ФБР, работавшему «под крышей» в посольстве в звании второго секретаря.
Когда-то привлекательная, а ныне изможденная, полуистеричная женщина много пила и даже попала однажды в вытрезвитель.
Зная, что изображать из себя влюбленную было бы смехотворно, Алис действовала напролом. Изрядно выпив, но еще не потеряв равновесия, она нагрянула однажды вечером к Уотсону домой, почти не одетая, лихорадочно возбужденная — под явным воздействием какого-то наркотика.
Поморщившись, Стив решил было побыстрее избавиться от нее. Но Алис, войдя в комнату, плюхнулась в кресло.
Разговор был цинично откровенным. Алис дала понять Стиву, что знает о его принадлежности к ЦРУ. Ну, а она — контрразведчица. Если Стив отвергнет ее дружбу, она вынуждена будет сообщить об этом. Возникнут подозрения. Если не отвергнет и к тому же окажется не таким уж скупердяем — ей надо не много, полдюжины бутылок виски в месяц, это стоит всего лишь около пятнадцати долларов, — все будет шито-крыто. Ее боссы начнут получать положительные доклады. Стив будет избавлен от многих хлопот и даже неприятностей.
— Ну, так как же? Я думаю, вам не стоит пренебрегать мною…
Стив был опытным разведчиком. Он знал повадки своей контрразведки. И он не пренебрег. После этого дела его в иностранной колонии пошли совсем гладко. Теперь его наперебой приглашали к себе уже не только корреспонденты, но и дипломаты. От многоопытной и хорошо осведомленной Алис он узнавал всю подноготную своих коллег по колонии. После четвертого стакана джина Алис, ощутив нечто вроде привязанности к Уотсону, начинала бормотать:
— Конечно, разумеется, ты прав. Я грязная, спившаяся свинья. Я с тобой согласна.
Уотсон, терпеливо слушавший обычно ее бормотание, начал вслух протестовать против такого самобичевания. Но про себя полностью соглашался с этими жесткими формулировками.
— Нет, нет, не притворяйся, — пьяным голосом бубнила Алис. — Но когда-то я была человеком…
Она начинала хохотать резким ломающимся смехом — от него становилось жутковато.
Вытирая платком распухший нос, Алис отпивала из стакана, пока он не пустел.
— А они? — громко, почти крича, продолжала она. — Они что собой представляют? Жена одного дипломата мне руку не подала на приеме в прошлом году. Знаю, мол, какая ты! А сама? Живет с пасынком пятнадцатилетним, сидит с ним в своей стране, к мужу глаз не кажет. А муж утешается с молоденьким атташе. Все знают, как он умолял министра включить этого выродка в состав посольства.
Эти сведения были очень полезны для Стива. Он использовал их впоследствии в своей работе против дипломатов союзных его стране государств. Выражая притворное удивление, он побуждал Алис рассказывать ему все новые истории, грязные, порой чудовищные. У Стива они не вызывали отвращения и даже забавляли его: он привык копаться в гнойных язвах…
— А этот корреспондент (Алис назвала крупное иностранное телеграфное агентство)! Заманил сюда на лето взрослую дочь — с ее матерью он давно уже развелся, — изнасиловал ее и год не выпускал отсюда. Сейчас собирает ее со своим сыном-внуком в Лондон, там этого несчастного сдадут в частный приют — денег у него хватит. Красавица была девушка, спортсменка, умница…
Его помощник живет — из скупости — с уродливой старушкой, представляющей французскую реакционную газетку. Никак не может она забыть, что была когда-то женщиной.
Некоторые подстегивают себя морфием или кокаином — одного пришлось даже отправить домой, где он и сошел с ума.
Алис умолкла, глаза ее расширились, она уставилась в одну точку. Молчал и Уотсон. «Хороша контрразведчица, — думал он. — Эта кончит самоубийством, если, конечно, не умрет от пьянства».
— Слушай, Стив, — зашелестел вдруг хриплый, прерывающийся шепот женщины. — А что лучше — пуля или яд? От яда мучаются очень. А пулей — больно. Я так боюсь боли…
— Не надо, Алис, — решительно запротестовал Стив («Нанюхается кокаина, проторчит здесь сутки, одурелая. Это мне — ни к чему»).
— Ну, тогда налей. — Протянула стакан, жадно глядела, как льется золотистая струя виски из пузатой бутылки «Ват-69». Выпила залпом, не закусывая.
Виски и джина в колонии было много — десятками ящиков доставляли из Копенгагена на самолетах в посольство. Продавали своим без акцизного сбора, позволяя экономить по пяти долларов на кварте. Спиться или споить кого-нибудь было не трудно.
Так, собственно, и получалось с иными из тех немногих знающих и даже талантливых людей, которые, разобравшись в советской действительности, начинали посылать в свои газеты правдивые интересные корреспонденции. Часть таких корреспонденции поначалу даже прорывалась на страницы газет. Сразу же вмешивался — тайно, негласно — государственный департамент, и через некоторое время газета отзывала корреспондента. Нередко он терял при этом работу в редакции. Хорошо еще, если удавалось устроиться в какое-либо рекламное агентство.
С одним из журналистов был скандал. Напившись на вечеринке, он принялся кричать:
— Кто мы? Шлюхи мы газетные, вот кто! Продажные шкуры!..
Но такие держались недолго. Закреплялись на этой работе — до первого провала — другие, те, кто умел заводить знакомства с сомнительными людьми — фарцовщиками, полубитниками и заурядными распутницами.
За бутылку виски с яркой этикеткой, за старые, дырявые, но цветастые носки, потертые нейлоновые рубашки и — пуще всего — узенькие техасские брючки с яркой, в ладонь фирменной этикеткой на седалище они скупали слухи, сплетни, плоские анекдоты с запашком. Иногда, словно крупный лещ среди мелких окуней, попадались в этом улове и ценная разведывательная информация или намек на нее. Тогда начинали усиленно «разрабатывать» людей, через которых удалось получить сведения, стараясь добраться до драгоценного источника.
Обобщив опыт «утилизации» этих подонков, пресмыкающихся перед долларом, ЦРУ поручило своим агентам в Москве использовать их и для распространения антисоветских анекдотов и слухов. Когда вся эта дрянь, словно волны по грязной луже, распространялась, ее подхватывали, передавали в американскую прессу, выдавая за «творчество» «русских авторов».
Были в Москве и известные, серьезные американские журналисты. Некоторые работали здесь долгие годы, их уважали, приветливо принимали. Такие, зная, что за гуси эти уотсоны, не сближались с ними, не желая компрометировать и себя, и свои редакции.
Коса и камень
Изучая обстановку, Уотсон довольно быстро разобрался в некоторых особенностях деятельности своих коллег.
В иностранной колонии — дипломатической и журналистской — торговали все и всем — от жевательной резинки, магнитофонов и поношенных костюмов до валюты. В дипломатическом багаже за границу часто вывозилось немало ценностей, скупленных на деньги, добытые самой вульгарной, часто мелкой, спекуляцией. Вывозили и новые русские рубли — на черных биржах Женевы, Парижа и Лондона иностранные разведки скупали их за большие деньги. Ими снабжали агентов, забрасываемых в Советский Союз нелегально, «по-черному».
Не торопясь, стараясь не обнаружить себя, начал Уотсон свой разведывательный шпионский поиск. Завязывал как можно больше знакомств, пытаясь установить прочные связи с советскими журналистами. Искал прежде всего людей, падких до даровой выпивки, скудной дешевой закуски.
Первое время, знакомясь, Уотсон держался настороженно.
И только в том, не частом, случае, когда собутыльник поддавался на крохотные, незаметные для неопытного глаза провокации, раскатисто хохотал, услыхав скабрезный политический анекдот (обычно Уотсон начинал издалека — с американских анекдотов, незаметно переходя на «русские», вывезенные из архивов ЦРУ), марающий советскую действительность. Проверив таким образом человека, начинал действовать мягко, осторожно, изобретательно. Высказав несколько сочувственных и, разумеется, совершенно неискренних суждений о советских людях, он заговаривал о том, что вот, дескать, трудятся они, но далеко не всегда получают то, чего заслуживают. Жилье, правда, сейчас строится вовсю. А одежда? Обувь? Ракеты делают, а костюм вон сколько стоит. Кстати, он, Уотсон, может при случае продать костюмчик. Шерсть с дакроном — износу нет. Недорого.
Если собеседник был умный и честный человек — на этом знакомство обычно заканчивалось. Однажды Уотсон едва не схлопотал по физиономии от одного горячего грузина. Но если захмелевший собутыльник кивал головой, поддакивал или даже просто поддерживал эту тему, не давая отпора, Уотсон заканчивал обычно просьбой помочь ему написать обзор высказываний советской прессы.
— Секретаря, знаете, нет, — говорил он, — языка не знаю, иногда помогают коллеги, но разве на это можно рассчитывать? Разумеется, за все будет заплачено — хотите деньгами, хотите натурой — вещами.
Надо сказать, что успеха в этих своих заходах Уотсон пока не имел. Один только пьянчужка, изгнанный из всех редакций, согласился было по пьяной лавочке написать такой обзор. Но, протрезвев, все-таки понял смысл уотсоновской затеи и больше не показывался. Уотсону пришлось довольствоваться тем немногим, что удавалось уловить на приемах, вытянуть из западных немцев, французов и других атлантических «союзников».
Уотсон понимал, что коса его разведывательного опыта находит на камень советской бдительности. Он уже начинал немного беспокоиться — редко у него проходил год в чужой стране без серьезного успеха, кое-где, в других странах, люди, желающие продать свою страну, летели на американского разведчика, как мухи на мед. А здесь — кругом стена. Теперь он понял, почему его начальство по ЦРУ так ценило Купца. Ведь в ЦРУ лучше Уотсона знали, что привлечь, завербовать нового агента ему почти наверняка не удастся. И Купец стал для Уотсона той козырной картой, тем тузом, которого он уже собирался, словно карточный шулер, вытащить из своего рукава.
Но именно потому, что это был главный — и последний — козырь, Уотсон не пускал его в ход, довольствуясь мелочишкой, которая попадалась на его пути. Ему удавалось иногда сближаться с неопытными молодыми людьми, по роду своей работы получавшими приглашения на приемы, устраивавшимися различными советскими учреждениями и организациями, иностранными посольствами, инкоррами. Найдя такого на приемах, Уотсон затем пытался организовать встречи с ним уже наедине, в гостиницах, ресторанах, кафе. Теперь, наученный опытом первого года, Уотсон выдавал себя уже за «испытанного» друга Советского Союза. Веря ему, эти молодые люди принимали приглашения, встречались с ним. И тут, на второй, третьей встрече, Уотсон выпускал когти. Более умные начинали понимать замыслы Уотсона и прекращали встречи. Менее разумные, слыша его заверения, продолжали поддерживать знакомство. Часто, сами того не подозревая, они выбалтывали различные сведения, представлявшие интерес для вашингтонских боссов Уотсона.
Но такой добычи попадалось не много.
Потом у Стива появилось несколько «друзей» из молодых литераторов и художников, считавших себя «обиженными». Дилетанты с большим самомнением, они надеялись с его помощью привлечь к себе внимание за границей, а затем уже добиваться «признания» у себя на родине. С такими Уотсон быстро находил общий язык. Льстя их раздутому самолюбию, разжигая их тщеславие, играя на их зависти — зависти неудачников, он не стеснялся. Запутав их сперва осторожными, а затем грубо антисоветскими разговорами, он сообщал им, что разговоры эти записаны магнитофоном через его потайной микрофон, давал прослушать запись. Этими и другими средствами Уотсону удалось в начале второго года прибрать кое-кого к рукам. Таких людей он использовал для собирания московских сплетен и слухов, для распространения обывательских настроений среди части «околотворческой» интеллигенции.
Презирая этих слизняков, зная, что рано или поздно они все равно провалятся, Уотсон не жалел их, не принимал даже никаких мер, чтобы прикрыть их от пристального и — он это знал — неизбежного внимания советских органов безопасности. Наоборот, открыто встречаясь с ними, специально коллекционируя связи, он раскрывал их, чтобы убедить чекистов в том, что это — его единственные «прегрешения» и он не делает ничего более серьезного, более вредного. Иногда, желая избавиться от использованного до конца подручного, он даже с нетерпением ждал, когда тот окажется на виду у чекистов и перестанет появляться.
Но внимание чекистов к Уотсону не только не ослабевало, а, наоборот, усиливалось, становилось все пристальнее.
Создав для себя надежное, по его мнению, «прикрытие», Уотсон, пользуясь шпионским жаргоном, «вышел на контакт» с Купцом. Собственно, надо было бы, по его расчетам, подержать его в резерве еще два-три месяца. Но уже на нескольких приемах Уотсон видел, как грубо, примитивно работает с его «резервом» некий западногерманский журналист. Уотсон специально следил за ним и однажды подошел в тот момент, когда, поздоровавшись с немцем, Купец сделал вид, что ищет в карманах папиросы. Немец вытащил из кармана пачку ароматных американских сигарет, откинул торцевую крышку, протянул к длинным жадным пальцам Купца. Одна из сигарет была выдвинута вперед, примерно на полсантиметра. Дрожащими пальцами Купец вытащил эту сигарету и — открыто, на виду у всех — спрятал ее в боковой карман пиджака.
— Идиот! — выругался про себя Уотсон. — Он его провалит…
Решительным шагом подойдя к двум собеседникам, Уотсон, притворившись подвыпившим, забалагурил:
— А, герр фон Уве! Здравствуйте, здравствуйте… Как поживает ваша такса?
Немец буркнул что-то, расплываясь, однако, в любезной улыбке. Глазами он приказал Купцу — «уходи».
Но Уотсон уже подхватил Купца под руку.
— Что же вы не познакомите меня с вашим другом? Я уже несколько раз вижу его на приемах, но до сих пор не знаком.
И, не дожидаясь, пока его представит стиснувший зубы фон Уве, он протянул Купцу руку.
— Уотсон. Корреспондент «Сан геральд». Слыхали о такой? — говорил он громко.
— Как же, как же, — угодливо затараторил Купец. — Я ведь тоже причастен к журналистике. Так сказать, коллега.
— Ну, вот и хорошо. Пойдем, выпьем за встречу, герр фон Уве.
Хмурясь, фон Уве тем не менее отошел в глубь зала, к столу, на котором громоздились бутылки всех мастей и калибров. Теперь Купец окончательно перешел с довольно бойкого немецкого на спотыкающийся английский. Уотсон его явно заинтересовал. Фон Уве подхватила под руку пьяненькая Портер. В нескольких залах ревел, вскрикивал, хохотал, гудел голосами прием. Никто не обращал на двух собеседников никакого внимания.
— А вы давно получали письма от родных из Киева? — на чистейшем русском языке негромко спросил вдруг Уотсон. И видя, как вытягивается лицо Купца, быстро, но четко, тихим, размеренным голосом добавил:
— Не изображайте на лице удивление. Улыбайтесь, черт вас возьми, притворяйтесь беззаботным.
Справившись с удивлением, Купец, не без дрожи в голосе, ответил:
— Что-то не пишут. Я собирался сам туда съездить, да все никак не выберу времени.
— Но вас, конечно, не забыли, — выразительно заключил Уотсон давно обусловленный пароль встречи. И тут же добавил:
— На этом сегодня закончим. Встретимся через неделю в Большом. Билет передам вам сейчас. Не уроните.
Поговорив еще минуту с Купцом, Уотсон протянул ему руку. Передача прошла гладко — билет не упал на пол. И, только отойдя от стола с напитками, американец вздохнул с облегчением. Да, он рисковал. Но другого случая и повода не было. Раз в год, не чаще, можно и рискнуть.
Полковник Борисов получает задание
Генерал-лейтенант, начальник одного из управлений Комитета государственной безопасности вызвал к себе полковника Борисова в конце дня. За окном строго делового кабинета, в котором не было ничего лишнего, синел вечер. Генерал был не молод, но по его фигуре хорошо тренированного человека это не чувствовалось. Это был очень спокойный человек. Говорил он неторопливо, никогда не повышая голоса.
— Что у вас есть об этом Уотсоне — корреспонденте «Сан геральд»? — спросил генерал.
Полковник — он был предупрежден о теме разговора — четко и деловито доложил, что имеются сигналы о попытках Уотсона установить нелегальные отношения с некоторыми представителями московского журналистского мира и мира искусств. Отмечены попытки получить информацию, составляющую государственную и военную тайну. Но, судя по всему, похвалиться Уотсону пока нечем.
Выслушав доклад, генерал поднял на полковника густые мохнатые брови.
— Надо ускорить изучение этого человека, Николай Михайлович. Как видите, это не просто посредственный журналист, а деятель совершенно иного плана. Пока он занимается мелочами. Но, судя по всему, это маскировка. Уотсон — бывалый разведчик: работал в Париже, Алжире, Берлине. Видимо, он еще не начал своей основной операции. Значит, скоро начнет. Продолжайте изучать его. Не упускайте деталей, даже незначительных черт. Из ста подозрений, действительно, не возникнет ни одного доказательства, как из ста индейских пирог не составить парохода. Но подобно тому как пирога была предшественницей парохода, подозрения, глубоко проверенные, тщательно изученные, могут натолкнуть на доказательства.
На подготовку группой специалистов плана всей операции, который, после всестороннего обсуждения, нужно было представить генералу на утверждение, Борисову было дано три дня.
* * *
На следующее утро полковник Борисов принялся выполнять полученное задание. Не торопясь, перелистывал он комплект «Сан геральд». Внимательно прочитывал корреспонденции Стива Уотсона, делая частые пометки в лежавшем перед ним блокноте. Статьи как статьи. Написанные в основном в дружественном тоне, они освещали различные стороны советской жизни. В отличие от многих своих коллег, собиравших материалы главным образом из критических фельетонов советских газет о бюрократах, взяточниках, жуликах, стилягах и тунеядцах — иностранные корреспонденты любят выдавать их за типичных советских людей, — Уотсон писал в основном объективно. О системе социального обеспечения в СССР. Об охране материнства и младенчества. О системе здравоохранения и советских здравницах. Однако в отдельных статьях проскальзывали тщательно замаскированные нотки иронии. Некоторые мысли корреспондента, внешне вполне лояльные по отношению к Советскому Союзу, приобретали противоположный смысл благодаря отдельным чисто американским метафорам, сравнениям и жаргонным словечкам. Даже не всякий англичанин уловил бы эти замаскированные намеки, хорошо понятные среднему американцу.
Уотсон, видимо, рассчитывал на то, что среди советских людей, читавших и анализировавших его статьи, конечно, не найдется таких, которым будут понятны эти сравнения и метафоры. И Уотсон, разумеется, никак не мог предполагать, что одним из его внимательных читателей окажется полковник Борисов, не только знающий в совершенстве английский язык в его американской разновидности, но и тонко разбирающийся во всех особенностях грамматического строя, произношения, лексики, морфологии и синтаксиса английского языка в его британском, ирландском, шотландском, канадском, австралийском, новозеландском и иных вариантах. Полковник Борисов неплохо знал также различные варианты так называемого «пиджин-инглиш». Этот своеобразный гибридный язык, состоящий из смеси адаптированных английских и азиатских слов, широко распространен в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Борисов увлекался изучением разновидностей английского языка и считался в Советском Союзе одним из лучших знатоков их многочисленных вариантов.
Эти знания не раз помогали Борисову разоблачать шпионов, выдававших себя за лиц, длительное время проживавших в англосаксонских странах. По акценту и лексике Борисов, как правило, безошибочно определял, где родился и получил образование тот или иной субъект. Во время войны Борисов не раз буквально за несколько минут разоблачал подброшенных немецко-фашистской разведкой «перебежчиков», выдававших себя за немцев американского происхождения. Несколько быстрых, точных вопросов об Америке на английском языке — и агенты вынуждены были признаваться, что их плохо подготовили к работе в Советском Союзе. Как подводила их самоуверенность руководителей гитлеровского «Абвера», считавших, что советские контрразведчики — простаки!.. Борисов мог часами декламировать стихи Лонгфелло, Уитмена, Сэндберга, Фроста. Быт и нравы Соединенных Штатов он знал не хуже Уотсона, а историю — несомненно значительно лучше его.
Одна из основных слабостей империалистических разведок как раз и состоит в том, что, засылая в Советский Союз своих разведчиков и сравнительно неплохо обученную агентуру, они не учитывают, что на работу в органы государственной безопасности партия направляет высокообразованных, поистине одаренных советских патриотов. Преданные партии, народу, советские чекисты — высококвалифицированные контрразведчики, постоянно оттачивают свое оружие в борьбе с коварным и опасным врагом.
В отличие от многих руководящих деятелей иностранных разведок, Бутч Стаймастер, как мы уже видели, довольно трезво оценивал возможности и способности советских контрразведчиков. Но даже Стаймастер не мог предвидеть, что в поединок с Уотсоном вступит такой опытный чекист, как полковник Борисов с группой своих товарищей.
Тщательно проанализировав «положительные» статьи этого «либерала» и сопоставив их с имеющимися уже данными о его поведении и связях, Борисов сразу же понял, что имеет дело с хитрым, увертливым врагом.
Подчиненных ему чекистов, в основном молодых, но способных людей, Николай Михайлович постоянно воспитывал в духе коллективизма. Он часто говорил им, что в сложных международных условиях «холодной войны», когда враг постоянно совершенствует методы своей подрывной работы против нашей страны, только тщательно продуманные коллективные усилия всех чекистов, занимающихся изучением того или иного подозрительного иностранца и его связей, создают возможность быстро внести ясность в его подлинные намерения и в тех случаях, когда он занимается недозволенной деятельностью, разоблачить и обезвредить его.
— Век шерлоков холмсов и контрразведывательных асов, если предположить, что такой век действительно был, прошел безвозвратно, — часто говорил своим подчиненным Борисов. — Кадровый разведчик, действующий на территории СССР, это орудие целого подразделения иностранных разведчиков, которые из-за границы руководят его действиями и деятельностью его местной агентуры. Этой деятельности необходимо противопоставить совместные усилия чекистов, умело применяющих в своей работе новейшие методы контрразведывательной работы, достижения передовой советской науки и техники.
Полковник Борисов и его молодые помощники установили: чем ближе подходил Уотсон к выполнению своего основного задания, тем хитрее, замысловатее становились его маневры. Он заводил все новые связи, афишировал старые, все чаще устраивал для знакомых советских журналистов приемы, приглашал их к своим коллегам.
Все чаще выдавал он себя за друга Советского Союза: подчеркивал свою веру в миролюбие советской внешней политики, осуждал сторонников «холодной войны». Круг его более или менее постоянных знакомств все расширялся, становился разнообразнее.
Изучая знакомых Уотсона, полковник Борисов вскоре подметил любопытную закономерность в их взаимоотношениях с американцем. В тех случаях, когда Уотсон видел, что тот или иной советский собеседник с любовью говорит о своей Родине, он сам выдавал себя за прогрессивно настроенного американца, горячо осуждал уродства капитализма. И продолжал встречаться с этим человеком.
В редких случаях американец убеждался в том, что его советский знакомый настроен «критически» к своей Родине, проявляет повышенный интерес к «прелестям» «американского образа жизни». Всячески разжигая этот интерес, Уотсон пытался активно влиять на этих людей, подрывать их веру в правильность пути, по которому советский народ идет к коммунизму.
Помощники полковника Борисова регулярно докладывали ему: Уотсон начинает проявлять все большую активность, все чаще пытается использовать своих знакомых, в особенности тех, на которых ему удалось повлиять, для сбора тенденциозных политических данных. Поручая своим нелегальным помощникам изучать настроения советских людей, их отношение к мероприятиям партии и правительства в области внутренней и внешней политики, он откровенно давал понять, что его интересуют лишь мнения и высказывания, идущие вразрез с «господствующими политическими настроениями» в стране. Иными словами, его интересовали ехидные насмешки, неумное балагурство и — больше всего — прямая враждебность к тому, чем жил весь советский народ Достать такой «товар» подручным Уотсона было нелегко. Но «шеф» не жалел подачек. И наиболее предприимчивые начали изобретать антисоветские анекдоты, реплики и даже целые диалоги. Все это шло в жадно раскрытые бункера ЦРУ.
Уотсон пытался и сам находить нужный ему свежий, «оригинальный» материал. Разговоры с советскими людьми на темы их повседневной жизни Уотсон обычно мотивировал желанием понять советскую действительность, чтобы «объективно» писать о ней в свою газету. Уотсон полагал, что чекистам, если они им заинтересуются, трудно будет провести грань между журналистикой и шпионажем. И действительно, не легко провести эту грань, когда речь идет о сборе сведений, необходимых разведкам для их идеологических диверсий. В конце концов, многое из того, что собирал Уотсон, это не государственная тайна, тем более, когда речь идет о грубых поделках, которыми часто снабжали агента ЦРУ его подручные. Но среди этого мусора попадались и факты, подбор которых граничил с нарушением Уголовного кодекса.
Уотсон поднимает забрало
И снова полковника Борисова вызвал к себе на доклад начальник управления.
Суховато поздоровавшись с Николаем Михайловичем, генерал предложил ему сесть, быстро дописал какое-то письмо, а затем протянул довольно объемистый документ.
— Прочтите, Николай Михайлович, сей опус и попытайтесь объяснить, откуда этот тип достал материалы для своего доклада.
Борисов внимательно просмотрел документ, написанный на двадцати страницах. Ему сразу же стало ясно, что в руках у него копия доклада Уотсона отделу Р-2 ЦРУ. Уотсон довольно подробно анализировал внутреннее положение Советского Союза, характеризуя «моральное состояние» различных слоев населения, в том числе и членов партии.
В документе было много заведомой чепухи. Но некоторые факты могли знать только члены партии. В своем докладе Уотсон выдвигал серию предложений по активизации «психологической войны» и усилению идеологических диверсий против Советского Союза. Надо, заявил он, всячески использовать нынешнюю свободу для усиления наблюдающихся у некоторой части интеллигенции шатаний и подрыва той организованности и дисциплинированности советского общества, которые срывают сейчас все операции идеологической диверсии против СССР.
В заключение Уотсон предлагал передать его предложения для реализации руководству Информационной службы США (ЮСИС).
В докладе несколько раз упоминался в качестве источника некий Купец. Судя по этим ссылкам, Купец передал шпиону ЦРУ некоторые государственные тайны.
— Откуда к нам попал этот доклад, товарищ генерал? — спросил Борисов, закончив чтение.
— Свет не без добрых людей, — ответил генерал-лейтенант, улыбнувшись впервые за время разговора. — Мы получили его из союзной с США страны. Доклад сочли настолько важным, что его размножили и разослали на места послам и главам миссий ЮСИС, а также руководителям пропагандистских органов стран НАТО.
— Самое вредное, — сказал Борисов, — это ссылка на факты, известные только членам партии.
— Проверьте. По-моему, вы правы, Николай
Михайлович. А как дела с Уотсоном?
Борисов кратко рассказал генералу все, что узнал об этом ловко маскирующемся «журналисте».
— Удалось ли найти Купца? — спросил генерал. — Уотсон, как видите, считает, что «этот источник заслуживает полного доверия».
— К сожалению, товарищ генерал, на этот вопрос я не могу пока ответить, — сказал Борисов. — Но, может быть, доклад поможет нам его быстрее разыскать. Среди знакомых Уотсона есть несколько членов партии, есть и комсомольцы. Хотя, впрочем, нельзя исключить и того, что Купец не входит в круг известных нам знакомств Уотсона. Возможно, он поддерживает с ним нелегальную связь, а с другими знакомыми афиширует свои встречи, чтобы сбить нас со следа. Хитрая бестия!
— Во всяком случае, теперь совершенно ясно, — сказал генерал, — что Уотсон — липовый журналист, но далеко не липовый разведчик. Полагаю, вы знаете, как теперь надо действовать.
— Так точно, товарищ генерал, знаю. Немедленно разыскать Купца. Как можно быстрее обезвредить его и Уотсона.
— Правильно, Николай Михайлович. Передайте своим подчиненным, что мы ждем от вашего коллектива решительных и энергичных действий по пресечению опасной для страны деятельности Уотсона. Главное — не спугните его раньше времени. Но и не затягивайте. Желаю успехов.
* * *
В тот памятный день, когда Софья Матвеевна разговаривала по телефону с Адольфом, она ушла из дому в семь часов вечера.
Вернулась поздно — около одиннадцати, усталая, помятая, серая, задумчивая. Где-то в уголках сразу постаревшего рта таилось презрение к самой себе. Пряча взор от простодушной Анны Ефимовны, открывшей ей дверь, она прошла на минуту в спальню, оттуда — сразу же в ванную. Долго лежала в теплой ласковой воде. Затем, бесшумно согрев на кухне чайник, уселась в столовой за душистым краснодарским чаем. Включила радиолу, послушала немного музыку и отправилась спать. И только в тишине спальни, зажимая подушкой рот, разрыдалась.
На следующий день проснулась поздно, долго сидела нечесаная перед туалетом, хандрила. Но раздался телефонный звонок. Приятельница сообщила важную новость: в ГУМе «выбросили» на прилавки французскую парфюмерию. И Софи бросилась отыскивать такси.
Профессор прилетел через неделю, веселый, помолодевший.
— Все хорошо, дорогая, — сказал он, целуя слегка отодвинувшуюся от него жену. — Все идет великолепно.
Сбросил в кабинете пиджак, надел в спальне пижаму, пошел в ванную. Полоскался недолго: спешил в институт. В кабинет вошел в момент, когда Софи раскрывала его бумажник, только что вынутый из кармана пиджака.
— Ты что, Соня? Тебе денег надо?
— Нет, Котик, у меня еще есть, — простодушно выдала себя непривыкшая изворачиваться Софи. — Я просто так, — смутилась она.
Тут же нашлась:
— Говорят, жена одного ученого полезла в мужнин бумажник, а там такие фотографии…
— Глупенькая, — улыбнулся Михайлов, целуя жену в щеку. — Я не такой ученый.
В первый раз «Котик» резанул профессору слух. Грустно посмотрел он на жену, которая, заторопившись, вышла из кабинета.
А через несколько дней, лежа возле профессора, Софи шептала:
— Знаешь, милый, у Ланы есть племянник по мужу. Способный мальчик, кончает аспирантуру, по твоей специальности. Я знаю, ты не любишь всех этих протекций. Но ты посмотри, как он работает. Может быть, это талант. Лана говорит, о нем неплохо отзываются…
— Позвони завтра в институт, напомни. Посмотрим, на что он гож, этот Ланин племянник.
Двоюродная сестра Софи — Лана (сокращенное от Светланы) бывала у Михайловых не чаще раза в год. Но профессор не хотел огорчать жену отказом — очень уж ласкова была она с ним сегодня. А в годы, когда старость не за горами, это ценится. Высоко ценится.
Через пару месяцев профессор, придя в спальню, увидел в руках у жены свой иностранный технический журнал с роскошными цветными фотографиями ракет.
— Так ты делаешь то, от чего все эти штуки летают так далеко? Как интересно. А как ты думаешь, из чего они делают эти самые сопла? Смотри, здесь пишут, очень дорогая это штука…
— Не знаю, милая, — сухо ответил профессор. — Не знаю. Мои мальчики в институте даже мне этого не говорят, — попытался отшутиться он.
Софи притворилась, что засыпает, ничего не сказала. А профессор долго еще не мог заснуть, размышляя над этим странным, очень странным разговором.
* * *
Вернувшись к себе, Борисов собрал оперативную группу.
— Наши подозрения полностью подтвердились, товарищи, — начал свое сообщение Борисов. — Только что получены совершенно достоверные сведения. Уотсон — кадровый разведчик, причем новой разновидности. Это не только похититель государственных тайн, но и идеологический диверсант. По имеющимся данным, ему поручено разрабатывать проекты пропагандистских авантюр против различных слоев населения Советского Союза. К сожалению, он уже активно занимается этим делом. Им уже разработаны предложения по активизации «психологической войны» против СССР.
Подробно рассказал Николай Михайлович работникам группы о степени осведомленности Уотсона и о характере собираемого им провокационного материала.
— Есть у него помощник, пока единственный из серьезных агентов. Кличка Купец. Судя по характеру сведений, передаваемых Купцом, он либо член партии, либо близко знаком с болтунами, знающими много.
— Но я уверен, что дело не ограничивается этим. Не так много в Москве представителей ЦРУ, чтобы его загрузили одной только «идеологической» работой.
Группа приступила к разработке детального плана разоблачения нелегального представителя ЦРУ. Каждый участник совещания получил конкретное задание, точно знал, чем ему предстоит заниматься. Был составлен жесткий «график». Поставлена главная задача — в минимальные сроки разыскать и разоблачить Купца.
Отпуская оперативных работников, Борисов строго предупредил: у Уотсона много знакомых — не увлекайтесь всеми. Бейте в одну точку — ищите Купца. Задача — обнаружить и разоблачить тех, кто помогает врагам мирного соревнования стран и народов, кто продолжает «холодную войну», готовя «горячую». Найти Купца. Это — враг, сознательный, ловкий, опасный.
Через три недели после утверждения плана активного розыска Купца майор Кривонос пришел на доклад к полковнику Борисову.
Владимир Васильевич Кривонос — часто его звали просто Володя — один из самых способных молодых чекистов в отделе Борисова. Рослый, широкоплечий, стройный и подтянутый, он был бессменным капитаном волейбольной команды управления, имел спортивный разряд. Один из лучших самбистов всего комитета, Кривонос отличался не только спортивными достижениями. Он свободно владел тремя иностранными языками, увлекался литературой и психологией. Образованный, остроумный офицер, приятный, содержательный собеседник, он был находчив, никогда не терял самообладания, в какие бы тяжелые переплеты ни попадал. В юности Володя служил радистом в одной из прославленных партизанских бригад Великой Отечественной войны. Тогда он был любимцем всей бригады. Теперь, в отделе Борисова, его уважали и любили за оптимизм, огромную работоспособность, готовность в любой момент помочь товарищу.
— Чем порадуете, Владимир Васильевич? — приветствовал его Борисов, указывая на стул возле письменного стола.
— Не знаю, не рановато ли радоваться, — спокойно начал доклад Кривонос. — Но кажется, мне удалось нащупать одного старого стервятника. Возможно, это и есть Купец. Во всяком случае, его отец был настоящим коммерсантом. И не захудалым, а купцом первой гильдии!
— Что-то вы больно спокойно, даже равнодушно говорите об этом, Владимир Васильевич, — заметил Борисов. — Вы же знаете, что разоблачение Купца — дело чести всего нашего отдела.
— Извините, товарищ полковник, за равнодушный тон. Просто я сам пока еще боюсь поверить, что это Купец, — ответил Кривонос.
— Да рассказывайте же, наконец! А там разберемся — Купец он или не Купец!
И Владимир Васильевич начал подробно рассказывать Борисову о своей волнующей находке.
Жеромский ищет хозяина
Борис Петрович Жеромский — БПЖ, как называли его некоторые знакомые, был себялюбив до чрезвычайности. Первых трех жен он бросил потому, что не хотел, как он говорил, «надрываться», зарабатывая на семью. Остальные две, по его словам, действовали ему на нервы. Детей у него — к счастью для них — не было: в жены он подбирал пустышек, полностью лишенных чувства или хотя бы инстинкта материнства. Отцовских чувств у БПЖ не было даже в зачатке.
Зато все другие чувства и особенно инстинкты были у него вполне развиты, а некоторые и переразвиты. БПЖ был очень труслив. Старичок-бодрячок (дело шло — к 60-ти), более чем среднего роста, почти без растительности на черепе, с бегающими коричневыми глазами (их нельзя было назвать карими), любил вкусно, или, как он говорил, «содержательно», поесть. В эти долгожданные минуты он весь преображался. Ходуном ходили седые усы над толстыми губами, плотоядно двигался мясистый нос. На поедаемое глядел со смешанным чувством обожания и сожаления. Процесс принятия пищи БПЖ называл «единственным видом спорта», которому, по его собственному признанию, отдавал себя целиком, безраздельно.
Не чужд был БПЖ и более игривых склонностей. В то время возраст и изящная, как ему казалось, утонченность вкусов толкали БПЖ на деяния, если и не предусмотренные Уголовным кодексом, то близко граничащие с правонарушением.
Но пока это сходило ему с рук.
В промежутке между этими деяниями Борис Петрович время от времени возобновлял свои былые отношения с экс-женами («Ах, Бобби, почему же ты не хотел быть таким утонченным тогда?»).
Серьезных знаний БПЖ не имел отродясь. Была некоторая сноровка, хитрость лисы, всю жизнь подбирающейся к курице. Немного сметки и много — не смелости, нет! — заурядного, но острого нахальства.
В дни, когда старичку-бодрячку пришлось заглянуть в то, что у всех порядочных людей называется душой, он говорил, что стал «жертвой своей биографии».
Биография, действительно, сыграла с ним некоторую, не очень, впрочем, злонамеренную шутку. Родился он в весьма состоятельной семье. Детство и юность прошли, как он любил рассказывать женам, «в вихре вальса». Дом на Мясницкой (ныне улице Кирова), где престарелый Бобби занимал вполне приличную комнату, принадлежал в свое время его отцу: доходные дома были страстью папаши Жеромского.
Собственно говоря, история очень мягко обошлась с БПЖ. Занятая куда более важными делами, она не обращала на него никакого внимания. Однако Бобби со свойственным ему нахальством все время напоминал ей о себе.
Вызвано это было не только и не столько тем, что события лишили его возможности промотать папашино состояние. Дело тут было еще и в другом.
Мать Жеромского, полусумасшедшая старуха, незадолго до смерти в середине 30-х годов уверила своего бурно лысеющего сына в том, что он — дитя роковой страсти, сын некоего титулованного повесы. После долгих притворных запирательств она назвала наконец имя, потрясшее примитивное сознание сына. Имя это упоминалось в советской прессе почти всякий раз, когда она клеймила козни зарубежной белогвардейщины. С едкой иронией указывалось обычно, что незаконный папаша женился в Америке на богатой наследнице, прокладывая себе тем самым путь в высшее американское общество.
Известие потрясло Жеромского, «перевернуло всю мою жизнь», писал он впоследствии на казенной бумаге. Собственно, он сам уже давно перевернул свою жизнь с ног на голову. В 1916 году участвовал в какой-то мутной эсеровской организации в Киеве. В 1919-м был впервые арестован органами ВЧК за подделку подписи одного из наркомов. Каким-то образом, видимо по молодости лет, ему удалось отделаться тяжким испугом и легким наказанием.
Судя по всему, мягкость, проявленная к БПЖ чекистами, не только не пошла на пользу, но, наоборот, повредила ему. Жеромский решил, что родился под счастливой звездой. Безрассудно вползал он во все новые и все более скандальные ситуации. Несколько арестов в Одессе и Киеве за пьяные дебоши в компании бывших офицеров. В 1923 году в Петрограде арест по подозрению в шпионаже в пользу Германии. По просьбе Одесского губотдела ЧК Жеромского отправили под конвоем в поезде в Одессу. Предстояло следствие и суд. Но Бобби решил уклониться от встречи с правосудием. При так и не выясненных обстоятельствах он исчез по дороге в Одессу. Пропало и его дело с материалами предварительного следствия.
Возможно, что, рассказывая сыну трагическим шепотом малоправдоподобную историю его высокого дворянского происхождения, старуха всего лишь дала волю своей многолетней фантазии — до революции она мечтала породниться со знатью.
Да скорее всего это была болезненная фантазия. Боб как вторая капля воды, походил на своего отца, мордастого пройдоху с усами под толстым мясистым носом, укоризненно глядевшего на сына с пожелтевшего, засиженного мухами дагерротипа образца 1888 года.
Признание матери взволновало БПЖ. Ранний Боб был в лучшем случае просто хам. Предвоенный Боб — это уже хам, возомнивший о себе.
Теперь Жеромский не сомневался в том, что он — человек высокого, если не божественного, предназначения. В глазах его появилась таинственность, томность, отражение высокой тайны его рождения. Это плюс некоторые особенности темперамента позволили Бобу без труда находить жен среди любопытствующих пустышек.
В годы войны Жеромский служил переводчиком на фронте. Выручило некоторое знание немецкого языка: в свое время немец-гувернер вколачивал их ремнем в место, прямо противоположное тому, куда обычно входят знания.
Неизвестно, считал ли Жеромский журналистику одним из сравнительно честных способов изъятия денежных средств у общества. Но после войны он не просто занялся журналистикой, он ворвался в эту сферу деятельности.
Работа в соляных копях газетных редакций, где в «грамм — добыча, в год — труды», быстро перестала удовлетворять Боба. Запросы росли в нарастающей диспропорции к его мизерному трудолюбию. И БПЖ решил пренебречь настойчивой рекомендацией своего духовного предшественника и идейного наставника Остапа Бендера. Он начал искать возможности переступить хрупкую грань, отделявшую его деятельность от правонарушения.
Прежде всего он перешел на внештатную работу — чтобы избавиться от контроля и других видов благотворного влияния коллектива на индивидуум. Затем начал искать возможности для нарастающего отчуждения в свою пользу советских рублей, или, как говаривал БПЖ, рупий, из рук порой не в меру щедрых лордов-хранителей государственных денежных знаков.
Не скроем, впервые за послереволюционные времена этот период «творческих исканий», точнее, жульнического поиска ознаменовался для БПЖ крайней стесненностью в средствах. Он мог покончить с этой стесненностью, придя в редакцию, усевшись за стол и погрузившись в трудную, но славную работу журналиста-труженика. Но БПЖ даже мысли такой не допускал. Высоконезаконнорожденный жулик, мучимый туманными видениями жизни в роскоши и утонченном разврате, решил навсегда покончить — не с псевдолитературной фарцовкой, нет! — с честным общественно полезным трудом.
На некоторое время Жеромскому пришлось перейти на иждивение своих бывших жен, точнее, их доверчивых мужей.
Многие из них не обращали внимания на то, что деньги на семейные расходы, иссякавшие прежде у их жен за день до получки, теперь кончались за четыре-пять дней: Боб стойко отказывал себе в посещении «Арагви», но не мог избавиться от пристрастия к кухне «Узбекистана».
Толстый мясистый нос вел Боба в погоне за «калымом» — как называл он про себя «левые» литературные заработки. И привел к «Метрополю», где жили иностранные корреспонденты. Сперва он лишь прохаживался у этой гостиницы, сидел в скверике напротив, выжидая возможность завязать знакомство. Но все было тщетным. И тогда Борис Петрович решился. Однажды вечером, уже уходя со своего «дежурства» у гостиницы, он натолкнулся на бывшего коллегу из московской газеты.
— Вот, иду на прием, — прихвастнул коллега. — Инкорры устраивают. Кто-то у них там приехал…
— А у тебя приглашения лишнего нет ли? — замирая, спросил БПЖ.
— А там без приглашений… — И бывший коллега назвал номер, в котором происходил прием.
Жеромский прошелся несколько раз мимо входа, собрался с духом и решительным шагом направился в гостиницу.
— Вы куда? — несмело спросил его один из служителей.
— Сюда… — величественно бросил Жеромский, солидно поглаживая усы. И прошел в шумную гостиную.
Через полчаса он уже беседовал с западногерманским корреспондентом — назовем его фон Уве. Говорили по-немецки: фон Уве три года пробыл в плену в глубине Союза и мог говорить по-русски не хуже Жеромского. Но пока он предпочитал не выдавать ему всех своих возможностей.
Фон Уве жаловался на скуку, одиночество. А когда БПЖ недвусмысленно намекнул, что у него есть «квалифицированные кадры», с которыми можно развлечься, немец понял: перед ним редкий в московских условиях экземпляр «нужного» человека.
Записали адреса, телефоны, условились о следующей встрече. Уже на второй вечеринке фон Уве предложил Жеромскому готовить материалы для его статей. Расчет — натурой, американским барахлом. С трудом переводя спертое радостью дыхание, БПЖ согласился.

Через неделю он сдал первый «опус» — надерганные из фельетонов областной прессы факты, сдобренные собственными домыслами. К пуговице действительных происшествий было пришито роскошное — для фон Уве — пальто крикливых выводов и обобщений. Неделю спустя, при очередной встрече, фон Уве показал бывшему журналисту статью в крупной западногерманской газете. Под ней, конечно, стояла подпись фон Уве.
То ли по старой петербургской привычке, то ли оттого, что с годами у людей, подобных ВПЖ, все больше обостряется инстинкт самосохранения, но полушпион действовал на этот раз весьма осторожно. Сведя немца с «кадрами», он сам прекратил посещение вечеринок. Пополнив потрепанный гардероб, перестал принимать в виде «гонорара» вещи. Теперь он получал за каждую статью несколько десятков долларов, которые с помощью фарцовщиков превращал в рубли. Проблема шашлыков из молодого барашка с сухим грузинским вином была, таким образом, решена. Надолго ли — об этом Боб старался не думать.
Старым знакомым, удивленным модными обновками Жеромского, он говорил, что ездил с делегацией на затяжные переговоры в Бонн. Зная, что он работал на фронте переводчиком, ему верили, не расспрашивая о подробностях.
Немец оказался скуповат и жуликоват: в счетах, посылавшихся им в газету (их подписывал Жеромский), он ставил вдвое больше долларов, чем платил своему наемнику. Впервые за всю его жизнь Жеромского возмутила капиталистическая эксплуатация. При первом же знакомстве с Уотсоном он дал понять, что готов служить ему душой и телом. Выяснилось, что именно это и нужно было новому хозяину. Отношения с немцем были прекращены. Вскоре и фон Уве отозвали в Германию. Жеромский оказался в найме у Уотсона. Американец платил втрое против немца. Обещал за «серьезное дело» и того больше. И БПЖ записался в очередь на «москвича».
Среди надгробий и эпитафий
Смерть всегда вызывала у Уотсона невеселые размышления о хрупкости бытия и бренности земных забот. Особенно остры такие размышления весной, когда в воздухе носятся чарующие запахи оживающих после зимней спячки березовых почек, раздаются первые птичьи трели. В такой вот прекрасный предвесенний день оказался Уотсон на Ваганьковском кладбище.
Хоронили известного московского артиста, много лет радовавшего людей ярким искренним талантом. Пройдя недалеко от скромного памятника Сергею Есенину, процессия медленно проследовала к месту вечного успокоения, заполнив аллеи и дорожки между надгробиями. Зазвучали последние речи.
Среди толпы с выражением не столько скорби по ушедшему, сколько страха перед неотвратимо приближающимся собственным «мгновением истины» стоял Купец. Рядом с ним оказался Уотсон. Глазами показал Купцу — «пойдешь за мной». Поравнялись в далеком углу кладбища, в глухой аллее, заговорили. Поворот, другой. Вокруг никого не видно.
— Доклад, основанный на добытых вами материалах, — тихо заговорил Уотсон, — получил высокую оценку. Все ваши предложения о пропаганде против Советов одобрены. Мне поручено поблагодарить вас и передать очередное вознаграждение. — Уотсон сунул Купцу пухлый конверт. — Здесь две тысячи рублей и тысяча долларов. С долларами будьте осторожны. Ваши начали хватать этих… фарцовщиков. Советую тратить рубли. Доллары — спрятать.
— Спасибо. Конечно, для меня важнее благодарность, чем деньги, — лопотал Купец, суетливо пряча конверт.
— Мы достаточно хорошо знаем уже друг друга, чтобы быть откровенными, — отрезал Уотсон. — Благодарность! Бычий навоз — вот что такое благодарность.
По-русски Уотсон говорил переводом с английского.
— Доллары! — вот наша с вами цель. Я ведь тоже неплохо заработал на этом докладе.
«Да уж я представляю себе. Раз в пять больше меня», — подумал Купец, а вслух сказал:
— Конечно, и денежное вознаграждение — дело немаловажное. Но право же, я не из-за денег… — заключил он настолько неубедительным, ненатуральным голосом, что было ясно: из-за денег.
— Встречи на приемах прекращаем, — продолжал Уотсон. Нельзя испытывать судьбу. Будем встречаться раз в месяц. Следующий контакт ровно через месяц в 15.00 на Выставке достижений у главного входа в павильон машиностроения. Я пройду мимо, вы последуете за мной. Когда я удостоверюсь, что слежки нет, подойду к вам. Если кто-нибудь из нас заметит за собой «хвост», встреча отменяется и переносится ровно на неделю — в том же месте и в тот же час. Порядок срочного вызова вам известен.
Ваше следующее задание: материалы к очередному докладу о возможностях по разжиганию вражды между жителями кавказских и среднеазиатских республик. Подготовьте предложения о мерах с нашей стороны, способных усилить националистические настроения и межнациональную рознь.
Продолжая что-то говорить, Уотсон подошел к металлической ограде одной из могил, похлопал рукой по стойке.
— Неконтактную передачу проведем ровно через две недели, не позже 16.00 часов.
— Слушаюсь. Будет сделано, мистер Уотсон, — угодливо произнес Купец.
Уотсон поморщился:
— Никогда не нужно вслух произносить мою фамилию. Теперь самое главное — ваша бывшая жена замужем за профессором Михайловым?
— Да, сэр.
— Михайлов имеет отношение к производству ракет, — сказал Уотсон.
— Этого я не знаю, сэр.
— Мы это знаем. Срочно восстановите дружеские отношения с этой дамой. Денег на подарки не жалейте. Соберите исчерпывающие данные о Михайлове. Подробнейший режим его дня, адреса всех объектов, где он бывает и работает, берет ли работу домой, план квартиры, подробный список всех его друзей и родственников с указанием их места работы и домашних адресов.
Подробный письменный доклад по всем этим вопросам принесете ровно через месяц, когда мы встретимся на выставке. Там же получите дальнейшие указания по этому делу.
— Будет сделано, сэр.
— А теперь разойдемся. Я пойду вперед, вы задержитесь здесь на несколько минут.
И Уотсон медленно, скорбным шагом побрел к выходу с кладбища.
День подходил к концу. Отпустив начальника одной из лабораторий института, Корнелий Савельевич проводил его до двери кабинета, сердечно пожал руку. Потом сел на диван, откинул голову на спинку, задумался.
Целый день глубоко в подсознании мелькала недобрая, тревожная мысль. Уже несколько дней отгонял ее профессор, но она вновь и вновь возвращалась, словно осенняя муха, беспокойно жужжала в глубинных участках мозга. Всплывало решение — наиболее вероятное, наиболее логичное. Тяжелое. Неприятное.
Но решение созрело. А Корнелий Савельевич был человеком не только мысли, но и действия. И он подошел к внутреннему телефону.
Через несколько минут в комнату вошел приятный человек с седеющими висками и спокойным взглядом умных серых глаз.
— Вы меня звали, Корнелий Савельич? — спросил директора начальник одного из отделов института.
— Да, я просил вас зайти, Николай Сергеевич. Мне нужно с вами побеседовать. Но сперва попросим-ка принести нам по чашечке кофе.
— Мне бы чаю, Корнелий Савельич, — попросил Николай Сергеевич, садясь в кресло за низеньким столиком напротив дивана. — Покрепче.
Вызвав секретаря, профессор попросил принести чаю пришедшему, кофе — себе. Тяжело опустился на диван.
— Мне нелегко говорить об этом. Но мне представляется весьма странным поведение моей супруги… — медленно начал Михайлов. — Софьи Матвеевны, — поправился он.
И профессор рассказал коллеге о странных вопросах, которые с деланной, нарочитой наивностью задает ему Софи. Очень странной показалась «ревизия» его бумажника. Ведь у Софи всегда имеется достаточно денег на текущие расходы.
— Это было сразу же после моего возвращения из Н… Накануне отлета она пыталась выяснить, куда именно я отправляюсь. А тогда… тогда она, видимо, рассчитывала увидеть у меня в бумажнике билет на самолет. Недавно она просила меня устроить на работу своего племянника. Сказала, что представит его мне — попозже. Расспрашивает меня об «объекте». Хотя, вообще-то говоря, техникой она не интересуется. Может быть, это — преступное любопытство?
— Возможно, — вежливо, но уклончиво ответил собеседник. — Может быть, все это лишь праздное женское любопытство. А может быть, и нет… Что касается племянника, то что ж, пусть приходит в отдел найма и увольнения. Посмотрим, что за человек.
Через несколько дней профессор Михайлов вновь выехал в длительную командировку. Неделю спустя один из инженеров привез Софи письмо — коротенькое, милое и остроумное. Прошло две недели, и женщина даже привыкла к пустой квартире. По вечерам в квартире часто раздавался телефонный звонок, после которого Софи поспешно одевалась и пропадала допоздна.
Все становится на место
Совещание заканчивалось. Майор Кривонос выступил с обстоятельным докладом. Долго, тщательно, всесторонне обсуждались детали. Теперь заключал полковник Борисов.
— Все как будто ясно, товарищи. Жеромский перестал ходить на приемы. Видимо, Уотсон полностью перешел с ним на нелегальную связь.
Теперь Жеромский больше сидит дома. Подолгу, запершись в своей комнате, печатает на машинке. Встречался недавно с советскими журналистами, возвратившимися из командировок в республики Средней Азии. С одним из них виделся и Кривонос. Оказывается, Жеромский допытывается у своего знакомого о том, какие слухи и сплетни стали им известны на месте.
Судя по всему, очередное донесение Жеромского Уотсону — и через него ЦРУ — будет связано со среднеазиатскими республиками.
Установлено, что теперь к Жеромскому часто приезжает по вечерам модно одетая дама лет 38-ми. Через три-четыре часа уезжает с объемистыми свертками.
Выяснить личность дамы не составляло никакого труда — это оказалась жена профессора Михайлова. Постепенно укладываются на место, одна за другой, все новые детали головоломки. Уотсон явно решил через бывшую жену Жеромского подобраться к профессору и его институту.
Если бы дело ограничилось только предложениями о фальшивой пропаганде американского радио, то можно было бы не слишком торопиться с окончательным разоблачением их авторов. Как бы ни изощрялись «эксперты» Информационной службы США, сколько бы миллионов долларов ни тратили они на свои идеологические диверсии против Советского Союза, все их попытки подорвать морально-политическое единство советских народов неминуемо обречены на провал.
Но Уотсон, видимо, уже вышел на «второй режим» своей шпионской работы. Он явно приступал к самой важной разведывательной операции, имеющей прямое отношение к обороне нашей страны. Видимо, плохо обстоит у американцев дело с ракетами, если они сознательно готовы идти на серьезный риск провала своего опытного разведчика, чтобы попытаться добыть тайну ракет, позволяющих советским людям отправлять своих космонавтов в небывалые полеты.
Изложив эти соображения, Николай Михайлович заключил:
— Теперь предстоит подготовить проект окончательного решения: когда, при каких обстоятельствах и где задерживать Уотсона и его агента Жеромского.
Вскоре Борисов снова вызвал своих подчиненных, работающих по делу Уотсона, на «военный совет». Завершая работу, необходимо было коллективно проанализировать все материалы, перед тем как представить на утверждение генерала всю операцию. Это было не только необходимо, чтобы отработать детали, но имело большое воспитательное значение, давало молодым чекистам возможность вносить свои, зачастую весьма дельные предложения, совершенствовать свои знания, накапливать опыт.
Подробно напомнив известные уже работникам факты по делу, Борисов попросил подчиненных высказать свое мнение.
Все чекисты — и молодые, и более опытные — почти единодушно считали, что медлить с завершением дела опасно.
— Если Жеромскому удастся передать Уотсону хоть одно донесение о Михайлове, — сказал майор Кривонос, — трудно предвидеть возможный ущерб для нашей страны.
Борисову все это было ясно и до совещания. Но он хотел дать работникам отдела возможность самим разобраться во всех деталях этого дела, самим прийти к правильному решению. Учить лучше всего на конкретных делах…
В тот же день окончательный план операции был представлен генералу и утвержден им.
«Мгновение истины»
В то утро Купец проснулся рано. В последний раз внимательно прочитал он донесение, напечатанное на папиросной бумаге. Внес небольшие исправления. Перечитав предложения о том, как лучше посредством радиопропаганды поссорить грузин с армянами и азербайджанцами и жителей этих трех советских республик с русскими, он ухмыльнулся. Предложения казались ему очень остроумными. Он подумал, что вот и ему привелось внести свою лепту в ожесточенную схватку. Купец даже льстил себя честолюбивой надеждой, а вдруг его предложения, осуществленные американцами, оставят хоть какой-нибудь след в современной истории. Ему очень хотелось хотя бы наследить в ней.
Затем он еще раз внимательно просмотрел написанные им на трех страницах «установочные данные» о профессоре Михайлове, полученные им от Софи — Сафо. За две недели, с помощью не очень дорогих подарков, ему удалось вновь сблизиться со своей бывшей женой и выяснить у нее многое из того, чем интересовался Уотсон. Правда, Уотсон рассчитывает получить эти сведения при личной встрече через две недели на Выставке. Но Купец решил сделать приятный сюрприз боссу и вложить пакет в тайник сегодня.
День был солнечный. Аппаратом «Вега» без искусственного освещения Купец сфотографировал оба документа на пленку, разрядил аппарат под одеялом, тут же запаковал пленку в заранее приготовленную черную, светонепроницаемую бумагу. Заклеив пакет прозрачным шотландским пластырем, БПЖ уложил его в небольшой магнитный контейнер и спрятал во внутренний карман пиджака. Затем он осторожно сжег напечатанные на машинке листки своих донесений (на железном противне, который держал в комнате специально для этой цели), тщательно измельчил пепел, собрал в конверт черный порошок, сунул конверт в карман, чтобы на улице бросить в урну.
Жеромский с аппетитом позавтракал, накормил кота, перекрестился и в начале одиннадцатого вышел на улицу.
Улица была в это время заполнена народом. Все спешили по своим делам. И никто не подозревал, что человечек с седой щеточкой усов и мясистым носом, медленно идущий по направлению к Кировским воротам, готовится предать их, продать своих сограждан, выдать их. Время от времени Купец, остановившись у витрины, осторожно оглядывался, стараясь определить, нет ли за ним наблюдения. Но все как будто было чисто. Да, «хвоста» нет. Тем не менее четыре с лишним часа колесил по Москве старый волк. Не раз побывав в молодости «в гостях» у ВЧК, он не имел никакого желания возобновлять на старости лет знакомство с чекистами. Только в 15 ч. 30 м., окончательно убедившись, что никто за ним не следит, пришел он на Ваганьковское кладбище. Приняв скорбное выражение, медленно побрел в тот угол, где встречался на похоронах с Уотсоном.
А в это время взвинченный стаканом виски Уотсон в «шевроле» одного из своих друзей-корреспондентов неторопливо ехал по Можайскому шоссе к Николиной Горе, что около села Успенского. За рулем сидел его друг, американский корреспондент. Сзади шумели дети друга, с которыми еле справлялась их мать.
Около станции Перхушково, как и следовало по расписанию, шлагбаум у переезда был опущен. Уотсон выскочил из машины, купил на станции билет и сел в подошедший поезд на Москву. Машина отправилась дальше на Николину Гору.
Купец медленно шел по кладбищу, время от времени осторожно оглядываясь по сторонам. В царстве мертвых он чувствовал себя спокойно. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, он приблизился к заветной могиле. Помех не было. Правда, в нескольких метрах правее «его» ограды кладбищенский рабочий копал свежую могилу. Он уже выкопал довольно глубокую яму, виднелся лишь его затылок. Выбрасывая лопатой землю, он тихо напевал. Этим можно пренебречь, решил Купец: могильщик не обращает на него никакого внимания. Левее, у другой могилы, спиной к Купцу сидели на скамеечке мужчина и женщина. Время от времени женщина поправляла цветы на дорогой ей могиле. И эта пара также ни разу не повернулась в сторону пришедшего.
Старик и вовсе успокоился. Ни одна душа, кроме него и Уотсона, не знала, что именно сегодня, именно в этот час, он придет сюда закладывать тайник. Подойдя к намеченной стойке, Купец присел на корточки, делая вид, будто зашнуровывает ботинок. Вынул контейнер, быстро приладил его к внутренней стороне стойки в траве у земли. Магнит крепко прижал контейнер к железной стойке.
— Вы арестованы, гражданин Жеромский, — услышал он над своей головой негромкий, но властный голос. — Не двигайтесь с места!
Купец — Жеромский еле выпрямился: судорога перехватила поясницу. Рядом стояли два человека. Ужас подкашивал ноги Жеромского, он не мог произнести ни слова.
Первый мужчина, средних лет, быстро ощупал все карманы Жеромского, убедился, что у него нет оружия. Старик все еще пребывал в состоянии нервного шока.
Зубы дробно стучали, ноги тряслись мелкой слабой дрожью. В сознании арестованного смутно тлела мысль: надо попробовать симулировать невиновность, сказать что-то о «недоразумении». Но он чувствовал, что дар речи утрачен. Обычного нахальства, которое он выдавал за бодрость, как не бывало.
— Пройдемте, — сказал мужчина средних лет. — Придется нам кое о чем поговорить.
Жеромского повели в глубь кладбища, вывели через боковой выход, где ждала машина с оперативными работниками. Он шел молча. Его усадили в машину, увезли.
Мужчины быстро вернулись на кладбище. Майор Кривонос уже успел ознакомиться с содержанием магнитного контейнера и вернуть его на прежнее место. Пакетик с пленкой он, конечно, не вскрывал.
Пока Кривонос и его помощники договаривались о следующей операции, к ним подошла женщина.
— Товарищ майор! Десять минут назад Уотсон прибыл из Перхушково на Белорусский вокзал. Три минуты назад отъехал от вокзала на такси. Сейчас едет по Большой Грузинской.
— Прекрасно, товарищи, — ответил Кривонос, — все идет по графику. Полагаю, что он не заставит себя ждать. Каждый из вас знает, что делать. А я на некоторое время исчезну. Скоро увидимся.
Кривонос направился к главному входу. Молодые чекисты заняли позиции. Шпион должен быть захвачен с поличным.
Стивена Уотсона, одного из лучших кадровых разведчиков Центрального разведывательного управления, впервые за все время его нелегальной шпионской работы в Европе арестовали в тот момент, когда он, уже с магнитным контейнером в кармане, уходил от злополучной могилы, невольно ускоряя неровный шаг.
Для него было предельно ясно: карьера окончена. Он даже не пытался симулировать недоумение — многолетняя выдержка покинула его, он держал себя просительно и даже несколько суетливо.
— Вы миня теперь куда? — от страха он стал говорить по-русски значительно хуже, чем всегда.
— Туда же, — на превосходном английском языке ответил ему майор Кривонос, — куда мы доставляем всех людей, нарушающих законы гостеприимства нашей страны.
К машине Уотсон шел, подняв воротник, избегая любопытных взоров посетителей кладбища. Проходя мимо церкви, на минуту остановился, перекрестился. Затем снова зашагал навстречу неприятнейшим событиям.
«Черт возьми, как все это кончилось. И где? На кладбище! Символично!» — думал Уотсон.
Адольф покидает Москву
Купец — Жеромский сразу же после ареста попросил, чтобы во время обыска кот Адольф был передан сперва соседям, а затем — его бывшей жене Софье Матвеевне Михайловой. Пожалуй, Адольф и был единственным персонажем всей истории, оказавшим серьезное сопротивление. Он выл и орал, не желая покидать теплый диван.
Немало неприятных дней — даже недель — пришлось пережить и Софье Матвеевне. Арестованная по подозрению в шпионаже, она уверяла следствие: бывший муж пытался выведать у нее научные секреты ее нынешнего мужа, чтобы «реалистичнее» написать свой роман из жизни ученых. За иноземное барахло она, оказывается, платила — и немало — профессорскими деньгами: верный себе, Боб рвал, где мог.
У следствия и суда были все основания сомневаться в искренности, раскаяния 38-летней женщины. Поскольку она лишь пыталась стать соучастницей преступления, которое, к счастью, не удалось, она не была приговорена к тюремному заключению. Однако Москву ей пришлось покинуть. Надолго. С Софьей Матвеевной отправился в места весьма отдаленные и закутанный в старый свитер Адольф, потерявший — теперь уже навсегда — московскую прописку. На месте Софье Матвеевне пришлось вспомнить свою старую специальность фельдшерицы. Ей даже были рады в местной больнице.
Профессор Михайлов пережил несколько тяжелых минут, выступая на суде свидетелем. Суд проявил к нему должное внимание, сведя опрос свидетеля к необходимому минимуму. Первое время он пересылал Софье Матвеевне приличную сумму — ее хватало и для нее, и на говяжью печенку для Адольфа. Впрочем, необходимость в этом вскоре отпала: Адольф, явно переоценивший на новом месте свои возможности, оказался недостаточно проворным, и его разорвали местные собаки. Вскоре после этого Софи — Сафо — в который раз! — вышла замуж.
Профессор так и не появлялся на своей старой квартире. Он не уезжал тогда из Москвы в командировку и лишь перебрался, по совету чекистов, на новую, менее обширную, но более удобную и современную квартиру, чтобы избегнуть далеко не супружеского внимания Софьи Матвеевны. После ареста Софьи Матвеевны к нему переехала и преданная душа — Анна Ефимовна. Она ведет сейчас несложное спартанское хозяйство профессора.
День знаменательных происшествий на Ваганьковском кладбище ознаменовался в отделе полковника Борисова и другим приятным событием. Вечером волейбольная команда управления (капитан — майор Кривонос) играла с большим подъемом, можно даже сказать, вдохновенно. С большим счетом разгромила она сборную другого братского управления. Кривонос — он был в ударе — играл виртуозно. Впрочем, неизвестно, чему больше аплодировали болельщики Комитета государственной безопасности — игре команды или дневному успеху ее капитана и его партнеров и коллег. Теперь, когда операция была завершена, о ней узнали все.
В Вашингтоне, в уродливом здании «типографии государственного департамента» — под этой вывеской скрывалось в «Туманном дне» Центральное разведывательное управление, — царило нечто, весьма напоминающее траур. Начальник отдела Р-2 Бутч Стаймастер, вызванный к Аллену Даллесу, директору ЦРУ, для объяснений по поводу «провала на кладбище», только руками развел:
— Я же предупреждал его, что Москва — это не Париж и не Берлин…
* * *
А через несколько дней генерал снова вызвал к себе полковника Борисова.
— Послушайте, Николай Михайлович, — невозмутимо начал он, поднимая на полковника свои густые мохнатые брови. — Тут вот поступил сигнал. Англичанам и, видимо, через них американцам становятся известными кое-какие данные о постановке у нас, в Союзе, некоторых научных работ. Надо будет…
Внимательно слушал полковник генерала. Начиналось новое важное дело. Развертывался новый раунд борьбы с хитрым, опасным и изворотливым противником.
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Карты на стол
В предчувствия, особенно дурные, лондонский коммерсант Элмер Тилл старался не верить. Тем не менее беспокойство охватило этого в меру современного, в меру консервативного британца, когда на столе задребезжал телефон. В трубке раздался голос Винифред — секретаря директора фирмы «Кресси», в которой Тилл служил коммивояжером.
— Мистер Тэнклесс хочет тебя видеть, Элли. Сейчас. Немедленно.
Винифред добавила еще несколько довольно интимных слов, смысл которых был понятен только ей и Элмеру. Кроликом — «банни» — Винифред называла его с того самого вечера, когда он допоздна задержался в конторе, а она спустилась к нему, чтобы напечатать какую-то «мемо»
[63].
Поднимаясь в лифте, Тилл мысленно перебирал последние данные о реализации продукции. Дела в его экспортном отделе шли неплохо. Но он чувствовал себя не совсем уверенно. Начинала заметно сказываться западногерманская конкуренция, и Элмеру приходилось не раз выступать с предложениями о новых льготах и скидках для клиентов. А совет директоров не любит не только такие предложения, но и их авторов.
Пройдя мимо упруго выпрямившейся на стуле Винифред, одетой в пронзительные фиолетовые цвета, и улыбнувшись ей, Элмер вошел в кабинет.
Тэнклесс беззвучно шагал по толстому — от стены до стены — ковру. Его лицо было покрыто мелкой рябью улыбки. Слабо коснулся он холодной кистью мясистой руки Элмера.
Голый шар черепа был обрамлен желтоватой сединой. Из-за восковых ушей она торчала редкими острыми пучками.
«Птица-секретарь», — невольно подумал Элмер. В прошлое воскресенье он видел ее в Лондонском зоопарке, гуляя с сыном.
Сравнение помогло Элмеру улыбнуться директору. Мысленно он выверял улыбку, изгоняя из нее всякое подобие иронии. Улыбка должна была быть открытой, почтительной и в то же время сочувственной. Тэнклесс страдал язвой желудка, но скрывал мучительную болезнь, не желая уходить в отставку.
Ровно через десять секунд Элмер окончательно понял, что опасаться ему нечего. Он изобразил на лице самую боевую из тех улыбок, которые не раз тщательно репетировал дома перед зеркалом.
— Рад, рад, Элмер, — отрывисто бросил Тэнклесс. — Вы умеете ладить с клиентами. Последняя ваша операция с этими, как их…
— Вычислителями, — подсказал Тилл.
— Ну вот, эта сделка оказалась на редкость удачной.
Элмер смиренно промычал, что для обожаемой фирмы он готов трудиться день и ночь. Мнение мистера Тэнклесса для него весьма лестно. Оно обязывает его еще больше…
Когда Тилл поднял взор от затейливого рисунка старомодного хоросана, кожа на лице Тэнклесса была туго натянута.
— Знаю, знаю, Элмер. Вы преданный работник. Но сейчас у меня к вам есть особое дело… Познакомьтесь с мистером Партли. Он отвечает за безопасность нашей фирмы.
Человечек в обвисшем, словно снятом с чужого плеча, костюме, сидевший до этого на диване, встал, протянул руку. Ладонь была холодной и влажной, что, по мнению знатоков, свидетельствует о слабости характера.
— Рад вас видеть, мистер Тилл, — механически повторял Партли. Тилл понял: собеседник не молод, а его нервная система неуравновешенна. Выражение лица у него было то просительное, то подозрительное, то угрожающее.
Беспокойство, испытываемое Тиллом, нарастало.
— Мы призваны охранять не только технические секреты фирмы, мистер Тилл, — начал Партли без предисловий. — Наше дело — безопасность в самом широком смысле. Понимаете? Самом широком.
Тилл догадывался, что такое «безопасность в широком смысле». Видя, куда гнет Партли, он оглянулся на усевшегося за стол Тэнклесса. Но тот склонился над бумагами, то ли от боли в желудке, то ли из желания сделать вид, что он полностью выключился из разговора.
Партли отступил к дивану, жестом указывая Тиллу место рядом. Элмер опустился на кончик дивана, слишком мягкого для делового кабинета.
Откинувшись, Партли вытянул ноги в кричаще-пестрых аргайлских носках.
— Вы работаете с польскими заказчиками, мистер Тилл, — начал Партли, продолжая обшаривать взором слегка вытянутое, в меру упитанное лицо Тилла с щегольскими, коротко подстриженными рыжеватыми усиками.
— Не пытаются ли они выведать у вас секреты фирмы? Или, может быть, посетить заводы, которые выполняют особые заказы правительства ее величества? Пытаются?
— Нет, — ответил Тилл, сразу же сообразив, о чем идет речь. — Конечно, они задают немало вопросов о том оборудовании, которое мы им предлагаем. Но их интересуют эксплуатационные качества машин, а не технология их производства.
«Вот оно в чем дело, — думал Тилл. — А я-то удивлялся: заказчики здесь уже третий день, а вокруг них еще никто не увивается».
— Каково ваше мнение о Войцеховском?.. — Партли назвал фамилию руководителя польской закупочной группы.
— Он великолепно знает дело, — отвечал Тилл, делая вид, что не понимает, куда гнет его собеседник. — Прекрасно образован.
Партли разочарованно поднял бесцветные мутно-серые глаза.
— Меня, собственно, интересует не только и не столько это, — начал он.
С шумом хлопнув ящиком, Тэнклесс встал со своего вращающегося, обитого темно-вишневой кожей кресла с пружинящей спинкой и мягкими массивными подлокотниками.
— Прекрасно, джентльмены, — проскрипел он. — Вы уже не только познакомились, но и, видимо, поняли друг друга. Я хочу сказать вам несколько слов, Тилл.
Мистер Партли представляет те органы британского государственного организма, которым поручено ограждать высшие интересы страны. Поэтому сотрудничество с ним, лояльное выполнение его пожеланий — это не частное одолжение, но служение государству. Людям, которые добиваются серьезных достижений в этой области, никогда не приходится задумываться над состоянием их дел — они процветают.
Вы, Тилл, — бесстрастно, словно автомат, продолжал Тэнклесс, — показали некую весьма, впрочем, слабую и относительную способность сближаться с людьми, завоевывать их расположение. Это очень важное, очень нужное качество. Его надо развивать и всячески использовать в интересах не только фирмы, но и государства. И если вы сумеете делать это достаточно энергично, ваше будущее обеспечено.
Произнося последнюю фразу, Тэнклесс выпрямился. «Птица-секретарь», — снова пронеслось в голове у Тилла. Но, странно, сейчас в этом сравнении не было уже ничего иронического.
— Вы меня поняли, Тилл? — заключил Тэнклесс.
Разумеется, Тилл отлично понял своего шефа. Но разве он не делает все, что может, чтобы интересы фирмы и государства обеспечивались наилучшим образом? Сделки, заключенные им в Польше, одобрены правлением.
— Это очень хорошо, Тилл, — протянул Тэнклесс. — Но этого недостаточно. Партли, впрочем, разъяснит вам все…
Партли поднял на Тилла свои бегающие глаза.
— Нам, мистер Тилл, нужны подробные списки всех лиц, с которыми вы ведете дела, входите в контакт или просто встречаетесь во время ваших поездок в страны Восточной Европы, и особенно в Советскую Россию.
Нас интересует буквально все об этих людях. Их происхождение, биография, образование. Умны эти люди или глупы? Скромны или тщеславны? Довольны ли своим положением? Достаточно ли им их жалованья? Есть ли у них другие источники заработка или доходов? Любят кутнуть? Увлекаются женщинами? Есть ли у них семья? Какая? Как обстоят дела в семье? Все ли здоровы? Нет ли больных — особенно тяжелыми болезнями, для которых требуются новые «чудо-препараты»?
Главное — узнать их политические настроения. Человек, даже не ненавидящий свой политический строй, а просто недовольный им, — это находка. Активный противник режима — сущий клад.
Тот, кто любит засиживаться в ресторанах, в обществе сговорчивых дам, как правило, нуждается в деньгах. Это тоже представляет интерес для нас. Словом, при изучении «перспективных» людей нужно знать о них мельчайшие детали, в том числе и все их пороки. Только такие данные позволяют нам составить точное представление о слабостях этих людей. Знание их слабостей — это наша сила. Запомните, Тилл! Их пороки — наша сила!
Тилл глядел на собеседника широко раскрытыми глазами. Он, разумеется, знал от коллег и особенно от многоопытного тестя, что пути тех, кто работает в экспортной торговле, рано или поздно перекрещиваются с липкими нитями паутины британской разведки. Но он никогда не думал, что все это произойдет вот так, обыденно, в этом кабинете. Элмер понимал, что отказ от сотрудничества с ревнителями «высших интересов» государства равносилен деловому самоубийству. Теперь он даже был, пожалуй, рад: открываются дополнительные возможности для развития его карьеры. Да, разумеется, он, Тилл, согласен помогать британской разведке.
— Я готов делать все для мистера Партли и для тех уважаемых кругов, которые он представляет, — помпезно произнес Тилл.
— Мы в этом не сомневались, — столь же церемонно ответил Партли, вставая и протягивая Тиллу влажную вялую руку. — Я прошу вас составить нам подробные справки — по указанному мною плану — на всех людей, с которыми вы вели дела во время вашей поездки в Варшаву.
— Великолепно, сэр! — вскричал Тэнклесс, не сводивший все это время взора со своего коммивояжера. — Прекрасно! Я рад, что вы поладили…
— Разумеется, мистер Тилл, — поспешно добавил Партли, — наши отношения следует сохранять в самой глубокой тайне. Не советуйтесь ни с кем, даже с женой. Вы знаете, жены не проявляют в подобных делах должной смелости.
— Жена ничего не узнает о наших отношениях, мистер Партли, — заверил Тилл. — Я, конечно, не доктор Джекил и не мистер Хайд
[64], но есть ряд аспектов моей жизни, о которых жена ничего не знает.
Растянув в улыбке дряблое лицо, Тэнклесс пожал руки обоим и начал подталкивать их к выходной двери. Попрощавшись с Партли, он задержал на несколько минут Тилла. А когда тот вышел в приемную, там не было никого, кроме Винифред. Гибко изогнув талию, она стояла около стола. Нижняя губа ее была капризно оттопырена.
— Сегодня ты тоже не сможешь отвезти меня домой, Элли?
— Сегодня могу, — ответил Тилл.
Жена отправилась с сыном к деду, и он мог приехать домой попозже.
— Прекрасно, — оживилась Винни. — Через четверть часа внизу, у твоей машины? Да?
— Да, — ответил Тилл, выходя из приемной.
Винни! С нею было связано, пожалуй, больше неприятностей, чем радости.
Гарриет, спокойная, удобная, выгодная жена Тилла, — они были женаты уже двенадцать лет — догадывалась о его связи с Винифред, хотя Тилл действовал очень осторожно. Она начала красить волосы персидской хной, нос ее стал еще острее. Сидя в конторе, Элмер слышал ее голос в трубке телефона три-четыре раза в день. Зная, что Тилл очень любит сына, она извещала его по телефону о его делах — какой балл мальчик получил в школе, как прошел очередной диктант. Тилл принял меры. Он прекратил встречи с Винни («временно» — объяснил он ей), стал внимательнее к жене.
Видя, как заискивает перед ней муж, Гарриет наконец решилась. В мягкий предрождественский вечер, убирая елку для Эндрю, она вдруг опустилась на ослабевшие ноги, села на пол и тихо заплакала.
Лицо Элмера болезненно сморщилось. К счастью, Гарриет заранее продумала всю сцену до мельчайших деталей. Да, ей все известно. Нет, она не собирается устраивать скандала. Но больше так она не может. Элли должен сделать выбор — если ему дорог сын, семья, он должен бросить «эту ужасную»… «эту ужасную»… Он должен уйти из «Кресси». Она поможет ему создать собственное дело. Она уже говорила с папой. Он даст деньги — пять, может быть, восемь тысяч фунтов. Элли создаст собственную контору. Дядя Иеремия поможет обзавестись клиентурой. На экспорте сейчас неплохо зарабатывают.
Расчет Гарриет оправдался. Нет, Элмер не собирается ломать семью. Да, он может дать клятвенное обещание «бросить эту ужасную». Отныне все будет хорошо.
Это было полгода назад. А через три месяца он снова пал. Однажды вечером Винифред, утешившаяся было с долговязым Дереком из отдела рекламаций, зашла поздно вечером в кабинет к Тиллу, и все завертелось сначала. Сегодняшнее предложение Винни удивило Элмера. Из утренней газеты он знал, что Дерек вернулся в Лондон из длительной командировки. Казалось бы, надобность в нем, Элмере, не так уж велика. Тем не менее Винни приглашает его к себе, домой.
Обо всем этом Элмер размышлял, въезжая в тихий, скромный пригород Лондона, в котором жила Винни, молчаливо сидевшая рядом с ним. На заднем сиденье небольшого «остина» лежал большой пакет с джином, вермутом и даже — Элмер решил сегодня раскошелиться — канадским виски.
— Машину лучше поставить в гараж, — выдохнула Винни озабоченно. — Ты ведь сможешь побыть у меня подольше?
— Смогу. До утра, — весело ответил Элмер, не заметив гримаски недовольства, проскользнувшей по лицу Винифред.
Винифред открыла легкие, старинной работы ворота из плетеного железа, отперла гараж. Немало различных марок машин находило здесь ночной приют. Еще недавно среди них преобладали фешенебельные спортивные и полуспортивные модели. Но годы шли, и теперь сюда наведывались лишь скромные «остины», английские «форды» и импортные «фольксвагены» пожилых, не очень удачливых бизнесменов.
Закончен легкий ужин. После ужина в голосе Винифред, лениво мурлыкавшей весь вечер, зазвучали твердые нотки.
— О чем говорил с тобой Партли? — спросила она, напряженно всматриваясь в узоры обоев на стене.
— Ни о чем… кхм… То есть у нас был деловой разговор.
— Он надавал тебе всяких поручений, связанных с твоей поездкой в Польшу?
— Да… то есть нет. Откуда ты знаешь?
— Можешь не отвечать. Меня интересует только твое отношение к этому поручению…
Тилл понял: на интимном уровне проверяется его отношение к разговору, состоявшемуся в кабинете Тэнклесса.
— Поручение будет выполнено…
— Но ты сделаешь это нехотя? Скрепя сердце?
— Видишь ли… — Элмер встал. Неуклюжий в костюме, он был просто смешон в пижаме. «Герой-любовник», — пренебрежительно подумала Винифред. Она едва не расхохоталась, видя его торжественную позу. Но момент был слишком напряженным — она внимательно следила за лицом Тилла, пряча глаза в тени, закрывая невольную улыбку бокалом. — Мы все должны служить короне. Это высшая честь для британца. И конечно, я сделаю все…
— Меня не интересуют детали. Я хочу знать, сумеешь ли ты оказаться достойным…
— Сумею, — уверенно начал Тилл, становясь на колени перед тахтой, на которой сидела Винни. Раздался приглушенный звонок телефона. Винифред сняла трубку, в которой зарокотал — Тилл был готов поклясться в этом — гортанный голос Дерека.
Лицо молча слушавшей Винни просветлело.
— Да, я смогу приехать. Сейчас, — отвечала она, избегая настойчивого взора Элмера. — Нет, не надо, меня подвезут. Если это нужно — я готова.
Винифред встала с тахты. Оглядев себя в зеркале, она вырвала руку из цепких пальцев Тилла, вытолкала его в коридор крохотной однокомнатной квартиры и принялась приводить себя в порядок. Пока она плескалась в ванной и причесывалась, Тилл, одетый, расслабленно сидел на кухне и тянул виски, дожевывая сырой ростбиф. «Сволочь, — думал он мрачно. — Блудливая сука».
Потом Винифред вышла на кухню — еще более обольстительная, чем прежде. Сумрачно и нарочито замедленно, чувствуя, что пьян, Тилл вывел машину из гаража. Винифред, болтавшая без умолку, пару раз положила руку в перчатке на его плечо. Но Тилл был неутешен. «Сука! — думал он. — Сволочь!»
Высадив Винни у одного из ресторанов в Сохо, Элмер отправился домой. Было уже десять часов вечера. Долго заводил машину в гараж, стараясь не оцарапать бока. Открыв дверь ключом, вошел в переднюю. В дверях столовой стояла Гарриет.
— Эндрю заболел, — сказала она. — Пришлось вернуться.
Жена подошла к нему.
— Опять от тебя пахнет этой… этой… — прошипела она.
— Что ты, Гарриет? Мы были у Парсонса. Его жена, шутя, побрызгала меня своими новыми духами.
— Парсонс звонил час назад. Спрашивал тебя…
Ну и не везет ему сегодня! Сперва Партли, потом эта… теперь Гарриет. Краем глаза он следил за женой. Но та была спокойна. Войдя за ним в столовую, она села на диван. Элмер молча уселся за стол.
— Нам надо поговорить, Элли. Окончательно. Ты не настолько пьян, чтобы этот разговор отложить. Я давно уехала бы к папе, если бы не Энди. Мальчику нужен отец. Поэтому: либо я уезжаю, либо ты принимаешь мои условия.
— Какие?
— Ты уходишь из «Кресси». Папа помогает тебе создать собственное дело. Ты никогда больше не увидишь эту… Еще одна встреча с ней, и я начинаю бракоразводный процесс.
— Мы ведь договорились, Гарриет. Я честно выполняю свою часть сделки, — не очень уверенно начал Тилл.
— Не надо так говорить… — голос Гарриет дрогнул. Она поднесла платок к носу. — Это моя последняя попытка спасти семью для Эндрю. На большее меня не хватит.
— Условия приняты. Но если бы ты знала, Гарриет, — протянул Элмер устало. — Если бы ты знала…
Тиллу было искренне жаль себя. Нет, она так и не узнает, на какие жертвы, на какой риск идет он ради семьи, ради нее и Энди. Опустив голову на руки, он зарыдал пьяными слезами. Гарриет сидела выпрямившись, глядя прямо перед собой. Лицо ее было бесстрастным.
Только на следующий день, трясясь в автобусе по дороге на работу, Элмер Тилл сообразил, что, собственно говоря, дело, за которое он вчера взялся с такой легкостью, ничего хорошего ему не сулит. Тилл знал нескольких коммерсантов, которым содружество с Интеллидженс сервис принесло очень большие неприятности. Вспоминая все новые случаи, Тилл испытывал все большее беспокойство. Приехав в «Кресси» и поднявшись в свою комнату, он был близок к панике. Нет, нет. Он наплюет на этого паршивого Партли. Пусть интересы короны продвигают вперед люди, которым положено делать это в силу их профессии, должности, чинов и званий. Он, Элмер Тилл, — человек маленький. Он и без того достаточно вертится ради сравнительно скромных доходов, которые ему удается вышибить из этой злосчастной «Кресси». Знаем мы эти обещания, которые расточал вчера Партли. На банковских счетах главных акционеров фирмы появятся новые тысячи фунтов, а ему, Элмеру Тиллу, придется гнить в тюрьме где-нибудь в чужой стране. Не будет этого! У него семья, сын. В конце концов, заработать на жизнь можно и сидя дома, в тихой, древней, сентиментальной Англии.
Заработать? Элмер вспомнил, как спился, задавленный безработицей, Уиллард Кэрти. Никто ничего толком не знал, но Тилл несколько раз видел Кэрти с Партли. Затем Уилла уволили. Восемь месяцев не мог найти работы он, знающий инженер, с его опытом запутанных экспортных операций. Сам Тилл не видел Кэрти — он боялся встретиться с человеком, убитым жизнью: он должен был бы помочь ему. А помочь Кэрти было нельзя. Теперь Тилл знал: партли не прощают тех, кто отказывается подчиниться их злой воле.
…В этот вечер Элмер Тилл сидел в своей собственной конторе. Да, ему удалось создать скромную, но вполне рентабельную экспортную фирму: помог богатый тесть. Гарриет немного успокоилась, разговоры о разводе прекратились. Можно подумать и о себе.
Как бы отвечая на его мысли, на столе мягко проурчал приглушенный баззер телефона.
— Слушаю — механически ответил Элмер, сняв трубку и услыхав в ней свое имя.
— Элли, — замурлыкала в трубке Винифред. — Как можно так опаздывать? Жду тебя два часа, а от тебя ни звука. Мог бы позвонить…
По капризному тону Винни Элмер понял, что этот никчемный красавец Дерек из «Кресси» уже сидит у нее на диване в носках, сбросив с длинных ног узкие итальянские ботинки и посасывая «виски-саур».
— Если ты не приедешь сейчас же, я отправлюсь в Сохо, — модулировал капризный голос.
Тилл знал эти низкие горловые ноты. Они означали, что Винни уже не в платье, а в прозрачном легком халате. Она только что приняла душ и свежа той восхитительной свежестью, из-за которой Тилл поставил под угрозу свой двенадцатилетний — такой выгодный — союз с Гарриет.
Гарриет! Мысленному взору Элмера предстала сухая, жилистая шея супруги. Он стиснул телефонную трубку.
— Я не могу приехать сегодня, — стараясь сдержаться, бросил он. — До свидания, дорогая.
«Дрянь, — бормотал он расслабленно, доставая сигарету. — Блудливая дрянь».
Мягко хлопнула дверь. Тилл поднял глаза. В кабинете стоял Партли. Он вошел без стука. Вечер летел к дьяволу. К чертям собачьим.
Со времени последней встречи с Партли прошло более полугода. Не вставая из-за стола и не отвечая на негромкое «Хэлло, Тилл. Рад вас видеть», Элмер с ненавистью уставился на мятое лицо Партли.
Не снимая пальто, Партли опустился в кресло. Не спрашивая разрешения, с расчетливой неторопливостью закурил.
— Вы хотели избежать встречи со мной, Тилл? — спросил Партли негромко. — У вас есть для этого какие-либо мотивы?
— У меня были другие планы на сегодняшний вечер, — сухо ответил Элмер.
Партли, выпустив изо рта неожиданно красивое колечко, закрыл безгубый рот, наблюдая, как поднимается к потолку медленно изгибающийся жгутик синего дыма.
— Если вы, Тилл, — жестко начал он, — хотите, чтобы ваш новорожденный бизнес не скончался, не успев окрепнуть, вы должны быть значительно любезнее с нами.
— С кем это с «вами»? — наступательно начал Тилл, решив раз и навсегда выяснить отношения.
— С людьми, отвечающими за безопасность международной коммерции. С теми, для кого интересы империи не ограничены парламентом и министерством иностранных дел. Мы называем себя джентльменами государства. И мы намерены оставаться ими, разразись на земле ад или потоп. Ваша обязанность, ваш долг — помогать нам. Активно, с умом, сметкой. С воображением, наконец!
Удивленный этим довольно связным монологом, Тилл смотрел на Партли. Мятое лицо говорившего отвердело, словно высохшая глина. В голосе звучал металл. Глаза, мутные и вялые, теперь блестели. Тилл ощутил нечто вроде раскаяния, скорее даже страха перед этим человеком.
— Я делаю все, что вы от меня требуете, мистер Партли, — просительно заговорил он.
— То немногое, что вы «делаете», Тилл, делается на редкость плохо и небрежно. В прошлый раз вы просидели в Москве целых три недели, а вернувшись, смогли назвать нам лишь одного представителя советского министерства экспортной торговли, с которым вы вели переговоры. Не сумели даже выяснить, есть ли у него семья, какая, сколько детей. Пьет ли он? Играет ли в карты?
— Он был очень любезен, но ни словом ни обмолвился о семье… — в голосе Тилла звучали извиняющиеся нотки.
— Никто не говорит о семье в служебном кабинете. Вы приглашали его в ресторан?
— Он был настолько официален, что я опасался получить отказ.
— Тогда надо было найти другого. Неужели из всех, с кем вы встречались, не нашлось ни одного любителя поужинать в «Метрополе»?
— Я не ставил своей задачей…
— Мы ставим это вашей задачей…
Тилл был подавлен. Видя, что сопротивление сломлено, Партли резко изменил тактику.
— А между тем какие перед вами открываются возможности, — заговорил он мягко, почти вкрадчиво. — Мы можем обеспечить вам прекрасную клиентуру. У нас немало друзей в высших кругах. Вы можете стать крупным бизнесменом, удвоить, утроить доход. Неужели вы не хотите сменить свой скромный «остин» на «роллс-ройс»? Тогда зачем же вы пустились в коммерцию? Коммерсант, который не стремится всегда быть крупнее и крупнее, это не коммерсант, а недоразумение. Вы — недоразумение, Тилл? — с неожиданным напряжением во всей фигуре наклонился вперед в кресле Партли.
— Нет. Разумеется, нет. Откуда вы взяли? — испуганно вскинулся Тилл.
— Имейте в виду, — почти не скрывая торжества при виде этой откровенной паники, продолжал Партли, — если вы и на этот раз попробуете отделаться пустяками, «Элмер Тилл лимитед» зачахнет. Мы вас раздавим!
Тилл угодливо наклонился вперед, всем своим существом выражая страстное желание быть полезным. Быстро сменялась гамма настроений. Сопротивление уступило место преданности. Преданность — готовности.
Партли встал, неторопливо подошел к столу, уселся в кресло, предупредительно освобожденное Тиллом, вынул из бумажника небольшую мелко исписанную бумажку. Властным жестом указал Тиллу на кресло напротив стола. Тилл покорно сел.
— Когда вы выезжаете в Москву? — жестко спросил он.
— В пятницу, — прозвучал ответ. — Билет на ТУ-104 уже заказан.
— Ну так вот. В московском аэропорту вас встретит наш человек. Кличка — Бой. Вот его фотография.
Тилл всматривался в фотокарточку. От напряжения у него, казалось, шевелились уши. Угодливо кивая головой, он ловил слова, вылетавшие из узкой щели рта Партли. Черт с ней, Винни. Дьявол с ним, с этим Дереком. Есть дела поважнее. И — что главное — прибыльнее.
Миссионер измены
Мохнатые верхушки сосен. Тонкие ниточки рельсов. Букашки автомобилей на темном асфальте. Кирпичные постройки с приземистой силосной башней. Весеннее поле, задумчивое, сосредоточенное. Земля, раскрывшаяся навстречу солнцу.
Сверху земля выглядела как и в Шропшире. Не было только межей, тонкими швами перерезающих луга. Глядя вниз, Элмер ощущал смутное чувство виновности перед этой землей, словно потягивающейся в парной весенней дымке. И — страх. Мутный, темный, он ползал где-то в глубинах его сознания, словно ночной туман.
«Откуда он, этот страх?» — думал Тилл. И тут же вспомнил:
Бой! Он должен встретить его. Наверное, торчит уже в вестибюле аэропорта. Смотрит сквозь стеклянные стены, нервно жует губами. Черт бы его побрал, этого Боя. Неужели в Москве не бывает автомобильных катастроф? Наконец, он мог бы заболеть и умереть.
Самолет коснулся бетона, слегка подрагивая, помчался по посадочной полосе. Тилл торопливо вынул из кармана темные очки. Он чувствовал: без этого камуфляжа у него не хватит решимости взглянуть в глаза русским пограничникам. А они вот-вот войдут в самолет.
Тилл уже бывал в Москве. Тогда он еще только начинал свою коммерческую карьеру. Разные чувства испытывали иностранцы, впервые оказавшиеся в советской столице. Одни встречали Москву радостно, рассматривали ее увлажнившимся взором. Другие с трудом прятали холодное любопытство искушенных глобтроттеров. Третьи проявляли искренний интерес, четвертые либо не скрывали раздражение и злобу, либо наспех прикрывали их неискренней механической улыбкой. Но никто не оставался равнодушным. Ибо за коротким словом «Москва» скрывалось что-то огромное, небывалое, невиданное.
Тилл вспомнил: тогда он ожидал увидеть на московской земле людей высоких, словно вытесанных из камня, величественных, но грубых, как скульптуры Торвальдсена, медлительных в словах, неторопливых в движениях. Он очень удивился, увидев, что девушка в изящном синем полуформенном пальто, стоявшая у подножья трапа, была невысокой и очень стройной. Из-под пилотки выбивалась прядь великолепных, не оскверненных краской волос цвета плавленого золота. Лицо, подернутое персиковым пушком, было трогательно нежным. Но больше всего его поразили глаза. Спокойные и внимательные, дружелюбные, но независимые. В них было столько человеческого достоинства, такая уверенность в жизни, в друзьях, в людях, что Тилл испытал чувство, очень похожее на зависть.
«Они, наверное, не знают бессонницы», — подумал он тогда.
Разумеется, Тилл понимал, что и в Москве люди не только рождаются, растут и крепнут, но и страдают от недугов, умирают. Но, будучи наблюдательным от природы человеком, он быстро убедился, что эти люди обладают самым драгоценным здоровьем — здоровьем помыслов, повседневных дел, немудреных и мудрейших, простых и величественных, обыденных и небывалых.
Тилл помнит, как однажды в московском трамвае наблюдал за вагоновожатой — юной красавицей в скромном ситцевом платье. Решительно и уверенно орудовала она контроллером и пневматическим тормозом, сдержанно отдувавшимся сжатым воздухом. Пропустила зеленый свет светофора, поджидая старуху, ковылявшую к двери. Открыв боковое стекло, беззлобно ругнула шофера грузовика, едва не ободравшего бок ее новенького вагона. Легко избавилась от подвыпившего москвича, просунувшего было голову в ее крохотную кабинку. Во время одного из заторов взглянула в зеркальце, осмотрелась, поправила волосы, удовлетворенно улыбнулась самой себе.
— В Лондоне такая уже давно была бы на Ноттинг Хилл или в Сохо, — буркнул сопровождавший Тилла дипломат, заметив, как Элмер смотрит на девушку.
Дипломат неплохо знал русский язык. Но он весьма неохотно отвечал на расспросы Элмера, всем своим видом показывая: ему непонятно, почему, собственно, все это так интересует лондонца.
Вспоминая теперь об этих эпизодах, Тилл неожиданно для себя почувствовал, что боится этих людей, страшится их пристальных, дружественных, но зорких и внимательных взоров. Стащив с верхней сетки туго набитый портфель, он поправил темные очки, словно опасаясь, что они упадут, оставив его один на один со спокойным, проницательным взглядом советского пограничника.
И когда в окне самолета, подрулившего почти вплотную к зданию аэропорта, Тилл увидел обвисшие, как у бульдога, щеки и прищуренные глаза Боя, он почти с ненавистью оглядел его сутуловатую фигуру.
С трапа Тилл спускался одним из последних. Завидев его, Бой бросился вперед. Пожимая мясистую руку Элмера холодными пальцами, лопоча на деревянном английском языке, мелко кланяясь, он старался вырвать портфель из рук прибывшего. Удивленно подняла брови молодая стюардесса, видевшая эту необычную сцену.
Ожидая окончания паспортных формальностей, они уселись в вестибюле, напротив стеклянной витрины «Березки», заставленной румяными матрешками и палехскими шкатулками. По одутловатым щекам Боя стлался нервный румянец.
— Так вы говорите, погода в Лондоне еще сырая? — повторил он. Не слушая ответа, шарил глазами по вестибюлю. Увидев пограничников с паспортами в руках, Бой вскочил с кресла, засеменил навстречу молодому офицеру в зеленой фуражке.
Офицер роздал паспорта. Завладев наконец портфелем приехавшего, Бой повел его к автомобилю, стоявшему в самом углу стоянки, недалеко от ворот.
Из машины выскочил ее хозяин — плотный смуглый автолюбитель с откормленным лицом себялюбивого человека. Он предупредительно открыл заднюю дверцу. Протянутую руку Тилла пожал с почтительной осторожностью.
Подвести Боя и его иноземного гостя с аэродрома автолюбитель напросился сам. Он буквально навязался в извозчики, узнав, что Бой встречает «друга Советского Союза, видного гуманиста и философа». Услужливость автолюбителя как нельзя больше устраивала шпиона.
Сидя за рулем «волги», автокучер пытался уловить что-либо из разговора, происходившего за его спиной. Но он не мог разобрать ни единого слова. Тилл говорил негромко, глотая многие звуки. А разговор в машине шел напряженный.
— Ваши друзья шлют вам большой привет, — закуривая сигарету, сказал Тилл. — Они очень рассчитывают на вашу помощь.
— Делаю все для расширения возможностей, — осклабился Бой. — Кое-чем смогу порадовать уже сегодня. — Он слегка дотронулся до бокового кармана своего пиджака.
Глядя в окно, Тилл видел: утробно рыча, разворачивают глинистый грунт бульдозеры, прокладывая трассу новой дороги. Нестройным лесом торчат над крышами телевизионные антенны. Промелькнули светлые корпуса какого-то завода. Машина вышла к стальной арке моста, ажурно изогнувшейся через канал. Открылся вид на многочисленные стройки — их бетонные корпуса дружески подпирали металлические плечи кранов.
Разговор явно не клеился. В машине царило напряженное молчание. У Тилла, вертевшего головой, начинала болеть шея. Бой смотрел на знакомый пейзаж чужим взором, глазами врага, злобного и ненавидящего.
Поглядывая искоса на своего соседа, Тилл почуял, какие мысли терзали его.
— Ваши друзья все время думают о вас, — заговорил он вполголоса. — Мне поручено передать вам, что изучаются несколько вариантов вашего (он чуть не сказал «побега»)… перехода к нам на случай, если вам не удастся снова выехать в командировку за границу.
— Надо еще здесь поработать, — пробормотал собеседник.
Вдруг Бой сжал локоть Тилла, показывая глазами на водителя. Взор англичанина, направившийся туда же, окаменел. К машине, стоявшей у самого тротуара перед светофором, направлялся неторопливым шагом милиционер. Лицо у него было сосредоточенное, даже угрюмое.
Кровь отлила от лица Элмера, щеки его посерели. Приоткрыв рот, он с ужасом взглянул на Боя. У того на виске мелко пульсировала жилка.
Перекинувшись к правому окну, водитель с игривой угодливостью крикнул:
— Чем порадуете, товарищ старшина? Вроде едем правильно, по науке.
Милиционер подошел к окну, за которым сидел Бой, и показал пальцем куда-то на переднее крыло.
— Вмятину надо выправить. Нельзя так ездить по городу.
Пытаясь опустить стекло, Бой слабо царапал негнущимися пальцами обивку дверцы. Теперь кровь отхлынула от щек, на неестественно побелевшем носу выступила сетка синих жилок. Из пересохшего горла вырывалось какое-то карканье. Он взглянул на Тилла. Тот расслабленно шаркал ногами, пытаясь приподняться на сиденье.
Не столько слухом, сколько интуицией Бой уловил наконец смысл ситуации. «Не здесь. Не сейчас», — понял он.
— Трэффик коп (уличный полицейский), — прохрипел Бой, отжимая локтем вниз руку англичанина, чтобы тот не впал в панику. — Петти трэффик оффенс (мелкое нарушение правил).
Милиционер махнул рукой, отпуская машину. Тилл расслабленно улыбнулся, вытащил из бокового кармана плоскую стеклянную фляжку. Он отвернул колпачок, глотнул несколько раз, передал своему спутнику.
— Не терпится, — осклабился водитель. — Рано начинаете.
— За встречу! — Голос Боя уже немного окреп. — Дал бы и тебе, да нельзя. В гостинице получишь цельную.
— Железно!.. — осклабился водитель, включая указатель поворота.
В номере, едва поставив чемодан приехавшего, Бой опустился в кресло, стараясь унять противную дрожь в коленях. Тилл налил в стакан виски, подал гостю. Затем Бой достал из кармана толстый пакет, оклеенный липкой шотландской лентой, передал Тиллу. Тот бережно уложил пакет во внутренний карман пиджака, застегнул карман на пуговку. Вынул толстый, размером с книгу сверток, передал шпиону. Нетвердой рукой спрятал Бой сверток подальше.
Беседуя о пустяках, допили бутылку. Распрощались, условившись встретиться завтра в учреждении, с которым вел дела своей фирмы Тилл и где работал Бой.
Дома Бой развернул пакет. И побледнел: кроме инструктивного письма, отпечатанного на машинке, в свертке в отдельном пакете лежали советские деньги.
«Тэээк-ссс, — злобно пронеслось в мозгу шпиона. — Хотите покупать по частям — за наличный расчет. Если что случится — мы, дескать, ни при чем. Наше дело купеческое: нам принесли — мы заплатили. Нет, голубчики, от меня по дешевке не откупитесь. Я не ларечник какой-нибудь, что торгует на десятку в день. Платить мне будете по большому счету. Валютой. И тогда, когда я к вам пожалую за расчетом».
Несмотря на некоторую туповатость, Бой в основном правильно понял расчет своих хозяев. Они довольно точно оценили материалы, переданные им ранее через Тилла. Ничего особенного эти материалы не представляли. Кое-что, особенно данные о старых советских ракетах, уже было известно английской разведке. Некоторые данные о партийно-политических делах представляли весьма ограниченный интерес. Услуги изменника оплачивались — на первый раз — по несколько повышенному тарифу. Но можно быть уверенным: как только Бой перестанет быть полезным его хозяевам, они, не задумываясь, предоставят его собственной судьбе, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.
Смутно догадываясь об этой тактике, Бой решил сразу же дать понять англичанам — если хотите вести дела, соблюдайте уговор: расчет в валюте после побега за кордон. Не удастся выехать за пределы Союза — обеспечивайте побег, даже если для этого придется прислать подлодку или самолет. Нет, эти деньги он не возьмет. Завтра же вернет их Тиллу. Теперь — письмо.
«Дорогой друг, — писали шпиону его лондонские хозяева. — Мы были очень рады получить ваши письма: они оказались очень ценными для нас. Разумеется, нас интересуют более современные данные, но мы понимаем, что это — лишь начало. Мы уверены, что по мере расширения круга ваших связей вы будете добывать все более важные сведения. Поэтому не затягивайте с возобновлением ваших знакомств среди старших военных, о которых вы говорили нам в свое время.
Посылаем вам немного денег для поддержания этих знакомств на том уровне, на котором они дают полезные нам результаты. Что касается этих результатов, то, не затягивая с ними, не торопитесь и не форсируйте там, где получается не сразу.
Сейчас нас очень интересует личный состав командования Московской зоны ПВО, если можно, с адресами. У вас их можно раздобыть за несколько копеек в справочных киосках. Если вам удастся сфотографировать пропуска в высшие военные учреждения — присылайте фотокадры. Наш общий друг передаст вам резервный фотоаппарат «Минокс» и новые пленки. Он же свяжет вас с людьми, которые будут постоянно поддерживать с вами связь на месте».
Далее следовали подробные наставления по технике шпионской связи. Завершалось письмо выражением надежды на встречу в Лондоне.
Прочитав письмо, шпион несколько успокоился: «Ждут встречи в Лондоне». Нет, видимо, его не собираются бросать на произвол судьбы. Придется деньги взять. Пригодятся. А там — видно будет.
Дом на набережной
Встреча Тилла с одним из представителей Сикрет интеллидженс сервис в посольстве была обставлена довольно хитро. Она происходила не в служебном кабинете второго секретаря Роберта Грайпсхолма, а в посольском клубе, где Грайпсхолм состоял чем-то вроде президента.
Увидев вошедшего, Грайпсхолм прибавил громкости в радиоприемнике, стоявшем рядом с его столом, запер дверь, поздоровался с Тиллом, указал ему место на диване. Продолжая болтать о пустяках, Тилл передал Грайпсхолму пакет, полученный им от Боя. Шевеля короткими усиками, второй секретарь тщательно осмотрел упаковку, подошел к сейфу, положил в него пакет, ключ спрятал в карман. Подошел к Тиллу, сунул ему бумажку, пожал руку, отпер дверь. Тилл уложил белый листок в бумажник.
— Вы правы, в этом наше несчастье… Хотя у вас, дипломатов, времени тоже в обрез. Так вы думаете, что сегодня ничего интересного в клубе не будет? Тогда, может быть, есть билет в оперу? Есть? Сколько же он стоит? Бесплатно? Великолепно. Спасибо.
Тилл вышел из кабинета президента клуба и направился… вы правы, читатель, в туалетную комнату. Развернув записку, прочитал:
«Завтра в три часа дня приходите по адресу: Кутузовский проспект, дом 8, кв. 37, третий подъезд. Дверь будет приоткрыта. Получите материалы для друга. Назначьте с ним обед в четыре часа».
Вечер Тилл провел в оперном театре, сверкавшем сдержанной солидностью отделки. Голоса были хорошие, оркестр превосходный, художник блеснул не только талантом, но и свойственным русским размахом. Тилл почти забыл, что приехал в этот город с тяжелым камнем за пазухой. А когда вспомнил об этом, старался не думать: все-таки он был не профессиональный шпион, а бизнесмен. Где-то в глубинах его души беспокойно шевелилось время от времени что-то вроде совести. Точнее, пожалуй, страх.
Встреча — легальная — Тилла с Боем состоялась на следующий день в два часа дня в его служебном кабинете в одном из государственных технических комитетов, где Бой занимал средний по своему значению пост. Здесь он представлял собой воплощение сухой официальности. Встречать Тилла вниз, в холл, он послал одного из переводчиков. Когда тот привел коммерсанта в кабинет, Бой, обладавший немалым искусством перевоплощения, сдержанно поздоровался, выйдя из-за стола на середину комнаты. Затем снова уселся за стол, указав Тиллу место за «совещательным» столиком, примыкавшим вплотную к письменному столу. Усадил напротив коммерсанта переводчика, поручив ему делать заметки для докладной записки руководству об этом визите.
Тилл еле сдерживал смех, глядя, как важничает человек, которого он мог бы сбить с ног буквально одним словом, одним намеком. Шпион важно перекладывал с места на место бумаги, надувал отвисшие щеки, с значительным видом молчал, перед тем как ответить на вопрос собеседника, хотя вопрос был пустяковый. Элмер понимал: Бой играет на «публику», скорее даже на «галерку», то есть на переводчика, которого он стремился буквально подавить своей важностью, содержательностью своих суждений, сдержанностью и солидностью.
Беседа закончилась сравнительно быстро. Тилл интересовался составом научно-технической делегации, которая должна была выехать вскоре в Англию в ответ на недавний визит в СССР группы британских инженеров и коммерсантов. Он записал пожелания делегации в отношении маршрута и объектов, которые они хотели бы осмотреть в Англии. На все эти вопросы ему были даны подробные ответы. Тилл обещал выяснить, чем он может помочь в организации поездки и т. п.
Во время беседы Бой, оставив гостя с переводчиком, зашел к своему непосредственному начальнику. Кратко рассказал о визите гостя. А затем, в соответствии с обычной служебной практикой, спросил:
— Как вы думаете, стоит пойти с ним пообедать в ресторан?
— Вряд ли. Да и зачем, собственно? Еще подумает, что мы добиваемся через него каких-то привилегий. Он ведь еще здесь пробудет некоторое время?
— Да, с неделю. У него дела в министерстве внешней торговли.
— Ну вот видите. Кончится визит — тогда и покормим его обедом.
Из кабинета Бой вышел раздосадованный. Его обед с Тиллом должен был состояться именно сегодня. Он был совершенно уверен в том, что эта, вторая, встреча с коммерсантом будет ему разрешена. Придется идти на риск — шпионом теперь владела чужая воля. Он был подвластен и должен был покоряться, чего бы это ему ни стоило.
К концу беседы Бой, надеясь, что обойдется без обеда, услал под каким-то предлогом из комнаты переводчика.
— Нам придется с вами сегодня пообедать вместе, — по-хозяйски распорядился Тилл. — Я принесу вам кое-что.
— Не могу, — ответил Вой. — По глупости спросил разрешение у начальника, а он не разрешил. Говорил — устроим обед в конце вашего визита.
«Дудки, — подумал Тилл. — Придешь сегодня, как миленький». Он не хотел целые сутки носить с собой какие-то материалы для Боя, которые должен был передать ему Грайпсхолм. Уж он-то знал, в какие неприятности могли впутать его эти материалы.
— Это совершенно необходимо, — сказал он мягко. Но в глазах его Бой прочитал: это — приказ…
— Хорошо, — быстро, опасаясь, что войдет переводчик, ответил Бой. — Когда? Где?
— В четыре часа. Где-нибудь недалеко от вас.
— Ресторан «Пекин» знаете?
— Да…
— В четыре часа. Буду ждать вас в вестибюле… Ну так вот, господин Тилл. Надеюсь, что вы, как добропорядочный коммерсант, поможете нам с организацией этой поездки.
В комнату входил переводчик.
Церемонно, официально, суховато попрощался шпион со своим хозяином. Тот важно вышел из кабинета, солидно спустился с лестницы, подозвал такси.
— Кутузофски проспект, — бросил он шоферу.
Машина помчалась.
Ровно в три часа дня Тилл, отдуваясь, поднялся на четвертый этаж новенького дома — не хотел садиться в лифт, чтобы лифтерша не заметила, куда он поднялся. Дверь нужной ему квартиры была приоткрыта. Не ожидая стука, распахнул ее Грайпсхолм. Приложив палец к губам, приказал молчать, ввел в кухню с плотной, но пропускающей свет портьерой. Уселся за стол, на котором лежала коробка недорогих советских конфет и небольшой пакет с фотоаппаратом «Минокс» и
пленкой к нему. Грайпсхолм передал Тиллу листок бумаги. На нем было написано:
«В коробке — фотокарточки моей жены Анны, с которой он должен встречаться теперь не чаще раза в месяц. Первая встреча, главным образом для взаимного опознавания, обусловлена в письме, лежащем в коробке. Там же — предложения о дальнейших встречах. Если у него есть другие идеи относительно места и порядка встреч, пусть изложит их в письме, которое передаст при первом контакте. Фотокарточки вы должны возвратить мне. Понятно?»
«Понятно, — написал Тилл. — Когда я могу уехать в Лондон?»
«Ваша миссия будет сегодня закончена. Но уезжать слишком быстро нельзя: можно вызвать подозрения. Тогда начнут изучать всех ваших знакомых. А таких — не много? Верно?»
«Верно, — ответил Тилл. — Придется подождать несколько дней».
В комнате слышалось лишь сосредоточенное сопение Тилла и шуршание шариковых ручек по бумаге.
«Как идут ваши переговоры с министерством внешней торговли?» — писал Грайпсхолм.
«Более или менее успешно. Хочу взять у них поручение на сделки для оформления их через советское торгпредство в Лондоне».
«Как они смотрят на эту идею?»
«Пока — прохладно. Не верят, видимо, что я могу обеспечить что-либо существенное».
«Мы вам поможем через Лондон. Можете обещать им, что обеспечите размещение какого-нибудь их трудного заказа. Но не зарывайтесь».
«Олл райт! Дня четыре еще протяну здесь. Билет буду заказывать завтра».
«Желаю успеха. Сообщите, как пройдет передача Бою коробки. Будьте осторожны».
Так закончилась эта «беседа», во время которой шпион-«дипломат» и его связник не произнесли ни слова. Грайпсхолм встал, высунул голову за наружную дверь, осмотрелся. На площадке не было никого. Спрятав коробку и пакет, Тилл осторожно спустился вниз. Сонная лифтерша, вязавшая что-то круглое, шерстяное, пушистое, даже не взглянула на него.
Пешком дошел Тилл до гостиницы, принял душ, положив пакет перед зеркалом в ванной, переменил рубашку, повязал новый галстук и отправился в ресторан.
Когда обед подходил к концу, Бой и Тилл встали из-за стола, нетвердым шагом направились в туалетную комнату. В туалете Тилл достал фотографию Анны. Бой смотрел с минуту на фото. Обратно, к столу, пакет нес уже Бой.
То ли от доброй русской водки, то ли от сознания, что его опасная миссия наконец выполнена, но к концу обеда Тилл развеселился. Он острил, заглядывался на дам, сидевших за соседним столиком. Встревоженный этой небезопасной развязностью, Бой поспешил расплатиться.
Выйдя из ресторана, повернули на Садовую. И тут Бою, возможно спьяну, показалось, что за ними следят. Как и вчера, по дороге с аэродрома, свинцовым страхом налились колени. Рванулся судорожно в какой-то двор, торопливо попрощался с Тиллом, вышел через другие ворота. Никого. Нет, видно, ошибся. Шагал, ища глазами такси, чувствуя, как холодными струйками ползет по лбу липкий пот.
Через несколько дней Тилл улетел в Париж, увозя с собой льстивое письмо Боя, начинающееся словами: «Дорогие сэры!..» Шпион униженно благодарил за деньги, обещал приложить все усилия, чтобы выполнить полученные задания. Сообщал, что добивается командировки на предстоящую советскую выставку в Париже. Просил о личной встрече там, если этот его план осуществится.
Вашингтонские «пивовары»
…«Туманное дно» (Фогги боттом) Вашингтона. Неподалеку от массивного корпуса государственного департамента, у длинной высокой ограды из проволочной сетки, увенчанной тремя рядами колючей проволоки, останавливается туристский автобус. За оградой — группа зданий из темно-красного кирпича. Вдалеке — высокие средневековые башни старого пивного завода.
Гид, сидящий впереди, рядом с шофером, подносит ко рту небольшой микрофон:
— А здесь, джентльмены, работают наши шпионы. Для отвода глаз на вывеске написано, что тут располагается типография государственного департамента. Но мы-то знаем, кто здесь находится. Си-Ай-Эй! (Центральное разведывательное управление — ЦРУ.)
Си-Ай-Эй! — торжественно повторил гид.
— Вон там, — гид ткнул рукой в сторону главного здания, — находится кабинет директора Си-Ай-Эй достопочтенного Аллена Уэлша Даллеса. Это наш «мастер спай» (главный шпион).
Вам хотелось бы узнать, что здесь делают, джентльмены? Да? Мне тоже…
Взревев моторами, автобус тронулся. Заговорщически подмигнув пассажирам, гид прицепил микрофон крючком к широкому кожаному поясу. Туристы-провинциалы вытягивали шеи в сторону проволочной ограды.
В этот день и в этот час в кирпично-красном здании дирекции ЦРУ, по улице Е-стрит, № 2430, Норт-уэст, заседал под председательством «мастер спая» так называемый совещательный разведывательный комитет, состоящий из представителей всех разведывательных служб Америки. Как всегда, в такой день все двери были заперты и забаррикадированы. В здание никого не впускали и не выпускали из него.
Территориальная близость ЦРУ к государственному департаменту была отнюдь не случайной. Слишком часто консульская и дипломатическая служба Америки служит ширмой, прикрытием для американской разведки. Слишком часто агенты ЦРУ выезжают в иностранные государства с дипломатическими паспортами.
Возглавляемый директором ЦРУ совещательный разведывательный комитет состоит из представителей всех разведок — военной, морской, авиационной, внешнеполитической, Национального агентства безопасности, разведывательной службы государственной тайной полиции — ФБР и всех контрразведок. На таких заседаниях обычно присутствуют руководители разведывательных ведомств — комитет утверждает так называемую государственную разведывательную сводку. В ней обобщена вся разведывательная информация за истекшую неделю. Сводка представляется Белому дому утром в четверг, накануне заседания кабинета.
Проект сводки, розданный в начале заседания, уже согласован. Сведения, содержавшиеся в ней, весьма неутешительны для присутствующих. Революционный режим на Кубе укрепляется, оказывая все большее влияние на настроения в Латинской Америке. В Советском Союзе благополучно завершена стройка новой гигантской электростанции на Волге. Движение в африканских странах за государственную независимость нарастает с такой силой, что, как сообщило в секретном меморандуме британское правительство, оно вынуждено отказаться от тактики проволочек и в ближайшее время освобождает еще несколько стран Африки. Франции становится все труднее удерживать свои позиции в Алжире. В ближайшие месяцы ей придется признать алжирский Фронт национального освобождения и начать с ним переговоры о предоставлении Алжиру независимости. Сколько ни затягивай эти переговоры, в конце концов Франции придется уйти из Алжира.
С небольшими исправлениями проект сводки, подготовленный заместителем директора ЦРУ генералом Кэбеллом, утвержден. Подписав сводку, Даллес вынул изо рта изгрызенный мундштук трубки.
— А теперь, господа, поговорим вот о чем. Имеются данные о том, что подготовка к запуску в Советском Союзе космонавта на орбиту вокруг Земли продолжается успешно. Имеются неподтвержденные данные о том, что система обеспечения внутрикабинного режима требует небольших доделок. Видимо, поэтому первый полет человека в космос отложен русскими на весну — скорее всего на начало апреля.
Мы отстаем от русских примерно на год, — продолжал Даллес. — Кроме того, они планируют полный орбитальный полет. А мы сможем лишь подпрыгнуть в космос миль на триста. По мнению специалистов, полную орбиту наш космонавт сможет описать вокруг Земли лишь через год.
Следовало бы поэтому… — Даллес глубоко затянулся трубкой, — сорвать подготовку полета. Есть ли у нас какие-либо возможности для этого?
— Что вы имеете в виду? — отрывисто спросил начальник военной разведки генерал Катлер.
— Все, что хотите, — бросил Даллес. — Взрыв ракеты. Уничтожение стартового устройства. И мало ли что еще…
— Это было бы неплохо, — несколько язвительно заметил генерал. — Но пока удалось лишь установить — с помощью радара из Пакистана — местонахождение космодрома в Байконуре. Мы не знаем, где тренируются космонавты, сколько их, кто они. Нам не известно имя главного конструктора ракет и космической капсулы. Мы не знаем, где они производятся, какой научный институт работает над ними.
— Да, — заметил начальник военно-морской разведки адмирал Киллэндкат. — После того как русские «расшифровали», осудили и расстреляли полковника Зебровского, наши возможности в этой области оказались сведенными почти к нулю.
— И тем не менее, господа, нужно попытаться что-нибудь сделать, — продолжал Даллес. — Надо находить новых людей. Неужели нельзя купить ни одного русского за несколько тысяч долларов? В средствах мы не стеснены.
— Трудно, очень трудно привлечь хотя бы одного человека, — заговорил заместитель директора ФБР Долсон. — Наших людей в Москве мало, очень мало. Поэтому я не стал бы сейчас поручать кому-нибудь из них диверсионные операции. Единственная надежда — забросить в Россию наших людей отсюда. Но их берут там почти сразу же. Кроме того, их практически невозможно «подключить» к нужным объектам. Они не выдержат той Тщательной проверки, которой подвергаются у русских все сколько-нибудь сомнительные люди в таких учреждениях. Надо стараться привлечь новых людей. Из тех, кто давно работает в таких учреждениях, числится на хорошем счету.
— Дело это сложное и долгое, — выдохнул генерал Катлер. — Таких людей надо изучать, ощупывать, тщательно выискивать их слабые стороны. На это уходят годы.
— Я попрошу вас, — сказал в заключение Даллес, — просмотреть все архивы военных и послевоенных лет — нет ли в них каких-либо зацепок, какого-нибудь неиспользованного нами человека. Инструкции нашим людям в Москву уже посланы: усилить поиск.
Директор встал, показывая, что совещание закончилось.
Попрощавшись с участниками совещания, директор взглянул на часы, вызвал офицера безопасности. Под пристальным взором директора тот собрал в металлический портфель все, что лежало на столе. Директор запечатал портфель личной печатью, прошел с офицером в «комнату сейфов», в которой сидели три автоматчика. Здесь его портфель был уложен в массивный сейф с комбинацией, составленной из только ему известного цифрового набора. Закрыв сейф и повернув несколько раз диск, директор вернулся в кабинет, надел пальто и, выйдя из здания, уселся в большой черный лимузин.
— Домой, — бросил он молчаливому шоферу атлетического сложения. Помимо жалованья, Даллес платил ему дополнительно двойную сумму из личных средств. Расход оправдывался: шофер-телохранитель уже два раза спасал жизнь директора, когда на того набрасывались — в первом случае брат, а во втором — отец молодых людей, погибших во время диверсионных операций ЦРУ в джунглях Южного Вьетнама.
Машина мягко остановилась у почти сплошь увитого плющом дома в Джоржтауне — чопорном районе Вашингтона, в котором находится университет иезуитов. Пока шеф разведки отыскивал ключ и затем открывал им сложнейший замок, шофер, сидя в машине, внимательно оглядывал улицу, заложив руку под мышку, где в кобуре хранился тщательно пристрелянный пистолет. И только когда босс скрылся за металлической дверью, он медленно развернул машину.
Пока директор раздевался в передней, на легкий стук двери вышла его жена Анна Кловер — стареющая женщина с постным лицом миссионерши из армии спасения. Директор вопросительно поглядел на нее — появление жены означало, что его ожидает гость.
— Да, он уже здесь, — ответила она негромко. — Я отпустила Джесси. Горничная часто получала по вечерам внеочередные отпуска. К хозяину приезжали таинственные люди, многие из них плохо говорили по-английски. Их встречала Анна Кловер. Гости принимали ее иногда за горничную, и она не пыталась рассеивать их заблуждения.
Гость сидел в гостиной у лампы-торшера, читал боннскую «Генерал анцейгер». Увидев хозяина, он встал, обнял его за талию. Видно было, что дружеские отношения между ними установились давно.
— Хаййя
[65], Аллен, — пробасил гость. — Чего это ты так задержался сегодня?
— Хаййя, Ферди, — не ответил на его вопрос хозяин. — Пьем, как всегда? — спросил он.
— Как всегда, — ответил гость, ничуть не обижаясь на то, что его вопрос остался без ответа.
Даллес кивнул жене, бесшумно появившейся на пороге. Открыв дверцу холодильника, замаскированного под старинный секретер, она вынула оттуда бутылку дорогого французского коньяка, флягу виски «Джонни Уокер», вазу с кубиками льда, две бутылки с содовой. Все это она молча поставила на столик перед диваном, добавила два высоких стакана и бесшумно вышла.
— Еще один из наших поднялся на высокие горизонты в Бонне, — сказал гость, показывая на обведенную им карандашом заметку в «Генерал анцейгер».
— Пришлось мне повозиться с этим, — пробурчал Аллен Даллес, наливая себе и гостю «хайболл». — Старик уперся и не хотел его назначать: у него были другие виды на этот пост. Пришлось кое-что ему напомнить. Подписал назначение, скрежеща зубами.
— Аллен, — начал гость, допивая коктейль. — Наши боннские друзья требуют активизации наших усилий на главном направлении.
— Подожди, — проворчал Даллес. — Пройдем в кабинет.
На этот раз в стаканы налили чистый коньяк. Оба отправились в кабинет, уставленный старинной английской мебелью. Сиденья кресел были из старой, отполированной тысячами брюк бычьей кожи, под толстой крышкой стола не было ящиков.
Тщательно заперев дверь, Аллен опустил плотную штору из цветастой дамасской ткани. И только после этого, усевшись за столом напротив Фердинанда Габерхардта, вопросительно взглянул на него.
— Приехал Кениг. Позавчера явился ко мне в Вестчестер. Говорит: в Кельне, а это значит в Бонне, недовольны темпами подготовки к передаче ядерного оружия федеративной республике. Там считают, что при нынешних темпах они получат его не раньше чем в семьдесят пятом году.
— А им разве не известна позиция России в этом вопросе? — язвительно ответил Даллес. — Если бы дело зависело только от нас, они уже давно получили бы его.
— Они хотят иметь бомбу. Одна только перспектива появления бомбы у французов, говорят они, подрывает их позиции в Западной Европе.
— Потерпят. Необходимо время, терпение, искусство, чтобы открыть нашим друзьям доступ к этому оружию без катастрофических потрясений.
— Аллен, они нажимают. Мне кажется, они теряют терпение. Кениг недвусмысленно намекнул, что дальнейшие проволочки могут вызвать неприятности для тебя.
— Они должны понимать, что возможности у меня теперь уже не те, что были прежде. После смерти Фостера все это весьма не просто. Гертер, сменивший Фостера, продолжает двигаться в том же общем направлении. Но я не могу решительно требовать от него чего-либо. Мое вмешательство может лишь повредить делу. Ведь Гертер — человек Морганов. А Морганы ставят не на немцев, а на англичан.
— Но есть высшие интересы.
— «Высшие интересы!» — передразнил его Даллес. — Плевать он хотел на высшие интересы.
— Но можно ведь повлиять непосредственно на президента. Генерал не так уже плохо относится к нашим друзьям с Рейна.
— Не только неплохо. Он поддерживал Фостера, когда тот втаскивал Западную Германию в НАТО. Он держит этого старого упрямого осла Аденауэра на его канцлерском посту, хотя ему ничего не стоило бы отправить его подстригать розы на своей вилле.
— Кто помнит о прежних благодеяниях? Кроме того, они считают, что ты и Фостер лишь оплачиваете ваши старые долги… Ведь вы не сумели предотвратить вступление Америки в войну на стороне Англии и России.
— Пусть благодарят за это своего Адольфа. Это он закусил удила и понес под гору… Мы сделали все, что могли, и немного сверх того. Ты это прекрасно помнишь, Ферди.
— То, что мне передал Кениг, напоминало ультиматум, Аллен, — нахмурившись, тихо сказал Фердинанд. — Они называли даже срок: начало нового года. Видимо, придется найти какой-то подход к президенту.
— Президент ничего не станет делать сейчас. Через полтора месяца выборы. Положение в нашей партии тяжелое. Никсон оказался весьма непопулярным кандидатом. Генерал-президент пальцем не шевельнет сейчас, опасаясь перевернуть лодку. Если Никсон победит, то после выборов можно будет попробовать. Во всяком случае, до февраля о какой-либо активности в этом направлении не может быть и речи. Придется тебе растолковать все это Кенигу.
— Попробую, — мрачно протянул Габерхардт. — Но это будет не легко…
Помолчали, допивая мелкими глотками коньяк.
— Да, — вспомнил Габерхардт. — Просили передать тебе вот это. — Он вынул конверт. — Тут речь идет об одном русском, служившем в Восточном Берлине. Нашим друзьям удалось подобрать к нему отмычку — у него была любовница в Западном Берлине, и они засняли довольно вульгарный фильм… с натуры. Англичане пронюхали об этом, выкрали фильм и негатив и, видимо, использовали этого русского сами. Сейчас он как будто уехал в Москву…
Даллес взял конверт, по старой привычке тщательно осмотрел его, отрезал ножницами кромку, вытащил плотный пакетик серовато-голубой бумаги. Пробежав глазами первую страницу, положил бумагу в конверт, опустил конверт в карман. Негромко, вполголоса продолжал беседу с Габерхардтом, пока за дверью не раздался голос Анны Кловер, звавшей к обеду…
На следующий день с Вашингтонского аэродрома в Лондон в рейсовом самолете вылетел заместитель директора ЦРУ Патрик Фитцпатрик. Его сопровождал полковник Паттерсон. Летели инкогнито. В списке пассажиров они значились как Л. Дж. Смут и П. Т. Уайз. Усевшись в кресло, Фитцпатрик устроил поудобнее ногу, которую он слегка волочил, развернул пачку газет на испанском языке. Паттерсон, сидевший рядом с проходом, сразу же задремал.
На Лондонском аэродроме их встречал главный резидент ЦРУ в Лондоне Макдаффи — худощавый американец ирландского происхождения, недолюбливающий англичан. Он сам отвез приехавших в отель «Кларидж» — мрачноватый с виду комплекс примыкающих друг к другу зданий. Здесь останавливаются коронованные особы, голливудские кинозвезды и великосветские авантюристы.
В тот же вечер в номере Фитцпатрика состоялся легкий, но изысканный ужин на две персоны. Начался он несколько необычно. Встретив гостя, выхоленного, седого, с апоплексическим цветом лица, Фитцпатрик после приветствий сразу же заметил:
— Я надеюсь, сегодня беседа будет идти без записи?..
— Разумеется, дорогой Патрик…
— Прошлый раз я уже слышал это «разумеется». А затем мне досталось от президента за оказанный на вас нажим. В качестве доказательства фигурировала запись нашего с вами разговора.
— Честное слово джентльмена, Патрик, на этот раз записи не будет.
— Да, сэр Лэсли, на этот раз записи действительно не будет, — Когда лакей вышел из комнаты, Фитцпатрик запер за ним дверь, поставил на стол четыре метронома, настроил их на малый период колебания и запустил так, что щелчки следовали один за другим почти с равномерными — весьма небольшими интервалами.
— Мы с вами профессионалы, сэр Лэсли, — извиняющимся тоном произнес Фитцпатрик. — Нам нечего стесняться друг друга. Надеюсь, вы меня понимаете.
Сэр Лэсли — это был начальник имперской разведывательной службы, известной под довольно туманным названием Интеллидженс сервис, — молча поджал фиолетовые губы, всем своим видом показывая, что он понимает, но не извиняет.
Начался долгий, весьма профессиональный разговор. Говорили об общем «потенциальном противнике», о том, что в рамках НАТО не налаживается координация разведывательной деятельности. Фитцпатрик жаловался, что особенно «близко к жилетке» держат свои карты французы.
— Фактически мы оплачиваем их грязную войну в Алжире. А они платят нам черной неблагодарностью. Я просил их передать нам одного из старых и очень опытных агентов в Москве. Отказались. А вскоре этого агента взяли чекисты. Французам не удалось использовать всех его возможностей. Мы готовим сейчас доклад для совета НАТО обо всех неурядицах в координации разведывательной деятельности партнеров по НАТО. Надеюсь, вы поддержите нас…
Сэр Лэсли промычал что-то в высшей степени неопределенное. А когда Фитцпатрик недовольно поднял на него брови, он сказал, ловко раскрывая панцирь омара:
— Вся беда в том, дорогой Патрик, что вы представляете себе партнерство несколько односторонне. Что касается французов, то я боюсь, что им кое-что известно о вашем сугубо неофициальном флирте с их генералами в Алжире.
«Откуда ты знаешь?» — укоризненно вопрошал немой взор Фитцпатрика. Настала его очередь поджать высыхающие губы.
«Хорошо же, — думал он. — Сейчас я тебе преподнесу пилюлю».
— Лэсли, — сказал он бодрым тоном, прикидываясь слегка захмелевшим от небольшого бокала превосходного французского сотерна. — Шеф поручил мне настойчиво — я повторяю: настойчиво — просить вас об одном одолжении.
Сэр Лэсли выжидательно поднял брови. Наслаждаясь эффектом, Фитцпатрик не торопился взорвать бомбу. Налил вина в бокал, посмотрел через него на свет, медленно смакуя, спустил несколько капель в горло, вытер губы салфеткой. Затем опустил глаза в тарелку. Он напоминал кота, готовящегося сожрать канарейку.
— Вам удалось перехватить в Западном Берлине у немцев русского майора…
Сэр Лэсли был слишком искушен, чтобы задавать наивные вопросы: «Откуда вы узнали? Кто вам сказал?» Он знал наперечет всех людей в своей системе, тайно связанных с ЦРУ. Никто из них не знал о русском — об этом он позаботился лично. Иногда он даже подкладывал поблизости от них кое-какие «документы», которые он хотел довести до сведения своих братьев-врагов из ЦРУ. Сэр Лэсли мог в полчаса избавиться от этих людей. Но это было бы неразумно: ЦРУ все равно купило бы себе новых. Сэру Лэсли пришлось бы тратить время и силы на то, чтобы обнаружить этих людей. С нынешними было проще и спокойнее — он знал их слабости и уже подготовил все для того, чтобы при необходимости быстро расправиться с ними.
Сэр Лэсли сразу же понял, что «выдача» американцам русского — дело немцев. Запираться было бессмысленно.
— Этот человек не станет работать для вас. Он нужен нам. Очень нужен.
— А вы позвольте нам войти с ним в контакт. Тогда посмотрим, захочет ли он работать для нас.
— Нет, Патрик, я этого не позволю. Джентльменское соглашение — не перехватывать друг у друга людей — должно соблюдаться. Иначе все сорвется с якорей, и кто знает, чем все это может кончиться…
— Но ведь вы перехватили его у немцев…
— Не думаю, чтобы они сумели его закрепить за собой. Ведь он дрался с ними в войне. Другое дело — мы, бывшие союзники в войне.
— Лэсли, вы должны поделиться с нами этим человеком.
Сэр Лэсли промолчал, явно показывая, что он хотел бы прекратить обсуждение этого вопроса. Но через некоторое время Фитцпатрик вернулся к неприятной для его гостя теме.
— Мне не хотелось бы, сэр Лэсли, прибегать к «силовым приемам». Нам ведь ничего не стоит просто перевербовать этого русского, отобрать его у вас, запретить ему сотрудничать с вами.
Сэр Лэсли понял, что дело проиграно. От этих проклятых американцев не отвяжешься. Придется уступить.
— Хорошо, — сказал он. — Вам будет предоставлена возможность войти с ним в контакт. Скоро он должен приехать на пару недель в Париж. Наши люди познакомят его с вашими представителями. Делать это на месте, в Москве, — опасно. Вы ведь знаете русских…
— Ну вот и прекрасно. Я поручу Макдаффи вести это дело здесь с вами и в Париже.
— Разумеется, вы не должны препятствовать его сотрудничеству с нами, Патрик…
— О’кей. Условие принимается. Выпьем за успех этого двойного предприятия.
Фитцпатрик налил в тоненькие рюмки дорогой коньяк, остановил надоевшие метрономы, убрал их в шкаф. Вызвал лакея. Когда тот принес кофе, за столом мирно сидели два слегка раскрасневшихся старика, мирно беседуя о гекзаметре Клопштока. Никто не подумал бы, взглянув на них, что меньше всего на свете их интересовал сейчас этот гекзаметр.
Хвост и зубы старой лисы
— Состряпано это внешне весьма хитроумно, но по существу примитивно. Не случайно британскую разведывательную службу Сикрет интеллидженс сервис называют «старой лисой». Лиса действительно стареет. Она еще довольно изобретательна. Но уловки ее весьма однообразны. И это позволяет нам с вами, Николай Михайлович, разобраться в ее ужимках и прыжках.
— Разберемся, товарищ генерал. Судя по тем материалам, которые имеются у нас, схема тут довольно нехитрая. Крупнейший советский специалист, доктор технических наук — назовем его Синельников — едет в одну из нейтральных стран, многим обязанной нашей Родине. Его принимают со всем радушием, показывают интересную научно-техническую новинку, которой нейтралы готовы поделиться с нами. Но они очень не хотели бы, чтобы об этой новинке узнали их старые заклятые «друзья» — англичане или американцы. И вот, вскоре после того как советский специалист уезжает домой, в Советский Союз, в третьей — тоже нейтральной — стране в одном из журналов появляется подробное описание этой новинки. Журнал довольно непрозрачно кивает в нашу сторону — дескать, подробности стали известны из советского источника. Это намек на нашего специалиста. Противники дружбы с нами в нейтральной стране немедленно поднимают шум, осуждая сторонников сближения с нами. А британские конкуренты наших нейтральных друзей, пользуясь тем, что секрет уже раскрыт, могут теперь использовать его для конкурентного наступления на наших друзей на внешнем рынке. Эффект — двойной: посеяны семена недоверия к нам в нейтральной стране. Наши противники усилили свою активность. Хозяева старой лисы получили возможность подставить ножку нашим друзьям на внешнем рынке.
— Да, схему вы изобразили совершенно правильно. Налицо, таким образом, не очень тонкая, даже топорная провокация. Британские разведчики работают несколько тоньше своих американских братьев-врагов. Но тут, несомненно, еще один замысел. Предпринята попытка бросить тень подозрения на уважаемого человека — Синельникова. Лиса явно предполагала, что мы, не разобравшись как следует, лишим его доверия и, может быть, даже отстраним от тех важных работ, которые он ведет в своем институте. Тем самым выгода, барыш для лисы был бы утроен…
— Но, может быть, Синельников действительно проговорился? Не по злому умыслу, а просто потому, что, как человек порядочный, он привык верить в порядочность людей, с которыми имеет дело.
— Нет, полковник, это исключено. Синельников не говорил на эту важную тему с англичанами. Им пришлось принять специальные меры к тому, чтобы бросить тень на Синельникова. Один из них приглашал его на ужин, когда тот был в дружественной стране. А там этого англичанина знают как прожженного агента старой лисы. Затем, вскоре после возвращения доктора Синельникова из этой страны, англичане опубликовали в ней сообщения, что Синельников приглашен в Лондон научно-техническим обществом. А провокационная статья в третьей стране была напечатана через неделю после отъезда Синельникова из Лондона. Удалось установить, что статью эту журналу подсунули люди старой лисы.
— Но, может быть, товарищ генерал, Синельников все-таки сболтнул что-нибудь? Без злого умысла. Просто — вырвалось слово.
— Нет, полковник. Еще в Лондоне Синельников сообщил посольству, что один из принимающих его «техников» вел с ним весьма подозрительные разговоры, прощупывая политические настроения ученого. Намекал, что с его знаниями и талантом он мог бы иметь на Западе капитал… Синельников дал достойный отпор негодяю; до открытой попытки завербовать ученого дело не дошло. Но старая лиса явно пытается отомстить советскому патриоту. Они, разумеется, знают, что сейчас у нас не тридцать седьмой год. Но на всякий случай решили попробовать — авось клюнет. Синельников рассказал об этом в своей партийной организации, и та подтвердила свое полное доверие ему. Ведь он старый коммунист.
— Но ведь англичане могли и сами раздобыть секрет наших друзей-нейтралов…
— Могли. Агентуры у них достаточно. Следовательно, «местное» происхождение этой истории отнюдь нельзя считать исключенным. Но, может быть, дело обстоит и хуже. Возможно, сведения добыты здесь, у нас. Поэтому-то я и вызвал вас сегодня. Нужно изучить все потенциальные каналы, по которым чужой секрет мог просочиться к агентам лисы. Посмотрите повнимательнее на людей, знавших об этом секрете, на их связи с иностранными визитерами.
— Будет сделано, товарищ генерал. Разрешите вопрос? В Научно-техническом комитете знали об этом секрете?
— Знали. Но все, кому он известен, предупреждены, что секрет этот следует особо охранять.
Вернувшись от генерала, полковник Борисов долго сидел в своем кабинете, перебирая в уме детали закончившегося разговора, делая заметки в записной книжке. Половину следующего дня он совещался с майором Кривоносом и капитаном Стебленко. Разрабатывались первые наметки операции против рыжей британской лисы.
«Двойная провокация против доктора Синельникова — скрытая в нейтральной стране и открытая в Лондоне — была, по-видимому, нацелена не только в этого честного ученого, — размышлял Борисов. — Меняя направление, лиса махнула рыжим хвостом в сторону, пытаясь направить нас по ложному следу. Говоря более современным языком, «самолет» британской разведки, идя на «глубинное» задание, сбросил алюминиевую фольгу, создавая электронные помехи. Чекистский радар должен найти противника, не дать ему дойти до цели».
— Что удалось узнать нового, Владимир Васильевич? — неожиданно спросил полковник Кривоноса.
— Не много. Работник технического комитета, принимающий сейчас британского коммерсанта, обедал с ним в ресторане «Пекин», несмотря на то что его начальник не советовал ему делать этого, рекомендовал отложить обеденную церемонию до завершения визита.
— А кто его видел там?
— Один из сослуживцев обедал там со своими друзьями.
— Может быть, это просто недисциплинированный человек, не желающий прислушиваться к советам и указаниям начальства?
— Не думаю. Бывший офицер. Демобилизовался по сокращению армии. Воевал на фронте, имеет боевые ордена.
— Вряд ли тут есть какой-либо криминал.
— Есть одна деталь — небольшая, но существенная. Его начальник, случайно узнав о том, что его рекомендацией пренебрегли, принялся выяснять подробности. «Виновник» начисто отрицал, что встречался в этот вечер с англичанином.
— А может быть, сослуживец ошибся? Спьяну это бывает.
— Не пьет он — у него как раз язва разыгралась. Бедняге пришлось сидеть весь вечер на рыбе и овощах. Да и человек он честный. Вряд ли стал бы оговаривать товарища.
— А где этот англичанин сейчас?
— Улетел в Лондон.
— Придется им заняться. Посмотреть, что за коммерсант. Познакомимся поближе и с этим любителем обедов.
— Он служил три года в Берлине — в нашем военном учреждении. В прошлом году выезжал с научно-технической делегацией в Лондон.
— Отзывы о его работе?
— По Лондону — положительные. Что касается его пребывания в Берлине, то тут есть одно обстоятельство…
— Какое?
— Генерал, возглавлявший его учреждение, высказал о нем весьма отрицательное мнение. Причем не только устно, но и в письменной характеристике, которую он переслал командованию в Москву. Из-за этой характеристики его, собственно, и демобилизовали из армии. Помогли ему фронтовые друзья. Он убедил их в том, что мнение генерала — результат козней не в меру ревнивой жены. Генерал, подписавший характеристику, был другом ее покойного отца. Все это сочли результатом семейной распри. На военной службе его восстановить не удалось. На новой работе ему, как имеющему опыт работы за рубежом, поручили вести дела с представителями иностранных фирм и организаций, приезжающих в Москву. Человек прилично зарабатывает. Дома как будто у него все в порядке. Жена теперь не жалуется. Словом, видимо, он извлек уроки из всех этих неприятностей.
Нелегкая задача стояла перед тремя советскими чекистами — Борисовым, Кривоносом, Стебленко. Среди тысяч честных советских людей предстояло найти человека, пошедшего на черное дело измены, предательства своего народа, своей семьи, своих детей. Человек этот — если он существовал в природе — понимал, разумеется, на какое чудовищное преступление он решился. Конечно же он был полон решимости скрывать черное свое ремесло от света дневного, от глаз не только ничего не подозревающих друзей — если они у него были — и знакомых, но и от специалистов своего дела — чекистов, обладающих огромным опытом, до тонкости знающих повадки врага, изучивших воровские повадки не только британской разведки, но и всех ее союзников.
Чекисты знали: агент иностранной разведки в Москве, предатель, перешедший на чужую сторону, явление столь редкое, что старая лиса воспользуется своим опытом, всей своей изобретательностью, чтобы оградить его от провала. Вот с чем вступали они в поединок. Вот что должны были победить, не могли не победить.
Задача была из трудных. Требовалось не только раскрыть врага, сорвать с него маску, но и представить советскому суду веские, неопровержимые доказательства его преступной деятельности. И это было едва ли не самым сложным. В Англии, например, на основании так называемого закона об «официальных секретах» человека могут упрятать в тюрьму только за то, что тот взял в руки без разрешения документы, представляющие собой «собственность правительства» и содержащие «официальные секреты». В Советском Союзе для обвинения в шпионаже необходимо установить, что материалы, представляющие собой военную или научно-техническую государственную тайну, были фактически переданы иностранной державе. Иначе говоря, если хваленое британское правосудие может послать человека в тюрьму лишь за преступное
намерение, то советский суд карает за конкретные, доказанные
деяния.
Четко, безошибочно развертывалась сложная, тонкая система чекистского поиска. Не слепого, не наугад ведущегося, но тщательно продуманного, глубоко логичного. Когда-нибудь, когда не будет уже в мире британских старых лис и американских концернов диверсий и шпионажа, эта строго научная и весьма эффективная система может быть показана где-нибудь в музее истории борьбы народов с силами зла и разрушения.
Одно можно и нужно сказать: всегда большую помощь чекистам оказывают люди. Простые — но далеко не простоватые — советские люди, их чувство справедливости, их благородное возмущение злом, коварством, подлостью врага. Советские люди, хозяева своей жизни, своей судьбы, зорко, бдительно следят за тем, чтобы не могли преуспевать в нашей жизни, безнаказанно творить свое черное дело люди, вознамерившиеся отнять у них счастье жить по-новому. Их суд, суровый, взыскательный, нелицеприятный, но справедливый, часто определяет направление поиска, помогает вести его по настоящему, а не ложному следу. Стократ подтверждено жизнью: враг может долго обманывать одного человека, он может некоторое время обманывать многих. Но ему не удастся долгое время обманывать всех.
* * *
Из Москвы Элмер Тилл улетел в состоянии откровенной паники. Трусливая дрожь, охватившая Боя в тот вечер, когда он вышел со своим гостем из «Пекина», передалась и Элмеру. В последние дни перед отъездом он почти не выходил из гостиницы, поминутно озирался, все время ожидая легкого прикосновения к плечу. Случайный сосед в ресторане, каждый встречный на улице казался ему представителем службы советской безопасности, о которой он читал так много устрашающего. С того момента, как ему снова вручили паспорт — книжицу в темной коже с «двухспальным английским левою», прошла вечность. Тиллу казалось, что вот-вот сейчас, сию минуту, к нему подойдут пограничники в зеленых фуражках, станут по бокам — и тогда…
Но этого не произошло. Когда ТУ-104 поднялся в воздух, Тилл все еще опасался, что огромную птицу посадят где-нибудь недалеко от границы. Раскроются двери, и пограничники с невозмутимыми лицами выведут его навстречу тюремному фургону.
Самолет пришел в Париж без посадки. Выполнив мелочные, раздражающие таможенные формальности на аэродроме Ле Бурже, Тилл прошел мимо полицейских в синих пелеринках и жестких цилиндрических каскетках с длинным козырьком, нанял такси. Приехал в гостиницу, заказал ужин с бутылкой коньяка, выпил ее всю сам, один.
Ночью проснулся, крича подхватился с кровати — ему снилось, что спит он на тюремной койке. И только увидев под зеленоватым светом ночника мягкий «обюссон» на полу, нервное мигание световой рекламы за окном, понял, что он если и не дома, то в безопасности. Заснул, словно в черный колодец провалился.
Утром, стоя под освежающим душем, Тилл постепенно взвинчивал себя, стараясь вызвать чувство ярости, которое помогло бы ему принять соблазнительное решение — послать ко всем чертям Партли и его «фирму», как называют в Англии Интеллидженс сервис все, кто имеет несчастье соприкасаться с этой шпионской службой. Позавтракав в ресторане отеля, он поднялся в номер, заказал по телефону Лондон. После многословных, но довольно кисло-сладких (со стороны Тилла) приветствий жена сообщила ему, что дела фирмы требуют его выезда в Амстердам. Выяснив подробности и обменявшись парой фраз с сыном, Тилл заказал другой лондонский номер, который дал ему для связи в подобных случаях Партли. Элмеру повезло: Партли оказался на месте. Долго, обиняком, намеками выспрашивал он Тилла о Бое, не проронив, однако, ни слова ни о чем, что уже знали в британском посольстве. Когда Тилл сказал ему, что Бой должен вскоре, быть может на днях, приехать в Париж на открывавшуюся во французской столице выставку, Партли, явно недовольный сухими отрывистыми ответами Тилла, приказал ему оставаться в Париже, ждать Боя и дальнейших приказаний. Тут-то Тилла и взорвало.
— Через полчаса я вылетаю в Амстердам, а оттуда домой, в Лондон, — сухо отрезал он.
— Вам прика… предложено оставаться в Париже, Элмер, — почти не сдерживая ярости, бросил в телефон Партли.
— А я плевал на ваше «предложение», — заорал Тилл. — И вообще, вам следует знать, что я прекращаю всякие отношения с вами.
Голос Партли приобрел неожиданно бархатные тембровые оттенки. Он понял, что собеседник взволнован. А в этом случае надо не обострять, а ослаблять напряжение момента.
— Ну, ну, ну, мистер Тилл. Не так категорично. Мы с вами еще подумаем обо всем этом.
— Я уже все обдумал, — отрезал Тилл. — И пусть я разорюсь…
— Когда вы собираетесь лететь в Амстердам? Надолго?
— Самолетом. В 14.35. На три дня.
— Где вы собираетесь остановиться?
Тилл назвал несколько старомодный, но вполне комфортабельный амстердамский отель.
— Прекрасно, — гудел Партли. — Там и встретимся. Буду ждать вас на месте.
Когда Тилл входил в вестибюль несколько патриархального отеля, Партли уже сидел в далеком углу, жевал сигару.
— Пообедаем, в номере, — осклабившись, предложил Партли, резко встряхнув руку приехавшего.
Зарегистрировавшись, Элмер поднялся с Партли в номер. Пока он принимал душ, Партли по телефону заказал обед.
— Почему три прибора? — спросил Тилл, когда лакей вкатил на высоком столике-тележке обед.
— Сейчас к нам придет мой хороший друг. Надеюсь, вы не откажетесь от его общества. Весьма достойный человек.
«Весьма достойный человек» — Партли вызвал его по телефону, когда лакей, откупорив вино, вышел из номера, — назвался Кингом, хотя ему больше подходил бы другой псевдоним — «бутчер», то есть мясник. Густая сетка красных жилок застыла на его щеках затейливым рисунком. Он крепко сжал руку Тилла, впиваясь в него несколько расширенными зрачками.
— Кинг, — повторил он, — Арчибальд Кинг. Рад вас видеть, Тилл. Я слыхал о вас много хорошего.
— Самое хорошее вы услышите от меня сейчас, — начал было Тилл.
Но Кинг мягко взял его за талию:
— О делах после. Начнем с главного. Вы, вероятно, проголодались…
И он усадил Тилла за стол.
За обедом говорили о Лондоне, летних морских купаньях в Брайтоне и прочих приятных материях. Затем, включив радиоприемник, Кинг спросил:
— Как вы нашли нашего общего друга?
— Это не «наш общий друг», — почти грубо ответил Тилл, — он ваш друг. И я надеюсь, что отныне он даже — не мой знакомый.
Кинг строго вскинул взор на Тилла. Но тот закусил удила. Унижение пережитого страха клокотало сейчас в этом мелком буржуа, воспитанном на традиционных британских иллюзиях «достоинства личности», «независимости», «чести», «свободы жизненного выбора» и т. п.
— То, что я пережил там… — Тилл махнул рукой на восток, — убедило меня, что с этим надо кончать. Да, да, кончать. Я не поеду больше в Москву. Я не буду помогать вам в этом грязном деле. Я сделал достаточно и теперь умываю руки. Продолжайте сами.
— Дело идет о высших интересах короны, Тилл, — нахмурясь, прервал его Кинг. — И я не понимаю, как вы можете так легкомысленно отклонять предложенную вам честь стать важным звеном такого исключительно важного дела. Я могу сказать вам, не открывая никакой тайны, что такого дела не было уже давно.
Но Тилла несло.
— У меня сын, — почти орал он. — У меня бизнес, серьезное коммерческое дело. Я не хочу, чтобы все это летело прахом. Я сделал все, что мог. Больше того, я сделал больше, чем мог. Я прошу, я требую, наконец, оставить меня в покое.
— На чем основано ваше коммерческое дело, Тилл? — отрывисто бросил Кинг.
— Вы знаете на чем. На экспортной торговле.
— Кто помог вам отсрочить выплату ссуды, полученной в банке? Ведь вы пропустили все сроки, и банк мог наложить арест на все имущество фирмы. А затем продать вас с молотка.
— Вы… вы не сделаете этого. Да, вы мне помогли в банке. Но я связал вас с Боем. Этого, как вы сами говорили, больше чем достаточно.
— Мы сделаем это, Тилл. Мы пустим вас с молотка, разорим ваш паршивый бизнес. Мы не позволим вам работать даже клерком: вы не найдете работы ни в одном из государственных или местных органов. Мы найдем способ устранить вас с любого частного предприятия. Вы не сможете работать нигде — разве только грузчиком в
Лондонском порту. Но там очень опасно работать. Вы знаете статистику несчастных случаев в доках? Каждый год там находят пять-шесть трупов, которые никто не может даже опознать. Вы ведь не хотите, чтобы вас не смогли даже опознать?..
Потрясенный прямой угрозой, Тилл молчал. Нет, этого не может быть. Кинг, вероятно, шутит. Но он не шутил, этот человек с лицом мясника. Не шутил и Партли, рассматривавший узор на скатерти. Элмер начал понимать: пути к отступлению нет. Надо идти до конца, надеясь на удачу. Может быть, бог смилуется. Может быть, опасность пронесется мимо него, Тилла.
— Расставим все точки над «и», — холодно заключил Кинг. — Если русские поймают вас — вам по их законам грозит не более чем десяток лет тюрьмы. А если вы самовольно выйдете из игры раньше времени — вы будете разорены, а затем — но не прежде — уничтожены. Вы коммерсант, Тилл. Выбирайте. Вы знаете закон наименьшего риска.
В комнате воцарилась тишина: шумная радиопередача внезапно закончилась, и в приемнике тихо, жалобно пищала морзянка. Казалось, это скулит жалкий, раздавленный Тилл. За окном негромко шумел большой ленивый город. В комнате, где сидели трое, незримо витал темный, мрачный призрак. Выбора не было.
— Что я должен делать? — спросил потрясенный Тилл.
— Прежде всего успокоиться. Бой приедет в Париж не раньше чем через неделю. Возвращайтесь туда, ждите его. Через три дня я приеду к вам, и мы разработаем программу действий в отношении этого Боя. Возникло одно непредвиденное обстоятельство.
Бунт на коленях был сломлен. Тилл знал: придется тянуть лямку. Молча, покорно слушал он сухую, отрывистую речь Кинга.
Вкус яда
Лежа поздним дождливым утром в постели, пытаясь унять противную похмельную дрожь, он вспомнил — живо, ярко, словно это было только вчера…
…Удар грома, сухо рассыпавшийся где-то рядом, застал майора Плахина под полосатым полотняным навесом, спущенным над витриной небольшого западноберлинского кабачка, недалеко от площади Ам Цоо. Рядом с Плахиным выросла стройная женская фигура. Из-под капюшона выбивалась прядь волос цвета липового меда. Неяркое освещение бросало причудливые тени на лица. Плахин отвернулся.
— Предложили бы закурить, — томно протянула фигура.
Плахин вынул пачку сигарет, зажег спичку. Поднося сигарету к огню, женщина сжала его руку горячими влажными ладонями. Плахин почувствовал прикосновение дерзкого вызывающего тела.
Зашли в кабачок. В темном углу кабаре мокрые пряди волос, прилипшие ко лбу, казались бронзовыми. Подвижный насмешливый рот улыбался — загадочно, казалось Плахину. Голос случайной знакомой был глуховатый, волнующий. Плахин пил дорогой французский коньяк, срывающимся полушепотом нес несусветную чушь, не замечая иронической усмешки в подведенных темных глазах собеседницы.
Из кабачка уехали поздно. В однокомнатной квартире в Целлендорфе Плахин оказался глубокой ночью.
Ушел перед рассветом. По пустынным улицам брел до линии метро Крумме Лянке — Фридриххайн. Вышел на станции Тельманплац, в такси добрался домой.
Жена не спала. Тревожно вскинула на него глаза. Избегая ее взгляда, Плахин нарочито долго раскуривал папиросу. Устало растянулся на диване, шумно вздохнул.
«Натворил дел», — вяло, без всякой злобы на себя думал Плахин. В размышлениях его не было ни искренности, ни самоосуждения. Если бы он хотел быть честным с самим собой, ему пришлось бы признаться, что на ночные приключения он пошел вполне сознательно — для того, собственно, и ездил без разрешения командования в Западный Берлин. Само «приключение» не вызывало раскаяния, только вороватую опаску — не узнали бы товарищи, не проболталась бы жена. Для нее и бормотал, закуривая папироску:
— Работа проклятая. Всю ночь в городе проболтался. Ни сна, ни отдыха.
Жена — Плахин это знал по ее поведению в прошлом — не звонила к нему на работу в одно из военных представительств, где работал Олег. Про себя решила: все равно придется со всем этим кончать, поговорим обо всем дома. Немного уже осталось. Клавдии было известно, что через полгода Олег будет переведен домой, в Союз.
Довольный тем, что жена не затевает неприятного разговора, Плахин встал, прошел в ванную благоустроенной квартиры, принял холодный душ. Отправился на работу. Клавдия стояла у окна, глядела на его сутуловатую фигуру, утиный толстый нос. Невеселые мысли бродили в ее голове. Нелегко было ей поступиться честью, гордостью жены, женщины. Поступилась. Думала — ради их Аленки. Три годика ей. Вон, проснулась, сидит в кроватке, сонная, пухлая, тянется к матери.
Три раза выезжал Плахин без разрешения в Западный Берлин. С Хильдой встречался у нее дома. Ездил днем, домой возвращался засветло. Последний раз приехал внезапно, столкнулся у Хильды с каким-то ее «другом». Видя, что русский начинает привязываться к ней, Хильда, капризно растягивая слова, запретила ему приходить без предварительного уведомления. Договорились о связи: на какой адрес присылать письма, где получать ответ.
В тот вечер Плахин мчался в Целлендорф, как на крыльях. Три недели умолял Хильду о встрече. Только вчера получил до востребования письмо, в котором было назначено долгожданное свидание.
«В конце концов, — думал Плахин, глядя в окно такси, — Хильда, конечно, по-своему честный человек. Никогда меня ни о чем не расспрашивает, не интересуется моими делами. Не так уж страшен черт, как его малюют. Вовсе не обязательно, чтобы все одинокие женщины были связаны с иностранными разведками. Хильда — просто баба. Неплохая. Не очень дешевая. Так, пожалуй, даже удобнее. В этой «любви» за наличный расчет есть, пожалуй, и свои преимущества. Люди не лицемерят. Все до предела просто. Мне нужна Хильда. Хильде нужны марки. Хорошо еще, что не требует долларов», — усмехнулся майор.
На нервный нетерпеливый звонок Хильда отозвалась сразу же. Попросила подождать минутку. Дверь открыла не в халатике, как всегда, а в строгом черном костюме. В полутемной комнате Плахин разглядел три мужских силуэта. Быстрым шагом, молча Хильда прошла в ванную. Один из силуэтов встал у двери, отрезая путь к отступлению. Второй подошел к окну, слегка отодвинул занавеску. Третий продолжал сидеть в кресле. Тот, кто открыл занавеску, подошел к серванту, налил большой фужер коньяку, повернулся к пришедшему.
— Здравствуйте, господин майор. Не хотите ли выпить? Легче будет разговаривать.
— Что?.. Что это такое? — дрожащим, неуверенным голосом произнес Плахин.
Сидевший в кресле спокойно вскинул глаза, внимательно смотрел на Плахина из-под жиденьких рыжих бровей. Голос Плахина сразу же показал: этот не будет сопротивляться, не бросится в драку, не попытается вырваться. По гладкому выбритому лицу рыжебрового промелькнула удовлетворенная усмешка. Он энергично встал, шагнул навстречу Плахину.
— Рад познакомиться с вами, господин майор. Вы, вероятно, уже догадались, что мы представляем британские военные власти. Нам очень хотелось бы поговорить с вами по душам. Это, впрочем, в ваших же интересах.
Плахин растерянно молчал. Рыжебровый показал на второе кресло.
— Да вы садитесь, пожалуйста, — продолжал он на довольно приличном русском языке. — Наша беседа отнимет у вас некоторое время. Стоять — неудобно.
Верзила у двери не спускал глаз с рук Плахина. Тот, что стоял с коньяком, подошел к столу, поставил бокал. Рыжебровый не отводил внимательного взора от растерянного, бледнеющего лица Плахина, его нервно бегающих глаз.
— Мне кажется, господин Плахин, что нам удастся найти с вами общий язык. Садитесь, пожалуйста, выпейте.
Рыжебровый взял со стола предупредительно налитую для него крохотную рюмку коньяку, жестом указал Плахину на бокал. Расплескивая коричневую жидкость, Плахин выпил. Видя, что «разговор» налаживается, рыжебровый показал помощнику глазами на ванную. Тот постучал в дверь. Оттуда сразу же появилась Хильда, быстрым шагом пересекла комнату, вышла в дверь, вежливо открытую для нее третьим участником этой почти немой сцены.
— Фрейлен Хильда вернется через час, — сказал рыжебровый. — Вам придется подождать, — скривил он в подобие улыбки тонкие губы.
— Что вы от меня хотите? — хриплым срывающимся голосом выдохнул Плахин, хотя он отлично понимал, чего хотят от него эти люди.
— Ничего особенного. Только вашей дружбы и лояльности — хочу сказать… верности, — не сразу нашел рыжебровый нужное русское слово.
— А почему вы решили, что я должен быть верен вам? — вяло спросил Плахин.
— Да потому, что, если вы откажете нам в вашей дружбе, у вас будут большие, огромные неприятности. Мы хотим спасти вас от них. Только и всего, — улыбнулся рыжебровый.
— Буду откровенен, — продолжал он. — Ваша неосторожность позволила западногерманской разведке создать некоторые довольно-таки любопытные документы. Они хотели использовать их в своих собственных интересах. Но мы решили, что им не следует позволять этого. Мы не разрешили им шантажировать вас. Посмотрите, от чего мы вас избавили… Тут у нас есть небольшой кинофильм, хроникальный сюжет, так сказать. Показать вам его на экране? Или вы предпочитаете ознакомиться с ним индивидуально?
— Не надо экрана, — прохрипел Плахин.
Тот, кто наливал коньяк, подкатил к креслу Плахина невысокий столик. На столике стоял какой-то черный аппарат. К нему, как к настольной лампе, тянулся электрический провод.
— Смотрите, — жестом показал на аппарат рыжебровый.
Плахин прильнул к небольшому, как в бинокле, объективу. Рыжебровый нажал какую-то кнопку. В объективе вспыхнул свет. Перед Плахиным замелькали кадры кинофильма, снятого здесь, в этой комнате. Колени его задрожали, в горле пересохло. Он почти терял сознание.
— Но как… как вы сняли? — почти беззвучно прошептал Плахин.
— Когда нужно, мы снимаем и в абсолютной темноте, — почти весело ответил рыжебровый.
— Дайте коньяку, — Плахин оттолкнул столик.
Проекционный аппарат глухо упал на ковер. Лампочка в аппарате погасла.
— Коньяк получите, когда наша беседа будет закончена. — Рыжебровый опасался, что Плахин, напившись, свалится с ног.
— Вы, конечно, представляете себе, какое впечатление подобный кинофильм мог бы произвести на ваше командование? — вкрадчиво продолжал он.
— Что я должен делать? — прохрипел Плахин.
— Ну, вот мы с вами и поладили, — встрепенулся рыжебровый.
Он что-то повелительно сказал по-английски верзиле, стоявшему у дверей. Тот покорно вышел из комнаты. Помощник рыжебрового запер за ним дверь, опустил ключ в карман, подошел к единственному в комнате окну, встал у подоконника. Это была ненужная предосторожность: Плахин, и не думал выбрасываться из окна. Не из того теста был сделан. Рыжебровый пересел за стол, жестом показал Плахину место напротив себя. Вынул толстую, в черном кожаном переплете, тетрадь, развернул на середине, начал разговор, делая непрерывно пометки.
— Когда вы возвращаетесь в Москву?
— Через два месяца — в октябре.
— Вам известно, куда вас назначат?
— Пока нет. Но у жены есть родственники… Похлопочу через них.
— Нам хотелось бы, чтобы вы работали в центральном военном аппарате. Вы, конечно, понимаете почему?
— Понимаю.
— В местных военных округах вы тоже будете представлять для нас известную ценность. Но центральный аппарат — о-о-о! — это было бы очень хорошо… Как у вас с английским языком?
— Неважно. Только начинаю.
— Займитесь всерьез. На связь с вами в Москве могут приходить люди, плохо знающие русский.
— Займусь, — с ученической покорностью ответил Плахин.
— У вас будет возможность в остающиеся два месяца встретиться с нами два, три раза часа на два каждый раз?
— Думаю, что смогу. Постараюсь!
— Вам придется изучить некоторые виды связи. Мы сделаем все, чтобы оградить вас от провала. Для этого нужно, чтобы вы владели теми видами связи, которые мы вам предложим. Мы хотим, чтобы вы работали с нами долго и плодотворно. Это в наших интересах, да и в ваших. В случае успеха мы найдем способы и возможности хорошо вознаградить вас, сделать вашу жизнь легкой и приятной. Судя по тому, что вы говорили фрейлен Хильде, вы хотели бы поселиться в нашей стране или где-нибудь в другом месте в Западной Европе. Кстати, этот ваш разговор, как и некоторые другие беседы с фрейлен, записан на пленку. Хотите прослушать?
— Нннет… Не надо.
— Тогда продолжим. Вы хорошо знаете Москву?
— Нет… Жил в Москве недолго. Некогда было ее рассматривать.
— К следующему разу мы разработаем различные варианты связи. А пока, я думаю, довольно. Кстати, этот наш с вами разговор тоже записан. Как видите, отступать вам некуда…
Рыжебровый, внимательно рассматривавший Плахина, улыбнулся:
— Поэтому, я думаю, вы не будете возражать против небольшой формальности.
И рыжебровый продиктовал Плахину письменное обязательство сотрудничать с органами английской военной разведки. Нет, не дрогнуло перо изменника. Не думал он в эту минуту ни о Родине, ни о дочери, ни о жене, ни о матери. Перед ним маячили смеющиеся глаза Хильды, ее механически тренированное тело, бездумное выхоленное лицо. Что ж, он поработает со своими новыми коллегами. Деньги не пахнут? Ерунда — пахнут. И очень неплохо. Он, Олег Плахин, любит деньги. Эти синие, оранжевые, красные, фиолетовые бумажки делают такими доступными и податливыми всех этих хильд.
— Давайте же, наконец, познакомимся, — воскликнул рыжебровый, аккуратно пряча в бумажник подписку Плахина. — Подполковник Дэтэридж, — протянул он руку Плахину.
— Капитан Макнэйб, — показал он на своего помощника… — Что ж, главное сделано. Мы рады, господин майор, вашему разумному решению. Оно избавило вас, да и нас тоже, от излишних и ненужных хлопот. О времени и месте следующей встречи договоримся позже. Для вашего удобства мы организуем ее где-нибудь в Восточной Германии. Время вам сообщит человек, который передаст привет от меня и капитана. А теперь — выпьем, господа. За успех нашего предприятия. За господина Плахина!
Большая бутылка французского коньяка была вскоре опустошена, главным образом усилиями Плахина. Подполковник встал, начал прощаться.
— До скорой встречи, господин Плахин. Вы останетесь здесь? Прислать вам фрейлен Хильду?
Плахин молчал. Голова у него шла кругом. Слишком много коньяка. Слишком много «сильных ощущений».
То, что произошло в Целлендорфе, было подготовлено всеми тремя годами пребывания Плахина за границей. Неискренний, завистливый, он был, в сущности, весьма посредственным работником. Но когда его скромная, порой неудовлетворительная деятельность вызывала критику со стороны начальства, он обижался, считая это результатом козней его «соперников», преисполнившихся намерения подставить ему ножку, подсидеть. Приходя домой в такие дни, он долго и нудно жаловался жене, обливал в своих рассказах грязью более «удачливых», как ему казалось, а в действительности более талантливых, более способных и более энергичных, инициативных, чем он, товарищей по работе.
Жена, спокойный и уравновешенный человек, для которого отнюдь не секретом были недостатки мужа, урезонивала Олега, мягко указывала на его упущения, недоделки по службе. В таких случаях Плахин начинал упрекать жену, кричал, что и ее подкупили его «враги». Он измучен, ему буквально деваться некуда. На работе кругом — бездарности и завистники, только тем и занимаются, что оговаривают его перед начальством. Заодно с его врагами и жена.
— Хоть домой не приходи! — красный, возбужденный, кричал Плахин.
Клавдия замолкала, пристально глядя на него большими серыми глазами. Все больше раскрывался ей неприглядный облик мужа. От этого было грустно. Очень хотелось поговорить с отцом — умным, вдумчивым и мягким с дочерью отставным генералом. Как он видел и понимал людей! Как страдал — молча, невысказанно, — когда внешне эффектный, но внутренне пустой Олег вскружил ей голову. Плахин понимал: старик раскусил его. Неуютно поеживался под его пристальным взглядом, сидя у них за стаканом чая. На Клавдии женился тайком, воровски, боясь, что отец ее отговорит. Взял отпуск, заставил Клавдию уйти с работы — она была библиотекарем в офицерском клубе, — улетел с ней в Сочи. Оттуда телеграммой сообщили отцу: «Поженились с Олегом, прости, пожелай счастья». Отец ответил: «Будь счастлива, поздравляю Олега. Обнимаю. Отец». Вечером, сидя с бывшим адъютантом, распил генерал за счастье дочери бутылку «Двина». С трудом подавлял в душе горечь и тревогу.
Да, очень нужно было бы Клавдии повидаться с отцом, поговорить, посоветоваться. Умел он находить простые, ясные и справедливые, именно справедливые, решения сложных и запутанных проблем. Но отца не было — перед отъездом в Берлин ездила Клавдия на его могилу со скромным гранитным надгробьем. Положила цветы у подножья небольшого обелиска — строгого, прямого, каким был отец. Долго сидела у изголовья.
После смерти тестя Олег, побаивавшийся старика, повел себя развязнее, перестал сдерживаться. То тут, то там проскальзывали неприглядные стороны его натуры — скупой, мелочной, жадной. Он долго надоедал одному из влиятельных приятелей тестя, пока тот не рекомендовал его в одно из заграничных военных учреждений в демократическом секторе Берлина. Плахин собрал прекрасные характеристики. Изворотливый проныра, он умел вовремя выпить с кем надо, польстить нужному человеку, услужить, угодить. Знакомых и друзей выбирал с разбором — это были «нужные люди», с весом, влиянием. С такими держался умно, строго, сторожко. Притворялся замученным работой, но ни на что не претендующим, этаким безвестным работягой, для которого слава, признание — мираж, дым. Нет, он работает только для великого дела, не заботясь о том, поймут ли и оценят ли это сослуживцы.
Были сомнения у некоторых членов партийного бюро, обсуждавших рекомендацию Плахину на заграничную работу. Перед решающим обсуждением раздалось несколько телефонных звонков.
Люди, знавшие Плахина, выражали серьезные сомнения в том, что ему можно доверить такое ответственное дело. Но к их соображениям не стали прислушиваться. Ведь его рекомендовали такие люди, что можно было полагать — человек надежный. Хамоват с товарищами по работе, с подчиненными? Болеет человек за дело, оттого и покрикивает. Не хочет вести большую партийную работу? А когда домой уходит? Каждый день час-два задерживается на работе. Да и с семьей… Тесть недавно умер, жена рожать собирается… Партийную работу он вел на фронте, командуя артиллерийской частью. В общем, можно человека посылать. Не подкачает…
В Берлине Плахин сразу же устроил дома вечеринку для «нужных людей». Походя, бросил пару-другую таких имен, что начальство про себя отметило: этот, видать, вхож… Правда, званием не вышел. Да ведь всякое бывает.
Окончив работу, бегал Плахин по городу, скупал у разоренных войной «бывших людей» по дешевке хрусталь и фарфор. Попав в Западный Берлин, Плахин не поехал на рабочие окраины, туда, где была нужда, нехватка, где не остыло еще горе, принесенное войной. Его тянуло в районы дорогих ресторанов и фешенебельных магазинов.
— Живут, сволочи, — завистливо бормотал он, разглядывая нейлоновое белье, сверхмодную обувь, элегантное пальто. Вид этого, подчас довольно затейливого, барахла вызывал у него острую зависть к тем, кто его покупает. Плахин видел этих людей, хотя их было сравнительно немного: разбогатевшие на сомнительных послевоенных махинациях, они разъезжали в сверкающих лаком дорогих «мерседесах» с трехконечными звездами на радиаторе. Несколько раз, без разрешения командования, выезжал он в Западный Берлин. Бродил по Кюрфюрстендамму, словно ища чего-то. Встреча с Хильдой завершила преступный поиск.
…Границу проезжали на рассвете. В холодноватом осеннем воздухе красновато поблескивал под первыми солнечными лучами начищенный штык пограничника на высокой сторожевой башне в Бресте. Радостно, взволнованно махали ему из вагонных окон люди, возвращающиеся на Родину, стосковавшиеся по ее росистым лугам. Преисполненный важности своего долга, улыбался пограничник сдержанно, солидно, понимающе наблюдая это движение искренних хороших чувств. И только одна пара глаз, расширенных, темных, не улыбалась. Тяжелым кирпичом ударил Плахина в грудь мутный клубящийся страх — холодное сверкание солдатского штыка напоминало ему о возмездии. Отвернулся предатель от окна, вошел в купе — беременная, усталая, беззвучно дышала в последнем утреннем сне жена. Звякая горлышком бутылки о стакан, налил водки, роняя крупные капли на расписную немецкую пижаму, жадно выпил. Налил еще. Влез на верхнюю полку, чувствуя, как охватывает сознание водочный жар, лежал, проклиная день и час, когда, движимый грязным, похотливым любопытством, бродил по Западному Берлину. Не заснул, нет — потерял сознание. Летел в черную воющую мглу. Оранжевыми вспышками взрывались в ней огненные шары. Свистящими вихрями мчались раскаленные кометы.
Отгулял Плахин, что было положено в отпуске, удобно расположился в квартире покойного тестя, выписал из Новочеркасска мать. И тут дошел до него тревожный слух: похоже — увольняют его в запас, в счет миллиона с лишним, на которые сокращаются вооруженные силы. Похолодел Плахин — вдруг чего заподозрили? Затащил в «Арагви» знакомого кадровика. После великолепного сациви из индейки, обильно сдобренного коньяком, тот проговорился — есть на Плахина бумага из Берлина. В общем, отрицательная аттестация. А таких увольняют в запас в первую очередь.
«Клавкина работа, — решил Плахин. — Накапала, дура… — с ненавистью думал он. — Теперь расхлебывай…»
Вечером, услав дочь с бабкой гулять, устроил Плахин жене безобразный скандал. Разбил несколько дешевых тарелок. Изругал самым диким образом. Но не тронул: знал — хуже будет.
Рыдала Клавдия в голос. На следующий день созвонилась с одним из друзей отца, поехала к его милой, отзывчивой жене, просила помочь.
А Плахин тем временем нажимал на все педали. Возил в рестораны то одного, то другого из бывших сослуживцев. Вспоминал фронтовые дни и дела, горько жаловался на завистников, уговаривал посодействовать.
Посодействовали. В запас не уволили, послали на работу в Свердловск. Просидел там год. Выпивал с теми, кто званием постарше. Клавдия наезжала с новорожденной дочерью, привозила из Москвы дорогие подарки для начальства. Словом, показал себя рубахой-парнем. И когда пришел из Москвы запрос о нем — ответ был самым положительным. Скоро уехал майор в столицу, оставив в большом уральском городе заплаканную студентку.
«Американцы в Париже»
Павильон гудел голосами. Сквозь мерное звучание дикторского текста у демонстрационных стендов прорывались удивленные, восторженные восклицания: «Трэ зэнтересан!», «Регарде ву!», «Манифик!», «Колоссаль!»
Плахин хмуро стоял у красивой, величественной композиции, отражающей завоевание космоса советскими людьми. Подошел взволнованный пожилой парижанин.
— Этто удивительно хорошо, — медленно проговорил он, глядя в бегающие глаза Плахина. — Я рад, что пришел сюда, мсье… — И парижанин медленно двинулся дальше.
Сухонькая белесая старушка в черном платке остановилась перед громадным панно, показывающим первых космонавтов Земли.
— Миленький! — на чистейшем русском языке слабым голосом тянула она, слегка задыхаясь то ли от жары, то ли от наплыва чувств. — Каких богатырей вскормила земля русская! Полвека живу здесь, а все домой тянет, в Россию. Видно, умереть мне здесь. А сердце мое там, на родной земле.
Старушка обессиленно всхлипнула. Плахин отвернулся. И тут же увидел Тилла — медленно переходил тот от стенда к стенду. Англичанин поймал взгляд Плахина, дождался, когда от него отошла старушка, не торопясь, побрел к выходу. У киоска с прохладительными напитками ткнулся в хвост очереди. Улучив момент, тихо сказал Плахину, вставшему позади:
— Сегодня в семь вечера, в саду Тюильри у бассейна. Придете?
— Приду, — выдохнул Плахин.
Тут же отправился в город.
На явку опоздал. К бассейну с крупными, словно карпы, золотыми рыбками он подошел, когда Тилл уже полчаса фланировал по боковой аллейке.
— В посольстве задержали, — извиняющимся тоном объяснил он, подойдя к англичанину. — Еле вырвался. И такси, как назло, не попадалось. От Рю де Гренель пришлось идти пешком.
Вышли из сада, прошли немного по набережной. У моста через Сену, напротив Кэ д’Орсей, Тилл остановился.
— Идите прямо туда, — показал он через мост. — На том берегу вас ждут старые знакомые.
Осень щедро золотила парижские каштаны. У гранитного парапета Сены в выцветших потертых пиджаках стояли старики с потухшими глазами. Забросив удочку в мертвые темные воды реки, они часами ждали удачи. Самое удивительное: в этой насыщенной ядовитыми городскими стоками воде все еще попадались рыбешки. А бесплатный ужин для одинокого ослабевшего старика — это событие.
Перейдя мост, Плахин никого не увидел. Остановился в нерешительности. Машина, стоявшая в ста метрах от моста, тронулась, подъехала к Плахину. В открытом окне Плахин увидел знакомое лицо — с английским разведчиком Пайлом они встречались в Лондоне. Пайл открыл ему дверцу. Ехали недолго. Вновь пересекли мост, выехали на площадь Этуаль, оттуда, минуя Триумфальную арку, доехали до авеню маршала Фоша. Здесь, в одной из боковых улиц, застроенных богатыми виллами, окруженными зеленью, машина въехала в открывшиеся перед ней ворота, подползла к скрытому деревьями старомодному особняку. Мягко светились на втором этаже окна. В холле, украшенном охотничьими трофеями, приехавших встретил другой — тоже знакомый Плахину — разведчик, его кличка была Брилье. Широко осклабившись в фальшивой улыбке, он резко тряхнул руку шпиона. Пайл куда-то исчез. Брилье подвел Плахина к двери, они вошли в небольшую столовую с темными деревянными панелями и традиционными натюрмортами в тяжелых рамах. Плахин невольно задержал взор на голове убитого оленя, изображенного на одном из натюрмортов. Прикушен мертвый язык, тускло поблескивает невидящий глаз. Чудилась в нем нехорошая, злая усмешка. У окна столовой стоял третий лондонский знакомый Плахина — он знал его под кличкой Смадж. Смадж (из английской разведки) хорошо говорил по-русски.
Пока здоровались, появился Пайл. Втроем уселись за пустой стол. Смадж отпустил по адресу все еще озиравшегося Плахина несколько мелких любезностей. Затем начал что-то вроде резюме его деятельности.
— Материалы, присланные вами, в основном важны и интересны. Но ценность их не одинакова. Обзор оборонительного ракетного вооружения, составленный вами, интереса не представляет: эти ракеты уже устарели. Кроме того, за пределами вашей страны они известны. Весьма важны для нас сведения, содержащиеся в сфотографированных вами научно-технических материалах вашего комитета. Эту работу надо продолжать и расширять. Имейте в виду: мы рассчитываем получать от вас главным образом фотокопии документов — отчеты, доклады, программы, планы.
Сейчас, когда вы вышли уже на нормальный режим работы, следует подумать о постепенном расширении диапазона вашей деятельности. Съемку материалов научно-технического комитета надо продолжать. Но все же главный объект вашего внимания — вооруженные силы. Вам следует возобновить старые знакомства, особенно с теми, кто за эти годы продвинулся вперед на важные посты.
— Кое-что уже сделано, — самодовольно усмехнулся шпион.
— Что именно?
— Возобновил старые отношения с генералом Квашниным. Позвонил домой его жене — я ей когда-то обувь заграничную доставал. «Что это вы, — говорю, — Мария Семеновна, загордились? Как в большие начальницы вышли, так и знать никого не хотите? Зазнались?» И что бы вы думали? Пригласила с женой на чай. Принес я с собой две бутылочки коньяку, разумеется «Двин». Тут ошибки быть не могло — генерал это любит. И что же? Очень даже ему это понравилось. Просил заходить запросто.
— Что-нибудь интересное рассказал?
— Нет пока… Но я его растормошу. Проговорится…
— Очень хорошо. Но самое главное — попробуйте найти кого-нибудь из работников высшего партийного аппарата.
— Невозможно. Есть у меня один на примете, в обкоме нашем когда-то работал. Кремень! Придешь к нему — чаем угощает, о театре, музыке, книгах может говорить до утра. А вот о секретах партийных — ни звука.
— Да, мы знаем людей этого типа. Но вы продолжайте попытки. Может быть, и там удастся отыскать слабое звено. В институтах ракетной промышленности у вас кто-нибудь есть?
— Есть наметки… Но пока ничего определенного.
— После военного направления это для нас — самое важное.
Долго продолжался шпионский инструктаж. Наконец Смадж встал.
— На следующих встречах мы будем отрабатывать технику связи, — заключил он. — А сейчас вам надо кое с кем познакомиться.
Пайл вышел из комнаты, через минуту вернулся с двоими. Один — невысокий, упитанный, в мягком дорогом спортивном пиджаке, был явно лицом высокопоставленным, судя по тому, как держал себя с ним его спутник — высокий худой американец в военной форме и подполковничьих погонах.
— Познакомьтесь, господин Плахин, с нашими американскими друзьями, — произнес Смадж.
Невысокий буркнул что-то себе под нос, протягивая руку Плахину, так и не расслышавшему его имени. Худощавый назвался отчетливее: «Петерсон».
Уселись за стол, Смадж и невысокий напротив Плахина. Невысокий вынул сигарету, закурил от зажигалки, предупредительно поднесенной ему подполковником.
— Мы очень рады познакомиться с вами, мистер Плахин, — начал невысокий по-английски. Подполковник переводил на довольно хороший русский язык. — Мы знаем, что вы активно сотрудничаете с нашими британскими коллегами, и надеемся установить с вами прочный деловой контакт.
Плахин надулся. Его одутловатые щеки свисали на челюсти, словно тесто. Нос-сапожок полез еще выше, напоминая известный карикатурный персонаж.
— Ничего не имею против, — важно произнес шпион. — Я даже пытался в свое время установить контакт с вашими людьми в Москве. Но из этого ничего не получилось.
— Да, да, да, мы помним… Конечно. Письмо, переданное вами нашим людям у американского клуба в Москве, было настолько необычным, я бы сказал, невероятным, что мы просто не поверили…
Невысокий не сразу понял, что фактически назвал Плахина чудовищем, небывалым в советских условиях. Шпион сверкнул глазами, надул щеки, выпрямился на стуле.
— Мы поняли, разумеется, что это было прекрасное, благородное намерение, — поправил оплошность своего шефа Петерсон.
— И когда мы узнали, что вы так хорошо работаете с нашими британскими коллегами, мы поняли, насколько неразумна — в данном случае — была наша чрезмерная осторожность…
Мы просто не знали как следует вас, ваших прекрасных побуждений… — благодарно взглянул на своего помощника шеф. Видимо, он понимал — хотя и не говорил — по-русски.
Шпион важно молчал. Но ему не терпелось перейти к конкретным проблемам. «Сколько? — думал он про себя, глядя на туповатое лицо невысокого. — Сколько вы будете мне платить? В рублях? Долларах?» Невысокий, видимо, понял, что пора переходить к делу.
— Мы хотим предложить вам по окончании вашей работы в Москве американское гражданство, службу в военном учреждении — консультантом по русским вооруженным силам. Для вас будет установлен особый оклад — две тысячи долларов в месяц. За время вашего пребывания в Москве — тысячу долларов и тысячу рублей — новых, разумеется.
— А когда вы разрешите мне покинуть Москву?
— Вы, разумеется, понимаете, мистер Плахин, что мы хотим использовать все ваши возможности. Судя по всему, вам доверяют, вы вне подозрений, занимаете хороший пост. У вас есть все возможности для того, чтобы обеспечить нас нужными сведениями.
Англичане сидели молча. Вытянувшись, с постными лицами, вслушивались в происходивший перед ними торг. Им не хотелось, конечно, терять своего шпиона. Инструкции, которые были даны им руководством Сикрет интеллидженс сервис, сводились к следующему, согласиться на работу Плахина по «совместительству» — на американцев, но ни в коем случае не позволить им оттирать его от СИС. У англичан было немало возможностей напакостить американцам в случае, если те попытаются монополизировать «их человека».
Было ясно: продавшись однажды, шпион, подобно блуднице, готов продаваться несчетное число раз. Видя это, американцы перешли на второстепенные материи, явно откладывая обсуждение деталей до следующего раза, когда они смогут поговорить с Плахиным без британских свидетелей. Новые хозяева расспрашивали своего наемника, успел ли он посмотреть Париж, побывал ли в «Фоли бержер» и других полуприличных, а то и вовсе неприличных заведениях. Пошло звучали шуточки, нехороший смех. Вскоре разговор иссяк — ни одна из сторон, ни американская, ни английская, явно не хотела раскрывать подробностей своих отношений с дважды шпионом. Встали из-за стола. Лакей-аннамит вкатил в комнату на колесиках высокий столик, уставленный разнокалиберными бутылками с разномастными напитками. Коктейли не создали, однако, нужного настроения. Поэтому ужинали по-русски — за столом, пили коньяк, джин, виски, водку. Условившись о следующей встрече, англичане уехали, сухо поджав губы: подчиняемся насилию, но не одобряем.
Американцы повезли Плахина в какой-то фешенебельный ночной «клуб». Пили в отдельном кабинете. Когда напились, на столе танцевала нагая тучноватая блондинка. Попойка закончилась самым гнусным распутством. В гостиницу «Лютеция» на бульваре Распай американцы привезли Плахина в два часа ночи.
За две с небольшим недели Плахин встречался с американцами три раза, с англичанами — два, разумеется отдельно. Отрабатывали технику связи. Плахин учился работать с приставкой к радиоприемнику, превращающей сигналы Морзе в цифры. Приставку американцы обещали передать Плахину в Москве: везти ее с собой было опасно. Приступил к изучению одностороннего передатчика для быстрого посыла зашифрованного сообщения в эфир с помощью особого приспособления, передававшего страницу текста за полторы секунды. Разучивал правила условной связи, пользование безличными средствами связи — тайниками и т. п.

Последнюю встречу и англичане, и американцы посвятили формальностям. Шпион подписал новые обязательства своим хозяевам. Примерил полковничьи мундиры — на одной квартире английский, на другой — американский. Его сфотографировали в этих мундирах. («Увидишь ты этот мундир, как свои уши», — пробормотал про себя Петерсон, давая выход презрению к этому человеку.) Петерсон был разведчиком до мозга костей. Но он имел понятие о профессиональной чести офицера, и, может быть, в нем заговорили остатки простой человеческой порядочности. Он видел русских в действии — на советско-германском фронте — и не мог не восхищаться тогда их огромным мужеством, небывалым героизмом, стойкостью, всепобеждающей идейной силой, напоминавшей ему, религиозному человеку, фанатизм первых христиан. Многое нравилось ему в этих людях. Перевод на «русское направление» в ЦРУ его огорчил. Довольный тем, что ему представилась выгодная в служебном отношении возможность использовать русского, Петерсон в то же время глубоко презирал это двуногое.
Чтобы успокоить Плахина, Петерсон и его шеф приняли от него авансом заявление на имя американского правительства с просьбой о предоставлении убежища. На последней встрече Плахину подробно рассказали, как предполагается организовать его побег. Разработаны были условия контакта шпиона с представителями американской разведки в Москве.
Когда, простившись с новыми хозяевами, Плахин ушел, Петерсон спросил шефа:
— Неужели мы действительно пойдем на такие хлопоты, чтобы вытащить этого типа в безопасное для него место?
Улыбка Авгура медленно разлилась по лицу шефа.
— Нам надо как можно быстрее и как можно полнее использовать все его возможности, — ответил он. — Неужели вы думаете, Ник, что русские дадут ему долго резвиться? Считайте его «сваренным гусем», или же я не знаю русскую контрразведку. Надо его использовать быстрее и полнее. Вряд ли он сможет реализовать свои доллары. Но рублей пока не жалейте. Он не должен знать, что в свое время мы спишем его со счетов.
В последние дни на встречах с Плахиным англичане уговаривали его плюнуть на американцев, американцы — бросить к черту англичан. Конкуренты поносили друг друга, пугали шпиона тем, что его провалят на связи и т. п. Американцы даже обещали в следующий его приезд в Лондон или Париж свозить его на самолете в Вашингтон, представить президенту. Ухаживали за шпионом, как за куртизанкой, не дешевой, но доступной.
Странная спекуляция
Нельзя сказать, чтобы генерал, вызвавший к себе полковника Борисова, был в хорошем настроении. Скорей наоборот. Он ходил по кабинету мимо полковника, которого только что усадил в глубокое кожаное кресло, и размышлял вслух. Иногда он останавливался перед полковником, и тому стоило большого труда не подняться из кресла — генерал уже отразил несколько подобных попыток. Стоя перед Борисовым, генерал медленно говорил, словно профессор, выверяющий доказательство сложной теоремы.
— В эфир он не выходит, но инструкции принимает регулярно, по расписанию. Ему уже передано пять инструктивных радиограмм. Передача ведется из американского разведывательного центра во Франкфурте-на-Майне. Можно, таким образом, заключить, что агентурная связь поддерживается и иными средствами — скорее всего на месте и вероятнее всего — в Москве. Таким образом, вам и вашей оперативной группе придется эту шпионскую иголку искать в огромном стоге сена. Найдете? — несколько неожиданно заключил генерал.
— Найдем, товарищ генерал, — ответил Борисов вставая.
— Судя по тому, что инструкции передаются таким способом, человек этот очень важен для них — они явно не хотят ставить его под угрозу разоблачения на лишней связи. Задания и общие указания они передают ему радиошифровками. Таким образом, число встреч с представителями их разведки сокращено по крайней мере вдвое, если не больше. Тем самым вдвое сокращена и возможность для нас засечь шпиона на нелегальном контакте. Кроме того — и вы должны иметь это в виду, — контакт может быть и легальным. При современной технике, когда под обыкновенной точкой, нанесенной на пишущей машинке, можно уместить целое донесение, задача ваша — не из легких. Что ж, тем почетнее задание.
— Задание будет выполнено, товарищ генерал, — негромко произнес полковник.
— Оно должно быть выполнено, Николай Михайлович, — задумчиво сказал генерал. — И чем скорей, тем лучше. Если американцы пошли на такую связь, значит, речь идет о важном агенте. Это не Купец с его антисоветскими анекдотами. Хотя и тот мог немало навредить, если бы ему удалось как следует подобраться к профессору Михайлову. Как вы помните на примере Купца, быстрота необходима здесь как воздух.
— Да, тут есть над чем поломать головы…
— Именно головы. С вами будет работать майор Кривонос. Вы с ним как будто сработались на деле Уотсона.
— Это очень способный человек. Работать с ним легко и даже приятно.
— Вот и хорошо. Укомплектуйте группу, состав представьте на утверждение мне. Подключите нескольких молодых работников — надо их приучать к серьезным делам. Докладывать мне будете два раза в неделю. Если, разумеется, не возникнет какая-нибудь срочная необходимость.
На следующий день — это было воскресенье — по одному из подмосковных шоссе рано утром резво катился скромный «москвич», взятый с вечера напрокат в одной из автобаз Моссовета. В пассажире не сразу можно было бы угадать полковника органов государственной безопасности Борисова — в старой, видавшей виды шляпе, потертой туристской брезентовой куртке и грубых, но ладных для таких поездок брюках. Так же скромно был одет и майор Кривонос. Серенький деловитый «москвич» он вел так, как если бы под капотом этой машины бились и рвались вперед сто троек — триста механических лошадей. Майору доводилось мчаться и на таких. Сейчас вполне устраивал и «москвич».
— Как бы там ни было, — продолжал разговор Николай Михайлович, — случай этот все-таки довольно стандартный. «Объект» еще явно не имеет достаточного опыта шпионской работы — несколько раз инструктивная передача для него была повторена. Кроме того, скорость передачи была, видимо по его просьбе, несколько замедлена. Значит, это не заброшенный агент — тех обычно готовят солидно и выбрасывают сюда уже с крепкой подготовкой. Они испытывают трудности, когда «вживаются» на месте, у нас. Но радиосвязь у них, как правило, идет нормально.
— Стало быть, «объект» был подготовлен наскоро, может быть, даже здесь, в Союзе. Хотя скорее всего — во время работы за границей. Вербовка, видимо, состоялась в последние месяцы пребывания, — готовили явно наспех. Курс обучения, наверно, еще только заканчивается, так сказать, «заочно».
— Но теперь, Николай Михайлович, подготовка, видимо, закончена. Скорость передачи достигла стандарта — 75 групп в минуту. — Кривонос плавно обошел могучий самосвал, натужно поднимавшийся в гору. — Стало быть, закончена подготовка, сдан и, видимо, выдержан экзамен.
— Вряд ли, — задумчиво произнес Борисов, закуривая. — Если «объект» так туго усваивал «программу», значит, он уже не молод. А если не молод, он не мог быстро перейти от весьма посредственной работы к таким успехам. Тут, видно, что-то другое…
— Что же?
— Не знаю. Может быть… По некоторым данным, одна из западных радиофирм изобрела недавно довольно интересную приставку к радиоприемникам. Приставка эта превращает сигналы азбуки Морзе в условные цифры. Человеку, ведущему прием, остается лишь записывать цифры, не расшифровывая точки и тире… Может быть, наш бездарный «объект» получил от своих хозяев такую приставку? И теперь передачи ведутся с обычной скоростью?..
— Приставка! — воскликнул Кривонос. — Приставка! Вот оно что! Приставка!
— Что с вами, Владимир Васильевич? — удивился Борисов. — Какая муха вас укусила?
— Сейчас доложу, товарищ полковник, — возбужденно твердил Кривонос.
Он вывел машину на обочину дороги, свернул в лес, остановился на прелестной лужайке, освещенной ранними лучами осеннего солнца.
— Пройдемся немного, Николай Михайлович, — предложил он. — Сейчас я вам все расскажу.
Улыбаясь, Борисов вышел из машины. Под ногами мягко шуршали тронутые росой первые золотые листья осени. Чудесные запахи леса витали в воздухе, напоенном утренней свежестью. Звонко тенькала синичка. Торопливо выстукивал дятел. Вдалеке раздавался еле слышный шум электрички. Хорошо, невыразимо хорошо было этим утром в осеннем подмосковном лесу.
— Вчера вечером в комитет вызвали уполномоченного угрозыска, представившего на днях в свой МУР интересную докладную записку, — начал Кривонос. — Я читал эту записку вчера утром и уже хотел рассказать о ней вам, когда товарищи, у которых эта записка находится на исполнении, сообщили мне, что вызывают уполномоченного для личной беседы. Видимо, по его докладу будет начато отдельное дело. Чтобы подготовить проект приказа, нужны были некоторые дополнительные детали. Так как вас в это время уже не было, заместитель начальника управления вызвал на встречу меня.
— Кто он, этот уполномоченный?
— Молодой парень, юрист. Окончил Казанский университет. Говорит, когда узнал, что направляют его в Главное управление по охране общественного порядка, чуть не рехнулся от досады. Но оказался умницей. Раскрыл несколько больших дел. Республиканское министерство перевело его в Москву. Теперь он работает в МУРе.
— Неплохая практика для юриста…
— Да, говорит, что теперь он относится к своей работе совсем по-другому. Собирает материал, готовит интересную книгу. Уверен, что с преступностью можно быстро покончить. Очень интересный тип работника. Для буржуазного сыщика-детектива главное — это мэнхант — охота за человеком, совершившим преступление. А наш ищет корни преступности, чтобы оборвать их и уничтожить. Работает вдумчиво. У него есть редкое качество. Помните, Томас Альва Эдиссон сказал о Шекспире: «Как жаль, что он не интересовался техникой… Из него вышел бы великий изобретатель. Ведь Шекспир обладал поразительной способностью проникать в сущность вещей». Этим качеством — пока еще, правда, не очень развитым, — проникать в сущность вещей — обладает, судя по всему, и этот парень.
— Как его фамилия?
— Иванцов. Вадим Иванцов…
— Молодец. Познакомьтесь с ним поближе. Нам нужны люди из такого материала. Ну, так что же он рассказал?
— Сейчас он работает над разоблачением сложной шайки грабителей-интеллигентов. Есть в ней, по его словам, почти талантливые люди, но талант их болезненно искривлен. Есть забулдыги, но есть и такие, за которых стоит бороться. Шайка эта недавно ограбила квартиру композитора Т. Среди награбленного — импортный портативный радиоприемник типа «Зенит».
— Так. И что же?
— В прошлое воскресенье Иванцов вместо отдыха отправился к комиссионному радиомагазину на Смоленской — может быть, попадется что-нибудь. В 12 часов 25 минут к магазину подошел человек, явный иностранец, хотя, как оказалось, он неплохо говорил по-русски. Держит в руках портативный «Зенит». Подошел Иванцов, видит, приемник обшит темно-синей кожей. А тот, что пропал, был черный. Стало быть, ясно — вещь не та. Но Вадиму показалось странным — пришел человек вроде вещь продавать, спрашивают у него цену, а он только головой качает. Минут через пять подошел к нему один — одет тоже во все заграничное. Перебросились они несколькими словами, направились в соседний переулок. Иванцов — за ними. Перешел на противоположную сторону, вошел в подъезд. Подъезд темный, не видно, если из него наблюдать. Этот, что пришел; все оглядывается по сторонам, боится, чтобы его за таким делом не застукали. «Сделка» закончилась молниеносно. Пришедший взял приемник. А «продавец» вынул еще из кармана какой-то темный ящичек, видно к приемнику. Ящичек тоже отдал. И тут же они разошлись — почти разбежались — в разные стороны.
— Как? Разве он не уплатил за приемник деньги? — спросил Борисов.
— В том-то и дело, что это была не продажа, а передача. Деньгами в этой сделке и не пахло.
— Но, может быть, покупатель отдал деньги незаметно?
— Иванцов заснял фильм, Николай Михайлович. К сожалению, на ленте виден только «продавец». Им оказался второй секретарь американского посольства Корбелли. А вот «покупатель» так ни разу и не повернулся лицом к объективу, хотя бы в профиль. Все в стену смотрел.
— Иванцов описал его внешность? Проследил, куда отправился «покупатель»?
— Тут он сделал ошибку — не обратил внимания на то, что деньги не были переданы. Он счел эту подозрительную передачу обыкновенной спекуляцией, на которую так падки иные иностранцы. Поэтому он и решил, что важнее «засечь» «продавца». От магазина тот отправился прямо в посольство на улице Чайковского. А «покупатель» исчез бесследно.
— Та-ак, Владимир Васильевич. Видимо, и у вас есть способность «проникать в сущность вещей». Где сейчас кинолента этого юного дарования?
— В МУРе. Они отпечатают для нас один экземпляр. Я уже договорился.
— Вы сможете раздобыть этот фильм, чтобы я мог его посмотреть?
— Сегодня?
— Сейчас. Как только доберемся до города.
— Смогу. Позвоню Иванцову домой — у меня есть его телефон. Если он дома, он сможет организовать. В МУРе есть воскресный дежурный.
— Ну-с, так вот, уважаемый Владимир Васильевич. Сейчас мы с вами едем к ближайшему телефону. Вы разыскиваете Иванцова, он созванивается с дежурным своего МУРа. Если просмотр организовать можно, тогда вы, рассчитав время, вызываете из управления машину к прокатному пункту. Мы возвращаемся, сдаем наш великолепный «москвич» и едем смотреть иванцовский фильм.
— Но, Николай Михайлович… А как же мотыль? Высохнет ведь.
— Выполняйте, товарищ майор, — с шутливой строгостью ответил Николай Михайлович. — Высыпьте мотыля в аквариум вашего сына.
— Нельзя, Николай Михайлович. И потом — дело ведь, собственно, не в мотыле…
— А в чем?
— В вас. Доктор сказал, что вам надо минимум раз в неделю бывать на воздухе, часов по шесть — восемь кряду. Посмотрим фильм завтра?
— Я сказал: выполняйте, товарищ Владимир Васильевич.
Борисов умел облекать свои приказания в такую форму, на которую просто невозможно было обидеться. Но и не выполнить приказ было нельзя.
Подавив вздох сожаления — пропала рыбалка, — Кривонос направился к «москвичу». Через несколько минут серенькая машина, развернувшись, резво помчалась по шоссе к Москве. Николай Михайлович сосредоточенно молчал, размышляя над чем-то. В багажнике тоскливо погромыхивало пустое ведерко, взятое для рыбы. Уныло шевелились в деревянной коробочке темно-коралловые личинки мотыля. А сотни полторы окуней так и не узнали, что избегнули в тот день самой печальной участи.
В беличьем колесе
Мария Петровна Ролик слыла в своем институте эталоном добродетели. Довольно миловидная, но сдержанная и даже сухая, она напоминала собой миниатюрную счетно-аналитическую машину. Безошибочно определяла, кому следует улыбнуться при встрече, на кого нахмуриться, с кем можно две-три минуты приятно и даже остроумно поболтать, кому — сухо кивнуть головой. Дело в том, что Мария Петровна была очень близка к директору института, любившему в минуту душевной слабости пооткровенничать с молчаливой и замкнутой с виду институтской дамой.
Ролик очень дорожила своей репутацией «правильного товарища». Она добилась отчисления из института и перевода на завод серийного производства молодой, очень способной научной работницы, живой, энергичной и (что окончательно решило дело) очень привлекательной. Открытый, смелый взгляд косо поставленных глаз, искренний, жизнерадостный смех (слишком часто, по мнению Марии Петровны, раздавался он в комнате, где она сидела) Светланы располагали к себе всех. Работала Светлана вдумчиво, забирала глубоко. На ее счету уже было несколько небольших, но существенных открытий. Но главное — люди верили в ее искренность. К ней шли советоваться девушки по своим житейским — чаще всего сердечным — делам, ей поверяли свои огорчения немолодые отцы семейства. Один из них несколько лет провожал ее в метро домой, счастливый двумя десятками минут общения с этим, видимо, дорогим ему человеком. Светлана, зная, чем вызвано это робкое внимание к ней, не хотела, чтобы развивалось ненужное ей глухое чувство. Но отказать человеку в этой небольшой радости у нее не хватало духу.
Первой узнала об этом Мария Петровна Ролик. Она заметила «виновников» на одной из станций. За ее узеньким лобиком что-то сухо щелкнуло, оставив в мозгу четкую засечку. Через пару недель Мария Петровна узнала: во время одного из творческих научных споров Светлана проговорилась — слушатели узнали нечто такое, что знать им было не положено. Молодой женщине указали на ее оплошность. С ней поговорил парторг — Светлана была еще комсомолкой. Руководству института было рекомендовано оставить ее на работе, сделав надлежащее внушение и объявив, разумеется, выговор.
Об этом немедленно пронюхала вездесущая Мария Петровна. Симулируя «благородное негодование», она явилась к директору и убедила его в том, что прощать такое прегрешение нельзя.
— Подумайте, что может быть с вами, со всем коллективом, если что-нибудь случится? — ворковала Мария Петровна.
— Но ведь руководство лаборатории считает ее ценным работником и ходатайствует об оставлении ее на работе. Партийная организация не против этого.
— Не знаю, Петр Вениаминович. Вам, конечно, видней. Но я на вашем месте ее не оставила бы. Я бы надежно оградила себя от всяких неприятных возможностей. Знаете, всякое бывает.
И Петр Вениаминович «оградился». Светлану перевели на завод, и вскоре в институте ее вспоминал только робкий воздыхатель, лишившийся едва ли не последней радости в своей крайне неудачной личной жизни.
Мария Петровна позаботилась о том, чтобы слухи о ее решающей роли в этом деле распространились по институту. Теперь ее побаивались. А она купалась в лучах сомнительной славы.
Вскоре после этого в жизни Марии Петровны произошло весьма значительное, по ее мнению, событие. Ее муж — серьезный работник — уехал на несколько месяцев в Сибирь. Несмотря на свой прославленный аскетизм, Мария Петровна скучала. Среди ее «полезных знакомых» была красавица Галя — заведующая секцией знаменитого в Москве комиссионного магазина. Зашла как-то к ней в воскресенье Мария Петровна (ей было обещано: первый же плащ «болонью» «придержат» для нее). Плаща не было: не приносили на комиссию. Поболтали. Выяснилось, что вечером Галя идет в компанию — будут ужинать в ресторане. Пригласила Марию Петровну. Подумала та, подумала — рискованно. Но уж очень просила Галя — хотелось ей прихвастнуть «культурной» знакомой. И Ролик — уверенная в себе — согласилась.
Вечером в ее квартире раздался телефонный звонок. Подвыпившая (по голосу чувствовалось) Галя приглашала в ресторан-поплавок у набережной Центрального парка. Мария Петровна, красиво причесанная, с накрашенными ногтями, одетая, ждала звонка. Через полчаса она присоединилась к компании.
Душой полупьяного общества был высокий мужчина с лихорадочно блестевшими глазами. Говорил он не очень правильно, с дубовой вычурностью, свойственной людям глубоко неинтеллигентным, но тянувшимся к внешней «культуре» и показной обходительности. Зато одет он был в тонкий летний костюм темно-фиолетового оттенка. Костюм сидел на нем как перчатка, скрашивая его неприятное лицо с отвисшими щеками и носом-сапожком. Неестественно громко смеясь своими примитивным остротам, рассказывал он, как в театре-кабаре «Фоли бержер» танцуют нагие красавицы, с каким вкусом поставлены там пантомимы на мифические, сюжеты.
— Париж! Ах, Париж! — заныл сидевший рядом с Марией Петровной высокий жилистый («Искусствовед Фиалковский», — представился он новой гостье) человек с голым черепом и коротко подбритыми усами под вытянутым носом. — Везет же людям, — продолжал он, обращаясь к Марии Петровне. — За границу ездит. На выставках пропадает. В «Гранд опера» ходит запросто. А мы? Э-э-эх…
Душа общества пронзительно — так показалось Марии Петровне — взглянул на нее. Сердце ее ухнуло.
— За границу, запросто, — шептал ей «искусствовед Фиалковский». — Доверенный человек. Тонкая штучка… А «тонкая штучка», выкрикивая что-то пьяным голосом, стаскивал с ноги красавицы не первой уже свежести светлую туфлю с потемневшей на пятке от пота стелькой. Высоко подняв туфлю над головой, он упоенно орал:
— О, женщины! Ничтожество вам имя, сказал поэт. И все же царствуете над нами. Управляете. Все, что мы делаем, — для вас. Во имя вас, женщины…
Пьяной неверной рукой, разбрызгивая, налил в туфель прохладного янтарного шампанского, поднес задник ко рту, начал пить. Сидевший за соседним столиком пожилой мужчина, не выдержав, сплюнул. Мария Петровна была потрясена. От ее внешнего аскетизма, прикрывавшего, надо сказать, довольно заурядную чувственность, не осталось и следа. «Какой мужчина! — думала она, глядя на Плахина. — Какой мужчина!» Глаза ее, блестевшие от рюмки коньяку (Мария Петровна пила только сорокаградусное), не отрывались от Плахина. А тот, поцеловав раскрасневшуюся Галю, встал, подошел к Марии Петровне, впился в нее лихорадочным взором. «Искусствоведу» невидимо показал глазом — «иди на мое место». Тот послушно вскочил. Плахин тяжело опустился рядом с Марией Петровной.
— Вот так отдыхаем. «Снимаем остаточное напряжение», — балагурил он. — Работа у нас чертовская. Ну и бывает, знаете, подурим немного. Но народ мы хороший…
Мария Петровна отвечала невпопад, смятенно — чувствовала: перед ней человек не обычный. В Лондон, Париж ездит, видно, облечен доверием. Плахин долго рассказывал ей, как кормят в Лондоне, как пьют в Париже. А когда обронил фразу, из которой стало ясно, что работает он в НТК, Мария Петровна беззвучно ахнула — ее институт был подчинен этому комитету. Заручиться знакомством с таким человеком она мечтала уже давно. Этому она может сказать, что работает в таком-то почтовом ящике. Плахин встрепенулся — за этим ящиком он охотился уже несколько месяцев… Бывают, оказывается, и у шпионов удачи. Притворяясь вконец опьяневшим, он принялся бормотать пошлые комплименты своей собеседнице, жать ей под столом ногу. Мария Петровна краснела, но не от стыда, а от возбуждения — она принадлежала к тем, внешне холодным женщинам, которых приводят в состояние высшей любовной готовности чины, звания, так сказать, эполеты и аксельбанты высокого общественного положения. Этим она напоминала дореволюционную кухарку, из тех, что влюблялись в жандармов и пожарных.
Другой собутыльник Плахина — молодой мордастый человечек с юмористической фамилией Талмудовский — подсел к Гале, что-то ей нашептывая. Плахин не обращал на них никакого внимания. Не допив кофе, те вскоре ушли. Незаметно, бесшумно и бездымно исчез «искусствовед»: он опасался, что придется участвовать в оплате счета. А Мария Петровна все сидела, глядя в туманящиеся глаза Плахина, слушая его почти бессвязную, лихорадочную, напряженную болтовню.
…Дома при свете небольшого ночника она долго разглядывала мятое, опухающее от алкоголя лицо своего нового случайного любовника. Смотреть было буквально не на что. По хорошенькому лицу Марии Петровны промелькнула гримаска. Но зато это был нужный, очень нужный человек. Заполучить такую «руку» в комитете?! О, на это была способна далеко не каждая женщина в их институте. Собственно, никто из них, кроме Марии Петровны, этого не хотел и об этом не думал. Ведь это были простые, честные, человечные женщины. А Мария Петровна была дама «себе на уме». На мелком, птичьем, мещанском умишке.
Плахину ничего не стоило закрепить эту связь. Приезжал к ней поздно ночью, пил, долго шептался. Мария Петровна рассказывала ему все институтские новости в расчете на то, что через Олю — как она называла своего нового любовника — все это дойдет «куда нужно». Ее враги в институте (она сама их придумала), которых она так ловко, как ей казалось, оговаривала, будут теперь посрамлены. Так с помощью «правильной женщины» американская и английская разведки вскоре узнали многое, слишком многое, о людях института. «Оля» был достаточно осторожен, чтобы не выпытывать у Марии Петровны научно-технические секреты, да она и знала их не много. На первое время для него и его хозяев было достаточно того, что выбалтывала «правильная женщина» по своей доброй воле. С ее помощью они изучали самое важное — людей, делающих большое, важное дело, до зарезу интересующее американскую и британскую разведки. Мария Петровна оказалась если и не очень приятным, то полезным приобретением для Плахина.
Но главные усилия, по приказу своих хозяев, шпион обратил теперь на сбор сведений о вооруженных силах, И тут главным его оружием был коньяк с лимоном. За сытным ужином, после второй или третьей бутылки, старые знакомые Плахина — военные — иногда начинали болтать такое, что не следовало бы, как говорил фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, знать даже их шляпам (в ресторан они шли, разумеется, в штатском). К счастью, сведения, которые они выбалтывали, были неконкретными, приблизительными. Но они наводили иностранную разведку на след, ориентировали ее шпионский поиск.
К концу лета Плахин напал буквально на золотую жилу. Один из его знакомых, считавший шпиона человеком со связями, рассказал, что в Москву приехала довольно соблазнительная дамочка лет около тридцати похлопотать, чтобы ее мужа, инженер-капитана, перевели из «ужасно скучного места» куда-нибудь поближе к Москве, где у нее было много таких друзей и близких родственников, с которыми она не могла жить в разлуке. В прохладе загородного ресторана Плахин наговорил скучающей мещаночке «сорок три короба». Затем, сказав жене, что едет в срочную командировку, отправился с ней на теплоходе в воскресную поездку по каналу Москва — Волга. Ехали в одной отдельной каюте. Покладистая мещанка была уверена, что протекции нового знакомого «со связями», не скупившегося, кстати сказать, на хвастливые обещания, окажется достаточно для того, чтобы вырвать ее из скуки скромного военного городка. Шпион выудил из этой благонамеренной обывательницы немало важных для его хозяев, хотя и весьма общих, сведений о секретнейшем военном центре.
Американские хозяева одобрили инициативу своего агента. Плахину передали директиву — о переводе ее мужа не хлопотать, отправить к нему жену, чтобы через два-три месяца она вернулась за новыми обещаниями, привезла новые сведения.
Круг замыкается
Полковник Николай Михайлович Борисов грипповал — в ушах слегка шумело, отяжелели ноги, дыхание участилось. Первым это его состояние заметил лейтенант Вишняков. Но ему было приказано об этом не распространяться — теперь Борисов ни на шаг не мог отойти от своего стола: опасный сговор должен быть сорван.
Закончив просмотр последних донесений, Борисов широким глотком отпил из высокого стакана холодный крепкий чай, откинулся на спинку кресла. За окном неумолчно шумел огромный город. Мысленным взором полковник окидывал знакомые улицы, площади, сотни тысяч светящихся окон. Под тысячами крыш пульсирует, играет всеми красками жизнь. Склонились над своими тетрадями школьники-«первачки». Преисполненные сознания важности своего дела, тщательно выводят они круглые буковки. Стараются, высовывают розовые, порой выпачканные чернилами языки, сопят, отдуваются, любуются сделанным.
На кухнях хлопочут, готовя ужин, матери. На диванах с «Известиями» (удачливые) или «Вечерней Москвой» (менее удачливые) в руках лежат в ожидании вечернего чая отцы. Пенсионеры в очках строго, придирчиво вчитываются в страницы «За рубежом», изучая позиции американских политических деятелей. Мчатся по улицам машины. Настраивают скрипки в ожидании дирижера оркестранты в театре. Сухо шелестят по проводам щетки все более редких троллейбусов.
То в доме на одной из гранитных набережных столицы, то в служебном кабинете научно-технического комитета, то в одном из многочисленных ресторанов столицы лихорадочным черным сгустком напряженно затаилась под толстой черепной коробкой злая воля преступника. Не волнуют его прекрасные картины родного города. Что ему до вихрастых, белобрысых круглых голов с оттопыренными ушами над красными пионерскими галстуками? Что ему до спокойствия стариков, умиротворенной радости пожилых матерей, видящих, как развивается, растет, шагает вперед, в будущее жизнь, которую они выносили, вынянчили.
Родина дала этому человеку все: образование, хорошую работу, квартиру, высокий заработок, все возможности для того, чтобы пользоваться благами современной культуры. Но, ставши свиньей, которой мало места у корыта, которая хочет влезть в него с ногами, напакостить, забрать, захапать, захватить все, все сожрать, никому ничего не оставить, человек этот пошел на самое страшное. Он начал торговать — в розницу, кусками — безопасностью советских людей, спокойствием матерей (в том числе и своей собственной), жизнью детей (в том числе и своих). Ведь, разразись война, сведения, переданные Плахиным его американским хозяевам, позволили бы им умножить и без того немалые жертвы, без которых, конечно, не обошлось бы. Тупой, эгоистичный себялюбец, нежно влюбленный в свою шкуру, он был бесконечно равнодушен даже к самым близким ему людям — матери, жене, детям. Он хотел только одного — денег, грязных, запретных удовольствий, которые доставляют деньги там, на чужой стороне. Неумный, недалекий, ограниченный мерзавец мнил себя гением преступного беспутства. Глупый и даже не изобретательный, он считал, что всех обманул, всех обвел вокруг пальца, укрылся от всех взоров. Как он ошибался!
И пока еще ходил он по московской земле, не мог позволить себе грипповать Борисов, не могли спать его друзья и помощники, ни минуты покоя не знал генерал, вместе со всем чекистским коллективом отвечающий перед партией, народом, правительством за то, чтобы не могла творить безнаказанно свое черное, страшное дело измена.
Снова и снова перебирал в уме полковник Борисов детали долгого чекистского поиска своего коллектива. Приближалась к концу, к неотвратимой развязке сложная, тонкая работа по разоблачению и ликвидации шпионского гнезда. Совещания группы Борисова теперь напоминали нечто среднее между разбором крупного военного учения и генеральной репетицией шекспировского спектакля. Каждому участнику предстояло сыграть в нем свою определенную, четко обусловленную роль и именно в тот момент, когда это предусмотрено генеральным планом — «сценарием». Ни раньше и не позже. В совещаниях этих участвовали лишь руководящие работники группы. Многочисленные исполнители докладывали о выполнении поручений отдельно, в индивидуальном порядке.
Как раз в тот момент, когда Плахин, по требованию своих американских и английских хозяев, усиливал шпионский поиск в военном направлении, невидимая умелая рука начала бесшумно обрывать завязываемые им нити, подменяя их искусственными, ложными. Были предупреждены крупные военные, к которым подбирался шпион. Не отпугивая его, они в то же время проявляли всю необходимую осторожность. Лишь два довольно высокопоставленных генерала отказывались верить чекистам, считая их предупреждения проявлением чрезмерной подозрительности. В свое время они поплатились за легкомыслие, слепую доверчивость. Урок, полученный впоследствии этими людьми, показал им, как вредна, как недопустима заносчивость, сколь неоправданной оказалась их самоуверенность.
Чувствуя, как пульсирует на лбу напряженная жилка, Борисов поднял трубку телефона. Майор Кривонос!
— Заходите, Владимир Васильевич, — сказал полковник. — Вы мне как раз и нужны.
Через несколько минут коллеги неторопливо обсуждали материалы последних дней. Они настолько сработались, что без лишних объяснений понимали друг друга, зачастую с полуслова, с одного намека.
Нередко им в голову одновременно приходила одна и та же мысль, одно и то же открытие.
Углубленную беседу прервало появление капитана Стебленко.
— Приставку к транзисторному приемнику получил Плахин, — возбужденно заговорил он, затворяя за собой дверь.
— Уж и Плахин. Это что, гениальная догадка? Интуиция? — спросил полковник, еле скрывая напряжение.
— Нет, товарищ полковник, — радостно отчеканил Стебленко. — Есть документы…
— Какие?
— Во-первых, фотография Плахина со спины в том самом костюме, в котором он был, когда получал приставку от Корбелли у комиссионного радиомагазина на Смоленской. Во-вторых, только что получена запись интересного разговора одного из наших добрых друзей с матерью подозреваемого. Вот эта запись, — протянул он полковнику несколько исписанных страничек.
Полковник уже рассматривал фотографии, увеличенные до таких размеров, что они еле помещались в стандартной канцелярской папке (сколько их уже накопилось в деле шпиона!).
— Костюм, видимо, побывал в чистке: исчезло легкое пятно на левой лопатке. Материал тот же — американский из дорогих — дакрон с козьей шерстью. Сшит, видимо, в магазине братьев Брукс на Мэдисон авеню Нью-Йорка. Сделано по мерке, доставлено с оказией или диппочтой. Пуговица на рукаве пришита не крестиком, как это делают в Европе, а параллельными стежками. Похоже, очень похоже, капитан. Поздравляю.
— Редко он носит этот костюм, сукин сын, — удовлетворенно пробормотал капитан. — А что вы скажете по этому поводу, товарищ полковник? — сказал он, видя, что Борисов углубился в чтение бумаги, принесенной Стебленко.
Это была запись разговора, которые часто ведут между собой пожилые люди, сидя в московских скверах или палисадниках, пока их внучата мирно возятся в песочке.
— Гражданка Плахина рассказывала мне, какой интересный транзисторный приемник привез из-за границы ее сын. Однажды она сама видела, как он подключал к приемнику какую-то коробочку. В окошечке у коробочки появились цифры, а сын их быстро записывал. Он ей объяснил, что это у них такая учеба — наша радиостанция передает для любителей, а те потом отсылают выполненные задания ДОСААФу.
— Да, «совпадений» накопилось больше чем достаточно. У нас таких приставок для транзисторных приемников не продают, Владимир Васильевич? — обратился полковник к майору Кривоносу, рассматривавшему снимки, принесенные Стебленко.
— Нет, Николай Михайлович. Не продают.
— Ну что ж, товарищи, круг, как видите, смыкается. Надо вести дело к завершению. Нельзя больше позволять преступнику оставаться на свободе. Надо быстрее заканчивать изучение его американских связей. Кроме того, тут есть еще одно обстоятельство…
И полковник принялся излагать своим помощникам особое обстоятельство, требовавшее быстрого завершения работ.
Последние метры
Неотвратимо замыкался стальной круг. Обратный отсчет продолжался со всей неумолимостью.
Вернувшись из Парижа, Плахин на первом же приеме в посольстве встретился с Корбелли. Сошелся устный пароль-диалог: «Как вам понравилось в Москве?» — «О, очень понравилось». — «У вас есть здесь друзья?» — «Пока еще нет. Но я оставил двух хороших приятелей в Париже». — «Кто-нибудь из наших общих знакомых?» — «Да, конечно. Из виллы на авеню маршала Фоша. Оба они шлют вам большой-большой привет и желают доброго здоровья». Сошелся и условный признак — прищепка для галстука у Корбелли с дешевыми красными камешками-гвоздями на медной подковке.
Болтали о пустяках, тревожно кося глазами по сторонам. Затем условились о месте и времени встречи для передачи шпиону приставки к транзистору.
Мортон О’Хара Корбелли был выходцем из итало-ирландской семьи. Предки отца приехали в свое время в Америку из Генуи, гонимые бичом безработицы. Предки матери покинули полтора столетия назад Белфаст, проклиная англичан. Ни те, ни другие не смогли за эти полтора века составить себе хотя бы небольшое состояние. Но и те, и другие были набожны до чрезвычайности.
Воспитанием Мортона в детстве занималась католическая церковная школа. А когда было закончено школьное образование, местный епископ выхлопотал ему какую-то церковную вакансию для бесплатного обучения в иезуитском Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Уже на втором курсе Мортон, неплохой атлет, ощутил на себе пристальное внимание ассистента профессора международного права, высокого и жилистого, типичного американского «рэнджера» — предшественника нынешних «зеленых беретов» — специальных сил, подготавливаемых в Форте Брагге. По субботам ассистент профессора мистер Марч Рамуэлл брал Мортона с собой в байдарочные походы.
Долгими осенними ночами при неровном свете костра он подолгу рассказывал ему о деятельности диверсионных групп, с которыми во время войны нередко высаживался и сам Рамуэлл. Молодого человека, осмотрительного и недоверчивого, как ирландец, но временами воспламеняющегося, как итальянец, захватывала романтика этих приключений. Рамуэлл обильно сдабривал их многими вымышленными подробностями, почерпнутыми из детективных романов, которые не читал Мортон. Однажды вечером после очередного рассказа юноша мечтательно бросил:
— Интересно, как это люди попадают на такую работу?
Рамуэлл замер, словно пойнтер в стойке. Грубый, словно из дуба рубленный, профиль четко вырисовывался на фоне красного колеблющегося огня.
— А вас это в самом деле интересует? — спросил он напряженно.
— Не знаю еще, получилось бы у меня или нет. Но попробовать хотелось бы.
— Тут нельзя «пробовать», — ответил Рамуэлл. — Это надо решать для себя однажды и на всю жизнь. Дело это очень серьезное.
Мортон молчал. Рамуэлл ждал этого разговора. Он уже давно установил, что рослый студент отвечает основным стандартам американской шпионско-разведывательной службы. Сдержан, молчалив, в меру умен, в меру глуп. Осторожен, но когда нужно, решителен. Не трус, но и не безрассуден. Словом, это был тот материал, из которого ЦРУ готовит свои кадры.
На следующее утро Рамуэлл возобновил разговор, ради которого он, собственно, и таскался все это время со своим воспитанником по невысоким горам Катоктина. Да, он, Мортон, обдумал все, что говорил ему мистер Рамуэлл. Он понимает всю серьезность этого дела. Да, он хотел бы посвятить себя разведывательной деятельности. Нет, он не передумает. Он готов встретиться с представителями ЦРУ для вполне серьезных разговоров.
Первым из этих представителей оказался мистер Рамуэлл. Он был одним из тех работников ЦРУ, что имеются в каждом более или менее крупном американском университете и во многих колледжах. Их задача — подбирать из огромной массы сырого человеческого материала людей, способных изучить и, что важнее, при необходимости применить 32 способа убить человека голыми руками.
Мортон О’Хара Корбелли и был таким человеком. Уже с третьего курса, одновременно с занятиями в университете, он начал углубленную подготовку в одной из мелких секретных школ ЦРУ, разбросанных во многих американских городах и за границей. И хотя, закончив университет и получив звание бакалавра наук, Мортон был еще формально новичком в государственном департаменте, он тем не менее уже завершил солидный курс подготовки к роли разведчика ЦРУ.
Не удивительно поэтому, что в государственном департаменте в Вашингтоне он пробыл всего лишь год, изучая формальные обязанности дипломата. Его сразу же отправили третьим секретарем в одну из ближневосточных стран. А когда в этой стране провалился заговор против ее демократического правительства и стала известна роль Корбелли, ему пришлось перевестись оттуда. Его направили вторым секретарем в посольство в Москве.
Центральное разведывательное управление стало для Мортона отцом и матерью. Вскоре после того как была официально закреплена его работа в кадрах ЦРУ, ему подобрали (и через Рамуэлла представили) жену, тоже кадровую работницу концерна шпионажа. В меру привлекательная, в меру состоятельная любительница приключений не очень нравилась Мортону. Но он понимал, что эта жена нужна для карьеры. И брак по расчету ЦРУ состоялся. В Москву Мортон приехал уже с двумя детьми — шестилетним Патриком и восьмилетней Марсией.
Уже к концу первого года его службы в Москве Мортон Корбелли был на лучшем счету. Не поддавался обаянию Москвы. Регулярно ездил на церковные службы в католическую церковь дипломатического корпуса на Малой Лубянке. Активно помогал резиденту ЦРУ, занимавшему пост советника посольства, выживать из посольства тех дипломатов — а таких было немало, — кто не хотел служить орудием раздора между двумя великими державами, кто не мог кривить душой, а порой и просто выдумывать различные антирусские, антисоветские небылицы, которые так любят в ЦРУ и в редакциях кое-каких американских газет. Словом, Корбелли был, по мнению резидента, идеальным типом исполнителя-связника, которому можно было доверить такого ценного агента, как Плахин.
На первой же нелегальной встрече Корбелли передал кроме радиоприемника (этого не заметил глазастый Иванцов и не запечатлела его кинокамера) шифрблокноты и расписание работы американской радиостанции во Франкфурте-на-Майне. Сидя после полуночи дома, в туалетной комнате, Плахин принимал инструкции-задания западногерманского центра ЦРУ. При встрече с Корбелли передавал ему письма, в которых просил ускорить переброску его за кордон. Через две недели получил ответ по радио:
«Ваши материалы становятся все менее интересными. Примите меры к получению аутентичной информации о новейших ракетах. Продолжайте поиски материалов о дислокации ракетных станций. Для выполнения нами договоренности вашем переходе и службе у нас вы сделали еще недостаточно».
Приняв и расшифровав сообщение, шпион читал и перечитывал эти холодные циничные строки, и у него холодело внутри. Много и безобразно пил он в компании мордастого автолюбителя и длинноногого лысеющего «искусствоведа». Долго думал, не спал ночами. Наконец решился.
Выпив для храбрости коньяку, явился — без приглашения — на дипломатический прием в доме на Софийской набережной. Пришел попозже, когда тесные мрачновато-элегантные комнаты были уже забиты гостями. Долго толкался среди подвыпивших дипломатов, пока не увидел в углу балконного зала Анну Грайпсхолм. Разведчица беседовала с каким-то восточным дипломатом, замаслившимися глазами оглаживая его могучую фигуру. Увлеченная флиртом, она не заметила старавшегося попасться ей на глаза Плахина. Тому пришлось толкнуть ее, чтобы она обернулась, увидела горящие глаза, бледное одутловатое лицо, неопрятно всклокоченные волосы. Вид агента встревожил и даже напугал ее. «Подождите, — скомандовала она ему глазами. — Сейчас освобожусь». Но Плахин продолжал топтаться рядом. Наскоро попрощавшись с «роскошным мужчиной», Анна прошла в коридор, направилась к дамскому туалету. Ослепленный гнавшим его страхом, Плахин чуть не ворвался вслед за ней. Остановился у самой двери. Отколов прикрепленное под платьем письмо-инструкцию для шпиона, Анна сразу же вышла. Плахин стоял тут же, молча, тревожно пожирая ее глазами. Оглянувшись, она сунула ему в руку крохотный пакетик. Шпион протянул ей конверт с письмом. Взяв его, разведчица вернулась в комнату, играющую столь существенную роль в британском шпионском бизнесе. А Плахин поплелся в комнаты, где еще шумели редеющие кучки подвыпивших гостей.
«Дорогие друзья, — писал своим английским хозяевам шпион. — Вокруг меня смыкается кольцо. Работать становится все труднее. Боюсь, что уже скоро я утрачу всякую полезность для вас. То, что я сделал для вас и для американских друзей, дает мне право рассчитывать на вашу благосклонную помощь и поддержку. Прошу вас продумать и подготовить в ближайшее время конкретный план моего скорого выхода за границу. Мне уже не удалось попасть в состав последней делегации, хотя прежде меня обычно включали в такие делегации их руководителем. Может быть, все это случайность. Но я вынужден считать это следствием подозрений, которые, возможно, вызваны мною у наших властей. Многие из тех, кто раньше запросто встречались со мной, теперь под разными предлогами избегают встреч. Материалы, которые мне раньше ничего не стоило получать, теперь таинственным образом исчезают чуть ли не из-под рук. Прошу вас: во имя того, что мне удалось сделать для вас, примите меры к моему спасению. Все чаще охватывает меня мысль о возможном, может быть неизбежном, провале, и я содрогаюсь, думая о том, чем все это может кончиться для меня. Умоляю, спасите меня. Не только во имя гуманности. Во имя моей преданности вам».
После встречи с Анной Плахин зашел в одну из комнат, где на столе стояли разноцветные бутылки, налил стакан джина, залпом выпил. Сбежал по лестнице, взял из рук английского служителя пальто, вышел из подъезда, окликнул такси.
— На вокзал, — прохрипел он водителю.
— Какой? — спросил водитель, включая счетчик.
— Любой… Ну, Казанский…
Доехав до Казанского вокзала, пассажир расплатился, вышел из машины, тут же уселся в другое такси. Эта машина пошла в Замоскворечье. На одной из тихих, чудом сохранившихся в Москве улиц он поднялся на второй этаж видавшего виды дома, позвонил.
Дверь открыла неопрятная старуха. Окинула недоброжелательным взором приехавшего, молча повернулась, шаркая шлепанцами, поплелась в свою комнату.
— Валька! — каркнула она куда-то в темноту. — Энтот твой приехал. В шляпе!
Открылась одна из дверей, приглушенный абажуром апельсиновый свет упал на стертый пол коридора. В дверях стояла невысокая пухловатая искусственная блондинка с красивым, но вульгарным лицом. Руки с только что накрашенными ногтями она держала на отлете.
— К тебе, — выдохнул Плахин. — Вот деньги. Посылай за коньяком.
— Выпьем! — радостно взвизгнула синтетическая девица. — Теть Мань, одевайся. Трешник заработаешь.
— Трешник, трешник… — заскрипело откуда-то из темных недр квартиры. — Замуж бы выходила, чем с шляпами энтими валандаться.
Плахин не слышал укоризненного скрипения старухи. Войдя в душную комнату, он повалился на рытый бархат дивана.
Пьяный, обессиленный, грязный физически и еще больше духовно, притащился в ту ночь домой Плахин. Осторожно открыл ключом дверь, пробормотал что-то невнятное матери, вышедшей из комнатки рядом с кухней, где она спала с двенадцатилетней внучкой. Пока старуха стелила сыну в столовой на диване, он прошел в ее комнату. Дочь спала, положив ладонь под раскрасневшуюся щеку.
Покачиваясь, стоял над ней Плахин. Стараясь не дышать в лицо ребенка зловонным перегаром, нагнулся, холодными, словно черствый блин, губами прикоснулся к нежной коже, рухнул на задрожавшие, обессиленные страхом колени.
— Доченька! — икнул, захлюпал, засипел почти в ухо спящей. — Девонька моя! Что же это я наделал?!
— Известно что, — сердито зашептала вошедшая мать. — Напился! Иди, иди, разбудишь…
Если бы знала она, если бы могла видеть в этот предрассветный час то страшное, темное, преступное, что змеилось в заполненной спиртными парами черепной коробке сына!
Панически трусливое, униженное письмо Плахина в Лондоне получили через несколько дней. Его доставила из Москвы британская дипломатическая почта. Письмо обсуждалось на нескольких совещаниях в Сикрет интеллидженс сервис. Решено было попытаться взвалить хлопоты по «эвакуации» агента на американцев.
Через день в одном из скромных загородных ресторанчиков под Лондоном встретились представители американо-английского шпионского консорциума. То, что внешне выглядело как не очень фешенебельный обед, в действительности представляло собой важное — для Плахина — совещание. Британскую сторону представляли Арчибальд Кинг и Смадж, американскую — главный резидент ЦРУ в Лондоне Макдаффи и известный нам по Парижу Петерсон.
— О посылке в советские воды за Боем подводной лодки флота ее величества не может быть и речи, — холодно цедил Кинг. — И не только из-за ограниченности наших материальных ресурсов. А просто потому, что для этого нет решительно никаких возможностей. Другое дело — вы, господа, — неискренне, одними губами, улыбнулся он американцам. — При ваших возможностях…
— Не так уж велики они, эти возможности, — пробормотал Макдаффи, дожевывая ростбиф.
— Ваши корабли заходят в турецкие порты на Черном море, — улыбнулся Кинг. — Мы стараемся не посылать туда наши, чтобы не мешать вам. Ну что вам стоит отправить за ним какую-нибудь из ваших подводных лодок?
— Русские держат их все под самым тщательным наблюдением. Подобраться к их берегам практически невозможно.
— Но ведь вы обещали ему… даже нелегальный полет из Парижа в Вашингтон для личного представления если не президенту, то директору ЦРУ.
— Мало ли что мы кому обещаем! — раздраженно ответил Макдаффи. Доел полусырой ростбиф, выпил большую, колоколом, рюмку неразбавленного джина. Крякнул. — Думаю, что этот наш Бой дожигает свои последние недели, если не дни на свободе. О какой-либо авантюре для его спасения не может быть и речи. Мы не можем сейчас рисковать опасным инцидентом с русскими. Пусть этот… Плакин… сам пробирается к границе…
— Вы же знаете, Макдаффи, что перейти русскую границу не могут даже опытнейшие диверсанты, — сказал Кинг. — Это удается разве что одному из десяти. Да и то если он из сопредельной с Россией страны, знает границу как свои пять пальцев и если мама родила его в нейлоновой сорочке. Видимо, в конечном счете Боя придется списать со счетов, удовольствовавшись тем не очень многим, что он нам дал. Но если мы просто бросим его на произвол судьбы, это окажет деморализующее влияние на тех, кого нам, быть может, удастся завербовать в будущем. Поэтому надо симулировать активнейшее участие в его судьбе, изобразить этакую, знаете, «лихорадочную активность». Пусть думает, что мы принимаем все меры к тому, чтобы спасти, уберечь его от удара, который, видимо, готовят ему на площади Дзержинского.
— Вы не чужды предусмотрительности, Кинг, — одобрительно пыхнул сигарой Макдаффи. — Что же, мы пошлем ему фальшивый паспорт и деньги на случай, если ему придется бежать из Москвы и скрываться в своей стране.
— Передайте еще и пистолет, — улыбнулся Кинг. — Может быть, он догадается застрелиться до ареста. Тогда все упростится до крайности.
— Хорошо бы, — мрачно ухмыльнулся Макдаффи.
О деталях договорились быстро. Снова
вступила в действие туалетная комната американского посольства. В ней Корбелли передал трясущемуся Бою деньги, паспорт, пистолет. Пистолет Плахин не взял — бросил в бачок унитаза, на котором Корбелли, вошедший первым, оставил ему объемистый пакет. Стреляться шпион и не думал. Знал он также, что никакой пистолет не поможет ему спастись от ареста, если на его след напали чекисты.
Тревожные дни изматывали шпиона. Видя явный подвох, он принял «ответные меры». Долго бродила в установленный день Анна Грайпсхолм у комиссионного художественного магазина на Арбате, ожидая, как было условлено, шпиона. Плахин не пришел. Через руководителя британской технической делегации письмом уведомил англичан: личные встречи он прекращает во избежание провала. Переходит на тайники. Это было равносильно отказу работать на англичан — тайники Плахин обусловил только с американцами. На них теперь делал ставку шпион. А круг смыкался все теснее.
Американская разведка почти полностью оттерла от Плахина своих британских «братьев-врагов». Понимая, что он не сможет долго продержаться, американские хозяева торопили Плахина, выжимали из него все, что удавалось. Передав шпиону фальшивый паспорт и крупную сумму советской валюты, показывая ему при каждой встрече выписки из крупного долларового счета, заведенного на его имя в швейцарском банке, они держали его под действием наркотика, имя которому — стяжательство, алчность. Это, собственно, и «держало в куче» Плахина, уже готового сорваться в истерический припадок от постоянно нарастающего напряжения, вечно подвыпившего, дергающегося, взвинченного.
Дело Плахина подходило к концу. Уже было собрано достаточно материала для того, чтобы арестовать его по подозрению в шпионаже. Важные улики мог дать обыск на дому. Наконец, была надежда, что в одной из социалистических стран появится с очередной коммивояжерской разведывательной миссией Элмер Тилл — живое вещественное доказательство. Медлить дальше было нельзя. Генерал — руководитель одного из главных управлений в системе, охраняющей безопасность социалистического государства, отдал приказ об аресте Плахина, получив на это санкцию заместителя Генерального прокурора СССР. Генерал лично докладывал в прокуратуре все материалы дела.
Когда полковник Борисов, сообщив своей группе об этом приказе, принялся готовить его выполнение, неожиданно заговорил капитан Стебленко.
— Товарищ полковник. Поведение Плахина свидетельствует о том, что он переживает острый моральный кризис…
— Трусит, мерзавец, — отозвался лейтенант Вишняков. — Никакого кризиса он не переживает. Боится, что схватят его…
— Подождите, Вишняков. Что вы предлагаете, товарищ Стебленко?
— Мне кажется, товарищ полковник, он сам может прийти с повинной. Подумать только, воевал, пять орденов у него, командовал крупным подразделением. Неужели нет у него хотя бы остатков чести, совести… Думаю, придет.
— Это что, ваша догадка?
— Есть кое-какие данные. Вчера ночью у него была сильнейшая истерика, закончившаяся спазмом сердечных сосудов. Вызывали «неотложку», делали укол. Я думаю, он накануне какого-то важного решения.
— Может быть, — раздумчиво проговорил полковник. — А может быть, и нет. Как ваше мнение, Владимир Васильевич? — обратился он к майору Кривоносу, молча слушавшему беседу.
— Думаю, что можно дать ему отсрочку. Не больше чем на сорок восемь часов. При самом тщательном надзоре за ним.
— Хорошо, — заключил полковник. — Иду к генералу за разрешением. Попросим у него эти сорок восемь часов.
От генерала Борисов вернулся через полчаса.
— Разрешил. Под нашу ответственность. Сорок восемь часов. Ордер на арест уже выписан. Прокурор подписал. Но помните, за эти сорок восемь часов он ни на минуту не должен ускользать от ваших глаз. Если в это время состоится его встреча с кем-либо из его английских или американских хозяев — брать на месте всех. «Клиентов» Плахина потом придется, конечно, отпустить. Как-никак дипломаты.
Словно чувствовал Плахин, что живет эти часы по особому счету. Не спал всю ночь на пятницу. Пойти признаться? Кончить все это? Сознаться, что он шпион? Рассказать все? Нет, нет, нет! Что же делать? Бежать? Куда? С таким паспортом, какой ему прислали, его задержат при первой же проверке документов.
Утром выпил полстакана водки, ушел, пока жена была еще в магазине. Медленно шел пешком от станции метро «Проспект Маркса» по левой стороне улицы Горького. Как было условлено с его хозяевами, он всегда ровно без десяти девять переходил улицу Огарева у Центрального телеграфа. Прошел мимо магазина ковров и… замер. Навстречу медленно полз, словно волочась лакированным брюхом по асфальту, посольский «форд». За рулем сидел Корбелли в черных очках. Почти с ненавистью глянул на него Плахин. Тот, заметив его взгляд, держа левой рукой руль, правой поправил воротничок, словно он ему был тесен. Это был условный знак — сегодня будет заряжен тайник.
Вечером Плахин неотрывно сидел дома за столом, в котором были оборудованы шпионские тайники. Зазвонил телефон. Снял трубку, назвался: «Плахин слушает». В ответ кто-то трижды подул в трубку. Это был сигнал: тайник заряжен.
Плахин знал: в тайнике будут деньги, не менее тысячи новых рублей. И он решил никуда не ходить. Потом, когда-нибудь после, он еще раз обдумает эту идею. А пока чего, собственно, ему бояться? Слежки за ним нет. Чтобы арестовать человека, нужны доказательства. Не так-то это просто. Крутану рулетку еще разок, думал Плахин. Пока все мне удавалось. Удастся и на этот раз. Плахин — он ершистый. Голыми руками его не возьмешь.
Улыбаясь, вышел к жене:
— Понимаешь, вызывают. Приехали иностранные гости, надо посидеть с ними вечером в ресторане. Неудобно оставлять их одних. Все-таки мы с ними дела ведем.
Знала жена — лжет. Не поднимая головы, кивнула. Молча подняла глаза дочь, долгим темным взором хмуро проводила отца.
Пить начали в ресторане. Потом поехали к Гальке в новую однокомнатную квартиру, ее помог купить в кооперативе Плахин. Остался у нее до утра. Проснулся поздно. Стоял не менее получаса под душем. Пил крепкий чай, огуречный рассол. На работу позвонил — задерживаюсь с гостями, буду в час дня. Не протрезвившись как следует, вышел, взял такси, поехал к Ленинским горам. Вышел на гранитной террасе напротив университета.
В этот мягкий осенний день Москва лежала в излучине реки, спокойная, ласковая, в нежной синей дымке. Стоя на парапете, Плахин увидел ее всю. Задержался на минуту, скользнул по ней взором, бегло, воровато. И сразу же принялся искать условные знаки. Возможно, не торопился бы так, знай он, что видит мать городов советских вот так, целиком, в последний раз в своей жизни. Истекал сорок пятый час отсрочки, предоставленной ему на площади Дзержинского.
Но Плахин не думал сейчас ни о чем. Он искал условный знак. Вот он — меловая черта на древесном стволе. Так. Ясно. Сойдя на покрытый деревьями склон, Плахин дошел до условленного места — старой деревянной лестницы, сел на нее, распустил плащ, словно курица крылья. Через прорезь внутри кармана плаща просунул руку под ступеньку, нащупал металлический цилиндр диаметром с бутылку-четвертинку, но длиннее. Есть. Осторожно втянул руку в карман, положил контейнер в карман пиджака. Оглянулся — никого. Посидел, ощущая тошнотное покалывание страха в груди. Лениво встал, поплелся обратно. Долго стоял, ожидая автобуса. Поехал к центру.
— Товарищ полковник, — докладывал в это время по радиотелефону майор Кривонос. — «Объект» взял контейнер из тайника, направляется в центр. Куда — неизвестно. Следуем за ним.
— Если едет к нам — не мешайте. Если к себе на работу или еще куда-нибудь — в здание не допускайте. Берите на улице.
Из автобуса Плахин вышел у Каменного моста и зашагал вдоль массивной чугунной решетки.
Осенний ветерок разогнал облака, выглянуло солнце. Его луч скользнул по вызолоченному куполу высокой белой колокольни, забился, затрепетал в алом знамени, струившемся над Большим Кремлевским дворцом.
Словно ударило Плахина. Остановился. Вцепился в балюстраду побелевшими пальцами. Едва ли не в первый раз, глядя на знамя, почувствовал особенно остро меру своей подлости, измены, предательства.
Вспомнил Плахин войну. Полуразваленный снарядным разрывом блиндаж. На дне блиндажа — солдат. Его тихий прерывистый шепот:
— Умираю? Да? Ребята, умираю?
Нет. Он, Плахин, не умрет. Не должен умереть. Он будет жить. Станет изворотливым, хитрым, осторожным, как мышь. Зароется в землю. И его не поймают. Не всех же, наверное, ловят.
Надо торопить боссов с «эвакуацией». А тогда — «до свидания, мама»… Мама? Ну и что же? Теперь ее не тронут. Не те времена. Ну, поплачет малость. Боссы найдут способ переправить ей деньги. Не возьмет от сына-изменника? Ну, это уже ее дело. Как знает.
Успокаивая себя, Плахин шел вдоль Манежной площади. Не ощущал ни укоров совести, ни раскаяния, ни даже страха. Был уверен: все обойдется.
На пороге возмездия
Бухгалтер Приокского совнархоза Алексей Семенович Бухвостов немного боялся Москвы — она казалась ему чересчур шумной, слишком оживленной, Вот и сегодня — идет он из гостиницы, любуется людьми. Любит их Алексей Семенович, знает и понимает. Хорошо, ох как хорошо в этот солнечный субботний день! Порядка бы только побольше — и все было бы отлично. А то вон, суется старушка на мостовую в неположенном месте, а там — мать моя, мамочка — сплошными вереницами мчат автомобили. Куда же ты, милая? Или тебе жить надоело? Неужели не интересно тебе дождаться первого нашего полета на Луну? Фу, какая упрямая.
Миновал Алексей Семенович величественное здание Московского Совета, приподнятое, подтянутое, красивое. За ним — домина новый, гранитом нешлифованным облицован — красота первозданная. Улицу вывели под аркой. Хорошо. Только вот бывают и тут непорядки. Вон человек идет, не молодой уже, за сорок. Одет прилично, плащ на нем заграничный, а на ногах не тверд. День хотя и субботний, но до конца работы еще два часа, а он вроде как бы уже «выпитый». Да и глаза какие-то у него оглашенные. Словно бы сумасшедшие.
Э-э-э, да что это, что это такое? Опять, глядишь, непорядок. Подходят к этому трое, окружают. Один что-то говорит им. А ну, скорей туда.
Алексей Семенович не слышал, как произнес полковник Борисов негромкую фразу, гранитной горой обрушившуюся на шпиона.
— Вы арестованы, гражданин Плахин.
Двое схватили шпиона за руки. Он не вырывался. Колени у него подогнулись. Двоим пришлось даже поддерживать его.
— Непорядок! — решает Бухвостов. — За что человека так? Хватают запросто, будто он преступник какой.
Сверкнув лаком, бесшумно останавливается большая солидная черная машина. Настежь открылась дверца, двое втолкнули в нее «выпитого», нога его безвольно зацепилась было за порог. И только по тому, как быстро уселись в машину остальные, как плавно подошла с какой-то тигриной грацией вторая машина, как легко и быстро сел в нее пожилой участник операции, говоривший что-то подвыпившему, по тому, на какой скорости рванули обе машины, как развернулись они в проезд Художественного театра, понял Алексей Семенович: произошло что-то важное, значительное.
Да важное ли? Так ли уж значителен был этот слизняк, в буквальном смысле слова наложивший в штаны тут же, в машине? Разве важна, разве значительна соринка, хотя бы и очень грязная, в могучем потоке? Мелькнула и исчезла. Важно, отвратительно, чудовищно было то, чего он хотел, чему он способствовал, из-за чего продался порочным, безнравственным людям, задумавшим злое, черное дело против народов.
Смахнули слизняка с гранита, не осталось от него следа. Идут по улице люди. Шагает не все еще понявшая добрая душа — бухгалтер Приокского совнархоза Алексей Семенович Бухвостов. Идет, грациозно покачиваясь, стройная красавица, расцветающая счастьем разделенной любви. Шагает молодой воин — решительный, отважный. Идет паренек — большелобый, суровый глубокой серьезностью юности, отягощенной пониманием всей важности и ответственности своей жизненной миссии. Направляется к Кремлю высокий, выпрямленный гордостью за прожитое старик, подпрыгивает курносая девчушка со смешными косичками. Никто из них не знает: только что стерли с городского тротуара гнусную, зловонную тварь…
Шагайте, люди, в добром вашем стремительном походе. Будьте покойны. Никому не остановить вашего широкого размашистого шага. Невидимые бои продолжаются. Чекисты не дремлют. Они готовы отразить любой удар врага, обезвредить любую гадину. Чекистам помогает народ — источник их силы и непобедимости.
Варткес Арутюнович Тевекелян
Гранит не плавится
Из записок чекиста
Роман
Семья
Так уж повелось начинать воспоминания с рассказа о своей семье. Не буду исключением и я, тем более что моя семья была не совсем обычной.
Я рос единственным сыном и очень горевал, что нет у меня ни братьев, ни сестёр. Родители мои были людьми несхожими — не только по характеру, но и по образованию, по воспитанию.
Мать, Виргиния Михайловна, в совершенстве владела французским языком, хорошо играла на пианино, немного пела. Окончив гимназию в родном городе, Ростове-на-Дону, она поступила на историко-филологический факультет Петербургского университета. По окончании его вернулась домой, работала учительницей в железнодорожной школе. Позже в этой школе учился и я.
Все дети думают, что их мать — самая лучшая, самая красивая на свете. Но, честное слово, моя и вправду была очень красивой, очень хорошей. Высокая, стройная. Кожа белая-белая, на щеках нежный румянец. Чёрные блестящие волосы всегда гладко причёсаны, разделены ровным пробором. Нос маленький, с еле заметной горбинкой. Губы свежие, яркие. А большие карие глаза, в тени длинных, загнутых, как у детей, ресниц, светились ясным, спокойным светом.
Одевалась она строго, со вкусом: дома носила тщательно отглаженные ситцевые платьица, в школу ходила в чёрном костюме, в белой блузке со стоячим кружевным воротничком.
Мамины доброта и отзывчивость граничили порою с сентиментальностью. Она часто была грустна, задумчива, могла плакать без всяких причин. Сколько мне помнится, я никогда не видел её оживлённой, смеющейся.
Мой отец, Егор Васильевич, паровозный машинист, не имел, казалось, с мамой ничего общего. Живой, весёлый, первый городошник в нашем посёлке, с постоянной доброй улыбкой на лице, он так смотрел на мир голубыми, глубоко посаженными глазами, словно хотел сказать: «До чего же, братцы, хорошо жить на свете!» Я любил, когда он, вернувшись из очередной поездки, грязный, измазанный машинным маслом, весь в угольной пыли, умывался летом во дворе, а зимой на кухне. Он кряхтел, охал и ахал, приговаривая: «Хорошо, ох хорошо!» Поливая воду на почерневшую от загара шею, я с восторгом глядел, как под кожей перекатывались его крепкие мускулы.
Надев чистую сорочку и расчесав мягкие, цвета спелой пшеницы волосы, он первым делом выпивал большую кружку домашнего кваса. Потом садился за стол и в ожидании обеда беседовал со мной.
— Ну-с, кавалер, — спрашивал он, — рассказывай, как вы тут жили без меня?
Его возвращение домой всегда было для меня праздником. Всей душой тянулся я к нему, и временами мне даже казалось, что люблю его больше, чем маму, хотя я и стыдился признаться себе в этом.
Наблюдая за родителями, иногда я невольно замечал отчуждение, несогласие между ними.
Внешне, казалось, всё обстояло благополучно. Мама, зная вкусы отца, готовила к его приезду щи или жирный украинский борщ с салом, кашу, жареное мясо с картошкой. Ставила на стол графинчик с водкой, хотя пил отец редко и мало — только когда у нас бывали гости, его товарищи из железнодорожных мастерских.
И отец всегда был очень ласков с мамой, внимателен к ней. Но их отчуждение, их несогласие порою вдруг прорывалось.
В те дни, когда отец бывал дома, он заставлял меня заниматься гимнастикой, поднимать гири.
— Смелей, смелей, — нередко приговаривал он, — развивай мускулы, — рабочему человеку нужна сила. Нам больше нечего продавать!..
— Иван не будет рабочим, — немедленно возразила мать, услышав однажды эти его слова.
— Это ещё как сказать!.. Нашему брату другие пути-дороги заказаны, — ответил отец.
Мама молча вышла в соседнюю комнату, — не хотела, чтобы мы видели, что она плачет…
Как-то отец обратился ко мне, когда мы были с ним вдвоём:
— Ты, брат, без меня не балуйся, маму не обижай! Ей, бедняжке, и так несладко живётся. Понимаешь?
— Папа, а где мамина родня? Почему они к нам не ходят? — ответил я вопросом на вопрос.
Отец нахмурил брови, помолчал.
— Это длинная история, сынок!.. Вырастешь, узнаешь, — наконец ответил он.
Я знал, что у мамы есть родители, братья и сестра. Кто они, где живут, почему не бывают у нас? Этого я не знал. На эту тему в нашем доме никогда не разговаривали…
Мы долго молчали, потом я опять спросил:
— Зачем мама учит меня французскому, музыке? На что мне это? Ты ведь не учился!..
— Мне многому хотелось научиться, да не пришлось вот… Ничего, ты старайся, пригодится. Не вечно мы будем так жить. Настанет и наш черёд, — тогда, брат, задрожит земля и всё будет по-иному!
В ту пору я был ещё слишком мал, чтобы понимать смысл отцовских слов…
Не любила мама, когда отец ходил на рыбалку и особенно когда он брал меня с собой, — считала это занятие опасным и грубым. Она сердилась, если по вечерам он сидел на лавочке у соседей, пел с ними песни. И вообще не одобряла многие папины поступки, хотя он слыл в посёлке умным человеком и все уважали его. Я часто замечал, что мама, стоя у окна, хмурилась, глядя, как папа играл в городки, как он, сбивая трудные фигуры, громко торжествовал: «Знай наших! В городки играть — не люльку сосать!» Особенно тяготило её, когда у нас собирались папины товарищи из мастерских. В такие вечера она запиралась на кухне и сидела там, пока не уходили гости. Папа же, наоборот, в такие дни бывал оживлённым, весёлым. В ожидании прихода гостей сам накрывал на стол, расставлял рюмки, ставил водку. Гости почти не пили. Слесарь, дядя Саша, приносил с собой баян, но ничего не играл на нём.
Когда я немного подрос, отец, улучив минуту, по секрету от мамы шептал:
— Поищи-ка своего дружка Костю и вдвоём покараульте на улице, пока у нас гости… Если кого заметите — ну там городового или просто незнакомого человека, — дайте знать! — И он с таинственным видом прикладывал палец к губам.
Я рос крепким, здоровым, жизнерадостным пареньком. Любил семью, любил свой дом.
В нашем доме, выстроенном отцом из необожжённого кирпича, побелённом известью, было две комнаты, кухня, передняя, — он ничем не отличался от других домов железнодорожного посёлка на окраине Ростова-на-Дону, где жили машинисты, путевые обходчики, стрелочники, весовщики и рабочие мастерских.
Большая комната с низким потолком называлась столовой. В ней в углу, за ситцевой ширмой, стояли моя кровать и маленький столик, где я готовил уроки.
Посреди комнаты стол, покрытый скатертью, над ним керосиновая лампа-«молния». У стен несколько стульев, диван, над которым громко тикали часы-ходики с тяжёлыми гирями на цепочках. Возле дверей, ведущих в спальню родителей, красовалось единственное во всём посёлке пианино — самая большая ценность в нашем доме. В спальне стояли никелированная кровать, кушетка, комод, круглый столик с зеркалом. На окнах белые, подкрахмаленные занавески. Между окнами этажерка с книгами.
Отравляли мне жизнь зубрёжка французских глаголов и бесконечное повторение одних и тех же гамм. Мне это до того надоело, что временами хотелось удрать из дома. Но мама была неумолима и ни на шаг не отступала от составленного ею расписания: один час — французский язык, два часа — музыка, ещё час — родная речь и математика. И только тогда мне разрешалось идти гулять. Потом мама надумала говорить со мной по-французски. На мои вопросы по-русски она не отвечала, и я был вынужден с грехом пополам подбирать французские слова, чтобы попросить её о чём-нибудь. Если мне удавалось построить удачное предложение, мама приходила в восторг:
— У тебя, мой мальчик, ярко выраженные способности к языкам и абсолютный слух! Ты должен серьёзно работать над собой!
Были ли у меня способности к языкам и абсолютный слух или это только казалось любящей матери — не знаю. Могу сказать одно: языки давались мне легко, а музыку я очень любил и без труда подбирал песенки, услышанные на улице. Но мама запрещала мне играть по слуху.
Мамина строгость проявлялась и в другом: она не разрешала мне дружить с поселковыми ребятами, даже когда я начал ходить в школу. «Чему ты у них научишься?» — спрашивала она каждый раз, когда разговор касался этой темы. Учительница, она совершенно не понимала, что её сын не может расти в одиночестве — без друзей, без товарищей.
А товарищи у меня были. Особенно я дружил с Костей по прозвищу «Волчок».
Оборванный, взлохмаченный, драчун и задира, он учился со мной в одном классе. Потом бросил школу и без дела слонялся по посёлку. Был он сиротой, жил у тётки. В школе я с ним не дружил, — наша дружба завязалась позже и при довольно забавных обстоятельствах.
Однажды вечером я сидел дома один. Отец уехал в очередной рейс, мама занималась в школе с хоровым кружком — разучивала новые песни к рождеству. Подогрев ужин, я поел и улёгся на диван с книгой в руках.
Вдруг дверь распахнулась — на пороге стоял, босой, мокрый от моросившего весь день дождя Костя Волчок.
— Ты один? — спросил он, встряхиваясь, как собачонка.
— Один!.. Заходи, — сказал я, радуясь его приходу. Мне было скучно: из-за дождя никто из знакомых ребят на улицу не показывался.
— Ничего живёте, чисто! — проговорил он, осматриваясь по сторонам. Осмелев, он заглянул даже в спальню. — Ух ты, сколько книг!.. Ты их все прочитал?
— Конечно, — с гордостью ответил я, хотя далеко не все книги, стоявшие на этажерке, были прочитаны мною.
— А мне дашь? Только с картинками.
Я взял с этажерки «Робинзона Крузо», обернул в бумагу и протянул Косте.
— Только уговор: книгу не пачкать и вернуть вовремя! — строго сказал я.
— Ладно уж. — Волчок сел на краешек дивана и принялся рассматривать картинки. — Здорово! — то и дело восклицал он.
Потом, положив книгу на диван, он как-то странно поглядел на меня.
— Вань, правду говорят, что ты армянен?
— Чудак!.. Ты же знаешь моего отца.
— Говорят, мамка твоя армяненка… И ещё — фармазонка!
— Фармазонка?! — Я не понимал этого слова, но оно показалось мне очень обидным. Сжав кулаки, я подскочил к нему: — Я покажу тебе фармазонку!..
Он медленно поднялся с дивана.
— Тебе что, драться охота?
— За такие слова я тебе морду набью!
— Ещё посмотрим, кто кому набьёт!..
Я наступил ему на ногу и со всего размаху ударил его головой в подбородок, — этому приёму научил меня отец. Волчок, лязгнув зубами, растянулся на полу. Я навалился на него, стал колотить куда попало.
— Вот тебе фармазонка, вот тебе!..
— Пусти, бешеный, пусти, тебе говорят! — вопил он.
Вдруг над нами послышался мамин голос:
— Это что такое?!
Я поднялся, с трудом переводя дыхание, красный и такой же взлохмаченный, как Волчок.
— Почему вы дрались? И почему этот мальчик у нас? — строго спросила мама.
— Сам пришёл, я его не приглашал… Книгу попросил. Потом стал говорить о тебе нехорошие слова…
— Какие слова?
— Что ты армянка и… и фармазонка.
К моему удивлению, мама на это нисколько не рассердилась.
— Я действительно армянка, и в этом нет ничего плохого, — спокойно сказала она и обратилась к Волчку: — А ты знаешь, что такое фармазон?
— Знаю, это те, которые в бога не верят, — бойко ответил он.
— В старину «фармазонами» называли вольнодумцев, — сказала мама и, вздохнув, добавила: — Но ко мне это не подходит…
Волчок схватил книгу и молча направился к выходу. Мама остановила его:
— Погоди, Костя! Скажи, пожалуйста, почему ты перестал ходить в школу?
— Потому что… потому что… — Он зло посмотрел на маму и выпалил одним духом: — Потому что обувки нет и на книжки денег нет и взять неоткуда!
— Понимаю, — грустно сказала мама и провела рукой по его всклокоченным волосам. — Ты сегодня ел что-нибудь?
— Утром хлеба поел… Тётка Оксана дала, — я ей воды натаскал…
— Подожди. — Мама пошла на кухню и принесла большой ломоть белого хлеба с куском сала. — На, поешь!
Костя, даже не поблагодарив, жадно стал уплетать хлеб.
— Надеюсь, вы больше не будете драться? — спросила мама.
Мы с Костей промолчали.
Уже стоя у дверей, Волчок кивнул головой в мою сторону и сказал:
— А он ничего… молодец! Здорово умеет драться! — Это была высшая похвала.
— Бедный мальчуган! — вздохнула мама, когда Волчок ушёл.
— Да, бедный!.. Я ему ещё покажу! — сказал я не совсем уверенно.
— Что ему показывать, он и так несчастный!.. Тёмные, невежественные люди болтают всякий вздор, а он повторяет. — Мама прижала мою голову к своей груди. — Как я хочу, дорогой, чтобы ты стал настоящим человеком!.. — В глазах у неё блеснули слёзы.
Мама не стала проверять тетради, как делала обычно в эти часы, а села за пианино. Её длинные, тонкие пальцы коснулись клавиш. Я очень любил, когда она играла. А в тот вечер она играла долго и, как мне казалось, особенно хорошо…
Спустя два дня, когда я шёл в школу, меня догнал Костя Волчок.
— Иван, ты что… злишься? — спросил он, шагая рядом.
Я молчал.
— Вот те святой крест, не хотел я её обидеть! — Волчок перекрестился. — Она у тебя хорошая, добрая!.. Много ты понимаешь… Хлебом меня не купишь! Непродажный я, а к голоду привычный!.. Раз говорю — хорошая, значит, и есть хорошая!
— Ладно уж, — примирительно сказал я, понимая, что Волчок говорит искренне. — Я и сам знаю, какая у меня мама!
Некоторое время мы шли молча.
Волчок опять заговорил, на этот раз о другом!
— А в той книге здорово написано! Вот если бы нам с тобой да на такой остров!.. Как ты думаешь, есть ещё такие острова?
— Сколько хочешь. Даже в притоках Дона есть пустынные острова — там одни птицы гнездятся.
— Это ерунда, близко очень! — Волчок задумался. — Хочешь, сорвёмся отсюда и станем искать необитаемый остров, настоящий? Я уже приготовил топор, пилу. Если бы ещё ружьё!..
— Чудак! Кто же добровольно поедет на необитаемый остров? Робинзон ведь попал туда не по своей охоте.
— Мало что… Я всё равно убегу отсюда, подожду до весны и убегу.
Волчок расстался со мной недалеко от школы. Сунув руки в карманы рваных штанов и насвистывая, он зашагал в сторону посёлка.
Обида была забыта. Но окрепла наша дружба после одной драки, в которой Волчок заступился за меня. С некоторых пор ребята стали дразнить меня «артистом». «Артистами» у нас в школе называли всех, кто любил прихвастнуть, кто важничал, «задавался». Началось это со школьного вечера, на котором я сыграл ноктюрн Шопена. Было это, кажется, в третьем или четвёртом классе. Когда учителя и ребята начали мне хлопать, я сделал несколько шагов вперёд и поклонился, — так учила меня мама. Кто-то из зала крикнул: «Ну прямо артист!»
И это слово будто прилипло ко мне. На следующий день, где бы я ни появился — на улице, в школе, вслед раздавались крики: «Артист, артист идёт!»
Возможно, некоторую роль в этом сыграл и мой костюм. Мама наряжала меня, словно барчука. Она купила мне длинные брюки, зелёную бархатную куртку да ещё повязывала мне на шею дурацкий бант. Никто из ребят в нашем посёлке так не одевался.
И вот однажды, когда я шёл из школы домой, за мной увязалось трое ребят. Они шли и орали во всё горло: «Артист, артист!»
Я старался не обращать на них внимания. Вскоре им надоело кричать, они догнали меня, окружили.
— А ну-ка, поклонись нам скорей, как артисты кланяются! — сказал один из них, длиннорукий веснушчатый парень.
Я беспомощно озирался по сторонам. Драка с тремя верзилами ничего хорошего мне не сулила…
— Ребята, гляньте-ка, у него на шее тряпка! Точь-в-точь как у клоуна в цирке! — с этими словами веснушчатый вцепился в мой бант.
Уже не думая о том, что будет, я изо всей силы ударил его кулаком в скулу. Они словно этого и ждали. Все трое, будто по команде, набросились на меня. Я отбивался, но силы были неравные. Я отступал, из носа текла кровь.
И тут вдруг раздался голос Волчка:
— Эй, вы! Не трожьте его!..
Костя вихрем налетел на моих противников. Они кинулись врассыпную.
Я протянул Волчку руку:
— Спасибо…
— Трусы подлые — втроём на одного! — пробормотал он, смущённый моей благодарностью.
Умывшись у колонки, я направился домой. Дома снял бархатную куртку, развязал проклятый бант и, швырнув всё это на пол, крикнул сквозь слёзы:
— Не буду больше носить этот шутовской наряд!
Мама встревоженно смотрела на меня.
— Что случилось?
— Все смеются, дразнят! Артистом называют…
— Ты бы, Груня, и в самом деле одевала его попроще, — мягко сказал отец.
После обеда, когда мама мыла на кухне посуду, он подсел ко мне, обнял за плечи, спросил:
— Ну, выкладывай, что произошло?
Я рассказал о драке и о том, как Костя Волчок выручил меня.
Отец слушал внимательно, потом усмехнулся:
— А ты без драки хотел прожить? Так не бывает, — одни тебя бьют, других ты бьёшь… Жаль только, что нашему брату достаётся больше, — так уж пока устроен мир… А Костя твой, видать, хороший парень, ты отплати ему тем же. Без хороших друзей трудно жить на свете!..
С того дня и началась наша дружба с Костей.
…Вот так мы и жили, пока не грянула война четырнадцатого года.
Я помню этот день. Помню, как шумел город, словно в праздник. Всюду вывешивали трёхцветные флаги. Толпы людей ходили по улицам, несли знамёна, иконы, пели «Боже, царя храни». На площадях до поздней ночи гремели духовые оркестры.
Отец пришёл домой взволнованный. Сел за стол и, подперев голову руками, долго о чём-то думал. Мама молча наблюдала за ним, потом спросила:
— Не понимаю, Егор, почему ты так волнуешься? Ты служишь на железной дороге и мобилизации не подлежишь…
Отец сердито посмотрел на неё.
— Глупости говоришь!.. Разве дело во мне одном? Сколько народу погибнет, сколько детей осиротеет! Ты подумала об этом? И во имя чего? Ну нет, на этот раз не выйдет. — Он стукнул кулаком по столу. — Кашу-то они заварят, а кто будет расхлёбывать, неизвестно!..
— Опять слова, слова…
— Ничего, дай срок, и наши слова превратятся в дело, да ещё какое!
— Не в первый раз я это слышу… Помнишь, о чём мечтали мы с тобой в Петербурге? И что получилось? Боже ты мой!.. Сколько людей погибло! И всё, всё осталось по-прежнему…
— Если рассуждать по-твоему, остаётся одно — завернуться в тулуп и залезть на печку! Тогда действительно ничего не изменится!..
Первый раз в жизни я был свидетелем ссоры между родителями. Забившись в угол, я сидел тихо, не шевелясь. О чём говорил отец, я не понимал, но был твёрдо убеждён, что в чём-то очень важном он прав…
Как и предсказала мама, отца в армию не взяли. Его отправили куда-то на запад перевозить войска и боеприпасы.
Оттуда он не вернулся…
Словно чёрная тень легла на нашу жизнь, на наш дом.
Получив известие о гибели отца, мама целую неделю плакала, таясь от меня. Она стала ещё печальней, ещё ласковее со мной. А я… О своих переживаниях рассказывать не стану. Я любил отца всем сердцем. При одной мысли, что не стало моего папы, этого сильного, весёлого человека, я готов был кричать, биться головой об стену… С этого дня мне стали ненавистны все люди в форменной одежде — офицеры, жандармы, чиновники, пославшие моего отца на смерть.
Без отцовского заработка нам жилось нелегко. К тому же всё дорожало с каждым днём, а жалованья не прибавляли. Мама с трудом сводила концы с концами. Молоко, мясо и белый хлеб исчезли с нашего стола. О новой одежде нечего было и думать. По ночам мама штопала свои старые платья, чтобы иметь «приличный вид, подобающий учительнице», говорила она. Из отцовских вещей перекраивала мне бельё, брюки, куртки. Мечты о консерватории и университете для её единственного сына рухнули, осталась тяжёлая, каждодневная борьба за насущный хлеб, который доставался нам с превеликим трудом.
Костя Волчок никуда, разумеется, не убежал из посёлка. В начале войны он поступил в мастерские — работал смазчиком. Он ушёл от своей тётки, поселился на чердаке у одной солдатки. Волчок менялся на глазах: в нём появилась какая-то степенность. Он любил теперь сказать в разговоре: «Мы, рабочие». А однажды спросил меня:
— А ты знаешь, что означает слово «пролетарий»?
— Ну… это те же рабочие, — неуверенно ответил я.
— Вот видишь, — хоть ты школу кончаешь и много книг прочитал, а ни черта не знаешь! Пролетарии — это те, у которых нет ничего, кроме своих цепей!
— Каких ещё цепей?
— Которыми пролетариев буржуи опутали. Есть ещё такие слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот когда они соединятся, тогда буржуям крышка!
Я завидовал Косте и мечтал тоже поступить в железнодорожные мастерские. Но мама и слышать об этом не хотела. Она уговаривала меня не бросать школу, надеясь, что война скоро закончится и всё переменится к лучшему. Хотя, честно-то говоря, у нас не было никаких оснований ждать лучшего. Ей просто трудно было примириться с мыслью, что я стану простым рабочим…
Нужно было решить: или разрушить мамины честолюбивые мечты и пойти работать в мастерские, или потерпеть ещё год и окончить школу. Не желая её огорчать, я выбрал второй путь и начал усердно заниматься.
Детство кончилось
Под Новый год произошло событие, чуть не изменившее всю мою жизнь.
В один из зимних вечеров мы с мамой, напялив на себя всё, что могли, чтобы согреться, сидели за столом. Я готовил уроки, мама проверяла тетради. В комнате было очень холодно — печку топили редко. Мигал тусклый огонёк коптилки — лампу-«молнию» давно не зажигали, она съедала слишком много керосина.
На улице, обычно пустынной в этот час, послышался стук копыт. Я подошёл к окну. Мимо нашего дома проехал экипаж с зажжёнными фонарями — явление редкое в нашем посёлке.
Карета остановилась. Из неё выглянул человек в шляпе и о чём-то спросил проходившую мимо женщину в платке. Она указала рукой на наш дом. Карета развернулась и подкатила к нашим дверям.
— Мама, к нам кто-то приехал! В экипаже! — крикнул я, не отрываясь от окна.
Она встала, подошла ко мне. Вдруг побледнела и, схватившись рукою за грудь, опустилась на диван.
— Что с тобой, мамочка?
— Это… Это мой старший брат, — еле слышно прошептала она дрожащими губами. — Дай мне воды…
Не успел я подать ей воды, как постучали в дверь. Вошёл плотный, богато одетый господин средних лет. Он снял шляпу и, протянув к маме руки, несколько театрально воскликнул:
— Виргиния, неужели ты не узнаёшь меня?
— Гриша, дорогой! — мама бросилась к нему и, рыдая, обняла его.
— Успокойся, успокойся же! — Он бережно усадил маму на диван и, не снимая дорогого пальто, сел рядом. — С большим трудом нашли ваш дом, — улицы не освещаются, нумерации нет! Долго блуждали, — говорил он, вытирая смуглое, красивое лицо белоснежным платком. Взглянув в мою сторону, улыбнулся. — А это, должно быть, Иван! Смотрите, какой большой! Ну-с, здравствуй, давай познакомимся. Я твой дядя, дядя Гриша, — и протянул мне руку.
Мамины плечи всё ещё вздрагивали от сдерживаемых рыданий. Отпив несколько глотков воды, она спросила:
— Как вы живёте, Гриша, как мама, Сусанна?
— Все живы, здоровы! Мама ещё больше пополнела, — врачи объясняют это нарушением обмена веществ… О, у нас теперь большие дела! Взяли подряд — поставляем армии фураж… Сусанна выходит замуж.
— За кого?
— За сына Мелкумовых — Грачика. Ты ведь знала их. Помнишь, на Дворянской улице они держали большой магазин готового платья. Старик разбогател, построил новый трёхэтажный дом. Не дом — дворец! Обставил роскошно, мебель из Петербурга выписал. Грачик единственный сын, всё ему достанется. Да и сам он ловкач, большие деньги делает!..
По-видимому, ни богатство Мелкумовых, ни способности будущего мужа Сусанны, о чём с нескрываемым восхищением говорил дядя, не произвели на маму большого впечатления. Я видел, как тень досады пробежала по её лицу и она поспешила переменить тему разговора.
— Колю я, наверно, и не узнала бы…
— Ещё бы! Он адвокат, открыл собственную контору, даже бороду для солидности отпустил! Выступает в крупных процессах, мелочью не занимается. Его последнюю речь в газетах напечатали, — разве ты не читала?
— Нет, я газет почти не читаю… Что толку узнавать, как люди убивают друг друга?..
— Ну, это ты неправильно рассуждаешь! Конечно, война без жертв не обходится, но на этот раз они оправданы. Уверяю тебя, когда мы победим кайзера, наступит совсем другая жизнь… Кстати, почему ты не ответила на моё письмо? Как только мы узнали о гибели твоего мужа, я тут же написал тебе.
Мама молчала.
— Всё твоя гордость, Виргиния!.. А ведь я приехал по настоянию отца. Он хочет, чтобы ты переехала к нам. Левый флигель свободен, — там вам будет удобно…
— На положении бедных родственников?
— Как тебе не стыдно!.. Разве мы чужие? Всё, что имеем мы, принадлежит и тебе!..
— Не надо, Гриша!.. Разве я могу забыть, как отец выгнал меня из дому?
— Ты же знаешь, Виргиния, у старика крутой характер… Будь великодушна и прости его, как он прощает тебя.
— Я перед ним ни в чём не провинилась, — тихо ответила мама и после короткого раздумья добавила: — Переехать к вам я не могу, — не позволяет память Егора… За нас не беспокойтесь. Я работаю, и мы с Иваном как-нибудь проживём…
— А ты подумала о том, какие перспективы ожидают твоего сына? Уж не думаешь ли ты дать ему хорошее образование и вывести в люди на свои учительские гроши?
Мама ничего не ответила. Дядя Гриша нащупал её слабое место.
— Знаешь, Виргиния, как мы сделаем, — снова начал он после короткого раздумья. — На Новый год привези Ивана к нам на ёлку. Увидишь всех — маму, папу, Колю, Сусанну. И я уверен, сердце твоё смягчится, — тогда и решишь. Зов крови — великая сила, он проснётся в тебе!..
— Хорошо, я подумаю, — сказала мама, и на этом разговор окончился.
Дядя встал. Прощаясь со мной, он потрепал меня по щеке и сказал, что Дед Мороз и меня не забудет: обязательно принесёт подарок.
Я молчал, опустив голову, не глядя на него. Я успел его возненавидеть за то, что он хвастался и. мучил мою маму.
— А ты, кажется, с характером! — сухо проговорил он и, поцеловав маму, ушёл, оставив после себя резкий запах духов.
Мама, кутаясь в старенький пуховый платок, молча сидела на диване. Мне хотелось задать множество вопросов, но, видя, что маме и без того нелегко, я не стал беспокоить её…
В канун Нового года у нас с мамой было много разговоров о предстоящей поездке к её родителям. Она колебалась, мучилась, не зная, на что решиться. Мне совсем не хотелось присутствовать на этой ёлке в качестве «бедного родственника» — эти мамины слова я хорошо запомнил, — и я отговаривал маму, приводя разные доводы: мне они, мол, чужие, я буду чувствовать себя неловко. Уж лучше пойти на школьную ёлку!..
Мама долго раздумывала, вздыхала, перекладывала на столе ученические тетради и наконец сказала:
— Ты думаешь, мне легко? Прошло семнадцать лет, как я не была у них! А повидать их всё же хочется… Если бы ты знал, как я одинока!..
В этих словах была такая тоска, и мне так стало жалко маму, что больше я не отговаривал её.
Начались приготовления. Мама вытащила из комода мою одежду. Ничего лучшего, чем штаны, перешитые из папиных старых брюк, и бархатная куртка, не нашлось. Куртка на локтях потёрлась, рукава стали короткими.
— Она же совсем старая! — сказал я, разглядывая ненавистную куртку.
— Ничего, Ванечка, я её подштопаю, хорошенько почищу! — И, чтобы утешить меня, добавила: — Есть такая поговорка: по одёжке встречают, по уму провожают. Ты сыграешь им что-нибудь — фортепьянный концерт Грига или отрывок из «Шахразады» Римского-Корсакова…
Наконец настал этот памятный для меня день, вернее, вечер. Мама надела свой чёрный костюм. Белая блузка с чёрным бантиком сегодня особенно шла к её бледному, строгому лицу. За последнее время она заметно сдала, возле глаз появились морщинки, в волосах серебрились белые нити. Но для меня она по-прежнему была самой красивой на свете.
К дому подъехал экипаж, присланный дядей Гришей за нами.
Оглядев меня ещё раз, мама сказала:
— Пора, Ванечка. Пошли!
Ни разу в жизни я ещё не ездил в экипаже, мягко покачивающемся на рессорах. Я и оглянуться не успел, как мы пересекли весь Ростов и очутились в примыкающей к нему Нахичевани.
— Вот и приехали! — сказала мама, когда экипаж остановился у ворот большого, двухэтажного особняка за железной оградой. Окна второго этажа ярко сияли, освещая голые ветки высоких деревьев перед домом.
Прежде чем позвонить, мама с минуту постояла у массивных дубовых дверей, часто, прерывисто дыша, словно ей не хватало воздуха. Она была очень бледна…
Никогда не забуду широкую лестницу, застланную ковровой дорожкой, залитый светом длинный коридор, бронзовые статуэтки на высоких подставках и везде, всюду ковры — пёстрые, мягкие, ворсистые, в которых утопали ноги. После нашего дома с низким потолком и скрипучим дощатым полом мне показалось, что я попал в сказочный дворец…
Сопровождавшая нас горничная раскрыла в конце коридора двери, и мы очутились в большом зале. Вдоль стен, под картинами в золотых рамах, были расставлены кресла, обтянутые тёмно-красным шёлком, с потолка свисала огромная люстра, отражаясь, как в оде в натёртом до блеска паркете. В глубине зала возвышалась большущая, богато украшенная ёлка, вся сверкающих огнях бесчисленных свечей. Под ёлкой стоял Дед Мороз в человеческий рост, с посохом в руке и мешком за плечами.
Я крепко держал маму за руку. Мне казалось, что сейчас, сию минуту я проснусь, открою глаза — и весь этот мир, богатый, красивый, но и такой чужой, исчезнет…
Кудрявый, ангелоподобный мальчик, стоя возле ёлки, что-то громко говорил. Он читал стихи на непонятном мне языке. Незнакомые мне люди с улыбкой слушали его.
При нашем появлении мальчик смутился, умолк. Все повернулись к нам.
— Наконец-то ты нашла дорогу в родительский дом!
С этими словами двинулся нам навстречу грузный, седой старик с крючковатым носом и колючими глазами, недобро блестевшими из-под нависших бровей. Я
догадался, что это отец мамы, мой дед. За ним семенила, переваливаясь с боку на бок, толстая старуха, увешанная украшениями, как рождественская ёлка. За ней потянулись все остальные. Возле ёлки остались одни притихшие дети.
— Поседела, — нужно полагать, и ума набралась! — Дед поцеловал бледную как смерть маму в лоб. Она заплакала, бросилась в объятия толстой старухи. Старик провёл рукой по моим волосам и, взяв за подбородок, посмотрел мне в глаза.
— Что-то есть в нём от нашей породы! По-армянски говоришь? — спросил он.
Я отрицательно покачал головой.
— Хорошо, что я знаю по-русски! Иначе пришлось бы разговаривать с собственным внуком через переводчика! — довольный своей шуткой, старик расхохотался.
— Хватит тебе мучить мальчика! Иди, Ванечка, ко мне, посмотрю, какой ты! — Бабушка поцеловала меня и тоже погладила по голове.
Все они: и мамин брат Коля, которого я узнал по бороде, и сестра Сусанна, и её жених, высокий бледнолицый Грачик, — все гладили меня по голове. Дядя Гриша довольно улыбался. На правах старого знакомого он подмигнул мне и повёл к ёлке. Показывая на длинную картонную коробку, сказал:
— Я тебе говорил, что Дед Мороз и тебя не забудет. Он принёс тебе подарок. Когда будешь уходить, не забудь взять с собой…
Мама смотрела на меня с какой-то грустной и робкой улыбкой. И у меня сжималось от жалости сердце, когда я видел её бледное лицо, заплаканные глаза…
Тем временем взрослые снова собрались у ёлки, и детский праздник возобновился. Хорошенькая девочка лет семи, с пышными бантами в чёрных волосах, спела тоненьким голоском песенку на армянском языке.
— А что умеет Ваня? — Дед уставился на меня своими колючими глазами.
Мама ободряюще кивнула мне головой. Я сел за рояль, плохо соображая от волнения, что делаю, и заиграл фортепьянный концерт Грига. Но с первыми же звуками я успокоился. Какой это был рояль! Как чудесно звучал он! На таком инструменте мне не приходилось играть. И я весь отдался музыке. Но… скоро я понял, что меня никто не слушает. Взрослые громко разговаривали, дети разглядывали полученные подарки. Чуть не плача от стыда и досады, я кое-как доиграл до конца, встал, поклонился. Мне немного похлопали. Одна Сусанна похвалила мою игру:
— Молодец, ты очень хорошо играешь! Кто научил тебя?
— Мама, — ответил я.
Тут все по приглашению деда направились в столовую.
За роскошно сервированным столом каждый занял место по старшинству. Во главе стола уселись дед и бабушка, по правую руку от них — дядя Гриша, бородатый Николай. По левую — Сусанна, её жених, мама. Меня хотели посадить с детьми в конце стола, но я поспешил занять свободный стул рядом с мамой.
Дед поднялся с бокалом шампанского в руке и долго и скучно говорил о «святая святых» — о семье, о необходимости послушания и почтения к родителям. Закончил он тем, что прошедший год, благодарение богу, был хорошим годом. Слушая отца, мама всё ниже и ниже склоняла голову. Когда же он сказал, что прошедший год был хорошим, она вздрогнула, словно её ударили, и заплакала.
За столом воцарилось неловкое молчание.
Дед сурово спросил:
— Что тут происходит? Почему у всех такие кислые физиономии? Почему ты плачешь, Виргиния? Может быть, я не так сказал?
— Как можно говорить, что прошедший год был хорошим? — тихо сказала мама. — В этом году погиб мой муж, осиротел мой сын. Да не только он один…
— Что поделаешь, такова воля всевышнего! Все смертны. — Дед поставил бокал на стол. — А в своём горе виновата ты сама. Нужно было слушаться родителей. Чего только я не сделал для тебя, думая о твоём будущем! Свидетель бог, — ничего не жалел… В гимназию отдал, лучших учителей музыки нанимал, в Петербург учиться послал. А ты чем ответила на мои заботы? С кем связала свою судьбу? С бунтовщиком, нищим, оборвышем…
Он ещё что-то хотел сказать, но тут я вскочил с места и, не помня себя от обиды, крикнул:
— Не смейте! Не смейте так говорить о моём отце! Мама, мамочка, пойдём отсюда! — И, не дожидаясь её ответа, побежал к двери.
— Истинно сказано: яблоко от яблони недалеко падает! — услышал я за своей спиной разгневанный голос деда.
За мной побежал дядя Гриша.
— Постой, постой, куда ты? — говорил он, но я не слушал его. Схватил в передней своё старенькое пальтишко и выбежал на улицу. В ожидании матери сел на каменные ступеньки подъезда. Я понимал, что по моей вине произошло что-то тяжёлое, неприятное, но иначе поступить не мог…
Вышла мама. Подняла меня, обняла за плечи. Она ничего не сказала мне, но я понял, что она не сердится на меня.
Трамваи уже не ходили. На последние деньги мама наняла извозчика, и мы поехали домой.
На следующий день утром к нам пришёл незнакомый человек. Он передал мне конверт, в котором были деньги и письмо от Дяди Гриши. Письмо мама прочитала, а деньги вложила в конверт и вернула.
— Ответа не будет, — сказала она посланному. Когда он ушёл, я подошёл к маме и, не говоря ни слова, поцеловал её. О маминой родне мы больше никогда не говорили, — она как бы перестала существовать для нас.
Дни текли однообразно. Я готовился к выпускным экзаменам. Мама после школы бегала по урокам.
Плохо у меня было с одеждой, особенно с обувью. Ботинки совсем разваливались, — не ходить же в школу босиком, да ещё сыну учительницы! Помощь пришла совсем неожиданно.
Как-то вечером прибежал ко мне Костя:
— Иван, тебя Матвей Матвеевич Чеботарёв кличет!
— Зачем?
— Там узнаешь…
Схватив шапку, я побежал за Костей. Я был знаком с мастером Чеботарёвым — он дружил, с папой, часто бывал у нас.
Матвей Матвеевич долго расспрашивал меня в своей маленькой конторке про наше житьё-бытьё, про мамино здоровье. Поинтересовался, что я думаю делать после окончания школы.
— Не знаю, — ответил я. — Маме хочется, чтобы я продолжал ученье, но для этого нужны деньги, а у нас их нет.
— Да, об ученье пока что тебе думать нечего! — Посмотрев на мои рваные башмаки, старый мастер покачал головой. — Вставай, пошли со мной!
— Куда?
— Много будешь знать, скоро состаришься!..
Он повёл меня в город и купил недорогие, но крепкие ботинки. Заметив моё смущение, растерянность, погрозил пальцем:
— Ты брось эти штучки — от чистого сердца. Понимаешь?
Странное дело: от своих родственников я не принял бы никакого подарка, а от него принял, хотя мастер Чеботарёв был для меня совершенно чужим человеком…
Настал долгожданный выпускной вечер. Директор наш, добрейший Антон Алексеевич, вручая мне аттестат и грамоту за отличные успехи, даже прослезился.
— Наша школа может гордиться такими учениками как ты, Силин, — сказал он.
Особой радости от того, что окончил школу и что директор похвалил меня, я не испытывал. На душе было тревожно. Передо мной опять вставал проклятый вопрос: как быть дальше, что делать? Оставался единственный выход — работать. Но где? Кому я нужен без профессии, без трудовых навыков? Мои школьные знания и французский язык были ни к чему…
На школьном балу я не остался. Зашёл в свой класс, посидел за партой и мысленно попрощался со школой, где провёл семь лет.
Вышел на улицу. Было ещё совсем светло. В переулке, недалеко от школы, поджидал меня Костя. Это тронуло меня.
— Я знал, что ты на танцы не останешься, — сказал он и протянул мне свёрток.
— Что это?
— Подарок вот… по случаю окончания.
В свёртке оказался однотомник моего любимого поэта, Лермонтова.
— Спасибо, Костя.
— Чего там!..
Мы прошли вдоль железнодорожной насыпи и, поднявшись на холмик, сели. Тихо было кругом, не было видно ни единой живой души. Кто бывал в наших местах, тот знает, какие это унылые места — одни известковые холмы, заросли чертополоха да обрывы.
— Похвальную грамоту дали? — спросил Костя.
— Дали. — Я протянул ему грамоту. — Лучше бы работу дали… Не могу я больше сидеть на маминой шее!
— Подумаешь, работа! Как говорят наши мастеровые, была бы шея, хомут найдётся. Валяй к нам в мастерские!
— Просто у тебя всё получается: захотел — пошёл в мастерские, поступил на работу… А кто меня возьмёт?
— Возьмут, — убеждённо сказал Костя. — Наши заступятся. Они твоего батьку крепко уважают. То и дело слышишь: «Вот если бы Егор Силин», «Егор Силин подсказал бы, как поступить». А намедни мастер Чеботарёв отругал меня: «Что же, говорит, ты не сказал, что дружку твоему, Ване Силину, и его матери туго приходится? Знай мы это, подсобили бы». Обязательно заступятся, вот увидишь!
— Папины друзья, может быть, и захотят помочь мне, но я-то ничего не умею делать!
— Научишься, — уверенно ответил Костя.
Мы замолчали. Перелистывая страницы однотомника, я наткнулся на знакомые ещё с детства строки и прочитал их вслух:
…Краснеют сизые вершины,
Лучом зари освещены,
Давно расселины темны;
Катясь чрез узкие долины,
Туманы сонные легли…
Не знаю уж почему, но эти стихи с удивительной силой отозвались в моей душе.
— Здорово пишет! — негромко сказал Костя. — Если бы я учился, тоже стихи бы писал… Иногда в душе такое делается, что словами не скажешь, а вот стихами можно…
Спускались сумерки. Большой багряный диск солнца, скрывшись наполовину за дальними холмами, окрасил редкие облака в розовый цвет. Подул ветерок. Мы молча следили, как медленно угасал день, как в небе одна за другой зажигались звёзды…
Дома меня ожидал сюрприз. Мама приготовила подарок, да ещё какой! Тёмно-синий шерстяной костюм, белую рубашку, галстук. На столе красовался румяный пирог, бутылка вина.
— Мама, можно Костю позвать? — спросил я, поблагодарив за подарок.
— Ну конечно!
Я сбегал за Костей, затащил его к нам. Мы пили вино, вслух мечтали о будущем, пробовали петь. И мама развеселилась, у неё даже щёки порозовели.
Утром я заметил, что на её пальце нет золотого колечка с крошечным камнем — папиного подарка.
— Ой, мама, зачем ты это? — Я чуть не плакал.
— Мне так хотелось сделать тебе приятное в день окончания школы, — ответила она, улыбаясь сквозь слёзы.
Скорее на работу, на какую угодно, лишь бы хоть немножко помочь ей!..
Я пошёл в железнодорожные мастерские. Разыскав мастера Чеботарёва, начал было объяснять ему цель моего прихода, но он не дал договорить:
— Знаю, работа тебе нужна!
Я кивнул головой.
— Жаль, конечно, что не можешь дальше учиться. Слыхал, способности у тебя большие. Ну ничего, повариться в нашем котле тоже не мешает! Пошли…
Он повёл меня к начальнику мастерских, сказал тому, что я хочу поступить на работу, что меня можно принять учеником токаря, — парень я грамотный, школу железнодорожную с отличием окончил.
Начальник поправил пенсне, внимательно посмотрел на меня, взял карандаш.
— Как зовут?
— Иван Силин.
— Силин?.. Знакомая фамилия! Постойте, это не тот ли машинист Егор Силин, которого после пятого года выслали из Петербурга и отдали под надзор полиции?
— Так точно, это его сын. А год назад Егор Васильевич сложил голову за царя и отечество! — ответил Чеботарёв.
— Это ничего не значит! Была бы его воля, он поступил бы совсем по-другому… Так, так, сын Егора Силина, значит, — начальник ещё раз посмотрел на меня. — Ладно, я приму его. Но, молодой человек, не советую вам идти по стопам отца! — Он написал и протянул мне записку.
Я изо всех сил сдерживался, чтобы не нагрубить ему.
Спускаясь по лестнице, я спросил Чеботарёва:
— За что отца выслали из Петербурга и отдали под надзор полиции?
— Ты про большевиков, про Ленина слыхал?
— Нет.
— Придёт время — услышишь… Твой отец был большевиком-ленинцем.
Большевики-ленинцы, — кто они такие, почему власти боятся их? Всю дорогу домой я думал об этом.
Дома спросил маму: кто такие большевики-ленинцы?
— Кто тебе сказал о них? — встревоженно спросила она.
Я рассказал о разговоре с Чеботарёвым.
— Эго смелые, благородные люди, революционеры, борцы за счастье народа, — сказала мама и, помолчав, добавила: — Да, твой отец был большевиком… Но ты, Ваня, ты… — Она подняла на меня полные слёз глаза, в них я увидел страх, мольбу. Теперь я твёрдо знал одно: раз отец пошёл с ними, — значит, большевики стоящие люди.
На следующий день встал задолго до гудка, надел папину блузу, завернул в бумагу завтрак и зашагал! по направлению к мастерским.
Мама, поёживаясь от утренней прохлады, стояла у порога и долго смотрела мне вслед. Я обернулся и по-» махал ей рукой.
Детство моё кончилось.
По стопам отца
Всё получилось так, как я и предполагал: на первых порах работа у меня не ладилась. То резец неправильно поставлю, то чурку не так закреплю. В результате — брак. Видя, как я огорчаюсь, мой учитель, токарь Алексей Чумак, говорил:
— Ничего, парень! Ты шибко не переживай и хозяйского материала не жалей, — научишься!
Однако научился я не скоро — прошло больше трёх месяцев, прежде чем я сумел затачивать несложные детали.
Принёс я домой первую получку. Мама обняла меня, расплакалась.
Но что бы ни говорила мама, я гордился, что ем хлеб, заработанный своим трудом.
В мастерские ходил с удовольствием. Все рабочие считали меня своим и помогали чем могли. Особенно мастер Чеботарёв. Не проходило дня, чтобы он не подошёл ко мне. Он давал мне множество ценных советов и искренне радовался моим маленьким успехам.
Я был не настолько самонадеян, чтобы приписывать своим достоинствам внимание ко мне товарищей их трогательно-бережное отношение. Здесь не забыли большевика Егора Васильевича Силина. Мне посчастливилось быть его сыном.
Чувствовалось приближение грозы. На заводах и фабриках нашего города часто вспыхивали забастовки, рабочие и солдатские жёны выходили на улицу, требовали мира и хлеба. Казалось, только у нас в мастерских спокойно: ни митингов, ни забастовок. Я недоумевал и однажды спросил у Кости, почему наши стоят в стороне.
— Чудак ты, Ваня, ей-богу, чудак! Ты что, не знаешь, что на железные дороги распространяются законы военного времени? — объяснил он. — Чуть пошевелись, и готово — расстрел! Но ты зря думаешь, что наши сидят сложа руки. Придёт время — они покажут себя!
Вскоре это время пришло. Царя свергли. Большевики вышли из подполья. Они повели за собой народ, организовали Красную гвардию.
После Октябрьской революции и в нашем городе установилась Советская власть. Матвей Матвеевич Чеботарёв был избран председателем первого ревкома.
Наступили бурные дни; После работы, захватив винтовки, мы дежурили возле ревкома, патрулировали улицы. Вместе с солдатами, перешедшими на сторону революции, разоружали офицеров, а однажды остановили целый эшелон, шедший с турецкого фронта, захватили винтовки, пулемёты, несколько пушек.
Мама встретила революцию восторженно.
— Наконец-то! — воскликнула она и, по обыкновению, прослезилась. — Бедный Егор, не дожил до светлого дня…
Но радоваться было рано. Вскоре белые казаки генерала Каледина разгромили ревком и установили в городе кровавую диктатуру.
Из всех щелей повылезли прятавшиеся офицеры, воспрянувшие духом буржуи. К нам со всех концов страны хлынули белогвардейцы, Ростов-на-Дону стал центром контрреволюции на юге.
В городе творилось что-то неописуемое. На каждом шагу — ночные рестораны, казино, кондитерские. Улицы заполнили разряженные барыньки, накрашенные девицы, высокопоставленные царские чиновники при орденах и крестах, спекулянты, искатели лёгкой наживы, уголовники и, конечно, пьяное офицерьё. Драки, перестрелки, грабежи не прекращались ни днём, ни ночью. Шампанское лилось рекой.
А рабочие голодали.
Уцелевшие от разгрома большевики снова начали борьбу в тылу белых. На железной дороге Ростов — Харьков взлетали в воздух мосты, движение поездов надолго останавливалось. В одном только нашем депо подпольщики вывели из строя семь паровозов. Какие-то отчаянные люди разбрасывали на площадях и в кинематографах листовки. На стенах домов появлялись прокламации. А однажды вечером в окна офицерского клуба полетели бомбы. Начались аресты, облавы. Каждую ночь по нашему посёлку рыскали офицеры контрразведки — искали большевиков. Напали на след подпольного комитета и арестовали десять руководителей. В их числе оказались мастер Чеботарёв и мой учитель Алексей Чумак.
Мы с Костей дня три ходили по всем полицейским участкам, разыскивая Матвея Матвеевича и Чумака, но так и не нашли. Решили отправиться в контрразведку.
Усатый офицер, узнав о цели нашего прихода, спросил:
— А вы кто такие?
Костя, боясь, что я невзначай назову свою фамилию, поспешил ответить:
— Я мастеру Чеботарёву племянником прихожусь, а это мой кореш… Вдвоём вроде веселее ходить…
Офицер зло посмотрел на Костю:
— Напрасно вы ищете этого отпетого большевика, не найдёте! Если его ещё не успели расстрелять, то скоро расстреляют…
— За что? — вырвалось у меня.
— Не прикажете ли дать вам объяснение в письменной форме? А ну, убирайтесь отсюда, щенки, пока целы!
На улице Костя выругался:
— Вот гады! Видел, как издеваются! Жаль Матвея Матвеевича, пропадёт он. Погодите, настанет и ваша очередь…
— Тише ты, — остановил я своего не в меру горячего друга.
Он огляделся по сторонам, прохожих вблизи не было.
— Эх, податься бы к своим… Перейдём линию фронта, и всё тут!
— Думаешь, это так просто? Мы с тобой не знаем даже, где фронт.
— Идём, покажу!
Костя потащил меня к магазину, где всю витрину занимала огромная карта, утыканная флажками.
— Видишь, за красным шнурком наши, а за синим, по эту сторону, белые.
— Если верить этой карте, то они давно уже в Москве! — сказал я.
Ничего не понимая, огорчённые, мы отошли от витрины…
На центральной улице мимо нас промчался экипаж. В таких каретах разъезжали генералы и местные тузы.
Вдруг кто-то окликнул меня.
Я обернулся. Кучер с трудом сдерживал разгорячённых коней. Из окна мне махал рукой дядя Гриша.
Нехотя я подошёл к нему.
— Ну как мама, здорова?
— У нас всё в порядке…
Он вышел из экипажа.
— Послушай, Иван, ты уже взрослый и должен понимать, что так продолжаться не может!.. Вы должны переехать к нам. Что за фантазия — жить в нищете, и всё из-за какого-то дурацкого каприза? Я молчал.
— У тебя незаурядные музыкальные способности. Так говорит Сусанна, а она понимает толк в музыке. Хочешь, пошлём тебя в Париж учиться?
— Спасибо, мне и здесь хорошо…
— Пожалуйста, учись здесь, если тебе так нравится. Пойми, мы не можем допустить, чтобы единственный племянник Багдасаровых стал простым рабочим. Это позор для всей нашей семьи!
— Вы забываете, что мой отец тоже был рабочим, — ответил я.
— Ох, до чего же вы с Виргинией упрямые! — Он покачал головой и, садясь в карету, добавил: — Мы ещё встретимся!
— Что за барин разговаривал с тобой? — спросил Костя, когда я вернулся к нему.
— Так, знакомый один… — Мне не хотелось признаваться, что это мой дядя.
— И до чего ты скрытный! Это же родня твоей мамы…
— Хотя бы и так…
— Не горячись! Наши знают, что, когда твоя мама вышла замуж за Егора Васильевича, богатая родня отреклась от неё…
Недалеко от нашего дома, в железнодорожном тупике, разгружался санитарный поезд, битком набитый ранеными.
И Костя, как бы отвечая на свои мысли, сказал:
— Чёрта с два возьмут они Москву! Им самим скоро крышка!
В последующие дни такие поезда зачастили к нам. Раненых разгружали прямо в поле — подальше от людских глаз. Но правду не скроешь: где-то поблизости шли тяжёлые бои, фронт приближался. Понаехавшие к нам помещики и фабриканты начали торопливо перебираться поближе к морю, чтобы успеть удрать за границу. А ещё через несколько дней началось паническое бегство из города тех, кому вольготно жилось при белых.
Вскоре части Красной Армии с боями заняли Ростов.
Белые, удирая, расстреляли в подвалах контрразведки всех узников. В их числе был расстрелян и Матвей Матвеевич Чеботарёв. Уцелели немногие. Алексей Чумак — он лежал в тюремном госпитале — вернулся к нам в мастерские худой, измождённый, кипящий ненавистью к врагам революции. Коммунисты избрали его секретарём партийной ячейки.
Костя не перестал мечтать о том, чтобы уйти на фронт. Да и я теперь разделял его мечты, хотя мне и было очень жалко оставить маму. Я думал о том, что, будь жив отец, он наверняка был бы командиром Красной Армии.
На пустыре, недалеко от нашего посёлка, остановилась какая-то воинская часть. К какому роду войск она принадлежала, мы не могли понять. Там было всё: кони, тачанки с пулемётами, несколько короткоствольных пушек, походные кухни. У красноармейцев на фуражках пятиконечные красные звёздочки, на ногах обмотки, а гимнастёрки совсем полиняли.
Мы с Костей познакомились с бойцами. После работы помогали им чистить коней, таскали воду для походных кухонь. В ответ на наши вопросы — откуда они приехали, в каких боях участвовали, куда направляются — красноармейцы отшучивались. Откуда приехали — там, мол, нас нет, а куда поедем — знает одна сорока. Нам явно не доверяли. Было обидно.
Как-то Костя спросил меня:
— Как думаешь, возьмут нас в отряд?
— Вряд ли. Может, комиссара попросить?
— Лучше написать ему. У тебя хороший почерк, Иван, бери бумагу, пиши. Товарищ комиссар, так, мол, и так, мы, два товарища, я и ты, значит, хотим отомстить белякам за наших погибших друзей, за мастера Чеботарёва и воевать вместе с вами до полной победы всего пролетариата!
Написать письмо комиссару не пришлось, — он сам нашёл нас.
Костя и я сидели вечером у палатки и разговаривали с бойцами, когда к нам подошёл комиссар, чисто выбритый, аккуратный, подтянутый. Волосы светлые, голубые глаза — острые, с хитрецой. На груди перекрещивались ремни новенькой портупеи, на правом боку висел наган. При его появлении бойцы вскочили. Встали и мы.
— Здравствуйте, товарищи! Садитесь и расскажите, чем вы тут занимаетесь? — Он говорил густым басом, хотя на вид ему было не больше двадцати пяти — двадцати шести лет.
— Да так, беседовали… Хлопцы пришли из посёлка, — указал на нас один из красноармейцев, — в мастерских работают. Говорят, натерпелись тут при белых…
Комиссар пригласил нас к себе в палатку, угостил сладким чаем и повёл беседу. Он незаметно выспросил всё: кто мы такие, где учились, есть ли у нас родители, много ли в мастерских коммунистов, о чём думают рабочие.
Перебивая друг друга, мы отвечали на его вопросы и ждали удобного момента, чтобы заговорить с ним о нашей заветной мечте.
Костя опередил меня.
— Возьмите нас в свой отряд, товарищ комиссар! — выпалил он. — Мы с Иваном давно мечтаем об этом. Даже через фронт хотели перемахнуть, когда здесь белые были.
— Вот какие вы отчаянные парни! Так прямо через фронт?
— Не верите — спросите Ивана. Он у нас самый честный, врать не станет!
— Сколько же тебе лет?
— Шестнадцать, — ответил мой друг.
Комиссар повернулся ко мне:
— А тебе сколько, самый честный?
— Около семнадцати.
— Точнее.
— Шестнадцать лет и семь месяцев.
— Да… Многовато вам лет. Ну, а мама твоя? Она ведь не захочет, чтобы единственный сын ушёл воевать.
— Разве революционеры спрашивали матерей, когда шли на виселицу или в Сибирь, на каторгу? — ответил я.
— Толково, ничего не скажешь… Вот что, ребята, вы возьмите у секретаря партийной ячейки рекомендацию, а я подумаю. — Комиссар встал.
Мы шли домой, в посёлок, и ног под собой не чувствовали от радости, считая уже себя красноармейцами. Вдруг Костя остановился.
— Иван, что, если Чумак не даст рекомендацию?
— В Чумаке я уверен!.. С мамой труднее. Начнутся уговоры, слёзы…
— Может, тайком? Раз решили — нечего раздумывать!
Утром мы стояли перед Чумаком.
— Рекомендацию я вам дам. — Партийный секретарь почесал затылок. — Только не рано ли?
— Дядя Чумак, — спросил Костя, сдерживая волнение, — как вы полагаете, мировая революция будет ждать, пока нам стукнет по восемнадцати?
Чумак усмехнулся:
— Опоздать боитесь?
— Факт, опоздаем!
— Правда, Алексей Трифонович, дайте нам рекомендацию! Мы вас не подведём, — вмешался я. — Вот и над вашим столом висит плакат: «Записался ли ты добровольцем в Красную Армию?» Значит, люди там нужны.
— Что ж, вас не удержишь, — сдался наконец Чумак.
Пишущей машинки у нас не было, а секретарь партячейки грамоту знал плохо. Рекомендацию под его диктовку пришлось писать мне. Чумак расписался, поставил круглую печать и закатил нам целую речь о том, как следует себя вести и беречь рабочую честь.
— Запомните, хлопцы: воевать — не в бирюльки играть! В бою всякое бывает. Смотрите, чтобы нам не пришлось краснеть за вас, — заключил он.
С рекомендацией в кармане мы пулей полетели к комиссару. Он прочёл написанное, велел обождать и пошёл к командиру. Вернувшись, сказал:
— Всё в порядке, ребята! Я уговорил командира принять вас в наш полк. Но тебе, Силин, придётся поговорить с матерью.
У меня замерло сердце.
— А если она не даст согласия?
— Постарайся убедить.
Я знал, что мама не согласится. Так и случилось. Рыдая, она повторяла одно и то же:
— Нет, это невозможно! Невозможно!.. Я опять к комиссару.
— Ты твёрдо решил? Непременно хочешь в армию? — спросил он. — Подумай: у нас строгая дисциплина, опасности на каждом шагу. Могут и убить…
— Решил твёрдо, товарищ комиссар! Я поклялся поступать, как отец. Уверен, что, будь он жив, тоже пошёл бы.
— Ну хорошо. А теперь слушай меня внимательно: в ночь со вторника на среду мы погружаемся в эшелон. Об этом никому ни слова. Ты и твой дружок подойдёте к водокачке и там, на запасных путях, найдёте нас. Если сможете, захватите с собой котелки, ложки, лучше деревянные, полотенце, по смене белья.
— Спасибо, товарищ комиссар!
Свои вещи я заранее отнёс к Косте и условился встретиться с ним у водокачки.
В ночь побега я не сомкнул глаз — волновался, боялся проспать. Лёжа с открытыми глазами в постели, я вспоминал отца, школьные годы, новогодний вечер у родителей матери, искажённое от злости лицо деда. Сейчас всё это казалось мне далёким прошлым. Я покидаю дом, где вырос, маму, которую люблю больше всего на свете. Вернусь ли? Свижусь ли с ней?
Стрелки на ходиках показывали три часа, пора было собираться. Я встал, тихонько оделся и на цыпочках подошёл к дверям спальни попрощаться с мамой. Луна освещала её печальное красивое лицо. Тронутые сединой волосы рассыпались по подушке. Она мирно спала, ничего не подозревая.
Признаться, я заколебался. Что будет с ней завтра, когда она узнает о моём уходе? Как она переживёт его? Может быть, остаться?.. Нет, надо быть твёрдым!
Мне хотелось взять с собой что-нибудь на память о маме. Пошарив в коробочке, стоящей на комоде, я нащупал крошечные золотые часы. Мама давно не носила их. Цепь была продана, а механизм испорчен. Сунув часы в карман, я бесшумно распахнул окно и выпрыгнул на улицу. И сразу отлегло от сердца!
Костя издали увидел меня, подошёл, крепко пожал мне руку, и мы, не говоря друг другу ни слова, побрели по запасным путям искать эшелон. Комиссара мы нашли возле паровоза.
— Вот и мы! — весело сказал Костя.
— Отставить! — рассердился комиссар. — Красноармеец Орлов, разве вы не знаете, как нужно докладывать старшему командиру?
К моему удивлению, Костя сразу нашёлся. Он вытянулся, козырнул и, как заправский солдат, отрапортовал:
— Виноват, товарищ комиссар! Красноармейцы Константин Орлов и Иван Силин прибыли в ваше распоряжение.
— Вот это другое дело! Орлов, вам — в четвёртый вагон, к пулемётчикам. А вы, Силин, пойдёте в седьмой — к кашеварам.
К кашеварам! Я не двигался с места.
— Выполнять приказание! — Комиссар повысил голос, и я, понурив голову, пошёл искать вагон с походной кухней.
Рыжий, безбровый, круглолицый кашевар в матросской тельняшке, видимо, был предупреждён о моём приходе.
— Милости прошу к нашему шалашу, — сказал он приветливо и протянул пухлую руку. — Будем знакомы: шеф-повар, а по-нашему, по-морскому, главный кок, Сидор Пахомов.
Я назвал своё имя, фамилию и разочарованно осмотрелся по сторонам. Большой пульмановский вагон был разделён перегородками на три отсека. Слева что-то вроде кладовой, там хранились продукты: крупа в мешках, картошка, лук, масло. Справа, у самой стены, двухъярусные нары. А посредине, вплотную друг к другу, стояли походные котлы на колёсах, железные трубы их выходили на крышу вагона. Котлы дымились, около них хлопотало несколько человек в одних майках.
Разве об этом я мечтал, когда шёл к комиссару проситься в армию? В моём воображении рисовалась совсем иная картина: примут в отряд, дадут форму, будёновку со звездой, лихого коня, винтовку, шашку, а может быть, и наган. Мы в конном строю проезжаем по улицам города. Впереди трубачи. На нас все смотрят восторженно, с завистью… Или, размахивая шашками, мы налетаем на врагов, рубим их, обращаем в бегство… А вместо этого — кухня, щи, каша. Вернёшься домой, ребята спросят: «Расскажи, Иван, как ты воевал?» А ты им в ответ: «Кашу варил…» Стыдно! От огорчения на глаза навёртывались слёзы. Словно угадав мои невесёлые мысли, Пахомов сказал:
— Ты не смущайся, голубь! Кашевар есть самая главная фигура во всякой армии, — об этом даже Суворов говорил. Когда солдат сыт, он веселее, у него и храбрости больше. С пустым брюхом много не навоюешь! Кто кормит солдата? Кашевар. Так-то, голубь. А теперь положи свои вещички на верхнюю нару — и за работу!.. Карпухин, — крикнул он, — дай новичку нож, фартук и покажи, как чистить картошку!
Делать было нечего, я сел на мешок и принялся чистить картошку.
С платформы послышалась протяжная команда:
— По места-а-ам!
Свистнул паровоз, поезд тронулся.
Я в последний раз смотрел на родные края. В низинах стлался утренний туман. Далеко-далеко на горизонте разгоралась заря. В посёлке дымили трубы.
Часа через три поезд остановился. Бойцы с вёдрами в руках спешили к нашему вагону. Пахомов, надев белый колпак и фартук, большой черпалкой помешивал в котлах и с прибаутками отпускал завтрак: в одно ведро щи, в другое — пшённую кашу. Последним подошёл пожилой усатый боец. Шеф-повар и ему наполнил вёдра до краёв.
— Да ты что, Пахомыч, очумел, — лошадей, что ли, буду кормить кашей? — сказал боец.
— На одного берёшь?
— Нет, нас двое при лошадях. Мы в обозе.
— Зачем же, дурья голова, вёдра суёшь? Давай котелок.
— Нет у меня котелка.
— Какой же ты после этого боец?
— Ничего, в первом же бою достану у беляков. У них, говорят, заграничные, с крышкой.
— Пехота! — с презрением в голосе сказал Пахомов и, немного отделив из вёдер, отдал их усатому. — На, бери, знай мою доброту, тут на целый взвод хватит.
— Уж больно ты добрый сегодня, с чего бы это?
— В походе я всегда добрый. Ешьте про запас, ремни затянуть ещё успеете, — ответил повар.
Пока поезд стоял, мы впятером натаскали воды, почистили котлы и снова заправили их — на обед.
— Теперь наша очередь! — Пахомов нарезал буханку хлеба и поставил на стол котелки.
В горло ничего не лезло, я сидел, задумавшись, перед котелком со щами.
Пахомов, заметив это, положил руку мне на плечо.
— Э-э, так не годится, голубь! Есть надо.
— Не хочется…
— А ты через не хочется. Есть такая поговорка: голодный медведь не танцует. Слыхал?
— Он по мамке скучает, — вмешался в разговор тот, которого звали Карпухиным.
— И что же? — Пахомов строго посмотрел на него. — Мы все скучали по матерям.
Поезд тронулся. Я забрался на нары. Только закрыл глаза, как передо мной возник образ матери. Она встала с постели и, не увидев меня, забеспокоилась. Вот она нашла и прочла мою записку…
«Дорогая мама!
Я уехал с отрядом на фронт. Иначе поступить не мог. Прости меня. При первой возможности напишу обо всём подробно. Не грусти и не скучай. Я очень, очень люблю тебя!
Твой Ваня».
Я представлял себе, как слёзы медленно потекут по её бледному печальному лицу, капнут на бумагу, как она долго будет сидеть неподвижно, держа мою записку в руке, слабая, одинокая…
Бедная, бедная мама!..
Стучали на стыках колёса, вагон скрипел, покачивался. Я незаметно уснул.
Проснулся от тишины. Поезд стоял. Смеркалось, в вагоне тускло горела висячая лампа-«летучка». Пахло щами, горелым маслом.
Я спрыгнул с нар и попросил у Пахомова извинения.
— Ничего, голубь, ничего. Мы нарочно дали тебе выспаться. В первый день тяжело бывает, знаю по себе. Потом привыкнешь, наработаешься ещё! — ответил он.
От Пахомова исходила какая-то особая доброта, сердечность, он был мягок, приветлив, но ругался виртуозно, «по-моряцки». Такой многоэтажной ругани, какой при случае щеголял наш шеф-повар, я никогда раньше не слыхивал, хотя и вырос в рабочем посёлке.
К нам в вагон поднялась молоденькая, миловидная девушка с вздёрнутым носиком. По красному кресту на белой нарукавной повязке я догадался, что она медицинская сестра из санчасти.
— Моё вам почтение, Шурочка! — Пахомов церемонно поклонился ей. — Давненько не виделись мы с тобой. Как живёшь, что поделываешь?
Девушка капризно повела плечами, огляделась.
— Ничего вы тут устроились… Не житьё — малина! Ешь сколько влезет, спи — не хочу. Не дует, не каплет. Это про вас сказано — солдат спит, а служба идёт.
— На то мы и кашевары, — отозвался Карпухин.
— То-то и оно, что кашевары, — сердито сказала Шурочка. — Кроме жидких щей да горелой каши, ничего не умеете стряпать!
— Это ты зря, Шурочка, — обиделся Пахомов. — Мои котлеты де-валяй славились на весь флот! О бифштексах и говорить нечего — по-гамбургски или натуральные с кровью. Бывало, позовёт меня к себе капитан первого ранга Евгений Анатольевич Берг и спросит: «Ну-с, кок, чем собираешься угощать нас сегодня?!» — «Чем прикажете». — «Неплохо бы свиные отбивные, но только такие, как в Копенгагене готовят!» — «Есть как в Копенгагене!» И такие отбивные приготовлю, что язык проглотишь!
— Да ну тебя, Пахомыч!.. Дразнишь только отбивными-то!
— Я бы с превеликим удовольствием угостил тебя, Шурочка. Да вот беда — мяса нет. Дают такую дохлятину, что не только жаркое, супа приличного не сваришь!..
— А это новенький? — девушка посмотрела на меня, улыбнулась.
— Доброволец, сегодня пришёл.
— Славненький, молоденький какой! Ты в подкидные умеешь играть?
— Умею…
Я смутился. Впервые в жизни девушка так разговаривала со мной. Она была прехорошенькая. Небольшого росточка, лицо румяное, губы влажные, яркие, на правой щеке тёмная родинка, шелковистые, завитые кудри, светлые, с серебристым отливом, выбивались из-под косынки.
— Приходи, миленький, к нам, в санитарный вагон, — в карты сыграем. Страсть как люблю вашего брата в дураках оставлять! — Она потянулась, как кошка, лениво зевнула.
— Да уж ты не одного оставила в дураках! — усмехнулся Пахомов. — Этого тоже хочешь обдурить?
— Там видно будет! — И опять ко мне: — Ты, миленький, не слушай старого хрыча, это он от ревности!.. Ну, заболталась я тут с вами! — Она повернулась ко мне: — Так ты приходи! — и ловко спрыгнула на землю.
— Хороша, чёртова девка! — Пахомов вздохнул. — А ты, парень, не зевай, видать, ей по душе пришёлся…
В ту ночь в нашем вагоне долго не спали. Пахомов, дымя толстой самокруткой, рассказывал о боевых делах нашего отряда, о комиссаре Власове. Отряд был сформирован в бурные дни Октября из красногвардейцев, матросов Балтики и революционных солдат. Он прошёл от Петрограда до юга страны, участвуя в многочисленных боях. Недавно отряду присвоили наименование 2-го горнострелкового полка и передали в состав Н-ской дивизии.
— Комиссар наш из бывших студентов, — рассказывал Пахомов. — Он сам и сформировал отряд. Шибко образованный человек, ворох книг прочитал! Да и теперь не расстаётся с ними — всюду таскает с собой. О его храбрости и говорить не приходится, — не раз самолично цепь в атаку поднимал. Насчёт дисциплины строг — шалить никому не даёт1.. Зато бойцу как родной отец. Командир — тот суховатый, из бывших офицеров, но военное дело знает назубок…
На рассвете эшелон остановился в открытом поле. Дали команду разгружаться. Бойцы проворно выскакивали из вагонов, выводили по настилам лошадей, спускали пушки, пулемёты, повозки. К нашему вагону тоже подкатили настил, и мы, кашевары, при помощи бойцов хозяйственного отряда быстренько выгрузились.
Не успел пустой состав отойти, как подкатил второй, потом третий. Стало шумно, многолюдно. В предрассветных сумерках командиры, подсвечивая карманными фонариками, покрикивая, собирали своих людей. Кое-где уже начали строиться.
В суматохе промелькнула фигура Кости Волчка, — он с пулемётчиками хлопотал возле тачанок. Я искренне позавидовал ему. Полк построился и зашагал походным маршем — рота за ротой, батальон за батальоном. Походные кухни тащились в хвосте колонны, — мы на марше варили еду.
Издали доносились глухие разрывы артиллерийских снарядов. Фронт был близко…
Солнце уже сияло вовсю, когда мы расположились лагерем недалеко от большой станции.
Пока бойцы завтракали, командир и комиссар сели на коней и в сопровождении двух бойцов куда-то уехали. Они вернулись в полдень. Трубачи затрубили сбор. На митинге комиссар объяснил задачу. Наш полк шёл на замену другому, уходящему в тыл для отдыха и переформирования.
Лишь только стемнело, лагерь поднялся. В ночной темноте, совершив семикилометровый марш, полк вплотную подошёл к передовой. Было страшновато. Стучали пулемёты, порой со свистом пролетали снаряды и с грохотом рвались где-то впереди…
Батальоны без шума сменили уходящих в тыл, заняли их окопы. Артиллеристы подкатили пушки, установили их в заранее намеченных местах. Пулемётчики на время оставили тачанки и замаскировались на высотах. Тыловые части разместились позади фронта, километра за три, в овраге между невысокими холмами.
К рассвету всё было приведено в боевую готовность.
Улучив свободную минуту, я вскарабкался на холм, лёг на живот и стал рассматривать окрестности. Вдали — скалистые горы с редкой растительностью, между ближними холмами — вспаханные поля, а ещё ближе — узкая речка, — словно белая ленточка, разрезая поля, тянулась она с запада на восток. Мостики, перекинутые через речку, местами были разрушены. Высокие тополя, красные маки. Словом, самый мирный пейзаж, если бы не окопы и глубокие извилистые ходы сообщения, тянувшиеся за окопами.
Похоже, на этом участке фронта установилась относительная тишина. Белые зарылись глубоко в землю. Наши части на первых порах тоже особой активности не проявляли. Постреляют белые, ответят наши, постреляют наши, ответят белые. Выпустят десятка два снарядов, дадут несколько пулемётных очередей — и опять тишина.
На второй день после нашего прибытия на фронт новичков вызвали в тыл — получать обмундирование. Собралось человек сто. Коренастые, почерневшие от угольной пыли шахтёры, рабочие с ростовских фабрик и заводов, загорелые крестьянские парни в лаптях с котомками за спинами. Все — добровольцы.
Пришёл и Костя.
Мы сели с ним в сторонку. Костя прямо сиял — шутка ли сказать, сразу попал в пулемётчики!
— Я уже два раза стрелял, командир взвода разрешил. Не так уж трудно, — оживлённо рассказывал он. — Скоро научусь пулемёт разбирать. Первым номером стану, вот увидишь!
Мне нечем было похвастаться, разве тем, что я научился у Карпухина чистить картошку…
Получив обмундирование, я простился с Костей. Началось учение. Новичков выстраивали по утрам на равнине, укрытой за холмом. Инструкторы из бывалых солдат проводили строевые занятия. Кости с нами не было, он осваивал пулемёт у себя в роте.
Утром маршировка и стрельба по движущимся целям, днём — обратно к Пахомову, варить кашу. Так продолжалось дней десять. Я начал было свыкаться со своим положением, когда меня неожиданно откомандировали в стрелковую роту. Прощаясь, Пахомов долго тряс мне руку.
— Чем другим, не знаю, Ваня, но кашей, пока я жив, ты будешь обеспечен! Заходи, котелок твой всегда наполню…
Попал я во вторую роту, где командиром был прославленный своей храбростью шахтёр Кузьменко. После короткой беседы он приказал выдать мне винтовку, лопату и зачислил в первое отделение.
Начались фронтовые будни. Мы лежали в окопах, вели наблюдение за противником, иногда постреливали. Дважды ходили в атаку, но безрезультатно: оба раза с потерями откатывались назад. Позиция белых была хорошо укреплена.
По вечерам, когда мы отходили в тыл, на отдых, а иногда и днём, прямо в окопах, во время затишья, я, по поручению политрука, читал бойцам газеты, книги. Очень нравились моим товарищам стихи Есенина. Нередко кто-нибудь просил:
— Ты бы, Ваня, прочитал чего из Есенина, — больно хорошо пишет! Прямо за сердце хватает…
И я читал:
Зелёная причёска,
Девическая грудь,
О, тонкая берёзка,
Что загляделась в пруд?
Что шепчет тебе ветер?
О чём звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?..
Я был самым молодым не только в нашем отделении, но и во всей роте. Этим, наверно, и объяснялось любовно-бережное отношение товарищей ко мне. Даже суровый и молчаливый Кузьменко и тот говорил бойцам перед боем: «Смотрите, ребята, поберегите Ванюшу». Вот и берегли: в разведку не посылали, опасных поручений не давали…
Нечего греха таить, я порядком трусил в первые дни. Мне казалось, что каждая вражеская пуля непременно заденет меня, каждый снаряд разорвётся именно надо мной. Постепенно я привык, однако страх остался.
Очень скучал по маме, хотя всячески старался скрывать это от товарищей, боясь, что они высмеют меня. По ночам, свернувшись клубком на сырой земле, укрывшись с головой шинелью, я мысленно переносился в наш дом, вспоминал каждую мелочь, и сердце сжималось от тоски.
Во время третьей по счёту атаки, когда мы, таясь в высокой траве, ползли по-пластунски для внезапного броска, случайная пуля задела мне левую руку выше локтя. Рукав гимнастёрки сразу намок; впрочем, особой боли я не чувствовал. Зажав рану правой рукой, я попытался остановить кровь, но она стала просачиваться между пальцев.
Один из бойцов нашего отделения подполз ко мне, осмотрел рану.
— Пустяковина, — сказал он. — Кость не задета. Залезай вон в ту воронку и лежи. Я поищу санитара, пусть перевяжет.
Санитара долго не было. Руку начало жечь огнём.
Песок возле неё окрасился в красный цвет. Я огляделся: между воронкой, в которой я сидел, и нашими окопами было метров двадцать — двадцать-пять, не больше. Я выполз из своего убежища, короткими перебежками добежал до своих, свалился на дно окопа.
— Марш в санитарную палатку! — приказал командир пулемётного взвода, прикрывавшего атаку.
Пригнув голову, я по ходам сообщения побежал в тыл, к Шурочке. Она встретила меня улыбкой, как старого знакомого.
— Пришёл-таки ко мне!.. Задело бедненького?
Шурочка сняла с меня гимнастёрку и проворно начала обрабатывать рану. Я корчился от боли, на лбу выступил пот.
— Потерпи, миленький, потерпи немного! Скоро боль совсем утихнет. Хочешь, спиртику дам?
От спирта я отказался.
Забинтовав руку, Шурочка повела меня в свою каморку за холщовой занавеской и велела лечь на койку.
— Тут тебе будет спокойно. — Пощупав мой лоб, она вздохнула. — И чего только берут на войну таких зелёных? Другой с этой царапиной в строю остался бы, а у него жар начинается!
Я заснул и спал долго. Проснулся от прикосновения ко лбу чьей-то шершавой ладони. Это был наш командир Кузьменко.
— Я ведь приказал тебе сидеть в окопе! Зачем полез к чёрту на рога? — сказал он так, словно был виноват в моём ранении.
— Разве я не такой же красноармеец, как все?
— Конечно, такой же! Но… видишь, какое дело получилось. — Этот суровый человек с большими, грубыми руками и добрым сердцем не знал, как выразить мне своё сочувствие. Смущаясь, он вытащил из кармана брюк несколько яблок, положил около моей подушки. — Поправляйся, Ванюша! Я к тебе ещё загляну…
Пришёл ко мне и Пахомов с дымящимся котелком.
— Мясного бульона тебе принёс — лучше всякого лекарства силу даёт. Выпей, сразу поправишься. И как это тебя угораздило? — Пахомов кормил меня с ложки, как маленького, а Шурочка стояла рядом и посмеивалась:
— Гляди-ка, как все балуют его, аж завидки берут! Хоть бы меня кто-нибудь так пожалел…
— Тут особая статья, — строго ответил Пахомов.
Ночью Шурочка, не раздеваясь, легла рядом со мной, прижала мою голову к груди.
— Спи, миленький, спи. У тебя сильный жар, даже губы потрескались. Рассказать тебе сказку?
— Расскажи…
— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царевич, молодой, красивый… Словом, вроде тебя…
За занавеской кто-то прохрипел:
— Пить…
Шурочка нагнулась, крепко поцеловала меня в губы и убежала…
Через три дня я вернулся в свою часть и узнал, что и в тот раз наша атака захлебнулась. Бойцам под сильным кинжальным огнём пулемётов белых пришлось откатиться назад.
Командир полка и комиссар требовали точных данных о противнике. Каждую ночь разведчики отправлялись за «языком» и каждый раз возвращались ни с чем. В конце концов они всё-таки приволокли какого-то высокого, тощего солдата.
В землянке, при свете «летучей мыши», Кузьменко допрашивал его, а я вёл запись.
— Из какой части? — грозно спросил командир роты.
— Пехота мы. — Солдат переступал с ноги на ногу и часто-часто моргал. На нём была новенькая английская шинель, но вид он имел жалкий.
— Ты дурака не валяй, всё равно заговоришь. Отвечай по существу! — Кузьменко стукнул кулаком по столу. — Из какой части, кто командир, сколько у вас пушек, пулемётов, где стоит кавалерия, сколько сабель, откуда и когда прибыли?
— Известно откуда — из деревни Большие Выселки!.. Мобилизовали, дён десять в казарме продержали…
— Не об этом я, дурья башка! Про вашу часть спрашиваю, про войска белых, понимаешь? Отвечай по порядку, а то расстрелять велю!
Солдат затрясся.
— За что, господин-товарищ? Разве мы по доброй воле…
— Тьфу, чёрт!.. Дурак или притворяется. Ваня, попробуй ты, — обратился Кузьменко ко мне. — Может, вытянешь из этого сукина сына хоть одно толковое слово.
— Ты не бойся, — начал я мягко. — Мы зла тебе не хотим. Скажи, кто ваш командир?
— Известно кто, офицер…
— Какого звания, как его фамилия?
— Кто его знает. — И опять: — Вы не думайте, господа-товарищи, мы не по доброй воле… Вот святой крест. — Солдат перекрестился.
Зазвонил полевой телефон. По ответам Кузьменко я понял, что говорит комиссар.
— …Какой-то он недоделанный! Целый час бьюсь — слова не могу вытянуть… Есть отправить к вам в штаб!..
Кузьменко вздохнул и, позвав связного, приказал доставить пленного солдата в штаб полка к комиссару.
Через час и мне было приказано явиться туда.
Боевое задание
Штаб полка — ветхий домик за оврагом. Ночь была тёмная, я не без труда нашёл штаб и доложился дежурному.
Через несколько минут меня позвали к комиссару. Я одёрнул гимнастёрку, поправил ремень и, войдя в комнату, чётко отрапортовал:
— По вашему приказанию красноармеец Силин прибыл!
— Здравствуйте, красноармеец Силин! — Комиссар улыбался. — Садись, Ваня. — Он показал на свободную табуретку.
В комнате с земляным полом и низким потолком за столом, на котором лежала карта, сидели Власов, командир полка и пожилой плотный военный с седеющими висками. Его я раньше не встречал.
— Командир полка и товарищ Овсянников хотели кое-что узнать о тебе. Расскажи коротко, — сказал комиссар.
Я начал рассказывать о своей семье, о себе. Командир полка неожиданно перебил меня, спросил по-французски:
— Говорят, ты и музыке учился?
— Да, с четырёх лет… Мама занималась со мной.
— Отлично! А теперь поговорим о другом, — сказал он опять по-французски и кивнул комиссару.
Будь здесь моя мама, она, наверное, поправила бы его произношение, но мне было не до этого.
— Мы вызвали тебя для серьёзного разговора, — обратился ко мне Власов. — Внимательно выслушай товарища Овсянникова, но д ответом не торопись, сперва хорошенько подумай. Дело, которое мы собираемся поручить тебе, сложное, я бы сказал даже — рискованное. Ты имеешь право отказаться.
Тот, которого называли Овсянниковым, подсел ко мне ближе.
— Вот в чём дело, — сказал он. — О противнике мы почти ничего не знаем. Воевать же вслепую — значит зря губить людей и провалить дело. Ты сам знаешь: наши части трижды пытались лобовой атакой смять врага, но безуспешно. А время не ждёт, зима на носу. Нам во что бы то ни стало нужны точные сведения о противнике. Вот мы и решили забросить тебя в тыл к белым. Походишь, посмотришь, что и как. Вернёшься — доложишь… Как думаешь, справишься?
У меня мурашки пошли по телу: одному в тыл к белым!.. Я готов был целую ночь сидеть в секрете, ходить с бойцами в атаку, охотиться за «языком», но-только не в тыл, да ещё одному! Заметив мою нерешительность, комиссар сказал:
— Видишь ли, Иван, мы тут долго советовались, прежде чем послали за тобой. Решили, что ты больше всего подходишь для выполнения такого задания. Образованный, знаешь французский язык, музыку. В случае чего вполне сойдёшь за мальчика из богатой семьи. Можешь придумать историю, будто отец твой был офицером, ушёл на войну, пропал без вести. Мать умерла с горя, и ты остался один. Пришли большевики, дом реквизировали, тебя выгнали на улицу… Такая история белым понравится, они поверят тебе. В рассказ, будто невзначай, вставь несколько французских фраз. Ты будто знаешь, что в Тифлисе живёт дядя, мамин брат, вот и пробираешься к нему… Разумеется, мы не стали бы рисковать, если б не крайняя нужда. Речь идёт о жизни сотен и тысяч твоих товарищей, об успехе нашего дела.
— Раз нужно, сделаю всё, что прикажете, — собравшись с силами, проговорил я.
— Не приказываем, а просим, — поправил комиссар. — А теперь иди, отдохни. Утром поговорим обо всём более подробно.
Спать я устроился в соседнем доме на полу. Спал тревожно, часто просыпался, всё думал о предстоящем деле. Справлюсь? Не попадусь? Мне вспомнилось злобное лицо капитана из ростовской контрразведки. Попадёшь в руки к такому — жизни рад не будешь, он из тебя все жилы вытянет!.. Запросто может расстрелять. А вдруг не сумеешь выбраться обратно, застрянешь у белых? Об этом и думать не хотелось…
Встал на зорьке, распахнул окно. С гор дул свежий ветер. На листьях блестела ночная роса. Перекликались птицы. Но сегодня всё это не радовало меня… Умылся в речушке ледяной водой, привёл себя в порядок и, присев у подоконника, написал маме письмо, в котором изобразил своё чуть ли не райское житьё — пусть не тревожится! Живу я, мол, хорошо, здоров, кормят прекрасно, все товарищи замечательные люди и опасностей никаких…
Вестовой принёс хлеб, полный котелок каши. Я поел и пошёл к товарищу Овсянникову.
— Я приготовил тебе отличный костюм1 — сказал он, улыбаясь, и показал на кучу тряпья, валявшегося в углу. — Сперва поговорим, потом переоденешься. Посмотрим, как ты будешь выглядеть в этом одеянии.
Он усадил меня рядом с собой и начал подробно излагать свой план:
— Разведчики перебросят тебя километров на пять за линию фронта и укажут, куда идти. Будешь выдавать себя за беспризорника. С собой никаких документов, бумаги, карандашей не брать. Вертись около походных кухонь, — голоден, мол, дайте поесть… Общайся с рядовыми — солдат везде солдат, народ сердобольный, пожалеют бездомного Паренька, поделятся пайком. Офицерам и фельдфебелям на глаза не попадайся. Главное — как можно ближе подойти к передовым. Всё, что увидишь, держи в памяти, ничего не пропускай, даже мелочи. Запомни, например, какие номера на погонах у солдат. На сколько рядов тянутся окопы. Имеются ли другие укрепления. Где расположены пулемёты… Особое внимание обрати на артиллерию: где она установлена, какого калибра, сколько стволов. Где стоит кавалерия и сколько. Подозрительных вопросов никому не задавай, только наблюдай!.. Как я уже говорил, ничего не записывай, тем более не рисуй. Разведчики придут за тобой в ночь на вторые сутки и будут ждать в заранее условленном месте. В случае, если не сумеешь вернуться к этому сроку, они придут на следующую ночь. Обстоятельства могут сложиться и так, что тебе придётся выбираться самостоятельно. Если попадёшь в расположение других наших частей, попроси отвести к начальнику особого отдела. Ему, и никому другому, назовёшь условный номер: «Двадцать шесть». Он всё поймёт и поможет тебе добраться до нас. Ещё раз повторяю: кроме начальника особого отдела, никому ни слова!.. Если тебя задержат белые, держись так, словно чёрт тебе не брат, — никакого страха не показывай. Хорошенько запомни историю, которую рассказал тебе комиссар. Добавь к ней ещё кое-какие подробности: родился где-то на севере, где именно — не помнишь, отца перевели в город Ростов-на-Дону, в каких частях он служил — не знаешь… Ты в Ростове в каких-нибудь богатых домах бывал? — вдруг спросил Овсянников.
— Бывал…
— Тем лучше! Назовёшь улицу, расскажешь, что было по соседству. Смотри, чтобы всё было точно! Среди белых может оказаться кто-нибудь из Ростова, он и поймает тебя на пустяке. Сам говори поменьше, — только на вопросы отвечай… Ну-ка, скажи, как звали твоего отца-подполковника?
— Евгений Константинович Ключинский, — назвал я первое, что пришло мне в голову.
— Стало быть, отныне ты Иван Евгеньевич, запомни!.. А мать?
— Маргарита Петровна.
— Сойдёт! Если, паче чаяния, засадят под замок, не рыпайся. Попытаться улизнуть можно только в том случае, если есть полная гарантия успеха. Не то терпи, жди, пока сами не выпустят. Всё понял?
— Вроде всё…
— А теперь примеряй новый костюм!
Костюмом он назвал грязные лохмотья, валявшиеся в углу, — в таких бродили тогда по всей стране беспризорники. Я с отвращением надел давно не стиранную, чёрную от грязи рубаху, натянул брюки из мешковины, рваный, без подкладки пиджак. На одну ногу надел старый, без шнурков ботинок, на другую — тапочку, она оказалась большой, пришлось привязать шпагатом. Нахлобучил на голову засаленную, потерявшую форму кепку и в таком виде повернулся к Овсянникову.
— Отлично! — сказал он. — Вот только у беспризорников не может быть таким чистым лицо. Придётся тебе что-нибудь предпринять… Деревянными ложками стучать умеешь?
— Нет, не приходилось…
— Жаль! Ну, а песни какие блатные знаешь?
— Знаю…
— Спой!
Я запел хриплым, жалобным голосом:
…И никто не узнаить, где могилка моя!..
— Здорово! Молодец! — похвалил меня Овсянников. — Хватит, отдохни теперь. После обеда мы ещё побеседуем. И вот что: из этого дома никуда не выходи. Не надо, чтобы тебя видели в этом костюме, а переодеваться не имеет смысла: времени у нас в обрез. Ночью в путь-дорогу, а тебе нужно хоть немножко освоиться со своей ролью…
Остаток дня прошёл в бесконечных репетициях. Овсянников, изображая контрразведчика, допрашивал меня по всем правилам и со всей строгостью. Он угрожал, уговаривал, пытался ловить на противоречиях. Убедившись, что сбить меня трудно, протянул мне лист бумаги, карандаш и велел нарисовать по памяти всё, что я видел по дороге от окопов до штаба.
— Так, так… А где кусты? Разве ты не видел их вот здесь?
— Зачем кусты-то рисовать?
— Вот тебе и раз!.. На войне, брат, кусты тоже стреляют. Ничего не пропускай: кусты, овраги, ямы, всё запоминай!
В полночь за мной пришли разведчики. Их было трое, все молодые, отчаянные на вид ребята.
Провожать нас вышли комиссар и Овсянников. Они говорили мне какие-то напутственные слова, но я плохо слушал: мысли мои были поглощены предстоящим.
Вот и последние окопы. Часовые пропустили нас беспрепятственно, и мы тихонько поползли по «ничьей» земле. Впереди — старший группы, парень с длинным чубом, торчащим из-под кубанки. За спиной у него был короткий кавалерийский карабин, за поясом бомбы-лимонки и охотничий нож. За ним полз я, а позади, с интервалами в двадцать шагов, как бы прикрывая нас, ещё двое. Кругом темень, тишина…
Мы благополучно миновали секреты белых и вошли в глубокий овраг. Здесь старший остановился и некоторое время прислушивался. Ни единого шороха, словно всё вымерло вокруг. Он подал знак следовать за ним и взял вправо. Начался подъём. Грунт каменистый, ползти было трудно — больно рукам и коленям. Вдруг послышались отчётливые звуки шагов. Мы прижались к земле, замерли. В нескольких метрах от нас показался солдат с винтовкой. Он немного постоял, прислушиваясь, и, не заметив ничего подозрительного, пошёл по направлению к передовой линии. Я облегчённо вздохнул. Первая опасность миновала…
Разведчик в кубанке повёл нас в горы, остановился под скалой, лёг рядом со мной и зашептал:
— Это место называется Верблюжья гора, запомни. Мы будем ждать тебя здесь послезавтра ночью, в три часа. Если что нам помешает и ты нас не найдёшь, иди к оврагу, где останавливались в первый раз. Видишь эту тропинку? Она приведёт тебя прямо туда. Сигнал — трижды крик совы. Знаешь, как совы-то кричат? А теперь — шагай. Через полверсты, за скалой, увидишь деревню. Туда не заходи — собак не пугай. Возьми влево. Ночь проведи где-нибудь в стоге сена, их здесь много. Утром сам сообразишь, куда идти.
Он пожал мне руку и исчез в темноте.
Последняя нить, связывающая меня с нашими, оборвалась. Я остался один во вражеском стане.
Обойдя стороною деревню, я увидел высокий стог сена. Он как утёс чернел в темноте. Только я собрался было залечь в нём, как вдруг почувствовал запах дыма. В лощине, не видный с поля, горел костёр. Вокруг сидело несколько беспризорников. Удачная встреча!.. Подошёл.
— Здорово, братва!
Никто не ответил.
Курносый, рябой парень, приподняв голову, внимательно оглядел меня и спросил:
— Ты откуда взялся?
— На пуховых перинах спал — жарко стало, решил выйти на холодок!
Беспризорники захихикали.
— Садись, коли пришёл, — предложил рябой. Двое посторонились, освобождая мне место у костра.
— Чем промышляешь? — снова спросил рябой.
— Гуляю в своё удовольствие! Проедаю денежки, которые батька оставил на моё имя в банке! — Я отвечал наугад, но, кажется, сошло.
— Ну, чего пристал, Бугай? Видишь, свой парень! — сказал мой сосед, пацан лет четырнадцати.
— А ты помалкивай!.. Все свои, — заворчал Бугай. — Ну ладно!.. Коли хочешь войти в компанию, знай наши порядки: подчиняться атаману, мне то есть, — раз. Из жратвы или барахла что добудешь — всё в общий котёл, — два. Попадёшься — своих не выдавать, с лягавыми не связываться, — иначе пеняй на себя. Понял?
— Понял!..
— То-то!.. Один работал или дружки были?
— Один.
— По какой части?
— Выпрашивал…
— Тю! Самое поганое дело! — Бугай с презрением сплюнул. — Ничего, коли не дурак, мы тебя научим!
На этом допрос закончился.
Щупленький чумазый паренёк продолжал прерванный моим появлением рассказ о своих приключениях:
— В другой раз дело в Новочеркасске было… Вижу, идёт разодетая барынька с серебряным радикулем в руке. «Барыня, говорю, не пожалейте ребёнку десяти рублей». Говорю деликатно, хотя сам второй день не жрамши — в брюхе черти на барабане играют. «Что ты с ума сошёл? Что ты?» — закудахтала барынька. «Дай, говорю, иначе в рожу плюну, у меня сифилис». Она роется, ищет мелочь, а я цап, и готово — вырвал радикуль и ходу!..
— Много было монет? — поинтересовался Бугай.
— Не, рублей семнадцать. И ещё разное барахло: коробочка с пудрой, платок сопливый, пузырёк с духами. Думал, за сумку дадут прилично, а она оказалась поддельная!..
— С разодетыми всегда так: форсу много, а денег ни шиша, — с видом знатока заявил Бугай. — Я у одного буйвола увидел золотую цепочку на животе. Целый час вертелся около, — наловчился, вытащил. Часов нет, а за цепь полтинник дали: медная, сволочь.
— Вот с офицерами дело швах — бьют больно, — вставил другой.
— Офицеры гады, — подтвердил мой сосед.
— Ничего! Скоро Будённый даст им жару, — сказал Бугай.
Незаметно наступил рассвет. Облака, низко нависшие над головой, начали сереть. Послышались голоса птиц, застрекотали кузнечики. Кое-кто из беспризорников растянулся тут же, возле костра, и задремал.
Я страшно устал, хотелось спать. Но заснуть боялся — мало ли что может случиться? Превозмогая сон, думал: как быть дальше?
До сих пор всё шло на редкость гладко. Я только боялся, не помешает ли моя встреча с беспризорниками выполнению задания? Я ведь проник сюда не для того, чтобы научиться, как вырывать «радикули» из рук барынек!..
Не зря мама говорила, что я «везучий». И на этот раз мне повезло. Мой сосед, потягиваясь, сладко зевнул.
— Жрать охота, — сказал он.
— Не мешало бы, — ответил я.
— Хочешь, попытаем фортуну у солдат?
— Дают?
— Когда как… Бывает, дадут, а то и по шее получишь.
— Пошли! — Более подходящего случая не мог предвидеть даже Овсянников.
— Бугай, мы с новичком прогуляемся до солдат, жратву пошукаем, — обратился мой сосед к атаману.
— Валяйте, — сонным голосом откликнулся тот.
Пошли по вспаханному полю. Уже совсем рассвело.
— Как тебя зовут? — спросил мой спутник, когда мы отошли на порядочное расстояние от костра.
— Иваном.
— А меня Миша… Только все меня Телёнком называют.
— Почему же тебе дали такое прозвище?
— За ласковость мою. У меня характер такой: лаской я беру. У одной старухи за будь здоров целый месяц прожил. Не жизнь, а лафа была. Ешь, пей — не хочу. Яичница в масле плавает, в борще жиру с палец толщиной, каша, парное молоко, хлеб пшеничный. Спал на мягких перинах. Потом тягу дал, — от сытой жизни такая тоска взяла, что хоть удавись. Старухе записку оставил: мол, так и так, благодарим за угощение. Можете не сомневаться, я у вас ничего не стащил и своим дружкам не велю вас и пальцем трогать…
— Разве дружки послушаются?
— Ещё как! Ты что, законов наших не знаешь? Братва решит — значит, амба. За нарушение смертным боем забьют.
— У меня был дружок, его Костей звали, — сказал я, чтобы переменить тему разговора.
— Куда ж он делся?
— Не знаю, кажется, к красным подался…
— Я и сам махнул бы к ним! Боюсь, не возьмут. Годы мои малые, да и ростом не вышел. — Телёнок вздохнул.
Вышли к лощине. Там расположилась войсковая часть. Кони, палатки, походные кухни, тачанки. По красным лампасам на шароварах и по высоким шапкам я догадался, что это казаки. А сколько их — полк, бригада, — не мог определить. Думал, подойдём поближе, я на глазок посчитаю лошадей, но Телёнок потянул меня в сторону.
— Ну их, казаков! Они злые как собаки — ничего не дадут, да ещё нагайками огреть могут, — сказал он.
— И что это казаки сюда сунулись, фронт-то далеко? — спросил я, надеясь выведать что-нибудь полезное.
— От красных прячутся!
— А много их?
— Целый полк! Вот там, — Телёнок показал рукой на юг, — в трёх верстах, ещё одна кавалерийская часть стоит… Вань, ты броневики видел?
— Нет!..
— Хочешь, покажу?
— Далеко?
— Совсем рядом! — Телёнок зашагал по высохшему руслу речки.
Показалась зелёная полянка, обнесённая изгородью из прутьев. У прохода стоял часовой. В конце полянки белела палатка, рядом громоздились бочки, ящики. Подальше, под скалой, стояло три броневика, выкрашенных в защитный цвет. Издали они казались игрушечными. Если бы не резиновые колёса и не стволы пулемётов, их можно было принять за ящики, в которых развозят хлеб.
Часовой преградил нам путь:
— Куда?!
— Дяденька, хлебца, — жалобно заныл Телёнок.
— Проходите!
Из палатки вышел человек в синем комбинезоне.
— Что там у тебя, Карасёв?
— Оборванцы тут, хлеба просят, — ответил часовой.
— Погоди! — Человек в комбинезоне вернулся в палатку и вынес нам полбуханки хлеба, коробку мясных консервов и два куска сахара.
— Спасибо, дяденька! — пропел Телёнок.
— Ладно, а теперь убирайтесь!
Отойдя шагов пятьдесят, мой напарник остановился и испытующе посмотрел на меня.
— Консервы съедим, а хлеб и сахар ребятам отнесём, — предложил я, поняв его мысль.
День складывался для меня удачно. Я узнал, где расположилась белая кавалерия, видел три броневика, о существовании которых наши и не подозревали. Если бы мне удалось подойти к передовым линиям и узнать расположение окопов, укреплений и артиллерийские позиции, я считал бы свою задачу выполненной. Но как подойти?
— Хлеба этого ребятам на один зуб, — сказал я Телёнку, когда мы расправились с консервами. — Давай попробуем ещё достать?
— Давай! — с готовностью согласился он.
Пошли по высохшему руслу ручья. Чем ближе к передовым, тем больше встречалось людей — одиноких солдат, ездовых. Попадались подводы, гружённые продовольствием и боеприпасами. На нас никто не обращал внимания.
Добрались до какого-то лагеря. У сколоченных на скорую руку длинных складских помещений, похожих на железнодорожные пакгаузы, суетились солдаты — грузили и разгружали подводы. Подошли к складу, — к нему только что привезли тёплые, пахучие буханки хлеба.
— Дяденька!.. Мы голодные… дайте хлебца, — начал Телёнок.
На беду, из склада вышел офицер.
— Это ещё что за явление? — крикнул он, указывая на нас.
— Говорят, голодные, — ответил солдат на подводе.
— Гони их в шею! — приказал офицер, повернулся и ушёл.
Солдат подмигнул нам и бросил буханку. Я поймал её на лету и сунул в бездонную торбу Телёнка.
— Пошли, — заторопился он.
Мне очень хотелось ещё побродить в этих местах, подойти как можно ближе к передовой. Но пришлось возвращаться обратно: Телёнок был смышлёным пареньком, — достаточно одной моей неосторожной фразы, чтобы он начал подозревать меня.
Беспризорники кипятили в большой закопчённой кастрюле воду и с нетерпением ждали нашего возвращения. Бугай молча взял у Телёнка хлеб, разделил его на восемь равных частей, достал коробочку с сахарином и дал каждому из нас по таблетке. Два куска сахара он спрятал себе в карман. К моему удивлению, никто не роптал. Мы съели хлеб. Потом из двух жестяных кружек по очереди пили сладкий кипяток.
Атаман встал, потянулся.
— Скучно здесь! — сказал он. — Айда на работу. Запасёмся жратвой на дорогу и — в город… Тюфяк, ты с Гвоздём пошукаешь в деревне, — может, попадётся чего из барахла — полушубки овчинные, шапки-ушанки, сапоги какие. Скоро зима, пригодятся. Да и на толкучке можно загнать, — цену дадут стоящую. Ты, Косой и Артемка промышляйте по части живности: куры, утки, индюшки. Давно мясного не ели!.. Телёнок пойдёт с новичком. Доставайте у солдат побольше хлеба. Соберёмся здесь, как стемнеет, покимаем и — ходу!..
Беспризорники послушно поднялись и разошлись. Ушёл и Бугай со своим напарником. Мы с Телёнком остались вдвоём.
Я был в нерешительности: идти с Телёнком или как-нибудь отделаться от него? Конечно, вдвоём было удобнее. Но пойдёт ли Телёнок, куда я захочу? Вот если бы сагитировать его, но я понимал, что это слишком рискованно. Решил до вечера побыть с ним, а к ночи улизнуть. В моём распоряжении был ещё целый день.
Ходить по местам, где мы побывали утром, не было смысла — нас просто прогнали бы. Это понимал и Телёнок. Он сам предложил выбрать новый маршрут. Мы взяли левее и попали на ту тропинку, по которой я добирался сюда ночью. Вот и Верблюжья гора. У меня от радости забилось сердце. Ещё день — и под той скалой я встречусь со своими!..
Расчёт Овсянникова оправдался полностью. На нас, оборванцев, никто не обращал внимания. Иногда прогоняли, иногда кормили, давали хлеб, сухари и даже сахар. Скучающие от безделья артиллеристы долго расспрашивали: откуда мы, куда путь держим, есть ли у нас родители? Пока Телёнок рассказывал им всякие небылицы, я считал количество стволов.
Орудия были хорошо замаскированы — в тридцати шагах их трудно было отличить от окружающих скал и кустарников. С артиллерийских позиций были видны три ряда окопов, соединённых между собой ходами сообщения.
Моё внимание привлекло одно странное обстоятельство: к передовым позициям беспрерывно подъезжали подводы, гружённые боеприпасами. Обратно они возвращались порожняком. Но ведь ни боёв, ни даже перестрелок не было. Белые к чему-то готовились…
В самый разгар нашей беседы с артиллеристами неожиданно подъехал на коне полковник в сопровождении двух офицеров и солдата. Увидев нас, он остановил коня.
— Где ваш офицер? — спросил он у вытянувшихся перед ним солдат.
— Поручик Никольский уехали в штаб, — ответил высокий артиллерист с двумя нашивками на погонах.
— А эти как попали сюда? — полковник хлыстом указал на нас.
— Сами пришли…
— Разумеется, сами, не с неба же свалились! — Он обратился к сопровождающему его пожилому офицеру: — Видите, капитан, что творится? В двух шагах от передовой свободно разгуливают переодетые большевистские лазутчики, а наши доблестные воины, вместо того чтобы задержать их и немедленно отправить в штаб, делятся с ними пайком… Взять немедленно!
Молодой офицер и солдат спешились, подошли к нам.
— Дяденька, вы зря на нас думаете! Мы мирные!.. Хлебушка собираем на дорогу, — захныкал Телёнок.
— Молчать! — грозно прикрикнул молодой офицер и указал на землянку: — Марш сюда!
— Обыскать и допросить, — сказал полковник по-французски.
Неужели попался? Страха я не чувствовал, — не расстреляют же нас без всяких причин. Но задержать могли, а это хуже всего.
Нас втолкнули в полутёмную, пахнувшую сыростью землянку. Солдат с карабином встал у дверей. Я шепнул Телёнку:
— Не говори, если спросят, что мы встретились недавно. Сюда пришли вместе потому, что слыхали, будто около солдат кормиться легче…
В ответ он хитровато подмигнул нечего, мол, учить, сам знаю. Вошёл офицер.
— Ну-с, господа путешественники, покажите, что у вас есть?
Телёнок молча вытащил из сумки хлеб, сухари, несколько кусков сахара, разложил всё это на столе перед офицером.
— А ещё что?
— Ничего больше нет, — ответил Телёнок.
— Обыскать!
Стоявший у дверей солдат подошёл, пошарил по нашим карманам и протянул офицеру нож Телёнка.
— Больше ничего нет, ваше благородие!
— Рассказывайте по очереди, откуда, куда держите путь, и главное, что делали здесь? Только правду. — Офицер повысил голос. — Предупреждаю, солжёте — расстреляем!
— Из Таганрога я, батька ушёл на фронт, не вернулся… Мамка померла, остался один… Мы вольные, — куда хотим, туда и идём!..
Пока говорил Телёнок, я обдумывал свой ответ.
— Родился в Ростове-на-Дону… Сирота… Знаю, что в Тифлисе живёт брат мамы… Пробираюсь туда, — сказал я, когда офицер обратился ко мне.
— Да… Хорошо выучили урок, отлично!.. А теперь не скажешь ли, почему выбрали для ваших увеселительных прогулок именно прифронтовую полосу, и в частности расположение артиллерии?
— Около солдат кормиться легче, — они добрые, хлеб дают, — сказал я.
— Опытный комиссар вас проинструктировал! Как его фамилия?
— Кого?
— Не понимаешь? Ничего, поставят вас к стенке как большевистских шпионов, тогда поймёте!
— Вы нас не пужайте, господин офицер. Мы давно напужанные. — Телёнок дерзко посмотрел на офицера.
— Молчать! — рявкнул тот и опять обратился ко мне: — Вижу, ты разумный парень. Расскажи мне всю правду. В награду получишь хорошую одежду и двести рублей денег.
— Мне бы хоть пару ботинок, ходить больно, — я показал на свои ноги.
— Дадим тебе настоящие английские ботинки, им сносу нет. Итак, рассказывай.
— О чём, господин офицер?
— Кто вас подослал, с какой целью?
— Я же говорил, мы сами по себе.
— Врёшь!
— Зачем мне врать? Нас никто не предупредил, что сюда нельзя…
— Что ж, раз вы не цените хорошего отношения, чёрт с вами! Отправим в контрразведку, там заговорите, голубчики, заставят, — офицер повернулся и вышел.
Мы с Телёнком переглянулись: первая гроза миновала. Когда совсем стемнело, к нам в землянку вошёл солдат. Он молча зажёг коптилку, поставил на стол два котелка с дымящимися щами, положил большой кусок хлеба и ложки.
— Вот это жизнь! — воскликнул Телёнок. — Как в ресторане, — шамовку доставать не нужно, сами подают! — Он потянул к себе котелок и с жадностью стал хлебать щи.
Мне есть не хотелось. В голову лезли мрачные мысли. Завтра ночью наши придут в назначенное место, будут ждать меня. Не дождавшись, вернутся обратно. Потеряв связь со своими, я надолго застряну у белых. Комиссар решит: «Подвёл нас Ваня, не сумел выполнить задание!..» Убежать? По дороге в контрразведку убегу, решил я. А там будь что будет!.. Голос Телёнка вывел меня из этих размышлений.
— Ты поешь и не бойся! Выкрутимся, вот увидишь…
Я заставил себя проглотить несколько ложек щей и лёг на земляной пол. Телёнок растянулся рядом.
— Оно конечно, хорошо жить на готовых харчах, но страсть как не люблю сидеть взаперти!.. У старухи на что лафа была, и то не выдержал, — говорил он задумчиво. — А однажды со второго этажа сиганул. Дело было в Грозном, — облавку устроили, ну и посадили нас, беспризорников, в участок. День сидим, второй сидим — тоска заела. Мы с корешом залезли на окно и со второго этажа — р-раз! И — ходу! Ногу малость повредил. Месяц целый хромал — ничего, обошлось…
Лёжа рядом, мы тихо разговаривали. Телёнок рассказывал про своё детство, как жил у самого моря, помогал отцу рыбачить. Потом отца забрали на войну…
— Мамка пошла раз со стариками сети тянуть, простудилась, слегла и через три дня померла. Взяла меня к себе тётка, мамкина сестра, злющая-презлющая, каждым куском попрекала, дармоедом называла. Рассердился я, ушёл от неё. Про папку ничего не знаю, — пропал он у нас ещё в первый год войны, не пишет. Может, в плен попал, вернётся ещё. — Телёнок вздохнул и умолк.
Незаметно заснули, прижавшись друг к другу. Утром солдат вывел нас на прогулку, дал воды умыться, принёс еду и опять оставил одних. Меня охватило уныние. Лучше бы уж повели в контрразведку, — может, по дороге удалось бы убежать…
После обеда в землянку вошёл новый офицер. Он был молод, высокого роста, в очках. По двум золотым пушкам на его погонах я догадался, что это и есть тот самый поручик Никольский, про которого спрашивал полковник.
— Здравствуйте, орлы! — весело поздоровался он с нами и сел на табуретку. — Как отдохнули?
— Ничего… — Телёнок поднялся с земли. Офицер достал из серебряного портсигара папиросу, закурил.
— Давно пожаловали в наши края?
— Вчера… На хуторе помогали кукурузу убирать, за это нас кормили. Работа кончилась — прогнали. Решили добыть на дорогу хлеба — и обратно в город, — уверенно говорил Телёнок.
— Чем же думаете в городе промышлять?
— Известное дело, чем бог пошлёт…
— Воровать, значит?
— Зачем воровать? Мы этим не занимаемся. Где дадут…
Офицер со смехом перебил Телёнка:
— Где и сами возьмём!
— Бывает… Не с голоду же подыхать…
— Всё ясно! Блохин, накормите пацанов, дайте им буханку хлеба и отпустите на все четыре стороны, — обратился поручик к солдату с нашивками.
— Приказано отправить их в штаб и сдать контрразведке, — ответил тот.
— Выполняйте мой приказ! Они и без того достаточно намытарились. Нашему полковнику везде шпионы да лазутчики мерещатся. По-моему, он не доверяет даже собственной жене. — Офицер встал. — Поешьте и поскорее убирайтесь, иначе нарвётесь на неприятности…
Я ликовал в душе — не ждал, что так легко отделаемся!
И вот мы снова шли полем. Я всё думал, как бы уйти от Телёнка, не вызывая подозрений. Он оказался догадливее, чем я предполагал.
— Когда ты попросил у офицера ботинки, я хотел дать тебе по морде, — вдруг заговорил он.
— За что?
— Думал, продажный ты, сболтнёшь лишнее…
— Что же, по-твоему, я мог сболтнуть? У меня ведь секретов никаких нет!
— Ладно, это не моё дело… Как мы решим: пойдёшь со мной или останешься?
— Не знаю…
— Хочешь, иди своей дорогой. Я братве скажу, что тебя задержали.
— Пожалуй, так будет лучше…
— Ну, будь здоров! Желаю тебе хорошей фортуны…
— Спасибо, Миша! Ты настоящий парень, мы с тобой ещё встретимся!
— Может, и встретимся. — Телёнок достал из сумки буханку, отломил большой кусок, протянул мне и, не сказав больше ни слова и не оглядываясь, зашагал к своими.
Мне стало жаль его. Парню снова предстояло скитаться по белу свету в поисках куска хлеба. Что-то ждёт его? Скажи я ему слово, и он с готовностью пошёл бы к нам, — я в этом был почти убеждён. Но в данных обстоятельствах «почти» было мало. В тот день я колебался, но потом на опыте убедился, что поступил правильно. Разведчику нельзя давать волю чувствам, иначе он погубит себя и провалит дело. Враги ведь тоже не простачки!
Долго размышлять было некогда: нужно было спрятаться и дождаться ночи. Недолго думая, забрался в стог сена, замаскировался и вскоре заснул. Проснулся от страшного зуда — блохи! Высунул голову и ахнул: на небе уже мерцали звёзды.
Вылез из своего тайника и пошёл к Верблюжьей горе. Примерно через час был на месте. Залёг между скал, затаился.
Время тянулось нестерпимо медленно, и, чтобы хоть чем-нибудь занять себя, я стал спрягать сложные французские глаголы. Вспомнил маму, наш чистенький домик, свою кровать за ширмой, этажерку с книгами. Сейчас всё это казалось далёким сном…
Небо затянуло облаками, поднялся ветер, луна скрылась. Это хорошо, — в темноте нам легче будет добраться до своих.
Наконец раздался троекратный крик совы и еле уловимый шорох. От радости у меня сильнее забилось сердце. Наши!..
— Ванюша, ты здесь? — От неожиданности я вздрогнул. Рядом со мной лежал разведчик, парень с длинным чубом.
— Здесь! Я давно вас дожидаюсь.
— Пошли!..
На этот раз их было двое.
Минут сорок, может быть час, мы ползли никем не замеченные. В ту войну не было осветительных ракет, а о мощных прожекторах и понятия не имели. Добрались до «ничейной» земли и вздохнули, — отсюда до наших окопов рукой подать, метров пятьдесят, не больше. Вдруг выглянула луна, стало светло как днём. Произошло это так неожиданно, что мы инстинктивно прижались к земле, замерли. Положение наше осложнялось ещё тем, что кругом не было ни кустов, ни ям — всё как на ладони. Наблюдатели белых, если, конечно, они не спали, легко заметили бы нас.
Ветер гнал облака на запад. Небо совсем очистилось, и луна, словно нам назло, залила ярким безжизненным светом всю долину. Время шло. Оставаться дольше на этой ничем не прикрытой местности становилось опасным.
Старший подал сигнал двигаться. Но не успели мы проползти и десяти метров, как застрекотали пулемёты. Пули со свистом ложились совсем близко. Мы снова замерли.
Заговорили и наши пулемёты. Завязалась перестрелка.
— Попробуем короткими перебежками, — громко сказал старший. — Федя, пошли!
Разведчик, лежавший метрах в пяти от меня, не отозвался. Старший подполз ко мне.
— В чём дело, почему не побежали? Я показал на Фёдора.
— Федя, а Федя?
Никакого ответа. Старший сказал:
— Придётся тебе одному… Я Фёдора подберу, — видать, ранило его. Как смолкнет пулемёт, пробеги метров пять и ложись. Смотри во время стрельбы не двигайся!..
Как я перебежал это короткое расстояние, показавшееся мне бесконечным, не знаю. Помню только, что, свалившись в первый попавшийся окоп, долго не мог выговорить ни слова. Через несколько минут спрыгнул в окоп и старшина. Лицо и руки его были в крови. Он нёс на себе Фёдора.
— Что, Вася, зацепило? — спросил пожилой боец, и я наконец узнал, как зовут моего чубатого спутника.
— Нет, ничего. Фёдора, кажись, убило!..
Пожилой боец расстегнул Фёдору гимнастёрку, послушал сердце и сказал:
— Готов…
Присутствующие красноармейцы обнажили головы. Вася сидел на дне окопа, жадно затягивался табачным дымом. Потом, как бы отвечая на свои мысли, вслух произнёс:
— Ничего, гады! Вы у меня за Федю ещё получите. — Он поднялся. — Пошли в штаб.
В штабе нас ждали. Комиссар вышел навстречу. Выслушав доклад разведчика, он поблагодарил его за успешное выполнение задания, сказал, что похоронят Фёдора завтра с воинскими почестями, и, отпустив Васю, повёл меня в комнату. Там сидели командир полка и Овсянников.
— Рассказывай о своих приключениях! — Овсянников хлопнул меня по плечу.
Я передал все подробности встречи с беспризорниками, рассказал, как мы были задержаны с Мишей Телёнком.
Потом попросил лист бумаги, карандаш, сел за стол и сперва нарисовал «ничью» землю, отделяющую наши позиции от белых, начертил три ряда окопов, соединённых между собой ходами сообщений, кружками обвёл места примерной стоянки кавалерийских частей, нарисовал склад и позиции артиллеристов, рассказал, как они замаскированы, и под конец добавил, что под скалой стоят три броневика.
— Какие ещё броневики? — командир полка так заинтересовался моим сообщением, что даже привстал и нагнулся над моим рисунком.
Я объяснил и сказал:
— По-моему, белые к чему-то готовятся. Они всё время подвозят к передовым боеприпасы. Подводы возвращаются оттуда порожняком.
Мои собеседники переглянулись, но промолчали.
Мне задавали бесчисленные вопросы, даже о внешности задержавшего нас полковника спросили. Я отвечал как мог. По оживлённым, улыбающимся лицам комиссара, командира и Овсянникова я понял, что они остались довольны.
— Молодец, Иван! Ты сообразительный парень. Запомни мои слова — быть тебе разведчиком, — сказал Овсянников.
А комиссар расстегнул ремень и протянул мне наган с кобурой.
— Спасибо, ты хорошо выполнил задание! Дарю тебе револьвер. Носи его с честью! — Комиссар нагнулся и неожиданно поцеловал меня. — Иди переоденься и хорошенько отдохни. Скажешь политруку, что я даю тебе отпуск на три дня.
Я был так рад подарку, что забыл поблагодарить комиссара. Схватив наган, побежал в соседний дом, где оставил своё обмундирование, переоделся и пошёл к себе в часть.
Радости и беды
По ночам к расположению нашего полка подтягивали артиллерию с других участков фронта, подвозили боеприпасы. Пушек было не так много, но по тем временам и три-четыре батареи считались грозной силой.
На третьи сутки после моего возвращения, на рассвете, артиллеристы открыли ураганный огонь по окопам белых. Когда огонь перенесли вглубь, чтобы подавить тылы, поднялась пехота. С криком «Смерть белым гадам!» мы выскочили из окопов, бросились вперёд. Белые, основательно потрёпанные артиллерийским налётом, не выдержали натиска и дрогнули.
Пробегая вдоль цепи, я увидел около пулемёта Костю Волчка и помахал ему винтовкой. Костя что-то крикнул в ответ, но из-за шума я не расслышал. Мы заняли первые ряды окопов, взяли пленных и готовились к новому броску, как вдруг показались казаки. Крутя шашками над головой, подбадривая себя дикими криками, они скакали прямо на нас. Наше командование предвидело этот манёвр и заранее подготовилось к нему, разместив на предполагаемых местах атаки кавалерию и пулемёты.
Пули в упор косили всадников и коней. Оставив много убитых и раненых, казаки повернули обратно.
Воспользовавшись замешательством противника, не давая ему опомниться, наши части сделали ещё один бросок и заняли вторые и третьи линии окопов. Отступление белых превратилось в паническое бегство.
Преследуя врага, наша рота подходила к тем складам, где три дня назад солдат бросил мне и Телёнку буханку хлеба. Растерявшиеся белые не успели поджечь склады.
Политрук с наганом в руке бежал впереди и кричал:
— Жми, ребята, жми! Надо захватить склады — в них продовольствие, боеприпасы!
И вдруг показались броневики. Стреляя на ходу, они медленно двигались нам навстречу и преградили путь к складам.
Бойцы залегли. Винтовочные пули не причиняли никакого вреда броневикам. Они подходили к нам всё ближе, ближе. Кое-кто из бойцов не выдержал, попятился назад. Наше наступление на этом участке приостановилось.
И тогда из рядов вышел вперёд боец со связкой гранат в правой руке. По чубу волос, выбившемуся из-под чёрной его кубанки, я узнал разведчика Васю. Прижавшись к земле, он полз наперерез броневикам. Затаив дыхание, мы следили за его быстрыми, ловкими движениями. Он был в пятнадцати шагах от первого броневика, когда кто-то не выдержал и крикнул:
— Васька, хватит! Бросай!..
Но разведчик не обратил внимания на крик, а может быть, не услышал его. Он продолжал ползти. Приблизившись к первому броневику, он приподнялся и швырнул связку гранат прямо под колёса. Раздался взрыв, броневик, окутавшись дымом, повалился набок.
Бойцы, наблюдавшие за единоборством человека с машиной, огрызающейся огнём, в едином порыве закричали «ура». Забыв об опасности, поднялись и бросились вперёд. Вскоре подбили ещё один броневик, а третий трусливо повернул назад.
Охрана складов бежала, и мы без боя захватили большие и очень нужные нам трофеи. Чего только не было в этих
забитых до отказа бревенчатых коробках! Сгущённое молоко, белая мука, крупа, консервы, табак, даже вино. В вещевых складах — новенькие английские шинели, ботинки, подбитые гвоздями, обмотки, бельё. В складах за проволочным заграждением — штабеля снарядов, винтовки, ящики с патронами и гранатами. Словом, несметные богатства! К вечеру бой стих…
Я уже говорил, что наш полк назывался горнострелковым. Соответственно этому названию нас перебросили для преследования врага в горах.
В последующие дни крупных боёв не было — только мелкие стычки. Бывало, снимем боевое охранение белых в ущельях или других труднопроходимых местах и снова двигаемся вперёд. Одно плохо: по ночам в горах было холодно, и мы мёрзли. Обозы тоже не успевали за нами, — дорог никаких, узкие тропинки, а на лошадях много не подвезёшь. Часто приходилось довольствоваться чёрными сухарями. Зато настроение у всех было приподнятое: впереди Кавказ, с его теплом, богатыми садами. А там, глядишь, и войне конец!..
На стоянках я по-прежнему читал бойцам газеты и книги. Порой мне казалось, что мои товарищи гордились мной. Слух о моём пребывании в тылу у белых распространился среди бойцов, а наган, полученный от комиссара, свидетельствовал, что побывал я там не зря.
Как-то вечером, у костра, я рассказывал бойцам о французской революции. Подошёл комиссар, все вскочили.
— Садитесь, садитесь, товарищи! Послушаем Силина, — сказал он и сел рядом со мной.
— Всем, кто шёл против революции, особенно был ненавистен друг народа Марат, — продолжал я пересказывать книжку, которую дал мне политрук. — Вот они и подослали к нему одну девицу, звали её Шарлотта. И она заколола Марата в ванне…
— Вот стерва! — воскликнул комиссар нашего отделения, бывший шахтёр Акимов. — Что же, у них Чека не было? За одной девкой не смогли уследить!
— Дело, конечно, не в одной Шарлотте Кордэ, — вмешался комиссар. — Монархисты организовали заговор, а у революционеров не было опыта, они не знали, как бороться с врагами.
Так завязался разговор. Комиссар наш много знал и рассказал немало интересных эпизодов из эпохи французской революции.
Уходя, он позвал меня и, когда мы отошли от костра, спросил:
— Скажи, Силин, ты никогда не думал о вступлении в партию?
Это было неожиданно, — и я не знал, что и ответить.
Между тем комиссар продолжал:
— Отец твой был большевиком. Сам ты — рабочий, хорошо воюешь. Кого же принимать, как не таких, как ты!
— А дед?.. Вы же знаете, он настоящий буржуй…
— Но ведь ты с ним не жил!
— Вступить в партию… Не знаю, — растерянно сказал я. — Это было бы для меня счастьем… А кто захочет поручиться за меня?..
— Поручимся за тебя я, Акимов или Кузьменко. Думаю, товарищ Овсянников тоже не откажет. Вот анкета, — заполняй, напиши заявление, краткую автобиографию и принеси мне. Об остальном позабочусь я. В анкете не было трудных вопросов, и я легко заполнил её. Автобиографию тоже написал — жалел только, что получилась она очень уж короткой. А вот над заявлением долго корпел — никак не мог найти нужных слов. Слова попадались всё простые, будничные, а мне хотелось найти такие, которые хотя бы в известной мере выражали моё волнение, радость, гордость… Пошёл к Акимову за советом.
— Заявление написать? Бери бумагу, пиши, — он начал диктовать: — «Я, боец второй роты, первого батальона горно-стрелкового полка Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Иван Силин, желая бороться за полную и окончательную победу мировой революции, прошу принять меня в ряды РКП(б)»… Написал?
— Написал.
— Добавь ещё: «Смерть буржуазии! Да здравствует мировая революция и наш вождь Ленин!»
Так я и написал.
Во время очередного привала в горах состоялось открытое партийное собрание. Кроме коммунистов пришло много беспартийных бойцов. Обсуждали и моё заявление. Вначале всё шло гладко, но, когда я рассказал о своём деде-буржуе, получилась заминка. В роте был у нас один красноармеец, Чижом его звали, зловредный такой, всем-то он был недоволен, всё критиковал. Он поднялся и заявил:
— Товарищи, что это у нас получается! Мне, потомственному пролетарию, отказывают, а буржуйских родичей в партию принимают. Я против!
— Тоже мне потомственный пролетарий нашёлся, — обрезал его Акимов. — Два года с анархистами путался!..
Слово взял политрук роты:
— Факт, что наша партия классовая, — чужакам и примазавшимся элементам двери в неё закрыты. Только Силин не чужой. С дедом-буржуем не жил — раз; хлеб его, добытый эксплуатацией, не ел — два; и три — он свою преданность революции доказал делом, добровольцем пришёл к нам и хорошо воюет.
— Молод ещё! — крикнул кто-то с места.
— Хорошенькое дело, воевать не молод, а в партию вступать молод! Нескладно получается. Я предлагаю голосовать, — сказал наш командир Кузьменко.
Все коммунисты голосовали «за».
Отныне я принадлежал той партии, в рядах которой боролся мой отец. Можно ли было ожидать большего счастья! Будь жив отец, он, без сомнения, сказал бы: «Молодец, сынок». Я был так взволнован, что не знал, как унять нахлынувшие на меня чувства. Ушёл в горы, долго карабкался по кручам, долго сидел на скале в полном одиночестве, мысленно беседуя с отцом…
Наконец-то мы спустились с гор в долину и заняли большой город. Первые дни обстановка в нём была более чем сложная. Белогвардейцы, не успевшие удрать, творили всякие бесчинства: убивали ходивших в одиночку красноармейцев и командиров, поджигали продовольственные склады. Бандиты, воспользовавшись общей неразберихой, грабили магазины, лавки. Кем-то была взорвана водокачка. Школы и больницы не работали. По ночам город погружался в темноту. Хлеба не хватало. Около походных кухонь с утра толпились голодные.
Был организован ревком. На фасаде большого здания на одной из главных улиц появилась вывеска «Городской комитет РКП(б)».
Ревком ввёл осадное положение. После восьми часов вечера хождение по улицам воспрещалось. На стенах расклеили первый декрет ревкома, предлагавший населению сдать оружие и предупреждавший бандитов, что они будут расстреливаться на месте. Однако порядок восстановить не удалось, грабежи и убийства продолжались.
Меня и Акимова вызвал к себе комиссар.
— Вы, как коммунисты, временно командируетесь в распоряжение Чека, — сказал он. — Помогите чекистам ликвидировать контрреволюционные заговоры, саботаж и бандитизм. Действуйте решительно, но с умом — умейте отличать врагов от друзей. Мы сюда пришли не на один день, — вот нам и нужно освободиться от всей нечисти!
Пошли мы в Чека, к председателю товарищу Васину.
Средних лет человек, с усталым лицом, опухшими от бессонницы глазами, прочитав направление, выданное нам комиссаром, пытливо оглядел нас, усмехнулся. Вид у нас был неважный. Оборванные, грязные, словно только что вышли из кочегарки. В горах, около ночных костров, обмундирование наше основательно потрепалось. Хуже всего было с сапогами. Ботинки, в которых я ушёл из дома, давно износились. Я получил сапоги, но скоро подошвы отлетели, и мне пришлось подвязать их бечёвками, — фактически я ходил босиком. Но главное — нас мучили вши, от них не было никакого спасения. Раз в неделю ходили в камеры, раздевались догола, всю одежду отдавали дезинфицировать, а через день проклятые вши опять заводились, и всё тело начинало зудеть от их укусов.
— Рад вашему приходу, садитесь, — сказал товарищ Васин и показал на кожаные кресла, стоявшие перед его письменным столом. — Людей у меня совсем мало, а работы хоть отбавляй. Белогвардейцы давно свили гнездо в этом городе — целых два года отсиживались — и, удирая, оставили хорошо законспирированную организацию. Теперь они стараются гадить нам, чем только могут. Бандиты и грабители заодно с ними. Мало этого, ещё дашнаки-меньшевики и эсеры шевелятся. Скоро, конечно, мы всех их скрутим, они и пикнуть не посмеют!.. На сегодня вам задание. Возьмите с собой двух красноармейцев, садитесь в фаэтон и поезжайте по городу, — будете следить за порядком. Держитесь поближе к базару. Увидите, где бандиты грабят, задерживайте их. Будут сопротивляться — расстреливайте на месте!.. Вечером старший комендант даст вам ордера на арест, — тут мы нащупали несколько главарей, нужно изъять их. При обыске ищите оружие, золото. Задержанных доставите сюда. Вопросы есть?
Мы молча переглянулись. О чём тут спрашивать? Нужно идти — выполнять приказ. Мы встали.
— Нам бы помыться, — смущённо проговорил Акимов.
— Да, помыться вам необходимо! — согласился Васин. — Но придётся потерпеть. Свою душевую сооружаем — завтра-послезавтра будет готова. Тогда и помоетесь… В общежитии вам дадут койки. Паёк тоже получите.
Мы вышли. На улице, у дверей Чека, день и ночь дежурили по наряду городские извозчики. Взяв с собой выделенных комендантом красноармейцев, мы сели в первый попавшийся фаэтон и поехали по городу.
— Хороша работёнка!.. Целый день катайся на извозчике и получай паёк, — пошутил Акимов.
На улицах мы ничего особенного не заметили и только к вечеру, когда уже собрались возвращаться, увидели какую-то подозрительную возню около мануфактурного магазина. Подъехали. Два не внушающих доверия парня торопливо грузили на подводу мануфактуру.
Акимов велел извозчику остановиться. Мы вышли из фаэтона.
— Что тут происходит? — грозно спросил Акимов.
— Ты что за цаца? — Один из парней, с перебитым носом и наглым лицом, не торопясь, подошёл к Акимову.
Подозревая неладное, я направил на него наган.
— Руки вверх, стрелять буду!
— Полегче! — Он быстро сунул руку в карман.
Акимов вовремя заметил это и, не давая бандиту выхватить оружие, ударом кулака свалил его на мостовую. Второй попытался удрать и, убегая, крикнул:
— Сенька, полундра! Чекисты!..
Акимов выстрелил, и тот растянулся на земле.
Бандита, лежавшего у ног Акимова, красноармейцы обыскали, забрали у него кольт, нож, связали руки и вместе с раненым посадили в фаэтон. Мы с Акимовым вошли в магазин. Никого. Чёрный ход, ведущий в узенький дворик, открыт настежь. Остальные грабители успели скрыться.
Разгрузили подводу. Всю мануфактуру внесли обратно в магазин — и стали в тупик: что делать? Замки на дверях сломаны, вокруг ни души.
Акимов разыскал дворника и велел ему заколотить двери магазина досками. Дворник заколебался.
— Давай, давай быстро! И чтобы без разговоров у меня!.. — Акимов поднёс к носу дворника кулак. — Всю ночь дежурить будешь. Пропадёт хоть метр ситца — кишки выпущу! Понял?
— Хорошенькое дело! Что же мне, с бандитами воевать? — дворник пожал плечами.
— Служил ты верой-правдой хозяину, послужи немного и народу, ничего с тобой не сделается.
Вернулись в Чека, сдали арестованных бандитов коменданту, составили подробный акт о происшедшем. Закусили на скорую руку и, получив ордера на арест, поехали по указанным адресам…
Так началась наша работа в Чека.
Последующие дни спали урывками. По ночам я ходил с Акимовым на операции, днём допрашивал задержанных по подозрению — серьёзных дел мне пока не поручали. Составлял протоколы допроса, писал короткие заключения: «Освободить» или «Провести дополнительное следствие».
Среди допрашиваемых мною оказался благообразного вида старичок с седой, коротко остриженной головой. Когда красноармеец ввёл его ко мне в комнату, я поморщился: нашли кого задержать! Александру Николаевичу Золотарёву, по его словам, было 62 года, женат, детей не имеет. По социальному происхождению — мещанин, по специальности — инженер-механик, служил в сапёрных частях в чине капитана. В политических партиях не состоял. Верующий.
Я заглянул в список задержанных и, не найдя против фамилии Золотарёва особых отметок, спросил его:
— За что вас задержали?
— Вам виднее… Впрочем, в наши дни беззакония человеческая личность подобна червяку: раз — и задавили. — Он поднял голову, и наши взгляды встретились. В его поблёкших глазах было столько ненависти, что я невольно насторожился.
— Отвечайте коротко и по существу: за что вас задержали?
— Не знаю!..
— Как вы очутились в этом городе?
— Случайно… застрял…
— Не успели удрать?
— Не понимаю.
— Посидите в подвале недельки две, тогда, может быть, поймёте!
Подвала у нас не было, мне просто хотелось попугать его. Но из этой моей наивной затеи ничего не вышло.
Старичок вскочил на ноги.
— Вы слишком молоды, чтобы пугать меня! — выкрикнул он. — Можете даже живым закопать в землю, — больше ни единого слова от меня не услышите!
Красноармеец увёл Золотарёва, а я сидел, не зная, что мне делать. Кто он, враг или всего лишь обозлённый интеллигент? Как доискаться истины? Ни опыта, ни знаний, чтобы разобраться в этом, у меня не было. Пошёл к председателю, рассказал ему о своих сомнениях. Васин внимательно выслушал меня.
— Отложим до завтра, — сказал он. — Соберём агентурные данные о твоём Золотарёве, тогда и решим.
Утром он послал за мной.
— Ты прав в своих подозрениях: Золотарёв не тот, за кого выдаёт себя. Он птица высокого полёта. На, почитай.
«Золотарёв А. Н., дворянин, кадровый офицер царской армии. Служил в частях Каледина. В наш город приехал недавно, общался с белогвардейской верхушкой. Есть основания предполагать, что оставлен по специальному заданию. Накануне прихода Красной Армии переоделся в гражданскую одежду и переехал на новую квартиру. Задержан был недалеко от водокачки в день взрыва. При обыске ничего подозрительного не найдено», — было написано в справке.
Васин позвонил и приказал ввести старика.
— Поговорим с ним по душам!.. Ты побудь здесь, послушай. — Улыбка Васина как бы говорила: учись.
— Господин Золотарёв, вы, кажется, сказали нашему следователю, что больше ни единого слова не произнесёте. Не так ли?
— Он угрожал мне.
— Понятно! Вы рассердились и в сердцах сказали это необдуманно.
— Допустим…
— Но сейчас, я надеюсь, вы ответите на некоторые вопросы?
— Пожалуйста, я готов.
— Вы утверждаете, что ваша специальность — инженер-механик?
— Да.
— Какой институт окончили?
— Петербургский политехнический.
— А не кадетский корпус? Может быть, просто запамятовали? Времени прошло немало…
Молчание.
— Хорошо, оставим это. Скажите, кто ещё, кроме вас, принимал участие в подготовке взрыва водокачки?
— Это ложь! — крикнул Золотарёв.
— Не горячитесь, будем говорить спокойно. Один из непосредственных участников взрыва, Лёшка Кривой, нами задержан. Он назвал вашу фамилию. Хотите, устроим вам с ним очную ставку? Снова молчание.
— Ну что же, можем избавить вас от этой неприятной встречи… Мы сохраним вам жизнь при одном непременном условии: вы подробно расскажете о полученных вами заданиях, перечислите своих сообщников, покажете места, где хранится оружие и взрывчатка. Не тороплю вас! Возвращайтесь в камеру, обдумайте и, когда захотите поговорить со мной, дайте знать дежурному. До вечера времени много. Считаю необходимым предупредить вас: если не исполните мою просьбу, то сегодня, не позднее двух часов ночи, вы будете расстреляны. Идите.
Мы остались вдвоём, и я спросил Васина, правда ли, что существует человек по имени Лёшка Кривой и действительно ли он называл Золотарёва?
— Допрашиваемого иногда следует поставить в тупик, но говорить ему явную ложь не дело, — ответил Васин. — Лёшка Кривой — уголовник. Его арестовали. Имеются веские улики его участия во взрыве, но он пока упирается, язык не развязывает. Ничего, теперь дело пойдёт гладко. Золотарёву не хочется умирать…
И верно: Лёшка Кривой развязал язык, и под давлением его показаний Золотарёв вынужден был признаться в своих связях с белогвардейским подпольем.
Дня через два мы с Акимовым получили задание произвести обыск в комиссионном магазине.
— Холодное оружие, изделия из золота и серебра заактируйте и возьмите с собой. Магазин опечатайте сургучной печатью, — проинструктировал нас комендант и выдал ордер на обыск.
Войдя в магазин, мы ахнули: тьма всякого барахла!
Обыск затянулся.
Все эти колечки, брошки, серебряные портсигары, кинжалы, старинные пистолеты нужно было подсчитать и составить на них подробную опись.
Работу закончили поздно вечером. Золотые и серебряные безделушки ссыпали в наволочку. Кинжалы и пистолеты положили в мешок. Я достал спички, чтобы развести сургуч.
— Погоди, — сказал Акимов. Не отрываясь смотрел он на висящие под потолком хромовые сапоги, офицерские френчи, брюки галифе из добротного сукна. Потом перевёл взгляд к полкам, на которых было разложено мужское и дамское бельё. Я сделал вид, будто не понимаю, о чём он думает, и отвернулся.
— Может, рискнём? — шёпотом спросил он. Я молчал.
— Возьмём по паре сапог, по смене белья, брюки, френч… Помоемся, переоденемся во всё чистое. Надо же нам когда-нибудь избавиться от проклятущих вшей! — убеждал меня Акимов.
И я согласился…
Одежду и бельё мы подобрали по размеру, примерили сапоги и завернули всё в клеёнку, боясь, как бы вши не переползли на чистую одежду.
Сдав мешок с оружием коменданту, а золото и серебро кассиру Чека, мы пошли в парикмахерскую — остриглись наголо. Спустились в душевую и долго мылись. Переоделись во всё чистое, а грязные, вшивые лохмотья бросили в топку.
У тёти Паши, коменданта нашего общежития, попросили свежие простыни, наволочки, одеяла и наконец-то легли в чистую постель.
Утром сотрудники по всякому поводу заходили ко мне. Разговаривая, они как-то странно косились на мою новую одежду. Я делал вид, будто ничего не замечаю, но чувствовал себя прескверно. Постепенно до моего сознания дошла вся ошибочность, вся непоправимость нашего поступка. В двенадцать часов меня вызвали к председателю. В приёмной уже сидел Акимов. Высокий, плечистый, он выглядел молодцом в хромовых сапогах и френче. Но вид у него был озабоченный.
Мы ничего не сказали друг другу. Сидели молча, стараясь не встречаться взглядом.
Васин принял нас в кабинете стоя. Сурово спросил:
— Где были вчера?
— В комиссионном магазине, — ответил я. — Произвели там обыск…
— А заодно решили и принарядиться? Скажите, вы кто такие — чекисты или бандиты?
Акимов не стерпел обиды. Шагнув вперёд, он проговорил звенящим голосом:
— Товарищ председатель! Оскорблять нас, Называть бандитами вы не имеете права!.. Я с семнадцатого года в партии большевиков и третий год проливаю кровь за советскую власть!
— По-видимому, — сказал Васин, — вы рассуждаете так: раз я проливаю кровь за советскую власть, значит, мне всё дозволено! Захочу — сошью себе соболью шубу, золото и серебро добуду, реквизирую буржуйскую квартиру и буду жить припеваючи. Благо, прав много и чёрт мне не брат!.. Не так ли?
— Нет, не так! — сказал я. — Кроме одежды, которую вы видите на нас, мы ничего не тронули — ни серебра, ни золота. А переоделись потому, что нас вши заели, — полтора месяца в горах воевали…
— Проверим, тронули вы что-нибудь или нет, — уже немного мягче проговорил Васин. — Если взяли только одежду, строго накажем. Если обнаружим, что к вашим рукам прилипло ещё что-нибудь, расстреляем, как грабителей. — Он позвал коменданта и приказал ему посадить нас под арест до выяснения дела.
Комендант отобрал у нас личное оружие и, запирая дверь камеры, проворчал:
— Доигрались… Не ожидал от вас таких художеств…
Акимов никак не мог успокоиться. Шагая по тесной камере между нар, он ругал коменданта:
— Тоже мне, честный нашёлся!.. Буржуйского добра ему жалко, пошёл ябедничать. Подумаешь, какое преступление — двое бойцов героической Рабоче-Крестьянской Красной Армии переоделись в чистое! Дайте им обмундирование, — они тряпки не тронут! А тут сразу — под арест. Нет, как хочешь, Силин, я жаловаться буду!
— Кому ты будешь жаловаться? Да ведь Васин и прав, хотя малость погорячился… Надо было ему сперва выяснить дело, а затем уж принимать решение. Не кипятись к вечеру всё выяснится…
Так беседовали мы с Акимовым, скрывая за словами горечь и обиду.
Особенно тревожиться, казалось бы, не было причин. Кроме одежды, мы ничего не тронули. И всё же стыдно было перед товарищами-чекистами. Одни нам сочувствовали, — проходя мимо камеры, они останавливались, передавали через решётку несколько папирос, кусок хлеба. Другие явно нас презирали.
Ночью, когда мы лежали на голых нарах, я вдруг с ужасом подумал: что, если хозяин комиссионного магазина, перед тем как покинуть город, присвоил себе кое-что ценное и увёз с собой?
Я разбудил Акимова и поделился с ним своими опасениями.
— Могло и такое быть, — сказал он. — Не с пустыми же руками удрал он!.. Как мы об этом раньше не подумали? Сверят с книгами — бац, чего-то не хватает!.. Вот тогда уж нам никакого доверия не будет… Может, комиссару, сообщить? Он-то знает нас как облупленных, заступится.
— Не хватало, чтобы в полку узнали о нашем позоре, — запротестовал я.
Ревизия магазина затянулась на три дня. С каждым днём, с каждым часом наша тревога усиливалась. На вопросы нам отвечали односложно: «Проверяют»…
Акимов побледнел, осунулся, не спал. По целым дням расхаживал по камере, о чём-то думая. Иногда останавливался передо мной, говорил:
— Если обнаружат недостачу, факт, шлёпнут нас с тобой — и правильно сделают… Не шали, имя чекиста не пачкай! Умереть в бою за трудовой народ — совсем другое дело. А тут — как последний ворюга!
Я пытался успокоить его, но и сам места себе не находил.
Напишут маме: «Ваш сын расстрелян, как грабитель»… Она умрёт с горя, а друзья в мастерских отрекутся от меня…
Эти думы не покидали меня ни днём, ни ночью. На новые сапоги, френч и галифе я и смотреть не мог. Я бы их выбросил, если б было во что одеться…
На третий день, вечером нас повели к Васину. Мы стояли перед ним, низко опустив головы, ждали приговора.
— Ваше счастье, что по книгам всё сошлось!
Не успел он произнести эти слова, как Акимов схватил меня в свои могучие объятия и стал кружить по кабинету.
— Живём, Ванюшка! Мы ещё докажем…
— Отставить! — сердито крикнул Васин, но я заметил в его глазах затаённую улыбку. — Даю вам за ваши художества десять суток ареста. Днём будете работать, ночью сидеть в камере. Одежду и сапоги, что взяли в магазине, отнесёте обратно, положите на место. Можете идти!
Мы не двигались.
— В чём дело?
— Товарищ председатель!.. Товарищ Васин!.. Не можем мы выполнить ваш приказ, — смущённо пробормотал Акимов, сразу утратив всю свою весёлость.
— Как это не можете?
— Да ведь мы всю свою одежду сожгли в топке, — объяснил я.
— Ничего не знаю и знать не хочу! Сумели взять чужое, сумейте и возвратить.
И всё-таки он сжалился над нами — велел дежурному позвать завхоза.
— Выдайте этим орлам по паре белья, гимнастёрки, брюки и, какие найдутся, сапоги, — приказал он завхозу.
Часа не прошло, как мы переоделись и всё взятое отнесли обратно в магазин. У меня словно гора с плеч свалилась: снова человеком стал себя чувствовать!..
А ещё через несколько дней нас отозвали в часть, которая готовилась к выступлению.
Поворот судьбы
Выступили на рассвете. Бойцы хорошо отдохнули, почистились, привели себя в порядок и шагали весело. У нас появились горные пушки и новые «максимки». Обозы пополнились санитарными повозками, палатками. Полк наш выглядел внушительно.
На пригорке Акимов повернулся и, в последний раз взглянув на окутанный утренним туманом город, вздохнул.
— Что, расставаться жалко? — пошутил я.
— Пропади он пропадом!.. Нигде я таких бед не терпел, как в этом проклятущем городе!.. — Он махнул рукой, отвернулся.
На этот раз наш путь оказался ещё труднее. Скалистые горы, леса, ручьи, узкие, труднопроходимые дороги. Подталкивая пушки и повозки, мы медленно поднимались всё выше. На пятые сутки догнали нашу дивизию и заняли отведённый для нас участок фронта. Белые, умело используя рельеф местности, надёжно закрепились. Казалось, нет на свете такой силы, которая могла бы выбить их с неприступных позиций. Наши попытки смять противника, отбросить назад прямой атакой успехом не увенчались. Пулемётным огнём и винтовочными залпами он преграждал нам путь, прижимал к земле.
Командование решило совершить обходный манёвр. Нашему и четвёртому батальонам приказали углубиться в тыл противника и внезапно атаковать его.
Разведчики нашли в горах незащищённые тропинки. Совершив за ночь двадцатикилометровый марш, мы вышли к утру на условленное место, но внезапная атака сорвалась: часовые белых подняли. тревогу. Бой завязался раньше намеченного времени. Положение осложнялось ещё тем, что четвёртый батальон застрял где-то в горах. Вместо того чтобы самим атаковать, мы вынуждены были обороняться. Наша рота несла большие потери: убили политрука, Акимова тяжело ранили.
К двенадцати часам подошёл четвёртый батальон. В небо взвились три красные ракеты — сигнал к атаке. Противник, зажатый в тиски с двух сторон, на этот раз не выдержал и начал медленно отступать. К вечеру его позиции оказались в наших руках. Путь на Закавказье был открыт.
Санитары устроили для тяжелораненых носилки из брезента, похожие на детские люльки, — их отправляли в тыл. Я разыскал Акимова, подошёл к нему. За ночь лицо шахтёра осунулось, глаза потухли, он тяжело дышал. Держа его руку и шагая рядом, я старался успокоить его:
— Не унывай, Аким Нестерович! Поправишься — вернёшься к нам. Мы ещё повоюем!..
— Нет, Ваня… Был конь, да изъездился. Я, кажись, отвоевался… Боюсь, как бы не повезли в тот город, где мы с тобой отличились. — Утомившись, он закрыл глаза, замолчал.
Я сунул ему под подушку две банки сгущённого молока, найденные в окопах белых, пачку махорки и отошёл в сторону.
На душе было скверно, хоть плачь. Нет ничего тяжелее, чем прощание на фронте с раненым другом…
Возвращаясь, встретил Шурочку. Свежая, раскрасневшаяся от утреннего холода, она покрикивала на санитаров, торопила их.
— Копошатся, как старые бабы! Пошевеливайтесь…
Увидев меня, Шурочка всплеснула руками:
— Ваня, и ты здесь!.. Уж не ранило ли тебя опять? — Она подошла, обеспокоенно, ласково заглянула в глаза.
— Нет, друга провожал…
— Ты меня забыл совсем!
— Времени нет, Шурочка. Бои всё…
— Вот и плохо, что бои! Сегодня жив, а завтра… Видишь, сколько народу покалечило, — она указала на палатки, около которых лежали раненые. — Ты, миленький, приходи! Вином угощу, шоколадом, — разведчики столько натаскали — жуть!
— Спасибо, приду!..
Через несколько дней со мной случилось то, чего я никак не ожидал.
Во время привала, когда бойцы, пообедав, отдыхали в защищённой от ветра лощине, к ним подъехали комиссар и начальник политотдела. Слезли с коней, подсели к нам. Завязалась обычная в таких случаях беседа. Красноармейцы интересовались положением на других фронтах, спрашивали, скоро ли конец войне, как насчёт мировой революции. Комиссар отвечал, а потом сказал:
— Нужно, товарищи, подумать о политруке. Ваш погиб в бою за рабоче-крестьянское дело, как настоящий большевик. Хороший был товарищ, скромный. Но его не воскресишь…
— Да, мёртвых не воскресишь, — сказал пожилой коммунист Семёнов, назначенный командиром нашего отделения вместо Акимова.
— Кого выберем политруком? Какие есть на этот счёт соображения? — комиссар ждал ответа бойцов.
— Силина, — раздались голоса.
Я не верил своим ушам. Но поднялся Семёнов и сказал:
— Правильно! Иван подходящий парень, не подкачает. Грамотный, политически подкованный и в бою не подведёт.
— Что ж, я с вами согласен, — поддержал Семёнова комиссар. — Товарищ Силин хоть и молодой и в партии недавно, но успел на деле показать, чего он стоит. Будем надеяться, со временем из него получится хороший политработник. Есть другие кандидатуры?
— Нет, — ответили бойцы. — Силина давай!
— Будем голосовать. Кто за то, чтобы члена Российской Коммунистической партии большевиков Ивана Силина избрать политруком второй роты, прошу..
Я вскочил на ноги, стал отказываться:
— Подумайте, товарищи, какой из меня политрук?! Лучше выберем другого, вон сколько хороших партийцев!..
Бойцы засмеялись. Раздались голоса:
— Хватит, всё ясно!.. Голосовать, голосовать!..
— Итак, самоотвод Силина не принимается. Кто «за», прошу поднять руки!..
Я никак не мог опомниться. Неужели я на самом деле — политрук целой роты? От страха и волнения меня даже в жар бросило.
— Поздравляю тебя, товарищ Силин! — Начальник политотдела пожал мне руку. — Вечерком зайдёшь ко мне, потолкуем…
Хлопот и забот у меня стало так много, что трудно и перечислить. Следи, чтобы кашевары вовремя приготовили обед и ужин. Заботься о сапогах и портянках, чтобы на марше никто не натёр ноги и не отстал. Ругайся с начпродом, думай о ночлеге и топливе. Организуй политбеседы во всех отделениях, снабжай политбойцов и агитаторов свежими газетами, литературой. Кончился день, наступила ночь, бойцы поели и спят себе спокойно, а ты проверяй посты, занимайся кучей всяких дел: напоены ли, накормлены ли кони, получены ли боеприпасы, как с фуражом. Обеспечь, чтобы утром, к подъёму, были хлеб и кипяток. Поздно ночью с командиром уточняешь по карте маршрут роты на завтра. Пишешь политдонесение. Отмечаешь в дневнике дела на завтра…
Единственным утешением было то, что политруку полагался конь. Что греха таить, я гордился этой привилегией. Приятно молодому парню проезжать по деревне или городу верхом на коне во главе колонны, рядом с командиром, и ловить на себе восторженные взгляды детворы, парней и в особенности девушек!..
С моим другом Костей Волчком встречался я редко. На марше или во время отдыха увидимся, перекинемся несколькими словами и разойдёмся. После собрания, на котором меня выбрали политруком, он сам пришёл ко мне, и мы проговорили до самого рассвета.
— Молодец ты, Иван! Здорово, что тебя избрали политруком! — сказал он.
— Хлопот много, — пожаловался я.
— Ничего, зато на коне ездишь! Везёт тебе. Комиссар наган подарил, а теперь — конь. Ещё немного, глядишь, комиссаром станешь!.. А меня назначили командиром пулемётного расчёта. Кончится война, поеду в военную школу. Давай вместе махнём!
— Нет, я военным быть не хочу… Вот консерваторию окончить — это дело. Или университет. И писать статьи, как комиссар. Умная башка! Скажу тебе по секрету — я по музыке скучаю. Лежу по ночам и в уме всё играю… Костя, ты письма из дому получаешь?
— Чудак, кто станет мне писать, разве тётка? Да она неграмотная и особенно горевать не будет, если я не вернусь.
— Мама мне не пишет… Скоро семь месяцев, как мы уехали из дома, и — ни одной строчки…
— Письма застревают!.. Один наш боец получил от жены письмо, написанное в прошлом году. — Костя поднялся. — Мне пора, пойду…
Я долго не мог уснуть. Почему не пишет мама, что случилось? Не заболела ли она? Решил запросить Ростовский военкомат, — пусть узнают, что с мамой, и напишут. Ведь. пишем же мы в другие военкоматы по делам наших бойцов…
Осень вступила в свои права. Вершины гор побелели. Дул пронзительный ветер. За ночь земля покрывалась тонким слоем инея. Холод донимал нас.
Фронта, по существу, не было. Армия белых разлагалась, таяла. С каждым днём увеличивалось количество перебежчиков. Обманутые солдаты переходили к нам в одиночку и целыми группами. И всё же мы продвигались медленно. Враг, сколотив небольшие силы из офицеров, националистов и кулаков, избрал новую тактику — нападал на части Красной Армии из-за угла. Во время похода — чаще по ночам, на стоянках, — отряды конных головорезов делали неожиданные наскоки, разрушали мосты, устраивали завалы, поливали из пулемётов по колонне, рубили спящих бойцов, сеяли панику и бесследно исчезали в горах. Нам приходилось всё время быть начеку.
Однажды, в яркий солнечный день, я ехал рядом с Кузьменко во главе колонны. Неожиданно где-то впереди нас началась беспорядочная стрельба. Пришпорив коня, я поскакал, чтобы выяснить, в чём дело. Вдруг чувствую — что-то ударило меня в правую ногу, повыше колена. Не обращая внимания, догнал идущих впереди разведчиков, спросил, почему стреляли.
Ко мне подошёл разведчик Вася.
— Налетели, сволочи, вон с той горы! Одного нашего убили, другого ранили — и исчезли… Разве их догонишь? — Увидел кровь на моих брюках и сказал: — Да вы ранены, товарищ политрук!
Особой боли я не чувствовал — ногу жгло, кровь обильно просачивалась сквозь сукно.
— Обойдётся! — Мне не хотелось показаться неженкой разведчикам, в особенности Васе.
— А всё же перевязать не мешает. Ребята, нет ли у кого бинта? — спросил он у товарищей.
Бинта не оказалось. Не слезая с коня, я ножом разрезал брюки, достал из кисета табак, смешанный с махоркой, насыпал на рану, оторвал рукав сорочки, и туго завязал. О таком своеобразном способе лечения мне рассказывал в своё время Пахомов.
— Обследуйте тропинки, чтобы колонна случайно не попала под огонь! — приказал я разведчикам и повернул обратно — доложить командиру.
Решили послать на помощь разведчикам одно отделение с пулемётом и сделать короткий привал.
— А ты отправляйся к санитарам, — посоветовал Кузьменко.
— Ерунда, — я махнул рукой. — Из-за каждой царапины обращаться к санитарам! Хороший пример для бойцов…
— Напрасно! Загрязнишь рану, хуже будет…
Я не послушался Кузьменко и жестоко поплатился за это. Нога начала нестерпимо болеть. Знобило, кружилась голова, я с трудом держался в седле.
Кузьменко, заметив моё состояние, приказал двум бойцам снять меня с коня, уложить на носилки и отнести в санитарную повозку.
Увидев меня на носилках в полуобморочном состоянии, Шурочка разволновалась. Нога сильно распухла, сапог снять не удалось, — его разрезали ножом. Обрабатывая рану, Шурочка сердилась:
— Сумасшедший! Ну можно ли насыпать в открытую рану махорку да ещё завязать грязной тряпкой? Это же форменное самоубийство!..
Забинтовав ногу, она напоила меня и решительно сказала:
— Дело дрянь, пуля застряла, а рана загрязнилась! Придётся отправить тебя в госпиталь!
— Что ты, зачем в госпиталь!.. У нас в полку есть свой доктор, позови его. Полежу у тебя в повозке дня три и встану. — Я говорил с трудом — начинался жар.
Шурочка покачала головой.
— Ладно уж, пошлю за врачом, посмотрим, что он скажет!..
Ночь я провёл в бреду, часто терял сознание. Шурочка не отходила от меня, вытирала пот с лица, поила водой, поправляла подушку, давала какие-то капли. А врача всё не было. Он пришёл на следующий день утром, осмотрел рану и пробурчал себе под нос:
— Да… — и приказал немедленно отправить меня в госпиталь.
Шурочка успокаивала меня:
— Ничего, миленький, ты не волнуйся! В госпитале опытные врачи, они быстро вылечат. И вернёшься обратно к нам!
— Не хочу в госпиталь!..
— Мало ли что, — надо! Доктор и так отругал меня, — почему не отправила ещё вчера.
Ногу будто сверлили острым железом. От боли замирало сердце. Я кусал губы, чтобы не кричать, и покорно ждал своей участи — госпиталь так госпиталь, лишь бы скорее конец!..
Меня положили в такую же люльку, как недавно Акимова. Впереди лошадь, сзади лошадь, а между ними укреплённый на палках брезент. От каждого толчка я стонал. К вечеру потерял сознание. Очнулся в госпитале на операционном столе.
Около меня хлопотали люди в белых халатах. Доносились обрывки фраз: «Гангрена… загрязнение… Ампутация неизбежна… Пулю извлёк… ставьте тампон… Подождём до утра…»
Утром мне стало чуточку легче, но нога горела, а голова была такой тяжёлой, что я не мог даже приподнять её.
Ко мне подсел врач в белом халате, с чёрной бородкой. Достал часы, пощупал пульс и, посмотрев табличку с записями температуры, спросил: — Ну-с, как мы себя чувствуем?
— Плохо, — ответил я. — Жарко, нога сильно болит…
— Рана ваша сама по себе пустяковая, но вы загрязнили её. Началась гангрена. Надеюсь, понимаете, что это означает?
Я кивнул головой.
— Хотя это и неприятно, но я обязан сообщить вам, что ногу придётся ампутировать выше колена.
Я вздрогнул, закрыл глаза. Почему-то вдруг вспомнилось: у церквей, на перекрёстках улиц оборванные, обрюзгшие, потерявшие человеческий облик инвалиды на костылях с протянутой рукой… Губы мои невольно зашевелились, и я повторил часто слышанные слова: «Подайте, Христа ради, инвалиду на пропитание…»
— Что вы сказали? — спросил доктор.
— Ничего, я так…
— Вот и договорились… Через час начнём. Не бойтесь, мы вас усыпим, и вы ничего не почувствуете.
— Нет, я не дам! — крикнул я не своим голосом.
— Успокойтесь, вам нельзя волноваться. — Доктор погладил меня по голове.
— Не дам! — повторил я и отбросил его руку.
Дружочек, иначе нельзя. Лучше остаться без ноги, чем умереть. Со временем сделают вам искусственную ногу, вы и хромать не будете…
— Не дам!
Доктор встал.
— Советую хорошенько подумать!.. Дорог каждый час. Если гангрена распространится на брюшную полость, ампутация не поможет, — сказал он и ушёл.
Мою койку обступили выздоравливающие. У кого забинтованная голова, у кого рукав пустой, а кто ковыляет на костылях.
— Ты, друг, не упрямься!..
— Жить без ноги лучше, чем умереть…
Я молчал.
Пожилой человек, не беря костыли, допрыгал на одной ноге до моей койки, сел рядом со мной.
— Ты молод, тебе жить надо, — заговорил он ласково. — У меня жена, трое детей, и то дал ногу отрезать. Без ноги в крестьянском хозяйстве совсем не годится, однако согласился!.. Кому польза, если помру? А так хоть на божий свет погляжу, детишек своих увижу. Да и бабе пособить смогу.
Инвалид, похоже, утешал сам себя.
— Лучше умереть, чем у церкви милостыню просить! — сказал я охрипшим голосом.
— Зачем милостыню? Говорят, есть такие мастерские, где инвалидов к ремеслу приспосабливают.
— Говорят, кур доят! — вставил человек без руки. — Одни разговоры… Скажите на милость, какому ремеслу можно научиться без правой руки?
— Что рука? Главное — голову иметь на плечах, всё остальное приложится, — сказал другой.
Разговоры утомили меня, я задремал.
Проснулся от прикосновения чьей-то руки. Полная пожилая сестра, нагнувшись, марлей вытирала пот с моего лица.
— Проснулся! — обрадовалась она. — Сейчас измерим температуру, посмотрим, как у нас дела.
Пока я держал термометр под мышкой, сестра завела со мной дипломатический разговор.
— Мать-то есть у тебя?
— Есть…
— И конечно, она тебя любит. А ты хочешь причинить ей горе!
— Не понимаю…
— Ты же умный, не упрямься, согласись!
— Хватит говорить об этом! Не хочу быть инвалидом!..
Сестра покачала головой, достала термометр.
— Держится… Тридцать девять и восемь!.. Ты понимаешь, что это значит?
Я молчал. На меня напало такое безразличие, что ни о чём не хотелось думать, ничего не хотелось слышать. Санитары подкатили к моей койке узенькую тележку, положили меня на неё и отвезли в операционную.
На столе ногу разбинтовали.
— Посмотрите, — сказал мне бородатый врач и, видя, что я этого сделать не в силах, велел сестре приподнять подушку.
Я взглянул и ужаснулся: не нога, а толстое бревно, похожее по цвету на сырую говядину.
— Видели? Долг обязывает меня предупредить вас ещё раз. Положение крайне опасное, почти безнадёжное, — решайте.
— Нет, нет и ещё раз нет!
— В таком случае подпишите эту бумагу. Здесь написано, что вы категорически отказываетесь от ампутации. Тем самым я снимаю с себя всякую ответственность… — Врач помялся и решительно добавил: — Всякую ответственность за вашу жизнь. Это, конечно, не значит, что для вашего спасения мы не предпримем всего, что в человеческих силах. Но за благополучный исход не ручаюсь.
Дрожащей рукой я кое-как расписался. А вдруг и вправду подписываю себе смертный приговор?
С этого дня началась борьба за мою жизнь. Врачи, сёстры, санитары почти не отходили от моей койки и делали всё, чтобы облегчить мои страдания. Сочувственно относились ко мне и соседи по палате, — достаточно было мне попросить пить, как несколько человек бросались за водой.
Три раза в день возили меня в операционную, и врачи подолгу колдовали надо мной, ножницами резали разлагающиеся, но ещё живые ткани, рану заливали чем-то таким, что сердце замирало и круги шли перед глазами. Боль была невыносимая, я часто терял сознание. Нервы у меня были в таком состояний, что от одного вида тележки меня бросало в жар, тело покрывалось испариной. Временами хотелось умереть, лишь бы избавиться от непрекращающейся боли. Однажды даже попросил у пожилой сестры яд, за что она отругала меня последними словами:
— Не командир ты Красной Армии, а жалкий трус! Ему умереть хочется! И как у тебя язык поворачивается говорить такое? Стыдись!..
Высокая температура начала спадать только на шестой день. По глазам окружающих я понял, что дело идёт на поправку, хотя никто ничего определённого не говорил. Боль тоже понемногу утихала — я мог уже шевелить пальцами раненой ноги.
Жизнь постепенно возвращалась ко мне. Первым признаком этого были воспоминания. Всё недавно пережитое с мельчайшими подробностями воскресало в памяти. Хотелось поскорее возвратиться к товарищам, к Шурочке. Она представлялась мне сейчас красивой, доброй, необыкновенно привлекательной. А вот посёлок, милый моему сердцу домик наш и даже мама — странное дело! — вставали в памяти словно в каком-то тумане…
И ещё я любил представлять себе, как, закончив войну, поеду в Москву, отправлюсь в консерваторию и скажу: «Мои пальцы одеревенели потому, что долго держали винтовку. Мой слух притупился потому, что вместо музыки я слушал орудийную канонаду. Прошу вас, примите меня в консерваторию!» Потом рисовал себе картину: я стал музыкантом, выступаю в лучших концертных залах страны. Слушать меня придут комиссар, Овсянников, Костя и непременно Шурочка, — все они будут восторгаться моим талантом. Акимов покачает головой, прищурит глаза и скажет: «Вот, оказывается, ты какой! И такого парня чуть не расстреляли из-за паршивой пары сапог…»
Во время очередной перевязки врач наконец сказал:
— Вы родились под счастливой звездой, опасность миновала, рана затягивается.
Я поблагодарил его и спросил:
— Помните, доктор, как вы уговаривали меня согласиться ампутировать ногу?
— И правильно уговаривал!.. На моей практике из сотен случаев гангрены выздоравливали единицы. Не думайте, победило не ваше упрямство, — хотя и в нём вам отказать нельзя, — а молодость и сильный организм. Вы долго будете
жить!..
Рана моя затягивалась, но на правую ногу ступить было нельзя. Дали мне костыли, и я тихонько ковылял по палате.
В госпитале кормили скудно — четыреста граммов чёрного хлеба, по две тарелки так называемого супа и вдоволь кипятку. Зато было тепло. Печки-буржуйки топились круглые сутки. Железнодорожная станция находилась поблизости, и те, кто мог ходить, собирали на путях каменный уголь.
От нечего делать мы с азартом забивали козла, а по вечерам собирались около печки и слушали рассказы бывалых бойцов. В особенности увлекательны были воспоминания питерского рабочего Севастьянова, который участвовал во взятии Зимнего и однажды видел Ленина.
Стояла южная зима с холодными ветрами, мокрым снегом и надоедливым дождём. Я часто садился у окна, подолгу смотрел на голые деревья в саду, на свинцово-серые облака и с тоской думал: когда же наконец вырвусь отсюда и догоню свой полк?…
Этот день наступил скорее, чем я предполагал. В госпиталь непрерывным потоком поступали больные тифом, и, чтобы освободить для них место, выписывали всех выздоравливающих. Выписали и меня.
Надев помятую, пахнущую дезинфекционной камерой одежду, нацепив наган, я взял документы, полагающиеся четыреста граммов хлеба, попрощался со всеми и вышел на улицу.
День был тёплый, солнечный. От свежего воздуха закружилась голова, пришлось сесть на ступеньки госпитального крыльца. Куда идти? Чужой город, ни родных, ни знакомых. В кармане — ни гроша…
Однако на что-то нужно было решиться. Не сидеть же до вечера на ступеньках госпиталя и чего-то ждать. Собравшись с силами, я спустился на дорогу, что вела в город. В палате я сравнительно легко орудовал костылями, но здесь, на мощённой булыжником дороге, которая была вся в ямах и рытвинах, передвигаться было трудно. А до города целых два километра. К счастью, скоро меня догнала подвода. Возчик придержал коня и предложил сесть.
Кое-как взобравшись на подводу, я положил костыли и разлёгся на сене, но тут же пожалел об этом: подвода тряслась и подпрыгивала, каждый толчок отдавался в ноге, причиняя нестерпимую боль.
— Останови, пожалуйста! Лучше я сойду, — попросил я старика возчика.
— Почему сойдёшь?
— Не могу, нога болит.
— Ай-ай-ай, нехорошо! Пешком совсем трудно. — Старик цокнул языком, покачал головой. Положив около своего сиденья охапку сена, он накрыл его мешком и предложил мне сесть. — Держись за доску, больной нога пусть висит, — посоветовал он.
Я пересел. Нога хотя и болела при толчках, но не так сильно — можно было терпеть.
Въехали в город. Он показался мне пыльным, грязным. По обеим сторонам узких улиц и кривых переулков тянулись высокие заборы, за ними, как за крепостной стеной, глинобитные одноэтажные дома с плоскими крышами. Навстречу нам медленно шагали нагружённые до отказа ослики; поднимая облака пыли, проезжали фаэтоны. Шумели дети, кричали уличные торговцы.
Миновали окраины. Возчик остановил коня и спросил:
— Куда пойдёшь?
— Сам не знаю…
— Первый раз приехал?
— Из госпиталя я.
Старик задумался.
— Гостя уважать надо, — наконец проговорил он. — Пойдём домой. Еды мало, вино есть, пить будем!
— Спасибо! Лучше в военкомат пойду. Скажи, как туда добраться?
— Прямой пойдёшь, налево пойдёшь, спросить будешь.
Я слез и, мало что поняв из его объяснений, медленно заковылял по мостовой.
В центре города улицы были шире, дома — двух-, трёхэтажные, с балконами. Нижние этажи из гранита, верхние из серого и розового туфа.
Рассматривая их, я увидел стеклянную вывеску красного цвета — «Городской комитет РКП(б)». «Почему бы не зайти? — мелькнуло в голове, и я зашёл. В большой комнате сидели две девушки. Одна, совсем молоденькая, двумя пальцами стучала на пишущей машинке. Другая, чуть постарше, в красной косынке, писала за столом.
— Вам кого, товарищ? — спросила она, взглянув на меня.
От этого простого слова — «товарищ», а главное, от того, как оно было произнесено, сразу потеплело на душе.
— Откровенно говоря, сам не знаю. Я коммунист, сегодня выписался из госпиталя. В этом городе никого не знаю, вот и зашёл…
— И правильно сделали! Лучше всего вам поговорить с секретарём горкома, товарищем Брутенцём… Садитесь, он скоро освободится.
Не прошло и трёх минут, как мы непринуждённо беседовали. Я рассказал девушкам, как был ранен, как мне хотели отнять ногу.
Машинистка принесла чайник, разостлала на столе газету, поставила три жестяные банки из-под сгущённого молока. Секретарша вынула из ящика стола коробочку с сахарином и пригласила меня пить кипяток.
— Извините, товарищ, чая и сахара у нас нет!
Я, в свою очередь, вытащил из кармана шинели завёрнутый в бумагу хлеб, разделил его на три доли.
— Не нужно! Мы дома, паёк получаем, — запротестовала машинистка. — Ешьте, пожалуйста, сами!
— Пировать, так всем вместе! Если бы ещё соли…
— Есть и соль.
Хлеб, посыпанный солью, запивали горьковатым от сахарина кипятком.
Из кабинета секретаря горкома вышел посетитель. Я вошёл.
— Выписанный из госпиталя после ранения политрук второй роты горнострелкового Красной Армии полка Иван Силин!
Тщательно проверив мои документы, секретарь дружески пожал мне руку и указал на стул:
— Садись, товарищ Силин! Чем могу быть тебе полезен?
Рассказывая вкратце о себе, я разглядывал секретаря. Красивый, молодой — лет двадцати пяти. Немного усталое, смуглое лицо. Чёрные непокорные волосы падали на широкий лоб, и, разговаривая, он часто откидывал их рукой назад.
— Всё нормально! Куда же обращаться коммунисту в твоём положении, если не в партийную организацию? — сказал он, выслушав мой рассказ. — Давай подумаем вместе, как быть дальше. Ехать тебе на фронт, по-моему, рановато. Только обузой будешь. Не лучше ли задержаться у нас? Поправишься, научишься ходить без костылей, — догонишь свой полк. А мы за это время узнаем, где он находится.
Я молчал. Мне очень хотелось поскорее добраться до своих, но секретарь был прав: действительно, что я буду делать на фронте с такой ногой? Отлёживаться у Шурочки в санитарной повозке?
— Так и сделаем! — Он задумался и добавил: — Устроим тебя в лучшем виде, не беспокойся!
Снял телефонную трубку, куда-то позвонил.
— Говорит Брутенц! Имею просьбу: пришли, пожалуйста, ко мне проворного парня из твоих сотрудников… Нет, совсем не то! Нужно устроить одного фронтового товарища… Совершенно верно; думаю, ничего особенного не случится, если буржуи подкормят его… Хорошо, жду.
В ожидании «проворного парня» Брутенц познакомил меня с обстановкой в городе.
— У нас здесь, как, впрочем, во всём Закавказье, скопление контрреволюции всех видов и оттенков, — начал он. — Дашнаки, меньшевики, бывшие офицеры, даже анархисты. Царские чиновники, люди так называемых свободных профессий — адвокаты, журналисты, врачи с солидной практикой. Первые никак не хотят примириться со своим банкротством, откровенно ненавидят нас, сопротивляются, вредят на каждом шагу. Вторые считают себя солью земли и не хотят, чтобы ими управляли малограмотные рабочие и солдаты. На днях был у меня один такой журналист. Длинные волосы до плеч, пенсне с золотой цепочкой. «Я, говорит, в Европе учился, тремя языками владею, сотрудничал в солидных газетах и журналах. Моими статьями зачитывались, а теперь малограмотный редактор, не державший в руках даже Вольтера, бракует мои статьи и фельетоны, да ещё грозится выгнать из редакции». — «По всей вероятности, вы пишете не то, что нужно», — говорю ему. Он на дыбы: «Что значит не то, что нужно? Где священные права личности, где свобода слова? Неужели вы так наивны и думаете, что я стану писать по вашему заказу?» Вот какими типами мы окружены, не говоря уже о буржуазии, о торговцах. Этим легче расстаться с жизнью, чем со своим добром. А тут ещё национальные особенности, религиозные предрассудки… Всё, всё нужно перестроить заново, а людей грамотных, проверенных — раз, два, и обчёлся!..
В кабинет вошёл молодой человек в кожаной куртке и отрапортовал по-военному:
— По приказанию председателя явился в ваше распоряжение!
— А, Левон!.. Хорошо, что прислали именно тебя. Ты ведь знаешь всех местных богатеев наперечёт.
— Конечно, знаю!
— Познакомься с товарищем Силиным. Он — фронтовик, ранен, выписался из госпиталя. Ему нужно отдохнуть, поправиться. Можешь устроить его в богатый дом, где бы его сытно кормили?
— Ещё бы! — Молодой человек пожал мне руку.
— Отлично! Предупреди хозяев, чтобы они ухаживали за нашим товарищем как следует. Впрочем, тебя учить не надо!
— Всё понятно! — Левон хитровато подмигнул мне. — Можно идти?
— Да, идите. — Секретарь горкома, прощаясь со мной, сказал: — Дней через десять — пятнадцать зайдёшь ко мне, тогда решим, как быть дальше. Не спеши, тебе прежде всего нужно поправиться.
Вышли на улицу. Левон был мой ровесник, может быть, года на два старше. Родился и вырос он в этом городе, участвовал в подпольной работе молодёжной организации, сидел при белых в тюрьме. Сейчас он работал в Чека, оперативным уполномоченным. По его словам, работа хоть и хлопотливая, но интересная.
— Знаю я богатый дом, где все мужчины удрали, остались одни женщины, — сказал он, приноравливаясь к моим шагам. — Шесть комнат, обстановочка — лучше не надо! Продуктов тоже припрятали достаточно хватит надолго. А главное — все говорят по-русски. Когда-то это считалось здесь признаком образованности, культурности. Ты будешь жить у них как у Христа за пазухой!
— Что ты!.. Неудобно! — Весь этот план с «буржуйским домом» мне решительно не нравился. Я не представлял себе, как это я ворвусь в чужой дом, стану в нём жить. Как меня встретят? Как я себя буду чувствовать среди чужих, заведомо враждебных людей. Невольно вспомнился роскошный дом моего деда в Ростове… Что было бы, если б в нём вот так же появился какой-то ненавистный «красный»?..
— Неудобно? — усмехнувшись, переспросил Левон. — Они разбогатели на нашем труде. Мы в подвалах ютились, а они во дворцах роскошествовали! Теперь пусть немного потеснятся. Очень даже удобно!
Поднялись на второй этаж большого дома с балконами, выходящими на центральную улицу, Левон громко позвонил. Я стоял рядом как обречённый…
Дверь открыла благообразная седая женщина в чёрном шерстяном платье.
— Вам кого? — Лицо старухи выражало страх и растерянность.
— Вас! — Левон, не дожидаясь приглашения, вошёл. Я последовал за ним.
Миновав переднюю, где стояли большие зеркала, мы очутились в просторной комнате. Тяжёлые шторы на высоких окнах были опущены. На полу большой ковёр, вдоль стен мягкие кресла под чехлами, диван, сервант, полный хрусталя, посредине круглый стол, застланный плющевой скатертью, на стенах картины. В дальнем углу я увидел концертный рояль, при виде которого у меня забилось сердце.
— Я из Чека, вот мой мандат! — Левон протянул старухе документ, но она даже не взглянула на него. — Привёл к вам командира Красной Армии. Он ранен и будет жить у вас до полного выздоровления.
— Не понимаю, почему именно у нас?.. Для раненых есть госпиталь! — старуха говорила срывающимся от волнения голосом.
— Всё это мы знаем без вас! — оборвал её Левон. — Наш товарищ нуждается в усиленном питании, и ничего страшного не случится, если вы немного потеснитесь и поделитесь с ним продуктами, которых у вас и без того слишком много. Это даже справедливо, — ведь ранили-то его ваши друзья!
Поняв, что возражать бесполезно, старуха молча опустила глаза, как бы показывая, что покоряется грубой силе. Только лёгкий румянец, выступивший на бледных щеках, выдавал её волнение.
Опираясь на костыли, я стоял около дверей, готовый немедленно уйти, и проклинал себя за то, что согласился пойти с Левоном. Между тем мой спутник становился всё настойчивее.
— Покажите, где он будет жить?
— Зачем вы спрашиваете меня? Выбирайте сами, вы ведь хозяева…
Левон пропустил мимо ушей слова хозяйки. Он бесцеремонно ходил по квартире, открывал двери комнат.
— Вот здесь ему будет хорошо! — услышал я его голос. — Иван, иди сюда, взгляни на эту комнату.
Я нехотя пошёл. Комната, которую выбрал для меня чекист, казалась очень уютной, хотя обставлена была скромно. Никелированная кровать под тюлевым покрывалом. У окна маленький письменный столик, два удобных кресла, зеркальный шкаф, тумбочка, на полу коврик.
— Ну как, нравится?
— Может, не надо? — шепнул я ему на ухо. — Может, лучше нам уйти?
Левон свирепо посмотрел на меня и скорее для старухи, чем для меня, громко сказал:
— Решено, обоснуешься здесь! — Повернувшись к хозяйке, добавил: — Думаю, обойдёмся без недоразумений. Вы понимаете меня?
— Ещё бы!..
— Ну, бывай здоров. Устраивайся, а я буду каждый день навещать тебя. Да, запиши мой телефон. До свидания! — Он кивнул хозяйке и ушёл.
Мы со старухой стояли и молчали. Она не смотрела на меня. Я боялся поднять глаза на неё. Я представлял себе, каким жалким кажусь ей — худой, обросший, на костылях, в измятой шинели, провонявшей дезинфекцией…
— Разрешите прежде всего узнать ваше имя и отчество, — спросил я наконец у неё.
— Сусанна Христофоровна.
— Не обращайте внимания на моего товарища, — продолжал я. — Стеснять вас не собираюсь и комнату эту не займу. Побуду у вас несколько дней, где вам будет удобно, — и уеду на фронт. Не стал бы вовсе тревожить, но, к сожалению, положение у меня безвыходное: город чужой, знакомых нет…
Моя речь произвела впечатление, черты лица у старухи смягчились.
— Здесь живёт моя старшая дочь. Она привыкла к этой комнате. Если не возражаете, то рядом есть другая…
— Пожалуйста, мне всё равно!..
Комната оказалась чуть поменьше, но такая же уютная и светлая.
— Нравится?
— Право, мне совестно, что стесняю вас, — ответил я.
— Ах, боже мой!.. Весь мир перевернулся вверх дном! Я давно перестала чему-либо удивляться!..
Появилась ещё одна полная пожилая женщина.
— Ашхен, затопи ванну, пусть молодой человек выкупается. Он некоторое время будет жить у нас, — распорядилась старуха и ушла.
Из разговора с Ашхен я узнал, что она младшая сестра хозяйки, потеряла мужа и, видимо, живёт в этом доме на положении бедной родственницы.
— Принесу тебе покушать, подкрепись, пока вода согреется, — сказала Ашхен. Она показалась мне доброй, отзывчивой.
На столе появились румяные булочки, сливочное масло, сыр, горячее молоко, сахар. Я давно не ел таких вкусных вещей и вмиг проглотил всё без остатка.
Ашхен дала мне бельё, лохматое полотенце и позвала в ванную. Размером с большую комнату ванная была выложена кафельными плитками. На подставке губка, душистое мыло. Я влез в ванну и долго нежился в тёплой воде.
Позже, лёжа в мягкой постели, под тёплым одеялом, я подумал, что буржуям жилось, да и теперь ещё живётся, неплохо!..
Пришла любовь
Тишина и покой… Они пробуждали мечты, смутные желания.
За окном погасли последние лучи солнца, и сразу наступили сумерки. В мою комнату не доходили никакие звуки. Казалось, в этом большом, просторном доме всё умерло. Лёжа в полудремотном состоянии, я неторопливо перебирал в памяти события дня и приходил к выводу, что ни при каких обстоятельствах не следует отчаиваться. В самом деле, ещё сегодня утром, затерянный в чужом городе, одинокий, я готов был утратить мужество. А к вечеру всё уладилось. Встретил хороших, отзывчивых людей, которые помогли мне, вселился в тёплую, уютную комнату, лежу на белоснежных, тонких простынях, наслаждаюсь покоем, — и всё это после окопов, после опасностей, грязи, тошнотворного запаха госпиталя! Недаром мама называла меня «везучим»!.. Ах, мама, милая мама!.. Если бы хоть разок взглянуть на тебя…
Нога почти не болела, на душе было тихо, спокойно, как бывает, когда ждёшь чего-то хорошего.
Но было и обидно. Мои товарищи, оборванные, полуголодные, мёрзли в горах, ежеминутно подвергались смертельной опасности в бесконечных боях, а здесь, в тылу, буржуи жили с комфортом, в роскошных квартирах, словно ничего на свете не изменилось. «Неужели так всегда и будет? — думал я. — Зачем же тогда столько жертв, столько крови?..»
Взять, к примеру, дом, в который меня так неожиданно забросила судьба. По словам сопровождавшего меня чекиста, мужчины, жившие в нём, сбежали, — следовательно, у. них были основания ждать возмездия. Иначе ведь не бросишь имущество, семью, не станешь скитаться по белу свету, как бездомная собака. Граница недалеко — рядом Иран, Турция. Туда не так уж трудно перебраться и избежать заслуженной кары. А их женщины как ни в чём не бывало продолжают пользоваться всеми благами обеспеченной и сытой жизни!.. Разве это справедливо?..
Старуха говорила о старшей дочери, — стало быть, есть и младшая. Интересно, какие они? Впрочем, что думать о них, — обыкновенные буржуйские дочки, чопорные, самодовольные. Вряд ли они удостоят вниманием какого-то большевистского комиссара, к тому же на костылях… Ну и чёрт с ними! Я и не нуждаюсь в их внимании…
За дверью послышались приглушённые голоса. Я напряг слух.
«Неудобно, придётся пригласить…» — говорила хозяйка. «Не хочу сидеть с ним за одним столом, пусть ест у себя», — возражал незнакомый женский голос. Ашхен сказала: «Не дури, он такой же человек, как и все, не кусается…» — «По манерам он производит впечатление воспитанного молодого человека», — подтвердила хозяйка. Голоса стихли…
Через несколько минут в дверь постучали. Ашхен принесла мне домашние туфли, куртку, лёгкие брюки и пригласила в столовую обедать.
— Лучше я здесь поем, — сказал я. Мне тоже не очень-то хотелось сидеть с ними за одним столом.
— Глупости! Ты же можешь ходить. Вставай, одевайся и приходи. Твою одежду я отдала в стирку.
Всё это было сказано таким решительным тоном, что пришлось покориться. Ашхен всё больше казалась мне простой и доброй. Во всяком случае, в ней не было ничего «буржуазного» — ни высокомерия, ни чванливости.
Проходя мимо зеркала, посмотрел на себя. В одежде с чужого плеча я выглядел неуклюжим, смешным и совсем не был похож на боевого комиссара. Посмотрели бы на меня сейчас Акимов, Шурочка!..
Все уже сидели за столом — в центре мать, справа от неё одна дочь, слева другая. Поодаль Ашхен.
— Это мои дочери — Белла и Маро, — сказала хозяйка.
Я молча поклонился и занял место напротив старухи, перед свободным прибором, так и не поняв, которая из дочерей Белла, а которая Маро. Обе они, избегая моего взгляда, низко склонились над тарелками, делая вид, будто заняты едой.
Первое смущение прошло, и я снова украдкой посмотрел на девушек. Черноволосые, черноглазые, скромно, но со вкусом одетые, обе казались симпатичными.
Слева сидела младшая, юная, стройная, лет семнадцати, не больше. Она подняла голову, и на секунду наши взгляды встретились. Девушка была очень хороша, а может, мне так показалось, не знаю. Одно могу сказать: девушек с таким нежным, милым лицом, с такими большими, светящимися, немного грустными глазами раньше я не встречал.
— Выпей стакан вина, — предложила Ашхен, — это полезно, ты много крови потерял.
Я поблагодарил и отказался — мне было совсем не до вина. Меня тяготило молчание за столом. Добрая Ашхен поняла это. Желая хоть как-нибудь завязать разговор, она спросила меня, нравится ли мне еда.
— Очень. Я давно не ел таких вкусных вещей, — ответил я, хотя от смущения даже не разобрал, что именно я ел. — Моя мама тоже большая мастерица вкусно готовить…
— У вас есть мама? — вырвалось у младшей девушки.
— Зачем задаёшь глупые вопросы, Маро? У каждого есть мать и отец, — рассердилась Ашхен. Так я наконец узнал, кто из девушек Маро.
— Я хотела спросить, жива ли она, — девушка смутилась, покраснела и показалась мне ещё привлекательнее.
— Мама моя живёт в Ростове-на-Дону, она учительница, — сказал я, обращаясь к Маро.
Обе девушки одновременно подняли головы и удивлённо посмотрели на меня. Должно быть, по их понятиям мать большевика не могла быть учительницей.
Разговор не клеился, обед проходил в полном молчании. Покончив с десертом, я поднялся, поблагодарил и, ни к кому прямо не обращаясь, спросил:
— Не могли бы вы дать мне какую-нибудь книгу?
— Библиотека по коридору направо. Шкафы не запираются… Ашхен, покажи, пожалуйста, — сказала старуха.
Когда мы вошли в библиотеку и Ашхен включила свет, у меня глаза разбежались. Большие застеклённые шкафы красного дерева были набиты книгами в дорогих, красивых переплётах. Почти все русские классики — Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Короленко, Герцен. Столько книг не было даже в нашей школьной библиотеке. Разглядывая шкафы, я увидел полки с книгами на французском языке: Стендаль, Бальзак, Мопассан, Доде, Мериме, Золя. От радости задрожали руки, — такого счастья я никак не ожидал!..
Взяв томики Стендаля и Мопассана, я вернулся к себе. Сел в кресло, зажёг настольную лампу, раскрыл книгу. Я по нескольку раз перечитывал фразы — и ни слова не, понимал!.. Мысли мои были заняты Маро. Что она делает? Наверно, тоже читает… Интересно, какие книги ей нравятся?..
Я старался не думать о Маро, — напрасно. Закрыв книгу, я ругал себя: мальчишка, слюнтяй! Увидел смазливую девчонку и сразу потерял голову, даже не подумал, кто она и кто ты? Нечего сказать, хорош боец Красной Армии, политрук, влюблённый в дочь классового врага!.. Разве я влюблён? Нет, конечно! К чёрту всё это!..
Я взял книгу и лёг в постель. Постепенно судьба Жюльена Сореля увлекла меня, и я забыл обо всём остальном.
Читал до поздней ночи, а утром дал себе слово не думать о Маро, даже не смотреть на неё!
Погода испортилась, моросил дождик. Струи воды медленно стекали по запотевшим стёклам. В доме было тепло, тихо, пахло чем-то приятным…
Такая погода вызывает грусть, и мне было грустно. Меня охватило острое, мучительное желание бросить проклятые костыли, поскорее вернуться в полк, к товарищам. В этом доме я чувствовал себя не в своей тарелке, — противно, совестно было есть буржуйский хлеб, общаться с чужими, враждебными людьми. Вспомнил Шурочку и улыбнулся, — милая, хорошая Шурочка!.. Скорее, скорее в полк!..
Прислонив костыли к стене, попытался обойтись без них, — увы! Не сделал и трёх шагов. От долгого лежания мускулы ног ослабли и плохо подчинялись, да и ступить на правую ногу было больно.
Позвали завтракать. У дверей столовой столкнулся с Маро.
— Здравствуйте, — она заговорила первой. — Вы знаете французский язык?
— Почему вы спрашиваете? — Я старался не смотреть на неё.
— Вы взяли из шкафа французские книги, я заметила. Даже могу сказать какие…
— Взял. Разве нельзя было?
— Что вы!.. Я совсем о другом. Взяли, — значит, умеете читать по-французски.
— Умею.
Маро, слегка путая падежи, заговорила со мной по-французски. Я ответил.
— О-о, вы говорите великолепно! Я буду разговаривать с вами только по-французски!
— Очень рад, практика нужна нам обоим.
За завтраком удостоила меня внимания и Белла. Она поинтересовалась, где я учился и откуда знаю французский. Я рассказал.
— У нас в гимназии преподавали немецкий и французский, — сказала Белла. — Но, в отличие от Маро, у меня к языкам нет никаких способностей.
— Зато ты отличная математичка, — возразила та.
— Ты всегда склонна преувеличивать! Ну какая я математичка?..
Вечером в доме было тихо. Заглянул в столовую, библиотеку, — никого. Решив, что все ушли, подошёл к роялю, поднял крышку. Сел, начал тихонько наигрывать. Пальцы утратили гибкость, трудно было брать аккорды. Но постепенно всё наладилось, и, забыв о своём намерении играть приглушённо, я нажал педали. Рояль звучал великолепно. Давно уже Шопен и Лист не доставляли мне такого наслаждения!..
Окончив играть, я долго сидел за открытым инструментом в каком-то оцепенении. Очнулся от тихого шороха. Поднял голову, оглянулся. Никого…
После ужина вся семья собралась в гостиной. Пригласили и меня. За кофе возник довольно любопытный разговор. Белла, внимательно глядя на меня, спросила:
— Скажите, вы в самом деле убеждённый большевик?
— Самый натуральный…
— Непостижимо!
— Что непостижимо?
— Вы знаете языки, любите музыку… Словом, вполне интеллигентный человек — и вдруг…
— До знакомства с вами я представляла себе большевиков грубыми, неотёсанными, — сказала старуха.
— Это потому, что вы судили о них по словам наших врагов.
— Возможно, — согласилась старуха, но Белла возмущённо перебила её:
— Ничего подобного! Разве не правда, что большевики уничтожают духовные ценности, разрушают цивилизацию? — Щёки её раскраснелись, глаза горели.
— Смотря какую цивилизацию, — ответил я. — Если она заключается в том, чтобы одни люди, силой подчинив себе других, жили за их счёт в роскоши, то такую цивилизацию необходимо разрушить!.. Впрочем, спорить на эту тему нам бесполезно: мы говорим на разных языках и не поймём друг друга…
— По-вашему, грабить чужое добро тоже справедливо?
— Всякое добро принадлежит тому, чьими руками оно создано. Грабят бандиты. Народ по справедливости берёт то, что принадлежит ему.
— Это не ваши мысли, я не верю! Вы их заимствовали из агитационных лозунгов…
— Белла, почему ты не допускаешь, что у него могут быть свои убеждения? — робко проговорила Маро.
— Могут, конечно! Но не такие чудовищные…
— Чудовищные? Вы говорите так потому, что совершенно не знаете жизни, — сказал я. — Что видели вы, кроме уютного, полного всякого добра дома, гимназии и общества обеспеченных подруг?.. Я вырос в посёлке, в котором люди трудились по десять-двенадцать часов и ютились в саманных хибарках, не всегда сытно ели, а их дети зимой и летом бегали по улицам босиком, полуголые… Это не кажется вам чудовищным?
— Хватит, хватит спорить о политике! — вмешалась старуха. — Я прошу вас! Лучше бы вы сыграли нам!..
Я сел за рояль и сыграл мазурку Шопена. По тому, с каким вниманием эти женщины слушали меня, можно было не сомневаться, что музыку они понимали.
Возвращаясь к себе, я поскользнулся на паркете. Потерял равновесие, грохнулся и повредил раненую ногу. От сильной боли я застонал и никак не мог подняться сам. На помощь бросились Ашхен и старуха хозяйка, — девушки только что куда-то ушли.
К вечеру боль усилилась, начался жар. Ашхен, не зная, как облегчить мои страдания, без толку вертелась около меня. Старуха оказалась более разумной — послала за врачом.
В это время пришёл Левон.
— Что такое, что случилось? — Левон бросил суровый взгляд на женщин, как будто они были виноваты в случившемся.
— Поскользнулся, упал, повредил ногу, — объяснил я.
— Сейчас сбегаю за врачом!
Старуха сказала, что послала за доктором.
— Не надо нам их доктора! Своего приведу! — ответил Левон и убежал.
Примерно через час у моего изголовья состоялась словесная и довольно смешная баталия между двумя корифеями медицинской науки.
Домашний врач хозяйки пришёл на десять минут раньше. Круглолицый, пузатенький, в очках с золотой оправой, с аккуратно подстриженной бородкой, он имел вид сытого, благообразного буржуа средней руки. Не успел он осмотреть мою ногу и задать несколько вопросов, как в сопровождении Левона вошёл второй врач — высокий, костлявый, в сапогах и гимнастёрке военного образца.
— Ничего страшного, — сказал домашний врач. — Ушиб и лёгкое кровоизлияние. Положите холодный компресс, а завтра делайте ванны и массаж. Опухоль рассосётся, и температура спадёт.
— Разрешите взглянуть, — попросил высокий. — Вы, коллега, не хирург, и ваш диагноз вряд ли может оказаться решающим!
— Возможно, но помощь хирурга в данном случае может скорее осложнить, чем ускорить выздоровление!
Высокий, не обращая внимания на эти обидные слова, внимательно осмотрел мою ногу и с осуждением взглянул на домашнего врача.
— К вашему сведению, этот молодой человек недавно перенёс на почве ранения гангрену! Кожа на ноге не успела загрубеть, а вы рекомендуете ванны и массаж! Ему нужен покой, хорошее питание и свинцовые примочки.
Бородач схватил свой саквояж и с оскорблённым видом удалился. Прописав жаропонижающее, ушёл и высокий.
Левон задержался. Он расспрашивал, как ко мне здесь относятся, хорошо ли кормят, не нужно ли мне чего?
— Всё в порядке!.. Если не трудно, принеси свежие газеты. Я тут как в клетке — не знаю, что творится на белом свете. И достань, пожалуйста, бритву.
— Газеты принесу. А вот зачем тебе бритва — не понимаю! Кому хочешь понравиться?
— Самому себе!.. Видишь, как оброс.
— Ладно, достану, наводи красоту. Смотри, на этих краль не заглядывайся! — Он показал глазами на двери. — Им дай только повод, вмиг сядут на голову. Для нашего брата совсем неподходящее занятие водиться с ними!..
— Перестань! Никто и не собирается с ними водиться. Каждый день для меня здесь в тягость!.. Кстати, Левон, по-моему, старшая, Белла, порядочная язва!..
— Сказал тоже — язва!.. Она не только язва, а настоящая контра. В организации националистской молодёжи состояла!
Эти слова Левона не на шутку озадачили меня. Конечно, тот факт, что дочь богатых родителей связалась с контрреволюцией, удивления не вызывал. Неприятность для меня заключалась в ином — она была сестрой Маро.
После ухода чекиста я долго думал об этом.
Ночью возле меня дежурила Ашхен. Никакие уговоры не подействовали. Она просидела в моей комнате до утра. Свинцовые примочки помогли — боль в ноге утихла, но температура держалась.
Утром Ашхен заменила Маро. Она принесла завтрак и потом, убрав тарелки, села с книжкой в кресло.
— Хотите, я вам почитаю?
— Спасибо, лучше поговорим, — ответил я.
— Хорошо, но с условием, что рассказывать будете вы. Я ведь так мало видела, никуда не выезжала. Дом, школа, мама, папа, книги!.. — Маро говорила искренне.
— О чём же вам рассказать? — Я украдкой любовался ею.
— Уж вам-то грешно задавать такие вопросы! Вы так много успели увидеть…
Не знаю почему, но мне вдруг захотелось рассказать о своей жизни. Может быть, это было естественное желание излить перед кем-нибудь душу, — я ведь так много пережил за последние десять месяцев!..
Подробно описал я наш посёлок на голом известковом холме, недалеко от железной дороги. Вспомнил, как по ночам меня будили гудки паровозов и я мечтал в один прекрасный день сесть в поезд и уехать в далёкие страны. Рассказал о своём отце, о том, каким он был для меня замечательным другом, товарищем.
Странно, чем больше отдаляло меня от отца время, тем лучше, казалось мне, я узнавал его. В воспоминаниях моих он воскресал сильным человеком с железной волей и непоколебимыми убеждениями. Поколение отца — рабочая гвардия великого Ленина — поистине было удивительным!..
Рассказал я и о школьных годах, — как ребята дразнили меня «артистом», а однажды чуть не избили, не будь моего дружка Кости Волчка, который воюет сейчас где-то в горах первым номером пулемётного расчёта. В моих воспоминаниях особое место занимала мама, но мне трудно было находить слова, чтобы передать мои чувства к ней.
— Мама у меня стройная, как девушка, красивая, умная, образованная, а главное — очень, очень добрая!
— Вы любите маму? — тихо спросила Маро.
— Ещё бы!.. Мне кажется, — нет, не только кажется, я в этом убеждён, — что такой, как она, больше нет на свете!.. Она из богатой семьи, но с родителями порвала, оставила привычную среду и соединила свою судьбу с моим отцом — революционером…
Мой рассказ произвёл впечатление. Маро слушала не шевелясь, глаза её стали ещё задумчивее. Она умела слушать.
Воодушевлённый её вниманием, я описал всё, что случилось со мной после бегства из дома, умолчал только о своих приключениях в тылу у белых и о позорном случае с сапогами. Подробности моего решения, борьба с врачами за спасение ноги от ампутации заставили Маро побледнеть.
— Сколько вы пережили! — Она торопливо поднялась и вышла. Мне показалось, что на глазах у неё блеснули слёзы.
Со временем у нас установились дружеские отношения. По вечерам Маро приходила ко мне, садилась у окна, и мы разговаривали, главным образом о прочитанных книгах. Выяснилось, что мы любим одних и тех же писателей, что нас одинаково сильно волнуют судьбы героев Стендаля и Толстого. Мы вслух читали стихи. Маро помнила их гораздо больше, чем я. Особенно хорошо она читала моего любимого Лермонтова.
…Гляжу в окно: уж гаснет небосклон,
Прощальный луч на вышине колонн,
На куполах, на трубах и крестах
Блестит, горит в обманутых очах…
Как печально, как задушевно звучали эти стихи, прочитанные ею!..
Маро избегала говорить о себе, но всё же кое-что я узнал о ней. У её отца был винный завод — он поставлял вино во многие города России. Человек деспотичный, скупой, он для дочерей не жалел ничего, хотя и сокрушался, что не имеет сына, которому мог бы оставить наследство. Честолюбивый по натуре, он связался после революции с националистами, занимал какие-то важные посты в их марионеточном правительстве. Мать Маро тоже родилась в богатой, потом разорившейся семье. Отец женился на ней, пленившись её красотой и не взяв приданого. У тёти Ашхен судьба сложилась по-иному: муж её убил жандармского офицера за то, что тот слишком притеснял местное население. Ему удалось скрыться. Не найдя иных средств для жизни, он занялся контрабандой и погиб, застигнутый в горах снежным бураном. Тело его нашли только весною.
— Тётя Ашхен до сих пор свято хранит память о муже. Она любила его самоотверженной любовью, на которую способны только женщины Востока, — сказала Маро.
— Почему же только женщины Востока? — спросил я.
— Не знаю, — тихо ответила она.
Поправляя подушки, Маро наклонилась, её мягкие душистые волосы коснулись моего лица. Потеряв над собою власть, я схватил маленькую, тёплую руку девушки и поцеловал. Руки она не отняла, только печально посмотрела на меня. Губы у неё дрожали. Ничего не сказав, она выскользнула из комнаты.
Какие чувства и мысли терзали меня после этого случая — трудно передать. Теперь в ожидании прихода Маро я с замирающим сердцем прислушивался к каждому шороху в доме. И если она немного запаздывала, я не находил себе места, метался в постели как сумасшедший. И во сне и наяву мысли мои были поглощены только ею. Я даже перестал читать, — книги не доставляли мне такой радости, как бывало. Иногда во мне пробуждался разум. В такие минуты я старался внушить себе, что поступаю глупо. Полюбить меня Маро не может. Да и я не должен любить её!.. Но стоило ей появиться, стоило мне увидеть её милое лицо, услышать её тихий голос, как разумные доводы мои улетучивались и я опять терял голову.
Теперь Маро держалась настороже, старалась не приближаться к моей постели, хотя по-прежнему была приветлива и ласкова.
Здоровье моё улучшалось с каждым днём, опухоль на ноге рассосалась, температура давно была нормальной. Появился аппетит, и я поглощал всё, что приносили Маро и Ашхен. Наконец врач разрешил встать с постели. Опираясь на костыли, я раза два прошёлся по комнате — ничего, только слегка кружилась голова.
Левон часто навещал меня. Принёс он и обещанную бритву.
— Наводи красоту, чтобы явиться в горком молодцом! Тамошние девушки часто справляются о твоём здоровье, а товарищ Брутенц ждёт тебя, — сказал он.
— Уж и ждёт!.. Зачем я ему?
— Значит, нужен. Он связался с твоим полком, и комиссар дал тебе великолепную рекомендацию. Иван Силин и такой и сякой!..
— Чепуху мелешь!
— Сам читал… Оказывается, ты тоже работал в Чека. Почему ничего не говорил об этом?
— Не о чем было рассказывать…
— А что случилось?
Выслушав мою исповедь, Левон покрутил головой.
— Здорово!.. Говоришь, чуть в расход не пустили? Бывает!.. Нашему брату нужно держать себя особенно аккуратно, чтобы пылинка не пристала. На то мы и стражи революции. Ничего, говорят, за одного битого двух небитых дают! Ты уже имеешь опыт и впредь не ошибёшься.
— К счастью, работа в Чека мне не угрожает!
— Это ещё как сказать! Пошлют — будешь работать.
— Сперва поеду в полк. Как там скажут, так тому и быть.
— Как партия скажет, так и будет…
Я был уверен, что меня никто не задержит, но после ухода Левона невольно задумался, — он чего-то не договаривал.
Первый раз после болезни я вышел в столовую и сразу заметил, что отношение ко мне изменилось. В ответ на приветствие старуха едва кивнула, а Белла и вовсе не ответила. Я решил, что просто надоел им и что надо мне как можно скорее выбираться отсюда.
Вечером, когда Маро заглянула ко мне, я спросил:
— Почему ваша мать и сестра встретили меня сегодня так холодно?
— Вам показалось. — Она смутилась, опустила глаза.
— Нет, не показалось! Впрочем, понятно — я надоел.
— Нет, совсем не то!
— Что же тогда?
— Мама запретила мне ходить к вам, а я… я не послушалась… Вы не должны сердиться на неё, она так воспитана!..
— Ответьте мне, Маро, на один вопрос… Почему вы не послушались мамы?
Она некоторое время сидела молча.
— Мне так было интересно слушать вас! — ответила она наконец. — Вы совсем не похожи на тех молодых людей, которые окружали нас…
— Но ведь я большевик!
Она молчала ещё дольше, прежде чем ответила:
— У вас есть цель в жизни, вы знаете, чего хотите… А у меня — ни цели, ни убеждений, ничего!..
— Маро, милая Маро!
Я обнял её, привлёк к себе. Она задрожала, прошептала: «Не надо, не надо…» Но я не хотел ничего слушать. Губы наши встретились.
Все последующие дни я был счастлив — бездумно, самозабвенно счастлив. Чего стоили все мои мудрствования по сравнению с тем счастьем, какое я испытывал теперь! Я радовался каждой мелочи, строил радужные планы на будущее, не думая о том, что на пути к моему счастью могут возникнуть препятствия. Между тем их оказалось даже больше, чем можно было предполагать…
Началось с того, что старуха и Белла перестали разговаривать со мной. Это было полбеды, — мне самому опостылело пребывание у них, и, если бы не Маро, я ушёл бы немедленно. Главное заключалось в другом: мать и сестра преследовали бедную, девушку. Она часто приходила ко мне с красными от слёз глазами, и, хотя ничего не рассказывала, я сам догадывался о причинах её слёз.
Случайно подслушанный семейный разговор моих хозяев окончательно подтвердил мои подозрения.
— Скажи, пожалуйста, Белла, почему ты отравляешь жизнь Маро? Что тебе от неё нужно? — гневно спрашивала Ашхен.
— Вы ничего не понимаете, тётя! Она просто бессовестная — забыла о нашем несчастном отце и кокетничает с этим хромым большевиком! — отвечала Белла.
— Ну конечно, где мне понять! Ты же умнее всех! Я об одном прошу вас — оставьте Маро в покое. Это относится и к тебе, сестра!
— А я прошу не вмешиваться в дела, которые тебя не касаются! — сказала старуха.
— Я вообще могу уйти от вас, мне всё равно, где быть прислугой! — Ашхен хлопнула дверью и вышла.
— Вот и Ашхен начала дерзить! Боже мой, боже мой, что творится на свете! — сокрушалась хозяйка. По-моему, лучше всего отослать Маро в деревню к дяде, там она забудет о своём большевистском рыцаре! — предложила Белла.
— Не знаю, ничего не знаю, — со слезами в голосе ответила мать.
Мне стало невыносимо оставаться в этом доме. В тот же день я бросил костыли, взял палку и прошёлся по комнате. Ступать на раненую ногу было больно, но всё-таки я сумел пройти несколько раз из угла в угол и так обрадовался, что решил уйти сейчас же, не откладывая.
Нашёл Маро одну в библиотеке и шепнул ей:
— Нам нужно поговорить.
Она молча кивнула, и я ушёл к себе.
После ужина в доме, как всегда, стало тихо. Я взял книгу, сел в кресло, но читать не мог. Сидел, думал. Маро полюбила меня — это правда. Такая искренняя и чистая девушка, как она, не может притворяться, да зачем, ради чего? Однако она не ребёнок и должна отдавать себе отчёт в том, что её любовь ко мне связана со множеством осложнений и жертв. Хватит ли у неё решимости, воли претерпеть из-за меня всё, что встретится ей в жизни? Или я уйду — и она забудет меня?.. Такой конец больше всего страшил меня.
Но где-то в глубине души шевелилась и другая мысль: что скажут мои товарищи по партии, узнав о моей любви к дочери врага? Ведь Левон уже однажды предостерегал меня…
Маро пришла поздно. Она была сильно взволнована, бледна.
— Что случилось? — спросил я.
— Ничего, просто устала. — Она избегала моего взгляда.
Мы проговорили почти до рассвета. Вернее, говорил я, а она слушала. Прежде всего я рассказал всё, что слышал днём.
— В этом нет ничего неожиданного, — говорил я как можно мягче. — В их глазах я бездомный босяк, к тому же большевик, враг, и, конечно, недостоин тебя! — Я и не заметил, что стал говорить ей «ты». — Но раз мы любим друг друга, то сможем преодолеть любые препятствия. Завтра я ухожу. Без меня твоя мать, а в особенности Белла будут внушать, что я тебе не пара, что, полюбив меня, ты загубишь свою жизнь. Сможешь ли ты отстоять нашу любовь? Будешь ждать меня?
Вместо ответа Маро обняла меня, прижалась ко мне. Я целовал её волосы, глаза, губы.
— Помни обо мне, — сказал я, всматриваясь в её бледное, осунувшееся лицо, — где бы я ни был, что бы со мной ни случилось, я всегда буду с тобой!
— Верю, верю! Только возвращайся скорее, — прошептала она. И от этих её слов сердце моё наполнилось теплотой, нежностью.
Мы долго сидели, прижавшись друг к другу, тихонько мечтая о нашем будущем. Как только кончится война, мы поедем в Ростов, к маме. Будем работать, учиться, заниматься музыкой. Я говорил Маро, что моя мама много поработала на своём веку, много пережила и заслуживает отдыха. Мы должны обеспечить ей спокойную старость. Маро во всём соглашалась со мной.
Приближался рассвет. В открытое окно дохнул свежий утренний ветерок. Пора было расставаться…
И вот я один стоял у окна. Спать не хотелось. Я смотрел, как вершины высоких гор медленно окрашивались в нежный розовый цвет. Рождался новый день.
Снова Чека
Я вышел на улицу и полной грудью вдохнул свежий воздух. Я был счастлив: наконец-то покинул дом, пребывание в котором так тяготило меня. В нём я оставил свои костыли: шагал, опираясь на палку, чуть прихрамывая.
Было тёплое солнечное утро. На деревьях набухли почки, кое-где зеленела трава. В арыках, вдоль узких тротуаров из каменных плит, весело журчала вода. Над головой, в голых ещё ветках деревьев не прекращался гомон птиц. Весна чувствовалась во всём.
Город тоже изменился и уже не казался мне
таким запущенным, пустынным, как тогда, когда я добирался до него из госпиталя. На улицах много прохожих, оживлённые, улыбающиеся лица, визг и крик детворы. Жизнь, судя по всему, постепенно налаживалась.
В горкоме партии девушки обрадовались моему приходу, но поговорить нам не пришлось. Открылась дверь кабинета секретаря, и товарищ Брутенц пригласил меня к себе.
— Заходи, заходи! Дай взглянуть, как ты выглядишь. Молодец, ну просто молодец! — он похлопал меня по плечу. — Поправился, в глазах задор. Видно, буржуйские харчи пошли тебе на пользу! — Он сел за стол, достал из ящика какую-то бумагу. — Полк твой разыскали, связались с комиссаром. Он о тебе хорошо отзывается и не возражает, если ты останешься здесь у нас.
— Не понимаю…
— Сейчас объясню. Война, брат, кончилась! Кое-кому из националистов и белогвардейцев удалось переправиться через персидскую границу, — англичане там приголубят их. Остальные сдались. Теперь нужно нам поскорее покончить с внутренней контрреволюцией, наладить мирную жизнь. Понял?
— Не совсем… Почему же я должен остаться здесь?
— Работать будешь! Армия демобилизуется, зачем же, спрашивается, тебе ехать в полк? Чтобы вернуться обратно?
— Я и не собирался возвращаться сюда… Поеду к себе, вернусь в мастерские. У меня в Ростове мать осталась.
— Коммунист, друг мой, обязан работать там, где он больше всего нужен, — таков железный закон нашей партии. Ты перестал быть бойцом Красной Армии, но остался солдатом партии и обязан подчиняться её решениям!
Я, понурив голову, напряжённо думал. Понимал, конечно, что секретарь прав. Если каждый коммунист будет поступать по-своему — что же получится? С другой стороны, очень уж не хотелось оставаться здесь. «Раз нельзя в полк, лучше ехать домой, чем оставаться в незнакомом городе… Об этом мы и с Маро договорились!» — думал я.
— Что я смогу здесь делать? Ведь я ничего не умею, кроме как точить болты да стрелять из винтовки…
— Будешь работать в Чека! — был ответ.
От неожиданности я даже привскочил.
— Ну уж нет! Где угодно, только не в Чека!..
— Что так?
— Однажды я там уже осрамился, хватит с меня…
Строгое лицо секретаря посветлело.
— Краем уха я слышал о твоих приключениях. Ничего. Кто не ошибается? Важно не повторять ошибки. Комиссар ваш, товарищ Власов, пишет, что ты сообразительный парень, хорошо выполнил важное задание и вообще прирождённый разведчик. К тому же ты знаешь французский язык, а у нас — граница, перебежчики, шпионы. Кому же работать в Чека, как не тебе? Я уже говорил с председателем Чека, он ждёт тебя.
Я был в затруднительном положении: не пристало мне, молодому коммунисту, упираться, а секретарю уговаривать меня, словно красную девицу.
— Товарищ Брутенц, буду с вами совершенно откровенным, — сказал я. — Если вы спрашиваете, согласен ли я остаться здесь и работать в Чека, я отвечу: нет, не согласен. Но если это приказ партии, то ответ у меня один: распоряжайтесь мной, как найдёте нужным.
— Вот это ответ коммуниста! — Секретарь улыбнулся и перешёл на дружеский тон. — Пойми, Иван, ты нам очень нужен. В Чека собрались хорошие боевые ребята, они помогут тебе. Не сомневаюсь, что ты станешь настоящим чекистом.
Судьба моя решилась.
Брутенц позвонил председателю Чека и попросил его прислать за мной Левона.
— Прежде всего устройте Силина с жильём, а решение об откомандировании его в ваше распоряжение пришлю завтра, — сказал он и повесил трубку.
Дальше всё пошло очень просто. Явился Левон, повёл меня в Чека, к председателю.
Товарищ Амирджанов, высокий, худой, бледный, с острыми, пронизывающими глазами, показался мне сухим, чёрствым.
Ещё больше я уверился в этом, когда он начал говорить. Коротко, отрывисто.
— На первых порах приглядывайтесь, знакомьтесь с делами. Следите за иностранной прессой, — там иногда бывают любопытные сообщения. У старшего коменданта получите мандат и карточки на паёк. Место, где будете жить, покажет вам Левон. Всё. Вопросы есть?
Вопросов не было. Признаться, я был ошеломлён таким приёмом.
Он даже не пригласил меня сесть…
— Можете идти. Да, есть у вас оружие? — спросил он.
— Есть наган, полученный лично от комиссара полка, — не без гордости сказал я.
— Чекисту одним наганом не обойтись. Попросите у коменданта браунинг и держите его всегда в заднем кармане. Идите.
Моё невинное хвастовство не произвело на председателя никакого впечатления, он даже не поинтересовался, за что я получил наган «лично от комиссара».
Старший комендант, молодой человек атлетического сложения, встретил меня приветливо, с детски доверчивой улыбкой на лице, совершенно не вязавшейся с его ростом и шириной плеч. Он тут же приказал машинистке напечатать мандат, отнёс его на подпись председателю и, возвратясь, выдал мне ещё удостоверение, карточки, талоны на обед и маленький, хорошо смазанный браунинг.
— Сегодня отдохни, а завтра в девять часов приходи на работу. Снимешься у нашего фотографа, — наклеим карточку на удостоверение. Возникнут вопросы — обращайся прямо ко мне без стеснения, — сказал он и спросил: — В шахматы играешь?
— Нет.
— Научу! По ночам, во время дежурства, неплохо сыграть партию-другую. Время быстрее летит!..
Выйдя из кабинета, я не удержался и тут же, в приёмной, заглянул в выданный мне мандат. Заглянул и ахнул — какие только права не предоставлялись мне! Беспрепятственно пользоваться всеми видами транспорта и связи, в том числе прямым проводом; задерживать людей, подозреваемых в контрреволюции, спекуляции, бандитизме; беспрепятственно посещать все правительственные учреждения и пограничные посты; изымать из советских учреждений необходимые документы; носить любые виды оружия и, в случае необходимости, производить обыск без специального на то ордера. В конце мандата — обращение ко всем советским, партийным, военным и иным органам власти оказывать мне полное содействие при исполнении мною служебных обязанностей… Словом, ничем не ограниченные права!..
На улице Левон, шагая рядом, весело болтал:
— Сведу тебя к одной симпатичной пожилой женщине. Она хотя и не в партии, но вполне своя; во время подполья скрывала наших товарищей, не одного спасла от верной смерти. У неё домик из двух комнат, тебе там будет хорошо. Конечно, это не хоромы, где ты обитал, зато чисто, уютно. И садик есть, а в нём шелковицы, виноград, персики!..
— С какой радости она сдаст мне комнату? Мне ведь и платить-то ей нечем!..
— Чудак! Сказано, тётушка Майрам мировая женщина. Мы уже уговорились с ней…
— Как, разве ты знал, что я останусь здесь, буду работать у вас?
— Конечно, знал! — самоуверенно ответил Левон. — Какой же я чекист, если не буду знать таких простых вещей?
— А всё-таки, как ты узнал?
— Очень просто — путём логического мышления! У нас создан новый отдел. Но в нём нет ни одного сотрудника, знающего иностранные языки. Даже для допроса шпионов приглашают людей со стороны. Это раз. Ты имел отношение к разведке, что видно по письму вашего комиссара, и знаешь французский язык. Два. А в-третьих, я и сам немного постарался — рассказал про тебя товарищу Амирджанову, а он договорился с секретарём горкома.
— Мне остаётся только поблагодарить тебя за такую услугу. Подложил свинью и доволен…
— Не стоит благодарности! Свои люди — сочтёмся.
— А председатель ваш не понравился мне, — он сухарь!..
— Не торопись с выводами! Товарищ Амирджанов замечательный человек. Умница, чекистскую работу назубок знает — недаром был руководителем большевистского подполья. Познакомишься с ним поближе — увидишь!
Миновав узкие, пыльные улочки, мы вышли к бурной речке. Здесь начиналось царство садов и огородов.
Домик тётушки Майрам с плоской земляной крышей, как и все дома по соседству, стоял в глубине сада, за глинобитным забором, и издали казался игрушечным — так он был мал и низок. Открыв скрипучую калитку, мы с Левоном вошли в сад. На пороге домика показалась полная, краснощёкая женщина лет сорока пяти, с необыкновенно живыми глазами и приветливым лицом.
— Тётушка Майрам, вот я и привёл к тебе моего друга Ивана, о котором рассказывал! — Левон указал на меня. — Он парень что надо, — надеюсь, будешь любить его так же, как меня!
— Баловник ты, Левон! Откуда знаешь, что я люблю тебя? — К моему удивлению, моя будущая хозяйка неплохо говорила по-русски.
— Сердцем чую, а сердце, как тебе известно, никогда не обманывает.
— Хорошо, пусть так… Заходите, заходите в дом!
Комнатки с земляным полом оказались крошечными, но очень чистыми. Одно удивило меня: в них не было ни кроватей, ни столов, ни стульев — вообще никакой мебели. Как же тут спят, обедают? В первой комнате, размером чуть побольше, вдоль двух стен тянулось нечто вроде тахты с длинными набитыми шерстью подушками.
— Садитесь, отдохните, — предложила хозяйка, — я вина принесу.
— Спасибо, тётушка Майрам, как-нибудь в другой раз!
— Что так?
— Мне ещё на работу. Нехорошо, когда пахнет вином. Председатель этого терпеть не может… Будь здоров, Ваня! Надеюсь, завтра ты найдёшь дорогу. До свидания, тётушка Майрам.
— До свидания, сынок, приходи, не забывай!..
Левон вышел. Я нагнал его в саду.
— Послушай, может, мне пойти с тобой? Я очень голоден, с утра ничего не ел, — признался я.
— Не беспокойся! Тётушка Майрам накормит. — Он помахал мне рукой и скрылся за калиткой.
Хозяйка дала мне воды умыться, накрыла на низеньком столике ужин, состоявший из тонких, как бумага, лепёшек, брынзы и кувшина красного вина.
— Ешь, сынок, ешь! — угощала она.
Пока я уплетал лепёшки с брынзой, тётушка Майрам рассказывала о себе.
Муж её был знаменитым каменотёсом — умел не только обрабатывать гладкие плиты для строительства домов, но и высекать на них затейливый орнамент — виноградные лозы, оленей, орлов. Слава о его мастерстве распространилась по всей округе, и от заказчиков не было отбоя. Человек он был тихий, скромный и вдруг, неожиданно для всех, принял участие в Александропольском восстании. Дашнаки расстреляли его. Детей у тётушки Майрам не было.
— Вот и живу одна. В саду, в огороде сама работаю. Две овцы имею. Зимой платки вяжу, продаю. Жить надо! — Она вздохнула. — Спасибо товарищам мужа, — часто навещают…
Мы беседовали до поздней ночи. Одиночество угнетало тётушку Майрам, и, по-видимому, она была рада, что я поселился у неё. Узнав, что моя мать тоже армянка, она воскликнула:
— Вижу, вижу, в тебе есть что-то наше! Волосы светлые, глаза серые, а лицо смуглое, русские редко смуглые бывают!
Она постелила мне прямо на полу, принесла кувшин воды и, пожелав спокойной ночи, ушла.
Моя постель состояла из двух толстых тюфяков, длинной подушки и шерстяного одеяла. Простыню заменял цветной ситец. Прежде чем заснуть на этом мягком и жарком ложе, я долго думал о Маро, строил планы встречи с нею и, не найдя ничего лучшего, решил написать письмо до востребования, хотя и знал, что она не скоро пойдёт на почту. Ведь она уверена, что я уехал на фронт. В конце письма сообщил ей свой адрес.
Нужно ли говорить, что у тётушки Майрам, этой простой, приветливой женщины, я чувствовал себя куда лучше, чем в богатом, полном достатка, но чужом и враждебном доме?
Утром, выпив кружку горячего молока, я отправился на работу. Мне отвели небольшую комнату. Начальник отдела Челноков подвёл меня к железному шкафу, наполненному папками, и посоветовал для начала ознакомиться с делами.
— Газеты, издаваемые на французском языке, — сказал он, — мы получаем с большим опозданием, но просматривать их всё же стоит. Если найдёшь что-либо интересное, переводи. Ещё один совет: надеюсь, ты понимаешь, что всё, что здесь увидишь, прочтёшь и узнаешь, — строжайшая тайна!
До сих пор я не имел ни малейшего понятия о методах работы иностранных разведчиков — даже приключенческих романов не читал, разве только о похождениях Шерлока Холмса. Но они не шли ни в какое сравнение с тем, с чем я столкнулся. Со страниц запылённых документов — показаний задержанных, опросных листов — вырисовывались зловещие фигуры матёрых шпионов, диверсантов, вредителей, нарушителей границ, контрабандистов. Удивительные, порою фантастические дела! На каждом шагу хитрость и коварство. Английский разведчик, выдающий себя за учёного этнографа; сотрудник АРА (американская организация помощи голодающим) — профессиональный шпион; магометанский мулла в роли организатора диверсии; учитель — террорист; инженер, завербованный французской разведкой; портниха — связная; парикмахер — «почтовый ящик»; настоятель монастыря — хранитель оружия. Секретные адреса, специальные явки, разные средства тайнописи. Подкуп, обман… Я и подозревать не мог, что в человеческом обществе столько грязи!..
Дела, которыми занимались мы с Акимовым, казались мне теперь сущими пустяками. Подумаешь, много ли ума нужно, чтобы произвести обыск по ордеру или задержать грабителя? А вот попробуй разоблачи опытного шпиона, владеющего солидными документами или прикрывающегося иностранным паспортом! Докажи неопровержимыми фактами виновность, прежде чем получишь разрешение его задержать. Позволяй шпиону разгуливать на свободе, пока не узнаешь его сообщников и явок, но сумей обезвредить его и не дать исчезнуть бесследно…
Чем больше читал я документов, тем сильнее убеждался, что здесь требуется тонкая, «ювелирная» работа, изворотливость и смекалка…
Выдали мне паёк: два килограмма мяса, вернее, костей с мясом, пять селёдок, коробку сахарина, полкилограмма сыра, десять коробок спичек, четыре пачки махорки, четыре коробки папирос и два куска тяжёлого, мокрого мыла. Завернув всё это в бумагу, я шёл домой расстроенный: ну как прожить мне целый месяц? Правда, раз в день мы бесплатно обедали в столовой (денег нам вообще не выдавали), получали четыреста граммов ржаного хлеба, а во время ночных дежурств ещё и ужин.
Голодным я не ходил, — тётушка Майрам делилась со мною всем, что имела. Я надеялся, что сумею расплатиться с нею своим пайком. Как же быть теперь?
Я отдал ей свёрток и вышел в сад. В нём было хорошо. Всё зеленело. На фруктовых деревьях лопались бутоны. Гудели пчёлы. Слышалось журчание реки. Небо было голубое-голубое… Но я ничего этого не замечал, настроение у меня было скверное. «Скоро восемнадцать лет, а ты даже прокормить себя не можешь!.. Мама не пишет. Маро не ответила на письмо, да, наверно, и не ответит… На работе тоже ничего светлого, — копаешься в грязных делах шпионов, читаешь старые французские газеты, в которых нас, большевиков, ругают дикарями, варварами, предсказывают скорую гибель Советской власти…» Беседуя таким образом сам с собой, я вышел к реке, сел на камень и долго смотрел на мутную, пенившуюся воду…
— Ваня, Ваня, где ты? — раздался голос тётушки Майрам за моей спиной.
Я нехотя встал и пошёл домой.
— Почему есть не идёшь? Садись, поешь. Вина налью.
В моей комнате, на подносе, уже лежали лепёшки и брынза.
— Спасибо, тётушка Майрам! Не смогу я больше есть у вас…
— Голодный ходить будешь? Или лепёшки плохие, брынза надоела? Другое б подала, да весна, запасы кончились, — сокрушалась добрая женщина.
— Что вы! Лепёшки у вас замечательные и брынза отменная, но… видели, какой паёк получил? Не могу неё я объедать вас!
— Нехорошо говоришь, очень нехорошо! Мука есть, овцы есть. Дотянем, пока поспеют овощи, фрукты. Скоро паёк станет больше, не всегда так будет. Садись, сынок, поешь. Обидные слова не говори! — Тётушка Майрам погладила меня по голове, и я покорился.
В конце ужина она вспомнила:
— Совсем забыла! Тебе письмо пришло!
Я нетерпеливо схватил письмо, распечатал конверт. Маро писала по-французски:
«Дорогой Ваня!
У меня нет слов, чтобы выразить свою радость! Как хорошо, что ты остался в нашем городе.
После того как ты ушёл, мир для меня стал необитаемым. От тоски не знаю, куда деваться.
Ты спрашиваешь: можем ли мы встретиться? Что за вопрос? Конечно! Напиши, когда и где.
Дома у нас всё по-прежнему.
Почему пишу по-французски, ты знаешь. За ошибки извини. Поверь, я старалась.
Напиши поскорее!
Маро».
— Мать пишет? — поинтересовалась наблюдавшая за мною и видевшая моё взволнованное, радостное лицо тётушка Майрам.
— Нет… Это от одной хорошей девушки. До выздоровления я жил у них в доме…
— Кто же они? Пришлось объяснить.
— Знаю! — Тётушка Майрам сразу помрачнела и добавила: — Нехорошие люди, совсем плохие люди!..
Утром, по дороге на работу, зашёл в городской сад и решил, что лучше всего встретиться с Маро на скамейке против фонтана. Так и написал ей…
Прошло больше трёх недель, прежде чем меня допустили к оперативной работе, да и то мелкой.
В середине дня вызвал меня Челноков, начальник отдела, и сказал:
— В три часа к тебе придёт один гражданин из ресторана «Европа». Человек он свой, вполне можешь доверять ему. Зовут его Маркар. Он сильно пострадал: отец его погиб во время войны с турками, брата расстреляли дашнаки. Сам тоже сидел у них в тюрьме, хотя и не был большевиком. Теперь он помогает нам — сообщает полезные сведения. Будь с ним помягче. Выслушай его внимательно и запиши всё, что он расскажет, даже мелочи. Потом доложишь.
Вскоре ко мне пришёл человек средних лет в потёртом чёрном костюме.
— Садитесь, — пригласил я его и протянул пачку папирос. — Закуривайте!..
— Спасибо, — человек затянулся табачным дымом и, как бы изучая меня, некоторое время смотрел мне в глаза. — Вчера Пижон опять заказал ужин на троих, — без всяких предисловий начал он. — Кизиловую водку и шесть бутылок вина!.. Ужин подавал я, но гостей увидеть не удалось. Пижон встретил меня в передней, отдал деньги и велел за посудой не приходить. «Я сам пришлю», — сказал. А сегодня укатил в Т…
Он замолчал, следя за дымом папиросы.
— Всё? — разочарованно спросил я. Я-то надеялся узнать что-то важное, а тут какой-то Пижон заказал ужин и шесть бутылок вина. Подумаешь, событие!
— Нет, не всё… Третьего дня был у нас в ресторане господин Погос с компанией. Вы, конечно, слыхали про него? Ну, тот длинноволосый журналист в пенсне! Он был изрядно выпивши и вслух болтал всякую ерунду.
— Например?
— Что большевики — наивные люди, думают, что им удастся долго продержаться у власти без помощи интеллигенции. Одно дело захватить власть, другое — управлять страной. «Подумайте, — говорил он, — бывший кузнец — председатель ревкома, городской голова, значит, а малограмотный наборщик — редактор газеты! Он, этот невежа, осмеливается учить меня, старого газетного волка, как нужно писать. Шалишь, я под его дудку плясать не стану».
— А как на это реагировали его собеседники?
— Молчали.
— Сколько их было, вы всех знаете?
— Кроме господина Погоса, ещё трое. Одного знаю, Шаварш, артист… И последнее: в городе появилась известная эсерка, по кличке «Искра». Настоящего имени её никто не знает. Вчера она была у нас. Села в самый дальний угол, спиной к двери, пообедала на скорую руку и ушла… Вот теперь всё!
Я поблагодарил и отпустил его.
Сверх всякого ожидания, Челноков отнёсся к моим сообщениям очень серьёзно и, когда я кончил, объяснил:
— Пижон — условная кличка резидента английской разведки. Ловкий, сукин сын!.. Его настоящая фамилия Мансари, Гасан Мансари, запомни. Он персидский подданный, выдаёт себя за коммерсанта. Говоришь, заказал ужин на троих? Значит, к нему опять пожаловали гости, а мы прозевали!..
— Почему же мы не задержим его, если известно, что он английский шпион? — спросил я.
— И не просто шпион, а резидент — руководитель всей шпионской сети! Тут большая разница. Подумай сам — чего мы добьёмся, если засадим этого господина?
— Как чего? Обезвредим его!
— И потеряем все нити!.. Нет, Силин. Посадить его легче лёгкого, а вот знать каждый его шаг, знать всех его агентов — это посложнее! Ты скоро займёшься им и убедишься в этом. А теперь отправь через шифровальный отдел телеграмму в Т. — предупреди, что Пижон выехал туда.
Пока я составлял текст телеграммы, Челноков куда-то позвонил и спросил, что известно об эсерке Искре. Полученный ответ, по-видимому, не удовлетворил его.
— На то она и Искра, чтобы умело заметать следы! — отвечал он в трубку. — Недаром царские охранники годами гонялись за нею и так и не поймали… А вы не спите, нужно взять её… Нет, на улице неудобно!
Подписывая телеграмму, он дал мне дополнительные разъяснения:
— Искра — кличка Ольги Шульц. Она была членом Закавказского центра партии эсеров. Сейчас эсеры тесно связаны с английской разведкой в Персии. Вот её нужно изолировать!
Я был удивлён осведомлённостью своего начальника и в душе завидовал ему: ведь он был старше меня всего лет на семь-восемь!
— А что будем делать с тем, журналистом Погосом?
— Пока ничего, это просто пустозвон!.. Придёт время, предупредим его. Не поможет — тогда и решим.
Отпуская меня, Челноков дал новое задание:
— Разыщи в архиве дело Искры — Ольги Шульц и хорошенько изучи его. Если память не изменяет, в нём должна быть и её фотокарточка. Как только сотрудники секретно-оперативной части установят местопребывание эсерки, выпишем ордер, и ты поедешь за ней. Арест этой зловредной бабы нельзя откладывать в долгий ящик, — вряд ли она приехала к нам просто так. Одному идти за нею опасно. Попроси у старшего коменданта выделить тебе в помощь опытного оперативника. Будьте осторожны: Ольга Шульц отличный стрелок!..
Он долго и терпеливо инструктировал меня, как лучше взять Ольгу Шульц, как произвести обыск, на что обратить особое внимание.
Остаток дня я провёл за изучением дела эсерки Искры.
По документам охранки и коротким донесениям какого-то провокатора я ясно представил себе её подлинный облик. Фанатичка, морфинистка, любительница острых ощущений, террористка с мужеподобной внешностью. Вот в нескольких словах её характеристика. Маленькая пожелтевшая фотокарточка, хранившаяся в деле, подтверждала эту характеристику. Продолговатое волевое лицо, коротко подстриженные волосы, жёсткие глаза.
Вечером идти домой не пришлось. От нечего делать зашёл в красный уголок — он помещался в бывшей столовой богатого особняка, занятого сейчас Чека. Там стояло пианино.
Красный уголок был пуст. Я сел за пианино, стал тихонько наигрывать. Старый, расстроенный инструмент нельзя было и сравнить с великолепным концертным роялем в доме моих недавних «хозяев».
Играл долго. Мысли унесли меня далеко-далеко — домой. Вспомнилось, как мама, сидя рядом, отбивала обычно такт рукой: «раз-два, раз-два, раз-два…» Оглянулся, услышав негромкий шум у дверей, — там толпилось человек десять сотрудников.
— Играй, играй! Складно у тебя получается, — сказал пожилой чекист, входя в красный уголок. За ним последовали другие. Одни брали стулья, садились подле меня, другие пристроились на подоконниках. Пришёл и мой учитель по шахматам, старший комендант. Я сыграл им мазурку Шопена.
— Молодец! — похвалил меня пожилой чекист. — Жаль, пока ты один владеешь у нас этим инструментом!.. Ничего, скоро и другие научатся! Не мы, так наши дети, — добавил он.
— Товарища Силина к дежурному коменданту! — крикнул от дверей курьер.
Я закрыл пианино и побежал вниз.
— Всё готово, — сказал комендант, протягивая мне две бумажки. — Вот адрес и ордер. Извозчик ждёт у дверей. Кого хочешь взять с собой?
— Да мне всё равно…
— Возьми Левона. Кажется, вы с ним дружки, — веселее будет. К тому же он знает здесь все переулки и тупики. — Он вызвал Левона по телефону.
— Есть участвовать в операции с товарищем Силиным! — весело отрапортовал Левон, входя в комендатуру.
— Проверьте оружие, — приказал комендант, отпуская нас.
Мы молча сели в фаэтон, поехали. Я немного волновался. Левон, забившись в угол, о чём-то сосредоточенно думал. Фаэтон, мягко покачиваясь на рессорах, вёз нас по тёмным улицам спящего города.
Около церкви Левон велел извозчику остановиться. Зажёг спичку и ещё раз посмотрел адрес.
— Чертовщина какая-то!..
— В чём дело?
— Да, понимаешь, здесь других домов, кроме дома священника церкви Святой богородицы, нет!.. Не обосновалась же твоя эсерка у него?
— А почему бы и нет?
— Всё может быть! Пошли…
Мы тихонько вошли во двор церкви и обошли двухэтажный дом священника.
— Окна низкие, выпрыгнуть ничего не стоит, — прошептал Левон.
— Оставайся здесь, а я пойду один, — предложил я.
— Рискованно! — Левон задумался. — Тут, на заднем дворе, живёт сторож. Возьмём его с собой.
Подняли спавшего сторожа. Левон объяснил ему цель нашего прихода. Пожилой сторож, что-то испуганно бормоча, оделся и нехотя пошёл за нами. Мы встали по сторонам двери, и Левон приказал сторожу постучать.
Долго не отвечали. Наконец за дверью послышался хриплый голос. Я хотя и не понимал слов, но догадался, что спрашивают: «Кто там?»
Сторож что-то ответил. Дверь раскрылась, на пороге стоял седой священник. Не давая ему опомниться, мы быстро вошли и закрыли за собой дверь.
— Проверка документов! Нет ли у вас посторонних? — спросил Левон.
— Женщина одна попросила у меня приют дня на два… Кто она такая, как её зовут, не знаю, — ответил священник.
— Где она?
— Вот здесь… — Он повёл нас по коридору и показал на последнюю дверь.
Я без стука вошёл первым, держа в кармане наготове наган. Высокая худая женщина приподнялась на тахте и молча уставилась на меня. Луна освещала её костлявые плечи, короткие растрёпанные волосы.
— Прошу встать! — Левон в одну секунду оказался у её изголовья.
— В чём дело? — Тихий, спокойный голос Ольги Шульц плохо вязался с её грубоватой внешностью.
— Прошу встать! — повторил Левон.
Она накинула на себя платье, встала и, подойдя ко мне, сказала:
— Револьвер под подушкой…
— Нет, он уже у меня! — ответил Левон.
Поднялись на второй этаж. В просторной столовой, обставленной массивной дубовой мебелью, при свете керосиновой лампы я предъявил Ольге Шульц ордер на арест.
Она молча пожала плечами.
— После обыска поедете с нами!
Меня смущало спокойствие, даже равнодушие эсерки. Я всё время был настороже, ожидая какой-нибудь неожиданной выходки с её стороны. Но она неподвижно сидела на стуле возле стола, накинув на плечи пальто.
Во время обыска появилась толстая попадья в тёмном капоте. Прикрывая пышную грудь шалью, она взялась светить нам. Не переставая бормотала на ломаном русском языке:
— Зачем такой большой безобразий?.. Здесь «святой церковь! Батюшка уважать надо! Ночь спать надо…
Перебирая в шкафчике старинные книги в кожаных переплётах, должно быть духовного содержания, я заметил, что одна из них очень уж тяжела. Снял её с полки. Под переплётом, в аккуратно пригнанном ящичке, оказалась иностранная валюта. Деньги высыпали на стол, подсчитали: сорок английских фунтов, шестьдесят четыре доллара!
— Гражданин священник, — я не знал, как обращаться к попу, — почему не сдали иностранную валюту?
— Давно положил, забыл совсем, — ответил он, избегая смотреть мне в глаза.
Пришлось взять себя в руки, чтобы не нагрубить ему.
— Удивительно! — сказал я. — Пришла незнакомая женщина, вы её приютили, даже фамилии не спросили. Валюту спрятали под переплётом Евангелия — и забыли. Знаете ведь, что есть декрет о сдаче валюты и золота. В стране голод, дети умирают, нужно спасать их, а вы… Скажите, есть у вас золото? Может, тоже забыли?
— Нет у меня никакого золота!
— Не заставляйте нас переворачивать всё вверх дном, всё равно ведь найдём! — тоже с трудом сдерживая себя, сказал Левон.
— Ищите! — ответил священник.
Золота мы не нашли. В вещах Ольги Шульц тоже ничего особенного не оказалось, если не считать шприца и десятка ампул с морфием.
Составили акт, собрались уходить. Попадья, увидев, что мы уносим деньги, вцепилась в рукав моей гимнастёрки.
— Не дам, не дам! — истерично кричала она. — Деньги наши, надо бога бояться!
— Успокойте же её! — сказал я священнику, высвобождаясь из цепких рук попадьи.
Я не знал, как поступить с ним. Конечно, его можно было задержать за сокрытие валюты, не говоря уже о том, что он приютил у себя опасную террористку. Но имели ли мы право арестовать его без ордера? Как-никак духовное лицо… Я предложил священнику дать подписку о невыезде.
Он молча подписал бумагу.
Взяв с собой Ольгу Шульц, вышли во двор. Близился рассвет. Звёзды в безоблачном небе поблекли. Сели в фаэтон и отправились в Чека.
По дороге Ольга Шульц молчала, потом закурила. Как бы про себя сказала:
— Теперь, значит, они пришли на смену царским жандармам…
Я ничего не ответил, не желая вступать с нею в разговор.
Комендант, приняв арестованную, акт об обыске и валюту, предложил нам зайти в дежурку, отдохнуть.
Левон отказался, — попрощавшись со мной, он пошёл домой. Я остался — уж очень далеко было мне идти.
В дежурке стояли три койки, покрытые солдатскими одеялами. Я снял сапоги и завалился на одну из них. Нервы были напряжены, я долго не мог заснуть. Отправляясь за эсеркой, я думал, что меня ждёт «настоящее» приключение — сопротивление, перестрелка, может быть даже ранение. А на деле всё вышло до обидного буднично. Арестовал немолодую, усталую женщину и спокойно вернулся обратно… «Когда же наконец начнётся настоящая чекистская работа?» — думал я…
Проснулся от шума голосов. В комендатуру привели спекулянтов — скупщиков мыла. Они шумели, кричали, перебивая друг друга, доказывали свою невиновность.
— Подумаешь, мыло! — кричал один из них. — Это же не хлеб и не сахар!
— Какая же коммерция без купли и продажи? — доказывал другой.
— Что же, по-вашему, я должна торговать себе в убыток? — визжала толстая пожилая женщина.
— У меня жена, дети! Должен же я их прокормить! Не краду, не убиваю, занимаюсь честной торговлей, — говорил тощий человек в соломенной шляпе.
— Хватит галдеть! — прикрикнул на них комендант. — Коммерция, честная торговля! Посидите в подвале — будете знать, как скупать всё мыло и продавать из-под полы втридорога! Севчук, проводите коммерсантов в подвал, — приказал он дежурному.
Спекулянтов увели, и я пошёл получать паёк. Со вчерашнего дня во рту не было ни крошки.
В один присест съел все четыреста граммов тяжёлого, как глина, ржаного хлеба, выпил кружку кипятка и принялся за своё нудное занятие — перевод с французского ругательных статей и фантастических, высосанных из пальца сообщений. В то время я не понимал, что и моя скромная работа переводчика может принести пользу, что опытный разведчик из маленького, на первый взгляд ничего не значащего сообщения может сделать нужные выводы, а иногда и разгадать замыслы противника. Работа шла медленно, мысли мои блуждали вокруг вчерашних событий: как узнать, зачем приехала в наш город эсерка Шульц? Допросом ничего не добьёшься. У такой хитрой, озлобленной женщины, как она, признание клещами не вырвешь. Тут нужно что-то другое, а что?.. Поп тоже хорош: он, конечно, знал, кто такая Искра, всё было обусловлено заранее, ведь лучшее укрытие, чем дом священника в церковном дворе, трудно придумать. У попа и золото есть, но где? Попробуй найди. Мы с Левоном, кажется, всё перерыли — и напрасно.
Телефонный звонок прервал мои размышления. Комендант сказал, что какой-то военный, по фамилии Орлов, хочет видеть меня.
— Пропустите! — У меня даже сердце ёкнуло: неужели Костя Волчок?
— Разрешите, товарищ начальник? — раздался весёлый голос, и в комнату вошёл стройный военный в новенькой шинели — Костя!
Я вскочил со стула, мы крепко обнялись.
— Вот неожиданность! Садись, Костя, рассказывай, какими судьбами? Где наш полк, как товарищи — Кузьменко, комиссар, Шурочка, Пахомов?
— Как прикажешь, сразу отвечать или по порядку?
— Отвечай как хочешь! Не томи только!..
— Значит, так, — начал Костя. — Прежде всего, я тебе не Костя, даже не Костя Волчок, а командир пулемётной роты товарищ Орлов! Сюда заехал по дороге в Москву. Полк наш стоит у персидской границы. Все товарищи живы, здоровы и шлют тебе привет, особливо Шурочка. Она утверждает, что ты завладел её сердцем. Правильность такого утверждения установить, конечно, не легко, хотя улики против тебя есть!.. Будут ещё вопросы?
— Не дури ты!.. Скажи толком, зачем в Москву?
— Что значит — не дури? Я человек серьёзный. Еду учиться на курсах красных командиров при ВЦИК. Ты про такие курсы слыхал? То-то!..
— Поздравляю! Это, конечно, лучше, чем искать необитаемый остров!..
— С необитаемыми островами покончено, ищу настоящую жизнь. Знаешь, говорят, курсанты несут караульную службу в Кремле и чуть ли не каждый день встречают Ленина.
— Завидую тебе!
— Не один ты, многие позавидовали, когда узнали, что еду в Москву учиться. Не шутка, — была одна путёвка на всю дивизию. Вызывает меня комиссар и говорит: «Товарищ Орлов, ты храбро воевал с врагами советской власти и отличался дисциплинированностью. Мы решили рекомендовать тебя на учёбу. Поедешь в Москву на курсы при ВЦИК, станешь образованным красным командиром. Надеюсь, не уронишь честь нашего славного полка и всей дивизии». — «Есть не уронить честь нашего славного полка и всей дивизии», — отвечаю. Посмотрел комиссар на меня, покачал головой. «Вид у тебя, скажу прямо, никуда не годится». Позвал старшину и приказывает: «Одеть товарища Орлова как следует! Выдать новую шинель, сапоги, непременно хромовые, брюки, гимнастёрку. Он едет в Москву учиться». Старшина переступил с ноги на ногу, почесал в затылке. Откуда, мол, возьму всё это? «Ничего знать не хочу, — говорит комиссар, — достаньте хоть из-под земли, но чтобы всё было, как я сказал. Мы не можем допустить, чтобы один из наших лучших командиров появился в столице в таком виде!» Ну и вот, сам видишь, как я выгляжу. Хоть в рамочку вставь и на стене повесь!
— Когда едешь?
— Не знаю, ещё не был у коменданта вокзала. Приехал в город — и прямо сюда. У комиссара узнал, где тебя найти.
— Может, останешься на денёк? Освобожусь от работы, пойдём ко мне, посидим, поговорим. Когда-то ещё увидимся?
— Предложение принимается! Ты же знаешь, я для друга на всё готов. — Костя встал. — Побегу до коменданта, выправлю литер — и обратно.
— Постой, ты из дома писем не получал?
— Нет, не получал… Ты же знаешь, что у меня никого нет! — И он торопливо вышел.
Оставшись один, я долго сидел задумавшись. Мама не писала по-прежнему. Ростовский военкомат не ответил на мой запрос… Почему Костя так быстро ушёл, когда я спросил его о доме? Или мне показалось? Неужели он что-то знает и скрывает?
Отложив французские газеты, я тут же написал ещё один запрос в Ростов и для верности отнёс на подпись Челнокову.
— Ты не тревожься, Силин, почта работает плохо, письма часто теряются, — сказал он, подписывая бумагу, и спросил: — Ты Шульц ещё не допрашивал?
— Нет ещё, не знаю, как подступиться. Она ведь всё равно ничего не скажет!.. Чуть было попа вчера не забрал. Ну и тип! Строит из себя святого, а я убеждён, что он контра, да ещё валюту утаил!
— Забрать его успеем! Дело не в этом, важно установить, кто рекомендовал ему Ольгу Шульц. Что она пришла к нему с соответствующим письмом, сомнений не вызывает, и вот кто стоит за этим, нам нужно узнать во что бы то ни стало. Завтра пригласи попа и осторожненько прощупай его. С допросом эсерки повремени, пусть посидит…
Ну и задача!.. А ведь от решения её зависит многое — может быть, и моя дальнейшая судьба: стану я настоящим чекистом или так и останусь переводчиком…
Однако пора подумать и о другом: скоро вечер, придёт ко мне друг детства, Костя Волчок, — нужно накормить его. А у меня ничего нет. Как быть? Пошёл посоветоваться с Левоном.
Он оживился:
— Не беспокойся, сообразим! Не допустим, чтобы в нашем городе чекисту пришлось краснеть перед другом. Говоришь, он хороший парень?
— Отличный!
— В таком случае нужно бутылки две вина, пару селёдок, банку консервов и хлеба. Хватит?
— Ещё бы! Но где всё это достать?..
— Не твоя забота, достанем! Я как-никак местный. Иди занимайся своим делом… Ваня, а всё-таки земля вертится и у попа есть золото!
— Конечно, есть.
— Прижать бы его, длинногривого!
— Прижму! Завтра он будет у меня…
— Учти такое обстоятельство: сын попа был белым офицером. Одно время ходили слухи, что он удрал с Врангелем в Турцию. А теперь есть сведения, что застрял где-то у нас. Он написал одной здешней барышне и просил ответить в один приморский город до востребования.
— Это же очень важно! Что же ты молчал?
— Не знал, только утром выяснил через одного верного человека.
— Левон, нельзя ли без загадок? Ты хоть фамилию и адрес этой барышни скажи.
— Ты её знаешь.
— Знаю? Откуда?
— Очень просто! Офицерик написал дочери твоей бывшей хозяйки — Белле!
Я ушёл от Левона в подавленном настроении. Неужели придётся вызывать в Чека и допрашивать сестру Маро? Только этого не хватало!..
Дело эсерки Шульц приобретало для меня особое значение. Сообщение Левона давало некоторую надежду на разгадку обстоятельств, связанных с её приездом. Белый офицер, без сомнения, связан с какой-то контрреволюционной организацией, он и рекомендовал Искру своему отцу, — думал я. Однако священник мог быть всего лишь посредником. Значит, есть другие люди, с которыми эсерка должна была установить здесь связь, — не могла же она действовать в одиночку. А вдруг… Вдруг это Белла и её друзья из молодёжной организации националистов!..
Зашёл в секретно-оперативную часть и попросил подготовить к завтрашнему дню подробные сведения о священнике церкви Святой богородицы и о его сыне. Там я застал старшего коменданта.
— Силин, чем объяснить, что ты вдруг заинтересовался делами эсеров и попов? — спросил он. — Они вроде не имеют отношения к твоему отделу!
— К сожалению, на ваш вопрос ответить не могу, спросите моего начальника.
— Чего спрашивать? Раз поручили, значит, так надо… А ты хорошо ответил, как настоящий чекист!
Часа через два пришёл Левон и положил на стол большой пакет.
— Тут имеется всё необходимое для царского угощения, — сказал он.
— Не знаю, как тебя и благодарить!
— Чего там! Всегда готов помочь товарищу.
— Приходи вечерком к тётушке Майрам. Познакомлю с другом, он едет в Москву учиться.
— Если не помешаю, приду.
Костя позвонил из комендатуры в самом конце рабочего дня. Я взял пакет с едой и спустился вниз.
— Всё в порядке. Литер выправил — еду утром. — Костя был радостно возбуждён.
— Вот и отлично, пошли ко мне!
И мы зашагали с ним по залитым солнцем, пыльным улочкам города.
Вечер прошёл дружно, весело. Тётушка Майрам красиво разложила на подносе закуску, принесла бокалы, вскипятила чай.
Пришёл Левон. Мы болтали, вспоминали детство, фронт, пели песни и пили красное, как кровь, густое, терпкое вино.
Поздно ночью, лёжа на полу рядом с Костей, я рассказал ему о своей любви к Маро.
Он выслушал мой сбивчивый рассказ молча, с большим вниманием и крепко сжал в темноте мою руку.
— Везёт же людям!.. Шурочка души не чает в тебе, здесь армянка влюбляется. Хорошо! А вот я не встретил ещё ни одной девчонки.
— Встретишь ещё!
— Когда это будет, — Костя вздохнул. — Красивая, говоришь?
— Очень.
— Жаль, что у вас ничего не получится…
— Почему это не получится? — я даже голос повысил.
— Не станешь же ты жениться на дочери буржуя, а так что за любовь.
— Возьму да женюсь! Что мне её родители, была бы она хорошая, честная…
— Смотри, Ваня, все ребята отвернутся от тебя!
Мы замолчали. Я не нашёл, что возразить ему.
Весь вечер мне хотелось расспросить Костю о доме, но почему-то не решался. Вдруг он знает что-то нехорошее? Всё же не выдержал:
— Костя, скажи честно, ты действительно ничего не имеешь из дома?
— Вот чудак, знал бы, так сказал бы…
— Удивительно, за всё время ни одного письма от мамы. Не пойму, в чём дело?
Костя не ответил.
Учёба
Священник церкви Святой богородицы явился ко мне в полной парадной форме — в чёрной рясе, с серебряным крестом на груди. Он тяжело опустился на стул, вытащил из кармана большой клетчатый платок и, пыхтя и отдуваясь, стал вытирать лицо и шею. Он явно волновался.
После обычных вопросов о фамилии, возрасте, социальном происхождении и образовании я как можно мягче сказал ему:
— Надеюсь, что наша беседа с вами будет корректной и откровенной. Нам известно, что в тех делах, которые мы стараемся сейчас распутать, вы лично случайный участник. Не желая вам никакого зла, прошу об одном: отвечать на мои вопросы обстоятельно и правдиво.
— Мой сан не позволяет говорить неправду, — ответил он с достоинством.
— Скажите, кто рекомендовал вам эсерку Ольгу Шульц? Надеюсь, вы понимаете, что мы не настолько наивны, чтобы поверить версии, будто она явилась в ваш дом случайно.
Молчание.
— Хотите, я вам скажу?
— Пожалуйста… Если вы знаете больше меня, скажите.
— Ваш сын. Кстати, где он сейчас?
— Не знаю…
— Разве в письме он не указал своего адреса?
— Нет… Это было не письмо, а записка, в которой он просил принять на несколько дней свою знакомую…
— Где эта записка?
— Я её уничтожил.
— Зачем же?
— Признаться, побоялся… Видите ли, сын мой — офицер, не кадровый, конечно. В тысяча девятьсот пятнадцатом году он окончил казённую гимназию, его забрали в школу прапорщиков, и он стал офицером. От политики он был далёк, но ему нравились погоны, мундир, беспечная жизнь… После отречения царя от престола я настоятельно просил сына оставить армию и вернуться домой. Но он не послушал меня… Мы с матушкой были уверены, что он уехал за границу, — от него давно не было сведений. И вдруг — записка.
— Шульц ничего не говорила вам о сыне?
— Разумеется, я спрашивал её… Но она ответила, что познакомилась с моим сыном случайно и знает его мало.
— Странно! Просить приют для малознакомой женщины у отца… А что, Ольга Шульц по приезде сюда не интересовалась местными жителями? Ну, скажем, не спрашивала чьи-либо адреса или что-нибудь ещё?
Священник задумался. Я поспешил ему на помощь:
— Хочу предупредить: ваша судьба всецело зависит от вас — или вы расскажете всю правду и тогда уйдёте домой, или…
— Вы арестуете меня?
— Вы угадали.
— Понимаете ли вы, в какое трудное положение ставите меня?
— В какое же?
— Вы делаете меня… Ну, как это?.. Доносчиком! — с трудом выдавил он из себя. — По моей
вине могут пострадать невинные люди…
— Не беспокойтесь, невинные не пострадают. А виновных и без вас накажем. Так кем же интересовалась Ольга Шульц?
— Здесь есть одна девица, знакомая сына. Дочь весьма почтенных родителей…
— И её зовут Беллой, не так ли?
Он поднял голову, быстро взглянул на меня и снова опустил глаза.
— Да, её зовут Беллой, — ответил он.
Мои догадки оправдывались. И я был этому рад, — значит, ход событий представлялся мне правильно. Но ведь Белла сестра Маро, а Маро сегодня придёт в парк, к скамейке у фонтана…
— Что же спрашивала про неё Шульц?
— Где она живёт, нет ли у них дома посторонних…
— Шульц виделась с Беллой?
— Не могу сказать, не знаю.
— Допустим… Скажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Гасаном Мансари и когда?
Снова быстрый, насторожённый взгляд…
— Я хотел купить у него ящик кишмиша. Он, как вам, вероятно, известно, коммерсант. Сахара нет, и сейчас многие пьют чай с кишмишем…
— Купили?
— Нет, господин Мансари обещал прислать, как только получит.
— Когда это было?
— Недавно.
— Точнее?
— Ну, дня три тому назад…
— А не по просьбе ли Шульц вы отправились к Мансари?
— Она тоже хотела купить немного кишмиша…
— Ясно! Вы, конечно, передали эту просьбу Шульц Мансари?
— Да, передал.
— И они встретились, чтобы поговорить о… ценах на кишмиш?
— Кажется, да…
Я не удержался и немного поиздевался над ним:
— Забавная история, не правда ли?.. Некая безобидная женщина, всего лишь член бывшего эсеровского центра и известная террористка, приезжает к вам с запиской от малознакомого ей офицера с единственной целью — купить немного кишмиша. Но она не знакома с коммерсантом господином Мансари и по этой причине выбирает в посредники вас. Этого мало, — бедная госпожа Шульц боится, как бы на обратном пути грабители не отняли у неё кишмиш, и на всякий случай кладёт себе в карман небольшой десятизарядный револьвер системы Кольт. Будь вы на моём месте, поверили бы такой сказке?
Поп молчал, опустив глаза.
— Хорошо, — продолжал я. — Готов отнести всю эту историю за счёт вашей неискушённости в такого рода делах. Благодарю за приятную беседу!.. У меня вопросов к вам больше нет. Учтите: о нашем разговоре никому ни слова. Считаю долгом предупредить вас: за оглашение содержания нашей беседы вы получите пять лет ссылки. Попрошу дать на этот счёт письменное обязательство.
Я продиктовал ему текст. Он писал медленно, часто-часто макал перо в чернильницу.
— Подпишитесь, поставьте дату и можете идти домой.
Он ещё раз прочитал написанное, вздохнул и, подписывая, заискивающе спросил:
— Не могу ли я получить обратно ту небольшую сумму, которую вы… изъяли у меня?
— Не можете, — ответил я, сдерживаясь. — Я уже объяснял вам: вся иностранная валюта и золото принадлежат государству. Да и доходы, нужно полагать, у вас достаточные, и вы сможете прожить без этих денег…
Он больше ничего не сказал, взял подписанный мною пропуск и поспешно ушёл.
Достав из ящика тетрадь, я сделал подробную запись о результатах допроса, записал свои выводы и предположения, наметил план дальнейших действий и в приподнятом настроении пошёл докладывать Челнокову. Я был убеждён, что ловко разгадал попа, нащупал основные нити дела и со временем раскрою целый заговор.
По мере того, как я передавал начальнику все подробности допроса, лицо его всё больше приобретало какое-то странное, как бы отсутствующее выражение. Наконец он сказал:
— Судя по твоему докладу, ты доволен результатами проделанной работы!
— Доволен, — ответил я без колебаний.
— А я нет!.. Говорю это не в порядке упрёка. Я хочу, чтобы ты понял свои промахи, в будущем был более осмотрительным и научился работать.
— Не понимаю…
— С первого раза трудно понять!.. Представь, то же самое было со мной, когда года два назад меня направили работать в Вечека, к товарищу Дзержинскому. Ты слыхал про него? Большой души человек, вот у кого следует учиться! Бывало, проведёшь сложную операцию, и кажется тебе — сработано как нельзя лучше. А он вызовет и начнёт указывать на твои ошибки, без крика и обидных слов. Сначала досадно станет. Потом останешься один, поразмыслишь и видишь: всё правильно сказал Феликс Эдмундович!.. Ну, давай думать вместе. Ты знал, что Мансари английский резидент и что мы по особым соображениям не трогаем его. Так?
— Знал…
— Зачем же в таком случае называть попу его фамилию?
— Я хотел установить, связана ли с ним Шульц.
— Разве для этого нет других путей? Мансари до сих пор не подозревал, что мы напали на его след, и действовал смело, временами, я бы сказал, даже неосмотрительно. И это было нам на руку. Теперь, после того как ты назвал его фамилию, он будет вынужден или скрыться, или вести себя более осторожно. И то и другое плохо.
— Я же взял с попа подписку!
— Подумаешь, подписка!.. Или ты веришь тому, что его сан не позволяет ему говорить неправду? Чем ты докажешь, что он не разболтал о твоём с ним разговоре? Даже если и докажешь и мы арестуем его, какая от этого польза? Дело-то провалится! Учти, о встрече Шульц с Мансари мы уже знали. Вот первый твой промах. Дальше: зачем ты сам назвал имя этой девицы? Похвастался своей осведомлённостью? И перед кем? Смотрите, мол, гражданин поп, какой я молодец — всё знаю, вижу сквозь землю! Пусть бы сам поп назвал её.
— Какая разница? — спросил я, чувствуя, как с каждым его словом улетучивается моя уверенность.
— Большая! Раз ты назвал имя Беллы, значит, можно предположить, что в Чека известно о её деятельности, допустим не всё, а кое-что. Этого достаточно, чтобы её дружки насторожились и, если, конечно, они хоть немножко смыслят в конспирации, немедленно перестроились. В первую очередь они отстранят эту самую девицу от всякого участия в работе организации. Может быть, и сами на время скроются. Таким образом, мы потеряем ещё один след. Наконец, последнее: не следует говорить допрашиваемым такие цветистые и пустые фразы, как те, что ты сказал попу: «Я готов отнести всю эту историю за счёт вашей неискушённости…», «Благодарю за приятную беседу» и прочее… Какая, к чёрту, приятная беседа, когда обстоятельства заставляют тебя вызывать человека в Чека и брать его, что называется, за горло?! Нет, Силин, так не годится!..
— Разве нельзя исправить мои ошибки? — подавленно спросил я. — Скажем, понаблюдать за той же Беллой и её дружками по организации, если таковая действительно существует?
— Ты хоть и сообразительный парень, но наивный ещё… Организация этих молодчиков существует, в этом можешь не сомневаться. — Другое дело, что они молокососы и большого вреда пока причинить не могут. Наша задача — не давать им окрепнуть, опериться. Заблуждающихся — отколоть и наставить на правильный путь, заядлых — изолировать. Но для этого нужно время, — сам знаешь, неспелые плоды не срывают. Полагаю, что госпожа Шульц, вероятно, пожаловала сюда, чтобы поставить работу этой организации на более солидные рельсы и заодно заручиться поддержкой англичан через Мансари. Учти, эсеры не одиноки! Ещё в тысяча девятьсот девятнадцатом году монархисты, меньшевики, эсеры, белогвардейцы, позабыв о партийных и прочих разногласиях, объединились и стали действовать сообща, лишь бы свалить ненавистную им Советскую власть… Что ж, придётся теперь усилить контроль.
По моему расстроенному виду Челноков понял, что я кажусь себе круглым дураком. Он похлопал меня по плечу и, улыбаясь, добавил:
— Веселее, Силин, веселее!.. Носа не вешай. Ещё ничего не потеряно, никуда они от нас не уйдут, не с такими справлялись!..
Модесту Ивановичу Челнокову было года двадцать три — двадцать четыре. Высокий, худощавый, с задумчивыми серыми глазами и большими жилистыми руками, он во всём был образцом аккуратности. Всегда чисто выбритый, сапоги начищены до блеска, гимнастёрка выглажена. Бывший питерский рабочий, активный участник Октябрьской революции, он попал в Чека по партийной мобилизации. И здесь нашёл своё призвание, — у него оказались незаурядные способности разведчика.
— Человек окончил всего четыре класса, а любому интеллигенту фору даст, самого опытного шпиона вокруг пальца обведёт, недаром ученик Дзержинского! — с восторгом говорил о нём старший комендант.
Да, мне было чему поучиться у Модеста Ивановича!..
После всего случившегося нетрудно представить, в каком настроении я отправился вечером на свидание с Маро.
В городской сад я пришёл значительно раньше назначенного срока. Раза два прошёлся по зелёным аллеям. Здесь было очень хорошо — тихо, прохладно. Зелёные кроны вековых деревьев купались в лучах заходящего солнца…
Ещё издали увидел я Маро и побежал к ней навстречу. И всё, что мучило, томило меня, вмиг куда-то исчезло.
— Как я рад, что ты пришла!
— И я рада!
Мы сели на скамейку и молча глядели друг на друга. Оба были слишком взволнованы, чтобы разговаривать.
— Расскажи, как ты жила всё это время, что у тебя нового, как дома? — наконец спросил я.
— Всё по-старому, — ответила Маро, опуская глаза. Опять молчание.
Маро вдруг поднялась со скамьи.
— Пойдём, здесь нехорошо — кругом люди… Город маленький, почти все знают меня…
— Ну и что?
— Ничего, конечно, но…
Мы направились в самые далёкие уголки сада и молча бродили там, держась за руки. Разговор не клеился…
За горами погасли лучи солнца, подул ветер, зашелестели листья. Быстро темнело.
Маро прижалась ко мне, словно искала у меня защиты.
— Трудно мне, — прошептала она. — Так трудно, что и сказать не могу!..
— Что трудно?
— Ах, не спрашивай!.. Не думала я, что всё это так сложно…
— Не терзай себя, дорогая, всё уладится! — Я не знал, как утешить её, успокоить.
— Я всерьёз занялась музыкой, много читаю, главным образом по-французски, — переменила она тему разговора. — Ты много ошибок нашёл в моём письме?
— Нет, всего три…
— Я думала, больше, боялась, что ты будешь смеяться надо мной… Пойдём, поздно уже…
— Как поздно? Вечер только-только начинается! Побудь ещё немного со мной.
— Нет, не могу, меня ждут…
Чтобы не встретить знакомых, мы пошли переулками. Остановились недалеко от её дома.
— Дальше не ходи! — сказала Маро.
Я обнял её, хотел поцеловать, но она отстранилась от меня.
— Не надо, милый! — грустно сказала она и посмотрела по сторонам.
— Когда мы встретимся?
— Когда хочешь!.. Но только не в саду, а где-нибудь в другом месте.
— Где угодно, только бы встретиться.
Мы условились о встрече на берегу реки, и Маро, стуча каблучками по тротуару, быстро-быстро зашагала, почти побежала по направлению к дому. Я стоял и смотрел ей вслед. Сердце моё разрывалось от жалости к ней, и по дороге домой я думал, что никакая сила на свете не может отнять у меня Маро!..
После этого первого свидания мы стали встречаться чаще. Больше всего нам нравилось гулять на берегу речки, недалеко от развалин крепости, построенной ещё во времена персидского владычества. Здесь было тихо, пустынно, никто нам не мешал. Посылать письма по почте было долго и неудобно. Мы придумали другой способ: я писал записки по-французски и клал их в дупло большого тутового дерева на берегу реки. Она приходила туда на прогулку, брала моё письмо и оставляла ответ. Такой способ переписки нас очень забавлял: совсем как в пушкинском «Дубровском»!
Чем больше я узнавал Маро, тем больше привязывался к ней. Глубоко трогала её доверчивость, стремление понять меня, быть мне во всём близкой. И я просто не представлял себе жизни без неё…
…Дело эсерки Шульц Челноков поручил мне.
— Держи меня в курсе, в случае нужды советуйся. Но старайся действовать самостоятельно, — сказал он.
Легко сказать — действовать самостоятельно, когда Шульц на допросах явно издевалась надо мной!
На мои вопросы она отвечала примерно так: «Неужели это вас интересует?» или: «Дело было давно, я всё забыла».
Однажды, потеряв самообладание, я повысил голос:
— Будете вы отвечать или нет?
— Разве я не отвечаю? Ни одного вашего вопроса я не оставила без ответа, — она засмеялась и попросила закурить…
Между тем события, связанные с националистской молодёжью, разворачивались с непостижимой быстротой.
Началось с того, что из города исчезла Белла. Предположения Челнокова оправдались: поп, по-видимому, сболтнул. Конечно, я мог спросить Маро, куда делась её сестра, но мне не хотелось путать в наши отношения служебные дела.
Несколько дней спустя я получил анонимку такого содержания:
«Подлец!
Оставь наших девушек в покое и для своих любовных прогулок выбирай подальше закоулок. Иначе…
Мститель».
А ещё через два дня было произведено покушение на председателя Чека товарища Амирджанова. Рано утром он шёл на работу. В центре города, недалеко от кондитерского магазина, какой-то человек выскочил из переулка, два раза выстрелил и скрылся. Террорист промахнулся — Амирджанов остался невредим. Пострадал мальчик — чистильщик сапог, — он был ранен в плечо.
Мы обыскали все прилегающие к месту происшествия переулки, заходили в каждый двор, каждый дом, но на след напасть не смогли.
Молодчики из националистской организации явно активизировались. Однако они допустили один промах и до некоторой степени облегчили мою работу.
Как-то утром молодой оборванец остановил меня у парадных дверей Чека и протянул конверт:
— Гражданин начальник, письмо!..
Он хотел убежать, но я успел схватить его за шиворот и затащил в комендатуру. Внимательно присмотревшись, я узнал в оборванце… Мишку Телёнка! Он вырос, на левой щеке у него появился глубокий, синеватый шрам, но был он такой же худой, оборванный, жалкий.
— А, старый знакомый! Не узнаёшь меня? — спросил я его.
— Сперва не узнал, а теперь узнал… Значит, в начальниках ходишь? Здорово! Думаешь, я тогда не догадался, какой ты беспризорник? Помнишь, у белых?
— Помню, как же!.. Рассказывай, как ты попал сюда, как живёшь?
— Сам понимаешь, рыба ищет где глубже, человек где лучше… Здесь тепло, но жратвы мало…
— А где твои друзья?
— Двое со мной, остальные разбрелись кто куда. Бугая, атамана нашего, порешили.
— Кто?
— Свои пацаны. Я тогда не был с ними…
— Так и будешь шататься по улицам?
— Нет, к царю в зятья пойду!.. Я, может, в Москву подамся. Говорят, в Москве хорошо, только мильтоны тамошние больно уж прытки — хватают нашего брата и отправляют в какую-то коммуну.
— Ну, ладно, пошли со мной! Поговорим о деле, — предложил я ему.
— В коммуну не отправишь?
— Что ты, за кого меня принимаешь?
Старший комендант, следивший за нашей беседой, остановил меня.
— Тут одна любопытная записка, она заинтересует тебя, — сказал он и дал мне узкий клочок папиросной бумаги. — Мы нашли её в передаче к твоей приятельнице Ольге Шульц. Передачи приносит одна старуха, но установлено, что они от сердобольной попадьи. Она это делает якобы из чисто гуманных соображений.
— Спасибо!
Я прочитал записку. Мелким, чётким почерком написана всего одна строчка: «Оснований для большой тревоги нет».
Новая загадка — кто автор записки?
Я спрятал записку в карман гимнастёрки и повёл Телёнка через внутренний двор к себе. В кабинете посадил его около письменного стола и вскрыл конверт. Там была новая анонимка такого же содержания, как и предыдущая.
«Подлец!
Я тебя предупреждал, но ты не захотел внять голосу разума. Предупреждаю в последний раз: оставь девушку в покое, иначе расправимся с тобой.
Мститель».
Сличил обе анонимки, — почерк один и тот же.
— Давай, приятель, поговорим по душам! — сказал я Телёнку, спрятав анонимки в стол.
— Давай, — с готовностью согласился он.
— Помнишь, в тылу у белых ты говорил, что подался бы к красным, да боишься, что не возьмут? И ещё: ты догадался, кто я, и не выдал. Значит, и тогда ты был за нас.
— Факт! Я же не буржуй какой…
— Правильно, и батька твой не буржуй, — рыбак, трудовой человек. Его, как и моего отца, погнали на бойню буржуи. Был бы твой батька жив, обязательно пошёл бы с нами.
— Факт!
— Вот видишь, — значит, ты свой!
— В этом можешь не сомневаться!.. Я только мильтонов не люблю, а в остальном — свой в доску…
— Скажи, хочешь помочь нам?
— Смотря в чём… Я лягавым не буду, корешей не выдам.
— Никто не собирается трогать твоих друзей! Тут дело посерьёзнее… Ты знаешь содержание письма, которое принёс?
— Нет, оно ж было запечатано.
— Хочешь, прочту?
— Прочти! — Он пожал плечами, как бы говоря: «Меня это не очень-то интересует».
Я прочёл ему анонимку.
— Это пишет один из заядлых врагов Советской власти. На днях они хотели убить нашего председателя. Не думай, девушка тут ни при чём.
— Про председателя слыхал, что его пришить хотели…
— Хотели, да не вышло, — сказал я. — Руки оказались коротки. Вот это письмо тоже написал один из них.
— Нет… Не может этого быть! — Телёнок беспокойно заёрзал на стуле.
— Не не может быть, а факт! Кто дал тебе это письмо?
— Один парень… Одет форсисто, курит дорогие папиросы… А вот имени его я не знаю.
— Где вы встретились с ним, что он сказал?
— Утром, на базаре… Подошёл и спрашивает: «Парень, хочешь заработать?» — «Хочу, — отвечаю я, — если, конечно, работа не очень пыльная». — «Совсем не пыльная», — говорит. Повёл меня в сторонку и по секрету сказал: «Одному человеку нужно вручить письмецо, — он, подлец, ударяет за моей девушкой, хочу его предупредить. Получишь сто тысяч советскими. Половину сейчас, половину после. Не бойся, не обману». Я сразу согласился передать письмо, — дело-то плёвое, а сто тысяч хоть и небольшие деньги, но всё же на них дня три с братвой жить можно.
— Дальше, дальше рассказывай, — торопил я его.
— Дал он, как мы условились, полёта. Вот они. — Телёнок вытащил из кармана пачку кредиток и сейчас же спрятал обратно. — Повёл на эту улицу. Встали мы с ним за углом, ждали. Издали показался ты, — в этом костюме я тебя не узнал. Он говорит: «Это он, вручи ему письмо и — ходу». Остальное ты знаешь. Закурить можно?
— Кури. — Я протянул ему пачку.
— Дешёвые куришь, а ещё начальник!.. Хочешь, достану хороших?
— Нет, спасибо. Я к этим привык… Послушай, Миша, буду говорить с тобой по-честному. Захочешь помочь нам — скажи. Нет так нет, насиловать не стану.
— Давай говори…
— Я уже сказал тебе, что письмо это написал один из буржуйских сынков. Они, понимаешь, не хотят, чтобы была Советская власть…
— Вот сволочь! А говорил про девушку…
— Девушка здесь только ширма!.. Понимаешь? Когда пойдёшь за остальной половиной денег, попроси прибавки — скажи, что тебя забрали в Чека, чуть не посадили. Знай, мол, такое дело, не согласился бы и за миллион!.. О знакомстве со мной ни слова. Понятно?
— Ещё как!
— Он, конечно, поинтересуется, кто и о чём спрашивал тебя в Чека. Отвечай: человек, которого ты не знаешь. Мытарил долго, но ты ничего не сказал, потом заплакал, и тебя выпустили. Если он поверит, — ты увидишь это по его лицу, — закинь удочку: не будет ли ещё работёнки? Самое главное — узнай, где он живёт. Сам за ним не ходи — уговори одного из своих друзей незаметно проследить за ним.
— Я и сам могу!
— Нет, так не годится, — он знает тебя в лицо и сразу догадается, что дело нечисто. Не думай, они тоже не дураки. Ну как, сумеешь наладить дружка?
— Запросто даже!
— Я дам тебе один адрес, — завтра, в четыре часа, придёшь туда и всё мне расскажешь. Сюда ходить тебе нельзя. Договорились?
— Вполне!
— А теперь иди. За помощь наградим тебя.
— Я не из-за денег, — хмуро сказал Телёнок.
— Ладно, знаю, что ты не такой парень!
Я объяснил, по какому адресу он найдёт меня, и отпустил его.
Чтобы оградить себя от возможных случайностей, я тут же договорился с товарищами не выпускать из виду Мишку Телёнка.
Пошёл с докладом к Челнокову. Выслушав меня, он поморщился.
— Мальчишки, сопляки!.. Анонимками балуются, своих девушек от чекистов оберегают… Несерьёзно всё это, но вредить могут, если дать им волю. А твой Телёнок не подведёт, не станет двойником?
— Нет, он парень хороший! Его можно наставить на путь истинный, и я займусь этим, — заверил я своего начальника.
— Ты прав, — продолжал Челноков развивать свои мысли. — Этот молодой, что прислал письмо, — мелкая сошка, вроде связного у них. Ты пока его не тронь… В остальном план твой одобряю. Нужно взять их всех вместе, отсортировать — одних приструнить и выпустить, а наиболее заядлых врагов изолировать… Есть тут ещё одно обстоятельство: как бы не пришлось выпустить твою эсерку!..
Я опешил.
— Ольгу Шульц?! Не может быть!
— Из центра получена директива провести соответствующую работу среди бывших меньшевиков, эсеров, анархистов, дашнаков и членов прочих политических партий. Если они осознают свои заблуждения и подпишут декларацию, оставить их в покое. Арестованных на тех же условиях выпустить.
— Неправильно это! — вырвалось у меня.
— Партия и Ленин лучше нас с тобой знают, что правильно, что нет, — сухо сказал Челноков.
В тот же день вечером я уже имел некоторые сведения об авторе анонимок: бывший гимназист, сын пекаря, зовут Жоржем, фамилия Зурабов. Родители имеют собственный дом и сад. Проживает недалеко от базара. Бильярдист и танцор. До установления Советской власти в националистской организации молодёжи формально не состоял. Узнал также, что Белла действительно исчезла из города, — кажется, уехала в деревню к дяде…
В условленный час Телёнок явился по нужному адресу и сияя подтвердил уже известные мне сведения. Он добавил:
— Всё сработано на большой! Мой форсистый парень отсчитал деньги до копеечки, от добавки отказался. Обещал подумать насчёт новой работёнки. По вечерам он пропадает в бильярдной, играет здорово — шары кладёт без промаха, сам видел. А живёт он у базара… — Телёнок сказал адрес Зурабова.
Я протянул ему десять тысяч рублей.
— Распишись и получай деньги! Пока ничего не предпринимай, нужен будешь — дам знать.
От денег он отказался наотрез, даже обиделся.
— Сказал же, не за ради денег!..
Никакие уговоры не помогли.
— Спасибо! Ты настоящий парень, только не знаю, как будешь жить дальше?
— Сам не знаю… В коммуну не пойду!
— Давай так: сперва покончим с буржуйскими сынками, потом подумаем, — может, работу настоящую подберём тебе или учиться куда устроим. Нужен буду — письмо напишешь и бросишь в ящик. Адрес такой: Чека, Силину.
— Ладно!
Телёнок не спеша направился к выходу.
В последующие дни, кроме основной работы, на меня навалилось ещё много хлопот с арестованными меньшевиками, эсерами, дашнаками. Челноков дал мне список и поручил вызвать каждого в отдельности, поговорить с ними и предложить подписать декларацию о выходе из партии. Сделавших это тут же освободить.
Разные люди прошли передо мной. Бородатые, очкастые, старые и молодые. И вели они себя тоже по-разному — одни тут же соглашались, подписывали Декларацию и, радостные, уходили домой. Другие для пущей важности просили дать им время для обдумывания и в конце концов ставили свою подпись? Были и «идейные», — они отказывались. Их было мало.
Страницы газет запестрели заявлениями и декларациями о ликвидации, самороспуске различных политических партий, о выходе из них.
Очередь дошла и до Ольги Шульц. Я попросил привести её ко мне. Шульц села без приглашения, закинула ногу на ногу, закурила.
— Не надоело сидеть? — начал я издалека.
— Ничего!.. В камере довольно уютно, в еде я не особенно прихотлива. Не будете же вы меня держать вечно — рано или поздно выпустите!
— Это как сказать. Впрочем, всё зависит от вас.
Как всегда, она говорила мне дерзости, издевалась надо мной. Памятуя о наказе Челнокова, я сдерживал себя. Наконец, решив кончить эту игру в прятки, протянул ей декларацию и сказал:
— Надеюсь, вы понимаете, что партии эсеров больше нечего делать. Она изжила себя. Власть рабочих и крестьян установилась окончательно и бесповоротно, — какой смысл вам утешать себя несбыточными надеждами? Подпишите декларацию о выходе из партии, и я вас освобожу. Очень советую вам это сделать, вы ведь остались в одиночестве: ваши руководители объявили о самороспуске партии эсеров.
Ольга Шульц смертельно побледнела. Она смотрела на меня, как бы не понимая, что от неё требуют.
— Вы… вы понимаете, что осмеливаетесь предлагать мне? — проговорила она наконец, задыхаясь. — Мальчишка, мерзавец!.. Я покажу тебе декларацию! — Она плюнула мне в лицо и, вскочив со стула, как кошка вцепилась мне в волосы.
Я схватил её за плечи и оттолкнул от себя. Падая, она задела маленький столик, на котором стоял графин с водой. Графин упал на пол, разбился вдребезги. Шульц сидела в луже воды, продолжая ругать меня.
Двери моего кабинета раскрылись. На пороге стоял Челноков. Должно быть, он услышал шум и пришёл.
— Что здесь происходит?
— Она плюнула мне в лицо, вцепилась в волосы… Я вынужден был её оттолкнуть и…
— Увести арестованную! — приказал Челноков, не дослушав меня до конца. А когда её увели, укоризненно покачал головой и перешёл на официальный тон. — Не ожидал я этого от вас, товарищ Силин!
Он повернулся и вышел. Я долго сидел за своим столом и ругал себя последними словами: какой из тебя чекист, когда не можешь справиться даже с истеричной бабой? Позор!.. Уж лучше бы Челноков обругал, а так…
Мои размышления прервал телефонный звонок. Помощник председателя просил срочно явиться к товарищу Амирджанову.
У него в кабинете я застал Челнокова. Оба они молча курили.
— Где это ты научился бить арестованных? — не глядя на меня, спросил председатель.
Я объяснил, как было дело.
— Это не меняет положения. Здесь у нас не жандармское управление, а Чрезвычайная комиссия для охраны революции и революционного порядка. Ты это понимаешь?
— Понимаю…
— Ты можешь требовать для арестованного самого сурового наказания, если, конечно, он заслужил. Даже в карцер можешь сажать, но не имеешь права и пальцем тронуть его!
Я молчал.
— Парень сообразительный, грамотный, а делаешь глупости. Что будем делать с ним? — обратился Амирджанов к Челнокову.
— На первый раз можно простить. Силин хорошо работает, старается, учтёт на будущее, — ответил мой начальник.
— Нет, оставить совсем без наказания нельзя — плохой пример для других. Учитывая неопытность товарища Силина, ограничимся арестом на трое суток. Можешь идти. Скажи старшему коменданту Бархударяну, что я тебя арестовал на трое суток. Днём работать, а ночью сидеть в камере под замком.
Ничего не ответив, я повернулся и направился к выходу.
— Постой-ка, Силин! — остановил меня Амирджанов. — Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься по вечерам?
— У меня свободных вечеров почти не бывает…
— А всё-таки?
— Сижу дома, иногда читаю…
— Романы?
— Да.
— Тебе обязательно нужно читать политическую литературу, Ленина читать нужно, а лучше всего записаться в кружок. Иди!
И я пошёл докладывать старшему коменданту о своём аресте.
Важное задание
Было около одиннадцати часов вечера. Устав за день от разных дел, я уже лежал в постели и при свете керосиновой лампы читал «Утраченные иллюзии» Бальзака.
Вдруг постучали в окно. Достав наган из-под подушки, встал, подошёл к двери.
— Кто там?
— Товарищ Силин, это я!.. Приказано немедленно явиться к товарищу Челнокову. — По голосу я узнал нашего связного Сашу.
— Ты приехал или пришёл?
— Фаэтон в переулке дожидается.
Быстренько оделся, разбудил тётушку Майрам, чтобы она заперла за мной дверь, и вышел. Сели в фаэтон, поехали.
Ночь была тихая. Светила луна. Где-то в садах пели соловьи, пахло влажной землёй, цветами.
В кабинете Челнокова уже сидели Левон и бывший матрос Михайлов, которого я знал мало.
— Все в сборе, можно начинать, — сказал Челноков. — Задание, которое вам предстоит выполнить, очень важное. Слушайте внимательно. Вчера ночью двое неизвестных нарушили государственную границу вот в этом пункте, — Челноков показал на карте, лежавшей перед ним на столе. — Они направились в деревню X. Один парень, местный комсомолец, видел, как двое крадучись вошли в дом зажиточного крестьянина Акберова. Парень немедленно дал знать погранотряду. Начальник отряда Киселёв оказался человеком сообразительным и нарушителей не взял. Установив за домом Акберова наблюдение, он связался с нами и сообщил о происшествии. Товарищ Амирджанов одобрил действия Киселёва и дал ему команду усилить наблюдение и, если нарушители покинут деревню X., установить, куда они направляются…
Далее Челноков сообщил нам, что только что получены новые сведения. Вечером, когда стемнело, в дом Акберова пришли трое неизвестных, в их числе одна женщина. Они пробыли там минут пятнадцать — двадцать и ушли. По-видимому, о чём-то совещались с нарушителями. Личность женщины удалось установить: это была дочь крупного виноторговца, член националистской организации молодёжи — Белла. С некоторых пор она живёт у своего дяди, недалеко от деревни X. Судя по всему, нарушители затевают что-то важное. А что именно, мы и должны выяснить.
Нам поручалось немедленно отправиться к начальнику погранотряда Киселёву, куда прибудет и наш районный уполномоченный. Челноков предложил следующий план действий: нарушителей задержать только в том случае, если они попытаются переправиться обратно; следовать за ними, куда бы они ни направились, не обнаруживая при этом своего присутствия, — пусть действуют свободно. Комсомольца, который увидел нарушителей, под каким-нибудь благовидным предлогом отослать куда-нибудь из деревни на время операции, чтобы он не проболтался…
— Старшим по группе назначается Силин, — сказал в заключение Челноков. — Райуполномоченный со своими людьми тоже поступает в его распоряжение. Действовать осторожно, незваные гости могут оказать вооружённое сопротивление. Зря голову под пули не подставлять! Информация через каждый час по телефону. Вопросы есть?
Вопросов не было.
— В таком случае действуйте! — Челноков встал. — Желаю удачи.
Мы вышли. Настроение у меня было приподнятое: наконец-то поручили настоящее дело! То, что назначили старшим по группе, тоже льстило самолюбию, — значит, доверяют мне, значит, история с трёхсуточным арестом забыта!..
В конюшне лошадей не оказалось. Фаэтона, на котором я приехал с Сашей, тоже не было. Тащиться семнадцать километров пешком не имело смысла, — мы пришли бы на место не раньше рассвета.
Позвонил из комендатуры Челнокову, объяснил положение и попросил совета.
— Достань хоть из-под земли лошадь, фаэтон, телегу, автомобиль — всё, что угодно! Но чтобы через час вы были на месте, — закричал он в трубку.
Пошли на центральную улицу — стали ждать, не появится ли какой-нибудь транспорт. Удача!.. Вдали показался яркий свет фар, а через минуту и автомобиль.
Я встал посреди дороги, поднял руку. Шофёр резко затормозил, и автомобиль со скрежетом остановился в двух шагах от меня. Пассажир, немолодой грузный человек, высунул голову в окно и недовольным голосом спросил:
— В чём дело?
— Извините, но для выполнения срочного и важного задания нам нужен ваш автомобиль! — Я показал ему мандат.
— Что, другого транспорта нет у вас?
— Если б был, не стали бы вас беспокоить.
— Безобразие! Не имеете права. Я комиссар рабоче-крестьянской инспекции и автомобиля своего вам не дам. — Он протянул мне красную книжку. — Можете удостовериться!
— Товарищ комиссар, мы не на прогулке! Если хотите, отвезём вас домой или куда вам нужно. Садитесь, ребята! — крикнул я своим товарищам.
Они проворно открыли дверцы, влезли в автомобиль.
— Это произвол, анархия! — возмущался комиссар.
— Ничего, товарищ комиссар, после разберёмся!.. Для нас интересы дела прежде всего, — сказал Михайлов. Левон молчал.
— Другого выхода у нас нет, — снова, начал я уговаривать комиссара. — Хотите, поезжайте с нами. Доставите нас на место и вернётесь обратно.
— Далеко ехать? — уже мягче спросил он.
— Всего семнадцать километров.
Вмешался шофёр.
— У меня бензина не хватит, — сказал он.
Я ему не поверил.
— Повезёте, на сколько хватит!
— А потом под луной загорать?
— Прекратите разговоры! — строго сказал я шофёру. — Ну, как вы решили, товарищ комиссар?
Он ворча, что не оставит так это дело, вылез из машины. Я сел рядом с шофёром и сказал ему, куда ехать.
Левон нагнулся ко мне, зашептал на ухо:
— Ваня, он и вправду комиссар и старый большевик! Я знаю его… Теперь неприятностей не оберёшься!
— Ничего, — если он старый большевик, то поймёт!
Доехали до погранотряда в час ночи. Киселёв с папироской в зубах сидел у полевого телефона.
— Пока ничего нового, — сказал он.
Минут через двадцать пришёл райуполномоченный, молодой, цветущий здоровяк, с двумя своими сотрудниками. Время тянулось медленно. Все немного нервничали, никому не хотелось разговаривать.
— Друзья, может, поспите? В казарме есть свободные койки. В случае чего разбудим, — предложил Киселёв.
Никто не двинулся с места.
В два часа с минутами позвонил телефон. Киселёв несколько раз покрутил ручку, поднял трубку. Мы напряжённо следили за выражением его лица…
— …Непонятно, что именно?.. Я спрашиваю, какая возня? Если попытаются перейти к нам, препятствий не чините! Продолжайте наблюдение, скоро буду сам…
— Что случилось? — в один голос спросили сразу несколько человек.
— Докладывает командир отделения из пункта пять. На той стороне Аракса наблюдается какая-то возня. Видимо, персы что-то затевают.
— Персы? — удивился Михайлов.
— Вернее, не сами персы, а орудующие там англичане, — уточнил Киселёв. — Предлагаю пойти на место.
Я позвонил к себе, чтобы передать информацию. К телефону подошёл Челноков.
— Правильно, — сказал он, выслушав меня. — К нам — пожалуйста, сколько угодно, милости просим! Обратно — никого. Сопротивляться будут — откройте огонь, расстреливайте на месте, но чтобы никто не ушёл!..
В командном пункте погранотряда оставили Михайлова для связи. Чтобы не привлекать внимания, разбились на две группы и направились к границе.
На каменистом берегу тихого Аракса пограничники соорудили хорошо замаскированные наблюдательные пункты. Обзор был великолепный — противоположный берег как на ладони.
Тишина, покой. Только изредка кричала какая-то ночная птица да ветер с лёгким шелестом раскачивал камыши в низине.
Ждать пришлось недолго.
— Кажется, начинается, — сказал стоявший рядом со мной Киселёв. — Вот бандиты!.. Орудуют, как у себя дома… Смотрите, спускают лодку, — он протянул мне полевой бинокль.
На том берегу двое возились около спущенной на воду лодки. Я хорошо видел, как они положили в лодку четыре ящика и отчалили.
— Сейчас главное — не обнаружить себя, не спугнуть их, — прошептал начальник погранотряда.
Признаюсь, у меня сильнее обычного билось сердце. Надо же — в такую светлую ночь так нахально орудовать у чужой границы!.. Лодка бесшумно скользила по серебристой ленте реки. Вот она причалила к нашему берегу. Сидевшие в ней выпрыгнули, привязали лодку. Вытащив ящики, спрятали их в зарослях камыша и отправились обратно.
— Они же уйдут! — заволновался я.
— Не беспокойтесь — ещё приедут! — Киселёв был совершенно спокоен.
— Контрабанда?
— Вряд ли, скорей оружие…
Лодка дважды пересекала реку, и ещё восемь ящиков были спрятаны в камышах. Мы видели, как после этого лодку вытащили на берег. Подошли ещё двое и, подняв её, унесли.
— Ушли, — сказал я.
— Они нам не нужны, — ответил Киселёв. — Первое действие кончилось! Скоро начнётся самое интересное. Работают, подлецы, как по нотам — всё у них рассчитано!
И действительно, вскоре началось «второе действие».
На дороге, в километре от границы, появился фургон, запряжённый тройкой лошадей. Кони ступали бесшумно, — должно быть, копыта были обёрнуты чем-то мягким.
Фургон остановился в тополевой роще. Из неё вышли четверо здоровенных парней. Озираясь по сторонам, они крадучись вошли в камыши. Скоро появились снова, неся на спине по ящику.
К рассвету всё было кончено: ящики нагружены, фургон тронулся по направлению к городу.
На границе больше делать было нечего. Мы вернулись на командный пункт. Узнали, что двое нарушителей поехали с фургоном, а правит лошадьми Акберов.
Послав двух сотрудников райотделения проследить за фургоном и передав очередную информацию, я, Левон и Михайлов попрощались с Киселёвым, райуполномоченным, взяли у них лошадей и поехали.
Фургон догнали недалеко от города и не поверили глазам: он вёз гору овощей! Ящиков не было видно, — их надёжно укрывали пучки редиски, лука, петрушки, салата.
— Ловко! — воскликнул Левон, когда мы, не обращая никакого внимания на фургон, миновали его. — Люди едут на базар торговать овощами!
— Наторгуются они у нас! — проворчал Михайлов.
Левон сошёл у городского сада — он остался для связи с управлением. Сам я, прихватив его лошадь, поскакал вместе с Михайловым к себе.
Через час явился Левон и сообщил:
— Ящики разгрузили во дворе винного подвала и убрали. Фургон с овощами отправили на базар. Нарушители зашли в дом пекаря Зурабова — отца Жоржа.
— Какие они из себя? — поинтересовался я.
— Один пожилой, но ещё крепкий. Одет бедно, по виду — армянин. Второй — высокий, голубоглазый блондин. На нём опрятный серый костюм. Его можно принять и за русского и за англичанина.
Скоро меня позвали к председателю. Состоялось короткое совещание. Решили готовиться к разгрому националистской контрреволюционной организации молодёжи.
Амирджанов приказал нам не спускать глаз с винного подвала и дома Зурабова. Челнокову было поручено ещё раз проверить список членов организации и уточнить их адреса.
— Силин назначается вашим помощником, — сказал Амирджанов.
— Пижона, Гасана Мансари, тоже будем брать? — спросил Челноков.
— Да, пора с ними покончить! Погуляли — и хватит… После такого провала английская разведка всё равно сменит Мансари.
Вечером поступили новые сведения: Гасан Мансари долго крутился на базаре, беседовал со своими клиентами и, улучив удобный момент, юркнул в дом Зурабова. Оттуда вышел часа через полтора и пошёл в ресторан «Европа». За обедом беседовал с журналистом Погосом. В винном подвале всё спокойно. Через верного человека — рабочего винного подвала — установлено, что в ящиках пистолеты и патроны. Один ящик длиннее других, можно предполагать, что в нём винтовки. Хозяин подвала в отъезде, — действует его сын, член организации. Наблюдение продолжается…
В полночь меня отпустили домой немного поспать. Утром, только я пришёл на работу, как позвонил дежурный комендант.
— Силин, тут какой-то гражданин Погос хочет видеть кого-нибудь, — говорит, по важному делу.
— Выдай пропуск, пусть придёт!
Что могло привести этого болтуна к нам?
Робко открыв дверь, вошёл господин Погос в сером, хорошо выглаженном костюме, в соломенной шляпе с чёрной ленточкой, с галстуком-бабочкой.
— Садитесь, — предложил я ему, — чем могу быть вам полезен?
— Лично мне ничего не нужно. Но… понимаете, возникли странные обстоятельства. Всю ночь глаз не сомкнул, — начал он. — Вот и решил прийти к вам. — Он снял пенсне и долго, старательно протирал стёкла платком.
— Очень правильно сделали!
— Несколько слов о себе. — Я журналист, печатался в крупных газетах. По характеру я человек независимый… Скажу вам прямо, не всё мне нравится, что делает ваша власть. В частности, не согласен с тем, что образованных людей оттирают на задний план, а на высокие посты назначают заведомо малограмотных. Конечно, всё это мелочи! Главное в том, что в тысяча девятьсот двадцатом году, когда турки взяли нас за горло, большевики, Советская Россия поспешила на помощь и спасли мой народ от окончательного физического уничтожения… Что греха таить, может быть, иногда я болтаю лишнее, и это, по всей вероятности, дало основание какому-то иностранному торгашу сделать мне гнусное предложение.
— Простите, какому торгашу? — перебил я его.
— Персидскому подданному Гасану Мансари. В городе его зовут «Пижоном» за экстравагантный костюм. Никакого вкуса у человека — одевается, как опереточный герой!.. Вчера в ресторане «Европа» он подсел к моему столику. Мы пили вино, беседовали о том о сём. Вдруг господин Мансари говорит: «Мне известны ваши политические взгляды, но имейте в виду, господин Погос, в наше время быть только недовольным Советской властью мало, очень мало! Чтобы избавиться от господства большевиков, нужно действовать, и действовать активно. Одними разговорами их не свалить». Я прикинулся простачком и спросил, что может сделать такой маленький человек, как я. «Не прибедняйтесь! Вы с вашим талантом журналиста можете сделать очень многое и принести большую пользу». — «Чем именно?» — спрашиваю. «Сотрудничайте с нами», — ответил он. «Не понимаю, с кем сотрудничать?» — «Это вы узнаете позже… Для первого раза попрошу вас об одном маленьком одолжении: напишите статью против большевиков. Разумеется, ваше имя не будет фигурировать, а труд будет хорошо оплачен». — «Вы чудак, господин Мансари, говорю, кто станет печатать такую статью, да ещё платить гонорар?» — «Это не ваша забота. Не здесь, так в другом месте напечатают». Я обещал ему подумать и, как видите, пришёл к вам… Это возмутительно! Иностранец вмешивается во внутренние дела страны, в которой он является гостем, и делает её гражданам гнусные предложения!.. Пусть господин Мансари торгует своим кишмишем или убирается к себе домой и позволит нам самим разбираться, что у нас хорошо, что плохо, — горячился журналист.
— Спасибо за сообщение! Рассуждаете вы правильно. Мы постараемся выяснить, кто такой этот господин Мансари и чего он добивается. Поскольку пришлось к слову, разрешите дать вам совет: не говорите то, чего не следует говорить. Видите, к каким печальным результатам это приводит!
— Да, да, вы правы! Ещё у древних была поговорка: язык мой — враг мой. Нужно быть сдержанным! До свидания.
— До свидания! — Подписывая ему пропуск, я невзначай сказал: — Думаю, лучше молчать о том, что вы были у нас…
— Конечно, конечно, разумеется! — Погос приподнял
шляпу, поклонился и вышел.
Чтобы ничего не пропустить из сообщения журналиста, я тут же всё подробно записал и пошёл доложить начальнику.
Челноков, внимательно прочитав написанное, так и просиял.
— Это только начало! В недалёком будущем к нам придут все колеблющиеся, сомневающиеся и вместе с нами будут строить новую жизнь, потому что наше дело правое, справедливое. — Он встал из-за письменного стола, прошёлся по кабинету. — Одни придут сами, — таких будет большинство. Других, не желающих понять нашу правду и упорствующих, мы вырвем с корнем, как сорную траву. Очистим страну от всякой нечисти, чтобы народ наш работал, трудился спокойно, не боясь козней врагов. Вот тогда мы скажем, Ванюша, что недаром проводили здесь бессонные ночи и отдали революции всё без остатка: сердце, кровь, мозг. Потомки поймут и не осудят нас, если мы иногда и ошибались!..
Я слушал его и удивлялся — вот, оказывается, какой наш Модест Иванович, бывший питерский рабочий!
Вечером Амирджанов собрал всех начальников отделов и некоторых оперативных работников. Он сообщил нам, что в одном горном селе кулаки при поддержке бывших офицеров, дашнаков и просто вооружённых бандитов, скрывающихся в горах, повесили председателя комбеда на глазах у его жены и трёх малолетних детей, убили милиционера, а молодую учительницу, сочувствующую Советской власти и проводившую её политику, раздели догола, привязали к хвосту мула и погнали его по каменистым тропинкам. У кулаков, кроме винтовок и большого количества патронов, оказалось и два пулемёта.
— Есть все основания думать, что между этим кулацким мятежом и переброской к нам через границу оружия есть прямая связь. Можно также предположить, что подрывная работа ведётся по единому, заранее разработанному плану, — сказал Амирджанов. — Поэтому нет никакого смысла оттягивать дальше разгром местных контрреволюционных групп, тем более что они действуют по указке английской разведки. На этот счёт у нас имеются неоспоримые доказательства. При таких обстоятельствах рискованно оставлять дольше оружие в винном подвале. Вчера, поздно вечером, трое молодых людей спустились туда, сделали вид, что пьют вино, и, уходя, захватили с собой кое-что из ящиков. Их задержали на улице. Арест этих молодчиков, без сомнения, встревожил всех остальных. Чтобы не дать им времени опомниться, предлагаю начать операцию сегодня ночью, с таким расчётом, чтобы захватить всех причастных к этому делу лиц, в том числе двух перебежчиков, попа и сторожа церкви Святой богородицы. Кстати, сын попа пожаловал к нам в город, а наши работники прозевали это!.. Подробный план операции разработал товарищ Челноков, он и доложит его сейчас.
После доклада Челнокова Амирджанов отпустил нас. Сбор назначили в одиннадцать часов.
Времени до начала операции оставалось ещё много, и мы с Бархударяном сели за шахматы.
В одиннадцать собрались все. Получили ордера на арест, разошлись во все концы города.
К рассвету всё было кончено — арестовано около восьмидесяти активных контрреволюционеров, захвачены ящики с оружием и много документов в квартирах. Операция повсеместно прошла гладко, только в доме Зурабова перебежчики оказали вооружённое сопротивление и тяжело ранили Михайлова.
Началась интересная, захватывающая работа: допросы, очные ставки, сличение документов. Мы узнали много нового о делах и планах местных националистов, открыли явки и связи, о которых не подозревали. В частности, узнали о связях и Согласованных действиях с грузинскими меньшевиками. Об этом незамедлительно сообщили товарищам Грузчека. Тут и выяснилась роль эсерки Искры как посредницы. Дней через пять к нам доставили участников и руководителей кулацкого мятежа. Клубок постепенно разматывался — нити вели к Мансари, а через него к английской разведке в Персии.
По ходу следствия выяснилось, что мой попик не такой уж наивный, каким он старался казаться. Дом его был главной явкой для перебежчиков, а из-под клироса церкви мы изъяли десять винтовок, два ящика патронов и много револьверов.
Белла исчезла бесследно.
Занятый по горло, я не успевал думать о своих личных делах. С Маро встречался урывками, но всё же встречался.
Неожиданно пришло письмо от Шурочки, очень обрадовавшее меня. Шурочка писала:
«Многоуважаемый Иван Егорович!
Что же ты, миленький, забыл меня, даже адреса своего не прислал. Я его узнала из письма Кости Орлова. Он сейчас учится в Москве. Пишет, что в столице очень хорошо, только голодновато. Знаешь, Костя два раза видел Ленина. Бывает же счастье людям!
У нас в полку всё по-старому, многие из бойцов демобилизовались и разошлись по домам. Уехал к себе в Питер и наш главный кашевар Пахомов. Перед его отъездом мы с ним долго разговаривали о тебе и сошлись на том, что ты далеко пойдёшь. Только не зазнавайся, миленький, и не забывай своих старых друзей!
Поговаривают, что комиссар наш, Пётр Савельевич Власов, собирается на учёбу. Жаль его, хороший товарищ. Не знаю, как мы будем без него?
Я тоже подумываю о демобилизации. Что же, война, слава богу, кончилась, не торчать же мне век в армии, — этак незаметно состарюсь и ничего не увижу. Вот беда, не знаю, куда деваться, у меня ведь родных нет. Ладно уж, как-нибудь устроюсь.
Пиши, миленький! Может быть, по дороге в Россию проеду через ваш город и, если захочешь, увидимся. Я, например, очень даже хочу повидаться, как ты — не знаю.
Да, совсем забыла, — говорят, что десять человек бойцов и командиров нашего полка представлены к награде, в том числе Пётр Савельевич, Кузьменко и ты.
Ну, будь здоров, миленький. Желаю тебе много, много счастья!
Медицинская сестра 2-го горнострелкового полка Рабоче-Крестьянской Красной Армии, твоя знакомая Шурочка Астахова.
Апрель 1921 года».
Чем-то уж очень далёким, но неизменно родным и милым сердцу повеяло на меня от этого письма. Я два раза перечитал его и, хотя был очень занят, сразу написал ответ. Просил Шурочку приехать и, если она захочет, остаться. Обещал помочь ей всем, чем только смогу…
Последующие дни были отмечены для меня полосой всяческих неприятностей. Недаром говорится в пословице: «Пришла беда — отворяй ворота»…
Началось с того, что нас, Левона и меня, вызвали в горком партии. Почему-то с нами пошёл и Челноков. Михайлов лежал в госпитале. Увидев в приёмной комиссара рабоче-крестьянской инспекции, я догадался о причине вызова.
В начале заседания секретарь горкома Брутенц обратился к нам с гневной речью:
— Это безобразие, товарищи чекисты! На улице останавливаете по своему усмотрению автомобиль, высаживаете ответственного работника и сами куда-то уезжаете. В общем поступаете так, словно для вас закон не писан! Призванные соблюдать революционный порядок, сами грубо нарушаете его. Так не пойдёт, мы этого не допустим! — Всё это говорил тот самый симпатичный Брутенц, который проявил столько чуткости в отношении меня и так помог мне…
— Совершенно правильно! Такие анархические поступки нельзя оставлять без последствий, — подал голос комиссар.
— Что же вы молчите, Силин? Дайте объяснение!
Я очень волновался, говорил сбивчиво, но всё же кое-как изложил, как было дело, и обратился к пострадавшему:
— Товарищ комиссар, вы не можете отрицать, что мы обращались с вами корректно и вежливо…
— Ещё не хватало, чтобы грубили! — перебил он меня.
— Больше того, я предложил довезти вас до дома или, если бы вы захотели, поехать с нами. Вы не захотели ни того, ни другого — вышли из машины и пошли пешком. У нас не было другого выхода, — нужно было выполнить важное задание. А в нашем деле иногда минуты имеют значение!
— «В нашем деле, в нашем деле»! — передразнил меня Брутенц и обратился к Левону: — Что же ты скажешь, кавалер?
— Силин сказал всё так, как было. Мне нечего добавить к его словам, — ответил Левон.
Слово взял Челноков:
— Я с вами вполне согласен, товарищ Брутенц, произвола ни в чём допускать нельзя, тем более нам, чекистам, — начал он спокойно. — Однако считаю своим долгом дать некоторые разъяснения. Прежде всего, это я приказал Силину достать транспорт хоть из-под земли и через час быть на месте. Не думайте, не для того говорю, чтобы оградить своих сотрудников. Хочу, чтобы вы знали все обстоятельства. Вы, товарищ комиссар, напрасно говорите такие громкие слова — «анархия, анархисты». Я бы на вашем месте не стал поднимать большого шума. Вам достаточно было поднять трубку, позвонить нам, узнать суть дела, и, не сомневаюсь, вы оправдали бы поступок наших ребят. В заключение прошу бюро горкома ограничиться обсуждением вопроса. Мы же, со своей стороны, постараемся не допускать подобных явлений, если, конечно, не сложатся чрезвычайные обстоятельства!..
— Хорошо, примем предложение товарища Челнокова и ограничимся обсуждением вопроса, — согласился Брутенц. — Но предупреждаю, Силин, если подобное повторится, то мы накажем вас строго и поставим вопрос о целесообразности вашего дальнейшего использования в органах!
На этом обсуждение вопроса закончилось, и нас отпустили.
Левон, понурив голову, шагал рядом.
— Помнишь, говорил я тебе, что неприятностей не оберёшься! Так и вышло, — сказал он.
— Ничего, друг, ты не огорчайся, в жизни всякое бывает!.. Мы сделали что могли, и совесть наша чиста, а всё остальное пустяки, — успокаивал я его, хотя на душе кошки скребли. Я и сам не понимал, почему в горкоме партии так сурово отнеслись к нам…
На углу мы попрощались. Левон пошёл домой, а я на работу.
Вдруг откуда ни возьмись — Миша Телёнок.
— Я же просил, чтобы ты на улице не подходил ко мне! — рассердился я.
— А я нарочно! — ответил он.
— Что значит нарочно?
— Пусть знают, что мы с тобой заодно! Житья не стало от братвы… После того как меня видели с тем форсистым парнем, которого потом арестовали, братва говорит, что я контре продался… Из компании выгоняют!
— Это плохо, конечно, что ребята не доверяют тебе. Но, с другой стороны, не вечно же ты будешь с ними! Пора и за ум взяться, подумать о будущем. Скажи, Миша, кем бы ты хотел быть?
— Кочегаром! — ответил он не задумываясь.
— На паровозе?
— Всё равно. На паровозе, конечно, лучше…
— Хорошо, помогу тебе устроиться на работу, будешь учиться на кочегара. Но чтобы без баловства. Я за тебя поручусь, понимаешь?
— Ещё бы!
— Значит, договорились. Можешь передать своим друзьям о нашем знакомстве, чтобы они не приставали к тебе с разными глупостями, а дня через два придёшь ко мне. Из комендатуры позвонят, и я закажу пропуск.
— Вот это дело! — И Миша пошёл по направлению к базару…
Обещание-то я дал, но устроить Мишу на работу оказалось делом куда более сложным, чем я предполагал. Никто не хотел связываться с бывшим беспризорником, да ещё предоставлять ему общежитие.
Пришлось поехать к начальнику паровозного депо. Долго уговаривал его, объяснил все обстоятельства и наконец вырвал согласие. Поначалу Мишу приняли подсобным рабочим.
Тут на меня обрушился новый удар. Ростовский военный комиссар ответил Челнокову: «По адресу, указанному в вашем запросе, гражданка Силина не проживает»… Что это могло означать? Маме некуда было уехать, разве что перебраться в дом родителей. Вряд ли она пошла на это… Так в чём же дело? Я терялся в догадках. Что бы ни делал, чем бы ни занимался, всё думал о маме. Утешал себя тем, что работники Ростовского военкомата перепутали адрес или недобросовестно отнеслись к поручению комиссара.
И всё-таки не утерпел, пошёл к Челнокову просить отпуск для поездки домой хотя бы на неделю.
Он отказал мне.
— Не могу, — сказал он. — Пока не разрешится один вопрос, связанный с тобой, не могу!
— Какой вопрос, Модест Иванович?
— Из центра запросили сведения о всех сотрудниках, знающих иностранные языки. Таких оказалось у нас двое, ты да Бархударян — он кумекает немного по-немецки. Послали на вас характеристики и анкеты, ждём распоряжения.
— Но запрос может поступить не скоро. За это время я успею вернуться. Поймите, Модест Иванович, речь идёт о родной матери!..
— Не проси, Ванюша, не могу. Вдруг сегодня ночью поступит телеграмма: откомандировать Ивана Силина в распоряжение центра. Это очень даже возможно: наше государство устанавливает связи со многими иностранными державами, и проверенные работники, знающие языки, нужны до зарезу. Что я отвечу? Извините, мол, виноват, отпустил Силина в отпуск!.. Будь ты на моём месте, как бы поступил?
— Отпустил бы!
— Значит, ты ещё не дорос до настоящего чекиста и своё личное ставишь выше дела! Молод ещё, со временем всё поймёшь!
Челноков был упрямый человек — уговаривать его не имело смысла.
Время шло, запрос из центра не поступал. Я не знал, что предпринять. И вдруг — новая беда!..
Очередное партийное собрание, на котором мы слушали доклад о текущем моменте, подходило к концу. Докладчик ответил на все вопросы, собрал свои бумаги в портфель, покинул трибуну. Тут поднялся председательствующий, секретарь ячейки, и попросил задержаться для разбора персонального дела.
Занятый своими невесёлыми мыслями, я сидел в задних рядах и, безразличный ко всему, плохо слушал… Что это? Отчётливо прозвучала моя фамилия! Я не сразу понял, о чём идёт речь. Между тем секретарь, держа перед глазами листок бумаги читал:
— «…мало того, помощник начальника отдела Иван Силин продолжал систематически встречаться с дочерью буржуя. Его видели с этой барышней в разных местах: в городском саду, на берегу реки, около развалин крепости. Зная, что её сестра Белла замешана в дело контрреволюционной организации, Силин не прекращал эту связь. Как известно, Беллу не удалось задержать, — кем-то предупреждённая, она скрылась и замела следы. Прямых фактов, что в этом виноват Силин, нет, но он мог проболтаться своей барышне, и та предупредила сестру.
Считаю поступок Ивана Силина недостойным звания чекиста и члена партии. Прошу партийную ячейку разобрать это дело. Позор, что наши сотрудники и члены партии связываются с классово чуждыми элементами, как будто нельзя познакомиться с хорошей комсомолкой или девушкой из трудовой среды…»
Не успел секретарь дочитать до конца, как кто-то с места крикнул:
— Кто написал это заявление?
— Автор не желает, чтобы огласили его фамилию. Какие ещё будут вопросы?
По красному уголку прокатился гул, и, чтобы успокоить собрание, председатель постучал карандашом по графину с водой.
Раздались голоса:
— Пусть Силин расскажет!.. Дайте слово Силину!
— Давай, товарищ Силин, поднимись сюда и расскажи, — предложил секретарь.
Я шёл на сцену, точно на казнь. Всё было таким неожиданным, а в голове вертелись слова Кости: «Все ребята отвернутся от тебя… все ребята отвернутся от тебя…»
Поднялся на трибуну, долго молчал, стараясь побороть волнение, собраться с мыслями.
Видя моё состояние, кто-то из президиума поставил около меня стакан воды, кто-то сказал:
— Ты не волнуйся, Силин! Здесь все свои, разберутся!..
Я подробно рассказал, при каких обстоятельствах познакомился и потом сдружился с Маро. Подтвердил, что, не видя в этом ничего предосудительного, я встречался с нею. В заключение сказал:
— Ещё ничего не значит, что она дочь богатых родителей и сестра её контра!.. Разве не известны многочисленные случаи, когда брат воевал в наших рядах против родного брата — белогвардейца? Маро честная девушка, она сочувствует нам. Может быть, ещё не совсем сознательная, но сочувствует. Что же касается подозрения, что я проговорился насчёт её сестры, то это ложь! Мы никогда не разговаривали с нею о Белле. Я скорее согласился бы лишиться правой руки, чем выдать кому бы то ни было, даже родной матери, наши секреты. В этом можете не сомневаться!
Не знаю, насколько убедительно прозвучали мои слова, хотя под конец я овладел собой и говорил горячо, уверенно. Некоторые товарищи из зала улыбались мне, другие кивали головой.
Посыпались вопросы — как, почему?
Кто-то крикнул с места:
— Пусть Силин расскажет, кто его дед, бабушка и вообще все родичи матери!..
После меня говорили многие. Одни в самых резких выражениях осуждали мой поступок, другие находили смягчающие мою вину обстоятельства. Но общий тон был товарищеский, доброжелательный. Все сходились на том, чтобы потребовать от меня прекращения всякой связи с Маро. Только один из оперативных работников пытался доказать, что мне не место в партии.
— По-моему, в Силине заговорила кровь, — он сам выходец из чужой среды, и его потянуло к чужакам! Внук буржуев влюбляется в дочь буржуя, тут ничего удивительного нет, так и должно быть! — оказал он, и я узнал голос того, кто спрашивал о моих богатых родственниках. — Я предлагаю исключить Силина из рядов партии, как примазавшийся элемент, и освободить его от работы у нас. Таким, как Силин, нет места ни в партии, ни в органах Чека! Нечего с ним церемониться, — заключил он.
Слушал я его и не верил своим ушам, — выходит, я чуждый, примазавшийся элемент?.. Пот градом катился по моему лицу, и от горечи, от стыда я не решался поднять глаза.
Левон сказал, что познакомился со мной в первый день моего выхода из госпиталя в кабинете секретаря горкома Брутенца, что считает меня хорошим товарищем, стойким большевиком, но и он не мог простить мне любовь к Маро.
— Я Ваню Силина информировал о Белле и вообще предупреждал о буржуйских дочерях — посоветовал быть осторожным. Но он не прислушался к моим словам и допустил ошибку. Сейчас для него может быть один выход: или мы, его верные друзья, или дочь заводчика. Пусть выбирает!..
Челноков дал высокую оценку моей работе и отчитал оратора, назвавшего меня чуждым элементом.
— Как это у тебя язык повернулся сказать такое — исключить, выгнать? Кого ты собираешься выгонять из партии? — спросил он. — Вот, оказывается, какой ты прыткий! Правду говоря, не знаю, сможешь ли ты сам работать у нас с таким характером. В самом деле, если, не разобравшись, допускаешь такую чёрствость и бездушное отношение к товарищу, то как же поступаешь ты с теми, судьба которых всецело в твоих руках? Нет, брат! Мы, чекисты, не каратели и прежде всего должны проявлять чуткость во всём, конечно, в сочетании с непримиримостью к действительным врагам. А ты — «исключить, выгнать»!.. Я уверен, что сидящие здесь никому не позволят так легко бросаться нашим товарищем. Предположим, Силин допустил ошибку, — так давайте поможем ему осознать её и исправить!..
Последние слова Челнокова зал встретил дружными аплодисментами. Покидая трибуну, он добавил:
— Не понимаю, что за поганая манера скрывать свою фамилию? Написал заявление, так имей мужество подписать его!
На трибуну поднялся Амирджанов. Зал притих, а я и вовсе пал духом, думая, что от этого сурового человека ждать пощады нечего…
— Товарищи, я за то, чтобы мы воспитывали в себе чувство непримиримости к врагам революции, — начал Амирджанов, — развивать классовую сознательность и непременно быть чуткими и гуманными. Последнее особенно важно для нас, чекистов. Впрочем, это общие положения, а теперь я перейду к вопросу, который мы здесь обсуждаем. Кто такой Иван Силин? Юноша новой, зарождающейся социалистической формации, юноша, которому суждено построить коммунизм. Его мать действительно происходит из буржуазной среды, но она порвала с ней и вышла за рабочего, большевика, стала учительницей и все свои силы, знания отдала воспитанию нового поколения. Так было, так будет с лучшей частью интеллигенции в грядущих революциях. Несовершеннолетний Силин пошёл добровольцем в Красную Армию и проявил себя с самой лучшей стороны. Скажу вам больше: командование представило его, в числе других, к ордену боевого Красного Знамени, и недавно президиум ВЦИК запросил у нас характеристику о нём. Мы с Модестом Ивановичем и секретарём партийной ячейки обсудили этот вопрос и послали хороший отзыв о работе Силина у нас. Как же после этого можно сделать в его адрес такое безответственное и оскорбительное заявление? Тот, кто сделал это, обязан извиниться не только перед Силиным, но и перед всеми нами.
В чём обвиняется Силин? В том, что он увлёкся девушкой. Явление вполне естественное в его возрасте! Но, на беду Силина, девушка оказалась дочерью богатого человека и, что ещё хуже, сестра её замешана в разгромленной нами контрреволюционной организации? Так что же, казнить его за это? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо дать одну справку. Сестра этой девушки, по имени Белла, узнала о том, что мы напали на её след после ареста эсерки Ольги Шульц, по кличке Искра. Шульц искала встречи с нею — об этом говорил на допросе священник церкви Святой богородицы. Это подтверждается перехваченным нами письмом Беллы, адресованным к одному её другу. Вот что она пишет: «Ты спрашиваешь, почему я уехала так поспешно, не предупредив и не простившись с тобой? Извини, обстоятельства сложились так, что иначе поступить не могла. Вечером следующего дня после ареста И. ко мне пришла попадья и передала записку от священника. В этой записке он сообщал, что они интересовались мною, знают, что И. хотела встретиться со мной. Медлить было нельзя. Я могла не только попасть к ним в лапы, но и подвести друзей. Дело И. ведёт тот хромой фанатик, о котором я тебе рассказывала. Хитрый, начитанный интеллигент, — такие очень опасны. Живя у нас в доме, он вскружил голову моей сестре и до сих пор встречается с нею. Вместо того чтобы убрать его, наши предпочли писать ему глупые письма. Мальчишество, и только, за эту глупость мы ещё будем наказаны…»
Как видите, здесь всё сказано с предельной откровенностью, и всякие разговоры о том, что Силин мог проболтаться, отпадают. Однако мне кажется, что правы те товарищи, которые рекомендуют Силину не связывать свою судьбу с девушкой чуждой ему среды. Пусть это будет для него испытанием воли и характера, тем более что для женитьбы он ещё слишком молод и на жизненном пути встретит ещё не одну хорошую девушку. Ну как, товарищ Силин, что ты скажешь на это? — Амирджанов неожиданно обратился ко мне.
— Я люблю её! Она хорошая, но если надо… — У меня не хватило духа произнести последнее слово.
— Во всяком случае, целесообразно и для тебя полезно, — сказал Амирджанов.
— Разрешите встретиться с Маро и объясниться с нею, — попросил я.
В ответ тот же злой голос крикнул с места:
— Сантименты!.. Интеллигентщина!
— Чепуха! — Амирджанов повысил голос. — Почему мы должны допускать, чтобы о нашем товарище плохо думали даже люди из другого лагеря? Правильно, Силин, повидайся и объясни ей всё как сумеешь. Такой поступок будет куда честнее, чем бежать от неё как трусу!
Все согласились с Амирджановым, и собрание на этом закончилось.
…Шёл домой шатаясь, знобило. Понимал я, конечно, что обязан выполнить волю партийного собрания, — иначе и думать не мог. Но что-то протестовало во мне… Как я объясню ей?..
Тётушка Майрам, думая, что я заболел, напоила меня горячим чаем и, ворча, что мы совсем не умеем беречь себя, уложила спать…
Миновал не один день, прежде чем набрался я храбрости и написал Маро.
Она пришла в назначенный час, радостная, с улыбкой на лице. А я стоял перед ней как истукан и не знал, с чего начать, что сказать. Накануне приготовил целую речь, но сейчас всё вылетело из головы. Наконец заговорил. Сказал не то, что нужно было, — сказал, что скоро уезжаю, может, быть, надолго. Пообещал написать при первой возможности. Протянул ей руку на прощание…
Маро встревоженно смотрела на меня. Она не поверила моим словам, а может быть, мне так показалось, не знаю…
— Хорошо, я буду ждать, — тихо сказала она и, чтобы я не видел её слёз, отвернулась.
А я и сам с трудом удерживал слёзы.
Прощай, радость моя!..
Опять в пути
Вагон битком набит мешочниками и спекулянтами. Я лежу на верхней полке, смотрю в открытое окно и вспоминаю события последних дней.
Год жизни — интересной, трудной, насыщенной столькими переживаниями, впечатлениями. Жаль уезжать из города — ведь в нём прожит этот год! Сколько хороших людей я встретил! Стал чекистом… Во всяком случае, сейчас я не тот зелёный юнец, который два года назад покинул родной дом.
Спустя несколько дней после партийного собрания я получил назначение не за границу, как предполагал Челноков, а всего-навсего помощником коменданта порта в один крупный город на Черноморском побережье.
Амирджанов разрешил мне заехать домой, узнать, что с мамой, и оттуда проследовать к месту новой работы. Потом сказал:
— Пиши почаще о своих делах и запомни: в трудную минуту можешь рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Желаю тебе удачи. Прощай.
Взволнованный сердечными словами председателя, пошёл прощаться с Челноковым. Модест Иванович молча обнял меня, трижды поцеловал.
— Сам знаешь, говорить я не мастер, да и слова тут ни к чему!.. Одно скажу: жаль, очень жаль расставаться с тобой, ты настоящий парень! — В устах Челнокова это была высшая похвала: он делил людей на «настоящих» и «ненастоящих».
Левон и Бархударян заявили, что так просто меня не отпустят. Вечером состоялся прощальный ужин по всем правилам восточного гостеприимства — с вином, тостами. Не скажу, что ужин был очень обильным, однако вина и сердечности было вдоволь.
Накануне отъезда случилось событие, поставившее меня в тупик. Нежданно и негаданно заявилась Шурочка в новенькой военной форме. Она зашла ко мне в кабинет, когда я собирал последние бумаги, чтобы сдать их в архив, и, немного смущаясь, что совсем не вязалось с её характером, сказала:
— Вот и я, миленький! Послушалась твоего совета — демобилизовалась и прямо сюда прикатила!
Что греха таить, кроме простой дружбы, меня влекло к Шурочке смутное, неосознанное чувство, в её присутствии я краснел, волновался. Она была первой девушкой, поцеловавшей меня. Я часто вспоминал этот поцелуй. И нужно же было ей приехать именно тогда, когда мои вещи уложены и железнодорожный литер лежит в кармане гимнастёрки! Признаться, я немного растерялся. Что делать? Отложить отъезд нельзя, я и так немного опаздывал на место новой работы: ведь нужно было заехать домой. Но не оставлять же Шурочку одну в незнакомом городе!
Я раздумывал об этом, пока она, сидя около моего стола и подавшись немного вперёд, без умолку рассказывала о делах в нашем полку, о друзьях и знакомых. Наконец меня осенило: нужно пойти к Челнокову.
Модест Иванович всё понял, как говорится, с полуслова и предложил Шурочке работать у него в отделе.
— Что же, фронтовичка, оставайся у нас! Попробуем сделать из тебя чекистку. Для работы нам до зарезу нужны женщины, да и рекомендация Силина тоже ведь чего-то стоит. Получится — хорошо, нет — подыщешь другую работу, — сказал он и тем самым снял с моих плеч большую тяжесть.
Тётушка Майрам с готовностью согласилась приютить Шурочку.
Итак, я мог уехать со спокойной совестью.
В день отъезда долго мучился, — хотелось повидаться с Маро ещё хоть разок. Целый час слонялся по её улице, но она не показывалась. Так и уехал, не повидав её. У меня было такое чувство, словно оставляю здесь половину сердца. Голос внутри нашёптывал: «Ты её больше никогда не увидишь, никогда!..»
Шурочка пришла на вокзал проводить меня.
— До чего же странно получается в жизни! — задумчиво проговорила она, когда до отхода поезда осталось несколько минут.
— Ты о чём, Шурочка?
— Всё о том же!.. Подумай сам, миленький, — разве не странно: вокруг увиваются десятки молодцов, ты их не замечаешь, тянешься к одному, далёкому… А он от тебя удирает! — Шурочка усмехнулась. — Ничего не поделаешь, не судьба, значит!
Я взял её руки в свои.
— Ты не должна сердиться на меня, Шурочка! Я ведь не волен в своей судьбе… Подожди немного, — приеду на место, устроюсь и напишу тебе!
— Я-то подожду… А вот подождёшь ли ты — не знаю…
Прозвучал третий звонок, и я поспешил к своему вагону.
Поезд набирал скорость, а на платформе, под качающимся на высоком столбе фонарём, ещё долго стояла девушка в военной форме…
К вечеру подул из степи свежий ветерок и дышать в вагоне стало легче. Позвякивали жестяные чайники и кружки, переговаривались пассажиры. Обросший рыжей щетиной старик с повязанной щекой ходил по вагону и предлагал по сходной цене самогон: «Чистый, как слезинка». У какой-то бабки украли из корзины гуся, и она обливалась слезами, как по погибшему родному сыну. На лавке подо мной дородная, краснощёкая женщина средних лет, в платке, жаловалась соседке:
— Мужик-то мой вернулся, да что толку? Целые дни шатается по селу, агитирует народ за коммуну. Где уж тут хозяйство налаживать и о будущем думать! Он всё добро, что я за войну накопила, пустил по ветру. «Мы, говорит, с товарищем Будённым не за то воевали, чтобы терпеть новых мироедов». Вроде тронутый стал!.. Вот и приходится мне мотаться. Детишек-то кормить надо, одеть, обуть надо? Да и самой — не голой же ходить.
Четверо мужчин поставили чемодан между лавок в проходе и начали играть в очко. Они то и дело прикладывались к бутылке с самогоном, громко матерились, отчаянно дымили самосадом…
Всё это было так противно, что я повернулся лицом к стене и стал думать о своём.
«Как же так? — думал я. — Разве могут нравиться одновременно две девушки?» Из романов — я их прочёл множество — явствовало точно и определённо: для влюблённого героя переставали существовать все другие девушки. А мне нравились и Маро и Шурочка. Маро, без сомнения, была красивее, образованнее. Но с Шурочкой мне было легче, проще. Мы с нею лучше понимали друг друга, во многом наши взгляды и интересы совпадали.
Впервые в душу вкралось сомнение: была ли любовь к Маро настоящей или это только увлечение? Я обвинял себя во множестве грехов: нет во мне постоянства, не развито чувство благородства, я дрянной, распущенный человек!..
Медленно покачивался вагон, стучали колёса. Под этот монотонный стук я задремал. Проснулся от прикосновения чьей-то руки. Уже была ночь. Сотрудники транспортного Чека, светя фонарями «летучая мышь», ходили по вагонам, проверяли документы.
Прочитав мой мандат, чекист в кожаной куртке предложил мне перейти в служебное купе. Я не заставил упрашивать себя.
В Ростов прибыли на рассвете. Попрощался с товарищами, и когда поезд замедлил ход у нашего посёлка, сбросил шинель, вещевой мешок, и спрыгнул.
Следовало пойти к водокачке — умыться, привести себя хоть немного в порядок. Но хотелось скорее узнать, что с мамой. И я, закинув за спину вещевой мешок, прямиком зашагал к нашему домику. В этот ранний час улицы посёлка были пустынными, и я никого не встретил.
Каждый камень, каждый кустик напоминал о детстве. По этой улице ходил я в школу, здесь подрался с ребятами. На этой площадке отец играл в городки… Уже совсем рассвело. На самом краю посёлка показался наш домик. Но почему все окна заколочены? С сильно бьющимся сердцем побежал я к дому.
Не знаю зачем, раза три я обошёл вокруг дома. Потом сорвал доски и полез в окно столовой. Полное запустение — пыль и паутина по углам. В спальне на полу пустой флакон из-под маминых духов. Я нагнулся, поднял и долго смотрел на него, как будто он мог рассказать, что же здесь произошло.
Где мама, где моя мама? Я бросил флакон. Я задыхался. Вышел на воздух, сел на пороге, закурил. В голове не было никаких мыслей. Я, конечно, понимал, что случилось что-то страшное, непоправимое, и всё-таки не хотел этому верить. «Ушла к родным, уехала?..» Но куда, куда она могла уехать?
Нужно было немедля расспросить кого-нибудь. Я поднялся, взял камень и неизвестно зачем снова заколотил досками окно. Потом пошёл в школу, — там-то наверняка должны знать, что случилось с учительницей Силиной.
В школе был только сторож Егорыч. Он ещё больше состарился, почти оглох и не узнал меня.
— Это я, Егорыч, Ваня Силин, учительницы Виргинии Михайловны сын. Неужели не узнаёшь меня? — кричал я ему в ухо. Но старик только моргал водянистыми глазами и качал головой.
— Много вас прошло здесь, а я один, разве всех упомнишь?
— Учительница Виргиния Михайловна, красивая такая, вспомни, прошу тебя, Егорыч! Скажи, что с ней?
— Учительница, говоришь?.. — Он поднял голову, долго думал и опять покачал головой. — Нет, не помню…
Я не знал, что же мне теперь делать, но старик неожиданно пришёл на помощь.
— Посиди здесь, — сказал он. — Скоро директор придёт, у него и спросишь!..
Как это я раньше не додумался! Ведь директор живёт совсем рядом. Схватив вещевой мешок и шинель, я поспешил к нему. Дверь открыла жена директора, Елена Никитична, полная, немного эксцентричная особа.
— Вам кого? — спросила она, преграждая мне дорогу в дом. Моя внешность, по-видимому, не внушала ей доверия.
— Елена Никитична! Неужели вы не узнаёте меня? Силин, Ваня.
— Ах, боже мой!.. Ты так вырос, возмужал, что даже твоя покойница мать не узнала бы! Заходи, заходи!..
Покойница мать… Я молчал, опустив голову, сразу потеряв всякий интерес к тому, что окружало меня. Я не плакал, нет, но внутри словно что-то оборвалось.
Антон Алексеевич долго и ласково говорил какие-то утешительные слова, но я не понимал, что он говорит, и не хотел слушать его.
— Когда это случилось? — перебил я его.
— Давно… Вскоре после твоего отъезда она заболела и дней через пять скончалась… Какие-то родственники хотели похоронить её на городском кладбище, говорили, что у них там чуть ли не фамильный склеп имеется, но рабочие из мастерских запротестовали. Твоя мать покоится на нашем кладбище. Вещи увезли родственники, а дом пустует до сих пор. Мы все надеялись, что ты рано или поздно приедешь…
— Могилу найду?
— Конечно! Там сторож, он покажет…
Я поднялся. Антон Алексеевич попытался удержать меня:
— Куда ты в такую рань? Отдохни с дороги, потом пойдёшь.
Поблагодарив его, я побрёл на кладбище. Разбудил сторожа. Он спросонок не сразу вспомнил.
— Виргиния Михайловна Силина… Силина… Говоришь, учителка была?
— Да, учительница местной школы! Жена паровозного машиниста Егора Васильевича Силина.
— Так бы и сказал! Пошли, покажу…
Сторож привёл меня к запущенной могиле с почерневшим от времени деревянным крестом.
— Вот здесь! Можешь не сумлеваться, надпись тоже имеется…
Буквы на могильном камне кое-где стёрлись, но всё же можно было разобрать написанные чьей-то заботливой рукой слова: «Здесь покоится скончавшаяся с горя учительница Виргиния Михайловна Силина». Скончавшаяся с горя…
Я долго сидел у маминой могилы… Никаких мыслей, никаких ощущений… Поднялся, когда солнце стало сильно припекать.
В посёлке мне нечего было делать. Хотелось заглянуть в мастерские и отыскать старых знакомых.
В мастерские меня не пустили, добиваться же пропуска не было охоты. Вахтёр сказал мне, что моего учителя, секретаря партийной ячейки Чумака, перевели на работу в ревком. Так и не повидав никого, пошёл на станцию выправлять литер у военного коменданта…
Путь мой лежал через Тифлис. Приехал я туда рано утром. Оставив вещи в помещении транспортной Чека, пошёл побродить по городу. Мой поезд отправлялся поздно вечером.
Странное впечатление произвёл на меня Тифлис!.. Если бы не красные флаги на крышах правительственных зданий, не агитационные лозунги, наклеенные кое-где на заборах, можно было бы подумать, что ни война, ни революция не коснулись этого старинного города. На каждом шагу мануфактурные и галантерейные магазины, полные товаров; в витринах продовольственных магазинов мясо, дичь, масло, сало, окорока, даже халва, настоящая халва, которую в детстве покупала мне по праздникам мама!.. Рестораны и харчевни, из которых, несмотря на ранний час, доносилась тягучая восточная музыка, работали с полной нагрузкой. Крики уличных торговцев зеленью, фруктами и мацони дополняли картину благоденствия и изобилия…
Я шагал по красивым, утопающим в зелени улицам, смотрел на пухлые, поджаристые чуреки и глотал слюну. У меня не было ни копейки, и купить я ничего не мог. Продукты, выданные на дорогу, кончились, — второй день я ходил голодный.
Незаметно очутился на обширной площади, окружённой со всех сторон многоэтажными домами. Здесь скрещивалось несколько улиц. Одна из них вела в гору, другая, узкая, вниз, к магометанской мечети, а чуть правее начинался мощённый плитками широкий проспект.
Чтобы убить время, я шёл медленно, подолгу простаивал у витрин. Мимо меня прошла молодая женщина в лёгкой изящной накидке. Она показалась мне чем-то знакомой, хотя лица её разглядеть я не успел. Посмотрел вслед — и сердце замерло. Неужели она? Да, это Белла!.. Я узнал её по походке, по манере держаться надменно и независимо.
Должно быть, и она узнала меня, потому что ускорила шаг, желая, по-видимому, скрыться в лабиринте запутанных улочек и переулков возле мечети. Я быстро пошёл за ней и, когда она свернула в безлюдный переулок, тихонько окликнул её:
— Белла!
Она повернула голову, наши взгляды встретились. Длилось это одну секунду. Белла вздрогнула и пустилась бежать.
Догнал я её у калитки большого двора, взял под руку.
С ненавистью взглянув на меня, Белла отдёрнула руку:
— Пустите!..
— Спокойно! Лучше давайте по-хорошему, без шума. Оружие у вас есть? — спросил я, не выпуская её.
— Нет…
— Вот и хорошо! Пойдёмте…
Она как-то сразу поникла и молча, покорно пошла со мной.
Я не знал, где помещается Чека, — пришлось спросить у постового милиционера. Шагая под руку с Беллой, я не удержался, заговорил:
— Помните, когда-то у вас дома, за обеденным столом, вы разглагольствовали о гибнущей цивилизации, о гуманизме, попранном большевиками? Отчего же ваше представление о гуманности не помешало вам посоветовать своим друзьям убрать меня — попросту говоря, убить?
Она молчала.
— Вы молчите, потому что вам нечего ответить? Требуя гуманности от других, вы готовы уничтожить всех, кто мешает восстанавливать ваши былые привилегии…
— Очень жалею, что вас не уничтожили! Одним философствующим неучем-большевиком стало бы меньше, — сказала она.
— Руки оказались коротки!
— Не злорадствуйте, придёт и наше время.
— Это ваше серьёзное заблуждение. Ваше время никогда больше не придёт!
В Чека я показал дежурному коменданту свой мандат, объяснил ему суть дела.
— Вот эта? — спросил он, показывая на Беллу.
— Да, она.
— Придётся тебе написать рапорт, иначе старший комендант не даст санкцию на арест, — сказал дежурный и предложил Белле зайти за барьер.
Я сел за стол и коротко написал о причинах задержания Беллы.
Комендант пробежал глазами написанное мною, покачал головой.
— Тут дело серьёзное! Подымись, пожалуйста, на второй этаж к товарищу Гогоберидзе и поговори с ним.
Меня встретил молодой, красивый брюнет. Внимательно прочитав рапорт, он спросил:
— На улице, говоришь, взял?
— Да, случайно встретил.
— Член центра националистской организации молодёжи… Высокого полёта птичка! Постой, это не та организация, которая установила связь с нашими меньшевиками? Об этом вы нам писали.
— Та самая.
— Теперь всё понятно! — Гогоберидзе протянул мне пачку сигарет. — Закуривай.
Я отказался.
— Не куришь?
— Курю, но… боюсь, голова закружится.
Он внимательно посмотрел на меня.
— Голодный?
— Малость не рассчитал с продуктами…
— Подожди. Сейчас что-нибудь сообразим. — Он вышел и вскоре вернулся с куском чёрствого кукурузного хлеба и стаканом простокваши.
— На, поешь! Только не спеши, жуй хорошенько, — посоветовал он.
Какой там «не спеши»!.. Вмиг я проглотил хлеб, запил простоквашей и затянулся табачным дымом.
— Ну что же, задержим твою барышню дня на три-четыре. Попытаемся выяснить её связи и отправим к вам, — сказал Гогоберизде.
— Не к нам, а к ним. Я там больше не работаю, получил назначение в приморский город.
— Помощником коменданта порта?
— Совершенно верно. Откуда вы знаете?
— Знаем! — он хитровато подмигнул. — Что же сразу не сказал? Тебя, брат, уже разыскивают. Ещё вчера звонили, — не знаете ли, мол, где запропал вновь назначенный помощник коменданта порта? Ну скажи, пожалуйста, откуда нам знать, когда мы его в глаза не видали? Между прочим, про тебя неплохая слава идёт… Почему запоздал?
Я объяснил ему.
— Ясно!.. Раз ты здесь, задержись ещё на пару дней. Познакомишься с материалами, связанными с твоей новой работой, и, кстати, примешь участие в допросе этой барышни, поможешь нам разобраться.
— А там, в порту не будут возражать?
— Мы поставим их в известность.
Он позвонил старшему коменданту, дал ему распоряжение оформить арест Беллы, устроить меня в общежитие и позаботиться о питании.
— Сегодня отдохни, — сказал он мне, — придёшь утром.
Съездил на вокзал за вещами, там же написал телеграмму Челнокову о том, что задержал Беллу. Начальник транспортной Чека разрешил зашифровать её.
В общежитии собрались славные ребята. Двое взялись показать мне достопримечательности города. Сперва поднялись на гору Давида. Погода стояла солнечная, и отсюда Тифлис и Кура были как на ладони. Вечером мои новые друзья повели меня в театр, там на русском языке давали «Отелло». До этого я, кроме цирка, нигде не бывал, и спектакль произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Ночью не мог заснуть, всё думал: как много, оказывается, на свете удивительных вещей, о которых я и понятия не имею! Сколько же нужно учиться, чтобы всё познать?..
На следующий день принялся знакомиться с материалами, имеющими отношение к предстоящей работе. Всё это мало походило на то, чем я занимался до сих пор. Мне предстояло столкнуться с особым миром — миром людей, над которыми властвовала страсть к наживе. Они не останавливались ни перед чем — ни перед обманом, подлогом, даже убийством. В папках хранились дела импортёров, занимающихся контрабандой, вывозом золота, драгоценных камней и предметов искусства; валютчиков, орудующих миллионами; международных аферистов, взломщиков, налётчиков и просто воров, стекающихся в южный порт со всех концов страны. И, наконец, белых офицеров и всех мастей контрреволюционеров, стремящихся любыми путями удрать за границу. В одиннадцать часов вечера меня вызвал Гогоберидзе.
— Садись вон там, в тени, — он показал рукой на угол кабинета, куда не доходил свет настольной лампы, — и помалкивай! Буду допрашивать твою барышню. Когда понадобится твоя помощь, скажу! — Он приказал привести арестованную.
Вошла Белла в нарядном шёлковом платье, гладко причёсанная. Она вежливо поздоровалась и села на стул спиной ко
мне.
— Ваше имя, отчество, фамилию и всё прочее я знаю, — начал Гогоберидзе. — На формальности не будем тратить время, тем более что пока я ничего записывать не буду. Лучше приступим сразу к делу. Скажите, за что вас задержали?
Белла пожала плечами.
— Откуда мне знать. Задержали на улице, словно я преступница!..
— Товарищ, задержавший вас, был у нас проездом. Он оставил объяснительную записку. — Гогоберидзе достал из ящика стола мой рапорт и сделал вид, что читает его. — Тут написано, что вы являетесь членом какой-то контрреволюционной организации. Правда ли это?
— Понятия не имею! — Белла держалась непринуждённо, отвечала без тени смущения.
— Выходит, — он оклеветал вас?
— По-моему, это совершенно ясно!
— Странно, очень странно… Не может же ответственный сотрудник Чека обвинять человека в тяжёлых грехах без всяких на то оснований!
— Основания были.
— Какие?
— Видите ли, этот человек — Иван Силин, так зовут его, — некоторое время жил у нас в доме. Он пытался соблазнить мою младшую сестру. Естественно, я и мама вмешались. Вот Силин и старается отомстить. Подумайте сами: он задержал меня именно здесь. В нашем городе он не осмелился бы на это, — там многие знали его историю.
Я даже вспотел от негодования. Мне стоило большого труда сидеть и молчать.
Гогоберидзе, делая вид, что колеблется, опять заглянул в мой рапорт и спокойно сказал:
— Товарищ Силин мотивирует свой поступок тем, что вы скрылись после разгрома организации.
— Это неправда!.. Я ездила в деревню к дяде. Знаете, как трудно теперь в городе с продуктами?.. Потом приехала сюда, погостить у друзей.
— Ваши объяснения кажутся мне правдоподобными… Жаль, что не могу устроить очную ставку с Силиным. Мы отправим вас в родной город, — там разберутся во всём.
— Не отправляйте, прошу вас!
— Почему?
— Там у Силина друзья, они пойдут на всё, чтобы его обелить!.. Отпустите меня, вы же опытный человек, вы сразу поняли, что я ни в чём не виновата!
— Гм… — Гогоберидзе забарабанил пальцами по столу. — А может быть, Силин не успел уехать? — Гогоберидзе позвонил коменданту и попросил разыскать меня.
Зачем он разыгрывал всю эту комедию? Я недоумевал, злился, хотя и отдавал должное его хладнокровию и умению вести допрос.
Минуты через три явился комендант и доложил, что Силина в общежитии не оказалось, хотя вещи его там.
— Как только явится, немедленно пришлите ко мне! — приказал Гогоберидзе и отпустил коменданта. Было ясно, что они обо всём условились заранее.
— Вам повезло! Придёт Силин, и вы можете высказать ему всё, — сказал Гогоберидзе.
— Мне не хотелось бы встречаться с ним, — ответила та.
— Что-то я не понимаю вас!.. На родину ехать не желаете, встречаться с Силиным тоже. Как же в таком случае мы установим истину?
Белла молчала.
— Сколько вам лет? — неожиданно спросил Гогоберидзе.
— Двадцать три.
— Жаль мне вас!
— Не понимаю…
— Роль свою плохо играете! Образованная, воспитанная девушка, а говорите неправду… Товарищ Силин, вы всё слышали? — обратился он ко мне.
Я подошёл к столу. Увидя меня, Белла вздрогнула, побледнела.
— Да, всё слышал…
— Итак, вы продолжаете утверждать, что он вас оклеветал?
Молчание.
— Ну, а теперь расскажите нам, с кем вы здесь встречались и какие планы намечали на будущее?
— Я вам ничего не скажу!
— Вот как! То прикидывались смирной овечкой, то ничего не скажете… Ладно, на сегодня хватит, поговорим завтра. Можете идти.
Когда часовой увёл Беллу, я спросил Гогоберидзе:
— Почему вы так долго возились с ней?
— Очень просто, — чтобы обезоружить её, дать понять, что игра в прятки бесполезна. Поверь мне, завтра она заговорит по-другому!
Было очень поздно, когда я вышел от Гогоберидзе.
Тишина, безлюдные улицы. Звёзды начали бледнеть, приближался рассвет. Зашёл в парк, долго бродил по пустынным аллеям. Белла не выходила из головы. Сколько коварства, сколько лжи, — и всё для того, чтобы жить за чужой счёт! Я-то знал, что у Беллы и её друзей нет никаких идей, никаких убеждений… И почему именно на мою долю выпала неблагодарная задача копаться в этой грязи? Как было бы хорошо в тех же железнодорожных мастерских, учиться, заниматься музыкой. Музыка… сколько времени я не садился за рояль!..
Однако кому-то нужно ведь заниматься и всем этим, чтобы честным людям жилось спокойно и счастливо! Так, кажется, говорил Челноков?..
В приморском городе
Шагая под моросящим дождём по чистеньким улицам портового города, я думал: что ожидает меня на новом месте, каких встречу людей?..
Неожиданно вышел на набережную. Вот оно, море!.. Я ещё ни разу не видел его, и, глядя сейчас в туманную даль, в которой серое небо сливалось с зеленоватым морским простором, на бегущие одна за другой, пенящиеся волны, наблюдая за полётом чаек, я испытывал непередаваемое волнение.
Возле причалов стояло множество пароходов, баркасов, шаланд, а между ними сновали катера и ялики.
Протяжный гудок большого парохода под иностранным флагом вернул меня к действительности. Нужно было доложить начальству о своём прибытии.
Вошёл я в кабинет коменданта, протянул круглолицему, с бритой головой человеку свои документы, отрапортовал:
— Иван Силин явился в ваше распоряжение.
— Наконец-то! — Комендант встал из-за стола и, вразвалку подойдя ко мне, протянул большую сильную руку: — Здорово, тёзка! Меня тоже зовут Иваном! Иван Мефодьевич Яблочко. Слыхал такую фамилию? То-то, не слыхал, — единственный в своём роде! — Он был небольшого роста, кряжистый, в суконных брюках клёш, в чёрной куртке, из-под которой виднелась тельняшка, в чёрных ботинках, начищенных до блеска, на боку, на длинных ремнях, висел маузер. Яблочко хлопнул меня по плечу и предложил сесть. — Ну, рассказывай, откуда родом, в каких местах побывал, чем промышлял?
Внимательно слушая меня, он время от времени кивал головой.
— А языки? Ты по-иностранному хорошо балакаешь?
— Только по-французски.
— Кроме французов, ну, скажем, турки, итальянцы, англичане поймут тебя?
— Итальянцы ещё может быть, остальные нет.
Яблочко задумался.
— Понимаешь, нехорошо получается! Они бормочут на своём языке, а ты — дурак дураком, хлопаешь ушами и ни черта не понимаешь! Да ладно, как-нибудь… Сейчас я представлю тебя нашим хлопцам. — Он приоткрыл дверь и крикнул: — Васька, свистать всех ко мне!
В кабинет один за другим вошли человек пятнадцать молодых, загорелых парней и четыре девушки. Когда все расселись, Яблочко поднял руку, чтобы прекратить шум.
— Митинг… Тьфу ты чёрт, собрание, значит, считаю открытым, — начал он, стоя за столом. — К нам приехал новый товарищ, Иван Силин. — Жест в мою сторону. — В отличие от вас, чертей, он знает иностранные языки, — стало быть, отныне работать нам будет легче. Приказываю ввести товарища Силина в курс дела и соблюдать железную революционную дисциплину, работать так, чтобы ни один сукин сын не околпачил нас и не вывез за границу народное достояние в виде золота, бриллиантов и других ценностей, чтобы ни одна контра не ускользнула от нас! Ясно?
— Ясно, — дружным хором ответили собравшиеся.
— Завтра отплывает большой итальянский пароход. Смотрите в оба, подготовиться как следует!
Отпустив сотрудников, Яблочко повёл меня в город.
— Здесь живёт наша братва, — сказал он, останавливаясь у двухэтажного каменного дома. — Я приготовил твой кубрик, пойдём покажу.
То, что он называл кубриком, действительно походило на пароходную каюту. Узкая прямоугольная комнатка, железная кровать, две табуретки, вешалка и крошечный столик.
— Я живу тут, за стеной, — Яблочко ударил рукой по стене. — Тихо тут, спокойно, посторонних не бывает. Оставь вещи — и марш в Чека! Представлю тебя начальству.
Мы побывали с ним у председателя Чека, у двух его заместителей. Заходили к начальникам отделов. Яблочко везде держался непринуждённо, ко всем обращался на «ты», шутил, балагурил. Видно было, что здесь его любят и давно привыкли к его чудачествам. Меня же руководители Чека встречали с плохо скрываемым разочарованием. Они, как и Гогоберидзе, ожидали, наверное, встретить солидного, опытного работника, а вместо этого перед ними стоял худой девятнадцатилетний мальчишка.
Яблочко повёл меня и в финчасть, познакомил с главным бухгалтером, приговаривая, что «Сидор Яковлевич — светлая голова и самая главная фигура во всём Чека». А с начхозом у него вышла маленькая перебранка.
Зайдя к нему, он ещё с порога закричал:
— Эй ты, скупердяй! Выдай моему помощнику такую робу, чтобы все барышни заглядывались. Лучше, конечно, морскую.
— Опять ты за своё! Что, по-твоему, здесь: Чека или Управление военно-морского флота? Откуда я возьму морскую одежду? — досадливо морщась, огрызнулся тот.
— Управление не управление, а хорошую робу подавай! Иначе душу из тебя вытряхну.
— Морской волк нашёлся, не испугаешь! Нет у меня ничего.
— Открой кладовку, сам посмотрю, — не отставал Яблочко.
— Не могу.
— Почему?
— Не положено!
— Значит, мой помощник должен ходить в обносках? Пойми ты, дурья голова, не для форсу прошу, — он с иностранцами будет разговаривать на их языке, со всякими там капитанами, импортёрами и офицерами!
Последние слова Яблочко произвели впечатление, и начхоз, чертыхаясь, повёл нас в кладовую. Морской формы там действительно не оказалось, зато нашлись замечательные синие галифе, шерстяная гимнастёрка, кожаная куртка, мягкие шевровые сапоги и тонкое бельё. Завязав всё это в узелок, я расписался в получении и вслед за Яблочко вышел на улицу.
Проходя мимо ресторана под золотой, во всю длину фасада вывеской «Италия», Яблочко предложил зайти туда и пообедать. Сели за стол. Мой начальник широким жестом завсегдатая заказал два борща по-украински, натуральный бифштекс с жареной картошкой и спросил, буду ли я пить водку.
От водки я отказался. Он попросил подать бутылку красного вина и заказал себе двести граммов водки. Поймав мой недоуменный взгляд, подмигнул:
— Хочешь, угадаю твои мысли? Ты сейчас подумал: «Откуда у этого чёрта деньги на такое угощение?» Ну как, угадал?
Я невольно рассмеялся.
— Я, брат, богат, как Ротшильд! Тридцать миллионов получил. Порядок есть такой: за пойманную контрабанду Сидор Яковлевич нам проценты начисляет. Дело-то, конечно, не в деньгах, — разъяснил Яблочко, намазал на ломтик чёрного хлеба горчицу, посыпал солью и положил перед собой.
Официант принёс маленький графин водки, открыл бутылку вина и бесшумно исчез. Яблочко наполнил мой бокал вином, себе налил полную рюмку водки и, выпив и закусив хлебом с горчицей, сказал:
— Будем здоровы!
Борщ подали в металлических мисках, от него шёл пар, сверху плавал жир в палец толщиной. Я давно не ел горячего. Не дожидаясь, пока официант перельёт борщ в тарелку, я взял ложку и начал хлебать прямо из миски.
Когда мы принялись за сочный бифштекс, к нашему столику подошёл прекрасно одетый человек лет тридцати пяти, высокий, стройный, с тонкими чертами лица.
— Моё вам почтение, Иван Мефодьевич! — Он низко поклонился. — Никак не ожидал встретить вас здесь…
— А… Граф, здравствуйте! Вот зашли с помощником пообедать. Нужно же как-нибудь отметить его приезд.
Граф оценивающе оглядел меня и протянул руку.
— Яков Иосифович, — отрекомендовался он, — очень рад познакомиться с новым помощником уважаемого коменданта.
— Зря радуетесь, Граф! Он хоть и молод, но крови вам ещё попортит, — сказал Яблочко.
— Ай, зачем портить кровь, и так не сладко живётся! — ответил тот и, не дожидаясь приглашения, сел на свободный стул.
— Кому-кому, а вам грешно жаловаться на жизнь, — сказал Яблочко. — Говорят, провели удачную комбинацию с шёлковыми чулками и взяли хороший куш.
— Тоже мне куш — мешок бумажек! За них и тысячи турецких лир не дадут.
— Ладно уж, не прибедняйтесь. — Яблочко взялся за графин. — Водки налить?
— С удовольствием выпью с вами, но тут же нечего пить. Эй, человек, бутылку рома! — крикнул Граф на весь зал.
— Нет уж, спасибо! — отказался Яблочко. — Если хотите рома, то пейте за своим столиком!
— А что, вам запрещается раздавить бутылочку с хорошим человеком?
— Ничего не запрещается. Днём у меня норма — один стакан, и ни капельки больше!
— У нас в Одессе воробьи и те побольше пьют.
— Положим, флотские дали бы вашим одесситам очков сто форы, но всему своё время. Мне ещё на работу.
— Не говорите, был у нас один драгал с Молдаванки. Во детина! Плечом гружёную подводу поднимал. По утрам этот самый драгал останавливал лошадку у казёнки, брал литровку, взбалтывал — и с ходу в горло. И вы можете себе представить, чем закусывал?.. Так я вам скажу: в один присест съедал целую ставриду горячего копчения, три головки лука, фунт сала и буханку пшеничного хлеба.
— То драгал, а вот вы как?
— Было время, и я не отставал. Теперь не то…
— Стары становитесь?
— А что вы думаете? Износился, с девяти лет тружусь, — Граф вздохнул.
— Понимаю! Работёнка у вас больно пыльная была, поневоле износишься.
Яблочко допил водку. Мы закончили обед и встали. Бутылка рома так и осталась на столе нетронутой. На улице я спросил:
— Иван Мефодьевич, кто этот Граф? По виду вроде интеллигент, а язык какой-то блатной.
— Блатной и есть. Гроза морей и океанов, царь и бог «малины», по кличке Яшка Граф!.. В прошлом одесский аферист. Мелкими афёрами не занимался, поэтому уголовники и дали ему титул графа. Теперь Яшка сделался частным комиссионером, вертится около импортёров, делает деньги. Валютой промышляет, контрабандой тоже не гнушается. Ты ещё не раз столкнёшься с ним. Ловкий, подлец, — его голыми руками не возьмёшь!
— Зачем голыми руками? Его ведь можно упрятать за одну валюту, — возразил я.
— Так можно половину города посадить!.. Здесь, брат, многие промышляют этим. Наши советские деньги никто всерьёз не принимает, вся торговля идёт на турецкие лиры, американские доллары и английские фунты.
— А почему не запрещают?
— Нельзя! Тут, понимаешь, хитрая механика… Разруха, голод. Нужно восстанавливать хозяйство, людей спасать от голодной смерти, иначе конец революции… Без торговли с заграницей не обойтись: нам нужны семена, рогатый скот, мука, сахар и, конечно, мануфактура, обувь… Капиталисты хотят нас измором взять. Но запретить частным лицам торговать с нами они не могут. Вот нам и приходится терпеть всяких спекулянтов. С одной стороны, нужно действовать так, чтобы не отпугнуть их, с другой — смотреть в оба, чтобы они наши ценности не выкачивали, контрабандой не занимались. Для этого мы с тобой и поставлены. Однако на сегодня хватит. Поживёшь у нас малость — сам всё поймёшь… Лучше сходи в баню, помойся, постригись, переоденься, отдохни. — Яблочко протянул мне пачку денег. — На, бери! Вечером увидимся…
Мой новый начальник повернулся и зашагал вниз, к пристани, а я пошёл искать баню. «Меня считают образованным парнем, чуть ли не интеллигентом за то, что пишу грамотно и владею французским, — думал я. — А я не знаю и половины того, что знают вот эти, простые на вид, люди. Удивительно, откуда они берутся? Вот Челноков Модест Иванович… На первый взгляд простак, а каким оказался умницей. Рядовой матрос, грубоватый, неотёсанный, а голова золотая, всё понимает. Такого ни один Граф, ни один ловкач вокруг пальца не обведёт!»
После бани я переоделся во всё новое и посмотрел в зеркало. В кожанке я выглядел совсем как настоящий комиссар, если бы не чрезмерная моя худоба, Не торчащие скулы, обтянутые загорелой кожей…
Решив, что в такой шикарной одежде грешно сидеть дома, пошёл побродить по городу. К счастью, дождь перестал, хотя небо по-прежнему хмурилось.
Очутился на людной улице. По обеим сторонам — лавки, магазины, кофейни, закусочные. Какие-то юркие люди, прохаживаясь по тротуару, тихо, но так, чтоб было слышно, говорили: «Беру доллары, беру доллары» или: «Лиры, кому турецкие лиры?» Словом, биржа. Позже я узнал, что эта улица называлась Михайловской и была ареной деятельности валютных спекулянтов.
На углу крашеная девица с большой мушкой на щеке подмигивала мне и делала какие-то непонятные знаки. Я подошёл и спросил, в чём дело.
— Пойдём со мной, красавчик! Тут недалеко…
Я отскочил как ошпаренный. Она расхохоталась мне вдогонку и закричала на всю улицу:
— Сосунок, а ещё наган нацепил!..
На другой улице, в кофейне, за мраморными столиками сидели степенные люди в красных фесках. Некоторые играли в кости, другие неторопливо пили кофе из крошечных чашечек. Рядом, в духане, шумно кутили матросы.
Я вернулся к себе и, сняв сапоги, бросился на кровать. Всё виденное в городе встало перед глазами — спекулянты, открыто торгующие валютой, проститутки, пьянство, кутёж… Вот тебе и новая жизнь!.. Усталость дала себя знать — я задремал.
— Проснись, проснись же! — кто-то тормошил меня.
Я вскочил. Передо мной стоял Иван Мефодьевич.
— Крепко спишь!.. Надевай сапоги, пойдём в интернациональный клуб моряков.
— А пустят?
— Ещё бы! Нам, брат, везде дорога… — Он выпятил свою могучую грудь. — Куда не пустят, сами войдём! Пошли.
В клубе было шумно. В вестибюле группа иностранных матросов окружила Ивана Мефодьевича.
— Камрад Яблочко! — воскликнул один из них, хлопая его по плечу.
— Поговори с ними, Ванюша! — предложил мой начальник. — Спроси, как им у нас нравится?
Матросы оказались итальянцами, но двое хорошо говорили по-французски. Яблочко стоял рядом и сиял, слушая, как я изъясняюсь по-французски. Весь его вид говорил: «Знайте наших! Мы тоже не лыком шиты».
Пошли в ресторан. Сели за свободный столик. Яблочко заказал сыр, хлеб и две кружки пива. Играл оркестр, между столиками танцевали полупьяные матросы с девицами в коротких юбках.
— Что насупился, не нравится? — спросил Иван Мефодьевич. — Во всём мире так. Поплавает матрос по морю месяц-другой, намучается на тяжёлой работе. А как дорвётся до берега — прямо в кабак. Спустит за день-два всю получку и опять зубы на полку. Несознательный народ, другой жизни не знает! — Он задумался. — Сагитировать бы эту братву, — глядишь, поймут, что к чему, перестанут жить по-скотски!..
Допив пиво, поднялись в бильярдную. Там играли на деньги. У Яблочко загорелись глаза.
— Показал бы я им класс, да нельзя нашему брату! — прошептал он мне на ухо. Оказывается, он был заядлым бильярдистом. — Ванюша, сослужи службу, — попросил он, отведя меня в сторонку.
— С удовольствием, если только смогу!
— Нужно смочь!.. Есть тут один матрос, я его тебе покажу. Он нам сочувствует, хотя по-русски ни бум-бум. Завяжи с ним разговор, только аккуратненько. Нам очень важно узнать, что представляет собою второй помощник капитана его парохода. Понимаешь, этот молодчик в каждый приезд заводит здесь подозрительные связи. Не знаю, то ли золото и бриллианты покупает, то ли чем похуже занимается.
Минут через двадцать Яблочко показал мне худощавого матроса. Тот разглядывал репродукцию левитановской картины «Над вечным покоем».
Я подошёл к нему и спросил по-французски:
— Вам нравится картина?
— О-о, великолепная! Представляю, каким шедевром должен быть подлинник!
Знакомство состоялось. Из его слов я понял, что имею дело если не с образованным, то, во всяком случае, с начитанным человеком.
Помня совет Ивана Мефодьевича, я не говорил о политике. Мы беседовали о музыке, о литературе. Прощаясь, я попросил Марио — так звали моего нового знакомого — зайти в свободное время ко мне в комендатуру поболтать.
— Придёт, как думаешь? — поинтересовался Яблочко.
— Обязательно придёт! Он славный парень. Мы, кажется, понравились друг другу.
На следующее утро, позавтракав на скорую руку в комнате Ивана Мефодьевича, мы отправились в порт.
— Пойдём, покажу твой кабинет! — и он привёл меня в большую, хорошо обставленную комнату, окнами на море. Чего только не было в ней! Мягкая мебель под чехлами, диван, кресла, книжный шкаф и громадных размеров письменный стол из красного дерева. На столе — чернильный прибор с морским якорем. На окнах — шёлковые шторы.
— Нравится? — спросил Яблочко с самодовольной улыбкой.
— Шикарно, но зачем всё это? Такого кабинета я не видел даже у самых ответственных работников.
— Чудак! Уж конечно не для твоего удовольствия. Здесь ты будешь разговаривать с иностранцами — с капитанами пароходов, офицерами и всякими там коммерсантами. Нужно, чтобы солидно было!
— Вы тоже принимаете их, однако у вас в кабинете ничего подобного нет, — не отступал я.
— То я, а то ты, разница! Я просто комендант, а ты вроде представителя Советской власти, на их языке будешь разговаривать. Гляди, вот здесь кнопка от звонка, — Яблочко показал на чёрную кнопку на столе. — Нажмёшь — и явится Васька, наш рассыльный. Попробуй нажми.
Я нажал кнопку, и действительно — явился веснушчатый паренёк лет шестнадцати в матросской форме.
— Васька, сукин ты сын! Опять у тебя роба измята и ботинки не чищены! — закричал на него Яблочко.
— Виноват, Иван Мефодьевич, не успел! — Парень смущённо переступал с ноги на ногу.
— Не успел!.. Смотри у меня. Пойди скажи Гугуше, пусть принесёт товарищу Силину список уезжающих сегодня пассажиров. — Когда посыльный вышел, Яблочко сказал мне: — Обрати внимание на фамилии, против которых поставлены галочки.
Пришёл молодой грузин с тонкой, как у девушки, талией и, поздоровавшись, положил папку на стол.
— Ну как, Гугуша, всё в порядке? — спросил его комендант.
— Какой порядок? Нет порядка!.. Понимаешь, начальник, Петроград совсем ленивый стал — на одного подозрительного гражданина дополнительный материал не прислал.
— На того старичка?
— Да, на него! Видно, что он белый, совсем белый, — полковник или царский генерал. Говорит, был мещанин, мастерскую имел, а руки, как у женщины, мягкие, мозолей нет. Едет к брату в Канаду. Есть такая страна, далеко очень…
— Как ты думаешь поступить с ним?
— Сам не понимаю. Задержать нельзя, — документ имеет. Отпускать жалко. Может, он против Советской власти воевал.
— Ничего не поделаешь!.. Раз нет материала, придётся разрешить отъезд. — Яблочко встал. — Ну, я пошёл к себе. Пароход отходит в три часа, нужно ещё кое-что проверить. Гугуша, дай Силину имеющиеся у тебя материалы. — Он вышел.
Список отъезжающих был большой. «Дополнительных» сведений тоже немало…
Из Одессы сообщали:
«Гражданин Кац Ю. П., 1866 года рождения, владелец двухэтажного каменного дома. До революции занимался лесной торговлей, ворочал большими делами. В 1920 году у него было изъято два фунта золота в слитках, тысяча золотых рублей царской чеканки и пятьсот английских фунтов стерлингов. Есть подозрение, что припрятал драгоценные камни…»
Малограмотный комиссар писал из Воронежа:
«На ваш запрос сообщаю. Маслобойников Леонид Арсентьевич зловредная личность. Хотя его участие в вооружённой борьбе против Советской власти не установлено, всё равно — контра. Имел мясную лавку. В 1919 году сидел за спекуляцию. Жену извёл побоями, был церковным старостой и жил богато».
Из Козлова писали:
«Бывший мещанин Александр Александрович Садовников имел в Козлове фабрику по производству фруктовых вод и эксплуатировал чужой труд. Состоял в партии кадетов. Неоднократно избирался гласным городской думы. Советской власти не сочувствовал».
И всё в таком роде. Было ясно: уезжали за границу люди, имеющие все основания быть недовольными новым социальным строем. Но что могли мы сделать на основании таких «дополнительных» сведений, если все эти люди имели разрешение наркомата иностранных дел на выезд?
К двум часам дня охрана порта оцепила все проходы. Пассажиры после таможенного осмотра проходили через комендатуру. Здесь оперативные работники проверяли документы. Того или иного пассажира они изредка приглашали для дополнительного осмотра, а иногда и для личного обыска.
Я стоял в сторонке, наблюдая за всем этим. Вот подошёл старик Кац из Одессы. Молодой грузин пригласил его с женой и взрослой дочерью в комнату. Я последовал за ними и присутствовал при следующем диалоге.
Гугуша: — Гражданин Кац, вы хотите ехать к брату в Аргентину?
Кац: — Что за вопрос, конечно хочу!.. Если вы думаете, что я приехал сюда просто прогуляться, то глубоко ошибаетесь.
Гугуша: — Тогда сдайте бриллианты. Нельзя, понимаете, увозить!
Кац: — Ах боже мой, какие бриллианты? Я бедный человек. Даже деньги на дорогу прислал брат…
В разговор вступает жена Каца:
— Молодой человек, вы ошибаетесь! Мы никогда не имели бриллиантов!..
Гугуша: — Зачем такой большой неправду говорите? Вы золото тоже не имели?
Кац: — Золото? Спрашивается, откуда у меня могло быть золото?
Гугуша: — Лес торговал, много богатства имел: золото и валюта Чека забрал.
Кац: — Так это когда было! Тогда всё и забрали, ничего не оставили…
Гугуша: — Добровольно не дадите, силой заберём. Обыск будем делать.
Кац: — Пожалуйста, сделайте ваше одолжение! Почему бы нет, если у вас есть свободное время?
— Катя, — позвал Гугуша сотрудницу. — Проверь, пожалуйста, этих дам. — Когда та увела женщин, он обратился к Кацу: — Не надо так упрямиться, всё равно найдём! Покажите каблуки.
Бриллиантов Гугуша не обнаружил, хотя и перерыл все вещи и продукты. Проверил, нет ли в ботинках каблуков с тайником, а в чемоданах двойного дна.
Вернулась Катя и протянула ему горсть золотых колец, серёг и других украшений.
— Больше ничего нет, — сказала она.
— Вернуть надо! — Гугуша с досадой махнул рукой.
Когда Кац и его семейство, забрав все свои чемоданы, направились к пароходу, он, глядя ему вслед, огорчённо вздохнул:
— Такой маленький камень, что и с собаками не найдёшь!..
Пассажиры взошли на палубу; подняли трапы, посадка кончилась. Яблочко дал команду охране открыть проходы. На пристань хлынули провожающие и толпа праздношатающейся публики.
Кое-кто из них беспрепятственно протягивал уезжающим кульки с фруктами, папиросы, свёртки с едой. Нетрудно было понять, что это сводило на нет усилия оперативных работников комендатуры воспрепятствовать утечке золота и драгоценных камней…
Своими соображениями я ни с кем не поделился, считая, что мне, новичку, рано делать такие заключения.
Лоцман поднялся на капитанский мостик, пароход дал третий гудок, и буксир оттянул его в открытое море. Провожающие разошлись. Пристань опустела.
Марио пришёл ко мне вечером. Мы сидели с ним, курили и, не зажигая света, вели беседу. Он много плавал, побывал в дальних странах, ему было о чём рассказать.
Я осторожно спросил:
— Скажите, Марио, как вам нравится наша страна, революция?
— Очень нравится! Я же матрос, бедняк. Мне кажется, что революция в России и нам поможет лучше жить.
— Каким же образом?
— Очень просто! Хозяева, страшась вашего примера, будут более сговорчивыми.
— К сожалению, не все так думают, как вы… Среди иностранцев, приезжающих к нам, многие пользуются нашими временными затруднениями и обогащаются за наш счёт. Например, ваш второй помощник капитана, — вставил я как бы невзначай. — Кстати, Марио, что он из себя представляет?
— Сын очень богатых родителей. Его отец — владелец большого универсального магазина в Милане. Вы правы, синьор Эрнесто ненавидит большевиков и революцию, он не скрывает своих убеждений. Что касается другой стороны дела, то, признаюсь, мы все грешны!.. Например, я в прошлый приезд тоже провёл выгодную операцию — за дюжину шёлковых чулок и десять плиток шоколада получил золотое колечко с бриллиантом в полкарата и подарил своей девушке. Вы бы видели, как она обрадовалась!.. Разумеется, при других обстоятельствах я никогда не сумел бы сделать ей такой дорогой подарок. Ну, остальные ребята тоже промышляют кое-чем. Такова жизнь, ничего не поделаешь!
— Это пустяки. Я имел в виду обогащение в прямом смысле. Взять того же синьора Эрнесто, — не станет же он заниматься такой мелочью?
— Конечно, у него капитал! Он закупает много ходкого товара и меняет здесь. Недавно синьор Эрнесто хвастался на корабле, что почти за бесценок — за один килограмм камней для зажигалок — заполучил подлинное полотно Айвазовского.
— Вот видите, это же грабёж среди бела дня! Вожди революции говорят, что творения великих художников должны принадлежать народу, а не украшать дома богачей!
— Это правильно. Я очень люблю живопись и восторгался картинами Айвазовского, когда мы стояли в порту Феодосия. Там есть галерея его картин…
Марио посмотрел на часы и поднялся. Я спросил, не боится ли он гнева пароходного начальства за то, что пришёл ко мне.
— Правду сказать, им незачем знать об этом!.. А впрочем, мне всё равно, я давно у них на подозрении, — ответил он и на прощание подарил мне коробку английских сигарет.
Из открытого окна кабинета я видел, как он, сунув руки в карманы брюк и насвистывая весёлую песенку, исчез в темноте…
Яблочко, выслушав рассказ о моей беседе с итальянским матросом, оживился.
— Интересно получается, очень интересно!.. Приезжая к нам, морячки, с одной стороны, меняют чулки на колечки с бриллиантами, а с другой стороны, заражаются нашей правдой. Ничего, придёт время, и они тоже начнут мозгами шевелить!
Так кончился первый день моей работы в порту, и, конечно, мне не приходилось жаловаться на отсутствие впечатлений.
На новом месте работа оказалась куда сложнее, чем я себе представлял, когда знакомился в Тифлисе с материалами. Ежедневно, ежечасно возникали передо мной труднейшие задачи, решение которых требовало осторожности и смекалки. На самом деле: попробуй арестуй валютчика и не напугай импортёров. Найди точную грань между разрешённой торговлей и спекуляцией, когда цены на товары устанавливаются произвольно самими торговцами. Лови контрабандиста только на месте преступления — иначе к нему не подступишься. Высадился он на берег, отвёз товар куда следует, — всё пропало: товар забрать нельзя, иначе поползут по городу слухи: «Большевикам нельзя верить, они одной рукой разрешают частную торговлю, импорт, а другой, под видом контрабанды, реквизируют у коммерсантов товар…» Староста импортёров, греческий или турецкий консул, заявит властям протест по всей форме и будет требовать возмещения убытков… Команды кораблей, начиная с капитана и кончая последним коком, занимаются незаконными операциями: выкачивают понемногу золото, бриллианты, предметы искусства. Знаешь, но сделать ничего не можешь. Если задержишь члена команды и при обыске ничего не обнаружишь, разразится скандал. По всем данным, имеешь дело с явным врагом, но он неведомо как добыл себе разрешение на выезд за границу. Дополнительные сведения о нём ещё не поступили, а разрешение и виза обусловлены определёнными сроками. Как же задержать его отъезд без представления веских документальных доказательств его враждебной деятельности? Уехал человек, а через неделю-другую получаешь сведения из Москвы, Петрограда или Тамбова, что гражданин такой-то, о ком вы запрашивали, бывший офицер, работал в белой контрразведке, что он разыскивается для привлечения к ответственности. С досады можешь кусать себе руки сколько угодно, — врага не вернёшь!.. Один неосторожный шаг — и ты нанёс вред политике, проводимой в данный момент государством, или упустил врага… Как-то зашла ко мне отметиться некая гражданка Зельдина Софья Марковна, элегантная толстушка лет сорока, зубной врач по профессии. Документы у неё были в полном порядке, она уезжала в Америку, к родному дяде.
Я попросил её зайти на следующий день — хотел ознакомиться с дополнительными материалами, если они имелись.
У Гугуши оказалась тоненькая папка с несколькими листами исписанной бумаги. Оперативный уполномоченный по борьбе с контрабандой писал из Николаева, что гражданка Зельдина С. М. покупала на золото бриллианты. С этой целью она ездила в Одессу и Крым. Дважды задерживалась, дома у неё производился обыск, но безрезультатно: бриллианты обнаружены не были. В конце своего письма уполномоченный добавлял: «Нет сомнения в том, что Зельдина С. М. заготовила большое количество драгоценных камней с целью вывоза их за границу. Просим обратить на неё особое внимание и учесть, что она весьма ловкая и упрямая особа».
Я решил сам заняться Зельдиной и за час до отплытия парохода попросил её к себе в кабинет со всеми вещами.
Вслед за носильщиком с тремя большими чемоданами вошла Софья Марковна, держа в руке саквояж. Она устало опустилась на стул, достала из сумочки серебряную пудреницу и, рассматривая себя в зеркальце, с подчёркнутым равнодушием принялась подкрашивать губы.
— Итак, вы едете в Америку к дяде? — спросил я.
— Вы это прекрасно знаете.
— Он, ваш дядя, очень богатый человек, если приглашает к себе племянницу?
— Не понимаю, какое вам до этого дело? Он ведь не в Советской России живёт!..
— Правильно, это нас не касается. Меня интересует другой вопрос: зачем вам рисковать и увозить с собой бриллианты, когда богатый дядя и так обеспечит вас?
— Ах, боже мой, опять!.. Ваши умные сотрудники в Николаеве уже раз двадцать спрашивали меня о каких-то бриллиантах. Арестовывали, в подвал сажали, на квартире обыск делали и, разумеется, ничего не нашли. Нет у меня никаких бриллиантов! Понятно это наконец вам или нет? — закричала Зельдина.
— Прежде всего не нужно повышать голоса! — осадил я её. — А говорите вы неправду. Сдайте бриллианты и спокойно уезжайте. Если их обнаружим мы, то, предупреждаю, не только задержим, но и привлечём вас к ответственности.
— Знаете что, молодой человек, вы меня не пугайте! Я давно пуганая, и вообще всё это мне надоело… Сперва найдите, потом будете угрожать.
Тратить время на разговоры с ней не было никакого смысла. Я попросил одну из наших сотрудниц тщательно проверить все вещи Зельдиной, прощупать каждый шов её платьев, произвести личный обыск и о результатах сообщить мне. Уходя, я шепнул сотруднице на ухо: «Ищите бриллианты! Они у неё есть…»
Минут через двадцать вышла расстроенная сотрудница.
— Ничего не нашла! — сказала она.
Что-то подсказывало мне, что у Зельдиной есть эти самые проклятые бриллианты. Даже в ушах звенело: «Есть, есть!..» Инстинкт или интуиция — не знаю, как это назвать, — но они часто безошибочно подсказывают то, чего не видишь глазами и не можешь пощупать руками. Так было и на этот раз. Убеждение моё подкреплялось и письмом оперуполномоченного из Николаева. Бриллианты есть, но где, как их найти? До отхода парохода оставалось не больше получаса. Нужно было на что-то решиться.
Я вошёл к себе в кабинет и, не обращая внимания на торжествующую Зельдину, решил сам всё проверить. В её вещах действительно ничего не было. Взял простыню, завесил ею угол комнаты и предложил Зельдиной зайти туда, раздеться и одежду свою передать мне.
— Раздеваться здесь, при вас? Это издевательство, вы не имеете права! Я буду жаловаться, — зашипела она.
— Можете жаловаться, а пока не теряйте времени! Иначе пароход уйдёт без вас.
Зельдина покорилась. Из-за простыни полетели то блузка, то юбка, а потом и другие предметы дамского туалета.
— Нате, проверяйте!.. Не люди, а изверги, мучители…
В одежде тоже ничего не оказалось. Я вернул ей всё, сел в кресло, закурил. «Прав Гугуша, — подумал я, — здесь и собачий нюх не поможет».
— Ну что, успокоились? — Зельдина зло, издевательски смотрела на меня, чуть не язык показала.
И вдруг… «Шляпа!» — мелькнуло в голове.
— Снимите, пожалуйста, вашу шляпу!
— Шляпу?.. Зачем она вам? — что-то дрогнуло в лице Зельдиной.
— Поторопитесь, прошу вас!
Она сняла широкополую шляпу с цветами, передала мне и уже не сводила глаз с моих рук. Бриллианты были спрятаны где-то здесь, в этом сомневаться не приходилось, однако нужно было их найти. Внешний осмотр ничего не дал, я перевернул шляпу и сорвал шёлковую подкладку. Нервы Зельдиной сдали, она вскрикнула, схватилась за голову и без сил упала на диван.
Наконец-то! Вокруг тоненькой стальной проволоки, натянутой по всей окружности шляпы, был намотан спиралью мешочек с мизинец толщиной. Я осторожно освободил мешочек от проволоки, распорол шов, и на стол посыпались блестящие камешки разной величины. Нашёл-таки! Моему восторгу не было границ. Завернув бриллианты в бумагу, побежал к Яблочко.
— Вот они, Иван Мефодьевич! Нашёл в шляпе Зельдиной. Что с ними делать?
Перебирая их пальцами и хмурясь, Яблочко задумчиво произнёс:
— Чертовщина какая-то!.. Из-за такой ерунды люди бьются насмерть… Что делать, спрашиваешь? Заактируй, а врачиху задержи.
— Как записать в акте? Величина камушков неодинаковая.
— Ты, брат, так спрашиваешь, будто матрос Иван Яблочко всю жизнь тем и занимался, что копил бриллианты! Так и запиши: столько-то штук разной величины…
По дороге в Чека, сидя рядом со мной в фаэтоне, Зельдина молчала. За короткое время она как-то поблекла, даже постарела. Вдруг повернулась ко мне и тихо, чтобы не слышал извозчик, сказала:
— В этих камнях — целое состояние. Возьмите половину себе, порвите акт, отпустите меня!..
— Задержанным разговаривать не полагается! — оборвал я её.
Когда до Чека оставалось несколько кварталов, она опять зашептала:
— Возьмите всё, только не везите в Чека! Поверьте, никто ничего не узнает…
Я не ответил.
Недалеко от серого здания Чека она сделала последнюю попытку уговорить меня:
— Отпустите, умоляю… Возьмите всё, всё… Хотите, я осчастливлю вас, — бессвязно бормотала она.
Дежурный комендант принял Зельдину, выдал мне расписку, и бухгалтер Сидор Яковлевич, рассматривая через лупу бриллианты, свистнул.
— Тут каратов семьдесят, и всё чистой воды! Богатый улов у тебя, Силин, поздравляю, — сказал он.
Шагая по набережной, я всей грудью вдыхал влажный морской воздух и радовался всему: солнцу, наполовину спрятавшемуся за горизонтом, пурпурной дорожке на широкой глади моря, редким облакам причудливой формы, окрашенным в яркие цвета, белым парусам рыбачьих лодок и лёгкому ветерку. Всё это было чистым, прекрасным — таким далёким от жалких и тёмных человеческих страстей!..
Дело с картинами
— Что ж ты молчал до сих пор? — с этими словами Яблочко вошёл в мой кабинет.
— О чём вы, Иван Мефодьевич?
— Посмотрите на него, будто ничего не знает! — Яблочко сел в кресло, развернул газету. — Газету читал?
— Не успел ещё.
— Напрасно! Скажи-ка, как тебя зовут?
— Вы же знаете!
— Нет, ты повтори.
— Иван Егорович Силин.
— Во втором горнострелковом полку воевал?
— Воевал.
— Политруком роты был?
— Ну, был.
— Значит, ты! Послушай.
Иван Мефодьевич торжественно начал читать:
— «Постановление Президиума ВЦИК.
За храбрость и отвагу, проявленные в борьбе с врагами революции, наградить боевым орденом Красного Знамени командиров и красноармейцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
…Силина Ивана Егоровича — бывшего политрука роты второго горнострелкового полка…» А теперь признавайся, ты это или не ты?
— Похоже, я. — От волнения у меня пересохло во рту и пропал голос.
— Ну, брат, с тебя причитается!
— С удовольствием, Иван Мефодьевич!
— Шучу, брат, шучу!.. Поздравляю от всей души и горжусь тобой. Знай наших! Помощником у Ивана Яблочко не кто-нибудь, а боевой политработник. Молодец! На, почитай, — он протянул мне газету.
Строчки прыгали и сливались, я с трудом отыскивал в большом списке знакомые фамилии. Вот они:
…Акимова Акима Нестеровича — командира отделения,
Власова Петра Савельевича — комиссара полка,
Кузьменко Михаила Ивановича — командира роты.
И наконец — Силина Ивана Егоровича — бывшего политрука роты.
Ошибки не было!
Сидел, вспоминал дорогих мне людей. Где они теперь? Всегда подтянутый, обходительный комиссар с красивым волевым лицом; коренастый, неуклюжий, в короткой шинели Акимов, мой наставник и учитель. И, наконец, бесстрашный командир Кузьменко, положивший у моего изголовья яблоки, когда я, раненый, лежал в палатке у Шурочки…
Прочитав газету, и они вспомнят обо мне. Как обрадуется Шурочка! Образ Маро как-то поблек за последнее время в моей памяти, а вот Шурочка не выходила из головы. Как она устроилась у Челнокова, не забыла ли меня?
— Ванюша, радость радостью, а дело делом. Сегодня вечером нам нужно сходить с тобой в клуб моряков! — Голос Яблочко вернул меня к действительности.
— Хорошо, Иван Мефодьевич!
Меня поздравляли все сотрудники комендатуры — жали руку, говорили хорошие слова. Особенно радовался Гугуша. Он произнёс целую речь:
— Посмотри, пожалуйста, как хорошо написано — за храбрость и отвагу! Молодец, кацо, — такой молодой и уже герой. Воевать успел, беляков бил, орден получил. Сам Калинин подписал. А мы сидим здесь, барахло проверяем, контрабандистов ловим!..
Порывистый, не в меру горячий, Гугуша оказался отзывчивым товарищем, готовым отдать другу последнюю рубашку. Он любил пофорсить, следил за своей внешностью и одевался по тем временам прекрасно. Тёмно-синие галифе и гимнастёрка из тонкой шерсти, до блеска начищенные мягкие сапоги и кожанка составляли его обычный костюм. С особым шиком Гугуша носил каракулевую кубанку с белым верхом. Сотрудники комендатуры порта, за исключением Ивана Мефодьевича, не расстающегося с маузером, как правило, прятали оружие в заднем кармане брюк. Гугуша же носил свой пистолет так, словно хотел выставить его напоказ. Наган в изящной мягкой кобуре, прикреплённый к плетённому из кожи шнурку, всегда висел у него на боку.
Яблочко иногда ворчал на него: «Гугуша, ты бы спрятал как-нибудь свою пушку». В ответ Гугуша только пожимал плечами.
Сотрудники разошлись по своим делам, один Гугуша задержался у меня.
— Ваня, ты обязательно должен прийти к нам. Знаешь, какая моя мама — мировая женщина! Такой мамы во всей Грузии не найдёшь. Что в Грузии, — в России, даже во всём мире не найдёшь! Она будет рада видеть такого героя, как ты. А ещё… — Гугуша улыбнулся. — А ещё познакомлю тебя с моей девушкой. Очень красивая, очень!
— Спасибо, Гугуша, как-нибудь обязательно приду к вам! И с твоей девушкой познакомлюсь с удовольствием, — сказал я.
— Зачем — как-нибудь? Завтра приходи! Вино будем пить, чехомбили кушать, танцевать будем.
— Хорошо, если не помешают дела.
Я сказал так не ради красного словца. Никто из нас не мог свободно располагать собой, особенно по вечерам. Работников
комендатуры часто использовали для оперативной работы. Город кишмя кишел подозрительными личностями — кроме импортёров и спекулянтов, в него нахлынули шпионы, перебежчики и любители лёгкой наживы. Да и местных меньшевиков, дашнаков, эсеров тоже хватало.
День прошёл незаметно. К вечеру погода снова испортилась. Дождь лил не переставая. О здешнем дожде ходили анекдоты. Капитан английского парохода через десять лет встретил другого капитана, только что возвратившегося из нашего города, и спросил его: «Скажите, там дождь перестал?» На что тот ответил: «Нет ещё, сэр! За весь месяц нашей стоянки не было ни одного ясного дня…»
К семи часам Яблочко зашёл за мной, и мы отправились в клуб.
В бильярдной Марио, проходя мимо, негромко сказал мне:
— Нужно поговорить. Буду ждать на улице…
Минут пять я повертелся в бильярдной и, предупредив Ивана Мефодьевича, пошёл за итальянцем.
Поджидая меня, он медленно шёл по освещённой улице. Разговаривать с ним здесь было рискованно — могли заметить; поэтому, поравнявшись с ним, я свернул в тёмный переулок. Он последовал за мной.
— Если встретится кто-нибудь из ваших, скажете, что шли к девушкам. Понятно? — сказал я. — А теперь говорите, только тихо.
— У меня для вас интересные новости, — начал Марио. — Синьор Эрнесто закупил большую партию картин известных русских художников — Саврасова, Перова, редкую икону какого-то Рублёва. По его словам, ей цены нет. Завтра он собирается переправить их на корабль.
— Каким путём?
— Точно не знаю. Но синьор Эрнесто едва ли будет прибегать к особым хитростям. Проще всего свернуть холст в трубочку и спрятать под плащом. Членов команды ведь не обыскивают!
— Может быть, вы слышали, у кого он купил эти картины?
— Нет, не слышал.
— Жаль!..
— Погодите, это не всё. Второй помощник собирается тайком увезти какого-то человека. Делает ли он это, чтобы получить большой куш, или по другим соображениям, не знаю.
Это было уже посерьёзнее контрабанды!
— Как же он проведёт чужого человека на корабль? — спросил я.
— Очень просто. Этот человек, оказывается, очень похож на нашего белобрысого кочегара. Есть у нас такой редкий экземпляр — Сандрино его зовут. Завтра синьор Эрнесто переоденет незнакомца матросом, снабдит его пропуском Сандрино и вечером проведёт на корабль. Сандрино в курсе этого плана, он сам мне рассказал.
— Спасибо, Марио! — В темноте я крепко пожал ему руку.
— Ерунда!.. Пусть будет мне вознаграждением сознание, что и я был чем-то полезен вам!.. Противно думать, что этому заносчивому субъекту удастся вас перехитрить…
Мы расстались. Марио повернул обратно, к освещённой улице, а я тёмными переулками добрался до клуба и сообщил обо всём Ивану Мефодьевичу.
— Дело серьёзное, нужно хорошенько обмозговать! — сказал он. — Выпьем по кружке пива и айда отсюда!..
В комнате Ивана Мефодьевича мы до поздней ночи обсуждали разные варианты предстоящей операции.
— Зная имя кочегара, перебежчика мы застукаем, это факт! — говорил Яблочко, затягиваясь табачным дымом. — При проверке документов задержим — и конец. Поручи Гугуше, пусть займётся. Он парень расторопный, не прозевает. Хуже обстоит дело с картинами. Этот сукин сын, Эрнесто, сам не будет таскать их, а поручит другим, и не одному. Не станешь же подвергать обыску всю команду корабля? Нет, так не годится! Нужно придумать что-то другое… А что, если затеять пьяную драку с матросами, когда они будут возвращаться на корабль?
— Драку можно затеять с двумя, ну с тремя. А остальные тем временем проскочат, — возразил я.
— И то правда!.. Лучше всего узнать продавца картин и накрыть его на месте. Но как узнать — вот в чём задача! Постой! — Яблочко хлопнул себя по лбу. — Знаешь, кто может помочь? Граф!
— Не понимаю, чего ради этот жулик станет помогать нам?
— Мы малость нажмём на него, ему и не захочется портить с нами отношения. Расскажет, если только сам не замешан в эту афёру с картинами! Граф ведь ничем не брезгует… Придётся рискнуть. Сейчас я пошлю за ним. Лучше всего поговорить с Графом здесь.
Яблочко позвал одного из наших сотрудников, живших тут же, на первом этаже, велел ему найти Яшку Графа и привести его к нам.
— Вежливенько попроси, скажи, товарищ Яблочко, мол, желает побеседовать с вами по одному неотложному делу.
— Где же его, чёрта, найдёшь в такой поздний час? — сотрудник недовольно пожал плечами.
— Где хочешь, но найди! Поищи в ресторане «Италия», в духанах. Сходи к нему домой. Ищи хоть до утра, а сюда доставь.
Сотрудник ушёл. Иван Мефодьевич, дымя папироской, ходил из угла в угол, о чём-то думал. Лицо у него было усталое, хмурое.
Я часто сравнивал его с Челноковым. Модест Иванович был прирождённый разведчик и, обладая гибким умом, работал тоньше. У Яблочко, при всей его честности и преданности делу, приёмы часто были грубыми и примитивными, да и работа у него была более сложной.
— Иди отдохни малость! А то мы набегались сегодня, — сказал мне Яблочко.
От усталости у меня гудели ноги, но спать не хотелось. Взял книгу о восстании Спартака и лёг на кровать. За последнее время я натаскал из библиотеки к себе в комнату много хороших книг, главным образом исторических. Времени у меня было мало, но всё же перед сном урывал часок-другой для чтения. Особенно понравилась мне «Саламбо» Флобера. С не меньшим удовольствием прочитал историю древнего Рима, четыре похода Юлия Цезаря, биографию Наполеона.
Была уже полночь, когда Яблочко постучал в стену.
— Садись, — сказал он, когда я вошёл. — Графа нашли, сейчас явится.
Не прошло и десяти минут, как постучали в дверь. Пришёл Граф. Он был немного навеселе, но держался уверенно.
— Наше вам, Иван Мефодьевич! — весело приветствовал он Яблочко. — А-а, ваш юный помощник тоже здесь? Здравствуйте, товарищ Силин.
— Вы уже успели узнать его фамилию, — усмехнулся Яблочко.
— Как говорят французы, положение обязывает! Граф должен всё знать.
— Садитесь. — Иван Мефодьевич показал на табуретку. — К сожалению, угощать нечем, мы здесь на холостом положении.
— Спасибо, я, кажется, наугощался сегодня! — Граф достал коробку «интеллигентных», закурил. — Интересно знать, чему я обязан таким вниманием с вашей стороны?
— Есть разговор!.. Граф, по делу с шёлковыми чулками мы вас не трогали, хотя могли. Закупая их у капитана моторной лодки Гасана-эфенди, вы отлично знали, что чулки контрабандные. А теперь, говорят, занялись картинами…
— Какими картинами? — всполошился наш гость.
— Самыми обыкновенными — живописью, предметами искусства.
— Клевета! Правда, в молодости я любил собирать картинки с голыми бабами, но потом это прошло. Живые лучше!
— Кто же у вас этим промышляет?
— Иван Мефодьевич! Зачем берёте меня на пушку? Не лучше ли говорить начистоту, мы ведь не дети…
— Пожалуйста, давайте начистоту.
— Тогда ответьте на один нескромный вопрос: для чего вам нужно знать, кто продаёт картины?
— Если я скажу, что мы с Силиным думаем собирать коллекцию картин выдающихся художников, вы же не поверите! — ответил Иван Мефодьевич в тон Графу, чем привёл того в восторг.
— Золотые слова! — расхохотался он. — Лучшего ответа не мог бы дать сам одесский раввин. А теперь насколько я понимаю в медицине, вам что-то от меня нужно.
— Угадали. Нам известно, что какие-то бессовестные люди помогают иностранцам растаскивать народное добро, продают им за бесценок картины выдающихся мастеров. Сами понимаете, этого допускать нельзя!..
— Вот подлецы! Никакого патриотизма у людей!.. — воскликнул Граф с наигранным возмущением. — Так я вам скажу, кто занимается этим, — Федотов и Шехман. Не знаете их? Владельцы комиссионного магазина на углу Михайловской и Лермонтова. Я вас спрашиваю: мало им иметь хороший профит на законной торговле? Нет, нужно ещё путаться с какими-то картинами, продавать их — и кому? — иностранцам! Тёмные люди, лозунгов не знают: «Искусство — народу». Так, кажется, Иван Мефодьевич?
— Так, — машинально ответил Яблочко. Он думал о чём-то своём.
— Вот видите, Граф не только умеет делать деньги, но и в политике разбирается! — самодовольно сказал аферист и встал. — Вообще-то, если разобраться, деньги тоже ерунда. Величайшее зло нашей жизни! Недаром поётся: «Люди гибнут за металл». Ещё как гибнут! А вот как обойтись без них, тоже никто не знает. Однако хватит болтать! Не смею вас больше задерживать, джентльмены. Желаю приятных сновидений, — добавил он и, тихонько напевая: «Люди гибнут за металл», ушёл.
— Фигура!.. Герой в своём роде, — бросил ему вслед Яблочко.
Граф действительно был фигурой, но фигурой особого рода. Иногда он казался мне типичным уголовником своими развязными манерами, своим разговором, приправленным жаргонными, блатными словечками. А то вдруг превращался в мыслящего человека. Порою в нём появлялись какие-то намёки на искренность, но они исчезали так же быстро, как появлялись.
Иван Мефодьевич встал, сладко зевнул.
— Поспать бы часика два, — сказал он.
— Ложитесь! — Я собрался уходить.
— Нет, брат, сегодня нам спать не придётся. — Он надел куртку. — Сходим в Чека. Нужно взять ордер на обыск комиссионного магазина и нагрянуть туда к открытию. И договориться нужно, чтобы не упускали из виду Федотова и Шехмана. Чего доброго, они успеют припрятать картины и оставят нас с носом.
— Думаете, этот тип может предупредить их?
— Всякое бывает!.. В нашем деле предусмотрительность не мешает. — Яблочко застегнул куртку.
На улице было тепло, хотя небо хмурилось по-прежнему и капли редкого дождя падали на мокрые камни мостовой.
Ответственный дежурный по Чека выслушал сообщение Яблочко и без лишних разговоров дал указание наблюдать за комиссионным магазином и оформить ордер на обыск. Яблочко почему-то не уходил.
— Ну, чего тебе ещё, гроза морей? — спросил дежурный.
— Видишь ли ты, есть одна загвоздка…
— Какая ещё загвоздка?
— В той лавке может быть много картин. Откуда, к чёрту, мы с Силиным поймём, какие из них ценные, какие нет? Ещё икона! По мне, все иконы одинаковы…
— Да-а… — Дежурный задумался. — Специалиста бы найти и взять с собой… Есть тут старичок, учитель рисования. Бывший эсер, на каторге был. Может, его?
— Пойдёт с нами?
— Пойти-то пойдёт, но разберётся ли, вот в чём вопрос.
— Если учитель рисования, непременно разберётся! — вставил я.
— Ладно, добуду сейчас его адрес, а вы сходите к нему.
Иван Мефодьевич посмотрел на свои огромные часы с крышкой.
— Магазины открываются в восемь, старик нам нужен в семь, ну, скажем, в полвосьмого. Удобно к нему в такую рань?
— Удобно или нет, а надо! — Дежурный вышел и скоро вернулся с адресом учителя. — Возьмите извозчика и поезжайте.
Открыл нам старичок с длинными, как у дьячка, седыми волосами. Увидев нас, он испуганно спросил:
— Вы именно ко мне, не ошибаетесь?
— Извините, пожалуйста, за беспокойство, — начал я до приторности вежливо, — нам нужна ваша помощь. Необходимо опознать картины, принадлежащие кисти известных русских мастеров — Саврасова, Перова и Рублёва. Надеюсь, вы разбираетесь в картинах?
— Разбираюсь ли я в картинах? — Старик гордо вскинул седую голову и с негодованием посмотрел на меня. — Милый мой, в Петербургской академии художеств, где я имел честь учиться, во мне видели будущего крупного мастера! К несчастью, я был оттуда изгнан за свои политические убеждения… Впрочем, это к делу не относится. Где эти картины?
— В комиссионном магазине. Если их теперь же не изъять, они могут стать добычей иностранцев и навсегда будут потеряны для нашей страны, — объяснил я.
— Нельзя, ни в коем случае нельзя этого допускать! — Старичок заторопился. — Пойдёмте.
— Вы бы хоть голову накрыли, на улице дождик, — сказал Яблочко.
Учитель надел широкополую шляпу и поехал с нами.
Успели как раз к открытию магазина. Яблочко предъявил ордер. Я запер двери чёрного хода на замок и ключи положил в карман.
— Нас интересуют картины русских художников и икона одного богомаза, по фамилии Рублёв. Покажите-ка, да поживей! — сказал Иван Мефодьевич пузатому, благообразного вида пожилому человеку, одному из владельцев магазина.
Я заметил, что при слове «богомаз» учитель страдальчески поморщился.
— Вот они, картины! — пузатый широким жестом показал на картины, висящие на стенах.
Старик мельком взглянул на них и отрицательно покачал головой.
— Ерунда! Это копии картин классиков, сделанные к тому же руками бездарных ремесленников! — возмущённо произнёс он.
Иван Мефодьевич рассвирепел.
— Издеваться вздумали над нами? — закричал он. — Давайте настоящие картины!
— Зачем сердитесь, гражданин начальник? Мы же не художники. Откуда нам понимать в картинах? Продаём, что приносят, — вмешался другой компаньон, по-видимому, Шехман.
— Не валяйте дурака, понимали же, что продаёте иностранцам! — Яблочко стукнул кулаком по стойке.
— Торговать с иностранцами не запрещается, — сказал Федотов. Компаньоны переглянулись.
— Ладно, потом разберёмся, что запрещается, что нет. Тащите сюда картины!
Шехман обратился к приказчику:
— Посмотри в кладовой, нет ли там чего…
— Товарищ Силин, идите с ним и следите, чтобы принесли всё! — приказал Яблочко, обращаясь ко мне на «вы».
В полутёмной кладовой из-под груды всякого барахла приказчик извлёк четыре полотна без рам.
— Это всё? — спросил я.
— Кажется, всё…
— Точнее!
— Есть ли у них дома что ещё — не знаю…
Наш старичок осторожно поднимал картину за картиной, ставил на прилавок и дрожащими руками стирал пыль.
— Безбожники, варвары! Смотрите, как они обращаются с драгоценными творениями человеческого духа! — бормотал он себе под нос.
Иконы Рублёва среди картин не оказалось.
— Где она? — спросил Яблочко.
— Мы икон на комиссию не принимаем, — ответил Федотов. — Можете искать сколько угодно, икон здесь нет!
Я подошёл к Ивану Мефодьевичу и передал ему слова приказчика.
— Похоже, что так! — согласился он. — Шабаш! Собирайтесь, пойдёте с нами, — обратился он к хозяевам.
Двери магазина опечатали. Иван Мефодьевич взял с собой учителя рисования и поехал с ним на квартиру к Федотову. Мне же велел идти к Шехману и подождать его там. Шехман жил недалеко, в квартире из трёх комнат. Дома у него оказались жена, дочь лет пятнадцати и прислуга.
— Что, обыск будете делать? — поинтересовался Шехман, когда мы вошли в столовую.
— Пока нет, — успокоил я его. — Прошу всех собраться здесь и никуда не выходить. — С этими словами я сел за стол.
Жена Шехмана, ещё не старая, со следами былой красоты женщина, очень волновалась. Она вставала, снова садилась и то и дело поправляла скатерть. Перед моими глазами всё время мелькали её толстые, короткие пальцы, унизанные дорогими кольцами.
— Это же кошмар! — говорила она. — Живём как на вулкане… Разве это жизнь?
Я молчал. У меня слипались глаза. Безумно хотелось спать.
Минут через сорок приехали Яблочко и Федотов. Учителя с ними не было.
— Всё в порядке! — весело сказал Иван Мефодьевич. — Нашлась и драгоценная икона, — она в фаэтоне!.. Я не подозревал, что гражданин Федотов такой богомольный. Он повесил эту икону, зажёг перед ней лампаду — всё как полагается.
— Молиться богу законом не запрещено! — спокойно проговорил Федотов.
— Что и говорить, чем дороже икона, тем быстрее молитва дойдёт до бога!.. Скажите-ка, купцы дорогие, откуда у вас эти картины?
— Люди принесли на комиссию, — ответил Шехман.
— Вы, конечно, назовёте их.
— Пожалуйста, фамилии всех клиентов записаны в книге.
— И адреса есть?
— Мы адресами не интересуемся…
— Понятно! — Яблочко усмехнулся. — Адресов владельцев картин вы не знаете, а эту икону гражданин Федотов купил для собственной надобности. Не так ли?
Ответа не последовало.
— Не хотите разговаривать — не надо! Одевайтесь. — Иван Мефодьевич направился к дверям.
Произошла тяжёлая сцена. Жена Шехмана вцепилась в мужа, закричала:
— Не пущу… Не пущу… Вы не имеете права!
Она поносила нас последними словами, сыпала на наши головы страшные проклятия.
В Чека дежурный комендант не хотел принимать Федотова и Шехмана.
— Вы объясните мне, какое обвинение собираетесь им предъявить? Торговали картинами? Ну и что же, на то они и хозяева магазина, чтобы торговать. Патент у них есть? Есть. Налог платят? Платят. Так в чём дело?
— Пойми ты, дурья голова, картины эти редкостные! Их нельзя увозить за границу, а они проданы иностранцу. Нам нужно выяснить: откуда эти картины появились здесь, кто промышляет ими? — убеждал Яблочко.
— Где у вас факты? Если Федотов и Шехман начнут отрицать, чем вы докажете? — упорствовал комендант.
Ивану Мефодьевичу пришлось подняться к заместителю председателя и просить у него санкцию на временный арест Федотова и Шехмана.
Дожидаясь Ивана Мефодьевича, я прохаживался по коридору. Навстречу мне попался секретарь партийной ячейки Нестеров, тоже, как и Яблочко, бывший матрос.
— Здорово, Силин! Хорошо, что ты здесь. Зайди, пожалуйста, на минутку ко мне.
— У тебя золото есть? — спросил он минутой позже, садясь за свой стол.
— Золото? Какое золото? — Я ничего не понимал. После бессонной ночи трещала голова, а тут такой нелепый вопрос.
— Ну, колечко там золотое, брошь и тому подобное барахло. Понимаешь, есть решение ЦК партии: всем коммунистам сдать золотые вещи в пользу голодающих, — разъяснил Нестеров.
— Так бы и сказал. А то — золото!.. Откуда у меня золото?
Вдруг я вспомнил про мамины золотые часики, которые я взял на память в день бегства из дома.
— Виноват, товарищ Нестеров!.. Есть у меня золотые часики без механизма. Память матери. Вот они! — Я достал часики из кармана и протянул на ладони Нестерову.
— Видишь, нашлось-таки! Сейчас напишу расписку…
— Может, оставите?.. Единственная память о матери. К тому же они стоят гроши…
— Сказано, есть решение ЦК! — Нестеров открыл ящик стола и бросил в него часики.
— Может, я стоимость внесу? — сделал я последнюю попытку, хотя денег у меня не было ни копейки.
— Не болтай глупости и сантименты не разводи! — сурово оборвал меня Нестеров. — Лучше скажи, в каком кружке политграмоты занимаешься?
— Ни в каком.
— Вот тебе и раз! Что ты, Устав не знаешь? Давай запишу. — Он достал тетрадь. — Запишу тебя в свой кружок. Занятия по пятницам, в шесть вечера. Смотри не запаздывай!
— Ладно…
— Постой! Возьми квитанцию.
Я молча сунул бумажку в карман и вышел. Яблочко дожидался меня у выхода.
— Где ты запропастился? — рассердился он. — Уже полдень, а мы с тобой ещё не были в порту!..
Я рассказал ему про мамины часы.
— Память о матери нужно держать в сердце, а не таскать в кармане, — сказал Иван Мефодьевич. Его слова показались мне убедительными. Но ведь сердце не всегда подчиняется разуму — оно ноет и болит само по себе…
Разве я не носил память о маме в сердце? После того как я побывал дома и узнал о её смерти, я всегда думал о ней. Во сне она часто приходила ко мне, садилась рядом и гладила по голове, как когда-то в детстве. Слёзы медленно катились по её бледным щекам… Я просыпался и долго не мог уснуть. Мысль о том, что я повинен в маминой смерти, никогда не выходила у меня из головы…
Понурив голову, я молча шагал рядом с Яблочко. Он искоса посматривал на меня, но ничего не говорил. Несмотря на кажущуюся грубость, Иван Мефодьевич был чутким человеком и понимал, что сейчас лучше не утешать меня…
В порту меня ждала куча телеграмм. Поздравляли все друзья: Власов, Кузьменко, Амирджанов, Левон, Бархударян и даже Костя из Москвы. Шурочка писала: «Миленького поздравляю, желаю большого счастья, целую» — и, видимо, считая последние слова нескромными, добавила: «как сестра». От одного Акимова не было ни слова.
Я написал всем ответы. Комиссара и командира поздравил с высокой наградой, просил сообщить об Акимове, остальных поблагодарил и с пачкой ответных телеграмм в руке пошёл к Яблочко.
— Иван Мефодьевич, одолжите денег или разрешите отправить эти телеграммы за счёт порта, — попросил я и положил их перед ним.
Он пробежал глазами написанное мною и протянул мне сто тысяч рублей.
— Почему у тебя нет денег, разве ты не получил? — спросил он.
— Откуда?
— Вот скряга, без скандала никогда ни копейки не даст!
Иван Мефодьевич долго крутил ручку телефонного аппарата, пока дозвонился.
— Сидор Яковлевич, дорогой! Есть у тебя хоть капелька совести? — кричал он в трубку. — «Что, что»! Будто сам не знаешь! У парня большая радость, его орденом наградили, а ты ему денег не даёшь… Ай-ай-ай, не понимаешь, о ком речь? Так я тебе напомню: об Иване Силине, моём помощнике… Сам мог догадаться… Ладно, я пришлю его, только смотри не обижай… Ну, будь здоров. — Он повернулся ко мне и сказал: — Отправь свои телеграммы и зайди к Сидору Яковлевичу, он обещал выдать тебе всё, что полагается.
— За что?
— За бриллианты, — забыл?
— Устал очень, Иван Мефодьевич, разрешите взять дежурного извозчика, — попросил я. Идти в третий раз в Чека пешком после бессонной ночи было невмоготу.
— Валяй!
По дороге заехал на почту, отправил телеграммы и получил ворох сдачи: целых сорок семь тысяч рублей мелкими деньгами.
Главный бухгалтер, дымя папиросой, долго щёлкал косточками счётов.
— Нет, столько не дам! — сказал он наконец. — Этак можно совратить самых стойких работников!.. Получай два миллиона и уходи. Полагается больше, гораздо больше, но ты их не получишь. Между прочим, речь идёт только о контрабанде, о бриллиантах ничего не сказано…
Сидор Яковлевич извлёк из железного ящика гору дензнаков, дважды пересчитал их и разложил передо мной пачками. Я не знал, куда их деть. Видя моё затруднительное положение, он одолжил мне мешочек.
— Бери, — сказал он. — Потом принесёшь.
На обратном пути ещё раз зашёл на почту — послал Шурочке вторую телеграмму: «Приезжай гости, очень хочу видеть. Закажу номер гостинице».
Со вчерашнего вечера мы с Яблочко ничего не ели. От голода у меня сосало под ложечкой, но идти в столовую было некогда. Сбегал на соседний базар, купил помидоров, овечьего сыра, свежих кукурузных лепёшек, вскипятил чайник, и мы с Иваном Мефодьевичем поели на славу.
— Когда желудок полный, то и голова вроде лучше работает, — сказал Яблочко, закуривая. — Самое время обмозговать положение. Тот синьор наверняка осведомлён о сегодняшних событиях. Интересно, как он поступит теперь? Должен бы отступиться… С другой стороны, картины уплыли, барыша нет, — вернуться же домой с пустыми руками для него хуже смерти. Стало быть, рискнёт переправить человека за деньги. Как думаешь, Ваня, рискнёт или нет?
— Зачем гадать, Иван Мефодьевич? Давайте примем меры предосторожности…
— Это само собой! Но интересно ведь разгадать планы противника. Сам знаешь, в нашей работе часто бывает так, что не за что ухватиться — никаких тебе материалов, никаких зацепок, — а довести дело до конца надо. Вот и приходится залезать в шкуру противника и думать за него.
— По-моему, рискнёт. Подумает, что мы охотились только за картинами, а об остальном ничего не знаем.
— Правильно! — Яблочко встал. — А теперь за дело. Темнеет уже. Пусть Гугуша возьмёт фонарь и заменит дежурного у проходной. Скажи ему, чтобы был осторожен, — иначе недолго и дров наломать…
Гугуша, как всегда, был в хорошем настроении, в чёрных глазах лукавая улыбка. Выслушав мой приказ, он откозырял по-военному:
— Есть быть очень осторожным и дров не ломать! — Немного подумав, добавил — Зачем дрова ломать? Жарко, печку топить не надо!..
После его ухода я сел у открытого окна и ещё раз перелистал дела пассажиров, уезжающих утром на итальянском пароходе.
Нас смущал один из них, по фамилии Григорян, белолицый человек, с маленькими усиками, лет тридцати пяти. В анкете на вопрос о профессии ответил коротко: «Пекарь». Однако его холёный вид и складная русская речь не укладывались в этот ответ. Он меньше всего походил на рабочего человека. Никаких дополнительных материалов о нём у нас не было.
Вдруг за окном послышался крик и вслед за ним выстрел.
Я сунул бумаги в сейф, выскочил в открытое окно и побежал к пристани. Кажется, успел вовремя. У проходной, вцепившись друг в друга, катались по мокрому асфальту двое: Гугуша и человек в одежде итальянского матроса.
— Отставить! — крикнул я, и это подействовало. Матрос и Гугуша одновременно вскочили на ноги.
— Сволочь! Я его вежливо спрашиваю, откуда у него такой пропуск? А он бьёт меня по лицу! — задыхаясь, объяснял Гугуша. — Понимаешь, кацо, пьяного изображал — свистит и нарочно качается! Удара не ждал, на землю упал, но успел за ноги удержать. Он тоже упал, тогда я выстрел дал!
Подошёл Яблочко. Я коротко доложил ему о происшедшем.
— Ведите к нам, разберёмся! — приказал он.
В ответ на предложение последовать за мной (я отлично знал, что никакой он не итальянец, но говорил с ним всё-таки по-французски) матрос, продолжая играть роль пьяного, пролепетал какие-то невнятные слова — смесь итальянского с французским — и показал рукой на выход.
— Не кривляйтесь! — оборвал я его, и он молча пошёл за мной.
Придя к себе, я приказал дежурному по комендатуре сменить Гугушу. Потом занялся задержанным. Спросил, есть ли у него оружие. Он отрицательно покачал головой. Я проверил и извлёк из заднего кармана его брюк маленький никелированный браунинг.
— На каком языке предпочитаете разговаривать — на русском или на французском? — спросил я его.
— Я русского языка не знаю! — Он говорил на хорошем французском языке.
— Скажите, зачем вам понадобилось рядиться в матросскую одежду?
— Я и есть матрос… Кочегар, понимаете?
— Как не понимать! У вас на лице написано, что вы всю жизнь топили котлы, а в часы отдыха изучали французский язык!.. Будете продолжать играть комедию или ответите по существу?
Он пропустил мои слова мимо ушей и, сладко зевнув, сказал:
— Спать хочется!.. Сегодня мы с друзьями изрядно выпили, и голова соображает плохо. Пойду к себе, высплюсь, а утром — к вашим услугам! Отвечу на все вопросы…
— Нет уж, спать вам придётся у нас.
Матрос пожал плечами.
Иван Мефодьевич сидел на диване, покуривал и внимательно слушал наш разговор, хотя ни слова не понимал.
— Ничего, заговорите… — Не успел я закончить фразу, как дверь распахнулась и в кабинет влетел второй помощник капитана, синьор Эрнесто.
— На каком основании вы задерживаете итальянских матросов? — закричал он.
— Прежде всего не кричите! И, если можно, говорите со мной по-французски, — предложил я. — И потом, мы итальянского матроса не задерживали.
— А этот?
— Он не итальянский матрос.
— Это мне лучше знать! Отпустите его.
Я перевёл слова помощника капитана Ивану Мефодьевичу.
— Передай этому господину, что он находится не где-нибудь в колонии, а в Советской России! Мы никому не позволим так разговаривать с нами. Пусть господин помощник капитана командует у себя на пароходе и не вмешивается в наши дела!
Выслушав ответ коменданта порта, синьор Эрнесто так и вскипел от злости. Он грозил пожаловаться итальянскому консулу. Если мы, говорил он, сейчас же не отпустим матроса, то завтра он не возьмёт ни одного пассажира. Он подымет скандал во всём мире, все итальянские пароходы перестанут заходить в русские порты.
— Прежде чем упорствовать, подумайте о последствиях! — пригрозил итальянец.
Я не стал переводить его слова Ивану Мефодьевичу, а ответил сам:
— Вы говорите очень горячо, синьор капитан, но при этом упускаете из виду одно пустяковое обстоятельство. Человек, которого вы хотите выдать за кочегара вашего парохода, не итальянец и никогда не был ни матросом, ни кочегаром. Он — русский. Нужно полагать, что подлинный кочегар находится сейчас у себя в кубрике и пьёт вино на те деньги, что получил от вас. Если вы будете настаивать, мы легко докажем всё это в присутствии господина итальянского консула. И, кстати, попросим господина консула выяснить, по какой причине была сделана попытка незаконно увезти этого гражданина.
— Вы заблуждаетесь! — сказал синьор Эрнесто. И хотя на этот раз голос его звучал не так уверенно, сдаваться он не хотел. — Я это дело так не оставлю! — выкрикнул он напоследок и выбежал из кабинета.
— Ты объяснил ему? — спросил Яблочко, улыбаясь.
Я нагнулся и тихо рассказал план, который только что пришёл мне в голову.
Иван Мефодьевич кивнул в знак согласия, вышел и скоро вернулся.
Мы, все трое, сидели молча. Иван Мефодьевич продолжал курить, задержанный делал вид, что дремлет, а я подготавливал протокол допроса.
Минут через десять вошёл Вася и положил на стол гражданскую одежду: брюки, пиджак.
— Переодевайтесь, — сказал я по-русски.
Мнимый матрос на миг растерялся.
— Переодеваться? — по-русски спросил он.
Мы с Иваном Мефодьевичем расхохотались.
— Оказывается, по-русски вы разговариваете так же свободно, как по-французски! Не стесняйтесь, надевайте гражданскую одежду.
Руки его дрожали. Куда только девалась его бравая осанка! Сейчас, с открытой грудью, в поношенном пиджаке, он имел довольно жалкий вид.
Я не сомневался, что документы, если только они у него были, зашиты под подкладкой, — к этому нехитрому приёму прибегали в то время многие. Я распорол подкладку матросской куртки и — о радость! — извлёк оттуда два лоскута, исписанные химическим карандашом. Первый документ был рекомендательным письмом, по-видимому, адресованным кому-то из руководителей эмигрантского центра за границей, — ещё одно свидетельство того, что у нас продолжает действовать хорошо организованное контрреволюционное подполье.
Документ гласил:
«Ваше высокопревосходительство.
Податель сего, господин Потаржинский Евгений Борисович, направляется к вам для информации и связи, как об этом вы изволили просить.
Многолетние и неоспоримые заслуги господина Потаржинского перед отечеством дают нам основание рекомендовать его вашему высокопревосходительству как заслуживающего полного доверия сотрудника.
Остаюсь преданный вам С. X.
P. S. Евгения Борисовича знают Н. С. и К. В. 26 июля 1921 года».
Второе письмо было адресовано некоему господину Альфреду во Флоренции с просьбой выдать двадцать фунтов стерлингов синьору Эрнесто Сенини и тридцать фунтов Потаржинскому Е. Б. В конце вместо подписи стояли какие-то условные знаки.
— Да!.. Дело поставлено широко! — воскликнул Яблочко, прочитав оба письма. — Теперь, когда ваши карты биты, — обратился он к Потаржинскому, — надеюсь, вы не будете отпираться? Скажите, кто дал вам письмо и через кого вы связались с синьором Эрнесто здесь?
— Я вам ничего не скажу, — нервно зашипел он. — Хоть расстреляйте, всё равно не скажу!
— Что вы, как это можно — расстреливать человека, имеющего такие большие заслуги перед отечеством! — съехидничал Иван Мефодьевич. — Будьте благоразумны, выкладывайте всё!..
Молчал он с удивительным упрямством. Мы с Иваном Мефодьевичем бились целых два часа, но не сумели вытянуть из него ничего путного. Пришлось отправить его в камеру.
— Поезжай-ка, Ваня, в Чека, сдай эти документы и через шифровальный отдел передай в центр подробную информацию, — приказал Яблочко и добавил: — Мешкать нельзя, тут, брат, дело нешуточное!..
Наутро получили директиву: немедленно доставить арестованного Потаржинского в Москву…
Посадка на итальянский пароход заканчивалась. Подняли трапы, пароход дал третий гудок. Наши сотрудники пропустили на пристань толпу провожающих, разносчиков и праздношатающуюся публику.
Я без особой цели прохаживался по пристани. Около парохода шла бойкая торговля. Мальчишки-разносчики предлагали пассажирам фрукты, папиросы. Подсчитав брошенные им деньги, они привязывали к верёвкам маленькие плетёные корзиночки с покупками, а пассажиры преспокойно поднимали их на пароход. И снова, как в первый день, я подумал о том, что при таких порядках все наши усилия и старания не пропускать контрабанду сводились на нет. Через несколько минут эти мои предположения подтвердились. Я увидел, как «пекарь» Григорян, о котором я уже упоминал, бросил на асфальт причала деньги и громко попросил у мальчика с лотком пачку папирос «Сальве». Корзиночка с папиросами только было поднялась в воздух, как я схватил её, взял коробку и сунул в карман.
— Дай этому господину другую пачку! — сказал я растерявшемуся мальчику. Он бросился бежать и мгновенно исчез в толпе.
— Что вы делаете? — неистово завопил Григорян. — Отдайте мои папиросы!
Я поднял голову, наши взгляды встретились.
— Что, господин Григорян, номер не прошёл? — спросил я.
— Какой номер?.. Вы не имеете права! Отдайте мои папиросы! — бледный как полотно, он протягивал ко мне руки…
Я вскрыл пачку, высыпал папиросы на ладонь. Некоторые мундштуки были заполнены чем-то завёрнутым в папиросную бумагу.
В папиросных мундштуках оказалось двенадцать бриллиантов, — правда, большинство были мелкие, но всё же, по определению нашего главного бухгалтера, и эти камешки стоили большие деньги.
Много лет спустя мне пригодилась хитрость Григоряна при совершенно других обстоятельствах, о чём расскажу в своё время…
Все средства хороши…
На стене у парадных дверей каменного дома висела табличка: «Учительница музыки». Из открытого окна второго этажа порой доносились звуки рояля.
Каждое утро, по дороге в порт, я замедлял шаги возле этого дома, вслушивался то в бравурные, громкие, то в тихие и грустные звуки музыки. Как мне хотелось заняться музыкой, брать уроки! Но было как-то неловко. Там, наверно, учились дети или девушки, и вдруг появится этакий верзила в кожанке, с наганом на боку!.. Да и с временем было туговато. И всё же в один прекрасный день я решился; с бьющимся сердцем поднялся на второй этаж, позвонил.
Дверь открыла худощавая, скромно одетая пожилая женщина с пышными седыми волосами.
— Что вам угодно? — спросила она с лёгким грузинским акцентом.
— Я хотел видеть учительницу музыки…
— Это я. Заходите, пожалуйста, — пригласила она. Большая, скромно обставленная комната. Красивая девушка лет восемнадцати играла на рояле, а ещё четыре девушки сидели вокруг стола и, склонив головы, что-то старательно записывали в тетради.
— Чем могу служить? — Учительница с приветливым любопытством смотрела на меня.
— Мне… мне хотелось бы брать уроки! — Под взглядом девушек, переставших писать и смотревших на меня, я смешался, покраснел.
— Раньше вы занимались музыкой?
— Немного…
— И ноты знаете?
— Знаю!
— Может быть, вы сыграете нам что-нибудь? Ниночка, уступите место молодому человеку, — обратилась она к красивой девушке.
Я сел за рояль. Сердце бешено колотилось. Решил сыграть Шопена.
Взял первый аккорд и испугался: не пальцы, а деревяшки! Потом, как всегда, музыка увлекла меня, — стало легче, скованность прошла.
— Неплохо, совсем неплохо! — сказала учительница. Её чёрные глаза светились добротой, когда она смотрела на меня. — Я с удовольствием займусь вами!
Мы условились, что я буду ходить к ней два раза в неделю утром, перед работой. О плате не было сказано ни слова.
Под любопытными взглядами пяти девушек я неловко откланялся и не помню как выбрался из комнаты.
Давно не чувствовал я себя таким счастливым! «Буду заниматься музыкой, буду», — повторил я, чуть не танцуя. Эх, бросить бы всё, учиться по-настоящему! Да куда там!.. Пока об этом можно было только мечтать…
Пришёл к себе, и меня сразу вызвал Яблочко.
— Позвонил начхоз, велел зайти, — сказал он и почему-то улыбнулся.
— Чего вы улыбаетесь, Иван Мефодьевич? И зачем я понадобился начхозу?
— Значит, нужен, раз приглашает! — Яблочко поднялся, подошёл и положил тяжёлую жилистую руку мне на плечо. — Эх, Ванюша, Ванюша! Молод ты, брат, ещё, многого не понимаешь!.. У людей типа нашего начхоза собачий нюх — они всё чуют! Видать, на этот раз ветер подул в твою сторону, вот он и хочет угодить тебе. Сходи узнай, ничего не потеряешь!..
После затяжного дождя впервые за много дней выглянуло солнце, и всё вокруг: дома, улицы, деревья — всё казалось светлым, каким-то золотистым. В такой день грешно было сидеть в кабинете. Я пошёл по берегу.
У причалов покачивались баркасы, рыбачьи шаланды, моторные и парусные лодки. В зеленоватой воде плавало множество медуз. Дельфины, радуясь солнечному дню, затеяли свою обычную игру — высоко взлетали над водой, ныряли в вихре брызг, гонялись друг за другом. Я долго стоял у самого прибоя, «пёк блины» — швырял в море отполированные камни. Словом, вёл себя, как беззаботный мальчишка, для которого не было на свете ни контрреволюционеров, ни контрабандистов!
Потом пошёл к начхозу.
На этот раз он встретил меня весьма радушно.
— Что ж не заглянешь ко мне, Иван Егорыч? — начал он, усадив меня в кресло.
— Вроде надобности не было! — Я никак не мог понять его любезности.
— Разве обязательно по надобности? Можно и так, запросто. К тому же я перед тобой в долгу. Ты морскую форму просил? Просил!..
— Положим, просил не я, а товарищ Яблочко…
— Это всё равно! Неудобно такому работнику, как ты, имеющему дело с иностранными моряками, ходить в гимнастёрке да в сапогах. Ну, брат, я достал тебе такую форму — закачаешься! Довоенную, офицерскую! Добыл на складах морского ведомства. Пойдём, покажу. — Начхоз повёл меня в тёмный закоулок, битком набитый всяким барахлом.
Он достал брюки из тонкого чёрного сукна, такой же пиджак с позолоченными пуговицами, белую сорочку, галстук и чёрные шевровые ботинки. Роскошнее всего была капитанская фуражка с лакированным блестящим козырьком и морским гербом с маленькой красной звёздочкой посредине.
— Примеряй! Не бойся, всё по размеру! — сказал щедрый начхоз, стирая рукавом гимнастёрки пыль с козырька фуражки.
Я быстро нарядился в морскую форму и при тусклом свете лампочки посмотрел на себя в зеркало.
— Ну как? — Начхоз самодовольно ухмыльнулся.
— Спасибо, очень хорошо!
— То-то! Евлампий Фёдорович знает своё дело!.. Вот тебе ещё одну сорочку — для смены. Носи на здоровье! — Он быстро уложил снятую мною одежду в коробку. — Форму не снимай, так и иди!..
Было как-то неловко, но и до чего же здорово!.. Кто в молодости не мечтал пощеголять в морской форме!
Сотрудники комендатуры встретили меня восторженно. Все щупали мою новую одежду, примеряли капитанскую фуражку и в один голос утверждали, что новая форма очень мне к лицу. Особенно радовался Гугуша.
— Ва, кацо! Теперь ты действительно похож на настоящего капитана! — сказал он, пожимая мне руку. — Тебе бы командовать большим кораблём!
— Брось! Я и на пароходе-то никогда не плавал!..
Иван Мефодьевич тоже был доволен. Когда мы остались с ним одни, он похвалил начхоза:
— Евлампий хотя и сукин сын, но проныра, каких свет не видал! Дело своё знает. Смотри, как нарядил тебя!..
Жизнь моя постепенно входила в нормальную колею. Питались мы артельно — каждый день по очереди готовили обед. Это обходилось дешевле и, главное, было вкуснее и лучше, чем в столовой. Я поправился, вытянулся, повзрослел, отпустил длинные волосы. Бриться теперь мне приходилось через день. Заметил, что на улице на меня заглядываются девушки, и это тешило моё самолюбие. Да и в делах стал разбираться лучше. Меня считали опытным чекистом. Этой моей «славе» немало способствовал Яблочко: он на каждом шагу хвалил меня, ставил в пример другим.
Начал я читать политическую литературу, — этим я был обязан Нестерову: он оказался отличным руководителем политкружка. Главное, он сам глубоко верил в то, что говорил нам, своим слушателям. Занятия музыкой тоже наладились и доставляли мне много радости. Моя учительница, Нина Георгиевна Нинашвили, оказалась на редкость добрым и чутким человеком. Она предложила мне заходить к ней по вечерам, когда у меня выдавалось свободное время, — практиковаться на рояле. «Побольше практики», — повторяла она. Иногда мы вдвоём пили чай и подолгу беседовали. Она окончила Московскую консерваторию, встречалась со многими знаменитыми музыкантами, побывала в Италии.
Казалось, всё шло отлично. И вдруг случилась беда с нашим товарищем, и это тяжело подействовало на всех нас, работников комендатуры.
Однажды поздно вечером меня вызвал Яблочко и приказал сейчас же поехать к Гугуше, произвести у него обыск, а самого его арестовать.
— Что вы, Иван Мефодьевич! Что за шутки? — невольно вырвалось у меня.
— Какие, к чёрту, шутки, когда он, подлец, опозорил нас всех!
— Что же он сделал? — спросил я с замиранием сердца.
— Дней десять тому назад, по поручению старшего коменданта Чека, он произвёл обыск в доме одного бывшего грузинского князя. Нашёл кое-какие ценности, заактировал, но утаил одну безделушку — маленькую серебряную корзиночку с принадлежностями для вязания. На следующий день подарил эту проклятую корзиночку своей девушке. Она, дура, похвасталась подарком перед подружками. И — пошла писать губерния!.. Короче, это стало известно работникам секретно-оперативной части. Те поинтересовались — откуда у Гугуши такая вещь? Проверили, ну и добрались до истины. Говорят, когда председатель узнал об этом, он страшно рассердился, тут же приказал арестовать Гугушу и наказать его со всей строгостью. Вот тебе и весь сказ!..
Некоторое время мы оба молчали. Мне ли, пережившему нечто подобное, не понять всей серьёзности случившегося?..
— Иван Мефодьевич! Вы же сами сказали, что Гугуша, кроме той злосчастной безделушки, ничего не тронул. Зачем же производить у него обыск? — наконец спросил я.
— Мало ли что!.. — был короткий ответ.
Я не представлял себе, как это я появлюсь в доме, где бывал не раз на правах близкого друга, и произведу обыск. Как буду смотреть в глаза старухе матери Гугуши, — она принимала меня с таким радушием, не знала, куда посадить… Но спорить с Яблочко было бесполезно. Нужно было хоть немного смягчить его гнев.
— Всем известно, что Гугуша хороший парень, настоящий товарищ и преданный работник! Ну, ошибся человек, не казнить же его за это? Потом — мать, она старенькая, души не чает в единственном сыне… Явлюсь я туда с обыском, — старуха помрёт от горя…
— Что ты предлагаешь? — хмурясь, перебил меня Яблочко.
— Пошлём за Гугушей Васю, — пусть явится
сюда. Поговорим с ним и, если нужно, здесь и арестуем.
— Ладно, пошли Васю! — Яблочко махнул рукой. — Но его, подлеца, придётся арестовать и доставить в Чека, ясно?
Возражать я не стал и, боясь, что он передумает, тут же приказал Васе отправиться за Гугушей.
Гугуша явился ко мне притихший, растерянный, — видимо, он догадывался, зачем его позвали.
— Сдавай оружие, — сказал я, не глядя на него.
Он молча расстегнул кобуру и положил револьвер на стол.
— Теперь садись и рассказывай всё без утайки!..
— Нехорошо получилось, ох как нехорошо!.. Тамару ты знаешь, — очень красивая, такая красивая, что слов не хватает передать… — Волнуясь, Гугуша коверкал русские слова больше, чем обычно. — Скоро год, как мы встретились, — за такой время ничего не подарил ей, даже маленькой иголочка!.. Хотел, понимаешь, очень хотел, но у меня ничего не было. Обычай есть: когда любишь девушку, нужно подарить. А тут в доме старого князя вязальный инструмент видел — маленький, хороший. Думаю, зачем такой инструмент старой карге — жене князя? Положил в карман и подарил Тамаре.
— Больше ничего не тронул?
Гугуша вскочил на ноги, глаза его блеснули.
— Зачем такой кислий вопрос задал? Что я — бандит?
— Ну ладно, слушай! Поступил ты скверно, об этом говорить нечего. Я должен арестовать тебя. В Чека у следователя расскажи всю правду. И что бы ни решила коллегия, принимай как мужчина. В жизни всякое бывает: меня самого чуть не расстреляли из-за пары сапог!..
— Ваня, прошу как друга, как брата, — скажи маме и Тамаре, что меня послали в командировку! — У него дрожали губы.
До боли в сердце мне было жаль Гугушу, и я обещал выполнить его просьбу.
В последующие дни мы были заняты разработкой плана важной операции. Но всё же я выбрал минутку забежать в Чека — отнёс Гугуше передачу: табак, буханку хлеба, брынзу, фунт сахара.
На мой вопрос, что его ожидает, старший комендант ответил неопределённо:
— Нашкодил парень… Дело-то ясное, но ведётся следствие. Должно быть, его будет судить коллегия…
Операция, о которой я упомянул, была сложная и опасная. К нашим берегам часто наведывался на моторной лодке «Юлдыз»
[66] контрабандист капитан Исмаил. Команда моторки была подобрана из отъявленных головорезов, готовых на всё ради наживы и лёгкой жизни. Они дважды оказывали вооружённое сопротивление пограничникам и уходили в нейтральные воды. Капитан Исмаил ни разу не попадался, хотя все спекулянты города торговали его товаром. Он ухитрялся выгружать контрабанду в укромном месте, а в порту появлялся с разрешённым грузом. В течение двух-трёх недель команда «Юлдыза» кутила, дебоширила в духанах и, распродав товар, снималась с якоря, чтобы через некоторое время снова появиться.
Стало известно, что в ближайшие дни капитан Исмаил пожалует к нам. Знали мы и место выгрузки контрабанды. Яблочко получил приказ во что бы то ни стало поймать капитана Исмаила с поличным, и у нас в порту закипела подготовительная работа. Кроме детальной разработки плана операции, мы установили связь с пограничниками.
Приближалась осень, погода испортилась. Серые облака нависли над морем, дожди не переставая шли днём и ночью, видимость ограничивалась десятью — пятнадцатью метрами. Самое подходящее время для контрабандистов!
В течение четырёх ночей мы дежурили у пустынного скалистого берега. Отчаянно мёрзли, мокли, что называется, до нитки — и никакого толку! Проклятая моторная лодка не показывалась. Возвращались на рассвете, усталые, злые. Боялись, что и на этот раз Исмаилу удастся перехитрить нас. Спали урывками, — дела в порту шли своим чередом и тоже требовали внимания.
На пятую ночь погода стала совсем невыносимой. Завеса дождя заслонила всё — море, скалы. В двух шагах не видно ни зги. Мутные ручьи, сливаясь, образовывали на наших глазах целые реки, уносили в море доски, стволы деревьев, большие камни.
Сырость пронизывала тело. Мы прятались под скалами, сидели молча, дрожа от сырости и холода. Время тянулось медленно, — казалось, никогда не наступит рассвет.
В полночь послышался плеск вёсел. Показались смутные очертания судна. На моторке огней не зажигали.
Яблочко дал команду приготовиться. Каждый из нас бесшумно занял своё место.
На берегу, под скалой, отчётливо слышались гортанные голоса. Началась выгрузка контрабанды.
Пограничник, дежуривший с нами, побежал предупредить заставу, чтобы они задержали отход моторной лодки с моря. А мы ждали, пока команда выгрузит на берег весь товар.
— Кажется, пора! — сказал сидевший рядом со мной Яблочко и, поднявшись во весь рост, крикнул: — Капитан Исмаил, вы окружены! Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь!
В ответ раздались выстрелы.
Яблочко спрятался за скалой и громко, чтобы слышали внизу, приказал:
— Пали, ребята, по контрабандистам без разбору! Пусть пеняют на себя…
Завязалась перестрелка. Одни контрабандисты пытались задержать нас огнём. Другие перетаскивали тюки обратно в моторку.
Большинство наших людей, во главе с Иваном Мефодьевичем, ползком спустились вниз, продолжая стрелять на ходу. Послышались крики раненых. Капитан Исмаил, убедившись, что товар не спасти, торопил своих подручных поскорее перебраться на лодку.
По приказу Яблочко я и двое сотрудников остались на скале — обезопасить тыл. Мы понимали: у Исмаила есть в городе сообщники и они должны приехать за товаром. Однако никто не показывался: должно быть, испугались выстрелов.
На море показались огоньки, это приближался наш сторожевой катер. Рассекая полосы дождя, заиграл яркий свет, то вспыхивая, то снова угасая. Хоть я и не знал азбуки морских сигналов, но догадался, что с катера предлагают контрабандистам сдаться.
Темнота мешала мне видеть, что происходило внизу. Блеснул огонь, раздались два пушечных выстрела. В ответ что-то просигналили с моторной лодки — и всё стихло.
На катере зажгли прожектор, и я увидел, как контрабандисты один за другим прыгают на берег. Капитан Исмаил настаивал через своего переводчика, чтобы им разрешили перетащить на лодку товар. Яблочко возражал.
— Знаем мы эти фокусы! — сказал он. — В порту вы подымете хай и будете доказывать, что на вас напали в открытом море!.. Нет, уважаемый капитан Исмаил, ничего не выйдет! Погуляли вдоволь, и хватит. Парадом командую я, а вы соблаговолите подчиняться!..
Более пятидесяти тюков и ящиков, беспорядочно разбросанных на мокром песке, оставили под охраной пограничников. Контрабандистов выстроили и повели в город. Всю дорогу Исмаил что-то бормотал, — наверное, проклинал свою судьбу, да и нас в придачу.
Наутро ящики и тюки привезли и сдали в таможню, моторную лодку привели в порт на буксире.
Председатель Чека объявил благодарность всем участникам операции.
Пришло письмо от Шурочки, она обещала скоро приехать.
Не знаю почему, но на этот раз её письмо как-то особенно взволновало меня.
Я был очень одинок. После смерти мамы у меня не осталось на всём белом свете ни одного близкого человека. Этим я и старался объяснить своё нетерпение поскорее увидеть Шурочку. Но, конечно, я обманывал самого себя. Не скучал же я так сильно по другим друзьям, даже по самым близким, как, скажем, Костя!..
В доме учительницы музыки я иногда встречал девушек. Одна из них, Мария, нравилась мне. Она была красива. Глядя на неё, я начинал понимать, почему восточные поэты часто сравнивали девушку с чинарой. Высокая, тоненькая, лёгкая, Мария и впрямь напоминала молодую стройную чинару. Волосы у неё были светлые, золотистые, а глаза, длинные ресницы и брови — чёрные. Лёгкий румянец на загорелых щеках придавал ей особое очарование.
Когда мы оставались одни, Мария охотно и непринуждённо разговаривала со мной, шутила, смеялась. Но стоило появиться кому-нибудь из её подруг, как она замыкалась, нехотя отвечала на мои вопросы.
Как-то я встретил её на улице, хотел заговорить с ней, но она холодно кивнула мне головой и ускорила шаги. Озадаченный этим, я спросил у Нины Георгиевны, почему Мария избегает меня при людях.
Старая учительница некоторое время молчала, как бы подыскивая ответ.
— Не знаю, поймёте ли вы правильно… Вы — русский, к тому же из совсем другой среды. Да, да, не удивляйтесь и не качайте головой! К сожалению, некоторые уродливые национальные традиции очень живучи. Родители Марии хорошие, образованные люди, но они в плену устарелых традиций и ни за что не согласятся, чтобы их дочь встречалась с русским парнем.
— А если молодые люди полюбят друг друга?
— Бывали и такие случаи. Правда, редко, но бывали… Обычно это кончалось печально. Родители проклинали свою дочь, отрекались от неё…
— Как всё это дико! — невольно вырвалось у меня. — Нечто подобное случилось с моей матерью, и она очень страдала… Я ещё могу понять, когда люди делятся по классовому признаку, но по национальности — это кажется мне диким! Неужели этому никогда не придёт конец?
— Придёт, конечно! Но для этого нужно немало времени… Мария очень нравится вам? — спросила она вдруг.
— Не знаю… Она добрая, хорошая девушка. Хотелось бы узнать её поближе…
— Понимаю… Скажу вам по секрету, что мне никогда не нравились люди, отступающие перед трудностями! — неожиданно добавила она.
Следствие по делу Гугуши закончилось. Коллегия Чека приговорила нашего товарища к трём годам тюремного заключения. Три года за безделушку стоимостью в три рубля!..
Дня два я ходил сам не свой — всё думал о судьбе Гугуши. И как объяснить старой матери причину исчезновения её сына?.. Что-то нужно было предпринять для спасения парня, но что? Пошёл за советом к Яблочко.
— Вообще-то немножко переборщили, — сказал он. — Впрочем, подошли так строго, чтобы другим неповадно было. Да ведь дело не в сроке, а в самом факте осуждения. Посидит он с полгода — и выпустят, пятно же останется на всю жизнь… Недаром в народе говорят: «Береги честь смолоду».
— Иван Мефодьевич, а если нам поручиться за Гугушу? — предложил я.
— Не знаю… Не знаю, — проворчал он и закурил.
— Мой бывший начальник, Модест Иванович, часто повторял, что мы работаем в органах не только для того, чтобы карать. И он был прав. Неужели такой коллектив, как наш, не сумеет воспитать одного парня, к тому же парня хорошего? Гугуша ведь не враг, не пропащий человек. Опять же — подумайте о его матери, что будет с нею?
— Слушай, Иван, ты чудной какой-то, ей-богу! Зачем агитируешь, зачем бьёшь на жалость? Кто я, по-твоему, председатель Чека, чтобы отменить решение коллегии, или председатель ВЦИК Калинин?
— Рассуждая так, можно от всего отмахнуться!.. Я же знаю, вы сами хотите помочь Гугуше. Пойдёмте к председателю, поговорим с ним, — авось поймёт. В конце концов Гугуша работал с нами, и мы в ответе за него!
— А если не захочет слушать? — Яблочко начал сдаваться.
— Захочет! У нас же есть язык, — объясним!
— Ладно уж, пошли…
Председателем Чека в то время работал у нас старый большевик Цинбадзе. Человек строгий, крутого нрава, он прошёл большую школу революционной борьбы и конспиративной работы, сидел в тюрьмах, не раз совершал побеги из ссылки. Рассказывали, что он подверг домашнему аресту собственную жену за то, что она приняла от какого-то земляка курицу в подарок.
Сразу, по-видимому, догадавшись, о чём пойдёт речь, он принял меня и Яблочко холодно.
— Слушаю, — коротко сказал он, даже не предложив сесть.
— Мы пришли просить вас за одного нашего сотрудника, — начал было Яблочко, но, поймав на себе суровый взгляд Цинбадзе, осёкся и замолчал.
— Лучше бы вы смотрели, чтобы ваши сотрудники не совершали преступлений! — Цинбадзе сердито переставил пресс-папье.
— Мы понимаем, что поступок Гугуши не имеет оправдания, — сказал я. — Но, учитывая его безукоризненную работу и молодость, решили просить вас, товарищ Цинбадзе, разрешить нам взять парня на поруки. Работники комендатуры порта сумеют воспитать Гугушу!.. А так он погибнет…
Председатель не перебивал меня и, кажется, внимательно слушал.
— Любопытно!.. Выходит, вы решили организовать у себя в порту школу по перевоспитанию молодых преступников! — сказал он с чуть заметной усмешкой.
— Нет, мы просто будем примером и советом удерживать его от необдуманных поступков. А он, в свою очередь, постоянно будет чувствовать ответственность перед поручившимися за него товарищами. Я не считаю Гугушу неисправимым преступником. Конечно, пример плохой, но…
— Что «но»? Договаривай!
— Скажу! Парень влюбился в девушку… И то, что он сделал, скорее неразумный душевный порыв, чем преступление! Не взял же он ничего более ценного, — взял грошовую безделушку…
— Смотри, пожалуйста, какими словами он оперирует: «любовь, душевный порыв»!.. Этак можно всё оправдать! — Цинбадзе некоторое время молчал, внимательно глядя на меня. — Впрочем, в твоих словах есть какая-то логика… Садитесь! Сейчас позовём сюда товарища Лордкипанидзе.
Он позвонил своему заместителю и попросил его зайти.
— Эти орлы пришли ходатайствовать за того парня, который стащил вязальные принадлежности в княжеском доме! — начал Цинбадзе, когда в кабинет к нему вошёл Лордкипанидзе. — Хотят взять его на поруки. Что ты скажешь на это?.. Во всём этом деле есть одна правильная мысль: парень будет чувствовать ответственность перед своими товарищами и, надо полагать, исправится.
— За одного битого двух небитых дают, — согласился Лордкипанидзе. — После этого урока Гугуша скорее руку себе отрубит, чем сделает новую глупость.
У меня отлегло от души — дело шло на лад!..
— А что, в самом деле, Алексей, если приговор считать условным и выдать парня на поруки работникам комендатуры? — спросил Цинбадзе. — Ну, а если не справятся с ним, вдвойне с них взыщем!
— Согласен! — сказал Лордкипанидзе.
— Большое вам спасибо! Мы уж постараемся! — Я не хотел скрывать радость. — Можно взять Гугушу с собой?
— Видал, какой прыткий? Нет, вы сперва соберите всех сотрудников, вынесите постановление, пришлите его нам, — тогда мы пересмотрим решение.
— Хорошо! Сегодня же пришлём вам постановление общего собрания! — Считая разговор законченным, мы поднялись, но Лордкипанидзе задержал нас.
— У меня тоже есть одно дело к вам, — сказал он и спросил: — Силин, ты когда-нибудь бывал в Красных казармах?
— Нет! Слыхать слыхал, но бывать не пришлось…
— В казармах человек четыреста армянских беженцев — женщины, дети, старики. Они, спасаясь от турецкой резни, ещё в тысяча девятьсот девятнадцатом году бежали из Карса, Ардагана и застряли здесь, а сейчас форменным образом голодают. Началась эпидемия тифа… Нужно этих несчастных во что бы то ни стало спасти. У нас пока нет никаких средств. Москва обещала помочь, но только месяца через полтора. Что, если эту задачу возложить на вас?
Мы с Иваном Мефодьевичем переглянулись и одновременно пожали плечами, не понимая, чем мы можем помочь голодающим беженцам.
— Не дошло? — спросил Цинбадзе.
— Нет…
— Сейчас объясню. Вы постоянно имеете дело с импортёрами, спекулянтами, валютчиками, знаете их всех наперечёт, так? Соберите всю эту компанию, потолкуйте. Вежливенько нажмите на них, — пусть раскошелятся малость и помогут голодным людям, хотя бы во имя спасения своих чёрных душ! Чего-чего, а грехов у них хоть отбавляй! Надеюсь, теперь поняли?
— Более или менее, — нерешительно ответил Яблочко. — Понять, конечно, поняли, но ведь скряги они, за копейку чёрту душу отдадут! Могут и отказаться…
— А вы сделайте так, чтобы не отказались! Речь идёт о спасении четырёхсот человек. Кому, как не нам, чекистам, позаботиться о них? — сказал Цинбадзе.
— Сделаем всё, что в наших силах! — Яблочко поднялся. Встал и я…
На улице, прежде чем заговорить, Яблочко долго молчал. Видно, задание пришлось ему не по душе…
— Что молчишь? — наконец закричал он на меня.
— Думаю, — ответил я.
— «Думаю, думаю»! — передразнил Яблочко. — Твоими думами голодных не накормишь… Чёрт те что получается! На четвёртом году революции идти кланяться всякой сволочи: так, мол, и так, выручайте, пожалуйста… Да мне легче десять суток на вахте простоять в штормовую погоду!..
— Едва ли после этого голодные почувствовали бы себя сытыми!
— Чем зубы скалить, лучше скажи, с чего начать?
— По-моему, прежде всего надо сагитировать хотя бы несколько денежных тузов, пользующихся влиянием на чёрном рынке, и действовать через них.
— Я тоже так считаю!.. Но знаешь, начальство за дорогую цену отдало нам Гугушу! Такую тяжесть взвалили…
— Гугуша тут ни при чём… Иван Мефодьевич, возьмём извозчика и поедем в Красные казармы. Посмотрим, что там творится…
— Поехали! — согласился Яблочко.
На окраине города высились мрачные стены казарм, выложенные из красного, потемневшего от времени кирпича. Отсюда, наверно, и название — Красные. Дорога к воротам превратилась в болото, и мы с трудом пробрались в обширный грязный двор, где в куче мусора копошились босые, исхудавшие детишки в лохмотьях.
Вошли в первые попавшиеся двери, и то, что предстало перед нашими глазами, было ужасно.
В огромном, сыром и грязном помещении, прямо на каменном полу, ютилось десятка два семей. По углам, укрытые тряпьём, стонали больные. На руках высохших, как мумии, желтолицых женщин плакали грудные дети. И этот негромкий, безнадёжный, жалобный плач немыслимо было слушать — он терзал сердце…
Обитатели казарм окружили нас.
— Неужели Советская власть допустит, чтобы люди сгнили здесь заживо? — спросила плоскогрудая женщина, возраст которой трудно было определить. Судя по глазам, она была молодой, но измождённое, всё в морщинах лицо и космы седеющих волос превращали её в старуху.
— Больных увезите, больных! — визгливо кричала из своего угла седая старуха, протягивая к нам руки.
— Спасите детей!.. Смотрите, на кого он похож! — мать с лихорадочно блестевшими от голода глазами показала нам своего ребёнка — в жалком тряпье копошился маленький скелетик, обтянутый бледной кожей.
— Хватит! — громко крикнул Яблочко. Он был очень бледен. — Честью клянусь, мы поможем вам! И больных заберём, и детей накормим! — Он повернулся и быстро вышел. Никогда ещё я не видел его таким взволнованным.
Молча обошёл он все казармы, — везде та же картина. И только когда мы уже подъезжали к порту, он негромко сказал мне:
— Одно дело слышать, и совсем другое — видеть своими глазами… Цинбадзе прав: для спасения этих несчастных все средства хороши! Я готов идти на поклон не только к паршивым спекулянтам, а к самому чёрту-дьяволу!..
В тот же вечер в отдельном кабинете ресторана «Италия», за двумя бутылками вина, мы вели дипломатические переговоры с тремя воротилами чёрного рынка: со старым нашим знакомым Графом, невероятно толстым импортёром Неврузом, национальность которого никто не мог определить, и известным валютчиком и игроком в рулетку Чернышёвым.
Иван Мефодьевич сделал несколько глотков вина, откашлялся и, не глядя на своих слушателей, произнёс довольно длинную речь о необходимости сострадания к ближним своим.
— Все мы смертны, — философствовал он, — и на тот свет ни черта с собой не унесёшь!.. Всё — слава, богатство, красота, молодость — исчезнет как дым. И только добрые дела человека в памяти потомства…
Граф слушал с чуть приметной насмешливой улыбкой, флегматичный Невруз катал хлебные шарики, а Чернышёв откровенно зевал от скуки.
— Мы с Силиным были сегодня в Красных казармах. И то, что увидели там, не поддаётся описанию! — продолжал Яблочко. — Дети превратились в живые скелеты, женщины высохли — одни кости да кожа. О стариках и старухах говорить нечего — мрут как мухи. Ко всем их бедам прибавился ещё тиф… Мы и подумали, неужели нельзя спасти этих несчастных? — Он стукнул по столу кулаком так, что звякнули стаканы, и тяжёлым взглядом обвёл собравшихся.
Некоторое время все молчали.
— Правильно, нужно, чтобы местные власти оказали им немедленную помощь! Иначе эпидемия тифа распространится на весь город, — сказал Чернышёв.
— Можно собрать пожертвования тоже! — вставил Невруз.
Мы с Яблочко переглянулись.
— Нет, такими полумерами не обойдёшься! — Иван Мефодьевич ещё раз внимательно посмотрел на сидящих за столом и решил раскрыть карты. — Вот что, господа хорошие! Вы пользуетесь большим влиянием среди торговцев, и мы обращаемся к вам с просьбой, — да, чёрт возьми, с просьбой! — подчеркнул он: — Используйте ваше влияние, сагитируйте денежных людей города, — пусть раскошелятся малость ради такого благого дела, с таким расчётом, чтобы хватило месяца на два! Потом уж мы сами позаботимся о беженцах…
Наступило тягостное молчание. Чтобы как-нибудь нарушить его, Граф подозвал официанта и заказал ещё вина, хотя на столе стояли недопитые бутылки.
— Мы с Иваном Мефодьевичем надеялись, — сказал я, — что вы возьмёте на себя инициативу в деле спасения голодающих. Было бы хорошо хоть примерно подсчитать, что потребуется для этого. Если разрешите, подумаем вместе: в день два раза горячая пища, хлеб, ну, скажем, по четыреста граммов на человека, кое-какая одежда, обувь… Окна в казармах нужно забить хотя бы фанерой, нужно поставить железные печи. И прежде всего нужно свести обитателей казарм в баню, хорошенько продезинфицировать одежду и помещение. Заботу об этом мы возьмём на себя: договоримся, чтобы бани дня два обслуживали только жителей казарм. Дезинфекционные камеры тоже пригоним и, конечно, предоставим несколько походных кухонь, не говоря уже о том, что разместим больных в больнице…
— Только и всего? — воскликнул Чернышёв.
— Что же ещё? — спросил я.
— Допустим на минуту, что необходимые средства будут собраны, — сказал Чернышёв. — Мне просто непонятно — кто, по-вашему, будет заготовлять продукты, готовить пищу и, наконец, выдавать её?
— Мне трудно давать советы, — ответил я, — но если вы спросите моё скромное мнение, то я, с вашего разрешения, кое-что скажу… Я на вашем месте собрал бы всех нужных людей и, разъяснив им задачу, избрал бы инициативную тройку — председателя, казначея и секретаря. Эта тройка и должна руководить всей практической работой. Может быть, придётся нанять завхоза, счетовода и поваров… Впрочем, в этих делах вы куда лучше разбираетесь, чем мы с Иваном Мефодьевичем. К слову сказать, можно привлечь на общественных началах и обитателей казарм.
— Знаете, что я вам скажу, друзья? — заговорил Граф. — Мне лично эта идея нравится! Если захотим, то с божьей помощью и деньги соберём, и голодных накормим!.. Пусть Советская власть не думает, что мы, дельцы, ни на что больше не способны, кроме как делать деньги!.. Иван Мефодьевич, товарищ Силин, я ставлю перед вами одно единственное условие: предоставьте нам полную свободу и не вмешивайтесь в наши дела!
— Согласны! — не сговариваясь, в один голос ответили мы.
— Порядок! — оживился Граф. — Завтра же соберём всю биржу, — пусть благородные деловые люди пошарят в кошельках, а их добрые жёны и прелестные дочки покопаются в гардеробах… У первых найдутся гроши, у вторых ненужное барахло — всё пригодится. Людей тоже найдём, не беспокойтесь. Граф трепаться не любит, сказано — сделано. А теперь ша — об этом больше ни слова! Давайте выпьем!..
У этого афериста оказались незаурядные организаторские способности. Я присутствовал на собрании дельцов и до сих пор не могу без улыбки вспоминать его горячую речь — удивительную смесь высокопарных фраз и блатных словечек.
«…Мы уже сделали выкладки, и сейчас наш достопочтенный друг Чернышёв, которого я рекомендую избрать казначеем, прочитает, сколько с кого следует. Извиняюсь, если кто вздумает мухлевать, то могут произойти огорчительные недоразумения, и тогда, как поётся в одной известной песне, ему не поможет ни бог, ни царь и не герой. Это говорю вам я — небезызвестный Яков Граф…»
На этом собрании он единогласно был избран председателем инициативной группы, а Чернышёв казначеем. Секретаря не избрали. По этому поводу Граф изрёк глубокомысленно: «Граждане, кто-кто, а вы знаете: когда в деле больше двух компаньонов, начинается шухер. Мы с Чернышёвым и так справимся!..» И все согласились с этим его доводом…
Работа закипела. В одной секции специально арендованного Чернышёвым склада росли груды поношенной одежды и обуви, в другой кладовщик аккуратно складывал мешки с мукой, крупой, сахаром, ящики со сгущённым молоком.
Ивану Мефодьевичу с превеликим трудом удалось разместить больных в городские больницы, а я, при содействии нашего всемогущего начхоза, достал у военного комиссара походные кухни и дезинфекционные камеры.
Пока жители казармы мылись в бане, специальная команда дезинфицировала помещение, забивала окна, устанавливала железные печки-буржуйки. После бани всем нуждающимся выдавали одежду, обувь.
По строгому графику, два раза в день, в восемь утра и в пять часов вечера, во двор казарм въезжали походные кухни с дымящейся похлёбкой и тележки с хлебом. Детям сверх того выдавали ещё по кружке сладкого кофе.
Женщины, обитательницы казарм, принимали, живейшее участие во всём — помогали поварам раздавать еду, резали хлеб, мыли посуду.
Граф частенько приезжал в казармы и вёл себя как полновластный хозяин — вникал во все мелочи, давал распоряжения, а иногда и покрикивал. По всему видно было, что ему нравилась роль «попечителя».
Как-то мы встретились с ним во дворе, при раздаче еды.
— Ну что скажете, уважаемый товарищ Силин, на Графа можно положиться? — самодовольно спросил он.
— Без сомнения! — ответил я и, чтобы сделать ему приятное, добавил: — Вы с вашими способностями не с такими бы ещё делами справились…
— А что вы себе думаете? Иди я в революции за большевиками, большим комиссаром стал бы!.. Мой кореш, Гриша Бык, — он теперь начальник одесской милиции, — говорил: «Яша, не будь дураком. Подумай сам, кто мы? Так себе, ирония судьбы, пыль на сапоге последнего урядника. Теперь захоти — и можешь стать всем…» Не слова, а чистое золото! Не послушался… Характер такой — люблю шикарную жизнь, баб люблю. Мой принцип: решил заводить кралю, заводи такую, чтобы все завидовали! Обедать — так в лучшем ресторане. Не можешь — сиди у себя в конуре, грызи корку сухого хлеба…
Однажды Яблочко втолкнул ко мне в кабинет двух верзил — грузчиков. Они были в традиционных парусиновых шароварах, в широченных блузах из мешковины, доходящих до колен.
— Полюбуйся на них! Рабочими называются, а сами бандиты чистейшей пробы, — сказал Яблочко. Он был очень расстроен.
— Полегче, начальник, говори, да не заговаривайся! — огрызнулся один из грузчиков с опухшим лицом завзятого пьяницы. — Ты не имеешь никакого права оскорблять красного кавалериста! Я два года с Будённым беляков бил. Перекоп брал, понял?
— А теперь решил воровством заниматься? Нечего сказать, подходящее занятие для будённовца! — Яблочко подошёл к нему, поднял блузу и показал мне длинный мешочек, набитый сахарным песком.
— Ну взял, не отрицаю… Тебе что, буржуйского добра жалко?
— Вот направлю в особую тройку — будешь знать, чего жалко, чего не жалко!.. Совсем распустились — из каждого мешка крадёте килограмм, а то и два. Пьянствуете, хулиганите, Советскую власть позорите!
— Испугал!.. Плевали мы на ваши тройки! — и, сказав так, второй грузчик плюнул на пол.
— Ну, погоди!.. Попляшешь ты у меня! — Яблочко вызвал дежурного и приказал арестовать грузчиков.
Когда их увели, Яблочко рассказал мне:
— Иду и вижу: за забором, недалеко от проходной, собралась толпа скупщиков. Сразу смекнул, в чём дело: сегодня разгружают греческий пароход, — значит, братва опять примется за своё!.. Так и есть, — не прошло и десяти минут, как пятеро грузчиков вышли из порта и прямо к скупщикам — продавать сахарный песок. Я — за ними. Трое убежали, этих удалось задержать. Нет, пока мы не очистим порт от ворюг, порядка не будет!
По городу давно уже ходили слухи о безобразиях, творимых портовыми грузчиками. Мы тоже знали о них немало. Нам было известно, что среди грузчиков попадались бывшие анархисты, махновцы и даже участники кронштадтского восстания. Прикрываясь почётным в нашей стране званием рабочего, они занимались воровством, пьянствовали, устраивали дебоши. Эти подонки проявляли много изобретательности: изготовляли из жести трубочки с острым концом, с помощью которых при переноске сыпучих грузов заполняли свои мешочки, спрятанные под блузами. «Нечаянно» разбивали ящики, уронив их на пол, — таскали банки со сгущённым молоком и консервы. Всё это ловко пряталось и тут же продавалось спекулянтам.
Совсем недавно грузчики устроили грандиозную драку с матросами турецкого парохода. В ней участвовало с обеих сторон более шестидесяти человек и победителями вышли грузчики. Трёх матросов, получивших тяжёлые увечья, пришлось отправить в больницу, ещё несколько человек отлёживалось в пароходном лазарете.
В тот же день турецкий консул посетил местный ревком и выразил резкий протест против бесчинства портовых рабочих, а капитан парохода потребовал от начальника порта возмещения убытков. В другой раз грузчики отказались разгружать иностранный пароход по той лишь причине, что весь груз был в тюках и украсть что-либо было невозможно. Иногда мы задерживали одного-другого вора или хулигана, судили их, но это ничего не меняло.
Пока мы обсуждали, как поступить с двумя задержанными грузчиками, случилось нечто совсем уж нетерпимое. Один за другим прогремели два выстрела. Мы кинулись к проходной будке. На земле лежал часовой, а человек пятьдесят грузчиков неторопливо удалялись, шагая по причалу.
Часового подняли, перевязали рану. Когда он пришёл в себя, выяснили следующее: толпа полупьяных грузчиков с криками и руганью направлялась к нам в комендатуру, с явной целью выручить своих дружков. Часовой дал два предупредительных выстрела. В тот же момент на него посыпался град камней. Он упал — это отрезвило хулиганов, и они отступили.
Терпеть больше было нельзя. Дикая выходка хулиганов приобретала политический оттенок. Она была на руку некоторым иностранцам, которые не замедлили бы сочинить всякие небылицы «о крупных волнениях в советском порту», «о кровавых столкновениях между бастующими рабочими и вооружённой охраной». Это часто делалось в то время, как делается и до сих пор. Нужны были срочные меры.
Мы отправились в Чека и рассказали о случившемся. Цинбадзе пришёл в ярость. Он стучал кулаком по столу и требовал немедленно положить конец безобразиям. Возмутился и Лордкипанидзе, сторонник мягких мер, считавший в своё время неудобным производить массовые аресты «хотя и разложившихся, но всё же рабочих»…
Решено было арестовать зачинщиков и главарей воровской шайки. Операция была закончена к утру, мы арестовали сорок три человека. Следствие выявило много новых фактов, о которых мы даже не подозревали. Некоторые из «грузчиков», завербованные иностранными разведками, передавали шпионские материалы через специальных лиц из команд иностранных пароходов.
Семеро главарей были приговорены к расстрелу за саботаж и подрыв экономической политики Советской власти. Приговор был опубликован во всех газетах.
Горком партии направил для работы в порту тридцать коммунистов и комсомольцев.
Зима вступила в свои права. Дни стояли серые, ненастные. По утрам над морем стлался густой туман. Дул холодный ветер. День и ночь не переставая лил дождь. И на душе было тоскливо, — как никогда, я ощущал своё одиночество. Хотелось тепла, уюта, душевного сочувствия, что хоть немного скрасило бы однообразные дни, заполненные тяжёлой работой… Иногда я уходил на пустынный берег моря, садился на скалы, следя за полётом чаек… «В чём счастье?» — думал я. То, что мы, как говорил мой отец, перевернули мир вверх дном, — разве это не величайшее счастье? Я прекрасно понимал это, но на душе всё равно было тоскливо…
Единственным моим утешением были книги и музыка. Читал я много, жадно, до одури, а в положенные дни ходил на уроки музыки. На скорую руку повторял гаммы, потом играл для себя всё, что вздумается. Добрейшая Нина Георгиевна, кутаясь в шаль, садилась в кресло и слушала…
Однажды, придя на урок, я застал Марию. Давно уж я не видел её. Увлёкшись игрой, она не заметила моего прихода. Я стоял за её спиной и смотрел, как длинные, тонкие пальцы девушки бегали по клавишам. Мария тонко чувствовала музыку. Она кончила играть, повернула голову и, увидев меня, смутилась.
— Играйте, не буду вам мешать! — сказал я и отошёл в сторону.
Мария молчала, опустив руки на колени. Тогда я спросил:
— Почему вы избегаете меня?
— Я не избегаю… Увидят меня с вами — пойдут ненужные разговоры…
— Не понимаю! Неужели в наше время человек может быть рабом устарелых взглядов?
— Может быть, вы и правы… Но что поделаешь, не все ведь понимают это… Мне, например, очень хотелось бы поехать в Москву, поступить в консерваторию, стать пианисткой…
— За чем же остановка?
— Во-первых, говорят, там очень голодно… Впрочем, главное не в этом. Мои родители ни за что не согласятся отпустить меня…
Пришла Нина Георгиевна, и разговор оборвался. Старая учительница сияла.
— Я прямо из театра! — Капельки дождя, как жемчужины, блестели в её седых волосах. — Сегодня у меня большая радость!
— Что ж случилось, Нина Георгиевна? — спросил я.
— Вызвали в театр и предложили работать концертмейстером. С завтрашнего дня приступаю…
— А как же мы? — спросила Мария.
— Самых способных не оставлю. Их наберётся человека четыре-пять, не больше. С остальными придётся распрощаться, — стара стала, сил на всё не хватит!
— Кто же они, эти счастливцы? — спросила Мария и даже слегка побледнела от волнения.
Старая учительница подумала, прежде чем ответить.
— Ну, скажем, ты, Иван, Сусанна Кантария и Тамара Гобиашвили, — сказала она и попросила: — Достань, пожалуйста, чашки, накрой на стол. Будем пить чай…
За чаем Нина Георгиевна предалась воспоминаниям. Она рассказала нам, как после её первого публичного концерта знакомые и даже родня отвернулась от неё, считая неприличным для девушки из хорошей семьи, да ещё грузинки, выступать на сцене. Кумушки сочиняли о ней всякие сплетни, а богатые купцы наперебой приглашали в ресторан.
— Тяжело было… Даже вспоминать не хочется! — вздохнула она. — Актрис считали чуть ли не за падших женщин, не пускали в «порядочные» дома.
После чая Нина Георгиевна под благовидным предлогом ушла на кухню и оставила нас одних.
Мы сидели на диване и, перескакивая с одного предмета на другой, говорили о музыке, о прочитанных за последнее время книгах.
Мария много читала, любила стихи, хорошо знала историю музыки. Со мною в этот вечер она держалась просто, непринуждённо. Но когда я пригласил её в театр, она сразу переменилась.
— Нет, нет, с вами я не могу пойти! — поспешно сказала она.
— Почему?
Она ничего не ответила, встала, прошлась по комнате. Потом села за рояль и тихонько начала подбирать незнакомую мне грустную мелодию.
В тот вечер я ушёл от Нины Георгиевны с тяжёлым сердцем…
Человек ищет счастье
Бушевал ураган. От сильных порывов ветра дрожали оконные рамы, крупные капли дождя стекали по запотевшим стёклам. В комнате было сыро, холодно и как-то особенно неуютно. Закутавшись в солдатское одеяло, я до поздней ночи читал Блока…
На улице — дождик и слякоть.
Не знаешь, о чём горевать,
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать…
Эти строки как нельзя лучше подходили к моему настроению.
Я отложил книгу и долго лежал, ни о чём не думая, прислушиваясь к завыванию ветра за окном, к шуму дождя. Потом, обжигая пальцы, открутил электрическую лампу, привязанную к спинке кровати. Лучше всего — спать!..
Проснулся от сильного стука в дверь. На пороге комнаты стоял Гугуша.
— Понимаешь, Ваня, срочное дело! Звонил ответственный дежурный Чека, приказал тебе немедленно явиться. Надо на границу ехать, — говорил он.
— На какую ещё границу? — недовольно спросил я.
— На турецкую! Другой у нас нет!
На улице, под дождём, прощаясь со мной, Гугуша как бы извинился:
— Проводить не могу, я дежурный! — и зашагал по направлению к порту.
Бедный Гугуша!.. После трёхнедельной отсидки его словно подменили. Он осунулся, стал вялый, неразговорчивый. Как-то зашёл ко мне и тихо сказал:
— Надо ехать в другое место… Людям стыдно в глаза смотреть. И Тамару не вижу… Помоги, Ваня!
Я с трудом уговорил его выкинуть из головы глупости и остаться здесь, хотя сам хорошо понимал его…
Улицы города превратились в полноводные реки, — приходилось скорее плыть, чем идти.
Ответственный дежурный ждал меня в комендатуре.
— Здорово, Силин, — сказал он. — Случилось «чепе»: из двенадцатого погранпоста сообщили, что поймали перебежчика. По-русски — ни слова. Лепечет: «Франсе, франсе», и никто ни черта не разберёт. Нужен переводчик, — сам понимаешь, хорошая птица в такую погоду не прилетит. Они выслали лошадей, поезжай, пожалуйста, разберись, в чём дело. А пока зайди посушись.
Не могу сказать, что мне очень хотелось тащиться в такую погоду куда-то к чёрту на кулички и допрашивать перебежчика. Но что поделаешь, дело есть дело. Я молча зашёл в дежурку и, сняв полные воды ботинки, стал сушить их у раскалённой печки.
Примерно через полчаса к воротам с грохотом подкатил старый тарантас, запряжённый двумя лошадьми. Я сел рядом с пограничником, и мы поехали. Дорога была ужасной, или, вернее, дороги вообще не было. Мы ныряли из одной ямы в другую. В тарантасе укачивало, словно в лодке. Невдалеке бушевало море, не переставая сверкала молния, дождь лил как из ведра.
— Видать, отчаянный парень, — кричал мой спутник, стараясь перекричать грохот близкого прибоя. — Нужно же в такой шторм пуститься вплавь!.. Совсем молодой ещё…
Усталые, измученные, промокшие, мы наконец доехали до погранпоста, расположенного в пустынной местности, недалеко от берега. Начальник поста, молодой, краснощёкий командир, коротко рассказал о происшествии:
— В ноль сорок минут красноармеец Малютин, стоявший в секрете у берега, начал давать световые сигналы: «Вижу в море лодку». Решили, что он что-то путает: в такую ночь на лодке — это же форменное самоубийство!.. Правда, погода для нарушителей в самый раз, но сухопутным путём, а тут — море! Побежали, смотрим, — действительно лодка. Из неё выпрыгнул молодой парень, втащил лодку на песок и зашагал не таясь прямо к свету. Тут мы его и задержали. Оружия при нём не оказалось. В лодке нашли полкаравая хлеба, кувшин с пресной водой. По-нашему — ни слова. Мы его накормили, сейчас сидит у меня, сушится. Поговорите с ним, — интересно, что заставило его пойти на такой риск?..
В маленькой комнатке с низким потолком, у печки, прямо на полу сидел молодой человек в трусах и рубашке. При нашем появлении он вскочил на ноги.
— Садитесь, — предложил я ему, показывая на табуретку. Услышав французскую речь, он радостно улыбнулся. При неярком свете лампы, висящей под потолком, я успел заметить, что у парня смуглое, волевое лицо, широкая грудь, хорошо развитая мускулатура.
— Спасибо, товарищ! — сказал он и, накинув на плечи потрёпанный, ещё не просохший пиджак, сел на табуретку.
Командир погранпоста ушёл, оставив нас одних.
— Мне поручено выяснить обстоятельства вашего незаконного перехода советской морской границы, — сказал я, устраиваясь за столиком командира. — Расскажите подробно: кто вы, чем занимались и с какой целью перешли к нам?
— Меня зовут Микаэл Каспарян, я рыбак!.. — Он превосходно говорил по-французски, без малейшего акцента.
Кто он, француз? Едва ли: явно выраженный восточный тип — жгучий брюнет со смуглой кожей. Глаза карие, большие, измученные. Нос с горбинкой. И как мог француз очутиться в глухой турецкой провинции Риза, откуда, без сомнения, он перебрался к нам? Турок? Не похож. Кто же он?..
— Кто вы по национальности?
— Армянин.
— Откуда вы знаете французский язык?
Он на минуту задумался и, словно принимая важное для себя решение, тряхнул головой.
— Чтобы понять всё связанное со мной, — негромко проговорил он, — в том числе причины, побудившие меня перейти к вам, вы должны знать историю моей жизни. Она довольно длинная и печальная, — добавил он с невесёлой улыбкой. — Если располагаете временем, я расскажу…
— Пожалуйста! — Я достал бумагу и приготовился писать.
— Если можно, пока не пишите!.. Мне труднее будет говорить, — попросил он меня. — Потом я охотно отвечу на все ваши вопросы!..
Меня озадачило его поведение. Приходилось допрашивать сотни людей, все они вели себя по-разному. Но такого ещё не было. Что это — тонкая игра или искренность человека, которому нечего бояться?
— Хорошо, — согласился я и отложил ручку.
Вот история, рассказанная им мне в бурную ночь, в помещении пограничного поста.
…Родился я недалеко от турецкого города Орду. Нашу местность называли Золотой бухтой. Она и впрямь будто золотая: на несколько километров тянется чистый жёлтый песок. Море мелкое — в пятидесяти шагах от берега только до пояса. Невысокие холмы, покрытые орешником, окружали бухту, защищая её от ветров. У нас редко бывали штормы. У подножия холмов, на берегу небольшой речки с холодной прозрачной водой, где водилась мелкая форель, расположился наш посёлок — всего семь домиков. У каждой семьи кроме лодки имелись ещё корова, огород.
Мой отец слыл смелым человеком и опытным рыбаком, с его мнением считались все, даже седоволосые старики. Семья наша была немногочисленной, всего семь человек: отец, мать, бабушка, два брата и две сестры. Я был первенцем, старшим, и поэтому пользовался некоторыми привилегиями. Жили мы тихо, мирно, нужды не знали. Свежую рыбу продавали в городе через скупщиков, а что оставалось — сушили или солили. Была ещё у нас маленькая коптильня, которой пользовались все. На вырученные деньги покупали муку, сахар, керосин, сети и паруса, изредка одежду, обувь. Рыба стоила дёшево, выручали за неё немного. Но и потребности были у нас небольшие. Трудились все, — женщины наши замечательно вязали и чинили сети, мужчины ловили рыбу, старики занимались огородами, а дети собирали орехи, ягоды.
Отец хотя и часто брал меня с собой в море, почему-то не хотел, чтобы я стал рыбаком. Может быть, потому, что мой дед и мой дядя — брат отца не вернулись с ловли, погибли. Он мечтал дать мне образование. Школы у нас,
разумеется, не было, детей учил грамоте бывший матрос-самоучка.
В тысяча девятьсот восьмом году французы открыли в городе Орду школу с интернатом. Отец решил во что бы то ни стало отдать меня туда: «Пусть хоть он станет человеком». Бабушка плакала — боялась, что французы сделают меня католиком. Соседи тоже отговаривали отца, доказывая, что рыбаку образование ни к чему, да и плата была большая. Отец никого не послушался и повёл меня, восьмилетнего мальчишку, к французам. К счастью, директор согласился брать плату натурой — шестьдесят килограммов отборной рыбы в месяц…
Французы установили в своей школе строгий порядок: со второго класса ученикам запрещалось разговаривать на родном языке не только в классах, но и между собой. Нам это казалось обидным, но волей-неволей мы быстро овладевали чужим языком и уже в третьем классе знали его прилично.
В течение пяти лет осенью я уезжал в школу, а летом возвращался домой, помогал отцу рыбачить. Так продолжалось до четырнадцатого года.
Накануне войны французы спешно распустили учеников и уехали к себе на родину.
Хотя мы и жили в заброшенном уголке, вдали от больших событий, всё же и на нас война обрушилась всей своей тяжестью. Молодёжь забрали в армию, налоги так выросли, что платить их стало не под силу. За недоимки жандармы забирали у нас всё: уводили коров, отнимали запасы рыбы, даже домашнюю утварь. И всё-таки мы не голодали: у нас было море, а в нём — кефаль, скумбрия, камбала, хамса.
Из школы я привёз с собой учебники и всю зиму усердно занимался, надеясь, что война скоро кончится и я опять примусь за учение. Оно давалось мне легко, особенно языки. Кроме французского, мы изучали ещё турецкий и немецкий. Учителя постоянно ставили меня в пример, а директор, месье Лертон, не раз говорил, что добьётся для меня стипендии в Сорбонне. Разумеется, меня радовала такая заманчивая перспектива…
Прошёл почти год с начала войны. Но мы так и не знали толком, кто с кем воюет, кто кого побеждает. Газет в нашем посёлке никто никогда не читал, а новости, которые приносили рыбаки с базара, были очень противоречивы. Выходило, что турки потопили на подступах к Чанах-Кале весь английский флот, а на другом фронте доблестные аскеры султана заняли крепость Каре. Они давно покорили бы всю Россию, если бы не морозы. В то же время в наших краях неожиданно появились оборванные, голодные беженцы из Эрзерума…
Однажды — было это, кажется, в начале августа — к нам в посёлок прискакал на взмыленном коне друг отца, турок Турсун-ага. Он поговорил о чём-то с отцом и тотчас уехал обратно. Отец кликнул меня и младшего брата, Грачика, и велел нам созвать соседей.
— Скажите им, что дело важное-важное, — пусть бросают все дела и сейчас же идут сюда!
Когда наконец собралось человек тридцать, отец поднялся на наше крыльцо и начал говорить.
— Дорогие братья и сёстры, лучше бы высохли мои губы, чем передать вам эту страшную весть! — сказал он, и все притихли, не сводя с него встревоженных глаз. — По приказу стамбульского правительства Талята и Энвера, — продолжал он охрипшим от волнения голосом, — турки начали резню армян по всей стране! — Из толпы, собравшейся у крыльца, послышался стон. — Жандармы и башибузуки хватают мужчин, мальчиков, убивают их, а женщин и маленьких детей выгоняют с насиженных мест, — говорил отец. — Вчера в нашем городе Орду убили всех мужчин, выселили всех женщин — не оставили никого, ни одного армянина!.. Говорят, то же самое произошло в городах Самсуне и Карасуне. Завтра жандармы придут сюда… Нужно решить, как нам быть.
Прошло более шести лет с того злосчастного дня, но я до сих пор отчётливо помню всё: бледное, взволнованное лицо отца, его хриплый, дрожащий голос, плач женщин, растерянность стариков…
— Враки, не может этого быть, чтобы всех, — неуверенно, скорее для собственного утешения сказал седобородый рыбак, дядя Нишан. — Нас не тронут — мы политикой не занимаемся, живём тихо, нас не видно и не слышно!..
— Конечно, не тронут, — подхватил дед Левон. Он считался у нас начитанным человеком — у него хранилось десятка полтора старинных книг. — В Турции живёт более трёх миллионов армян. Они пашут землю, ловят рыбу, занимаются ремёслами, торговлей, платят налоги… Какое государство станет рубить сук, на котором сидит? Перережут армян — вся жизнь остановится!
Другие спрашивали отца:
— Скажи, Оганес, посоветуй, что делать?..
Отец предложил добраться на лодках до русских берегов — с наступлением темноты погрузиться и поплыть.
В ответ поднялся невообразимый шум. Одни кричали, что отец просто сошёл с ума. Другие — что лучше, привязать на шею камень и броситься в воду. Но обвинить этих людей, не раз смотревших в глаза смерти, в трусости или в малодушии было нельзя. Они хорошо понимали, что означает пересечь Чёрное море на лёгких парусниках, да ещё с женщинами и детьми. А сторожевые лодки? Что, если наскочишь на полицейских, охраняющих побережье?
Никто не согласился идти на такой риск. Только бывший матрос решил последовать за отцом…
Площадка перед нашим домом опустела. Люди расходились понурив головы…
Отец не мешкая приступил к выполнению задуманного. Велел женщинам собрать самое необходимое, запастись пресной водой, съестным на шесть-семь дней, а сам пошёл на берег — налаживать лодку. Я побежал следом за ним. Мы вдвоём тщательно осмотрели лодку, развели костёр, просмолили днище заново, подготовили паруса, натянули на случай дождя тент. Готовился к отплытию и бывший матрос…
Летом рассвет наступает рано. Не успели мы опомниться, как небо на востоке порозовело и туман, застилавший горизонт, начал таять. Нужно было спешить.
Погрузились, детей и женщин посадили на вещи. Бабушка громко зарыдала, мать украдкой вытирала слёзы. Дети, прижавшись друг к другу, сидели тихо-тихо, — тревога старших передалась и им. Ветра не было, паруса висели, как тряпки. Отец в последний раз посмотрел на посёлок, перекрестился, и мы с ним взялись за вёсла. За нашей лодкой следовал матрос.
Берег медленно удалялся. Вот и маяк, а там — открытое море и, может быть, спасение! Но что это? Вдали показалась лодка: полицейские шныряли у наших берегов.
— Назад! Скорее назад! — в отчаянии закричал отец и подал знак матросу.
Мы гребли изо всех сил, сердце готово было разорваться, пот заливал глаза. Но силы были неравны, — восьмивесельная сторожевая лодка догоняла нас. До берега оставалось ещё метров триста, когда позади нас отчётливо послышался плеск воды и грубый окрик.
— Раздевайся, доберись до берега вплавь! — приказал мне отец.
Я заплакал: какой человек может оставить на произвол судьбы родителей, братьев, сестёр и думать о своём спасении? Однако отец был непоколебим.
— Что я сказал? — крикнул он. — Скорее, дорога каждая минута! Одежду свяжи в узел и держи над головой. В посёлок не ходи, спрячься в орешнике. Потом сам сообразишь, как быть…
Торопливо поцеловав мать, бабушку, я схватил узелок и соскользнул с лодки в воду. Я, рыбак и сын рыбака, умел хорошо плавать и без труда добрался до берега. В кустах натянул на себя одежду и стал наблюдать. Отец грёб до последней минуты, хотя знал, что это бесполезно. Я видел, как полицейские подошли вплотную к нашей лодке, взяли её на буксир и повели к пограничному посту. Лодку матроса, успевшего завернуть в бухточку, преследовать почему-то не стали… Когда прошло оцепенение первых минут, я побежал было по направлению к посту, но, поднявшись на холм, опомнился. Чем я мог помочь своим?
Вернулся в заросли орешника, лёг на спину. На синем небе — ни облачка. Над морем кружились белые чайки. А у подножия холма, в ожидании неотвратимой беды, затаился посёлок. Никогда ещё я не чувствовал себя таким одиноким, беспомощным…
Дым очагов манил меня к себе, хотелось есть. Но, помня наказ отца, я боялся спуститься.
Усталость от всего пережитого взяла своё — я заснул и, видимо, спал долго. Проснулся от шума и криков, доносившихся из посёлка. Там орудовали жандармы. Всё было именно так, как предсказывал мой отец. Они вытаскивали людей из домов и на площади сортировали их: мужчин и мальчиков — направо, женщин и детей — налево. Дети плакали, кричали женщины. Их душераздирающие крики ещё долго звучали в моих ушах…
Жандармы повели мужчин к оврагу, за холмами, и вскоре там загремели выстрелы. От страха кровь стыла в моих жилах, путались мысли. Я снова повалился на песок, зажал ладонями уши… В каждом кусте мне мерещились жандармы, я боялся шевельнуться… Потом я видел, как, вернувшись, жандармы построили в ряд женщин с детьми, сели на своих коней, навьюченных награбленным, и погнали несчастных пленников по направлению к городу… И всё стихло, в посёлке не осталось ни души…
Прошёл день, ночь и ещё один день. Меня мучил голод, тошнило, кружилась голова. Я решился…
Под покровом темноты, осторожно, как затравленный зверь, прокрался я в посёлок. В нашем доме нашёл несколько чёрствых лепёшек, вяленую рыбу, горшок с топлёным маслом. Схватив всё это и жуя на ходу, побежал обратно в свой тайник…
А на следующее утро, чуть свет, я отважился заглянуть в страшный овраг, в котором были убиты мои односельчане. Нет, я не плакал, глядя на неподвижные тела людей, повинных только в том, что они родились армянами. Я думал о произволе и несправедливости, царящих на земле, и дал себе клятву бороться с ними до конца моей жизни. И ещё думал, что, может быть, в другом овраге вот так же лежит мой отец, братья мои… Нет, я не плакал в то утро…
Прошло ещё два-три дня. Я осмелел и, сообразив, что в любой день могут прийти турки и унести из посёлка всё, что ещё осталось, в течение двух ночей, заходя в каждый дом, перетащил к себе всё, что попадалось под руку: хлеб, муку, соль, овощи, вяленую рыбу, масло, даже одежду и постель. Не забыл и об огниве. Прихватил топор, лопату, нож, рыболовные крючки, даже несколько книг.
Скоро мои опасения оправдались. Турки на трёх больших баркасах приплыли на Золотой берег и очистили все дома. Ничего не оставили — ни тряпки.
Я нашёл на берегу небольшую пещеру, перетаскал в неё всё своё добро, замаскировал вход и жил, как герои прочитанных мною романов, очутившиеся на необитаемом острове после кораблекрушения, с той лишь разницей, что они ждали спасения от людей, я же больше всего боялся встречи с людьми. Выходил из своего тайника я только по ночам.
Попав в безвыходное положение, люди, даже осуждённые на смерть, продолжают на что-то надеяться. Такова уж человеческая натура!.. Надеялся и я, сам не зная на что…
Проходили похожие друг на друга дни, недели. Я оброс, одичал. Изредка читал книги, разговаривал сам с собой. Много думал… В моей голове никак не укладывалось — почему люди убивают себе подобных только из-за того, что те говорят на другом языке и поклоняются другому богу?..
Наступила осень, с моря подули холодные ветры, зачастили дожди. Зимовать в пещере было немыслимо, да и одиночество и тоска по родным угнетали меня. Временами я приходил в отчаяние и готов был на всё — даже умереть, лишь бы избавиться от тоски…
Наконец решился. Постирал бельё, переоделся, уложил в торбу десятка полтора вяленой рыбы — всё, что у меня осталось из еды, — и ранним октябрьским утром, когда над холмами расстилался туман, пошёл по направлению к городу Орду, где пять лет проучился во французской школе.
В городе прежде всего направился к нашей школе, но, ещё издали увидев возле неё аскеров, свернул в переулок. Никто не обращал на меня никакого внимания. Причину этого я понял позже, встретив на базаре множество таких же бездомных, оборванных подростков, как и я…
Наступали сумерки, нужно было подумать о ночлеге. Из опасения выдать себя я боялся не то что попросить приюта, даже заговорить с людьми. Моя пещера, устланная сухой травой, казалась мне сущим раем, и я даже подумывал — не вернуться ли в неё? Однако идти ночью по пустынным прибрежным тропинкам было опасно, — можно наскочить на пограничную охрану.
Не найдя ничего лучшего, пошёл на берег моря. Моё внимание привлекла привязанная к пристани, покачивающаяся на волнах красивая белая лодка. Как только стемнело, я забрался в лодку, свернулся калачиком на обитом красным плюшем сиденье и заснул…
Проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Ярко светило солнце. Надо мной склонилось морщинистое лицо пожилого турка. Он в последний раз встряхнул меня и строго спросил:
— Эй, ты! Зачем забрался в чужую лодку?
— Спать было негде…
— Ай-ай-ай, как нехорошо, — качал он головой. — Спать в чужой лодке! Скажи, Осман, что нам делать с этим оборвышем? — спросил он своего спутника, молодого турка.
— Гони его в шею, и делу конец! — ответил тот.
— Нет, так не годится!.. Сегодня прогонишь, а завтра он опять заявится, — плюш попортит, а ты отвечай… Отведём его к господину.
Как ни упрашивал, как ни умолял я старика отпустить меня, ничего не помогло. Крепко держа меня за руку, он отвёл меня в большой, богатый дом, окружённый садом, и я предстал перед господином. Человек средних лет, худощавый, с бледным красивым лицом, лежал на кушетке, курил длинный чубук и читал книгу. Старый слуга доложил ему о моём дерзком поступке.
Вместо того чтобы рассердиться, закричать, как я ожидал, господин спросил, насмешливо щуря глаза:
— Хорошо было спать в лодке?
— Хорошо… Как в люльке, — море тихонько укачивает, — ответил я на литературном турецком языке, который хорошо знал.
— Забавно! Садись вот сюда, рассказывай, — оживился господин. — А ты можешь идти, — сказал он слуге.
— О чём рассказывать?
— О чём хочешь!.. Кто ты, откуда, где твои родители и почему ты избрал местом ночлега именно мою лодку? Словом, обо всём! — Должно быть, он скучал и был рад случаю немного позабавиться.
Словно по наитию, я без страха спросил:
— Если я расскажу вам всю правду, вы не отдадите меня жандармам?
— А у тебя имеются причины бояться их? — он слегка нахмурил брови.
— Особых причин нет… Но я армянин!
— Армянин?
— Да, господин.
— Интересно, очень интересно! — Он приподнялся, опершись на локоть, и отложил чубук. — Не бойся! Я один из тех турок, которые не одобряют всю эту печальную историю с армянами…
Ободрённый его словами, я рассказал без утайки всё, что случилось со мной. Когда я упомянул, что пять лет учился в здешней французской школе, он обрадовался.
— Вот удача, наконец-то нашёлся собеседник! — воскликнул он и перешёл на французский язык. — Милый мой, мы с женой долго жили в благословенном Париже, я учился в Сорбонне, а она занималась живописью — брала уроки у знаменитых французских художников… Париж, Париж! Сколько счастливых лет мы там провели! — На его бледном лице появилась задумчивая улыбка, глаза погрустнели. — Театры, опера, кабаре, бульвары… Проклятая война — вот почему мы снова очутились в этой дыре!.. Однако мы отвлеклись, рассказывай же, рассказывай!
Я тоже перешёл на французский язык, подробно описал свою пещеру в зарослях орешника, рассказал, как три месяца жил там в полном одиночестве.
— Да!.. Много испытаний выпало на твою долю! — Он взял с низенького столика серебряный колокольчик, позвонил.
Вошла полная пожилая негритянка в белом переднике.
— Попроси ханум!..
Шурша шёлковым платьем, появилась молодая, хрупкая женщина с необыкновенно большими глазами, похожая на принцессу из сказки. Такую красивую женщину я видел впервые…
— Ты спрашивал меня, мой друг? — Голос у неё был тихий, певучий.
— Взгляни на этого мальчика и послушай, как он говорит по-французски!
— По-французски? — Она удивлённо посмотрела на меня.
— Да, дорогая, я потом всё тебе объясню… Нам нужно позаботиться о его судьбе. Дело в том, что он армянин…
— Ты всегда был великодушен!.. Конечно, нужно позаботиться о несчастном мальчике. Я уверена, что никто не осмелится тронуть его пальцем, раз он находится под твоим покровительством.
— Ну, это как сказать!.. За время войны люди утратили чувство гуманности. — Он задумался, потом поднял голову и сказал мне: — Вот что, мой юный друг! До поры до времени не говори никому, и особенно нашей прислуге, что ты армянин. Ты — турок из восточных вилайетов, оккупированных русскими. Скажем, из Трапезунда. Ты очутился в этих краях, спасаясь от русских… Мединэ, ему нужно дать турецкое имя, — посоветуй, пожалуйста!
— Назовём его Нури! Красивое имя, не правда ли? А по-французски пусть он будет Жаком. Помнишь того разбитного гамэна в Париже, который приносил нам по утрам свежие булочки?.. Его звали Жаком!
— Отлично! — Хозяин снова позвонил и приказал негритянке: — Этот мальчик будет жить у нас, его зовут Нури. Запомни, он будет нашим воспитанником, а не слугой. Передай эконому, чтобы его постригли, вымыли, одели. Приготовь ему угловую комнату в нижнем этаже… Иди, мой друг, приведи себя в порядок и приходи ко второму завтраку!
Я молча последовал за негритянкой. Мне не верилось, что всё это происходит наяву, я даже ущипнул себя, чтобы убедиться, не сплю ли я? Но и в этой бочке с мёдом была своя ложка дёгтя… Отныне меня должны были называть турецким именем — Нури. Что-то во мне протестовало против этого… Вы скажете: не такое уж это большое горе!.. Согласен. Но когда носишь имя другой нации ради спасения своей жизни, поневоле начинаешь презирать себя. Поймите меня правильно, я никогда не был фанатиком, националистом, никогда не отличался религиозностью. Церковные обряды исполнялись у нас в посёлке редко, и то по необходимости — когда рождался ребёнок, когда была свадьба или кто-нибудь умирал. В этих случаях приглашали из города священника, он крестил, венчал, отпевал покойника и уезжал обратно. Наше национальное чувство заключалось в том, что мы говорили на родном языке, пели свои песни и твёрдо знали одно: раз мы родились армянами, армянами и умрём! Впрочем, оставим в стороне мои тогдашние переживания, — их может понять только тот, кому пришлось испытать хотя бы частицу того, что испытал я…
После долгого голодного существования жить в этом просторном белом доме, обставленном с восточной роскошью, в обществе воспитанных, образованных людей, гулять в большом парке с вечнозелёными кустами и редкими деревьями было поначалу приятно.
Казалось, всё шло хорошо. Я пользовался полной свободой, брал любые книги из библиотеки, ел за одним столом с хозяевами, домашняя прислуга относилась ко мне почтительно. И всё же я не чувствовал себя счастливым. Часто, лёжа в своей комнате на мягкой постели, под сеткой от москитов, я задумывался над своим положением: кто я в этом доме — нахлебник, просто забава для скучающих хозяев? Лучше было бы выполнять самую тяжёлую работу и знать своё место, чем играть унизительную роль живой игрушки… Но положение у меня было безвыходное, и я терпел. Много читал, часами бродил по парку, а в хорошую погоду брал лодку и уходил в открытое море. Там, далеко от людей, я давал волю своим чувствам и не столько ловил рыбу, сколько думал о своей горькой одинокой судьбе, вспоминал наш дом, родных, товарищей, детство. Ныло сердце, и, чтобы отогнать тоску, я тихонько напевал армянские песни. Ни сытая жизнь, ни хорошее отношение хозяев не приносили душевного успокоения. Белый дом со всей его роскошью превратился для меня в клетку. Сломать же эту клетку и вырваться на свободу я не решался. Так продолжалось до весны…
Однажды вечером Шевкет-бей — так звали молодого господина — позвал меня к себе в кабинет, усадил на тахту и сообщил страшную новость.
— Нури, властям всё известно о тебе, — сказал он. — Только что у меня был начальник городской полиции и потребовал твоей выдачи… Ценой большого бакшиша я добился у него отсрочки на два дня, чтобы иметь возможность решить, как быть дальше. Если тебе небезынтересно знать моё мнение, то скажу: по-моему, для тебя остаётся единственный выход — принять ислам. Ты знаешь, я человек свободомыслящий, и всё же я нахожу, что это даже к лучшему. Пойми, армяне как народ фактически исчезли с лица земли. Может быть, есть ещё кое-какие остатки, но и они в скором времени ассимилируются среди турок. Ты мальчик способный и при желании далеко пойдёшь. Захочешь учиться — учись! В нашем городе есть военное училище, в нём готовят морских офицеров. Достаточно моей записки, чтобы тебя зачислили туда, — подумай. Разумеется, насиловать тебя никто не будет. Не захочешь прислушаться к моим словам, — поступай как знаешь. Тогда… — Шевкет-бей отвёл глаза. — Тогда нам придётся расстаться…
— Благодарю вас за совет, я подумаю, — ответил я, чтобы выиграть время, а в душе поднялась буря… Отказаться от своей нации, предать отца — на это я не пошёл бы ни за какие блага на свете!..
— Как знаешь, — сухо проговорил Шевкет-бей и отпустил меня. Я вышел в сад. Я задыхался от возмущения. Как он мог предложить мне такое?.. Отказаться от своего народа, отречься от отца и матери! Прохаживаясь по апельсиновой роще, я обдумывал своё положение. Твёрдо знал одно: нужно уходить из этого дома, но куда?.. Куда глаза глядят, — решил я наконец и пошёл к себе в комнату взять кое-какие вещи.
Там меня и застала негритянка Фатьма. У этой чёрной женщины было доброе сердце, и она, пожалуй, единственная во всём доме относилась ко мне с искренним сочувствием.
— Зачем собираешь вещи? Или уходишь от нас? — спросила она, не сводя с меня чёрных, похожих на маслины глаз.
Я молчал. Мне не хотелось огорчать добрую женщину.
— Когда человек делится с другим своим горем, оно наполовину становится меньше!.. Скажи, что случилось?
Тихо, чтобы никто не подслушал, я сказал:
— Прежде всего ты должна знать, что я никакой не Нури! Я армянин…
— Это я знала, вернее, догадывалась, — перебила меня она. — Знаю и всё остальное… На что же ты решился?
— Уйти!
— Куда?
— Мир велик, не пропаду!.. Завтра рано утром уйду…
— Нури! Послушай моего совета — не жди утра, уходи сегодня ночью!.. Я давно живу в этом доме и хорошо знаю хозяев…
Её слова поразили меня. Я не обольщался, — я знал, что для Шевкет-бея и его жены я не более как забава, которая рано или поздно может прискучить, но что они способны на подлость — этого я не ожидал.
— Спрячься в Топрак-Кале, я ночью приду туда! — шепнула она и бесшумно, как тень, выскользнула из моей комнаты.
Я не мог найти себе места, ожидая, когда стемнеет. Ложился, вставал, брался за книгу. Часов в десять вышел в сад. Вечер был тёплый. Кроны высоких чинар купались в мягком лунном свете, тень от них падала на дорожки.
У круглой беседки я неожиданно столкнулся с Мединэ-ханум.
— Вышел погулять? — спросила она.
— Да, ханум!.. В комнатах душно, захотелось подышать свежим воздухом…
Она молчала, пристально всматриваясь в моё лицо своими огромными, прекрасными глазами, которые, как мне казалось, светились в темноте.
— Нури, ты успел подумать о предложении Шевкет-бея? — неожиданно спросила она.
— Думаю всё время…
— И что же ты решил?
— Остаться тем, кем родился! — ответил я.
Она вздрогнула.
— Неблагодарный!.. Армянин! — прошипела она, вкладывая в это последнее слово столько злобы и ненависти, что я невольно сделал шаг назад. Повернувшись ко мне спиной, она быстро пошла к дому.
Фатьма была права: эти образованные, приветливые господа, очевидно, способны на всё… Нужно уходить, и как можно скорее!..
И я, не заходя в дом, перемахнул через забор и побежал к развалинам крепости Топрак-Кале. Там целый лабиринт глубоких ям, туннелей, ниш, — в них легко спрятаться.
Я спрыгнул в первую попавшуюся яму, сел на камень и стал думать — как быть дальше, куда идти? Где-то здесь, на побережье, недалеко от маленького городка, рыбачил друг моего отца турок Турсун-ага, который предупредил нас о грозящей опасности. Он помог бы мне. Но как его найти?.. «На рыбном базаре!» — ответил я сам себе. Где же ещё рыбак может продавать свой улов?..
Время шло, приближался рассвет, а Фатьма всё ещё не приходила. Боясь, что не сумею выбраться из этих мест затемно, я решил не дожидаться её, вылез из ямы и тут же увидел одинокую фигуру женщины, закутанной в чадру. Это была Фатьма! Она подошла ко мне, достала из-под чадры узелок и молча протянула мне.
— Я думал, ты не придёшь, — сказал я ей.
— Если б ты знал, что творилось в доме! Еле выбралась…
— Что ещё случилось?
— Не прошло и часа после твоего ухода, как нагрянули жандармы. За тобой… Господин с госпожой заперлись у себя и не выходили, а жандармы рыскали по всему дому, шарили под каждым кустом. Один из них, с нашивками, клялся пророком, что найдёт тебя хоть на дне моря. Уходи, дорогой, скорее!
— Спасибо, Фатьма, за всё! — Я обнял её, поцеловал в щёки. Они были мокры от слёз…
…Мой собеседник взял папиросу, жадно закурил. За окном начинался тусклый рассвет. Я устал, хотелось спать. Пора было ехать в город и там решать, как быть с перебежчиком. Для меня было совершенно ясно одно: к нам пришёл обездоленный человек искать счастье.
Красноармеец принёс две кружки кипятку и по куску ржаного хлеба. Мы поели на скорую руку.
Выполнив необходимые формальности, я попрощался с пограничниками, посадил Каспаряна рядом с собой в тарантас, и мы покатили в город.
— Не огорчайтесь, что не дослушал вас до конца, — сказал я Каспаряну. — В городе у меня срочные дела. Приедем туда, отдохнёте и доскажете мне свою историю.
Над морем по-прежнему низко висели свинцовые тучи, по-прежнему гудел и бесновался ветер. Волны с грохотом ударялись о прибрежные скалы. Хлестал косой дождь…
— Ты что, Силин, в своём уме? Что здесь — Чека или благотворительное общество по оказанию помощи нарушителям границ? — возмутился старший комендант, когда я попросил его поместить задержанного перебежчика в гостиницу.
— Нарушители границ бывают разные, — пытался я объяснить ему. — Человек пришёл к нам за правдой, а мы его — в тюремную камеру!..
— Не знаю, не знаю, — комендант недоверчиво покачал головой. — Обратитесь к руководству, пусть решает. Дадут команду — помещу хоть во дворце Манташёва!..
Пришлось идти к председателю. Цинбадзе долго расспрашивал о подробностях и наконец сказал:
— Видно, отчаянный парень этот твой перебежчик! — И после короткого раздумья добавил: — В гостинице ему всё-таки не место. Возьми-ка ты его к себе в общежитие, накорми, узнай до конца его удивительную историю, напиши рапорт, а завтра решим, как с ним быть дальше… Учти, Силин, осторожность прежде всего! Сам понимаешь, — в такого рода делах всякое бывает…
Я повёл Каспаряна в общежитие, а сам думал: «Не тот ли это случай, когда чекисты, поддавшись добрым чувствам, совершают ошибку?» Нет! Открытое, честное лицо Каспаряна, его взволнованная искренность — всё убеждало меня в том, что он говорит правду. Не хотелось верить, что он шпион…
Ивана Мефодьевича я не застал дома — он ушёл в порт. Пришлось всё решать самому. Попросил у коменданта общежития койку, устроил Микаэла у себя в комнате, посоветовал ему поспать, а сам поспешил на работу.
— Правильно поступил! — сказал Яблочко, когда я, торопясь и волнуясь, рассказал ему о перебежчике. — Революцию, брат, мы делали не только для себя, а для всего мирового пролетариата. Это понимать надо! Конечно, со временем люди из всех стран потянутся к нам, — куда же им, голодным, измордованным, деваться? Терпи, гни спину перед всякой сволочью — или поезжай в Советскую Россию, учись, возвращайся на родину и борись за справедливый строй, — другого пути нет!
И как же был мне мил и дорог простой и честный Иван Мефодьевич, когда я слушал эти его слова!..
Я так устал после бессонной ночи, что, просматривая у себя в кабинете срочные бумаги, незаметно уснул, положив голову на стол. Разбудил меня телефонный звонок. Говорил наш всемогущий начхоз. Он сообщил, что по распоряжению товарища Цинбадзе выделено триста тысяч рублей «на кормёжку» моего гостя. В данном случае деньги особого значения не имели, — они были у меня, — важно было то, что председатель Чека принимал участие в судьбе перебежчика, за которого я как бы поручился.
Стрелки часов на стене показывали два, пора было кормить моего подопечного. Я пригласил Яблочко пообедать с нами. Вместе с ним зашли за Каспаряном, разбудили его и втроём отправились в интернациональный клуб моряков. За обедом Иван Мефодьевич задавал гостю множество вопросов о том, как живут моряки за границей, знает ли народ правду о нашей революции. Кончил он тем, что поднял рюмку за обездоленных людей на всём земном шаре, за мировую революцию.
Гость вначале немного дичился Яблочко, но, видя, что он сочувствует ему, стал держаться более непринуждённо. По его ответам мы поняли, что имеем дело с вдумчивым, толковым парнем, хотя в политике он плохо разбирался и рассуждал порою на редкость наивно.
Вечером мы опять сидели с ним вдвоём, на этот раз у меня в комнате. Он продолжил свой рассказ.
…Распрощавшись с Фатьмой у развалин старой крепости, я пошёл вдоль берега моря. Ночь была светлая, море спокойное. К утру без всяких приключений добрался до маленького городка. И тут мне сразу повезло: на рыбном базаре я встретил друга моего отца, Турсун-агу. Лет пятидесяти, с седеющими висками, коренастый, с обветренным, загорелым лицом, он был типичным рыбаком.
Увидев меня ещё издали, Турсун-ага дал мне знак, чтобы я не подходил к нему. Встревоженный этим, я отошёл в сторонку и стал ждать. Ждать пришлось долго — пока он не продал свою рыбу. Уходя с базара, он прошёл мимо меня и на ходу бросил: «Иди за мной…»
В пустынном переулке Турсун-ага остановился, посмотрел по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, обратился ко мне:
— О том, как ты спасся и добрался сюда, расскажешь потом. Сейчас ответь только на один вопрос: тебя здесь никто не знает?
— Нет, я пришёл сегодня утром…
— Очень хорошо! Пойдём со мной к моей тётке, поживёшь у неё дня два-три, а после я отведу тебя к нам в посёлок.
И мы пошли по кривым, пыльным улицам сонного городка. Навстречу нам изредка попадались одинокие прохожие — оборванные старики, босые мальчишки, женщины, закутанные в чёрную чадру. Наконец добрались до окраины. Турсун-ага постучал в дверь низенького глинобитного домика с плоской крышей. Открыла нам приветливая старуха лет шестидесяти. Тётка и племянник вышли во двор и о чём-то долго шептались. Вернувшись, Турсун-ага сказал мне:
— Слушай меня внимательно и хорошенько запоминай, что скажу. Ты — мой племянник, сын родной сестры, приехал из города Сиваса, зовут тебя…
— Нури, — подсказал я ему.
— Нури так Нури, если это имя тебе нравится!.. Отец твой погиб на фронте, мать живёт с дочерью… За те несколько дней, что будешь жить здесь, из дома не выходи, никому на глаза не попадайся. Тётушка Аише позаботиться о тебе. Понял?
— Понял! Спасибо, Турсун-ага!..
Он молча махнул рукой, отвернулся.
Старуха поставила перед нами деревянный поднос с жареной рыбой и лепёшками. После завтрака Турсун-ага, свёртывая самокрутку, попросил меня рассказать обо всём, что приключилось со мной.
Слушая мой рассказ, тётушка Аише украдкой вытирала слёзы, а Турсун-ага, нахмурив брови, жадно затягивался табачным дымом.
— Думаешь, они истребляют только армян? — сказал он, когда я умолк. — Туркам они тоже устроили кровавую бойню — ежедневно посылают тысячи людей на бессмысленную смерть!.. Ну, тебе нужно думать об одном: как уцелеть и дождаться конца войны. Порыбачишь пока с нами. Мои друзья-рыбаки — народ простой, они тебе зла не сделают. Держи язык за зубами, лишнего не болтай. В наше время и у рыб уши есть!..
С этими словами Турсун-ага поднялся, положил через плечо хурджин
[67] и ушёл.
У тётушки Аише я прожил три дня. Добрая, словоохотливая старушка ухаживала за мною, как за малым ребёнком, кормила чем могла и, чтобы не было мне скучно сидеть взаперти, рассказывала разные истории и сказки.
На отлогом берегу, за мысом, километрах в двенадцати от городка, в посёлке турецких рыбаков началась для меня новая жизнь — тяжёлая, порою голодноватая, но зато спокойная. Я радовался, что зарабатываю хлеб своим трудом. Работал наравне со всеми и никому не был в тягость.
Рыбаки — их было двенадцать человек — встретили меня дружелюбно, как племянника Турсун-аги. Добрые люди, они ни о чём меня не спрашивали, хотя, возможно, кое о чём догадывались. Думая, что я никогда в жизни не держал в руках вёсла, они старались учить меня и удивлялись, как быстро я постигал навыки рыбацкой жизни.
— Клянусь аллахом! Твой племянник рождён быть знаменитым рыбаком, — говорил Турсун-аге старшина артели. — Такого проворного парня я ещё не встречал! Война истощила страну, с базаров исчезли многие продукты, и горожане охотно покупали нашу рыбу. Мы могли прилично зарабатывать, жить сносно, даже делать запасы на зиму, если бы не береговая охрана и не налоги. Жандармы не разрешали нам выходить далеко в открытое море, а чиновники часто забирали весь наш улов в счёт каких-то недоимок, а то и просто для нужд армии. Впрочем, у нас не было особых оснований гневить бога. Несмотря на то, что сети у нас были латаные и перелатанные, а новых взять было негде, и на то, что мы промышляли в прибрежных водах, где рыбы водилось мало, всё же по сравнению со многими жили мы сносно, во всяком случае уху и лепёшки ели каждый день. Море, лодка, сети, смола, рыба — вот и весь круг интересов рыбаков. Отзвуки больших событий доходили до нас с большим опозданием и не очень-то волновали. Все жаждали одного — конца войны.
Жил я среди рыбаков два с половиной года. Изучил до тонкости тайны моря. Повзрослел, окреп физически. Мускулы мои стали как железные, я не боялся никакой работы.
Как-то вернулся из города старшина артели и сообщил, что война кончилась. Наконец-то! Рыбаки смеялись, кричали, обнимали друг друга, целовались.
— Погодите радоваться! — прикрикнул на них старшина и рассказал, что в Стамбул вступили войска Антанты, что итальянцы углубились в Анатолу, а греки оккупировали Измир.
Рыбаки сразу притихли, молча достали кисеты, закурили.
— Дождались! — нарушил наконец молчание Турсун-ага. — Теперь победители разорвут на части нашу землю…
— Этого допускать нельзя, — сказал пожилой рыбак, ранее служивший в армии.
— Хотел бы я знать, как это ты не допустишь? — спросил старшина с горькой усмешкой.
— Защищаться буду! Не воевать, а защищаться. В этом большая разница, — уточнил бывший солдат. — Народу нашему чужого не надо, но и своё не отдаст… Да что говорить, ради такого дела хоть сегодня пойду!
— Правильно, всем придётся идти! Не сидеть же сложа руки и смотреть, как иноземцы грабят твой дом и разрушают твой очаг, — согласился старшина.
— Все пойдём! — дружно ответили рыбаки.
Я не узнавал своих товарищей, с которыми жил бок о бок столько времени. Ещё вчера они проклинали войну, последними словами ругали правителей — Талята, Энвера и Джамала. А сегодня готовы были воевать сами.
Честно говоря, я мечтал только об одном: найти такое место, где не нужно было бы скрывать свою национальность, бояться каждого жандарма и полицейского.
Через несколько дней Турсун-ага предложил мне поехать в Стамбул. Там уже высадились оккупационные войска Антанты, и армян никто не трогал. Я согласился.
Старшина артели, вручая заработанные мною деньги, сказал много добрых напутственных слов, хвалил моё трудолюбие и пожелал удачи. Турсун-ага взялся проводить меня до Самсуна и там посадить на пароход.
Нет надобности описывать подробности моего путешествия. Не думайте, что я ехал как праздный пассажир. Работал всю дорогу — зарабатывал на проезд. Чтобы не тратиться на билет, Турсун-ага устроил меня матросом на маленький грузовой пароход, курсирующий вдоль черноморских берегов Турции. Через восемь дней я ступил на землю атаманских султанов.
После тихого рыбацкого посёлка, где кроме шума волн и крика чаек, не слышны были никакие другие звуки, Стамбул показался мне настоящим адом. В Босфоре, на открытом рейде, стояли военные корабли Антанты. В Галатском порту скрежетали железные краны, горланили сотни полуголых, чумазых амалов — грузчиков с сёдлами за плечами. Суетились пассажиры в пёстрых одеждах. Громко расхваливали свой товар бесчисленные лоточники и мелкие торговцы. Около бревенчатых, сколоченных на скорую руку харчевен слонялись пьяные матросы всех стран и наций, там же прогуливались накрашенные девицы. Справа, по так называемому Галатскому мосту, соединяющему европейскую часть города с азиатской, мчались грузовые автомашины, со звоном катились трамваи, проезжали нарядные кареты. Против моста блестели в лучах солнца позолоченные купола и высокие минареты знаменитого византийского собора Айя-София, превращённого завоевателями в магометанскую мечеть. У подножия собора, на самом берегу Босфора, раскинулся тенистый сад с вековыми деревьями. Я знал по книгам, что когда-то в нём собиралась византийская знать, философы и учёные.
Растерянный, ошеломлённый гулом огромного многоязыкого города, стоял я с узелком в руке на перекрёстке двух шумных улиц и не знал, куда идти.
Пошёл было к мосту, но здесь мне преградили дорогу и потребовали плату за проход. Отдав целых десять пиастров, я прошёл в азиатскую часть и очутился в лабиринте узких грязных улочек, напомнивших мне наш уездный город Орду.
Пройдя по торговым рядам, где продавали всё — от пёстрых ковров до живых кур и гусей, я добрался до сада и сел на скамейку.
Стемнело. Где-то заиграл духовой оркестр, сад наполнился гуляющими. Турок среди них почти не было — всё иностранцы, большинство военных. До полуночи я толкался среди этих господ и, когда сад опустел, растянулся на скамейке, положил под голову узелок и моментально заснул… Разбудил меня полицейский.
— Ты что, не знаешь, что здесь спать нельзя? — грозно спросил он.
Спорить с ним не имело смысла. Я схватил свой узелок и направился к выходу. Спустился к морю, нашёл укромное местечко под выступом скалы, лёг на песок и проспал до утра.
Со следующего дня начались мои мытарства. Где я только не был в поисках работы! Заходил в какие-то армянские благотворительные общества и землячества, говорил с разодетыми господами. Принимали меня вежливо, но никто никакого интереса к моей судьбе не проявлял. Просили оставить адрес и обещали известить, если подвернётся что-нибудь. Я стеснялся признаться, что ночую на берегу, и молча уходил…
Деньги подходили к концу, хотя я и питался одним хлебом. Ещё несколько таких дней, и пришлось бы голодать.
Однажды рано утром пошёл я на рыбный базар. В маленькой бухточке Балат, похожей на грязную лужу, теснились десятки фелюг, до бортов наполненных свежей рыбой. Полуголые рыбаки спешили сбыть улов перекупщикам. Они кричали, бранились, клялись, что продавать рыбу за такую цену всё равно что уступить даром, но перекупщики были неумолимы. При виде этой знакомой картины у меня ёкнуло сердце, даже запах рыбы показался родным!..
Долго толкался я на дощатой пристани, спрашивал каждого рыбака — не нужен ли работник? В ответ они качали головой, а один даже прикрикнул на меня: «Самому нечего есть!..» И всё-таки счастье мне улыбнулось. Морщинистый старик, услышав мой вопрос, поднял голову и внимательно посмотрел на меня.
— Раньше рыбачить приходилось? — спросил он. По его выговору я догадался, что старик — лаз, из района Риза. В его лодке сидел ещё парень, примерно моего возраста.
— Ещё бы! Сын рыбака и сам рыбак!
— Откуда родом? Я сказал.
— Погоди, кончится базар, потолкуем!..
Базар кончился скоро. Мой старик продал всю рыбу и позвал меня в лодку.
— Рассказывай, в каких краях побывал, где рыбачил и как очутился в Стамбуле.
Я коротко рассказал ему о себе то, что считал возможным, и, когда кончил, он сочувственно покачал головой.
— Всё в руках аллаха! — Старик подумал, потом сказал: — Стар я стал, все кости болят!.. Тяжело мне грести, тянуть сети… Нужен помощник. Если сойдёмся, то вы, вдвоём с моим сыном Ахметом, будете рыбачить. — Он кивнул в сторону парня. — А я доставлю на базаре столик — буду торговать. Поможет аллах — мы избавимся от собак-перекупщиков, они всю кровь нашу высосали! Лодка у меня ещё крепкая, сети надёжные, а рыбы в море много, нужно только уметь взять её!..
— Сумеем, отец, не сомневайтесь! — сказал я.
— Условия такие, — продолжал он, оставив мои слова без внимания, — кормиться будем вместе; если захочешь, можешь и жить с нами — места хватит. Барыш, за вычетом расходов на харчи, будем делить на шесть частей: две части — за лодку, одну часть — за снасти, остальное поровну, каждому по одной части. Сыты будем!
Условия были кабальные. Получалось, что придётся работать за одну еду. Однако в моём положении рассуждать не приходилось, и я согласился.
— Значит, договорились!.. Поможет аллах, и дела наши пойдут лучше. Подожди с Ахметом, пока я куплю еду, и поедем домой. — Он выбрался из лодки и, покряхтывая, направился к лавкам.
Ахмет показался мне симпатичным парнем, и я не ошибся. Мы с ним сдружились и жили потом, как братья.
— Тебе будет хорошо у нас! — заговорил Ахмет, когда я подсел к нему. — Отец мой, Шукру-ага, добрый, он и мухи не обидит!
— А как улов?
— Неважно… Отец быстро устаёт, вот нам и приходится промышлять в прибрежных водах. Если выйти в открытое море, можно ловить больше, — там много крупной рыбы.
— Почему не поставите парус?
— Денег не хватает: налоги совсем задушили. Кое-что ведь и домой посылать нужно. В деревне осталась мать с двумя моими сёстрами…
Вернулся с покупками старик, сел за руль, мы с Ахметом налегли на вёсла и скоро причалили к берегу, недалеко от старого моста.
Жили мои новые хозяева в такой же глинобитной лачуге, как и Турсун-ага. Вся обстановка этой полутёмной конуры, напоминавшей скорее сырую яму, чем человеческое жильё, состояла из двух деревянных топчанов с матрацами, набитыми морской травой, грубо сколоченного стола, двух табуреток и кованого сундука в углу.
— Сперва поедим, потом сколотим тебе кровать, — сказал Шукру-ага.
Так началась моя жизнь в Стамбуле…
Из затеи старика самому торговать на базаре ничего не вышло. Чиновники стали обкладывать его таким налогом, что всего нашего улова не хватало на его уплату. От торговли пришлось отказаться. Шукру-ага был набожным человеком и все беды приписывал воле аллаха, — он даже не подозревал, что чиновники из налогового управления действуют заодно с перекупщиками.
Я предложил попробовать доставлять свежую рыбу небольшим ресторанам и харчевням дешевле, чем это делали перекупщики. Обошёл десятка два ресторанов и портовых харчевен. Хозяева готовы были покупать рыбу у кого угодно, лишь бы она была
дешевле. Затруднение заключалось в том, что они ставили условие: рыба должна быть определённых сортов — кефаль, скумбрия, барабулька — и обязательно крупная. А разве рыбак может знать заранее, какая рыба попадёт к нему в сеть? Всё же мы попробовали и добились заметного успеха — мы стали зарабатывать в два раза больше, чем раньше, хотя мелкую рыбёшку приходилось уступать за бесценок или выбрасывать в море.
На первые же деньги, заработанные таким образом, поставили мачту, купили парус. Теперь мы с Ахметом смело выходили в открытое море и возвращались с богатым уловом.
Мы уже имели постоянную клиентуру, дела наши пошли хорошо.
Шукру-ага и вправду оказался добрым человеком. Считая, что я принёс ему удачу, он заботливо относился ко мне, старался не делать никакой разницы между мною и родным сыном, не говоря уже о том, что в срок и полностью выдавал мою долю заработка.
Когда ты сыт и у тебя есть работа, хорошо жить и в шумном Стамбуле!.. Там всегда ясное небо, яркое солнце и воздух насыщен каким-то особым ароматом. Как бы ни было тяжело на душе, — выйдешь на берег Босфора, растянешься на зелёной лужайке под тенью высоких башен древних византийских крепостей, взглянешь на голубую гладь моря — и сразу станет легче. Не зря ведь большинство стамбульцев мечтатели!..
Политикой я не интересовался и на многие явления жизни ответа не находил, хотя много думал, особенно по ночам. Бывало, забросишь сети, устроишься поудобнее на корме, смотришь в звёздное небо и думаешь, думаешь… Чаще всего я думал о несправедливости, существующей на земле… Вам, верно, известно, что все рыбаки немного мечтатели. Это оттого, что они часто остаются по ночам один на один с морем…
В свободное время я опять стал заниматься чтением. Началось с того, что я нашёл маленькую библиотечку во дворе армянской церкви, где за небольшую плату выдавали книги.
Вскоре я познакомился с человеком, сыгравшим в моей жизни большую роль. Дело было так. Около библиотеки, во дворе церкви, нередко собирались люди, главным образом молодёжь, спорили, говорили о самых разных вещах. Как-то вечером молодой человек с длинными волосами доказывал, что армяне обязаны отомстить — вырезать всех турок до единого! Даже процитировал стихи какого-то поэта о том, что потомки не простят нам, если мы забудем причинённое нам зло…
Обычно я молчал, слушая других, но тут не утерпел и вмешался в разговор.
— Если последовать вашему совету, — сказал я, — то на земле всегда будет литься человеческая кровь и никогда не наступит мир. И при чём тут турецкий народ? Одни турки убили моих родителей, а другие спасли мне жизнь. Сейчас я работаю тоже у турка. Если бы не он, пришлось бы подыхать с голоду. Нет, убийством многого не добьёшься!.. Нужно придумать что-то другое…
— Что же ты предлагаешь? — насмешливо спросил он.
— Вот этого я и не знаю, — тихо ответил я.
— Раз не знаешь, так и не лезь! — Он скорчил презрительную гримасу. — Тоже мне мыслитель нашёлся!..
Заговорил ещё один человек — средних лет, в скромной, опрятной одежде.
— Вы напрасно так грубо оборвали парня. Он ведь толково говорит. Мстя и убивая друг друга, люди действительно станут хуже диких зверей…
— Должно быть, вы придумали новый способ усовершенствовать человеческую натуру и установить мир между ягнятами и кровожадными волками! Расскажите, интересно послушать! — И молодой человек рассмеялся.
В ответ мой заступник заговорил о таких сложных материях, как социальные противоречия, классовый антагонизм, демократические права. Я ничего не понял.
Спор разгорелся, но мне было неинтересно слушать, и я вскоре ушёл.
На улице этот человек нагнал меня.
— Ашот, наборщик, — назвал он себя и протянул руку. — Ты молодец, правильно рассуждаешь! Нам не по пути с этими молодчиками-националистами, у нас другие интересы, — сказал он.
Тогда я не понимал, кто такие «мы» и какие могут быть у «нас» особые интересы. Но скоро, несмотря на разницу лет (он был лет на семь-восемь старше меня), мы сошлись очень близко, и при его помощи я понял многое. Ашот давал мне читать запрещённую литературу, много рассказывал, терпеливо разъяснял непонятное. От него я узнал и правду о вашей революции.
Хотелось немедленно поехать в Россию, увидеть всё своими глазами. Но я не знал русского языка, боялся, что будет трудно в чужой стране. И всё-таки стал хлопотать о паспорте. В полицейском участке, куда я обратился за разрешением на выезд, мне учинили форменный допрос — интересовались, не большевик ли я. А когда я сказал, что ни одного большевика и в глаза не видел, спросили — зачем же мне тогда ехать в большевистское царство, где люди умирают от голода и чуть ли не пожирают друг друга? В паспорте мне отказали. Но ведь за время своих скитаний я научился быть настойчивым. И на этот раз тоже решил идти наперекор судьбе и добраться до советской земли любым способом. Помог случай…
Наша лодка нуждалась в основательной починке. Ахмет решил воспользоваться этим и, пока её будут чинить, съездить домой — повидать мать и сестёр. Шукру-ага не возражал.
— Возьми меня с собой, — попросил я и поделился с ним своим планом добраться до советских берегов.
Он сразу согласился, только сказал, что ему жаль расставаться со мной.
— От нашей деревни до границы рукой подать! — говорил он. — В бурную погоду полицейские обычно носа не высовывают. Достанешь надёжную лодку — доберёшься!..
Мы с Ахметом сели на пароход и поехали к ним в деревню. Там никто не знал, что я армянин, иначе бы мне несдобровать. Ждать непогоды пришлось долго — десять дней. Шёл мелкий дождик, а шторма не было. И только позавчера, когда наконец разыгрался шторм, я сел в лодку и добрался к вам…
— Вот и всё! Теперь, если нужно, берите бумагу, пишите, я готов ответить на все ваши вопросы!..
— Вопросов у меня нет, — сказал я ему. — Хочу только сказать, что вы пошли на большой риск, ведь вы могли погибнуть…
— Нет! Я не для того так отчаянно боролся за жизнь, чтобы утонуть, когда цель была уже близка!
Мне нравился этот энергичный, уверенный в своих силах парень. И я не сомневался, что у нас он найдёт своё место в жизни.
Утром я пошёл к Цинбадзе и подробно рассказал ему о Микаэле Каспаряне.
— Что ты предлагаешь? — спросил председатель Чека.
— Дать ему провожатого и с вашим письмом отправить в Армению, — ответил я. — После стольких скитаний, унижений и борьбы за кусок хлеба он приехал к нам за правдой, — пусть же он увидит эту правду!»
Цинбадзе долго испытующе смотрел на меня.
— Пожалуй, ты прав… Пусть увидит нашу правду!
Он вызвал секретаря и продиктовал проект решения коллегии Чека, в котором говорилось, что Микаэл Каспарян — трудящийся и приехал к нам с добрыми намерениями; в порядке исключения освободить его от наказания за нарушение морских границ Грузинской Советской Социалистической Республики; учитывая, что он не знает русского языка, отправить его в Советскую Армению с провожатым…
— Ну как, Силин, доволен за своего подопечного? — Суровое лицо Цинбадзе озарилось доброй улыбкой.
— Очень доволен, и за Микаэла Каспаряна, и за нашу Советскую власть! — Я встал.
— Одну минуту, — остановил он меня. — Военкому поручено вручить тебе орден. Мы посоветовались с секретарём партячейки Нестеровым и приняли такое решение: просить военкомат сделать это в пятницу у нас, в красном уголке, на торжественном собрании сотрудников. Возражать не будешь?
От радости и смущения я покраснел.
— Вам виднее, как лучше…
Через день я провожал Микаэла на станцию. Пожелал ему счастья, посадил в вагон. Он до слёз был тронут нашим вниманием. Долго тряс мою руку, уверял, что в долгу не останется.
— В первый раз в жизни я чувствую себя человеком! — Эти слова ещё долго звучали у меня в ушах…
Жизнь идёт…
После получения награды я несколько дней ходил как именинник. Ежеминутно косился себе на грудь, где поблёскивал боевой орден…
Занятый повседневными делами, я как-то даже не заметил наступления весны. К тому же здесь всё было не так, как на моей родине. Не было таяния снегов. Серые облака поднялись, посветлели, в разрывах между ними показалось жаркое солнце. Море, словно устав бушевать, катило свои волны лениво, как бы нехотя. Зато неистовствовали белые чайки. С утра и до позднего вечера целые тучи их, радуясь весне, с весёлыми криками кружились над морем…
В эти весенние дни пришла телеграмма от Шурочки: она сообщала о дне приезда. Накануне я особенно тщательно почистил свою великолепную морскую форму, выгладил брюки, до ослепительного блеска надраил позолоту на капитанской фуражке. Комнату тоже убрал, даже полы вымыл. Купил цветы, поставил на стол. Вот только скатерти у меня не было!..
Заметив мои приготовления, Яблочко не преминул поиздеваться.
— Уж не собираешься ли ты жениться, друг? — спросил он, смеясь.
— Что вы, Иван Мефодьевич! Приезжает мой фронтовой товарищ — медсестра нашего полка Шурочка. Нужно же встретить её как следует!
— Ещё бы! Не Егор или Митрофан какой-нибудь, а Шурочка! Не шутка!..
За час до прибытия поезда я уже торчал на вокзале. Прохаживался по платформе, вспоминал первое знакомство с Шурочкой — в вагоне кашеваров во главе с Пахомовым. Мне казалось, что всё это было очень-очень давно — чуть ли не сто лет тому назад. А ведь на самом деле с того дня прошло немногим больше двух лет. Сколько перемен в моей жизни!.. В те годы люди взрослели быстро, — повзрослел и я…
Вдруг, словно из-под земли, вырос передо мной Гугуша с большим букетом цветов.
— Здравствуй, Гугуша! Ты тоже кого встречаешь? — спросил я, пожимая ему руку.
— Зачем встречать? Никого не встречаю! Узнал, что к тебе барышня приезжает, — Яблочко говорил. Принёс цветы из нашего сада. Подари, пожалуйста, — барышне приятно будет!
— Спасибо, друг, у тебя доброе сердце!
— Скажи, Ваня, очень она красивая?
— Как тебе сказать? Не знаю… Просто — человек хороший, настоящий товарищ. Мы с нею в одном полку воевали…
— Правильно, красота проходит, а человек остаётся. Главное, чтобы хорошая была! — Гугуша вздохнул.
Послышался паровозный гудок. Я побежал навстречу поезду. В дверях вагона показалась Шурочка. В шёлковом платье, в маленьких, изящных туфельках, она выглядела совсем по-другому, чем в гимнастёрке и сапогах. Если бы не золотистые волосы, развевающиеся по ветру, вздёрнутый нос и смеющиеся знакомые глаза, я бы её не узнал!
Она спрыгнула с подножки и очутилась около меня. Я молча протянул ей цветы.
— Скажите пожалуйста, какой галантный стал!.. И красивый какой!.. Знаешь, миленький, орден очень тебе к лицу! Кто мог подумать, что ты станешь таким бравым… сухопутным моряком!
Я взял её чемодан, повёл к выходу. А где же Гугуша? Исчез!..
В фаэтоне, по дороге в общежитие, Шурочка болтала без умолку.
— Рассказывай же, миленький, как живёшь, что поделываешь? Да, товарищи велели передать тебе поклон. В особенности Модест Иванович. Я так и осталась работать у него, — не думай, не секретаршей какой-нибудь. Я — оперуполномоченный, — не шутка. Челноков редкой доброты человек. Он тебя очень любит, огорчается, что редко пишешь… Что молчишь? Или не рад моему приезду?
— Что ты, я так ждал тебя!.. Странно как-то, привык видеть тебя в гимнастёрке, в сапогах, а тут…
— По-твоему, мне всю жизнь так и ходить в солдатской одежде? Не думай, нужно будет — опять надену, я не белоручка. Совсем забыла, — видела на улице твою зазнобу. Левон показывал. Красивая, ничего не скажешь. Говорят, ушла из дома, поступила на учительские курсы…
Мне было неприятно, что она говорила о Маро, и я обрадовался, что наш фаэтон остановился у дверей общежития.
Войдя в мою комнату, Шурочка огляделась.
— Ничего, живёшь чисто! Вот прибрать бы твою комнату, совсем бы хорошо было…
— Не понимаю, что тут ещё прибирать, — обиделся я. Мои старания, как видно, пропали даром.
— Неуютно у тебя… Впрочем, вы, мужчины, в этом плохо разбираетесь. Ладно уж, женишься — поймёшь… Покажи, где можно умыться?
Умывшись, Шурочка села за стол, достала маленькое зеркало и, старательно причёсывая волосы, спросила:
— Признайся, миленький, ты очень любил ту красивую армянку?
— Как тебе сказать, тогда казалось, что люблю…
— А здесь нашёл другую?
— Нет…
— Удивительно! Такой видный парень, а в любовных делах робкий. Не пойму, как это здешние девушки оставили тебя в покое?
— По-твоему, они сами должны были лезть ко мне?
— А что им делать, если ты сам такой недогадливый? — Шурочка, улыбаясь, посмотрела на меня. В её смеющихся глазах я уловил насмешку.
Мне пора было на работу. Я предложил Шурочке зайти по дороге в порт в кондитерскую — позавтракать. В коридоре общежития через полуоткрытые двери нас провожало несколько пар любопытных глаз…
Допив чай, Шурочка поднялась.
— А теперь покажи, миленький, где помещается Чека и горком партии.
— Зачем тебе?
— Дело есть, — она понизила голос. — Модест Иванович поручил выяснить здешние связи сына священника. Ты его знаешь, — бывший офицер, белогвардеец. Тот, который послал своему отцу эсерку Шульц.
— Неужели это дело ещё не закончили?
— Не совсем… После того как ты задержал Беллу в Тифлисе и её отправили к нам, молодчики раскололись — начали давать новые показания. Шульц взбесилась, назвала их молокососами и выложила всё начистоту. Оказывается, офицерик этот поддерживал связь с каким-то заграничным центром дашнаков, получал от них директивы, деньги и передавал националистской организации молодёжи. Понятно, действовал он не один, а вот кто помогал ему здесь — не говорит.
— Не представляю, как тебе удастся установить его связи? Времени ведь много прошло…
— Конечно, не легко, но можно… Жил же он здесь у кого-то на квартире, имел знакомых, друзей, встречался с ними… Попытаюсь! Да и местные — товарищи помогут. — Шурочка говорила как заправский разведчик.
Я проводил её до дверей Чека. Мы условились встретиться после работы в общежитии. Я пошёл в порт.
По дороге казнил себя за то, что был к ней недостаточно внимателен — больше молчал, а если говорил, то о пустяках. На работе тоже всё думал о Шурочке… С трудом дождался конца рабочего дня, побежал в общежитие. Комната моя преобразилась: книги были аккуратно разложены по полкам, кровать переехала в угол, а на столе была постлана белая бумага. У окна сидела улыбающаяся Шурочка, очень довольная впечатлением, которое на меня произвела убранная ею комната.
— Вот теперь я понял, что означает домашний уют! — воскликнул я, протягивая ей руки.
— Какой же это уют!.. У тебя же нет ничего! Столько времени живёшь здесь и даже занавесок не мог купить.
— Ладно! Это всё дело наживное!.. Пойдём лучше обедать.
— Может, дома поедим? Я хлеб купила, сыр есть…
— Нет, пойдём в ресторан! Отпразднуем твой приезд. Мы ведь теперь богатые, на жалованье. За контрабанду тоже кое-что перепадает. — Я достал из кармана пачку денег и показал ей. — Пошли!
— Сказать правду, не люблю ресторанов… Но раз ты хочешь… — Она поправила волосы, и мы вышли на улицу.
В ресторане «Италия» я заказал закуску, обед, бутылку сухого вина.
— Может, ты предпочитаешь сладкое? — спросил я.
— Всё равно! — Шурочка покачала головой. — Избаловался ты здесь… Тётушка Майрам хотела послать со мной вина, я отговорила: Ваня, мол, вина не пьёт. А ты…
— Как она там?
— Ничего, живёт себе. Всё тебя вспоминает. Не понимаю, почему люди так хорошо к тебе относятся?
— Потому, должно быть, что я хороший! Одна ты не понимаешь этого…
— Хвались! Может, кто и поверит…
Мы весело болтали, вспоминали минувшие дни. Прошлое ведь всегда кажется необыкновенным!.. Шурочка рассказала, что комиссар наш наконец осуществил свою давнишнюю мечту — уехал учиться. Остальные разбрелись кто куда: на завод, на шахты, в деревню. Об Акимове она ничего не знала. Слышала, будто он выписался из госпиталя полуинвалидом. Даже в наградном отделе ВЦИК не могли его разыскать, чтобы вручить орден.
После обеда пошли побродить по городу. Вечер был тёплый, и, на наше счастье, дождя не было. Шурочка, шагая рядом по зелёным улицам, по омытым дождём, отполированным белым камням мостовой, восторгалась:
— Какой чистенький, какой красивый городок!
В парке, куда мы зашли, играл оркестр. На эстраде какие-то артисты в поношенных цилиндрах пели пошлые куплеты, лихо отбивали чечётку. Нам стало скучно смотреть на их кривлянье, и мы ушли.
В кинотеатре «Фантазия» смотрели картину с участием знаменитого Дугласа Фербенкса и вернулись домой поздно ночью, усталые. Шурочка настежь распахнула окно. В комнату хлынул влажный свежий воздух. Она долго стояла у окна.
— Что ты там увидела интересного? — спросил я.
— Ничего. Просто люблю смотреть на освещённые окна, — там люди, у каждого своя судьба, своя жизнь…
— Философствовать глядя на ночь вредно! Пора спать… Ты устраивайся здесь, а я пойду к Ивану Мефодьевичу.
Шурочка быстро повернулась ко мне.
— Неудобно тревожить людей в полночь… Выйди на минутку, я разденусь. Потом ложись на свою кровать и спи себе на здоровье!
Я закурил папиросу и вышел в коридор. Кажется, никогда в жизни я так не волновался, как сейчас, даже папироса дрожала в пальцах. Первой мыслью было: зайти к Яблочко или вообще убежать из общежития. На худой конец, можно было пойти в порт, в свой кабинет, и устроиться на диване…
За дверью раздался голос Шурочки:
— Можешь войти.
Свет в комнате был потушен. Она, укрывшись одеялом, лежала на кровати.
Стоя у двери, я чувствовал на себе взгляд Шурочки.
— Иди ко мне! — прошептала она…
Утром мы избегали смотреть друг на друга и после чая сейчас же разошлись по своим делам. Встретились вечером. Пообедав в духане, пошли на берег моря, сели на камни. Долго смотрели, как огромное тёмно-красное солнце медленно погружается в воду.
Первым нарушил молчание я.
— Ты ведь не уедешь? — спросил я шёпотом, будто в этом пустынном месте нас могли подслушать.
— Как это — не уеду? — удивилась она.
— Останешься со мной… Станешь моей женой, — с трудом выдавил я из себя слова, которые целый час вертелись у меня на языке.
— Нет, этого никогда не будет.
— Почему?
— Я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы портить твою жизнь.
— Не понимаю…
— Мал ещё, потому и не понимаешь!.. Я знаю жизнь, — я старше тебя на целых шесть лет…
— Подумаешь, дело какое!
— Вот и подумай! Сейчас это кажется пустяками. Но пройдут годы, и ты пожалеешь. — Она говорила спокойно, не поворачивая ко мне лица.
— Не может быть, чтобы ты ушла!.. Подумай, что я буду делать без тебя?
— Ничего, дорогой. Погорюешь немного и позабудешь.
«Дорогой»… Впервые за всё время нашего знакомства!..
— Останься! Дороже тебя у меня никого нет!..
— Сейчас может быть. — Она встала. — Не будем больше говорить об этом… Пошли домой, свежо становится.
Думая каждый о своём, мы некоторое время шли молча. Она заговорила первой:
— Знаешь, миленький, плоховато вы работаете здесь. Жил у вас белый офицер, поддерживал связь с заграницей, а вы даже не поинтересовались его сообщниками!
— Это меня не касается, — ответил я, удивляясь, как она может говорить сейчас о делах.
— Как это не касается? Ты чекист… А вот я узнала любопытные подробности.
— Какие?
— Установила, где наш офицер квартировал, собрала кое-какие сведения и о квартирной хозяйке. Оказалось, что она вдова рабочего с нефтеочистительного завода. Муж её погиб на фронте. По всему видно, что офицер выбрал дом вдовы погибшего командира Красной Армии, чтобы отвести от себя лишние подозрения. Разыскала дом — и к хозяйке. «Скажите, пожалуйста, жил у вас такой-то?» — спрашиваю. Она оказалась женщиной приветливой, пригласила в комнату и полюбопытствовала: «Вы кем приходитесь ему, родственница или, извиняюсь, может, невеста?» — «Нет, говорю, ни то и ни другое. Я просто сотрудница Чека, и мне хотелось бы собрать о нём некоторые сведения». — «Разве он натворил что-нибудь? По виду такой тихий, воспитанный…» — «В тихом омуте черти водятся, говорю, он белый офицер, дослужился до чина штабс-капитана и застрял здесь, чтобы пакостить советской власти. Вы не знали, что он офицер?» — «Нет, что вы!.. Разве я пустила бы такого к себе домой? Он говорил, что советский служащий». Хозяйка обстоятельно ответила на все мои вопросы, в частности сообщила, что её жилец очень дружил с помощником начальника городской милиции, — как выяснилось, тоже бывшим офицером…
— Что думаешь предпринимать дальше? — спросил я. Во мне заговорил чекист.
— Ничего! Здешние товарищи сами доведут дело до конца!..
На следующий день Шурочка уехала.
В середине лета Цинбадзе буквально огорошил сообщением: центр предлагает перебросить меня на новое место — заместителем начальника губернского управления в один из важных экономических центров Юга.
— Лично я против, — сказал он. — Не потому, что сомневаюсь в твоих способностях, нет, — просто ты ещё нужен здесь. Было у нас предположение назначить тебя комендантом порта…
Я мог только растерянно пробормотать:
— А Иван Мефодьевич?.. Он ведь замечательный комендант!..
— Знаю! Но мы решили направить его в городскую милицию, начальником. Там аппарат малость засорён, нужна твёрдая рука, чтобы навести порядок.
— Согласится ли Иван Мефодьевич?.. Он прирождённый чекист и не захочет работать в милиции. Да и я вряд ли справлюсь… Лучше оставьте меня помощником!
— Не ожидал услышать от тебя такие рассуждения, — рассердился Цинбадзе. — Что значит — не захочет? По-твоему, милиция не орган Советской власти? Кто сказал, что там должны работать люди второго сорта?
— Но всё-таки…
— Никаких «но»! Все мы солдаты партии и обязаны работать там, где прикажут. Наша сила была, есть и будет в железной дисциплине. Впрочем, вопрос о работе Яблочко решён, поговорим о тебе. Насколько я понимаю, ты с работой в порту освоился, накопил опыт, парень ты грамотный, языки знаешь. Спрашивается, кому, как не тебе, быть комендантом? Тут имеется ещё одно соображение: дав тебе это назначение, мы сумеем удержать тебя здесь, — поставим центр перед совершившимся фактом. В ином случае тебя у нас заберут. Решай, товарищ Силин!
— Поступайте так, как найдёте целесообразным… Прошу об одном: если действительно захотите поручить мне работу коменданта, то, пожалуйста, сделайте это спустя некоторое время после ухода Ивана Мефодьевича! Иначе будет неудобно перед ним: человек принял меня, как брата, научил, а я…
— Добро, так и сделаем, — перебил Цинбадзе и отпустил меня.
Яблочко, узнав о своём новом назначении, дня три ходил сам не свой. Чертыхался, грозился, что скорее вернётся обратно на флот рядовым матросом, чем согласится работать в милиции. Даже письмо написал командующему Черноморским флотом, с которым воевал под Новороссийском. Но в конце концов покорился и принял дела городской милиции. Меня назначили исполняющим обязанности коменданта.
В порту дел было по-прежнему много. Без конца прибывали иностранные пароходы под флагами разных государств, продолжали уезжать от нас разные люди, однако прежней остроты в нашей работе уже не было. Нэп многое изменил в жизни страны, да и порядка и законности стало больше. Сейчас работники таможни и паспортных столов сами справлялись с делами, — нам оставалось контролировать и вмешиваться в их работу только в исключительных случаях.
Я остро переживал разлуку с Шурочкой — никак не мог заставить себя забыть её, хотя, хорошо зная её характер, понимал, что она ни за что не вернётся ко мне.
Особенно невыносимо тоскливо бывало по вечерам, когда я оставался в полном одиночестве в своём служебном кабинете или дома. Вокруг кипела жизнь, молодёжь веселилась, а я не знал, чем занять себя. В интернациональном клубе моряков было скучно, наш красный уголок обычно пустовал, в кинотеатрах показывали похожие одна на другую дурацкие ковбойские картины. Единственной моей отрадой было море. В свободные вечера я брал лодку, далеко уплывал и там, под звёздным небом, думал, мечтал… Казалось бы, жаловаться на судьбу я не имел никаких оснований, до сих пор всё складывалось как нельзя удачно. Будущее тоже не тревожило меня, и всё же в моей жизни чего-то не хватало. И я знал, чего не хватало: семьи, любви, дружеского участия в моей судьбе. И я страшно тосковал обо всём этом, — тосковал с той неодолимой силой, как это бывает только в молодости. Иной раз эту свою душевную тоску мне хотелось излить в музыке. Я шёл к Нине Георгиевне и по целым часам импровизировал на рояле, вернее, даже не импровизировал, а просто наигрывал знакомые мелодии. Но и это не помогало, я возвращался домой с ещё более растревоженной душой…
В августе неожиданно получил телеграмму из центра с предложением немедленно выехать в Москву.
Доложил по начальству, выправил документы и на следующий день уехал.
Поезд прибыл на Курский вокзал рано утром. Пассажиры, мои попутчики, быстро разошлись в разные стороны, а я, с маленьким чемоданом в руке, стоял на привокзальной площади, растерянный, оглушённый.
Мимо меня сновали тысячи людей, все куда-то спешили. С криком «посторонись» мчались извозчики-лихачи, проезжали нагружённые подводы, звенели трамваи. В ожидании случайной наживы с независимым видом прохаживались оборванцы, толкались беспризорники.
После нашего тихого и уютного приморского городка Москва ошеломила меня.
Взял извозчика и поехал на Лубянскую площадь. Дежурный по управлению приветливо встретил меня и, просмотрев мои документы, сказал, что в гостинице «Савой» для меня забронирован номер.
— Приведите себя в порядок и возвращайтесь сюда, — сказал он. — Времени у вас достаточно, товарищ Менжинский примет вас в двенадцать часов.
Неужели это правда? Меня примет сам товарищ Менжинский!
Номер мне отвели замечательный — с ванной, зеркалами, мягкой мебелью. Из латунного крана шла холодная и горячая вода. Не долго думая, я принял ванну, побрился и почувствовал себя другим человеком. Дорожной усталости как не бывало.
Без десяти двенадцать я сидел в приёмной одного из ближайших соратников «железного Феликса», руководителя советских разведчиков Менжинского. Ровно в двенадцать часов раскрылись массивные дубовые двери, и я с сильно бьющимся сердцем вошёл в небольшой, скромно обставленный кабинет. Менжинский встал из-за письменного стола и, пожимая руку, сказал:
— Здравствуйте, товарищ Силин! Вот вы, оказывается, какой! Признаться, я представлял себе вас значительно старше. — Он указал на кожаное кресло и сам сел напротив. — Рассказывайте, как вы там работаете в окружении импортёров, спекулянтов, валютчиков и отъявленных контрабандистов? Я читал донесение о том, как вы, использовав эту публику, спасли от голода большую группу беженцев. Здорово! — Менжинский от души, весело, по-молодому расхохотался. — Правильно, нажили деньги на мучениях людей, не грех и поделиться с ними!.. И за картины, которые сумели сохранить для народа, спасибо вам.
— Идея использовать спекулянтов принадлежит не мне, это товарищ Цинбадзе предложил, — сказал я, удивляясь его осведомлённости.
— Недостатка в хороших идеях не бывает, важно суметь их осуществить!
Мягкая улыбка и приветливость Менжинского успокоили меня. Я перестал волноваться и чувствовал себя совершенно свободно. Забывая, что у него на учёте каждая минута, долго и обстоятельно рассказывал о наших делах, упомянул и о том, что жизнь с каждым днём изменяется к лучшему и, значит, меняется и характер нашей работы.
— Хорошо, что вы замечаете, чувствуете перемены, которые происходят у нас в стране чуть ли не ежедневно!.. К сожалению, не все это понимают и продолжают работать по старинке. — Тень досады мелькнула на его усталом, чуть желтоватом лице. — Сейчас для нас, чекистов, самое важное, самое главное — не отставать от жизни страны, уметь работать в новых условиях и соответственно им изменять методы и приёмы нашей работы.
Я сидел не двигаясь, жадно впитывая в себя каждое его слово. А он говорил, словно думал вслух, о том, что гражданская война и военный коммунизм стали достоянием истории, началось главное — хозяйственное строительство, и от его успехов зависит всё: будущность революции, свобода и счастье грядущих поколений. Враги тоже понимают это, и теперь им нет смысла вступать в открытую борьбу с нами — это безнадёжное дело. Они будут всячески мешать нам, тормозить ход строительства, саботировать, а может быть, и вредить. У нас мало технически подготовленных работников, поэтому нам трудно вовремя разгадывать замыслы врагов и обезвреживать их. Мы должны, не создавая атмосферу недоверия к технической интеллигенции, не сковывая их инициативу, уметь отличать врагов от друзей.
Он замолчал, пристально глядя на меня, улыбнулся и сказал:
— Вот так-то, товарищ Силин! Нелёгкое дело быть чекистом… Мы вызвали вас сюда, чтобы поручить новую работу. Вы поедете в Донбасс заместителем начальника губернского управления. В Донбассе восстанавливаются старые шахты, заводы, скоро будем строить новые. Одним словом, работы непочатый край! Нужны вдумчивые работники. Обязан вас предупредить, Силин, — начальник ваш, Медведев, человек крутого нрава и не очень расторопный… Он, думаю, честен, но теперь отстал, не всё понимает и порой допускает ошибки. Постарайтесь поладить с ним, тактично и умело поправляйте его, когда это потребуется. Более подробно на эту тему с вами поговорит начальник отдела товарищ Митрофанов. Вернитесь к себе, сдайте дела и, не теряя времени, направляйтесь в Донбасс. Желаю успеха!
Менжинский встал, протянул руку. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Об отказе не могло быть и речи. Но что я понимал в хозяйственных делах? Как мог я справиться с такой сложной работой, да ещё под руководством начальника, которого нужно поправлять?..
— Извините меня… Я готов выполнить любое ваше приказание, но ведь в хозяйственных делах я ничего не смыслю, — отважился я сказать.
— Научитесь. Побольше читайте, советуйтесь со знающими людьми, не принимайте непродуманных решений.
Разговор был окончен. Я вышел из кабинета с неспокойным сердцем.
Начальник отдела Митрофанов, пожилой, с седеющими висками, беседовал со мной больше часа. Познакомил с обстановкой в Донбассе и предложил задержаться в Москве дня на два, на три — посмотреть кое-какие дела, имеющие отношение к моей будущей работе.
Когда я уходил, тот же дежурный остановил меня и спросил:
— Ну, как, Силин, довольны номером?
— Ещё бы!.. До сих пор мне не приходилось жить в таких апартаментах.
— Оно и понятно, — насколько мне известно, вы не знатного происхождения, — пошутил он и протянул мне несколько билетов: — Берите, два билета в Большой театр на сегодня, один в Художественный, один к Мейерхольду!.. — и добавил — Вам разрешено пробыть в Москве три дня. По истечении этого срока зайдите ко мне, отметите командировочное удостоверение и получите бронь на обратный проезд.
Я спросил, не поможет ли он мне связаться с курсами при ВЦИК. Мне очень хотелось повидаться с Костей.
— Это проще простого! — Дежурный позвонил по телефону, протянул мне трубку: — Говорите!
Костя оказался на занятиях, я оставил свой адрес и просил передать ему, что я здесь проездом и через три дня уезжаю.
На улице душно, пыльно. Беспощадно палило солнце. Я медленно шёл по Кузнецкому мосту, глазея по сторонам. Сколько же магазинов: мануфактурных, галантерейных, гастрономических! На вывесках крупными буквами обозначены фамилии владельцев. Нэп в полном разгаре. «Неужели эта чертовщина будет долго продолжаться?» — думал я с досадой. Противно было смотреть на сытые рожи торгашей.
Вернувшись в гостиницу, я с наслаждением встал под душ, а потом лёг на мягкую постель. Столько было сегодня волнений, что я чувствовал себя разбитым.
Проснулся от стука в дверь.
— Войдите! — крикнул я, ещё не совсем очнувшись от сна.
Вошёл статный, одетый во всё новенькое, с иголочки, военный. Костя!
— Здорово, Иван, дружище! Я уж подумал: не умер ли ты? Стучу полчаса!
Я вскочил с постели, обнял его.
И вот мы сидим у открытого окна. Мы не виделись давно, нам есть о чём рассказать друг другу. Солнце зашло, но на улице по-прежнему душно. За день асфальт и каменные дома так нагрелись, что от них пышет жаром, словно из горячей печи.
Волчок доволен своей судьбой. Им продлили срок учёбы до двух лет, в программу ввели много общеобразовательных предметов, и выпуск будет только в конце года.
— Вот когда пришлось пожалеть, что бросил школу! С русским языком и математикой туговато, но ничего, тянусь, — рассказывал он.
Мы перескакивали с одного предмета на другой. Костя был рад моим успехам, — он считал, что быть заместителем начальника губернского управления ОГПУ — дело большое и ответственное.
— Не то что наш брат, кадровый военный, — пошлют куда-нибудь в захудалый гарнизон — и тяни лямку!
А я в свою очередь завидовал ему: он несёт караульную службу в Кремле и чуть ли не каждый день видит Ленина.
Разговор переходит на «сердечные» дела. У Кости есть «мировая» девушка — красивая, умная, комсомольская активистка. Окончила пять классов и теперь работает на табачной фабрике Моссельпрома, — другой такой девушки в целом мире не сыскать!
О своих отношениях с Шурочкой я ничего не сказал ему…
Смотрю на часы, — пора собираться в театр, там сегодня «Лебединое озеро». Говорю Косте:
— Пойдём со мной, у меня два билета, послушаем музыку!
— Не могу! У меня увольнение до девятнадцати ноль-ноль.
Пока я одевался, он посмеивался над моим «пижонским» видом. Незадолго до отъезда я сшил себе тёмно-синий костюм, купил жёлтые полуботинки. На собственные деньги.
Разговаривая, дошли до Большого театра. Нас то и дело останавливали, спрашивали: «Нет ли лишнего билета?» Условились встретиться завтра после обеда у меня в номере. Костя зашагал по направлению к Красной площади, а я, предвкушая удовольствие, не спеша стал подниматься по широким каменным ступеням.
Пьянящее чувство радости охватило меня. Не похоже ли всё это на сказку? Я в Москве, иду в Большой театр!..
Под колоннами меня остановила девушка лет двадцати.
— Нет ли у вас лишнего билета? — спросила она. Я молча оторвал второй билет и протянул ей. Даже не поблагодарив, она пошла рядом со мной.
— Вы надолго в Москву? — спросила она, когда мы заняли свои места.
— Почему вы решили, что я приезжий?
— Хотя бы потому, что москвич пригласил бы в театр свою девушку, на худой конец — знакомого, — смеясь, ответила она.
Логика железная, ничего не скажешь!.. Оказывается, в каждом здравомыслящем человеке сидит скрытый разведчик, умеющий из сопоставления фактов сделать правильные умозаключения…
Только теперь я разглядел свою соседку. Подбритые брови, подклеенные ресницы, ярко накрашенные губы…
— Я живу совсем рядом, — шептала она, наклоняясь ко мне, — мама работает в ночной смене…
Яснее не скажешь! Стало до тошноты противно. Настроение, с которым я шёл в Большой театр, мгновенно улетучилось.
— Не имею привычки ходить в гости к незнакомым! — резко оборвал я её.
— Никто тебя и не приглашал! — Она бросила на меня уничтожающий взгляд. — Молокосос! Только время у людей отнимает! — поднялась и ушла…
Медленно гаснет свет. Начинается увертюра. Через несколько минут забываю обо всём на свете, и, уж конечно, о существовании своей недавней соседки…
После спектакля долго бродил по Тверской. Ночная прохлада привлекла на улицу множество людей, два встречных потока их медленно, без дневной суеты, текли вверх и вниз по улице.
Устав, я сел на скамейку, недалеко от памятника Пушкину. Чья-то заботливая рука положила букет свежих цветов у ног поэта. Полная луна освещала деревья бульвара, тень от них падала на посыпанные красным песком дорожки, вдоль которых, на скамейках, сидят, прижавшись друг к другу, влюблённые пары.
А я снова был один, и снова тоска сжала сердце. Не пойму, то ли от усталости, то ли от одиночества. Последние два года я работал очень много, напряжённо. И совсем, совсем у меня не было времени для личной жизни… Издалека доносится звон курантов Спасской башни. Полночь.
Утром в отделе, просматривая папки, я натолкнулся на дело известного инженера-металлурга, обвиняемого в экономической контрреволюции. Читая страницы, заполненные чётким почерком, я мысленно представлял себе этого человека — полного, с седеющей бородой, уверенного в себе.
На вопрос следователя: чего он добивался своей контрреволюционной деятельностью — инженер отвечал цинично откровенно:
«Я и мои друзья убеждены, что в гражданской войне победят большевики, поскольку за ними поголовное большинство народа, а у белогвардейцев не было идей и сколько-нибудь стройной программы. Но, не располагая инженерно-техническими кадрами, большевики неизбежно столкнутся с непреодолимыми трудностями, как только встанет вопрос о восстановлении хозяйства. Победа Советской власти в области экономики была бы для нас катастрофой и имела бы далеко идущее значение не только для дальнейших судеб революции, но, если хотите, для всего человечества. На практике подтвердилось бы учение Маркса. Разумеется, мы не могли допустить этого и решили помешать».
Ответ инженера лучше всякой инструкции помог мне понять свою главную задачу на новой работе. С таким убеждением я и уехал из Москвы.
Пока я сдавал дела вновь назначенному коменданту порта, Гугуша вертелся около меня. Наконец, улучив подходящую минуту, выложил свою просьбу:
— Послушай, Ваня, сделай, пожалуйста, милость — возьми меня с собой! Мне здесь трудно, понимаешь… Даю слово джигита — жалеть не будешь, не подведу, — сказал он.
— А как с Тамарой, она поедет с тобой?
— В другой город поедет. Как мама — не знаю.
Я обещал поговорить с Цинбадзе. Если он даст своё согласие, то я, приехав на место и осмотревшись, вызову Гугушу.
Зашёл проститься к Нине Георгиевне. На счастье, у неё оказалась Мария. Узнав, что я уезжаю, девушка побледнела. Пока я жил здесь, Мария избегала встреч со мной, а узнав, что уезжаю, разволновалась до слёз…
— Мария, вам жаль, что я уезжаю? — спросил я её, когда Нина Георгиевна вышла на минуту.
— Жаль, — ответила она, не поднимая глаз.
— Обещайте, что ответите, если я вам напишу!
— Обещаю, — тихо сказала она и добавила: — Пишите на адрес Нины Георгиевны.
На прощание старая учительница обняла меня, поцеловала в лоб.
— Желаю вам успеха, Иван! Будьте счастливы и послушайте моего совета: не бросайте музыку, — сказала она.
В духане толстяка Марганишвили сегодня вечером было особенно многолюдно: товарищи устроили прощальный ужин в мою честь. Столы составили вместе. На почётном месте восседал располневший за последнее время Яблочко в белом как снег кителе. Поначалу всё шло чинно, благородно, ребята вели себя сдержанно, мало пили. Один Иван Мефодьевич завладел вспотевшим графинчиком и с мрачным лицом глушил водку. Каждый раз, перед тем как выпить, произносились тосты. Особенно изощрялся Гугуша, — он мастер по части самых цветистых тостов. Если бы я мог хоть на минуту поверить словам моих друзей-сослуживцев, то я зазнался бы и потерял голову! Оказывается, я отличаюсь такими добродетелями, о которых и сам не подозревал!
Запахло жареной бараниной, на столе появились шампуры с дымящимся шашлыком. Духанщик притащил целый бурдюк отличного вина.
Веселье продолжалось до поздней ночи. И я пил вино, смеялся и шутил со всеми, но на душе было неспокойно. Открывалась новая страница жизни, а что напишется на ней — кто знает?..
Мой поезд отходил в девять тридцать, и ложиться спать не имело смысла. Всей компанией отправились на берег моря, искупались. Холодная вода — лучшее отрезвляющее средство. Яблочко продемонстрировал нам высший класс ныряния и заплыва на дальние дистанции.
Зашли в общежитие, захватили мой чемодан и пошли на вокзал. На перроне Иван Мефодьевич расчувствовался.
— Ты хоть и не моряк, Силин, но из нашей породы, не пропадёшь! — сказал он, обнимая меня.
Черноглазый мальчик лет четырнадцати принёс мне букет алых роз и тотчас убежал. Я догадался, что их прислала Мария, — кроме неё, в этом городе некому было сделать мне такой прощальный подарок, от которого у меня дрогнуло и заныло сердце.
Поезд тронулся, увозя меня навстречу новым делам и заботам, а может быть, и новым радостям…
Мои друзья, стоя на перроне, долго махали мне.
Испытание
Над городом — чёрный дым, пахнет гарью. Несмотря на ранний час, душно. Я стою у открытого окна отведённой мне квартиры, смотрю на улицу и думаю. Впервые в жизни я чувствую, что попал к совершенно чужим людям. До сих пор мне встречались добрые, отзывчивые товарищи, готовые всячески помочь новичку, научить его, облегчить ему первые шаги на новом месте. А здесь встретили меня недружелюбно, даже, можно сказать, враждебно.
Начальник управления, атлетического телосложения человек, всей своей неуклюжей фигурой оправдывающей свою фамилию Медведев, принял меня сухо.
— Говорят, ты из образованных, — сказал он. — Что ж, это неплохо. Теперь нас, старых вояк, не особенно жалуют. Мы ведь институты не кончали, грамоте учились на медные гроши.
— Я тоже институтов не кончал, — отпарировал я. Тон его не понравился мне.
— Как же, тут в характеристике сказано, что ты шибко грамотный, знаешь языки! — Он достал из ящика письменного стола мою анкету и ещё раз заглянул в неё.
— Для этого не обязательно кончать институт!
— Ладно, это к делу не относится. Давай с самого начала определим наши взаимоотношения, чтобы потом не вышло недоразумений. Я подчиню тебе три ведущих отдела. Но ты не воображай, что прислан сюда комиссаром. Начальник здесь я, и ты не должен принимать никаких важных решений без моего согласия. Понял?
— Не совсем. Не понимаю, при чём тут комиссар? Я прислан сюда, чтобы вместе с вами охранять интересы рабоче-крестьянской власти, и, разумеется, знаю, что вы мой начальник.
— Говоришь ты складно, посмотрим, что дело покажет! — Медведев отпустил меня, даже не познакомив с общей обстановкой в области.
Очень скоро я убедился, что Менжинский имел все основания не слишком лестно отзываться о Медведеве. Резкий, грубый, он вообразил себя диктатором и не допускал возражений. О том, чтобы поговорить с работниками по-товарищески, выслушать их совет, не могло быть и речи. Все вопросы он решал
единолично, то и дело слышен был его бас: «Я знаю, я приказал, я так считаю». Он из всего делал величайшую тайну и неохотно информировал даже губернские партийные организации о наших делах. Любимыми его изречениями были: «Чекистом быть — это тебе не щи лаптями хлебать» или «Мы тоже не лыком шиты! Хоть в школах и не учились, но знаем, что к чему».
Вторым заместителем у него был Зеликман, выходец из мелкобуржуазной среды. Он знал литературу, любил музыку, сам немного играл на флейте. В противоположность Медведеву, Зеликман был мягок и обходителен. Страдая язвой желудка, соблюдал строжайшую диету, тщательно следил за своим здоровьем и старался ни во что не вмешиваться. Такой заместитель вполне устраивал властолюбивого Медведева. Про моего предшественника рассказывали, что он терпел-терпел грубости начальника, потом стало ему невмоготу, — он разругался с Медведевым и уехал.
Среди начальников отделов и сотрудников были хорошие, знающие дело люди, но, задёрганные Медведевым, работали они вяло, особой инициативы не проявляли.
Помня наказ Менжинского постараться найти с Медведевым общий язык, я на первых порах молчал. Нужно было вникнуть в обстановку. В этом неоценимую помощь оказал мне начальник одного из отделов, бывший студент Свирский. Мы с ним просиживали до поздней ночи, читали донесения с мест и знакомились с оперативными сводками.
По сводкам и донесениям выходило, что в губернии всё благополучно. На её обширной территории, на которой сосредоточены важнейшие экономические объекты страны, нет ни тайных организаций, ни контрреволюционных групп. Одно из двух: или их нет в действительности, что маловероятно, или враги так замаскировались, что мы не можем напасть на их след…
И сколько-нибудь крупных происшествий тоже нет — только мелкие диверсии. Начальник станции Дружковка, некий Козлов, отправил на переплавку большую партию остродефицитных железнодорожных костылей и этим затормозил ремонт дороги. Козлова арестовали… На шахте «Глория» заактировали двадцать вагонов крепёжного материала, полученных из далёкой Архангельской губернии, и раздали рабочим как топливо. Проверкой на месте было установлено, что крепёж вполне пригоден, хотя и не первого сорта. Тут угадывалась хитро продуманная комбинация: с одной стороны, «облагодетельствовать» рабочих, снабдив их дровами, в которых была большая нужда, с другой — приостановить на некоторое время работу шахты…
По этому делу арестовали несколько человек. Но следствие затянулось: обвиняемые доказывали, что это неоправданный риск — пускать в дело сомнительный крепёж. Экспертиза, проводимая с помощью местных специалистов, давала противоречивые заключения, но большинство высказывалось в пользу обвиняемых. Таким образом, не были вскрыты полностью все обстоятельства и факт умышленного вредительства остался недоказанным.
Спекуляция у нас процветала. При большом количестве всяких частных предпринимателей: булочников, кустарей, лавочников, разносчиков и маклеров, — продающих всё, в том числе воздух и дым, иначе и быть не могло!
Я имел любопытный разговор с одним маклером.
— Скажите, чем вы торгуете? — спросил я его.
— Всем! — был невозмутимый ответ.
— Нельзя ли конкретнее?
— Пожалуйста! Покупаю и продаю скот, уголь, хлеб, металл, мануфактуру, даже музыкальные инструменты. Одним словом, всё, на чём можно заработать.
— У вас, должно быть, есть контора, склады, перевалочные пункты?
— Ничего подобного. Я только посредник и товар в глаза не вижу. Узнаю, что такому-то требуется, скажем, лес или уголь, подыскиваю продавца, свожу их и получаю с обоих свой куртаж. Так называется вознаграждение за труды.
— Где же вы берёте уголь, металл? Ведь частных заводов и шахт в стране нет?
— Наивный вы человек, гражданин начальник! — усмехнулся мой собеседник. — Там, где пахнет наживой, всё можно купить. Были бы у меня большие деньги, я мог бы купить персидскую шахиню!..
— Это как раз не так уж трудно, а вот где берут ваши клиенты уголь и металл, вы не ответили.
— Везде найдутся люди, мечтающие красиво пожить, — они комбинируют и продают. Понятно, я вам их не назову, — честь коммерсанта не позволяет мне это!
— Какая, к чёрту, честь! — не вытерпел я. — На простом языке это называется спекуляцией, продажей краденого!
— Ах, гражданин начальник!.. Весь мир держится на таких комбинациях. Почему я должен быть исключением? За идеи обед и вино не подают!..
Чтобы лучше ознакомиться с делами на местах, я побывал на заводах, на шахтах, беседовал с множеством людей. Меня поразило удивительное благодушие, царившее всюду. Даже среди партийных работников существовало мнение, что враги революции окончательно разгромлены и сейчас никто не осмелится выступить против Советской власти.
Мои взаимоотношения с Медведевым складывались поначалу не плохо. Я старался не противоречить ему, а он терпел меня, хотя и не испытывал ко мне особой симпатии. Однако вскоре начались открытые столкновения с ним.
На крупной шахте «Южная-бис» произошёл сильный взрыв.
К счастью, обошлось без человеческих жертв, но шахта надолго вышла из строя. Виновником взрыва оказался молодой техник по фамилии Осетров.
Во время допроса он признался, что во всём виноват. Экспериментировал — хотел ускорить проходку, но ошибся в расчётах.
Следователю дело Осетрова показалось предельно ясным, и он не стал больше утруждать себя. Так и появилось заключение, в котором следователь обвинял Осетрова в умышленном вредительстве и требовал для него пятилетнего тюремного заключения.
При рассмотрении дела я усомнился в правильности заключения следователя, попросил отложить решение и дать возможность провести доследование.
— Брось мудрить, Силин, — хмурясь сказал Медведев. — Чего тут ещё доследовать? Человек сам признался, что взрыв произошёл по его вине.
— А почему вы не допускаете, что он действительно хотел ускорить проходку и ошибся в расчётах?
— Допустить всё можно!.. Вопрос совершенно ясен, и нечего разводить канитель. У нас и так до черта незаконченных дел!
Я сказал, что буду вынужден написать особое мнение. Тут-то Медведев и показал свой характер. Швырнув мне папку с делом Осетрова, он заорал:
— На, займись, если тебе больше нечего делать! Начинаются интеллигентские штучки!
— При чём здесь интеллигентские штучки? Нужно установить истину. Неужели вы не понимаете, что, осудив Осетрова неправильно, мы оттолкнём от себя всех честных инженерно-технических работников, лишим их инициативы? — спросил я.
— Куда уж нам понимать такие тонкости, мы в институтах не учились! — Медведев оседлал своего любимого конька.
На этом вопрос был исчерпан, мы перешли к рассмотрению других дел.
Голоса говорящих доходили до меня словно издали, и я никак не мог сосредоточиться и понять, о чём идёт речь. Меня занимал другой вопрос: как дошёл до такой жизни этот человек, каменной глыбой восседающий за столом председательствующего, облечённый большой властью над людьми? Ему важнее всего на свете собственная карьера и благополучие. Пусть будет всё спокойно и тихо, пусть не останется незаконченных дел, а что в спешке могут быть осуждены невинные люди — не важно. Логика простая: лес рубят, щепки летят!.. Хорошо, что Медведевых единицы. А что будет, если со временем их станет больше? От одной этой мысли сжималось сердце… Ради установления истины Модест Иванович Челноков не спал ночей, он скорее дал бы отрубить себе руку, чем осудить невинного. А Яблочко — простой, не очень дальновидный человек — лучше всякого ясновидца умел отличать Друзей от врагов. Они оба и тысячи им подобных без позы, без громких слов посвятили жизнь служению народу, не требуя ничего для себя. Откуда же берётся эта сорная трава?..
Дело Осетрова приобрело для меня принципиальное значение. Одно из двух: или я никудышный чекист, или в этом деле есть нечто такое, в чем сразу не разберёшься. Если отбросить версию, что Осетров честный человек и только ошибся, тогда остаётся другое: он действовал не один, но не хочет выдавать сообщников. Одному с организацией взрыва в шахте не справиться!..
Прежде чем вызвать Осетрова для допроса, я поехал на шахту «Южная-бис». Катастрофа оказалась серьёзнее, чем я предполагал. Передо мной была мёртвая, залитая водой шахта. Сотни людей, вместо того чтобы добывать уголь, откачивали воду.
Глядя на эту картину, я ещё и ещё раз осознал всю меру ответственности, возложенной партией на нас, чекистов. Известно ведь, что один человек коробкой спичек и бидоном керосина может свести на нет труд тысячи людей. Чтобы этого не случилось, мы обязаны быть во сто крат бдительнее. Наши промахи и ошибки слишком дорого обходятся стране. Мы не можем, не имеем права ошибаться.
Рабочие, с которыми я беседовал, отзывались об Осетрове как о толковом специалисте, честном, скромном человеке. А пожилой шахтёр, участник гражданской войны, на мой прямой вопрос, что он думает о случившемся, пожал плечами.
— Трудно сказать, — ответил он. — Осетров вроде был наш человек, работал честно, старался, и с людьми обращался обходительно, не то что другие спецы… А вот видите, что получилось? — Он показал рукой на шахту.
— Неужели он сознательно пошёл на такое дело?
— Вряд ли, не похоже… Впрочем, разве в чужую душу влезешь? Другой так замаскируется, что его не скоро раскусишь. В гражданку был у нас один офицер, ротой командовал. Год с лишним воевал с нами, дважды ранен был, а под конец перебежал к своим… Так что всякое бывает!..
…Ночь, ветер колышет занавески на окнах моего кабинета. Тихо, город давно спит. Разошлись по домам и сотрудники. А я сижу за письменным столом и до боли в глазах ещё и ещё раз перечитываю дело Осетрова, — как будто мёртвые строчки на белой бумаге могут заговорить и сказать правду. Об этом человеке я знаю всё, хотя ещё и не разговаривал с ним. Самая обыкновенная биография. Сын луганского телеграфиста, учился в реальном училище, любил природу, мечтал стать специалистом по лесному делу. Не удалось. Вместо этого перед самой революцией окончил Луганский горный техникум, работал в разных шахтах по специальности. Год назад его перевели сюда, на шахту «Южная-бис». Холост, в армиях не служил. Особых склонностей ни к чему не имеет, любит читать книги, главным образом про путешествия. В бога не верует, Советской власти сочувствует. От общественной работы отлынивает, на собраниях выступает редко…
Жизнь как у многих, — что можно извлечь из этих данных? Как угадать, что у человека в душе?..
Устав от чтения, беру телефонную трубку и прошу дежурного коменданта прислать ко мне арестованного Осетрова для допроса.
Минут через десять в кабинет входит длиннолицый, высокий молодой человек. Он смущённо озирается по сторонам, выжидательно смотрит на меня. Я предлагаю Осетрову сесть.
Предупреждаю его, что это не допрос, а скорее знакомство. Для убедительности убираю со стола бумаги. После этого начинается обычная в таких случаях беседа.
Лоб у Осетрова высокий, глаза голубые, вдумчивые. Прежде чем ответить на вопрос, он молчит, собирается с мыслями, говорит медленно. Но вот в какой-то момент теряет самообладание.
— Я же сто раз повторял, что во всём виноват один я! — устало и раздражённо говорит он. — Чего же вы хотите от меня?
— Установить обстоятельства и причину взрыва. Поймите, нам ничего не стоит осудить вас, — мягко замечаю я. — Нам важно узнать истину.
— Осудите! Я заслуживаю самого сурового наказания, даже…
— Что — даже?
— Расстрела!
— Неужели вы так дёшево цените свою жизнь?
— Устал я, понимаете?.. Чем сидеть в клетке, как затравленный зверь, отвечать на бесконечные вопросы, лучше уж сразу пулю в затылок и покончить со всем!.. Думаете, мне легко? Хотел сделать лучше, а получилось чёрт-те что — надолго вывел шахту из строя! Говорят, её даже водой залило…
— Залило, — подтверждаю я.
— Ну вот!.. Наверно, правы старики, когда говорят, что не нужно быть слишком самонадеянным…
Нет, Осетров на вредителя не похож. Но чего-то он не договаривает…
— Скажите, как вы проводили свободное время? — Мне хочется отвлечь его, успокоить, прежде чем перейти к главному вопросу.
— Не понимаю, какое это имеет отношение к делу?
— Хочу иметь более полное представление о вашей жизни!
— Ну… читал книги, иногда катался на велосипеде… Случалось, выпивал. Больше от скуки…
— Вы сказали, что хотели сделать лучше. Не поделитесь ли со мной своими замыслами?
— Не хотелось бы мне говорить на эту тему…
— Напрасно!
— Мало ли какие замыслы зарождаются в голове у людей? Важен результат!.. Раз он никчёмный, то и говорить не о чем…
— Люди, занимающиеся исследованиями, нередко ошибаются, терпят неудачу. Нельзя же за это их казнить! Без дерзания остановился бы всякий прогресс, движение вперёд. Разве не так?
— Так, конечно, — кивает он головой и задумывается. — Видите ли, при проходах обычно применяется взрывной метод, но на очень короткое расстояние. Работа замедляется. Я задумался над вопросом: нельзя ли расширить фронт взрыва?
— И что же?
— Организовал взрыв одновременно в трёх местах. Результат вам известен: получился обвал, да ещё шахту водой залило… Может быть, ошибся в расчётах или недостаточно хорошо изучил породу…
— Скажите, Евгений Петрович, прежде чем осуществить свой эксперимент, вы консультировались с кем-нибудь?
— В том-то и дело, что консультировался с крупными специалистами горного дела и они в основном одобрили мою идею. Но, знаете… не хочется впутывать в это дело других людей, — они ещё могут пострадать за мои ошибки!
Маленький проблеск, нащупывается новая нить!.. В самом деле, разве нельзя допустить, что Осетров всего лишь орудие в чьих-то умелых руках? Разумеется, можно!.. Но, как часто повторял Челноков, грош цена самому блестящему умозаключению, если за ним не последует доказательство.
— Ну что вы, где это видано, чтобы специалистов привлекали к ответственности за консультацию! — сказал я, пожимая плечами.
Осетров провёл рукой по лбу, как бы отгоняя мучившие его мысли.
— В такого рода делах я плохо разбираюсь, не знаю, кто за что отвечает, — сказал он. — К тому же мои консультанты ничего определённого не советовали — они одобрили мою идею в принципе…
— Они действительно знающие специалисты?
— Ещё бы, старые горняки!.. Главный инженер шахты и его помощник по технике безопасности. Тоже инженер…
Чтобы не испугать Осетрова, я не стал задавать ему новые вопросы. Всё нужно было распутывать самому, причём начинать приходилось совсем с другого конца.
— На сегодня хватит! Мы с вами ещё увидимся, Евгений Петрович, — сказал я и позвал часового.
— Можно обратиться к вам с просьбой? — неожиданно спросил Осетров.
— Пожалуйста.
— Прикажите, чтобы мне дали, если, конечно, это можно, книгу под названием «Подземные проходки в шахтах». Её можно найти в любой технической библиотеке… Хочу ещё раз кое-что проверить…
— Завтра вам доставят эту книгу, — обещаю ему, а сам думаю: «Не плохо бы и мне прочесть её, хотя вряд ли я что-нибудь. пойму»…
Светает. Нужно хоть немного поспать. Утром меня ждёт множество неотложных дел. Выхожу на улицу, медленно бреду домой.
Не знаю почему, мне, одинокому человеку, отвели трёхкомнатную квартиру на центральной улице, недалеко от управления. Занимал я одну комнату, с балконом, — остальные пустовали. Квартира обставлена казённой мебелью, довольно уютная. Убирает её молчаливая тётя Валя. Она же по утрам приносит мне свежие булочки, варит кофе. Обедаю я в ресторане, а об ужине говорить не приходится, — схвачу что-нибудь в нашем буфете, благо он работает до одиннадцати часов. Сегодня совсем забыл про ужин, и сейчас хочется есть. На кухне нахожу чёрствую булку, отламываю кусок и жую. Зажечь керосинку, вскипятить чай — лень…
Только к вечеру следующего дня я смог вернуться к делу о катастрофе на шахте «Южная-бис».
На столе передо мной лежали личные дела главного инженера этой шахты Преображенского и его помощника Сетеева, а также кое-какие дополнительные сведения о них.
Преображенский — типичный инженер дореволюционной формации. Сын священника, он окончил горный институт, работал по найму. Хорошо зарабатывал, жил в собственном доме на широкую ногу. Сетеев учился в Бельгии, был акционером угольной компании. Во время войны служил в царской армии в чине подполковника инженерных войск. О службе в белой армии сведений не было. Кроме акций, Сетеев потерял в годы революции крупную сумму денег, вложенную им в Русско-Азовский банк. Словом, у него есть все основания быть недовольным Советской властью.
Оба инженера дали довольно туманные объяснения о причинах катастрофы. Между строк обвинили в этом техника Осетрова, но тут же добавили, что с его стороны это был не более как производственный риск.
Вызывать их для допроса нельзя — напугаешь. На первых порах приказываю установить за ними наблюдение.
Хорошо бы освободить Осетрова и проследить, как на это отреагируют Преображенский и Сетеев. Но, к сожалению, это не в моей власти!..
Пошёл к Медведеву, — он со своими секретарями и помощниками занимает весь четвёртый этаж. Канцелярия его охранялась тремя дополнительными постами, хотя в этом не было никакой надобности: проникнуть к нам в здание без пропуска нельзя.
Я доложил ему о ходе следствия по делу Осетрова, высказал некоторые свои соображения и попросил разрешения освободить техника из-под ареста.
— Ты что, в своём уме? — Медведев с таким удивлением уставился на меня, словно перед ним сидел сумасшедший.
— В своём, — спокойно ответил я.
— Здорово живёшь! — Медведев расхохотался. — Интересно, как же ты думаешь отчитываться? Произошла большая авария, шахту вывели из строя, а виновных обнаружить не удалось. Один признался, да и того мы отпустили. Так, что ли, напишешь?
— Мы же не для отчёта тут сидим!.. Придёт время, обнаружим виновников или вдохновителей Осетрова, тогда и доложим.
— Не фантазируй, Силин! И не дури голову православным людям. Никаких подлинных виновников или вдохновителей ты не обнаружишь, потому что их нет. Может быть, этому сопляку технику действительно захотелось блеснуть. Посмотрите, мол, какой я — всех инженеров за пояс заткнул!.. Ну и чёрт с ним, шахту-то он вывел из строя!.. Давай заканчивай следствие и представь заключение.
— Но ведь тем самым мы дадим возможность подлинным врагам водить нас за нос! — пытался я возражать.
— Вижу, начитался ты всяких книг про умных разведчиков и взлетел за облака!.. Спустись на грешную землю и пойми, что нам Шерлоки Холмсы ни к чему. Так-то!.. Потом учти, Силин, начальник здесь я, и ты будешь делать то, что я тебе прикажу.»
Я смолчал и на этот раз. К сожалению, у меня не было фактов, которые я мог бы противопоставить мнению этого самонадеянного человека.
Через несколько дней произошли важные события, которые дали следствию совершенно новое направление.
Началось с пустяков. Позвонил мне начальник губернской милиции и сообщил: на каком-то полустанке с пассажирского поезда спрыгнул человек с портфелем в руке. Путевому обходчику удалось задержать его и доставить в дорожное отделение милиции. Задержанный оказался известным ростовским вором-рецидивистом Григорьевым, по кличке Шустрый. В портфеле обнаружили значительную сумму денег, иностранную валюту, паспорт, удостоверение сотрудника ВСНХ Воробьёва и какие-то письма.
— Можно сказать, обычное железнодорожное воровство. Я не стал бы тебя тревожить, если бы не валюта. Может, поинтересуетесь? — спросил начальник милиции.
— Безусловно! Очень прошу прислать ко мне задержанного и портфель со всем содержимым, — попросил я. — Хорошо бы сделать так, чтобы никто здесь не знал об аресте вора! — Эта мысль пришла мне в голову в последнюю минуту.
…Большая сумма денег и иностранная валюта в портфеле сотрудника ВСНХ, едущего, по-видимому, в служебную командировку! Что бы это могло означать?
Связной принёс новенький объёмистый портфель, запечатанный сургучной печатью, и сообщил, что Григорьев-Шустрый сдан коменданту.
Отпустив связного, я сорвал печать и выложил на стол содержимое портфеля… В нём оказались тысяча новеньких червонцев, семь тысяч американских долларов, два письма, удостоверение личности на имя старшего экономиста ВСНХ Воробьёва Николая Александровича и его паспорт. С фотокарточки, наклеенной на удостоверение личности, на меня смотрел круглолицый, с обвисшими щеками пожилой человек в пенсне.
Спрятав деньги и документы в несгораемый шкаф, взялся за изучение писем.
Первое письмо:
«Уважаемый Валерий Юрьевич!
Пользуясь случаем приезда к вам Н. А., посылаю часть своего долга. Прошу извинить великодушно, что немного задержался, — не было оказии. Я и наши друзья опечалены тем обстоятельством, что лекарство действует медленно. Не кажется ли вам, что необходимо применять более действенные средства? В вашем возрасте так относиться к собственному здоровью по меньшей мере недопустимо. Мы полны решимости помочь вам во всём. Рад буду получить от вас обнадёживающую весточку.
Ваш И.».
Второе письмо было напечатано на пишущей машинке и адресовано некоему Альфреду Оскаровичу:
«Рад известить вас, что Александра Петровна наконец-то избавилась от своих недугов и снова всерьёз взялась за дело. Нефть и уголь объединились, и это сулит большие перспективы. Наша договорённость с вами остаётся в силе, — теперь весь вопрос заключается в масштабах.
Воздействуйте, пожалуйста, на В. Ю. Он, как видно, растерялся и на всё махнул рукой. Между тем сейчас нет ничего важнее, чем здоровье. В затратах не стесняйтесь, поддержим всячески.
Надеюсь, скоро увидимся, о времени извещу дополнительно.
Дорогой друг, вся надежда на вас, желаю вам больших успехов!
Остаюсь ваш Ю.».
В том, что оба письма зашифрованы, я не сомневался. Ясно было и то, что они принадлежали одному и тому же автору, — это доказывала одна и та же манера излагать свои мысли. Но почему первое письмо написано рукой и подписано «И.», а второе напечатано на пишущей машинке и под ним стоит буква «Ю.»? О чьём здоровье так печалятся таинственные «И.» и «Ю.»? Кто такая Александра Петровна и от какого недуга она избавилась? Где объединялись нефть и уголь и кому это сулит большие перспективы? Кто такие Валерий Юрьевич и Альфред Оскарович, чем они занимаются, где живут? Наконец, что за долги и откуда берутся такие большие деньги, в том числе иностранная валюта, для их покрытия? Ясно, что долги — это миф, но для каких целей предназначены деньги?
Такие и десятки других вопросов вихрем проносились в голове. Я не мог сидеть на месте, встал, зашагал по кабинету. Помощи ждать было не от кого, — нужно рассчитывать на собственные силы.
Я наметил предварительный план действий: найти старшего экономиста ВСНХ Воробьёва, установить, куда он ехал, с кем встретился. Выяснить, кто такие Валерий Юрьевич и Альфред Оскарович. А там видно будет, — как говорится, «на деле и разум явится»…
Приказал привести Григорьева-Шустрого. Вошёл высокий, стройный, загорелый человек средних лет, с тонкими чертами лица, маленькими, аккуратно подстриженными усиками, в модном сером костюме. Он был похож на кого угодно, только не на вора.
— Садитесь!
Шустрый развалился в кресле, положил ногу на ногу, попросил:
— Разрешите закурить?
— Курите. — Я подвинул к нему коробку «Казбека».
— Благодарю вас! — Он закурил.
— Надеюсь, вы не откажетесь ответить на некоторые интересующие меня вопросы? — обратился я к нему.
— Всегда готов! — ответил он с улыбкой хорошо воспитанного человека.
— Расскажите коротко о себе и подробно о том, каким образом очутился у вас этот портфель. — Я кивнул в сторону портфеля, лежавшего на столе. — Едва ли следует напоминать вам, что находитесь вы не в уголовном розыске.
— О, разумеется!.. Зовут меня Василий Павлович Григорьев. В определённом кругу больше известен как Васька Шустрый. Тридцать два года, холост, родился в Ростове-папа, — простите, хотел сказать — в Ростове-на-Дону!.. Из мещан. Окончил пять классов коммерческого училища, родители мои хотели, чтобы я стал честным коммерсантом, но злодейка судьба определила иначе. Промышляю главным образом на железных дорогах, мелочами не занимаюсь. Имею три судимости и два побега. Прошу заметить, что всё это было при старом режиме!.. Полагаю, эти данные дают вам достаточно полное представление о моей скромной личности… Теперь по второму пункту… Купил билет на поезд Москва — Баку, разумеется, в международном вагоне. Форс в нашем деле имеет большое значение. Определённого плана не имел, — так, решил испытать счастье… Признаться, особой необходимости в этом не было. За последнее время, с появлением денежных тузов — нэпманов, дела наши идут отлично, и в средствах нужды не испытываем. Но — работа есть работа!.. Занял своё место. Вечером пошёл в вагон-ресторан — для наблюдения. Знаете, за рюмкой водки или бокалом вина люди лучше познаются… Сижу за столиком, пью пиво, посматриваю по сторонам — жду своего счастья. Входит толстенький солидный человек с портфелем в руке. Ставит портфель на стол и спиной упирается в него…
У меня слегка стучит сердце, как у охотника, когда тот замечает дичь. Займусь, думаю, толстяком, — у него в портфеле находится именно то, что может меня интересовать. Иначе за каким чёртом тащить портфель с собой в ресторан?
После ужина узнаю, в каком купе едет толстяк, даю проводнику трёшку и перехожу в купе по соседству. Вагон пустой, проводнику совершенно безразлично, кто какое место занимает!..
Вы, верно, знаете, что в международных вагонах один умывальник на два купе. Очень удобно, знаете, — мне этим приходилось пользоваться не раз!.. На рассвете, когда сон у людей особенно крепок, тихонько захожу в умывальник, своим ключом открываю соседнее купе… Толстяк развалился, сопит, портфель под подушкой. Аккуратненько беру его, — в этом у меня большая сноровка, — закрываю двери и ухожу к себе. Портфель полон денег, но считать некогда. Оставаться в поезде опасно: толстяк может проснуться в любую минуту и, конечно, первым делом хватится портфеля…
Недалеко от какого-то полустанка поезд делает крутой поворот и замедляет ход. Спрыгнул я удачно, но напоролся на путевого обходчика. Он оказался опытным — дал мне подножку и, когда я упал, навалился на меня, скрутил руки, связал и доставил в милицию. Вот вам и вся эта грустная история. Обидно, конечно, что операция, проведённая с таким блеском, завершилась так глупо!.. Ничего не поделаешь, в жизни ведь всякое бывает…
— Вы случайно не узнали, куда ехал ваш толстяк?
— Почему — случайно? Знаю определённо, он ехал к вам сюда!
— Если увидите его на улице, узнаете?
— Случись встретиться с ним через пять лет, и то узнаю. У меня отличная память на лица…
— Ещё один вопрос: скажите, что вы делаете с документами, которые попадают вам в руки?
— Обычно мы их подбрасываем.
— Каким образом?
— По-разному, смотря по обстоятельствам. Иногда посылаем хозяину по почте, чаще опускаем в почтовый ящик — в адрес бюро находок. Бывает, что просто бросаем на улице…
— Отлично! А теперь выслушайте меня. Надеясь на вашу добросовестность, хочу обратиться к вам с просьбой…
При моих последних словах он оживился.
— Можете надеяться как на каменную гору!
— Возможно, я вас выпущу. В конечном итоге вы не прикарманили чужих денег…
— Приятно слышать умные речи, — перебил он меня.
— Но с условием, что вы в точности выполните всё, что я скажу. Пойдите в гостиницу — у нас в городе она одна — и установите, остановился ли там ваш толстяк. Если его там не окажется, походите по улицам, — может быть, встретите его. Необходимо узнать его адрес!.. Второе: документы и письма, которые я вам вручу, подбросьте так, чтобы они непременно попали ему в руки. И — никому ни слова о том, что вас задержали с портфелем! Ясно?
— Как дважды два!
— Деньги у вас есть?
— К сожалению… в милиции вместе с портфелем отобрали и мои личные деньги. Их было около двухсот семидесяти целковых.
— Вам их вернут. А теперь подождите немного! — Я запер его в смежной с моим кабинетом комнате.
Вызвал работника лаборатории, попросил сфотографировать документы Воробьёва, снять копии с двух писем, увеличить его фотокарточку и размножить в нескольких экземплярах. Пока лаборант занимался всем этим, я вместе с бухгалтером заактировал найденные в портфеле деньги и сдал в кассу.
Начальник губернской милиции отнёсся не очень сочувственно к моему предложению: вернуть Григорьеву деньги и самого его не трогать.
— Так надо! — коротко сказал я ему и добавил: — Дайте, пожалуйста, указание, чтобы на время забыли о Шустром. Хочу сказать — до совершения им нового преступления!..
Начальник милиции потребовал письменного распоряжения, и я вынужден был послать ему такую бумагу.
Григорьев, получив конверт с документами, отправился выполнять моё поручение. Не ограничиваясь этим, я вручил начальнику пять увеличенных фотокарточек Воробьёва с приказом установить местопребывание экономиста.
Поздно ночью Григорьев пришёл ко мне домой и сообщил: Воробьёв остановился в гостинице, занимает сорок восьмую комнату на третьем этаже. Конверт был подброшен в вестибюле, его тут же нашёл портье и лично вручил Воробьёву.
Наутро эти сведения подтвердились и через наши источники. Сверх того мы узнали, что Воробьёв получил по телеграфу три тысячи рублей.
Получив документы, он, видимо, успокоился, решив, что был жертвой простого ограбления. Он встретился со своими друзьями, что дало нам возможность легко установить, кто был адресатами писем. Владимиром Юрьевичем оказался наш старый знакомый Сетеев, а Альфред Оскарович работал главным геологом угольного треста.
Запросили Москву, — оттуда нам сообщили, что Воробьёв Николай Александрович действительно работает старшим экономистом угольного отдела ВСНХ.
Теперь обо всём этом деле у меня сложилось определённое представление. В Москве действует хорошо законспирированная контрреволюционная организация, делающая ставку главным образом на специалистов. Весьма возможно, что она связана с заграницей, — на это указывают, в частности, и американские доллары, найденные в портфеле. «Александра Петровна» — не что иное, как условное название заграничного центра. Организация стремится создать надёжные группы в промышленных районах и преследует цель всячески помешать экономическому возрождению страны. Сетеев и Альфред Оскарович представители Москвы в нашем городе, а Воробьёв один из агентов. Пользуясь своим служебным положением, он выполняет функции связного.
Сомнений в том, что мы случайно нащупали нить, ведущую к разветвлённой подпольной организации врагов, не оставалось. В этом согласен был со мной и Свирский. Наша задача заключалась в том, чтобы не спешить, не допустить ошибок и не оборвать эту нить преждевременно.
Пришлось снова докладывать начальнику. На этот раз Медведев не перебивал меня и выслушал доклад с большим вниманием. На его самодовольном лице появилось даже некое подобие улыбки.
— Что ж медлишь? Выпиши ордера и арестуй всех троих! У нас-то они заговорят, выложат всё, мы их заставим, — сказал он.
Это было как раз то, чего я больше всего боялся!
— Ни в коем случае!
— Ну, тогда скажи своё мнение.
— Арестовав их, мы порвём единственную нить, которую держим в руках. Допустим, что они заговорят и выдадут ещё кое-кого, в чём я сомневаюсь. Но можно ли предположить, что они знают всех? Там, в Москве, тоже не дураки сидят и, нужно полагать, приняли меры против полного провала всей организации. Таким образом, мы задержим пешек, а главари останутся, чтобы продолжать своё подлое дело. Нет, нужно вырвать их с корнем!
— Удивительно, до чего у тебя развита фантазия! Учти, в молодости всегда так — всюду мерещится грандиозная контрреволюционная организация в мировом масштабе. Раскрою, мол, я её и прославлюсь на всю страну! Со мной, признаться, тоже так бывало, но со временем, слава богу, прошло. Почему ты не допускаешь мысли, что деньги двум инженерам прислало бывшее акционерное общество угля? Кстати, оно перебралось в Париж.
— А письма?
— Письма тоже ведь можно толковать по-разному. Возможно, что в них речь идёт о совершенно безобидных вещах, а мы думаем чёрт-те что!.. В нашей практике всякое бывало, — думаешь, держишь в руках зашифрованное письмо, а там действительно бабушка заболела. — Медведев настаивал на своём, и я не мог не признать, что в его словах была некоторая логика. Может, я действительно придумал всякие небылицы? Но факты-то говорят о другом!..
— Допустим на минуту, что вы правы. В таком случае не лучше ли проверить всё до конца и убедиться, что никакой опасности нет? — сказал я ему.
— Вот я и предлагаю: посадить Воробьёва и тех двух специалистов и проверить! — подхватил Медведев.
Во мне всё кипело. Нужно же быть таким упрямым ослом!
— Повторяю: этим мы ничего не достигнем, скорее, испортим всё дело!
Терпение у Медведева иссякло.
— Послушай, Силин, спустись ты, ради всех святых, на грешную землю и не мути воду! — резко сказал он. — Давай прекратим этот разговор. Пока что я отвечаю за свою губернию и не допущу, чтобы здесь фокусничали.
— А разве другие губернии, вся страна не наши?
— Демагогией не занимайся. — У Медведева злобно сузились глаза.
Я встал. Наступил решительный момент. Или я должен уступить ему и потом всю жизнь раскаиваться и презирать себя, или продолжать наступление без особой надежды на успех.
— Товарищ Медведев, демагогией я не занимаюсь и разговариваю с вами об очень серьёзных вещах, — проговорил я. Голос у меня дрожал. — Больше того, я решительно настаиваю на своём и прошу разрешения вести это дело по намеченному мною плану. Если вы не согласитесь со мной, я буду вынужден уехать.
— Ну и уезжай, скатертью дорога! — заорал он. Так ни до чего и не договорились. Страшно болела голова, на сердце было муторно… Чёрт возьми, бывает же такая ситуация, когда приходится плавать с завязанными руками и ногами! А может быть, я переоцениваю свои силы?
Сел и написал письмо в Москву знакомому начальнику отдела. Я и раньше писал ему, но это были обычные донесения о наших делах. На этот раз, излагая подробности моего столкновения с Медведевым, я просил совета.
Зашёл Зеликман. Он устало опустился в кресло.
— Что у вас опять произошло с Медведевым? — спросил он после непродолжительной паузы.
— Ничего особенного! Очередное несогласие в вопросе о методах и приёмах ведения дел, — ответил я, понимая, что Зеликман пришёл ко мне не случайно.
— Послушай, Силин, вот тебе мой дружеский совет: не связывайся ты с ним!.. Медведев человек мстительный и ни перед чем не остановится, чтобы насолить тебе.
— За совет спасибо. Но, к сожалению, воспользоваться им не могу и Медведева не боюсь!.. Вы что, хотите, чтобы я стал Ванькой-встанькой? Меня хотя и зовут Иваном, однако для такой роли я не гожусь. Нашему начальнику важнее всего на свете тишина и спокойствие в губернии, где он работает. А на то, что мы можем провалить дело большой государственной важности, ему наплевать! — Я внимательно смотрел на Зеликмана, чтобы понять, какое впечатление произведут на него мои слова. Он отвёл глаза.
— А что ты думаешь? Каждый руководитель обязан прежде всего заботиться о своём участке работы, иначе чепуха получится! И если хочешь знать, дела у Медведева идут не так уж плохо. Во всяком случае, больших происшествий во всей губернии не наблюдается…
— Это смотря что называть большими происшествиями! — Я вытащил из папки несколько донесений за последние дни. — А это как назвать? Вот послушайте: на металлургическом заводе отгрузили в адрес частного владельца метизного завода два вагона дефицитной мелкосортной стали. В то же время наряды на отгрузку металла этих профилей государственным предприятиям не выполняются… На шахте «Светоч» продали какому-то дельцу, по фамилии Аникеев, десять вагонов отборного антрацита марки АК, а начальник железнодорожной станции Хохлов предоставил под погрузку внеплановый порожняк. Это не первый случай, когда на шахте «Светоч» продают частным лицам уголь без наряда!.. В районе Макеевки в течение двух месяцев сотни людей работали на закладке новой шахты. Потом выяснилось, что геологи ошиблись: угля там не оказалось и шахту нужно было закладывать совсем в другом месте… На разъезде Дальняя разгрузили большое количество шахтного оборудования, купленного в Германии. Полгода оно валяется под открытым небом, ржавеет и портится. Довольно или ещё читать? — спросил я у Зеликмана. — Нас обманывают, обкрадывают, заставляют пускать на ветер народные деньги, умышленно портят импортное оборудование, а вы говорите, что больших происшествий не наблюдается!.. Сейчас не двадцатый год, и врагам не под силу выступать против нас с оружием в руках и организовывать перевороты. Но то, что они делают под сурдинку, может быть похуже открытой борьбы! Неужели это так трудно понять?
— Я своё мнение высказал, а там смотрите сами, — уклонился Зеликман от прямого разговора. Он встал, налил в стакан воды из графина и запил какой-то порошок.
— Вместо того чтобы высказывать мнение, вы лучше заняли бы определённую позицию! — сердито сказал я.
— Куда мне! — Он махнул рукой и вышел.
Разговор с Зеликманом был в какой-то мере сигналом, что борьба с Медведевым начинается не на шутку. Конечно, я тоже мог махнуть на всё рукой — подать рапорт и уехать. Не сработался с начальником — и всё тут. Однако чем ещё, кроме малодушия, можно было бы объяснить такой поступок?
Нет, не для того я стал чекистом, чтобы отступить перед первым препятствием. Борьба так борьба!
Враги не дремлют
И вот снова осень… С порывами ветра в окна бьют крупные капли дождя, будто кто-то стучит пальцем по стёклам. Настоящий потоп — вода залила все улицы. У меня в комнате тепло, тихо, только сухие дрова весело потрескивают в печи.
Сегодня суббота. Я освободился пораньше, сходил в баню и сейчас сижу, смотрю на огонь. На столе шумит самовар, — это уж постаралась тётя Валя.
Мне немного грустно, одиноко… Музыку я давно забросил, — куда там! Даже читать некогда. Если и удаётся изредка выкроить час-другой перед сном, то стараюсь читать техническую литературу — о шахтном строительстве, о добыче угля, о доменных печах. Это необходимо для моей работы. Нельзя же во всём довериться специалистам, нужно и самому хоть немного разбираться. Как жаль, что я не инженер!..
Только что прочитал два письма. В одном Гугуша пишет, что в комендатуре стало совсем тихо, идут разговоры о ликвидации её. «Нашему бывшему начальнику приходится туго, — сообщает Гугуша. — Он всё воюет со всякими примазавшимися типами, но не унывает. При встречах Яблочко часто вспоминает тебя и говорит, что хоть сегодня пошёл бы на любую чекистскую работу. По секрету: он, кажется, скоро женится, хотя всячески скрывает это от всех. Мне случайно удалось увидеть его избранницу, — она по всем статьям подходит к нашему начальнику: здоровая, краснощёкая украинка. Послушай, дорогой, неужели ты забыл своё обещание, почему до сих пор не берёшь к себе? Здесь мне дышать нечем, понимаешь?»
Так кончал Гугуша своё письмо.
С превеликим удовольствием добился бы я его перевода к нам, но Медведев не согласится. Он и так подозревает, что я подкапываюсь под него, а тут ещё приглашаю на работу «своего» человека!
Вчера Медведев вызвал меня к себе и потряс в воздухе только что полученной шифровкой. Из Москвы предписывали: «Ни в коем случае не подвергать аресту Воробьёва и остальных. Усилить наблюдение. Доносить ежедневно. К вам выезжает сотрудник центрального управления Астапов. Окажите ему содействие».
— Твоя работа? — спросил он.
— Моя! — с чистой совестью ответил я. — Хотя какая же это «работа»? Просто информировал Москву…
— Ловко работаешь, молодец!.. Ничего, ничего, мы ещё постоим за себя… Не туда замахнулся! Когда ты без штанов под стол ходил, мы революцию делали, понял? — Он был в ярости и, кажется, если бы имел малейшую возможность, посадил бы меня за. решётку.
Наши сотрудники тоже взбудоражены. Спаянного коллектива у нас нет. Одни поддерживают Медведева, стараются не заходить ко мне, а когда я их вызываю, держатся отчуждённо. Другие выжидают — чья возьмёт? Есть и такие, которые верят мне, но, к сожалению, их немного и они ведут себя осторожно. Секретарь нашей партячейки давнишний друг Медведева, от него мне помощи ждать не приходится. Один Свирский по-прежнему держится твёрдо, открыто осуждает поступки начальника, но он собирается уехать от нас. Больше всего меня возмущает Зеликман, — непонятно, как такой бесхребетный человек стал чекистом?
Всё это мешает аппарату нормально работать. Не исключена возможность, что из-за наших внутренних неурядиц мы упускаем что-то важное. Все понимают: так долго продолжаться не может, однако никто не знает, чем это кончится.
Пришло письмо от Марии. Она честно выполняет своё обещание и аккуратно отвечает на мои послания. Странная девушка, — даже в письмах она верна себе! Вот и сейчас пишет: «Мы с Ниной Георгиевной читали ваше письмо». Почему с Ниной Георгиевной?! Будто одна она не может читать мои письма!.. И дальше: «Приятно слышать, что вы здоровы и на новом месте чувствуете себя хорошо. Рады будем видеть вас, если когда-нибудь соберётесь к нам…» Опять — во множественном числе!
Нет, не везёт мне с девушками!.. Встретил Шурочку и не заметил её, а когда заметил, оценил, она ушла от меня. Маро замечательная девушка, и я женился бы на ней, если бы не обстоятельства… Мария тоже нравится мне, но попробуй найди с ней общий язык! Была бы Мария попроще, я не задумываясь поехал бы за нею. Нужно же когда-нибудь обзавестись семьёй! Мало радости жить одному…
Здесь тоже есть девушка, которая нравится мне. Зовут её Еленой. У неё густые тёмно-каштановые волосы, голубые глаза. Она дочь шахтёра, работает в горкоме комсомола. Начитанная, приветливая и простая. Мы познакомились на городском собрании актива комсомола, где я делал доклад. После собрания мы как-то случайно пошли вместе. Я проводил её до дома, — у них свой домик на окраине города.
Елена рассказала мне о себе. Отец у неё коммунист, работает на шахте забойщиком. Мать малограмотная, занимается домашним
хозяйством. Семья большая: у Елены три сестры, два брата, оба шахтёры. Сёстры маленькие, учатся в школе. Она сама окончила пять классов, потом пошла работать в шахту откатчицей, была секретарём комсомольской ячейки, а недавно её перевели в горком. Думает учиться — хочет стать врачом.
Мы встречались ещё дважды. Елена пригласила меня домой, хочет познакомить с родителями.
Завтра пойду к ним. Почему не завести знакомство с хорошими людьми? К тому же интересно побеседовать с шахтёрами в домашней обстановке, узнать, что делается у них на шахте…
Налил себе чаю. На тарелке, под салфеткой, лежат бутерброды с колбасой и сыром, но есть не хочется. Колбаса и сыр надоели мне до смерти. С удовольствием поел бы чего-нибудь домашнего!..
Телефонный звонок. Дежурный по управлению просит срочно прийти.
Всегда так: выкроишь свободный вечерок, думаешь отдохнуть или почитать — обязательно что-нибудь да стрясётся! А то и среди ночи поднимут… Выходных дней у нас тоже нет. Если хочешь куда-нибудь пойти, обязан оставить адрес.
Эти правила не распространялись на одного Медведева. Он заядлый охотник и рыболов. По субботам берёт машину, нагружает её провизией, напитками и уезжает с друзьями на два дня. Пьёт он зверски, — говорят, для него пол-литра водки — что слону дробинка. Нужно отдать ему справедливость: он ни разу не появлялся на работе нетрезвым.
Быстренько одеваюсь, натягиваю сапоги, кладу в карман револьвер, беру непромокаемый плащ и выхожу на улицу. Дождь ещё не перестал, но вызывать машину нет смысла — до управления всего три квартала.
Дежурный докладывает: на металлургическом заводе серьёзная авария. В результате неисправности трубовоздуходувки шихта запеклась и домна номер три надолго вышла из строя.
Это большое несчастье. Я уже знаю, что означает запекание шихты в доменной печи. Простой на месяц, а то и больше…
Вызываю машину и отправляюсь на завод. Ночь тёмная, дорога плохая, дождь хлещет не переставая. Машина качается, как лодка в семибалльный шторм, и я невольно вспоминаю свою поездку в погранпункт, на допрос перебежчика… Ночь была такая же, но времена другие, да и дела попроще — не то что теперь!..
Наш уполномоченный уже допрашивал механика трубовоздуходувки в кабинете начальника цеха.
Долговязый парень лет двадцати трёх волнуется, часто глотает слюну. Заступая на дежурство, он всё проверил, — механизмы были в полном порядке, воздуходувка работала нормально, термометры показывали нужную температуру. Есть запись, можно проверить. Вдруг из домны поступает сигнал: нет воздуха. Кинулись к запасной машине, а она оказалась в неисправности, хотя в журнале об этом ничего не было записано. Пока бегали, искали причину, домна вышла из строя…
— Нашли причину? — спрашиваю я.
Парень качает головой.
— Нет, — отвечает он сокрушённо. — Видать, где-то трубы закупорились. А может быть… — он умолкает и испуганно смотрит на меня.
— Что — может быть? — переспрашиваю его.
— Может, ремонтники забыли чего… Или какая-то сволочь нарочно сунула…
Мастер воздуходувки подтверждает слова механика. Ничего нового он добавить не может.
Собрался весь командный состав завода во главе с директором и главным металлургом.
Я предлагаю директору немедленно проверить всю систему. Где нужно — разобрать трубы и установить причину прекращения подачи воздуха. Он соглашается со мной и даёт необходимые приказания. Отзываю в сторону нашего уполномоченного и приказываю: установить, кто работал во второй смене, записать фамилии ремонтников, слесарей и всех, кто имел отношение к воздуходувке, не исключая инженеров…
В ожидании результатов проверки мы сидели в жарко натопленном кабинете и курили. Никому не хотелось говорить.
Наконец пришёл начальник цеха и сообщил: в основном канале обнаружена целая ватная телогрейка. Она была потрёпанная, засаленная. Видать, подача воздуха не сразу прекратилась, вата постепенно набухала и закупоривала весь канал.
— Скажите, как долго могла оставаться эта телогрейка в трубе? — спросил я его.
— Трудно сказать! Во всяком случае, не более двух-трёх суток.
— Могли бы слесаря случайно или по небрежности забыть в канале эти концы?
— Нет. Такой вариант исключается.
— Почему телогрейку не выдуло? В трубах ведь сильный напор воздуха!
— Она была зажата соединительной муфтой…
— Ещё один вопрос: какую неисправность обнаружили во второй, запасной машине?
— В разных местах было отвинчены трубы…
Диверсия! Сомневаться в этом не приходилось. Нужно найти виновника или виновников, но как? Около воздуходувки в три смены работали десятки людей, — попробуй установи, кто из них сделал такую подлость!
Вместе с нашим уполномоченным я пошёл в главный административный корпус. У начальника стола найма и увольнения перебрал все карточки работающих в воздуходувном цехе. Всё напрасно, — что можно узнать из сухих, ничего не говорящих записей? Сидоркин, из деревни Н., слесарь; Мотов — разнорабочий, тоже из деревни, на заводе работает четвёртый месяц…
Вызвали начальника цеха. Он указал на двух подозрительных рабочих. Один из них, Агапов, имеет вид вполне интеллигентного человека, но почему-то работает простым слесарем. Другой, Наседкин, из бригады ремонтников, угрюмый, малоразговорчивый, держится особняком, ни с кем не общается. Приехал из деревни, — похоже, из кулаков…
Разумеется, арестовать людей только за то, что у одного интеллигентная внешность, а второй малоразговорчив и угрюм, по меньшей мере смешно. Но нужно было зацепиться хоть за что-нибудь, и я приказал уполномоченному задержать Агапова и Наседкина и доставить их в управление…
Договорившись с директором завода, что он пришлёт нам подробный акт о причинах аварии, я вернулся в город.
Начинался тусклый, сырой, скучный рассвет — такие часто бывают на юге поздней осенью.
Приехав к себе, решил хоть немного поспать. Снял сапоги, лёг на диван… Нет, не спится! Допустим, мы найдём виновников аварии и накажем их. Но как сберечь другие заводы, фабрики, шахты от подобных актов умышленного вредительства? Нельзя же прикреплять ко всем ремонтным бригадам наших сотрудников, нельзя охранять каждую машину!.. Очевидно, нужны другие, более действенные меры. Прежде всего необходимо опираться на местные партийные организации. Необходимо поднять массы, пробудить в них чувство бдительности. Мобилизовать комсомол, молодёжь, профсоюзы, — иначе нам не справиться!..
Позвонили из управления и сообщили, что привели двух задержанных на заводе людей. Пришлось идти.
Агапов действительно имел вид интеллигентного человека.
— Кто вы такой? — спросил я его довольно сурово.
— Был семинаристом, теперь научился слесарному делу, — ответил он, не задумываясь.
— Странно! Семинарист — и вдруг слесарь!
— Не попом же мне быть!
— Могли бы и подыскать себе более чистую работу.
— Делопроизводителем? Подшивать никому не нужные бумаги? Избави бог! Меня интересует механика, надеюсь со временем стать инженером.
Держался он свободно, на вопросы отвечал без запинки. Признался, что был семинаристом, хотя мог легко скрыть это.
— Об аварии на заводе слышали?
— Слышал!
— Что вы думаете по этому поводу?
— Вы, вероятно, подозреваете меня, поэтому и арестовали. Напрасно. Я хоть и сын священника, но сочувствую Советской власти. Если хотите знать, горжусь тем, что нам, русским, выпало на долю заложить основы нового общества, о чём веками мечтали лучшие умы человечества!
— Как, по-вашему, могла произойти авария?
— Какой-то мерзавец напакостил. А кто именно, не могу себе и представить… Знаете, на что это похоже? Огромный локомотив везёт по рельсам большой состав, а кто-то цепляется за последний вагон, хочет остановить поезд!.. Тупицы! Не понимают, что история имеет свои законы. Они могут что-то испортить, вывести из строя машину, даже целый завод. Но как им остановить ход истории? Напрасные потуги!
Задерживать Агапова дольше не имело смысла, и я приказал отпустить его.
Наседкин был совсем другим. Обросший, неряшливо одетый, грязный, он тупо смотрел в одну точку и молчал. Чтобы получить от него сколько-нибудь внятный ответ, приходилось затрачивать много сил.
— Ну, крестьянин… ну, приехал на заработки… Земли мало и лошадки нету… Авария? Не знаю, не слыхал… Посадите? Ну и что ж такое, какая разница, где спать? — вот, примерно, его ответы.
Скрепя сердце пришлось отправить его в камеру, хотя не было никакой уверенности, что он причастен к диверсии.
Свирский принёс новые данные по делу Воробьёва.
— Вчера, под видом вечеринки, у Сетеева собрался весь технический цвет города и кое-кто из районов. Кроме самого хозяина были Воробьёв, Альфред Оскарович, Преображенский, некий Маслов. В общем, человек десять. Список у меня. Сидели недолго — в десять часов разошлись. О чём шла у них речь, к сожалению, установить не удалось. Единственный человек, кто мог бы помочь нам в этом, — домработница. Но Сетеев отпустил её на вечер домой.
— Ещё что?
— Ничего особенного. Воробьёв, судя по всему, собирается уезжать. Вчера отметил командировочное удостоверение в тресте и заказал билет на Москву… Иван Егорович, неужели мы так и выпустим его? — спросил Свирский.
— Вы же читали распоряжение центра!
— Мало ли что!.. Я уверен, что Воробьёв увезёт с собой ответ на те письма, а мы ничего и знать не будем!..
— Не мудрите, Свирский, как любит выражаться наш начальник, — ответил я ему. — Лучше сообщите в Москву о предполагаемом отъезде Воробьёва. Узнайте, в каком вагоне он едет, и сообщите мне… В Москве без нас разберутся!..
День прошёл в хлопотах. На металлургическом заводе ничего нового не произошло. Только к вечеру вспомнил, что обещал Елене зайти сегодня к ним.
Забежал домой, побрился, переоделся в штатский костюм.
Дом нашёл без труда, хотя был там всего один раз: у меня была развита зрительная память, а с некоторых пор выработалась и профессиональная наблюдательность.
Толкнул калитку и очутился в палисаднике, полном астр и георгинов. Сады и цветники — «болезнь» шахтёров. У каждого шахтёрского дома обязательно есть хоть маленький садик и много цветов.
Пройдя под ветвистыми фруктовыми деревьями, очутился возле увитого диким виноградом крыльца. Навстречу мне вышла Елена, в простеньком ситцевом платьице, гладко причёсанная.
— Пойдёмте, пойдёмте, наши давно ждут вас!
Меня действительно ждали. Стол накрыт — на нём бутылка водки, закуска, солёные огурцы, помидоры…
Навстречу мне поднялся коренастый, с проседью человек, протянул большую жёсткую руку.
— Кузнецов Степан Владимирович! Очень приятно с вами познакомиться. А это моя хозяйка, Настасья Петровна. — Он показал на пожилую женщину в переднике. — Вот и сыновья, Владимир и Емельян.
Дюжие молодцы, похожие друг на друга, как близнецы, поздоровались со мной. Из-за занавески выглядывали три белоголовые, голубоглазые девочки.
— Садитесь, пожалуйста! — Степан Владимирович показал мне место. — Давно ждём вас, проголодались даже!
— Задержали дела…
— Понимаю, делов у вас много! Говорят, на металлургическом вредительство, — говорил хозяин, наливая в гранёные стаканы водку.
— И до вас слух дошёл? — Я с ужасом смотрел на стакан с водкой, стоящий передо мной.
— У нас беспроволочный телеграф действует! Чуть что — вся округа знает. За ваше здоровье! — Он поднял стакан, чокнулся со мной, с сыновьями и выпил до дна.
Я с трудом сделал несколько глотков.
— Что так, или нездоровится? — удивился Степан Владимирович.
— Нет, просто не пью!..
— В первый раз в жизни вижу непьющего мужчину! У нас не пьют одни больные.
— Степан, ты не насилуй человека, — вмешалась хозяйка и поставила на стол знаменитый украинский борщ — острый, жирный, душистый и необыкновенно вкусный.
За столом разговаривали мало. Сыновья пили наравне с отцом. Маленькие девочки так и не вышли к столу. Елена сидела против, меня и время от времени украдкой улыбалась мне. Её глаза как бы говорили: «Видишь, как славно у нас!..»
— Скажи, Иван Егорович, ты, верно, лучше знаешь, когда будет конец вредительству? — спросил Степан Владимирович после обеда, переходя со мной на «ты». — Инженеры опять за старое взялись — покрикивают на нашего брата, рабочих за людей не считают! — Он свернул толстую самокрутку, задымил.
— Это отчасти от нас зависит, от нашей бдительности, — ответил я и добавил: —Думается, что не все же инженеры одинаковые!
— Верно, есть среди них и порядочные. Но большинство — старорежимные. Им до революции и Советской власти дела нет!
— Что поделаешь? Своих пока нет, приходится использовать старых специалистов, без них не обойтись. Лучших надо переманить на свою сторону, с плохих глаз не спускать. Иного выхода не вижу!..
— Умная речь, — оживился он. — С плохих глаз не спускать! Вы тоже почаще прислушивайтесь к голосу рабочего класса, он не подведёт!..
Братья, сославшись на дела, поднялись и ушли. Глава семьи подмигнул мне:
— Молодые, ничего не поделаешь!..
Беседа наша затянулась допоздна. Особенно интересовали Степана Владимировича международные дела. Он сокрушался, что рабочие Англии, Франции и Германии не поднимаются по нашему примеру.
— Охота им лямку тянуть? Разве можно променять нашу власть на капиталистическую похлёбку? — спрашивал старый шахтёр. — Года два назад у нас форменный голод был, люди мёрли как мухи. Спроси тогда шахтёров: хотели бы они вернуться к старым порядкам и быть сытыми? Каждый ответил бы: нет!.. Про теперешнюю жизнь и говорить нечего. Нам бы поскорее безработицу ликвидировать, — тогда всё будет в порядке!
Когда я собрался уходить, Елена сказала, что проводит меня. Мы вышли за калитку.
— Хорошая у вас семья, Лена! — сказал я. — Мне было очень приятно провести вечер в семейной обстановке!..
— Папка у нас молодец, — ответила она, — умница, хоть и малограмотный… Владимир, старший брат, тоже хороший. Один Емельяшка иногда дурит — напьётся пьяный и такое натворит, что потом самому стыдно людям в глаза смотреть… А так добрый…
— Спасибо, Лена, дальше я один пойду! — остановился я. — Созвонимся и, если выпадет свободный вечер, сходим куда-нибудь. Хорошо?
— С удовольствием, — просто ответила она.
В понедельник, часам к одиннадцати, приехал с рыбалки Медведев и сразу вызвал меня к себе. Не то с перепоя, не то из-за неприятных событий, случившихся в его отсутствие, он был мрачнее обычного.
— Докладывай, что стряслось на заводе!..
Я рассказал все подробности, показал акт, составленный дирекцией завода, и заключение технической экспертизы.
— Задержали кого?
— По подозрению задержали двоих. Один, по фамилии Агапов, сын попа и бывший семинарист. Но его, за полным отсутствием улик, пришлось отпустить. Второй — Наседкин — держится, странно. Или валяет дурака, или на самом деле дурак. Проверяем. Думаю, что и его придётся выпустить…
— Кто же будет отвечать за вредительство?
— Виновные, когда мы их найдём!
— Когда найдём… Когда найдём! — передразнил меня Медведев. — Удивляюсь я тебе, вроде не новичок в нашем деле, а поступаешь хуже, чем новичок. Был на месте и никого из специалистов не арестовал. Задержал одного сына попа и выпустил. Теперь возишься с каким-то идиотом…
— Нельзя же хватать ни в чём не повинных людей!
— Сегодня неповинны, завтра будут повинны!.. Ясно, что это дело рук специалистов, — рабочий человек не станет сам себе вредить. Потом, подумал ли ты о нашем авторитете, что люди о нас скажут? Ожирели, мол, чекисты на казённых харчах. У них под носом вредители домны выводят из строя, а они ушами хлопают… Если хочешь знать, дело не только в нас, а в авторитете всей Советской власти! Посадим большую группу бывших людей, заведём дело, — там видно будет…
Я не верил тому, что слышал. Так просто говорить такие чудовищные вещи!
— Не думаю, что Советская власть нуждается в авторитете, построенном на обмане, — только и мог я сказать.
— Опять громкие фразы! — Медведев поморщился, как от зубной боли. — Ладно, передай мне весь материал и больше не вмешивайся в это дело. Сам разберусь.
— Могу не вмешиваться, но считаю своим долгом заявить, что не согласен с вами…
— А я твоего согласия не спрашиваю, — грубо оборвал меня Медведев.
Я ушёл от него совершенно подавленный. Арестовать невинных людей, создать дутое дело ради поддержания своего авторитета!..
Медведев не замедлил привести в исполнение свой план. По его приказу в тот же день была арестована группа специалистов завода — инженеры, мастера, во главе с главным металлургом, опытным, уважаемым в научных кругах человеком. Снова арестовали и Агапова.
На следующее утро на страницах областной газеты появилась заметка с сенсационным заголовком:
Вредителей к суровой ответственности!
Как стало известно, губернскими органами государственной безопасности раскрыта крупная подпольная контрреволюционная организация. Враги революции, потерпев сокрушительное поражение от Рабоче-Крестьянской Красной Армии в открытом бою на фронтах гражданской войны, решили вредить нам исподтишка, вредительством и диверсиями затормозить могучее движение нашей страны к социализму. В результате их преступной деятельности недавно затопило водой шахту «Южная-бис», а в субботу, под покровом ночи, они вывели из строя домну номер три на металлургическом заводе.
Арестована большая группа преступников. Следствие продолжается.
Общественность требует сурового наказания контрреволюционерам.
Потуги врагов напрасны. Сусликам, зарывшимся глубоко в землю, не повернуть вспять колесо истории.
На происки врагов трудящиеся нашей губернии ответят новым мощным подъёмом производительности труда…»
Я долго сидел, задумавшись, над газетным листом.
Верно, что враг или враги, в своей животной ненависти к нам, вывели из строя доменную печь. Но при чём же здесь люди, посаженные за решётку по прихоти Медведева? Поступая так, легко ввести в заблуждение народ. Не значит ли это — стрелять по своим и оставить безнаказанными подлинных преступников?..
Я понимал, что дело принимает серьёзный оборот, что молчать нельзя. Но что предпринять? Этого я не знал.
К несчастью, представитель центрального управления почему-то запаздывал. Будь он здесь, можно было бы посоветоваться с ним или через него информировать Москву. Конечно, это можно сделать и самому. Но не подумают ли в Москве, что у нас началась склока? Начальник управления занят серьёзным делом — он раскрыл крупную контрреволюционную организацию, и об этом сообщили в газетах, — а его заместитель, молодой, неопытный парень, придирается к мелочам. Может быть, он просто подкапывается под своего начальника в надежде занять его место?.. Медведев, без сомнения, успел дать мне такого рода характеристику…
Донесение в Москву я всё же написал и, не ограничиваясь этим, поехал к секретарю губернского комитета партии.
С секретарём губкома мы уже встречались несколько раз на пленумах. Он оставлял впечатление умного, энергичного человека, однако мне ни разу не привелось побывать у него. Медведев самолично представлял всё наше управление перед губкомом, он же был кандидатом в члены бюро и не допускал, чтобы работники аппарата, минуя его, общались с местными партийными организациями.
Доложил помощнику, что у меня неотложное дело, и немедленно был принят секретарём. Рассказал ему о событиях на шахте и на заводе, коротко остановился на методах работы Медведева и добавил, что подлинных преступников нам пока обнаружить не удалось и что Медведев, ради поддержания собственного престижа, арестовал ни в чём не повинных людей.
— Говоришь, обманом пытается заработать авторитет? — спросил секретарь.
— В том-то и беда!..
— Да, на опасный путь встал человек… очень опасный! — секретарь губкома покачал головой. — Хорошо, я свяжусь с товарищем Менжинским. Может быть, обсудим вопрос на бюро губкома. А ты напиши нам — ну хотя бы докладную записку.
На этом наш разговор и закончился.
Медведев, конечно, тотчас же узнал о моём посещении секретаря губкома. Догадался он и о содержании нашей беседы. Но я не боялся его, — в конце концов, я пошёл не куда-нибудь, а в свою партийную организацию.
Хотя Медведев и отстранил меня от ведения дела по заводу, я был в курсе всех событий. Мне было известно, что все без исключения арестованные категорически отрицали какое бы то ни было причастие к аварии. Агапов к тому же оскорбил Медведева во время допроса: сказал ему, что никакой он не коммунист, а недалёкий человек, не умеющий отличить белое от чёрного.
Прошло ещё несколько тревожных дней. Медведев не замечал меня, даже на оперативки не приглашал.
Наконец приехал долгожданный сотрудник центра — Астапов. Лет тридцати пяти, худощавый блондин, с рябинками на лице, он показался мне довольно странным. Держался он так, будто его ничто не интересует, будто он приехал к нам так просто, прогуляться. По целым дням бродил он по управлению со скучающим видом, никого ни о чём не спрашивал. Дважды заглянул ко мне, но ни о делах, ни о Медведеве — ни слова. И я молчал. Зачем? Пусть не думает, что собираюсь плакаться ему в жилетку, пусть сам разберётся во всём.
При первой нашей встрече Астапов пожаловался на сырую погоду, сказал, что здоровее русской зимы ничего не найдёшь. В другой раз он пришёл ко мне вечером, часов в семь, и как бы невзначай поинтересовался, женат ли я, есть ли у меня родители.
Во время нашего разговора позвонили из комендатуры и сообщили, что молодой парень хочет непременно увидеть меня.
— Выпишите пропуск, пусть заходит, — сказал я коменданту и спросил у Астапова, не возражает ли он.
Астапов пожал плечами:
— Отчего же? Работайте, будто меня здесь и нет вовсе!..
Вошёл юноша лет восемнадцати, в спецовке, — видно, пришёл прямо с работы. Прежде чем заговорить, покосился на Астапова.
— При этом товарище можешь говорить всё, — успокоил я, видя его смущение.
— Я вас знаю! — сказал он, улыбаясь. — Помните, на городском собрании актива комсомола вы нам доклад делали?
— Помню, конечно!.. Садись вот сюда, в кресло, и рассказывай.
— Сначала говорить о себе?
— Ну, давай о себе!
— Фамилия моя Савченко, комсомолец с тысяча девятьсот двадцать первого года. Работаю на заводе в формовочном. — Он говорил с лёгким украинским выговором. — Работа у нас грязная, пыльная. Иной раз после работы приходится промочить горло. Наши все так делают. Не думайте, водку не пью, только пиво!.. Выпьешь кружку, вроде легче делается. Сегодня тоже после смены, по дороге домой, зашёл в шалман-ку, — наши так прозвали забегаловку, ну, вроде балагана, — её построил какой-то кавказец, Ибрагимом зовут. У стойки выпил кружку, показалось мало. Попросил вторую, взял сушек и сел за стол. Рядом сидели трое, по виду блатные, — выпивали. Один из них, высокий, чумазый такой, говорит: «Ну, братва, в последний раз пью с вами. Завтра получу получку и смотаюсь отсюда». — «Чего так?» — спросил его сосед. «Разве не заметили? Гепеушники рыщут по всему заводу, везде нос суют, разнюхивают. Это вам не милиция, — заметут!» — «А монет у тебя много осталось?» — спросил третий, сидевший ко мне спиной. «Хватит! Мало будет, — Маслов подкинет. Его теперь долго можно сосать, — он весь у меня в лапах. Заартачится — душу вымотаю!..» — «Смотри, цыган! Сам же говорил: Маслов — страшный человек!» Цыган встал, подошёл к стойке, купил пол-литра водки, три бутылки пива и, возвращаясь на своё место, как-то странно посмотрел на меня. Боясь, что они привяжутся ко мне, я быстренько допил своё пиво — и прямо сюда!..
— Правильно поступил. Молодец, товарищ Савченко, — похвалил я его. — Скажи, раньше ты не встречал цыгана на заводе?
— Нет!
— А зарплату получаете в одном месте?
— Нет, кассир разносит по цехам, — у каждого цеха свой график.
— Ты не знаешь, в каком цехе завтра выдают зарплату?
— Не знаю! — Он с удивлением смотрел на меня, не понимая, к чему эти, не относящиеся, как ему казалось, к делу вопросы.
Я позвонил Свирскому — приказал немедленно связаться с металлургическим заводом и установить, в каком цехе завтра выдают зарплату.
— Мы с тобой сделаем так, — сказал я Савченко. — Завтра, после смены, пойдёшь в цех, где будут выдавать зарплату, а где — мы это сейчас узнаем. Как увидишь в очереди к кассиру цыгана, поравняйся с ним и поправь кепку. Так же сделай и когда заметишь его дружков. От тебя больше ничего не требуется, остальное довершат наши люди. Понял? Смотри не запаздывай, — шпана народ нахальный, полезут без очереди, и мы их упустим.
Позвал оперативника, познакомил его с Савченко и объяснил задачу.
Свирский сообщил по телефону, что завтра будут выдавать зарплату в механическом цехе. Когда Савченко ушёл, я спросил Свирского — нет ли сведений о Маслове?
— Никаких! Боюсь, что он работает под другой фамилией. Его фотографии тоже нет у нас, — ответил он.
— Опять всплывает его фамилия!.. На этот раз — по очень серьёзному поводу. Его нужно найти во что бы то ни стало. Займитесь, — предложил я Свирскому и положил трубку.
Среди ночи разбудил меня телефонный звонок. Дежурный доложил о новом «чепе». Совершено убийство. Возле деревянного моста, у Сухого оврага, недалеко от металлургического завода, нашли труп. Убийство совершено ударом кастета в висок. В кармане убитого найден заводской пропуск на имя Евдокимова А. П. и около тысячи рублей. Труп доставлен в морг для вскрытия.
Почему-то я был уверен, что убитый — цыган.
Оделся, вызвал машину, поехал в морг.
На столе лежал труп молодого, высокого, смуглого парня. На левом виске запеклась кровь… Похоже, пророчество дружка цыгана сбылось…
Домой я не пошёл. В голову лезли мрачные мысли. Что, если друзья цыгана в механическом цехе не работают и за получкой не придут? Где тогда искать их? Что, если Маслов исчезнет из наших краёв? Тогда все нити оборвутся… Да и вообще — искать какого-то Мас-лова, не имея его фотокарточки, не зная даже его инициалов, равносильно тому, чтобы искать иголку в стоге сена!..
Днём, в ожидании сообщений с завода, совещался с оперативниками. И всё о том же: как найти Маслова. Свирский предложил нехитрый план: послать к Альфреду Оскаровичу или Сетееву нашего сотрудника с письмом на имя Маслова — якобы из Москвы. Остановились на Сетееве. Мы все понимали, что идём на большой риск: если Сетеев заподозрит неладное, то, без сомнения, даст Маслову сигнал тревоги. Решили прибегнуть к этому в крайнем случае, если не найдём более приемлемого варианта.
Стрелки часов показывали два часа, смена на заводе кончилась. Я не мог усидеть на месте, встал, начал ходить по кабинету. Наш работник позвонил в двадцать пять минут третьего.
Я схватил трубку:
— Ну что?
— Взял! — ответил он и одним этим словом осчастливил меня.
— Найдите автомашину — возьмите у директора, словом, достаньте где угодно — и немедленно доставьте его сюда! — волнуясь кричал я в трубку.
Через час оперативник втолкнул ко мне в кабинет типичного молодого уголовника. Из-под грязной, разорванной матросской тельняшки виднелась на груди у него татуировка. На руках тоже были наколоты какие-то русалки с рыбьими хвостами и пронзённое стрелой сердце. Звали его Колькой.
Как принято выражаться в уголовном мире, Колька быстро «раскололся» — признался в своём знакомстве с цыганом, назвал третьего — Пашку Ковальчука.
— Вы не думайте, гражданин начальник, мы с Пашкой не виноватые, — захныкал Колька. — Мы только караулили, пока цыган отвинчивал трубы. За это он дал нам по сто рублей…
— Ты знаешь, что цыгана убили? — спросил я.
— Слыхал… Я так и знал, что его убьют…
— Почему?
— Получил за дело сполна, а потом опять полез за деньгами к Маслову.
— Кто такой Маслов?
— Ну, тот, кто поручил цыгану это дельце на заводе. Сам я его не видел…
— И ничего не знаешь о нём?
— Ничего. Цыган сказывал, что Маслов страшный человек…
Больше от него ничего нельзя было добиться.
Наступил тот критический момент, когда медлительность, нерешительность неизбежно должны были привести к провалу. И мы решили действовать: послать своего человека к Сетееву.
Поздно вечером у меня на квартире мы сидели с Свирским за чайным столом, пили чай, закусывали и подводили итоги дня.
Свирский рассказывал:
— Заявляется наш сотрудник к Сетееву, — так, мол, и так, имею письмо для товарища Маслова (именно для товарища). «Не можете ли вы сказать, где бы мне его найти?» Сетеев на минуту заколебался. «От кого письмо?» — спрашивает он. Сотрудник, не моргнув глазом, отвечает: «Из Москвы». «Нет, — говорит Сетеев. — Никакого Маслова я не знаю». — «Странно, товарищ Воробьёв назвал именно вас. Явитесь, сказал, на шахту «Южная-бис», спросите инженера Сетеева, Владимира Юрьевича, узнаете у него, где найти товарища Маслова, и вручите тому письмо в его собственные руки». «А вы кто?» — интересуется Сетеев. «Техник, работаю в отделе капитального строительства ВСНХ, приехал в командировку». — «Нет, никакого Маслова я не знаю», — повторяет Сетеев. «Ну что ж, извините за беспокойство. Мне-то что, верну письмо товарищу Воробьёву»… С этими словами сотрудник уходит. Ясно, что Сетеев чего-то опасается и не хочет указать местопребывание Маслова…
Тут Сетеев допустил одну оплошность, что и дало нам возможность найти Маслова. Не успел мнимый техник удалиться, как Сетеев запирается у себя в кабинете, пишет записку, запечатывает её, вызывает мальчика-курьера и велит ему срочно отправиться в посёлок металлургического завода и там, по адресу, написанному на конверте, найти Петра Петровича Косарева и вручить письмо лично ему, в собственные руки. Сетеев описывает внешность Петра Петровича и повторяет: «Лично ему, понимаешь! Если его не окажется дома, жди».
Об остальном нетрудно догадаться. Наши люди перехватывают курьера по дороге, часа на три изолируют его, отбирают письмо и снаряжают к Косареву собственного курьера.
В записке всего несколько торопливо написанных строк:
«Аким Петрович!
Ко мне приходил какой-то тип с письмом для вас, якобы от Воробьёва. Он назвал фамилию «Маслов». Боюсь, что здесь что-то неладно. По-моему, вам следовало бы на время уехать. Впрочем, решайте сами.
Ваш В. Ю.».
К счастью, Маслов оказался дома. Он берёт письмо, читает. Благодарит курьера и даёт ему полтинник на чай. Тут наши и задерживают его. При обыске обнаружено: кольт с большим запасом патронов, хорошо наточенный финский нож, около двух тысяч рублей, фотоаппарат «зеркалка», несколько чистых заводских бланков, удостоверение личности на имя Маслова Акима Петровича и заводской пропуск на имя техника бюро рационализации Косарева П. П. Кастета найти не удалось.
— Странно, почему он назвал цыгану свою настоящую фамилию? — спросил я у Свирского.
— Очень просто, чтобы цыган не мог отыскать его на заводе. Обычный приём: так легче замести следы и спутать карты следственных органов. Чего до некоторой степени Маслов и достиг.
Допили чай и отправились в управление допрашивать Маслова.
Вот он сидит передо мной, грузный, лысый человек. Не торопясь, даёт он показания. На вопрос, почему у него два документа на разные фамилии, спокойно отвечает:
— Так, на всякий случай.
— Непонятно, на какой такой случай?
— Не будем углубляться. Для этого у меня были некоторые основания.
— Какие?
— Этого я вам не скажу…
Пришлось долго повозиться с ним. В течение трёх ночей, с небольшими перерывами, я допрашивал его. Это был поединок нервов — кто-то из нас двоих должен был в конце концов сдаться. Сдался Маслов — он не выдержал такого нервного напряжения и перед лицом неопровержимых фактов заговорил. Рассказал о том, как Преображенский и Сетеев использовали неопытность молодого техника Осетрова и его руками организовали аварию на шахте «Южная-бис». Как была выведена из строя воздуходувка на заводе. В то же время Маслов упорно отрицал своё участие в убийстве цыгана — Евдокимова и наотрез отказался назвать фамилию руководителя организации, в которой, без сомнения, состоял. О Воробьёве сказал: в гостях у Сетеева он познакомился с московским гостем, но кто он и чем занимается — не знает.
Связались с Москвой, получили санкцию арестовать Альфреда Оскаровича, Сетеева, Преображенского и вместе с Масловым отправить в Москву.
Дело закончилось, настоящие вредители разоблачены и пойманы. Между тем люди, задержанные по приказу Медведева, продолжали сидеть за решёткой.
Я вынужден был обратиться по этому поводу к Медведеву и спросить его о дальнейших намерениях. Он сделал вид, что доволен проделанной работой и не прочь был приписать и себе некоторые заслуги.
— Вот видишь, мы хорошо поработали, — начал он миролюбиво, — и врагов всё же посадили. Я всегда говорил: не надо поднимать панику!
— Панику никто не поднимал, — ответил я ему. — Дело сейчас не в этом. Меня интересует, как вы думаете поступить с арестованными специалистами завода.
— Ах, с этими? По одному, по двое будем освобождать. Так лучше, шума не будет… Всех сразу — неудобно! В конечном итоге все поймут, что иначе нельзя, — ответил он без тени смущения.
«Почему арестовать сразу — можно, а освободить — нельзя? Неужели нам всё дозволено?» Эти и другие вопросы вертелись у меня на языке, но не Медведеву же их задавать!.. Хорошо хоть то, что он для собственного оправдания не придумывает для них несуществующих грехов и собирается освободить «по одному, по двое»!..
Неужели такие, как Медведев, никогда не испытывают угрызений совести, да и есть ли у них совесть? Вот он придёт домой, — с каким сердцем будет целовать своих детей, обнимать жену, есть, спать?..
Нет, дело здесь не только в совести! Власть — штука опасная, особенно если ею наделён человек не очень умный, а следовательно, и самодовольный. Власть кружит голову. Властолюбивый человек теряет способность объективно мыслить, легко верит в свою непогрешимость…
Родной человек
Астапов уехал, так ничем и не проявив своего отношения к нашим делам. Прощаясь со мной, он сказал: «Молодец, Силин, толково работаешь». Только и всего! Как будто мне стало легче от этого… Молчал и секретарь губкома. Неужели у нас всё останется по-старому? Трудно работать, когда не уважаешь своего начальника, а он, в свою очередь, ждёт не дождётся малейшего промаха с твоей стороны, чтобы убрать тебя со своей дороги, а если подвернётся подходящий случай, то и расправиться с тобой!..
Свирский всё ждал каких-то перемен. Но дней через десять после отъезда Астапова, потеряв всякую надежду, подал рапорт об уходе. Не помогли никакие уговоры. «Нет уж, с меня хватит. Работать с такой дубиной в образе человека?! Уеду!» — твердил он. И уехал…
Я тоже начал всерьёз подумывать об уходе. Пойду на завод токарем. Правда, токарь из меня никакой, — подумаешь, третий разряд, и то со времён царя Гороха! Всё давно забыто. Ну что ж, научусь… Конечно, придётся туговато, особенно на первых порах: ни тебе квартиры, ни хорошей зарплаты. Сто семьдесят пять рублей — целое состояние!.. Можно рассчитывать в лучшем случае на тридцать — сорок целковых. И — общежитие… Ничего, выдержу, мне не привыкать!.. В мечтах я уносился ещё дальше: на заводе будет много свободного времени, поступлю на вечерний рабфак, заработаю путёвку в вуз. А вдруг примут в консерваторию?..
Что, если и правда по-настоящему взяться за учёбу? Хожу я теперь в ответственных работниках, но ведь этому скоро придёт конец. Построим социализм, классы исчезнут, — стало быть, не будет и врагов. Зачем тогда чекисты, с кем бороться? Разве со шпионами, которых зашлют к нам империалисты? Для этого достаточно нескольких сот человек, может быть тысячи. Что же ты будешь делать тогда — без серьёзных знаний, без профессии? При нашей работе думать об учёбе не приходится, — даже часа свободного не выберешь, газеты и те приходится читать урывками. Другое дело на заводе: отработал свои восемь часов — и полная свобода!..
Когда на душе скверно и одолевают сомнения, хочется с кем-нибудь поделиться. Но с кем? Конечно же с Еленой, — она чуткая, поймёт!
После того как я побывал у неё, мы ещё ни разу не виделись. А прошло больше двух недель. Просто не было времени. Каждый раз, ложась спать, давал себе слово, что завтра непременно позвоню ей. А наутро наваливалось столько дел, что, как говорится, вздохнуть было некогда!..
Сегодня более или менее свободный день. Позвонил в горком комсомола, к телефону подошла она сама. Договорились встретиться в парке.
Только собрался было уходить, как заявился Зеликман. За последнее время он как-то обрюзг, в лице — ни кровинки.
— Вы бы поехали куда полечиться, Арон Яковлевич, — сказал я.
— Что, плохо выгляжу? — насторожился он.
— Да нет, просто у вас усталый вид…
— Не успокаивайте! Я знаю, что вид у меня неважный. Язва замучила, а тут врачи ещё диабет нашли…
— Вот видите!
— Будем надеяться, что когда-нибудь отдохну, подлечусь!.. — Он вздохнул. — Силин, я к вам за советом. Вы знаете, что мне предложил Медведев? Возьмите, говорит, руководство отделом вместо Свирского.
— За чем же остановка? Берите, раз предлагает начальник! — ответил я немножко резко, понимая, что это очередной фокус со стороны Медведева. Так ему легче будет изолировать меня.
— Но я ведь тоже заместитель! Разве может быть, чтобы один заместитель подчинялся другому?
— В вопросах субординации я не силён, спросите у Медведева. Одно могу сказать: с этим отделом вам не справиться, там нужен человек с железным здоровьем, ведь работать придётся день и ночь! Подумайте…
— Вы правы… Лучше я возьму отпуск и поеду лечиться, а там видно будет, — согласился Зеликман.
Я запер бумаги в несгораемый шкаф, предупредил дежурного, что ухожу часа на два, и вышел на улицу. Вечер был тёплый. На севере, наверно, уже настоящая зима, а у нас только листья пожелтели…
Елена ждала меня.
— А я уж думала, вы не придёте! — сказала она без тени упрёка в голосе.
— Не сердитесь, Леночка! В последнюю минуту меня задержали. — Я взял её под руку.
— Я и не думала сердиться, — знаю, что у вас много дел!..
Мы побродили по тенистым аллеям парка. Елена рассказывала о доме, о своей работе. Она говорила обо всём этом с такой светлой радостью, что мне не хотелось огорчать её своими неурядицами, — зачем? Вдруг она сказала:
— Мне бы очень хотелось узнать побольше о вашей жизни! Отец говорил в тот день, когда вы были у нас: «Видать, серьёзный парень, самостоятельный, много пережил…»
И я с какой-то удивительной душевной свободой стал рассказывать ей о своей жизни, даже о Маро рассказал!
Она слушала меня очень внимательно, ни разу не перебила. Потом сказала:
— Вы так много успели сделать!.. Терпеть не могу безвольных, бездеятельных людей! По-моему, человек должен быть сильным, настойчивым и обязательно добиваться своей цели. Я вот решила стать врачом и обязательно буду им!..
— Ну конечно, будете, Леночка, — ответил я и робко обнял её за плечи. Она доверчиво прижалась ко мне.
В парке погасли фонари, а нам не хотелось расставаться. Мне давно не было так хорошо.
Я проводил её до дому и потом долго шёл в темноте через весь город. Я думал о девушке, с которой только что расстался. Такая будет надёжным другом!.. Но согласится ли она стать спутницей жизни человека, у которого нет ничего определённого впереди? Да и не рано ли думать об этом? Ведь мы ещё так мало знаем друг друга!..
В управлении меня встретил дежурный.
— Товарищ начальник! Мы с ног сбились, искали вас весь вечер и нигде не могли найти, — сказал он.
— Что случилось?
— Секретарь губкома велел срочно найти вас и передать, чтобы вы позвонили ему.
Я посмотрел на часы. Начало второго. Поздновато, конечно… Всё-таки позвонил. Секретарь оказался на месте.
— А, товарищ Силин! У меня есть для вас приятная новость. Приезжайте… Погодите, — кажется, поздно уже. Да, лучше завтра с утра! Прямо из дома заходите ко мне, — сказал он и положил трубку.
Теряясь в догадках, я спал плохо. Рано утром поехал в губком партии.
— Доброе утро! — дружески приветствовал меня секретарь. — Поздравляю, приказом товарища Менжинского вы назначены начальником губернского управления ОГПУ. Губком партии полностью согласен с этим назначением! — Он достал из ящика письменного стола приказ и протянул мне: — Читайте!
В приказе было всего два пункта. В первом говорилось, что Медведев Кузьма Харитонович освобождается от занимаемой должности и отзывается в распоряжение управления кадров. Во втором пункте было написано: «Назначить начальником губернского управления ОГПУ товарища Силина Ивана Егоровича». Под приказом стояла подпись самого Менжинского.
Я не знал, что и сказать. Обычные слова, произносимые в таких случаях, вроде «благодарю за доверие» или «боюсь, не справлюсь», были неуместны, тем более что я и в самом деле боялся не справиться. Начальник управления — не шутка!
Секретарь, видя моё смятение, сказал:
— Не волнуйтесь, поможем!..
Медведев, сдавая мне дела, держался спокойно, даже вежливо и только в самом конце сказал, глядя мне в глаза:
— Добился-таки своего!.. Ничего, ничего, мы с тобой ещё встретимся на узенькой дорожке. Этот номер — на чужих костях карьеру делать — даром не пройдёт! — И в прищуренных глазах его блеснула такая холодная злоба, что мне стало не по себе.
— Зря вы мерите всех на свой аршин! — сказал я.
Через несколько дней из Москвы прислали показания Воробьёва, Преображенского, Сетеева и Альфреда Оскаровича. Последний сообщил интересные сведения. В частности, он рассказал, что организация под названием «Экономическое возрождение России» возникла в 1919 году, когда стало ясно, что белогвардейцы и интервенты потерпят поражение. Успевшие удрать за границу хозяева нефтяных промыслов, заводов, фабрик и шахт создали центры по борьбе с большевиками, выделили денежные средства и установили связь с оставшимися в России специалистами. На первых порах связь эта поддерживалась через дипломатические миссии Англии, Франции и Америки, позднее появились и другие каналы. В двадцатом году многие специалисты перешли на сторону Советской власти, кое-кто был арестован, и работа организации свернулась. Продолжали действовать на свой собственный страх и риск только разрозненные группы на местах, однако должного размаха в их
действиях не было, а провалы принимали катастрофические размеры. Стало ясно, что нужен хорошо законспирированный центр для руководства и координации работы этих групп.
В конце 1923 года в Москве Альфред Оскарович встретился со своими друзьями из организации «Экономическое возрождение России». От них он узнал, что за границей создан новый центр под названием «Нефть и уголь», располагающий значительными денежными средствами, и что налажена надёжная связь с этим центром. У московских руководителей не было единого мнения о будущности страны. Некоторые считали, что России нужно правительство, состоящее исключительно из специалистов, — так называемое «инженерное правительство», намечались даже будущие министры. Другие требовали смешанного правительства из специалистов и промышленников, но без аграрной партии. Крестьянские массы в счёт не принимались. Эсерам отводилась роль лояльной оппозиции. Спорившие группы сходились в одном пункте: «Нужно прежде всего свергнуть Советскую власть путём создания в стране экономических затруднений. Средства — неправильное планирование, скрытие природных богатств, диверсии и вредительства».
В нашей губернии и прилегающих районах организацию формально возглавлял Сетеев, но фактически всем руководил Альфред Оскарович — особо доверенное лицо московского центра. Он назвал и некоторые фамилии своих сообщников, но они уже были изолированы органами безопасности. Показания остальных особого интереса не представляли. Все в один голос утверждали, что не имеют никакого отношения к Маслову. Последний якобы действовал самостоятельно. Сетеев по поводу своей записки к Маслову говорил, что ему было известно а враждебном отношении Маслова к Советской власти и он, Сетеев, просто хотел предупредить Маслова о грозящей ему опасности.
Альфред Оскарович, опытный конспиратор, обязан был учесть возможность провала и заранее подготовить другую, более тщательно замаскированную группу, а может быть, и несколько групп. Возможно, параллельно действовала другая организация, о которой не знал и сам Альфред Оскарович…
Итак, нужно было приступать к своим новым обязанностям. Необходимо было прежде всего укрепить аппарат управления более квалифицированными работниками и вытравить из нашей среды дух угодничества и подхалимства, оставшийся после Медведева. Хорошо было бы, думал я, пригласить в качестве первого заместителя Ивана Мефодьевича Яблочко — честнейшего человека и отличного чекиста, а Гугуша вполне справился бы с работой начальника ведущего отдела. Стоял вопрос и о втором заместителе. На Зеликмана надежды были плохие.
Не откладывая, связался по телефону с Цинбадзе. Он уже слышал о моём новом назначении и от души поздравил меня. Цинбадзе не возражал против перевода к нам Гугуши и обещал оформить перевод в ближайшие дни. Но о Яблочко и слышать не хотел. «Что ты, дорогой, стал на широкую дорогу бандитизма, что ли? Хочешь совсем ограбить нас?» — шутя прокричал он в трубку.
У нас уже стояла настоящая южная зима — с холодными ветрами, мокрым снегом. Встречаться с Еленой в парке или на улице было трудно. А мне всё больше не хватало её. Пригласил её в театр, — у нас гастролировала столичная опереточная труппа.
В фойе, во время первого антракта, решился.
— Леночка!.. Красивых слов говорить не умею, как это делается — тоже не знаю, просто хочу… — И на этом месте я растерянно замолк, словно язык прилип к нёбу, а она спокойно смотрела на меня. — Одним словом, я люблю вас и прошу стать моей женой! — выпалил я наконец одним духом.
Она опустила глаза, молчала. Лёгкий румянец окрасил её щёки.
— Почему вы молчите? — спросил я. — Сказать вам, что моя жизнь в ваших руках, что судьба моя всецело зависит от вашего единого слова, как пишут в романах?.. Сказочного царства обещать не могу, но быть вам надёжным другом на всю жизнь обещаю!
— Так неожиданно… Потом, мои родители… — тихо ответила она, не поднимая головы.
— А вы… вы-то как?
— Я… я согласна! — прошептала она.
В тот вечер я не слышал ни музыки, ни острот артистов, над которыми хохотала публика. Украдкой, чтобы не смущать её, я смотрел на Елену. Она сидела взволнованная, задумчивая и, как и я, почти не смотрела на сцену.
До чего же удивительно устроена человеческая жизнь!.. Полчаса назад эта девушка была для меня чужой, — милой, желанной, но чужой, — а сейчас стала вдруг близким и родным человеком! Мне с трудом верилось что она, такая красивая, добрая, станет моей женой!..
Последующие дни я чувствовал себя так, словно вокруг всё изменилось, словно всё было освещено ярким, радостным светом. Работалось с необыкновенной лёгкостью, — казалось, я горы мог бы свернуть! Я покупал какие-то вещи, смешные и ненужные подарки, без конца переставлял мебель в квартире, всё время думая о Елене…
Приехали Гугуша с Тамарой. Отведённая им квартира ремонтировалась. Я был рад, — пусть пока поживут у меня, веселее будет! Тамара стеснялась, держалась как-то скованно, но порядок в квартире всё же навела. Комнаты прямо преобразились — стали чистыми, светлыми, уютными. Гугуша был веселее обычного; сверкая чёрными своими глазами, без умолку рассказывал всякие новости. Оказывается, Яблочко каким-то образом узнал о моём желании пригласить его к нам работать и несколько дней ходил как петух, с гордо поднятой головой, всем рассказывал, что его ученик пошёл в гору и не забыл учителя. «Я же говорил, что Силин хотя и не моряк, но нашей породы», — без конца повторял он. Яблочко обивал пороги у Цинбадзе, кричал, что уедет самовольно. Утихомирился только тогда, когда ему пригрозили партийным взысканием. Нина Григорьевна, узнав о моих служебных успехах, сокрушалась, что ради каких-то никому не нужных дел загубили талант, — она даже намеревалась написать об этом куда следует. Мария при встречах с Тамарой робко, но неизменно интересовалась мной…
Я решил повеселее отпраздновать приезд Гугуши и пригласить к себе Елену с родителями.
Тамара оказалась отличной хозяйкой — она приготовила богатейший стол по всем правилам грузинского гостеприимства.
Вечер удался на славу: Гугушу избрали тамадой, он произносил бесконечные тосты, шутил и до слёз смешил всех. Степан Владимирович был в хорошем настроении. Анастасия Петровна о чём-то таинственно шепталась с Тамарой. Одна Елена была грустна…
Предлагая очередной тост за здоровье её родителей, Гугуша обратился к ним с речью, полной весьма прозрачных намёков. Он оказался куда догадливее, чем я мог предположить.
— Дорогие Степан Владимирович и Анастасия Петровна! — начал Гугуша, стоя с полным бокалом в руке. — Вы вырастили на этой пропитанной угольной пылью земле замечательный цветок, — честь и хвала вам за это! Спрашивается, для чего цветы? Они даны на радость людям, и я завидую тому человеку, которому удастся с благодарностью взять у вас этот цветок!.. Моего лучшего друга, Ивана Силина, тоже бог не обидел. Он хоть и не цветок, а скорее могучий чинар, но дерево, какое бы оно ни было крепкое, в одиночестве чахнет и погибает. Выпьем же за ваше здоровье, за то, чтобы было на свете много красивых и благоуханных цветов, чтобы они доставались на радость хорошим людям! Выпьем и за то, чтобы деревья не чахли в одиночестве!..
— Аминь! — сказал старый шахтёр. — Золотые слова! — Он залпом выпил свою рюмку.
Более подходящего случая для заветного разговора глупо было бы ждать. Я набрался храбрости и сказал:
— Степан Владимирович и вы, дорогая Анастасия Петровна! Раз уж речь зашла о цветах и деревьях, знайте: я — самое одинокое дерево на свете! И я очень люблю Елену…
— Ох и хитёр же ты, Иван Егорыч! — расхохотался шахтёр. — Думаешь, я не догадывался, куда дело клонится? Не успел ты зайти к нам в дом, как я всё понял. Ну как, мать, благословим?
— Не рано ли? — ответила Анастасия Петровна, утирая неизбежные в таких случаях слёзы.
— Ничего, поздно ли, рано ли — путь один!.. Признаться, лучшего мужа для Елены я и не пожелал бы, — заключил Степан Владимирович.
Гугуша с Тамарой стали поздравлять нас.
Смущённая Елена робко, как-то по-детски улыбалась, слушая всё это. Но когда наши взгляды встретились, я увидел в её глазах столько радости, столько любви, что я сам чуть не разревелся от охватившего меня счастья!..
Через неделю вместо свадьбы устроили скромную вечеринку. Хозяйственные заботы опять взяла на себя Тамара, а Гугуша, как истинный кавказец, купил целого барана и настоял на том, чтобы жарили шашлык. «Что ты, дорогой, какая свадьба без шашлыка?» — убеждал он меня.
В гости к нам, кроме родни Елены, пришли ещё Зеликман с женой. Бедный Арон Яковлевич жадно вдыхал запах шашлыка, но, поймав на себе грозный взгляд жены, огорчённо сказал:
— До чего несправедливо устроен мир! Одни едят шашлык, другие только нюхают. Правильно сказано у Иосифа Уткина: «Мотеле мечтает о курице, а урядник её ест»…
Мы веселились до самого утра. Анастасия Петровна замечательно пела старинные народные песни, а Елена танцевала с Гугушей лезгинку.
Вскоре Гугуша с Тамарой переехали на свою квартиру. Мы остались с Еленой вдвоём. Я не ошибся: добрее, заботливее жены, чем моя Алёнушка, невозможно было найти. Даже квартира стала будто светлее. Алёнушка всегда радостно встречала меня, и не было для меня большего удовольствия, чем провести с нею вечер, когда это удавалось. Она продолжала работать в горкоме комсомола, училась на рабфаке и успевала вести наше несложное хозяйство.
Дела мои в управлении тоже постепенно налаживались. Губком партии выделил группу коммунистов для работы у нас, в их числе одного старого шахтёра, прекраснейшего человека, Добрынина, — на должность первого моего заместителя. Гугуша оказался отличным руководителем. На самостоятельной работе раскрылись его незаурядные способности разведчика. Через некоторое время Зеликмана перевели на хозяйственную работу, и Гугуша занял его место.
Губернии были реорганизованы в области, возникли новые административные деления, и я сперва стал уполномоченным представителем ОГПУ по Донбассу, потом начальником областного управления. К десятой годовщине революции получил вторую правительственную награду.
Года через два после моей женитьбы неожиданно получил письмо от Модеста Ивановича Челнокова. Он писал, что уезжает в Москву на учёбу и по дороге хочет повидаться со мной. В тот же день я телеграфировал ему, что буду рад видеть его у себя.
Мы с Еленой готовились к этой встрече, как к большому празднику.
Поздно вечером, накануне приезда Челнокова, мы сидели вдвоём и каждый занимался своим делом. Я просматривал служебные дела. Елена шила распашонки: мы ждали ребёнка.
Топилась печь, красный отблеск огня ложился узкой полоской на крашеный пол. Свет от розового абажура, висящего над столом, падал на Елену, освещал её густые тёмно-каштановые волосы и половину лица. Я украдкой смотрел на неё. Как она дорога мне!.. Она немного располнела, черты лица стали ещё мягче, а в глазах появилось то особое выражение доброты, которое так красит молодую женщину, ждущую ребёнка.
Отложив папки с почтой, я подсел к ней.
— Знаешь, Алёнушка, два года назад, в такой же дождливый вечер, я сидел в одиночестве вот здесь, за этим столом, томился от тоски. В печке так же трещали дрова, но всё было другим!.. Тогда я и подумать не мог, что такая девушка, как ты, станет моей женой… — Я привлёк её к себе. Елена улыбнулась своей милой, доверчивой улыбкой.
— Не я, так другая стала бы твоей женой…
— Не говори так! Лучше тебя всё равно никого нет!.. Я, знаешь, о чём думаю? Если у нас родится сын, назовём его Егором, в честь моего отца, а если дочь — Виргинией. Второго сына назовём Степаном, в честь твоего старика.
— По-твоему, у нас будет полдюжины сыновей?
— Конечно! Без детей скучно на земле!..
Утром я попросил её поехать со мной на вокзал встречать Челнокова. Она стала отказываться.
— У меня такой вид…
— Ну, знаешь! Будь я женщиной в твоём положении, честное слово, ходил бы с гордо поднятой головой! Смотрите, мол, на меня, — скоро произведу на свет нового человека. Может быть, это будет второй Ломоносов или Максим Горький. Поехали!
На вокзале, в ожидании поезда, я уже, наверное, в десятый раз рассказывал Елене о том, какой хороший человек Модест Иванович.
— Он был для меня не только заботливым учителем, но и старшим братом, даже отцом, хотя он старше меня всего на несколько лет.
Подошёл поезд. В дверях вагона показался высокий, сухощавый человек с чемоданом в руке. Я бросился к нему, мы обнялись. Не знаю, испытал бы я большую радость, если бы действительно встречал родного брата.
Я познакомил Челнокова с Еленой, и мы поехали домой.
За завтраком он рассказал о переменах, которые произошли у них после моего отъезда.
— Амирджанов стал наркомом республики, а Левона назначили начальником отдела. Вырос парень. Хорошо работает! Шурочка вполне оправдала наши надежды — стала настоящей чекисткой. В общем, хорошая дивчина… Да, Иван, помнишь того перебежчика, которого прислали к нам? Оказался замечательным парнем — умный, расторопный. Ты бы видел его радость, когда его приняли в советское подданство!.. «Вот теперь у меня есть настоящая родина!» — говорил он всем. Скоро вступит в партию, — я дал ему рекомендацию. Работает прекрасно. Хорошо, хоть и с акцентом, говорит по-русски. Поступил в вечерний университет, историком хочет стать. Понимает, что в наше время без основательных знаний далеко не пойдёшь!.. Это я испытал на себе, — ежедневно возникают десятки сложных экономических и технических вопросов, а ты хлопаешь глазами или разводишь руками — не понимаешь, с какого бока подойти к ним. Нет, брат, теперь на ощупь работать нельзя. Чтобы руководить, нужно знать, причём знать много!
— Да вы ешьте, ешьте! — Елена подвинула к нему тарелку с оладьями.
— Спасибо! Оладьи у вас, Елена Степановна, знаменитые, давно не ел таких!
— Значит, ивы решили взяться за учёбу? — спросил я.
— Решил, и твёрдо решил! Долго колебался, трудно ведь в моём возрасте сесть за парту. Но что поделаешь? Нужно! В один прекрасный день проснёшься и увидишь, отстал, отстал безнадёжно! И никому-то ты не нужен. Обижаться тоже будет не на кого, — сам виноват!
Модест Иванович остался таким же простым, искренним, каким был раньше. Да и внешне он мало изменился, — жилистый, подтянутый, только морщинки залегли под глазами.
— Не женились? — поинтересовался я.
— Нет, брат, как-то некогда было… Вот смотрю на тебя и завидую. Между прочим, Иван, почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Давай-ка попроще, хотя ты теперь и большой начальник!
— Вы для меня были и останетесь на всю жизнь учителем и человеком, которому нужно подражать! — ответил я.
— Если б вы знали, Модест Иванович, как Иван любит вас, — добавила Елена.
— Это у нас взаимно…
— Отдыхайте, а я пойду на работу. К обеду вернусь! — Я поднялся.
— Какой отдых! Я и так все бока отлежал в вагоне. Пойду поброжу по городу. Ещё лучше, если б ты дал мне провожатого, поехал бы с ним на шахты, на металлургические заводы…
— Зачем провожатого? Постараюсь освободиться через час-полтора — поедем вместе. Всё покажу — спущу в самую глубокую шахту! — предложил я.
Модест Иванович гостил у нас три дня. За это время мы побывали с ним во многих местах. Он интересовался всем, подолгу стоял у забоев, присутствовал при разливе чугуна, расспрашивал рабочих, мастеров, беседовал со специалистами.
— Да, брат, край у вас богатый, — не переставал повторять он. — Недаром называется всесоюзной кочегаркой!..
Челноков уехал, а его слова о том, что без знаний в наше время руководить нельзя, крепко засели у меня в голове. В самом деле, строились новые гигантские предприятия, старые заводы и шахты реконструировались, оснащались новейшей техникой, а мы продолжали работать по старинке…
Каждую осень в начале учебного года я подавал рапорт с просьбой направить меня на учёбу. И каждый раз получал один и тот же ответ: «В просьбе тов. Силина И. Е. об откомандировании на учёбу отказать»…
Не знаю, победило ли моё упорство или в центре тоже стали понимать, что без серьёзных знаний мы, старые работники, выдохнемся и в скором времени выйдем из строя, но разрешение на учёбу я получил в 1930 году. Меня направляли в Промышленную академию. Не теряя времени, сдал дела моему преемнику, взял Елену с сыном и укатил в Москву — за три недели до начала учебного года.
Мы поселились в общежитии академии, в маленькой, светлой комнате. Егора устроили в детский сад, а сами с Еленой, особенно первое время, ходили по музеям и чуть не каждый вечер бывали в театре.
С гражданской войны я ни разу не пользовался отпуском — был только в командировках в Москве, Харькове — и теперь, неожиданно обретя полную свободу, чувствовал себя как-то даже неловко и скучал по работе. Постепенно привык, втянулся в учёбу, жизнь наладилась. Осуществилась и давнишняя мечта Елены — её приняли в медицинский институт.
Крушение
Сегодня выпускной вечер. Все возбуждены, волнуются, как дети. В конференц-зале идут последние приготовления.
Подумать только — пронеслось четыре года!
Правду сказать, на первых порах было трудно, очень трудно. Отвыкли мы все от учёбы, да и позабыли многое из того, что знали. Временами опускались руки, казалось, ничего у нас не получится и мы с позором вернёмся на те места, откуда нас послали в академию. Это ведь не шутка — за четыре года без подготовки пройти полный курс вуза и защитить диплом инженера!
Мне было легче, чем многим моим товарищам. Я как-никак окончил железнодорожную школу, имел неплохую домашнюю подготовку, а большинство пришло в академию с четырёх-пятиклассным образованием. Были среди нас и такие, которые впервые сели за парту после революции. Впрочем, народ был упорный, настойчивый, с большим жизненным опытом, и все работали не жалея сил. Нам очень помогали преподаватели академии. Эти самоотверженные люди делали всё, чтобы передать нам свои знания, приучить нас к самостоятельной работе с книгами.
Наконец настал долгожданный вечер. Зал набит битком. На сцене, за столом президиума, — руководители академии, профессора, преподаватели, представители наркоматов. Нам, выпускникам, отвели первые ряды. Сидим как именинники — смущённые, счастливые. Учёный секретарь зачитывает фамилии. Один за другим мы поднимаемся на сцену, принимаем поздравления директора, под аплодисменты всего зала получаем диплом и, не в силах сдержать улыбку, возвращаемся на место.
Очередь доходит до меня. Я слышу, словно через стену, как учёный секретарь называет мою фамилию, и не двигаюсь с места. Сосед толкает локтем: «Идите».
Стою на сцене весь красный, волнуюсь. Жарко. Секретарь читает:
«…Прошёл полный курс Промышленной академии, защитил диплом на «отлично». Решением учёного совета Силину Ивану Егоровичу присваивается звание инженера-механика и вручается диплом с отличием…»
Я бормочу невнятные слова благодарности и под аплодисменты возвращаюсь на место.
На концерт не остаюсь — спешу в общежитие к Елене. Она не смогла прийти на вечер, — не с кем было оставить нашего младшего сынка, Степана. Ему всего семь месяцев.
Дома, на празднично убранном столе, бутылка моего любимого красного вина «Шамхор», — Елена купила.
Она бросается мне на шею и молчит, глаза у неё влажные.
Егор не спит, он, протягивает мне подарок — справочник Ньютона в коленкоровом переплёте — и говорит:
— Поздравляю, папа!
Я хватаю его в охапку и кружусь по комнате.
— Тише вы, Стёпку разбудите! — останавливает нас Елена.
Садимся за стол, пьём за наши успехи и счастье на всей земле.
До чего же всё хорошо! Мне кажется, что счастливее меня нет сейчас человека на свете…
Через три дня вызывают в Наркомат среднего машиностроения. Заместитель наркома по кадрам ведёт со мной долгую беседу. Он интересуется всем: где родился, кто родители, есть ли жена, дети, чем занимался до учёбы… Под конец говорит:
— Мы направим вас на Урал, директором машиностроительного завода. В городе есть медицинский институт — ваша жена сможет продолжать учёбу. Не возражаете?
Это — как снег на голову. Директор завода!.. Понимаю, что возражать бесполезно, но очень уж боязно. Молчу, соображаю, что бы такое ответить поубедительнее. Заместитель наркома продолжает:
— Центральным Комитетом партии вы направлены в наше распоряжение для использования на руководящей работе. У вас большой опыт организационной работы плюс теоретические знания, полученные в академии. Справитесь! Директорами не рождаются…
Веских доводов для отказа у меня нет. Нехотя даю согласие и через несколько дней получаю приказ о назначении.
Опять дорога. Ехать одному, потом возвращаться за Еленой с детьми не имеет смысла — это ненужная трата времени. К тому же я так соскучился по практической работе, что хочется поскорее, не мешкая, взяться за дело.
Вещей у нас очень мало. Самое необходимое сдали в багаж, купили билеты и простились с Москвой.
Я, наверное, и вправду родился в сорочке, и недаром мама в детстве называла меня «везучим». Повезло мне и на этот раз. Попал я на молодой, недавно пущенный машиностроительный завод с очень хорошим коллективом. На первом же техническом совещании я честно признался, что никогда не был на хозяйственной работе, тем более не руководил предприятием, и сказал, что рассчитываю на помощь и поддержку специалистов и всего коллектива. Моя откровенность понравилась заводскому народу, и уже с первых же дней моей работы каждый старался подсказать мне, как нужно действовать, помочь, поделиться своим опытом.
В течение первых четырёх месяцев по вечерам, после работы, я запирался в своём директорском кабинете часа на два с кем-нибудь из специалистов — главным технологом, плановиком, главным механиком, бухгалтером — и, как ученик, проходил с ними то, чему не учат ни в одном вузе, ни в одной академии, — специфику производства. Вопросы, связанные с организацией производства, давались мне более или менее легко, а вот с бухгалтерией не ладилось. Целые простыни форм учёта и отчётности, тысячи норм и расценок, десятки разнообразных проводок!.. Бедный главный бухгалтер часами вдалбливал в мою голову всё это и успокоился только тогда, когда я научился самостоятельно читать баланс.
Жили мы с Еленой на окраине города, в маленьком директорском домике, недалеко от завода. Мой предшественник, энтузиаст-садовод, развёл вокруг дома фруктовый сад, огород, посадил много цветов. У него была даже небольшая пасека. И вот мне, горожанину, пришлось заниматься всем этим: не мог же я допустить, чтобы погибли деревья, в выращивание которых было вложено столько труда и любви!..
Мы с Еленой вставали чуть свет и, вооружившись лопатами и тяпками, рыхлили землю под деревьями, пололи огород, поливали цветы. Пасеку ликвидировали — на неё не хватало времени. Елена с детства умела ухаживать за цветами и делала это с любовью. Да и я полюбил копаться в земле — это заменяло мне утреннюю гимнастику. Возясь на огороде, я разговаривал сам с собой, задавал себе вопросы, как постороннему, и тут же отвечал на них. Это были длинные и не всегда приятные для меня беседы.
«Ты, товарищ директор, почти полгода руководишь заводом, выполняешь производственную программу на сто два, сто три процента. Это неплохо. Но скажи по совести, хоть раз ты задумался над тем — предел ли это возможностей, пущены ли в ход все резервы?»
«Нет, конечно!» — с огорчением отвечал я сам себе.
«Так в чём же дело, почему топчешься на месте? Выполнять государственный план — обязанность. Где ж твоя творческая инициатива?»
«Трудно мне! Да и народ у нас молодой, — хороший народ, честный, но не хватает нам технической культуры».
«Разумеется, трудно! Кто говорил тебе, что руководить большим современным предприятием легко? Но разве ты всерьёз брался за создание спаянного коллектива, за повышение технической культуры? Найди ключ к сердцу каждого, поставь перед людьми большие задачи, зарази энтузиазмом!»
«Верно, всерьёз я за это не взялся…»
«Вот видишь! Так недолго превратиться и в чиновника… Неужели ты не замечаешь, что у каждого человека свой характер, свои запросы и к каждому требуется особый подход? Мастера сборки Лютова, например, нужно дважды в месяц вызывать на серьёзный разговор, — тогда он подтягивается, работает лучше. А молодого технолога Коновалова обязательно нужно похвалить — найти пустяковый повод и похвалить. Это даёт ему веру в свои силы… Всех стричь под одну гребёнку не годится! Помнишь, токарь Сашин в прошлом месяце не выполнил норму. Его проработали, грозились снять со станка, и никто не поинтересовался, почему случилось такое с хорошим рабочим. А у парня мать была при смерти, он ночами сидел у её постели, недосыпал. Нужно было помочь человеку!»
«И это верно! Мы плохо знаем людей, не хватает у нас умения подойти к каждому. Буду почаще бывать в общежитиях, в домах рабочих, специалистов, больше заботиться об их быте. То же самое попрошу сделать секретаря парткома, председателя завкома…»
«Хорошо! Но имей в виду — и этого мало! Техника и технология на заводе не прогрессируют, отстаёт и организация производства. Инженеры, техники завязли в текучке и не думают о перспективах. Путём внедрения мелких рационализаторских предложений далеко не уедешь!.. Слов нет, они нужны. Но нужно и Другое: постоянная забота о техническом прогрессе, — иначе отстанешь. Почему, например, ты не думаешь о поточных линиях?»
«Очень просто: для этого нужны деньги, дополнительные станки, приспособления!»
«Понятно, что нужны. Но ты палец о палец не ударил, чтобы достать их. Даже задачу такую перед собой не поставил. Известно ведь, что под лежачий камень вода не течёт…»
«Гм!.. Нужно подумать, посоветоваться со специалистами, подсчитать… Такие дела с бухты-барахты не делаются…»
«Думать и строить планы на будущее никогда не мешает. Однако запомни: в хороших замыслах недостатка ни у кого не бывает. Главное — конкретные дела. Говорят, благими намерениями ад вымощен!.. Ещё одно: увлёкшись работой, ты совсем забросил семью. Все заботы по дому переложил на плечи жены, забыл, что она учится на пятом курсе и что у неё скоро государственные экзамены. Елена разрывается на части — и обед готовит, и стирает, и убирает. Утром и вечером бегает в ясли за маленьким Степаном. Сам ты ни разу не заглянул ни в ясли, ни в детский сад, — забыл, что там воспитываются дети рабочих. Твой старший сын, Егор, вернувшись из школы, остаётся один без присмотра. Смотри, так недолго и до беды!»
«Правильно! Нехорошо получается…»
Нашли старуху, — Елене стало полегче. Вообще-то, воспитанная в трудовой семье, она никогда не унывала и никакой работы не боялась. Наблюдая за нею, я часто удивлялся, откуда у неё берётся столько энергии и выдержки.
Наступила зима, суровая, морозная, со снежными метелями. Иной раз за ночь выпадало столько снега, что утром с трудом выбирались из дома. Но было много и солнечных дней, когда воздух становился удивительно лёгким, а под лучами холодного солнца ослепительно блестел и искрился чистый голубоватый снег. Купили валенки, лыжи, и по воскресеньям, если выпадал хороший денёк, мы с Еленой, прихватив с собой Егора, совершали далёкие прогулки по окрестностям. Возвращались домой, надышавшись морозным воздухом, приятно усталые, голодные. Варёная картошка с луком и подсолнечным маслом казалась вкуснее самых изысканных блюд.
К новому году нам увеличили программу, включили в план новые модели станков. Задела у нас не было — отставали инструментальный цех, штамповка, и завод начало лихорадить. Вот тут-то с новой силой и встал вопрос о потоке.
От споров и разговоров перешли к делу. Началась спешная работа — сперва в кабинетах, за чертёжными столами, у арифмометров. Подсчёты неопровержимо доказывали эффективность и экономичность поточного метода.
Предварительные итоги наших поисков обсудили на заседании парткома, вынесли на собрание партийно-хозяйственного актива. Нас поддержали, — нашлось много энтузиастов среди рабочих, инженерно-технических работников. Посыпалось множество предложений, интересных идей.
У нас не было опыта, и дело не обошлось без серьёзных ошибок. Ежедневно возникало множество больших и малых трудностей. Но мы сравнительно легко их преодолели и к весне пустили первую поточную линию.
Результат превзошёл наши самые лучшие ожидания. Шутка сказать, производительность труда и оборудования поднялась на двадцать два процента и резко сократился брак!..
Собрали необходимый материал, и я с главным технологом поехал в Москву — отстаивать идею перевода всего завода на поток. В наркомате и главке отнеслись к нашим предложениям сочувственно. После недолгих споров и уточнений отпустили необходимые средства, разместили заказы на нужное нам оборудование. По расчётам специалистов главка, после перевода всего завода на поток мы должны были увеличить выпуск продукции процентов на двадцать — двадцать пять. Что и говорить, перспектива заманчивая: при незначительных затратах дать стране такое количество металлорежущих автоматов и полуавтоматов!..
Домой вернулись окрылённые, как бывает всегда, когда есть большая цель и работа спорится.
Во второй половине 1936 года завершили все подготовительные работы и производство перевели на поток. Выпуск продукции увеличился почти на одну треть.
Дела на производстве шли хорошо. Но душевного покоя, полной удовлетворённости жизнью не было… Вокруг творилось что-то странное, в чём невозможно было разобраться… Откуда вдруг взялось столько врагов, особенно среди почтенных, пользующихся уважением людей и хороших, знающих специалистов?
Бывало, пойдёшь к кому-нибудь из руководящих работников города поговорить о неотложных делах, а наутро узнаешь: его арестовали как врага народа.
То же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило у нас на заводе. Прикреплённый к нам оперуполномоченный не выходил из кабинета начальника спецотдела, требовал всё новые и новые сведения о наших работниках, интересовался их характеристиками. Подпишешь деловую, объективную характеристику работнику, которого знаешь хорошо, а через день-другой услышишь, что его арестовали. За что? Ответ тот же: враг народа!..
Как-то горком партии рекомендовал нам секретарём заводской партийной организации одного инженера. Коммунисты, доверяя горкому, единогласно избрали его. Человек он оказался деловой, всем пришёлся по душе, но через два месяца после выборов он был арестован. Инженеру этому было тридцать три года. Выходец из рабочей семьи, он рос и воспитывался при нашем советском строе, — как же он мог стать врагом?..
Работал у нас крупный конструктор Гончаров. Учёный, энтузиаст своего дела. Скромный, честный до предела, не раз и не два отмеченный правительственными наградами. Словом, гордость нашего завода. Мы ставили Гончарова в пример другим, особенно молодым специалистам: учитесь, мол, у него, будьте такими, как он. И вдруг Гончарова арестовали. Я тотчас отправился в городской отдел НКВД. Принял меня заместитель начальника и вместо прямого и ясного ответа на вопрос, почему арестовали крупного специалиста Гончарова, грубо оборвал меня:
— Значит, нужно было!..
— Это не ответ. У нас забрали десяток специалистов, — коллектив должен знать, за что.
— Нужно будет — заберём ещё! Вас спрашивать не будем. Уж не вздумали ли вы заступаться за врагов народа? — грозно спросил он.
Ушёл я от него подавленный. Сколько я себя помню, никто ещё так не разговаривал со мной.
Своими тревожными мыслями я поделился с секретарём горкома партии, с которым дружил. Кстати сказать, я тоже был членом бюро горкома. От прямого разговора он уклонился.
Удивительное дело!.. Кажется, действительно никто не решается думать самостоятельно и уж тем более давать объяснение происходящему. Ждут директив, указаний?..
Люди на глазах менялись — теряли друг к другу доверие, замыкались в себе. И это было страшнее всего.
Обходя цехи, я часто ловил на себе насторожённые взгляды рабочих. Они словно спрашивали: «Ты наш руководитель и обязан сказать нам, что происходит, почему сажают наших товарищей?» А что я мог им ответить?..
Днём я был перегружен работой и думать о посторонних вещах было некогда, но по ночам я не знал покоя. Случалось, до самого рассвета я не мог заснуть. Впервые в жизни с сомнением подумал: справедлива ли теория о том, что по мере нашего приближения к социализму классовая борьба будет обостряться? Где же тут жизненная логика? Ведь девяносто девять и девять десятых всех советских людей делами своими доказали преданность партии, социализму, — в чём же дело? Может быть, я чего-то недопонимаю по своей неосведомлённости или из-за недостаточной теоретической подготовки?
Елена замечала моё состояние и часто спрашивала, что со мной.
— Не спрашивай, Алёнушка! Не тревожь душу себе и мне, — отвечал я, с тоской думая о том, что не решаюсь поделиться мыслями даже с самым близким мне человеком — с Еленой, от которой у меня никогда не было тайн…
Получили новое задание от наркома — запроектировать строительство двух больших цехов, расширить литейный цех с тем, чтобы к тридцать девятому году удвоить выпуск станков. Задание было не из лёгких: за два с половиной года построить огромное здание, подготовить кадры, смонтировать оборудование, не говоря уж о расширении культурно-бытовых учреждений для обслуживания нового притока рабочих и специалистов.
Однажды, после совещания, на котором рассмотрели и утвердили техническое задание проектному институту, ко мне подошёл заместитель главного технолога завода, молодой инженер Русин, и попросил выслушать его.
— Иван Егорович, — начал он, — не нужно нам строить новые цеха, мы и без этого в состоянии удвоить выпуск продукции!
— Как это так? — Грешным делом я подумал, уж не свихнулся ли человек.
— Очень просто. Мы можем всего достигнуть на существующих площадях, при условии, что перейдём на штамповку большинства деталей вместо их обработки на токарных и револьверных станках. — Русин раскрыл толстую тетрадь, заполненную расчётами и схемами, и протянул мне. — Я всё подсчитал и нашёл, что при штамповке4 освобождается более ста двадцати станков и на их месте легко размещается недостающее нам оборудование. Конечно, придётся опять перестроить цеха и организовать поток на новых принципах, но это уже детали!
Чем больше я углублялся в расчёты Русина, тем больше убеждался, что выводы его правильны. Переход на штамповку не только резко увеличивал общую производительность, но и давал большую экономию в расходе металла: мы ежедневно отгружали металлургическим заводам целые составы стружки. Я знал, что в стране большая нехватка в кузнечно-прессовом оборудовании. Тяжёлые прессы ценились на вес золота, да и никто из машиностроителей не перешёл ещё полностью на штамповку. Дадут ли нам нужное оборудование? Вот в чём заключался вопрос. Сама же идея Русина никаких сомнений не вызывала, — с нею согласились бы самые осторожные и консервативные специалисты.
По логике вещей, оборудование нам должны были дать: мы ведь освобождали государство от необходимости сооружать громадные здания, отказывались от металлорежущих станков и других наименований и, наконец, брали на себя обязательство в течение трёх лет окупить все расходы по расширению завода за счёт экономии металла.
Снова пришлось ехать в Москву.
На этот раз нас встретили по-другому. Начальник главка, выслушав меня, замахал руками.
— Не мудрите, Силин, и выполняйте то, что вам поручено! — сказал он, и я сразу вспомнил Медведева. — Вишь какие умники нашлись, — откуда я возьму вам такое количество кузнечно-прессового оборудования?
Получив отказ, мы с Русиным не отступили. В течение двух недель подолгу высиживали в приёмных разных начальников. Побывали в промышленном отделе ЦК партии, дошли до наркома и добились своего.
Нарком загорелся нашей идеей и сказал начальнику главка и другим руководителям:
— На самом деле, почему бы нам, в порядке опыта, не создать такой завод? Ведь со временем все заводы перейдут на штамповку. Дадим возможность Силину и его коллективу экспериментировать. Пусть накопляют опыт!..
Уезжая в столицу, я твёрдо решил разыскать Челнокова и поговорить с ним по душам. Уж кто-кто, а Модест Иванович должен знать и понимать многое. Он один мог ответить на мучающие меня вопросы и рассеять мои сомнения. Мне было известно, что после учёбы он остался в Москве и продолжает работать в органах.
Закончив дела, нашёл его телефон, позвонил. Странно, Модест Иванович разговаривал со мной без обычной теплоты в голосе, но всё же пригласил зайти к нему вечерком домой. Жил он в маленькой двухкомнатной квартире на Арбате.
Встретил он меня как-то отчуждённо. Он неважно выглядел, — осунулся, казался больным.
— Давай, Иван, выпьем, — предложил он, ставя на стол бутылку, рюмки, хлеб, закуски.
Мне стало не по себе — я ведь знал Челнокова убеждённым трезвенником.
— Да, брат, творится нечто непонятное, — заговорил он после второй рюмки. — То, что когда-то для нас с тобой было святая святых, позабыто. Кого-то устраивают карьеристы и подхалимы. Они ведь не думают и не хотят думать, они с радостью выполняют любое приказание сверху. Нет теперь ни Ленина, ни Дзержинского… Они таких на пушечный выстрел к органам не подпускали. Ты счастливец, что перешёл на хозяйственную работу. Я тоже удрал бы куда глаза глядят, да не знаю, как это сделать!
— Вы просто устали, — сказал я, с тревогой глядя на него.
— Какая, к чёрту, усталость! Пойми, жить стало противно. Иногда хочется пулю пустить в лоб. — Модест Иванович снова наполнил рюмки и быстро осушил свою.
— И это говорите вы? — воскликнул я. — Нет, вам непременно нужно отдохнуть! Хотите, поедем со мной на Урал, там великолепная охота, новые люди. А как Елена будет рада вам!
Он долго смотрел на меня отсутствующим взглядом, словно не видел меня. Наконец сказал:
— Эх, Иван, Иван, чистая ты душа, ничего не знаешь! Впрочем, хорошо, что не знаешь…
Он был прав: я многого не знал. Но сейчас, слушая Челнокова, я почувствовал ещё большее беспокойство — не такой он человек, чтобы преувеличивать.
— Я уже говорил вам, что творится у нас в городе и на заводе, — ответил ему. — Может быть, всё это чем-то оправдано. Уж в очень сложную эпоху мы живём, — война стучится в двери, нужно, чтобы в тылу был порядок. Ведь с горы виднее…
— Дай бог, как говорится, чтобы было так!.. Нет, — он тряхнул головой, — что-то не то, Иван, не то!..
Разговор не клеился, к тому же Челноков быстро захмелел. Посидев ещё немного, я поднялся, и тут произошло то, чего я меньше всего мог ожидать. Модест Иванович обнял меня, поцеловал. Он плакал. Слёзы так и текли по его бледному, осунувшемуся лицу.
— Береги себя, Иван! — говорил он хриплым, срывающимся голосом. — В наше время всякое может случиться! Если со мной стрясётся неладное, не поминай лихом… Знай, я был верным большевиком и останусь им, что бы ни случилось!..
— Модест Иванович, вы чего-то не договариваете!
— Иди, иди!.. Больше ничего не скажу — и так наболтал лишнее, смутил твою душу! — Он почти силой вытолкнул меня на лестничную площадку и захлопнул дверь.
Шагая по полутёмным переулкам Арбата, я никак не мог прийти в себя. Если уж такой человек, как Челноков, опустил руки, значит, действительно в стране происходило что-то очень сложное, несправедливое, непонятное…
Челноков заплакал! И сердце моё сжалось, когда я вспоминал об этом… И почему он сказал, что и с ним может что-то случиться?..
Дома Елена сразу заметила моё подавленное настроение. Стала допытываться: не случилось ли чего со мной? Я смолчал — сослался на трудности в работе.
Перевод завода на новую технологию тоже шёл не так гладко, как хотелось бы. Многие поставщики, словно сговорившись, отделывались одними обещаниями. Пришлось направлять «толкачей» во все концы страны, но часто без толку — они возвращались с пустыми руками.
Наступила затяжная весна 1937 года. Уральское небо часто хмурилось, шли бесконечные дожди вперемежку с мокрым снегом. Потом за какие-нибудь два дня небо очистилось от туч, и жаркое солнце засияло, как на юге. Горы освободились от снежного покрова, зазеленели поля…
Особенно задерживали нашу работу бакинцы — от них мы должны были получить большое количество разнообразного кузнечного оборудования. Руководители завода-поставщика играли с нами в кошки-мышки. То сообщали, что скоро отгружают оборудование, то опять засыпали нас ненужными запросами.
Убедившись, что без серьёзных мер мы из Баку ничего не получим, я поехал туда сам.
Пришлось затратить много сил и энергии, прежде чем удалось убедить директора завода и главного инженера в необходимости выполнения приказа наркома. Однако это было полдела, — нужны были станки, а не обещания.
На шестой день моего пребывания в этом знойном городе, после очередного спора с руководителями завода, усталый и сердитый, я вернулся в гостиницу. Уселся перед раскрытым, выходившим на море окном, долго смотрел в лазурную даль. Что ни говори, красивее моря, кажется, ничего нет на свете!..
В дверь постучали.
— Войдите, — сказал я, не поворачивая головы, уверенный, что пришли убирать номер.
— Иван Егорович! — послышался знакомый голос. Шурочка! Я не верил своим глазам. Она пополнела, около глаз появились морщинки, в волосах серебрилась чуть приметная седина.
— Шурочка, милая, какими судьбами!
— Да я ведь давно работаю здесь… Только сегодня узнала о вашем приезде. — Она говорила мне «вы», голос у неё был какой-то тусклый, усталый. Нет, это не прежняя живая, весёлая Шурочка.
— Ну, садись, садись, рассказывай, как живёшь? Мы ведь так давно не виделись — почти четырнадцать лет! Это же целая вечность.
— Вот именно — целая вечность… Сколько воды утекло за это время! Живу я так себе, но живу. А вот что будет со мной завтра — не знаю…
Она упорно смотрела себе под ноги, как бы боясь встретиться со мной взглядом.
И не столько от её слов, сколько именно от этого мне стало тоскливо, неспокойно. Я пересилил себя и бодрым тоном спросил:
— Рассказывай, в чём дело! Верно, неудачная любовь или, может, даже замужество?
— Ни то, ни другое!.. Речь идёт о более серьёзных вещах… С вашей лёгкой руки я стала чекисткой и до сих пор работаю в органах. Лет семь тому назад перевели меня сюда, побывала на разных должностях, а теперь работаю заместителем начальника райотдела Шаумяновского
района…
— Чем же это плохо?
— Иван Егорович! Если бы вы знали, чем мы занимаемся, не говорили бы так!.. Как будто здесь нет ни партийной организации, ни Советской власти, а есть один Багиров, — он царь и бог. Его слово — закон для всех. И не думай возражать — голову снесут… Поэтому-то я и пришла сюда. Пожалуйста, взгляните на этот документ, — Шурочка достала из кармана бумажку и протянула мне.
Я прочитал:
«Совершенно секретно
Начальнику райотдела Шаумяновского района г. Баку тов. Садыкову И. А.
Вы действуете слишком медленно и нерешительно. Примите меры для усиления работы вверенного вам участка. Организуйте немедленный арест по прилагаемому при сём списку так называемых «старых большевиков», проживающих на территории вашего района. Они слишком шумят. Проследите лично, чтобы никто из них не ускользнул.
Исполнение доложите немедленно.
Медведев».
Я, как в полусне, читал длинный список. Может ли это быть?
— Имейте в виду, что многие из этих людей работали с бакинскими комиссарами — Шаумяном, Джапаридзе, Азизбековым, подолгу сидели в царских тюрьмах и в мусаватйстских застенках! — сказала Шурочка.
— Кто такой Медведев? — спросил я.
— Заместитель нашего наркома.
— Кузьма Харитонович?
— Он самый… По-моему, вы его должны знать по Донбассу.
— Знаю!..
— Страшный человек — верный пёс Багирова. Ради карьеры родную мать и отца продаст! — Шурочка замолчала, долго о чём-то думала. Потом сказала: — Понимаете, я изъяла эти документы с намерением поехать в Москву и там показать кому следует, — пусть знают в центре, что творится у нас! Модест Иванович Челноков обязательно бы помог, но случилось несчастье — недавно его арестовали. Я об этом узнала вчера вечером… Что же это такое, Ваня? — Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться.
Я молчал. Как же так? Медведев — заместитель наркома, а Челноков за решёткой?!.
— Вы сами понимаете, что арест Челнокова меняет положение. Здесь знают, что я его ученица, и горжусь этим. Теперь мне не добраться до Москвы. Прошу вас, Иван Егорович, возьмите эти документы с собой!.. Вы ведь будете в столице, — найдите способ и передайте их кому-нибудь из членов Политбюро ЦК. Знаю — это риск, но что делать? Если мы все будем сидеть сложа руки, к чему это приведёт?
— Я сделаю всё, что смогу, — сказал я.
— Я знала, что вы не откажете!.. Старая гвардия не сдаётся! — Шурочка слабо улыбнулась, встала.
Мы оба были слишком взволнованы, чтобы продолжать разговор. Пожимая на прощание мою руку, она сказала:
— Будьте здоровы, миленький! Желаю вам удачи во всём, желаю большого счастья! — и торопливо добавила, понизив голос — Послушайте моего совета: уезжайте отсюда как можно скорее! Здесь всякое может случиться.
— Хорошо, я вас понимаю.
Я долго ходил по номеру из угла в угол. Мысли мои путались. Увидел лежащие на столе документы — и сразу заработал мозг чекиста. Свернул документы в тонкую трубочку, аккуратно сунул в гильзу папиросы. На гильзе сделал карандашом незаметную отметку, чтобы случайно не спутать с остальными папиросами. Шурочка была права: нужно выбираться отсюда как можно скорее, иначе не миновать беды.
Городская железнодорожная станция была уже закрыта. Не теряя времени, я тотчас поехал на вокзал — взял билет на следующий день.
Ночь провёл ужасную, никогда ещё не было так тяжело на душе… Раздумывая над последними событиями, сопоставляя факты, я приходил к выводу — несчастье надвигается и на меня… Не нужно было быть особенно прозорливым, чтобы понять: о приходе Шурочки ко мне могли знать. Могли обнаружить и исчезновение важного документа, а этого достаточно для привлечения её к строгой ответственности. Медведев, человек хотя и самонадеянный, но не такой уж дурак, чтобы не понять, какое впечатление может произвести подписанное им лично это ужасное распоряжение. Попади оно в нужные руки, немедленно начнётся разбирательство, и местное начальство не простит ему такую оплошность. Понятно, он примет все меры и не допустит провала. А если заподозрит, что мне известно о существовании этого документа, изолирует, и меня.
Уже рассвело. Тёмные просторы Каспия посветлели на востоке. В бухте сновали труженики буксиры, над ними кружились чайки. Я всё лежал с открытыми глазами и думал…
Потом встал, принял холодный душ, расплатился за номер, — решил больше не возвращаться в гостиницу, — взял чемодан и отправился на завод. Объяснив свой поспешный отъезд неотложными делами, попросил директора не подводить нас и вовремя отгрузить оборудование.
Московский поезд отходил в два часа дня. В моём распоряжении было ещё много свободного времени. Оставив чемодан в проходной завода, пошёл побродить по городу. Позавтракал в маленьком кафе, потом зашёл в какой-то музей — здесь было меньше риска попасть на глаза сотрудникам Медведева.
На вокзал приехал за десять минут до отхода поезда. Вышел на платформу, направился к своему вагону. Сердце сильно билось, но внешне я был спокоен.
Шагах в пятнадцати от вагона путь мне преградил молодой человек в штатском.
— Вы Силин? — спросил он.
— Да, я Силин.
— Пройдёмте, пожалуйста, со мной.
— В чём дело? — спросил я, хотя и понимал бессмысленность моего вопроса.
— Там узнаете.
— Но до отхода моего поезда осталось несколько минут!
— Ничего, вы ещё успеете! В крайнем случае поедете следующим поездом.
— Но поймите, я спешу на завод, меня ждут, — говорил я, делая вид, что нервничаю, достал из кармана коробку «Казбека», взял отмеченную карандашом папиросу и попытался закурить. Естественно, она не курилась, я смял её, бросил в урну и достал другую.
Молодой человек внимательно следил за каждым моим движением, но, по-видимому, ничего подозрительного в них не нашёл. Будь у него побольше опыта, он бы не дал мне бросить папиросу или, на худой конец, достал бы её из урны. Во всяком случае, я без труда избавился от документа, который был так необходим Медведеву, и вздохнул свободнее.
Пришли в помещение транспортного ГПУ. Там нас ждали трое. Они предложили мне пройти в следующую комнату, молча произвели обыск, забрали всё, что было в моих карманах, потом посадили в легковую машину и повезли в республиканское управление.
Ещё утром я был человеком — ходил, действовал — и вдруг стал ничем. Человек может перенести всё, даже самые страшные муки, может просидеть годы в тесной, как каменный мешок, камере, но только если он знает, за что, если страдает и терпит во имя большой идеи. Революционеры сознательно шли на всё — теряли свободу, рисковали жизнью, но им, наверно, было легче, чем мне. Свои, свои арестовали!.. Сознание этого было невыносимо. Там, на Урале, остался большой коллектив людей, — они верили мне. А теперь? Мои сыновья, — неужели им суждено расти в убеждении, что их отец преступник? Может быть, они отрекутся от отца — врага народа? А Елена, что подумает она? Я до крови кусал губы…
Меня никуда не вызывали, ни о чём не спрашивали, словно забыли о моём существовании. Наконец на пятые сутки, вечером, повели на допрос.
Средних лет человек с двумя шпалами в петлицах гимнастёрки велел мне сесть на стул так, чтобы на меня падал яркий свет от настольной лампы, и начал задавать самые нелепые вопросы: какой иностранной разведкой я завербован? Для выполнения какого конкретного задания приехал в Баку? От кого получил задание? Кто мои сообщники?..
Я отвечал сдержанно, коротко. Но под конец терпение моё иссякло, и я спросил его:
— Зачем напрасно тратить время? Вы же сами не верите тому, о чём спрашиваете меня!
— Молчать! — закричал он. — Не прикидывайтесь наивным младенцем! Нам всё известно. Отвечайте: вы встречались с английской шпионкой Александрой Астаховой?
Мои догадки подтверждались.
— Не с английской шпионкой, а с сотрудницей органов Астаховой встречался.
— Где, о чём вы говорили с ней?
— Мы фронтовые товарищи, вместе воевали в одном полку. Она навестила меня в гостинице. Разговаривали о разном — вспоминали старое…
— Только и всего?
— Только и всего.
— С какой целью она передала вам совершенно секретные документы, имеющие важное государственное значение?
— Вы ошибаетесь. Астахова никаких документов мне не передавала. У нас даже разговора не было о таких вещах.
— Астахова призналась, что украла из райотдела, куда она попала обманным путём, секретные документы и передала вам, чтобы через вас переправить их за границу!
— Не знаю, что вам говорила Астахова, но я ни о каких документах, секретных и не секретных, понятия не имею. Вы меня с кем-то путаете.
— Послушайте, Силин, вы были когда-то чекистом, у вас есть некоторый опыт. Вы должны понять: в вашем положении единственный выход — чистосердечное признание! Иначе мы с вами церемониться не станем. Как вы попали в своё время в Чека и что там делали — вопрос особый. Им мы тоже займёмся!.. Скажите, где документы? Верните их, и я обещаю облегчить ваше положение.
— Да, я был чекистом, — сказал я, — и у меня за плечами не «некоторый», а более чем десятилетний опыт в борьбе с врагами революции. Выясняйте всё, что вам угодно, но не угрожайте мне. Я не из трусливых. Имейте в виду, больше я не скажу ни слова, если будете разговаривать со мной в таком тоне! — Кровь у меня кипела, и в эту минуту я меньше всего думал о последствиях.
— Ничего, заговорите!.. Не таких ещё героев обламывали. — Следователь усмехнулся и, закуривая папиросу, добавил: — Вы ответите ещё за ваши прошлые преступления. В Донбассе, будучи заместителем начальника управления, вы ограждали вредителей и контрреволюционеров.
Это уже была работа Медведева…
После допроса меня отвели в общую камеру. Не знаю, что было лучше — одиночка или битком набитая камера, в которой трудно было дышать.
Говорят, в заключении люди быстро мужают. Может быть, в этом и есть доля истины. Но, глядя на моих соседей по камере, я бы сказал иначе: в заключении люди быстрее познаются. До чего же было противно смотреть на некоторых бывших ответственных работников!.. Они без конца хныкали, пускали слезу, поносили всех и вся. Были, конечно, и стойкие люди, мужественно переносившие своё несчастье.
Наступила осень. В камере стало холодно, по ночам мы мёрзли. На мне был лёгкий летний костюм, на ногах полуботинки, — ничего тёплого у меня не было. Я с ужасом думал о том, что же будет со мной, если придётся ехать на север? А в том, что ехать придётся, я почти не сомневался…
За три месяца меня допросили ещё три раза и всё в том же духе. Наконец повели к самому Медведеву.
Он сидел за письменным столом, важный, надутый. Крупная, чисто выбритая голова, под лохматыми бровями — маленькие злые глазки, дряблые щёки ещё больше обвисли.
— Ну-с, Силин, помнишь, я говорил при нашем прощании, что мы с тобой ещё встретимся?.. Вот и встретились! Садись, рассказывай, как ты дошёл до такой жизни? — широким жестом он указал рукой на стул.
Я молчал и думал: до чего же ничтожен этот человек, — не удержался от удовольствия поиздеваться надо мной!
— Игра в молчанку тебе не поможет. Лучше признавайся во всём, и я облегчу твою участь.
— Вы же не хуже меня знаете, что признаваться мне не в чем.
— Ты уговорил английскую шпионку Астахову украсть секретные документы и передать тебе. Хотел дискредитировать руководство, но силёнок у тебя оказалось мало. Твоё время давно прошло. Говори, где документы?.. — вдруг заорал он, стукнув кулаком по столу.
— Я помню, голос у вас громкий… Но вы напрасно напрягаете его. Хотите свести со мной старые счёты, — сводите. Зачем же приплетать ещё всякие небылицы?
Я понимал: терять мне нечего. Пусть он хоть напоследок поймёт, что он слабее, — сломить меня ему не удастся.
— Погоди, я так ошпарю кипятком твои копыта, что ты у меня заговоришь!.. Думаешь, я ещё в Донбассе не разгадал, что ты за фрукт? Говори, где документы, иначе, клянусь честью, сотру тебя в порошок.
— Чести у вас никакой нет, и вас я ни капельки не боюсь!.. Уверен, что придёт время и вы за всё ответите! — сказал я и встал.
Медведев с бешеной злобой молча смотрел на меня. Потом позвонил и, когда вошёл сопровождавший меня человек, сказал:
— Уберите эту сволочь!
На следующий день меня вызвали в канцелярию и сообщили:
— За враждебную деятельность против Советской власти вы, решением особой тройки, осуждены, как враг народа, на десять лет лагеря, без права переписки. — И предложили расписаться в том, что мне известен приговор.
Враждебная деятельность против Советской власти! Враг своего народа!.. Десять лет — целая вечность. И, всё-таки эту весть я выслушал спокойно, потому что внутренне был подготовлен к ней. От Медведева ничего лучшего я не ожидал. И всё-таки носить позорную кличку врага Советской власти было невыносимо…
Вернувшись в камеру, я всю ночь вспоминал свою жизнь — день за днём. Ни разу не приходилось мне вступать в сделку с совестью. Я шёл прямой дорогой, честно служил партии и народу. В чём же дело? Под конец пришёл к заключению, что в стране происходят какие-то очень сложные процессы, о которых я ничего не знаю, а может быть, просто не понимаю их…
Посадили нас, группу осуждённых, в теплушку, оборудованную нарами, с железной печуркой и решётками на маленьких окнах, и поехали мы в неизвестном направлении.
Война
Специальность инженера пригодилась мне, как никогда; через год я работал в механических мастерских и пользовался правом свободного хождения по лагерю.
Мы, лишённые права переписки, были оторваны от внешнего мира. Но всё же иногда к нам просачивались, правда, с большим опозданием, кое-какие слухи с Большой земли. Мы, например, знали, что немцы оккупировали Чехословакию, Польшу и в Европе началась большая война.
Летом 1941 года мы узнали о нападении фашистов на нашу страну.
Лагерь гудел, как встревоженный улей. Люди, ещё вчера безразличные ко всему, кроме своей собственной горькой судьбы, вдруг словно проснулись и, позабыв о личных обидах, стали думать о судьбе Родины. Они сетовали на то, что сидят взаперти, даром едят казённый хлеб, тогда как народ кровью поливает родную землю. Посыпались заявления, просьбы — особенно от бывших военных и молодёжи — об отправке на фронт.
Я, конечно, тоже подал заявление, но проходили дни, недели, а ответа не было. Мы узнавали о тяжёлых боях на фронте, об оккупации фашистами жизненно важных районов страны, и все эти горестные вести камнем ложились на душу.
Я часто ходил в канцелярию лагеря, просил разрешения написать заявление. Писал в Верховный Совет, писал Сталину. Всё напрасно! То ли заявления не доходили по адресу, то ли мне не хотели доверить винтовку?..
Наступила зима — суровая зима Крайнего Севера. На земле лежал мёртвый покров снега, морозы доходили до пятидесяти градусов. Закрылись все дороги, и лагерь приуныл: теперь не выберешься отсюда, даже если разрешат…
И тут счастье снова улыбнулось мне: весной 1942 года я попал в первую партию из тридцати человек, получивших разрешение отправиться на фронт.
На собачьих упряжках добрались мы до маленького заснеженного аэродрома, а оттуда на самолётах — до «Большой земли».
Трудно описать мою радость: я опять был свободным человеком! Возможность погибнуть на фронте не страшила меня. Умереть, зная, что борешься за Родину, — это ведь счастье!
Прежде всего написал письмо Елене. Карандаш дрожал в пальцах, на глаза навёртывались слёзы. Без малого пять лет — долгих, нескончаемых пять лет — не видел я своих, днём и ночью беспрестанно думал о них. Сыновья мои, верно, стали совсем большими. Егору уже двенадцать, Степану — восемь. Какие они теперь, не забыли ли меня? А Елена? Замучилась, бедняжка, — шутка сказать, жена врага народа, с двумя мальчишками на руках! Впрочем, я надеялся на её выдержку и твёрдый характер, — не такой человек моя Елена, чтобы пасть духом. Получить бы хоть весточку из дома!.. Но это пока невозможно: я ведь не мог сообщить Елене своего обратного адреса. Да и живут ли они в заводском посёлке?..
Недели две маршировали в учебном батальоне. Потом нас, лагерников, рассортировали по разным частям и отправили на фронт.
Эшелон, в котором находился я, двигался медленно, с большими остановками. Только в апреле прибыли мы на место назначения.
Последние дни нашего длительного путешествия дорога проходила по недавно освобождённым районам. Глядя в открытые двери товарного вагона на поруганную, опустошённую родную землю, бойцы становились молчаливыми, в глазах у них загоралась ярость. Разрушенные города, сожжённые дотла деревни, железнодорожные станции без единого уцелевшего здания — вот что оставили фашисты, отступая. Я ведь газет не читал, многого не знал, но сейчас, увидев картины страшных разрушений, понял, что война идёт особенная, — недаром её назвали Великой Отечественной!..
Разгрузились быстро, бесшумно в пустынной местности под покровом ночной темноты. Прошагав километров пятнадцать по лесу, на рассвете вышли к передовым. Грохот артиллерии, трескотня пулемётов, выстрелы из автоматов лавиной обрушились на нас.
Лица у необстрелянных бойцов посерели. Люди невольно съёживались, поджимались, готовые при выстреле припасть к спасительной земле. В первые дни на фронте всем кажется, что каждая пуля ищет именно его и каждый снаряд обязательно разорвётся над ним. Потом привыкаешь…
Пополнение встретили командир полка, молодой подполковник и пожилой комиссар. После короткого митинга нас накормили и распределили по ротам. Только здесь, в глубоко вырытых траншеях, я узнал, что нахожусь на Брянском фронте и что командует нами генерал Рокоссовский.
Я не был новичком — ведь ещё совсем мальчишкой побывал под огнём, не раз ходил в атаку, дважды был ранен. Однако то, что я увидел здесь, совсем не походило на войну, участником которой мне довелось быть. Тогда всё было проще: винтовка, шашка, десяток пулемётов на целый полк, несколько короткоствольных пушек — вот и всё вооружение. Запас патронов и боеприпасов, которых раньше хватало на месяц, теперь расходовался за считанные минуты. День и ночь шла пальба из всех видов оружия. Над нами кружились немецкие самолёты-корректировщики, их сменяли большие чёрные бомбардировщики. Окопы наши беспрерывно обстреливались крупнокалиберной артиллерией. Перед нами с треском шлёпались мины, не говоря уже о несмолкаемых пулемётных и автоматных очередях. Пули свистели по всем направлениям, сыпались на землю, словно горох из порванного мешка. Казалось, стоит поднять голову — и будешь немедленно убит. Нужны были крепкие нервы, чтобы выдержать всё это.
Между тем жизнь шла своим чередом. В положенные часы кашевары приносили горячую пищу, раздавали свежий хлеб. Старшина выдавал махорку и заветные сто граммов водки. Мы ели, пили, курили. В перерывах между боями вели сердечные беседы о совершенно посторонних вещах. Главной темой наших бесед были дом, семья, дети и мирная жизнь, казавшаяся сейчас полузабытой сказкой…
Дня через три наша рота участвовала в тяжёлых боях за деревню Маклаки. Деревня эта раскинулась на возвышенности, и немцы, закрепившись в ней, контролировали всю окрестность. Ведя прицельный огонь, они препятствовали нашему продвижению вперёд. Мы трижды поднимались в атаку, но каждый раз, неся большие потери, откатывались назад.
Наступили сумерки. Усталые, возбуждённые бойцы сидели в траншеях и, покуривая, толковали о том, что сегодня атаки, видимо, больше не будет. Вдруг позади нас послышался нарастающий свист, и вслед за тем небо, как молнии, прочертили огненные шары. Они падали на немецкие позиции, сжигая все — дома, деревья, даже влажную траву. Шквал невиданного огня продолжался недолго, может быть минут десять, — и всё было кончено. Огневые точки противника умолкли, наступила непривычная тишина. Мы в четвёртый раз поднялись в атаку и, не встречая никакого сопротивления, заняли не только деревню, но и несколько безымянных высот, расположенных за нею. Нам досталось много трофеев. Оставшиеся в живых, видимо, в панике побросали всё.
Я впервые увидел трупы «непобедимых» немецких солдат. Их было много. В коротких грязновато-зелёного цвета шинелях, в подкованных стальными гвоздями сапогах, они лежали всюду — у орудий и пулемётов, в блиндажах, оврагах и лощинах, где ещё не успел стаять снег. Пленные брели в тыл под охраной наших автоматчиков.
Укрепившись на новых позициях, мы легли отдохнуть. Не успели заснуть, как к нам, в полуразрушенную хату, пришёл политрук и спросил: нет ли среди нас знающих испанский язык?
Я поднялся и ответил: испанского языка не знаю, но свободно говорю по-французски и, думаю, пойму испанца.
Политрук записал мою фамилию и ушёл. Через час он пришёл за мной и повёл в штаб полка. По дороге рассказывал, что среди пленных оказался один испанец из Голубой дивизии, его нужно было допросить.
— Из разведотдела полка позвонили по всем батальонам с просьбой найти человека, знающего испанский язык, но такого не оказалось. Хорошо, хоть ты нашёлся. Может, в самом деле сумеешь объясниться с ним, — сказал он.
Разведотдел полка помещался в уцелевшем домике на окраине соседней деревни. Принял меня худощавый майор с усталым лицом, красными от бессонницы глазами. Я отрапортовал по всей форме:
— Товарищ майор, боец Силин по вашему приказанию прибыл!
— Садитесь, — он указал рукой на табуретку. — Сейчас приведут пленного испанца, попробуйте поговорить с ним, — может, поймёт… А то я долго бился — и по-немецки, и по-английски, — никакого толка!..
В комнату в сопровождении автоматчика вошёл маленького роста солдат, заросший чёрной щетиной. Он пугливо озирался по сторонам и встал перед майором навытяжку.
— Скажите этому бравому фашисту, что может стоять вольно, — поморщился майор.
Я заговорил с испанцем по-французски, и его испуганное, туповатое лицо сразу оживилось.
— Да, я вас понимаю! — ответил он.
Из дальнейшего допроса выяснилось: по профессии он официант, долгое время был безработным, а тут предложили заманчивые условия… Конечно, в Мадриде никто им не говорил, что придётся воевать на русском фронте, — иначе он ни за что не согласился бы вступить в Голубую дивизию!..
— Выходит, не для войны, а ради увеселительной прогулки он стал солдатом и пожаловал к нам сюда, — сказал майор, когда я перевёл слова пленного.
Испанец заморгал глазами и вдруг заплакал.
— Не убивайте меня, ради святой Марии! Я расскажу вам всё, что знаю. Дома осталась старуха мать, она с голоду помрёт без меня. Прошу вас, не убивайте, — бормотал он, всхлипывая.
Он рассказал, что так называемая Голубая дивизия, насчитывающая в своих рядах около тысячи двухсот солдат и офицеров, первоначально находилась где-то в районе Ленинграда. Недавно батальон, в котором он служил, перебросили сюда. Испанец утверждал, что большинство солдат его батальона погибло в последних боях, уцелели немногие. Ему война надоела, — он затаился в овраге и добровольно сдался в плен.
— Врёт, сукин сын! — Майор махнул рукой. — Впрочем, чёрт с ним, больше из него ничего не выжмешь…
Записав фамилию командира батальона и ещё некоторые сведения, майор приказал автоматчику отвести пленного и заговорил со мной. Он поинтересовался, кто я, где научился французскому языку?
Я коротко рассказал ему о себе, и, когда сообщил, что был осуждён на десять лет и недавно вышел из лагеря, он испытующе посмотрел на меня.
— Добровольцем, говорите, приехали на фронт? — переспросил он.
— Да, с первой партией.
— И чего только не бывает в жизни!.. Хочу надеяться, что вы вернёте всё, что потеряли! Не обижайтесь на судьбу!
— Мне ничего не нужно, хочу лишь одного — дожить до победы и вернуться к своей семье… Что касается обиды, так ведь не могу я обижаться на свою власть! — ответил я.
— Ну, знаете… Человек остаётся человеком!
— Вот именно! — подхватил я. — Человек всегда остаётся человеком, даже в лагере!
Так состоялось моё первое знакомство с начальником разведотдела полка, майором Титовым.
Спустя три месяца мы встретились опять, на этот раз при совершенно других обстоятельствах.
За это время мы с боями продвигались вперёд, на запад. Медленно, но продвигались. В июле наш корпус в составе трёх стрелковых дивизий, нескольких артиллерийских частей и двух танковых полков, специально приданных нашему корпусу, сделал сильный бросок, разгромил немецкую группировку войск и, пройдя километров шесть-десять за двое суток, вышел в пересечённую холмами долину. Здесь противник, используя удобный рельеф местности, создал крепкую оборону.
Отбросить врага лобовой атакой было немыслимо. Мы остановились, зарылись в землю. Бои приняли позиционный характер. Наступило время работы разведчиков.
Каждую ночь из своего окопчика я наблюдал, как с наступлением темноты маленькие группы отправлялись в тыл врага за «языком». На рассвете некоторые возвращались обратно, но с пустыми руками. Другие погибали, попадая в засаду или подрывались на минных полях. Достать «языка» долго не удавалось.
Я был разведчиком и не мог равнодушно наблюдать за неудачами моих товарищей. День и ночь думал об этом, в голове рождались десятки планов. Но что мог сделать я — рядовой боец первой роты третьего батальона двести тридцать шестого стрелкового полка?
Однажды днём, во время затишья, ко мне в окопчик спрыгнул политрук Головков. Совсем молоденький, он только перед войной окончил институт имени Баумана и, зная, что я тоже инженер, часто беседовал со мной.
— Ну, как воюем, товарищ инженер, как самочувствие? — спросил он и протянул кисет с табаком.
— Воюем неплохо, самочувствие у меня тоже нормальное, а вот разведку ведём плохо, товарищ политрук, — ответил я.
— Как это так — плохо?
— Очень просто: зря губим людей, а «языка» взять не можем!.. Не знаю, говорили ли вам, что до академии я был чекистом. Правда, в военном деле мало что смыслю, однако разведчики отличаются особым складом ума, это у них профессионально. Мне, например, кажется, что неправильно каждую ночь засылать людей в тыл врага…
— Как же иначе? «Язык»-то нужен!
— Но ведь «язык» не самоцель! Важны сведения, которые он даст. Не так ли?
— Разумеется…
— В таком случае я бы всё организовал по-другому.
— Как же?
— Мне думается, что следовало бы сколотить крепкую группу, снабдить её рацией, дать ей человека, хорошо знающего немецкий язык, и перебросить в тыл с заданием: обратно не спешить. Поймали немецкого солдата или, ещё лучше, офицера, допросили его на месте — и нужные сведения передайте по радио. Да и сами ведите наблюдение — узнавайте номера частей, их количество, уточняйте по возможности месторасположение огневых точек. Берите под контроль дороги, наблюдайте за движением вражеских частей, техники, обозов. И — держитесь в тылу до последнего! Ну, а возвращаясь, можно захватить с собой и «языка»…
Головков задумался.
— Интересно, — сказал он немного погодя. — Но… знаете, вероятно, командование нашло целесообразнее организовать разведку именно так!.. В штабах ведь целые разведывательные отделы с квалифицированными кадрами… Впрочем, хотите, я доложу командованию о вашем предложении?
— Доложите.
Головков оставил мне свежую газету и ушёл.
Я лежал на дне окопчика и, чем больше думал о своём разговоре с политруком, тем сильнее загорался желанием организовать разведку в ближайшем тылу у немцев. Будь я начальником разведотдела дивизии или даже полка, непременно попробовал бы! Конечно, успех такого дела решали люди. Любого не пошлёшь, тут ведь требовались смекалка, находчивость, опыт. Риск был большой — группа могла погибнуть или попасть в лапы фашистов. Но ведь на войне без оправданного риска не обойтись!..
На следующий день утром меня вторично вызвали в штаб полка. Уже знакомый мне майор Титов дожидался меня у дверей хаты. Недалеко стояла наготове «эмка».
— Здравствуйте, Силин! Садитесь в машину, поедем в штаб корпуса. Нас ждут, — сказал он.
По дороге он рассказал, что доложил о моём предложении в разведотделе дивизии, а те в свою очередь сообщили в корпус. Там заинтересовались и приказали ему явиться вместе со мной.
— Пожалуй, стоит попробовать… Рискуем же мы каждый день жизнью десятков лучших бойцов, отправляя их к немцам… При удаче можем сделать большие дела! — Титов говорил, словно рассуждал сам с собою.
Было тёплое солнечное утро. Мы проезжали через густой лес. У маленького ручейка майор приказал водителю остановить машину и вышел напиться. Перекликались птицы. Титов долго стоял, прислушиваясь к их звонким голосам, потом вернулся, сердито хлопнул дверцей, и мы опять тронулись…
Как я понимал Титова!.. Всегда так: сидишь на передовой под огнём неприятеля и всё забываешь. Но стоит отойти чуть подальше, посмотреть на зелёную траву, ощутить медовый запах цветов, услышать птиц, как внутри что-то подымается, протестуя. Человек рождён для мирной жизни, для радости, для созидания, а не для истребления себе подобных!!.
Начальником разведотдела корпуса оказался полковник средних лет, напомнивший мне своей подтянутостью нашего комиссара Власова. Он пригласил нас сесть.
— Изложите, товарищ Силин, ваш план поподробнее, — предложил он мне.
По мере того как я развивал свои мысли, полковник кивал головой в знак одобрения, а когда кончил, неожиданно предложил:
— План продуман хорошо. Вот мы и поручим вам его осуществление. Согласны?
— Разве вам не докладывали, что я недавно из лагеря? — спросил я.
— Докладывали!.. Но сейчас вы — солдат, к тому же в прошлом опытный разведчик. Уверен, что вы честно исполните свой долг. О некоторых деталях мы ещё поговорим. Людей тоже подберём вам стоящих, а майор Титов обеспечит переход линии фронта.
— Спасибо за доверие!.. Можете не сомневаться, сделаю всё, что в моих силах, — испытывая сильнейшее волнение, ответил я.
— В этом мы уверены! — полковник улыбнулся.. — Есть у вас какие-нибудь просьбы?
— Есть, — ответил я. — Помогите, пожалуйста, отыскать семью. Перед моим арестом моя женя с двумя сыновьями осталась на Урале. Жили мы в заводском посёлке. Я написал три письма — и никакого ответа…
— Добро, попробуем! — Полковник записал сведения о Елене.
Обратно в часть я не вернулся. Остаток дня с помощником начальника разведотдела корпуса капитаном Мосляковым отрабатывали детали предстоящей операции. Капитан оказался знающим фронтовую обстановку офицером и дал много дельных советов. Вечером он представил мне моих спутников.
Их было шесть человек: молодой радист Замаренов, долговязый переводчик в очках Левин и четверо боевых, загорелых ребят из разведроты — Шумаков, Сажин, Агафонов и Костенко, не раз побывавших в тылу у немцев. Старшим среди них был Шумаков.
Вооружение наше состояло из автоматов, финских ножей и гранат. В вещевые мешки уложили запас боеприпасов, сухой спирт, необходимые медикаменты, концентраты и сухари на пять дней.
— В случае, если придётся задержаться дольше, еду придётся доставать на месте, — сказал капитан, проверяя наше снаряжение.
Взяли мы ещё сигнальные фонари, ракеты, маскировочные плащ-палатки и в сопровождении капитана поехали в штаб полка.
Титов приказал нам поесть и лечь отдохнуть.
— Переход в два ноль-ноль. Мы вас разбудим, — сказал он и оставил нас в хате одних.
Спать я не мог, хотя не испытывал ни страха, ни особого волнения. Спутники мои дружно храпели, а я думал о Елене, о семье. Почему-то теперь я был уверен, что скоро узнаю о них. Я и не заметил, как подошло положенное время.
На наше счастье, небо затянуло облаками, луна скрылась. Нужно было спешить. Оделись, пошли к передовой. Майор Титов шёл с нами. По дороге он отстегнул свой парабеллум и протянул мне с двумя обоймами:
— Берите, Силин, пригодится!..
Короткое рукопожатие, пожелание успеха — и мы спустились к оврагу. Впереди полз Шумаков. За ним Сажин, радист, переводчик и я. Замыкали Агафонов и Костенко.
Немцы время от времени пускали в небо осветительные ракеты. Мы прижимались к земле, следя за их полётом, потом снова ползли. Так продолжалось минут сорок, показавшихся мне бесконечными. Наконец Шумаков приподнялся и дал условный знак: линия фронта осталась позади. Некоторое время прислушивались, — тишина, если не считать отдалённой трескотни пулемётов. Вошли в кустарник, залегли в зарослях, перевели дух…
Прикрыв фонарь плащ-палаткой, я по карте уточнил наше местопребывание и приказал радисту сообщить в штаб о нашем благополучном переходе, а кстати проверить работу рации.
В штабе нашу шифровку приняли и в ответ пожелали успехов. Рация работала надёжно.
На рассвете начался мелкий дождь. Где-то впереди послышался рокот моторов. Карта моя не врала, — шоссейная дорога была близко.
Втроём — я, Шумаков и Агафонов — подползли ближе к дороге, залегли на дне оврага и стали наблюдать. На шоссе шла обычная прифронтовая жизнь. И в том и в другом направлении двигались легковые и грузовые автомашины, мотоциклы, одиночные танки и самоходные орудия. У себя в тылу немцы вели себя беспечно, — никакой охраны вдоль дороги мы не заметили.
Прошёл час — и на некоторое время шоссе опустело. Вдруг недалеко от нас, словно из-под земли, выросла фигура немецкого солдата. Френч расстёгнут, за спиной болтается автомат. Он шёл, посвистывая, остановился, посмотрел по сторонам, положил автомат на землю и зашёл за кусты.
Мы молча переглянулись. Лучшего случая ждать не приходилось: немец сам пришёл к нам! Шумаков вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул.
Он вместе с Агафоновым пополз к немцу.
Удар, глухой стон, недолгая возня — и немец лежал связанный, с паклей во рту.
Втроём притащили его в лес, к нашей стоянке, вынули паклю изо рта и с помощью Левина стали допрашивать.
Немец оказался сговорчивым — он с готовностью отвечал на все мои вопросы. Выяснилось, что дивизию, в которой он служил, недавно перебросили на наш фронт с юга Франции. Вообще за последнее время сюда перебрасывают всё новые и новые части из Франции, Венгрии и даже из Северной Африки. Третьего дня прямо из Африки к ним прибыли новая танковая бригада и сапёрный полк. Спешно строится вторая линия обороны… Наш пленник сообщил немало интересного.
Радист Замаренов зашифровал наиболее важные сведения, настроил передатчик и передал в штаб.
— Полковник благодарит нас и спрашивает о настроении. Что передать? — Замаренов, улыбаясь, снял наушники.
— Передай, — сказал я, — что настроение у нас отличное, всё идёт хорошо! Уверены, что задание выполним успешно…
Оставаться на месте было опасно: нас могли обнаружить радиоперехватчики. Пропавшего солдата тоже начали бы искать. Решили отойти подальше от передовой линии. К тому же мне казалось, что чем дальше от передовой, тем меньше опасность, да и действовать будет легче.
Ну, а как быть с немцем? Убивать безоружного человека не поднималась рука. После короткого совещания решили взять его с собой. Я приказал Костенко не спускать с него глаз и через Левина предупредил пленного, что он будет убит, если хоть пикнет или сделает попытку к бегству.
Наше новое место стоянки, куда мы добрались поодиночке, оказалось очень удобным: расположились мы у подножия невысокого холма, в густом кустарнике. Отсюда мы могли заметить приближение немцев за двести-триста метров и в случае необходимости отступить по оврагу. Ввязываться в бой не входило в наши расчёты.
На третью ночь, на рассвете, я только задремал, как меня разбудил какой-то шум. Костенко, стоя на коленях, вытирал о траву нож…
— В чём дело, что случилось? — спросил я, подняв голову.
Ответил Агафонов:
— Хотел удрать, сволочь!.. Развязал ноги и отполз шагов десять. Хорошо, Костенко настиг его вовремя! Иначе пришлось бы прикончить очередью из автомата — подняли бы шум…
Шагах в десяти, под кустом, лежал мёртвый немец…
«Вот к чему приводит жалость! — подумал я. — Доберись он к своим, немцы бы нас не пожалели!..»
Сон не шёл ко мне, хотя я и очень устал: всю ночь мы с Шумаковым ползали на животе вокруг немецких укреплений и вернулись совсем недавно. Продукты подходят к концу, пора было думать о возвращении. Но как вернёшься с пустыми руками? Я всё надеялся, что нам попадётся штабной офицер или, на худой конец, ефрейтор. Нужно было на что-то решиться. Позвал к себе Шумакова, самого толкового и бесстрашного из моих товарищей, и сказал ему:
— Задание мы полностью не выполнили, а пора возвращаться… В нашем положении есть два выхода: сделать на дороге засаду и попытаться взять офицера или напасть на штаб части, который мы обнаружили сегодня ночью, захватить документы; если удастся, в придачу к ним офицера — и вернуться. Как посоветуешь?
— Я за засаду! — ответил Шумаков не задумываясь. — Конечно, можно напасть и на штаб. Сами видели, охрана у них хреновая… Но поднимется шум, немцы станут охотиться за нами и не дадут перейти линию фронта. Если засада ничего не даст, тогда другое дело, можно рискнуть!..
Ответ был разумный. Созвал всех и наметил план засады.
Вечером Левина нарядили в немецкую форму, дали ему трофейный автомат и изготовили для него флажок наподобие тех, с которыми немецкие регулировщики стоят на перекрёстках дорог и у контрольных постов. С наступлением темноты пошли.
Нас чуть было не постигла неудача, и, если бы не бдительность Шумакова, всё могло кончиться печально.
Метрах в трёхстах от шоссейной дороги мы наскочили на немцев. Третьего дня на этом месте никого не было, поэтому шагали мы во весь рост.
Услышав впереди немецкую речь, Шумаков отскочил назад и дал знак залечь. Пришлось отползти и менять направление.
Ползти!.. Значение этого слова поймёт только тот, кому пришлось хоть раз в жизни ползти на животе по камням, кочкам и колючкам!..
Двигались медленно, осторожно и только к трём часам утра вышли на дорогу. Летом рассвет наступает рано, — нужно было спешить выбрать удобное место, чтобы иметь обзор и в случае необходимости угнать машину или мотоциклет подальше от шоссе.
Целый день лежали в канавке. Было жарко, немилосердно палило солнце, но мы боялись пошевельнуться. По дороге по-прежнему двигались колонны машин, танки, но ничего подходящего не попадалось.
Вечерело. Мы уж собрались было отойти, как вдруг вдали показалась легковая автомашина.
Я толкнул локтем лежащего рядом Левина. Взяв флажок, он выскочил на середину дороги и дал знак машине остановиться. Долговязый, в очках, с трофейным автоматом за спиной, он и впрямь был похож на фрица.
Водитель резко затормозил, машина остановилась… Левин козырнул, взялся за ручку дверцы. Один из сидевших в машине офицеров что-то возмущённо кричал, должно быть, ругался. Ещё секунда — и четверо разведчиков, с автоматами наготове, выскочили на дорогу. Дверцы машины распахнулись с двух сторон. Я видел, как Костенко прикладом автомата оглушил водителя, сам сел за руль, а трое его товарищей влезли в машину. Раздался выстрел, и Сажин, схватившись руками за живот, упал…
По плану я и Замаренов должны были прикрывать отход основной группы с офицером, если бы удалось его захватить. Но сейчас, видя, как корчится, истекая кровью, Сажин, я крикнул Замаренову «за мной» и выскочил на дорогу. Мы вдвоём отнесли Сажина в канаву и попытались остановить кровь. Замаренов достал индивидуальный пакет и стал бинтовать живот раненому. Это мало помогло, кровь обильно просачивалась сквозь марлю. Сажин, закрыв глаза, стонал.
Легковая машина, подпрыгивая на буграх, промчалась на большой скорости мимо нас и исчезла в овраге. Нам тоже нужно было отходить — каждую минуту на дороге могли появиться немцы.
Замаренов взвалил Сажина на спину и пополз по направлению к оврагу. Я подождал ещё немного, осмотрел дорогу и последовал за ним.
Добрались до своих. В машине оказалось два немецких офицера: пожилой полковник в пенсне, с крестом на шее, и его адъютант, молодой, краснощёкий обер-лейтенант. Они лежали на траве связанные. У лейтенанта лицо было окровавлено. Шофёр умер.
Левин протянул мне туго набитый портфель и сказал:
— Попалась, кажется, крупная птица!.. Полковник Шмит — начальник штаба дивизии, а в портфеле важные оперативные документы и карты.
Сажин застонал.
— Сука, загубил такого парня! — Шумаков в сердцах пнул ногой обер-лейтенанта.
В багажнике машины оказалась еда: консервы, жареная курица, ветчина, хлеб, несколько бутылок вина и французский коньяк. В большом термосе — сладкий чай.
Продукты пришлись нам кстати: мы с утра ничего не ели, да и вообще, кроме нескольких сухарей, у нас ничего не оставалось. Раскупорили коньяк, сделали по глотку, поужинали и стали собираться идти к нашей стоянке.
— Как хотите, а я таскать этого подлеца не намерен, — сказал Шумаков, показывая на обер-лейтенанта. — Хватит с нас одного полковника!..
Я кивнул головой в знак согласия и отвернулся…
Обер-лейтенанта и шофёра закопали, прихватили остаток продуктов, оружие и пустились в путь. Шли медленно, полуживого Сажина несли по очереди.
Переводить документы и передавать их содержание в штаб по радио было нецелесообразно. Тем более что живой полковник был у нас в руках. Главное сейчас — доставить его к нам живым и невредимым.
Я приказал Замаренову передать в штаб: захватили полковника и портфель с документами, просим разрешения вернуться обратно. Получили согласие.
В эту ночь перейти линию фронта не удалось. Когда мы подошли к передовым, уже рассветало. Пришлось отойти, залечь в кустарнике, замаскироваться.
Провели тревожный день. До кустов, где мы спрятались, то и дело доносился топот солдатских сапог, немецкая речь. Должно быть, недалеко проходила тропинка, которую в предутренней мгле мы не заметили. Наше положение было тем более опасным, что Сажин, не переставая, стонал, да и полковник мог закричать каждую минуту. Правда, рядом с ним лежал Агафонов, держа наготове финский нож, и Левин предупредил полковника, что он будет убит, если даже пошевелится. Но где гарантия, что Шмит не рискнёт?
Всё обошлось: немцы не услышали стонов Сажина, а Шмит не закричал. Мы дождались полночи и поползли к передовым.
Я передал портфель Шумакову, приказал ему ползти впереди, во что бы то ни стало добраться до наших и вручить документы майору Титову в собственные руки.
— Не оглядывайся, не обращай на нас внимания, проберись любой ценой! — прошептал я ему на ухо.
Шумаков понимающе кивнул головой и растворился в темноте. Место ведущего занял Костенко, за ним полз Агафонов, толкая перед
собой связанного полковника Шмита. Замаренов и Левин тащили на плащ-палатке Сажина. Я двигался последним, чтобы в случае надобности прикрыть отход группы.
Никем не замеченные спустились к нейтральной зоне. Здесь было светло как днём, — немцы, не переставая, пускали осветительные ракеты и прочёсывали узкую ничейную полосу перекрёстным пулемётным и миномётным огнём. Казалось невозможным пробраться живыми сквозь огневую завесу. Возвращаться обратно было ещё хуже, — мы непременно попали бы в лапы к фашистам. Оставалось одно — рискнуть. Это, кажется, поняли все. Костенко быстро пополз вперёд, за ним остальные. Шумакова не было видно.
Неожиданно с нашей стороны открыли ураганный огонь по немцам. Должно быть, Шумаков добрался до своих и сообщил командованию о нашем положении. Ещё несколько минут — и мы у своих окопов. Чьи-то сильные руки схватили меня и потащили вниз, в траншею.
— Как остальные? — спросил я, с трудом переводя дух.
Титов обнял меня, крепко поцеловал.
— Молодцы, задание выполнили отлично! От имени командования объявляю вам благодарность.
— Служу Советскому Союзу! — ответил я.
На дне глубокой траншеи лежал бездыханный Сажин — он умер по дороге. Санитарка перевязывала раненного в ногу Агафонова. Костенко, Замаренов и Левин, полулёжа, жадно затягивались табачным дымом. Полковника Шмита не было — его уже увезли.
Ко мне подошёл Шумаков и молча пожал мою руку.
— А теперь айда ко мне в штаб! — приказал Титов. — Ты как, Агафонов, пойдёшь с нами или отправить тебя в санбат?
— С вами, товарищ майор! — Агафонов попытался встать, но это ему не удалось.
— Э-э, брат! Придётся тебе малость полежать в санбате! — И Титов приказал лейтенанту отправить Агафонова в санбат.
У себя в хате начальник разведотдела полка накормил нас. Он велел ординарцу подать всё, что есть у него съедобного. На столе появились свиная тушёнка с картофелем, консервы, колбаса, водка.
— Ешьте, ребята, не стесняйтесь! — приговаривал Титов и сам подливал нам водку. А мы, голодные, и без того уплетали за обе щеки.
Утром, после долгой беседы, Титов объявил, что нам всем предоставляется шестидневный отдых.
— Поедете в Лунную долину, — есть тут недалеко такое сказочное место!.. Отдохнёте, приведёте себя в порядок, — сказал он.
Впятером, на попутной автомашине, мы поехали километров за сорок, в тыл. На перекрёстке двух дорог шофёр остановил машину и объяснил нам, как добраться до дома отдыха «Лунная долина».
После часа ходьбы вышли к утопающей в полевых цветах широкой долине. На невысоком холме, за деревьями, увидели каким-то чудом уцелевшее белое здание.
В доме отдыха нас приняли как дорогих гостей. Дали чистое бельё, пижамы, посоветовали принять душ, побриться и постричься. После всех этих приятных процедур повели в столовую.
Столы накрыты белыми скатертями, на них — салфетки, тарелки, вилки, ножи. На завтрак подали свежие булочки, сливочное масло, салат, какао. Даже не верилось, что поблизости от фронта может быть такое!..
И комната наша оказалась чудесной: мягкие постели, чистое бельё. Словом, всё как в сказке!
Позже мы узнали, что эту сказку сделал былью генерал, командир корпуса. По его приказу интенданты подыскали в ближайшем тылу подходящее помещение и во время недолгого затишья на фронте развернули дом отдыха. В него направляли офицеров и солдат после выполнения особо трудных заданий и тех, у кого по тем или иным причинам начинали сдавать нервы. На фронте бывает такое: самый храбрый, самый выдержанный вдруг начинает дурить, — в шутку это называют «фронтовой лихорадкой»…
Короткая передышка! Как много значит она для фронтовика!
В «Лунной долине» отдыхало человек тридцать. Форму никто не носил, все ходили в пижамах, и трудно было разобраться, кто они такие. Все развлекались как могли.
Костенко, Замаренов и Левин по целым дням «забивали козла». А мы с Шумаковым предпочитали прогулки по долине, своей красотой и какой-то особой тишиной вполне оправдывающей своё название — Лунная.
Молчаливый, сосредоточенный тридцатипятилетний охотник из Сибири, Шумаков оказался задушевным товарищем, и мы подружились. Как-то он сказал мне:
— Хочу поведать тебе одну вещь… Может, и не стоило бы, но иначе не могу. Отправляя нас в тыл врага, майор Титов позвал меня к себе. Позвал и говорит: «Шумаков, старшим у вас будет Силин. Он хоть и рядовой, но имеет большой опыт — в прошлом был разведчиком. Знай: Силин пять лет отсидел в лагере и только недавно вышел оттуда…» Чего греха таить, не понравилось мне это. Сам знаешь, в тылу врага всякое бывает!.. А тут старшим по группе назначают человека, только что вышедшего из лагеря… Но уже на второй день я понял, что приглядывать за тобой нечего!..
Признаться, мне приятно было слышать эти слова от прославленного разведчика.
На третий или четвёртый день нашего пребывания в доме отдыха приехал полковник Садовский, начальник разведотдела корпуса. Он пригласил всех нас в вестибюль, поздоровался с нами, каждому пожал руку.
— Молодцы! — сказал он. — Документы, которые вы захватили, оказались чрезвычайной важности. Да и полковник Шмит — находка! Я приехал порадовать вас…
По его просьбе все отдыхающие собрались в столовой, и Садовский прочитал приказ командования о нашем награждении. Мне, Шумакову и Сажину (посмертно) дали Красную Звезду, остальным — медали за отвагу.
Прощаясь со мной, полковник Садовский приказал после отдыха явиться к нему.
Я дважды был награждён в своё время, но именно эта награда заставила меня понять и почувствовать, что я снова в строю!
Снова в строю
Садовский оставил меня работать в разведотделе корпуса. Это было большое доверие. Я, рядовой солдат, занимал офицерскую должность, руководил одним из участков разведки в тылу врага. Товарищи по работе в шутку так и величали меня — «неаттестованный офицер Силин». Относились они ко мне очень бережно, помогали советами. Обстановка в разведотделе была приятной и деловой.
Работа моя оказалась на редкость интересной. Из разных источников ко мне поступали донесения обо всём, что творилось у немцев. Командиры партизанских отрядов, подпольщики и специальные работники, переброшенные в тыл к немцам, информировали нас о передвижении вражеских войск, о прибытии новых частей на наш участок фронта, о грузах, перевозимых по железным дорогам, и о многом другом. Ценные сведения о враге сообщали и простые советские граждане. Бывали случаи, когда люди с риском для жизни переходили линию фронта и доставляли нам важные материалы.
Я раньше не представлял себе, что работа нашей разведки по ту сторону поставлена так хорошо. Спросил как-то Садовского: почему, имея такие надёжные источники информации, он принял моё предложение как что-то новое и послал меня к немцам во главе группы?
— Видите ли, на фронте очень важно использовать самые разнообразные формы разведки и непременно дублировать поступающие к нам сведения. Так вернее! К тому же связь часто прерывается. Ваше предложение подвернулось как раз в такой момент… Потом, как было отказать рядовому солдату в такой инициативе? — добавил он.
Среди сведений, поступающих к нам, особенно интересными и ценными были донесения разведчика под номером двадцатым — они всегда отличались обстоятельностью и точностью.
Однажды, докладывая начальнику об очередных сообщениях «двадцатого», я поинтересовался — кто этот разведчик, так хорошо информированный о делах и замыслах немцев?
— О, это замечательный человек, умный, расторопный, бесстрашный! Не раз и не два водил он немцев за нос — организовывал очень рискованные операции и ни разу не попадался. «Двадцатый» — разведчик высокого класса. Вы ещё познакомитесь с ним, — ответил Садовский…
Немцы тоже не дремали — делали, в свою очередь, всё, чтобы организовать надёжную разведку в нашем тылу. Они охотились за «языками», перебрасывали под видом перебежчиков или бежавших из лагерей агентов к нам, иногда даже целыми группами. Но, имея о нашем народе весьма поверхностные представления, они частенько проваливались. Завербованные ими люди нередко являлись к нам с повинной или быстро разоблачались нашей контрразведкой. К сожалению, предатели всё же встречались.
Как-то привели ко мне обросшего, давно не бритого человека средних лет в потрёпанной одежде. Он назвал себя Костюковым и рассказал довольно складную историю своих злоключений. Во время весеннего наступления, раненный в ногу, он попал в плен к немцам. Пленных погнали в тыл. Ему удалось бежать. Ночью добрался до деревни, и там одна колхозница приютила его, выдавая за своего брата. Но его не покидала мысль о том, чтобы перебраться к своим. Как только рана подзажила, он ушёл. Фронт был близко, вчера ночью ему удалось доползти до наших окопов. «До чего же хорошо опять очутиться среди своих!» — закончил он свой рассказ.
Костюков назвал часть, в которой служил, вспомнил фамилии командиров и точное место, где попал в плен. Говорил уверенно, приводил множество подробностей.
Проверили, — показания Костюкова подтвердились. Правда, командиры, на которых он ссылался, выбыли из части, но помполит сообщил, что у них действительно служил рядовой Костюков Сидор Корнеевич, числившийся в списках пропавших без вести.
И всё-таки я решил задержать Костюкова ещё на несколько дней и попытаться собрать о нём дополнительные сведения. В это самое время поступило очередное донесение от «двадцатого». В конце своей радиограммы он, между прочим, сообщал об агенте, переброшенном к нам немцами под видом бежавшего из плена солдата.
«Предатель этот из бывших кулаков, очень опасен, разыщите его», — сообщал «двадцатый».
Конечно, это мог быть Костюков, но мог быть и другой. Нужно было ещё раз побеседовать с ним.
— Ну, может быть, на этот раз расскажешь всю правду, — обратился я к нему, когда его привели ко мне. — Нам уже известно, кто ты и чем занимался у немцев. Скажи, что стало с тем Костюковым, фамилию которого ты присвоил?
И тут произошло то, что случается не так уж часто: нервы у него сдали.
Он рассказал, что настоящая его фамилия Макаров. Из Красной Армии он дезертировал, а когда пришли немцы, поступил к ним на службу, был полицаем. Потом его повысили — направили работать в гестапо. Солдат по фамилии Костюков действительно попал в плен раненый. Он был немного похож на Макарова, и немцы решили использовать это обстоятельство. Однако солдат держался на допросе твёрдо и никаких сведений ни о себе, ни о части, где служил, не сообщил, хотя его зверски избивали, грозили расстрелом. Тогда Макарова посадили в лагерь, в котором содержался Костюков. Выдавая себя за пленного комиссара, Макаров выудил у Костюкова всё, что было нужно. Немцы, во избежание возможных провалов, уничтожили Костюкова, а Макарова заслали к нам в тыл для шпионской работы.
Я взял подписанный Макаровым допросный лист и пошёл к капитану Мослякову, моему непосредственному начальнику, — тому самому, который снаряжал нас в тыл к немцам.
— Признался! — доложил я, протягивая капитану опросный лист. — Молодец «двадцатый»! Если бы не он, то мы вряд ли сумели бы разоблачить этого негодяя.
— Ну, для «двадцатого» это мелочь! Такие сведения он собирает между делом, — ответил мой начальник. — Силён человек, ничего не скажешь! Рождён, чтобы быть разведчиком, — это его истинное призвание. Такому позавидуешь!..
Мне очень хотелось познакомиться с «двадцатым», но тут произошли события, которые заслонили собой на некоторое время для меня всё остальное.
В один прекрасный день почтальон протянул мне конверт. Первое письмо за пять с лишним лет! Я держал его трясущимися руками и боялся вскрыть. Почерк Елены, — я не забыл его. Но что в письме?..
«Дорогой, родной!
Какими словами передать наше счастье, когда товарищ из военкомата разыскал нас, передал твой адрес и просил писать. Значит, ты жив и здоров!..
Мы теперь живём в городе, — из посёлка пришлось выехать по известным тебе причинам. Я работаю в госпитале, Егор и Степан учатся в школе. Они уже совсем большие, ты не узнаешь их. У нас всё хорошо. Напишу более подробно по получении твоего письма. Береги себя, родной! Мы с нетерпением будем ждать твоего письма, а ещё больше — тебя.
Я так взволнована, что не знаю — о чём ещё писать? Мальчики напишут тебе сами.
Пиши почаще, хоть открыточку каждый день!
Целую тебя тысячу раз.
Твоя Елена.
Береги себя! Мы так соскучились по тебе!»
Написал длинный ответ и в течение дня то и дело доставал письмо Елены из кармана гимнастёрки. Не скрою — не раз мои слёзы капали на листок, на котором оно было написано.
Сколько им пришлось пережить, моим родным, любимым!.. Теперь я спокоен: если мне суждено погибнуть, мои сыновья будут гордиться отцом, отдавшим жизнь за Родину!..
Пошёл к Садовскому, рассказал, что получил от жены письмо, и от души поблагодарил.
— Большего счастья вы не могли дать человеку, товарищ полковник! — сказал я ему.
— Рад за вас!.. При первой возможности предоставим вам краткосрочный отпуск, чтобы вы могли навестить семью, — ответил он и тут же добавил: — Только боюсь, что это будет не так скоро… Немцы начали шевелиться на нашем участке. Попрошу вас особенно тщательно изучать и сопоставлять поступающие к нам сведения, собирать новые данные и докладывать мне обо всём в любое время дня и ночи!..
Немцы за последнее время действительно «зашевелились». В их ближайшем тылу было замечено движение танков и больших колонн автомашин. Всё как будто говорило о том, что они подтягивают новые подкрепления.
О нашем непосредственном противнике мы знали многое — знали номера дивизий, стоящих против нас, количество артиллерийских стволов, танков и самоходных орудий, знали даже фамилии высших офицеров. Во всяком случае, знали достаточно, чтобы вовремя разгадать их намерения.
Создавалось впечатление, будто немецкое командование стремится убедить нас в том, что готовится наступление. Иначе зачем было передвигать танки и автоколонны днём или с зажжёнными фарами по ночам? Зачем повторять артиллерийские налёты и разведку боем?
Захваченные нашими разведчиками «языки» в один голос заявляли, что к ним прибывают новые подкрепления и что офицеры поговаривают о предстоящем в скором времени мощном наступлении. Неужели наступление готовится так открыто, что о нём знали все солдаты? Что немцы торопятся, в этом сомнений не было. По захваченным из ставки фюрера шифрограммам и из материалов, поступающих по другим каналам, было известно, что Гитлер требует от своих генералов начать наступление до холодов. Но нельзя же готовить наступление так открыто!..
В эти дни разведчики Шумакова привели «языка» из не известной нам до сих пор дивизии. На допросе немец утверждал, что эту дивизию недавно перебросили к нам из Франции. Обстоятельства, при которых он попал в руки разведчиков, вызывали сомнения. Шумаков рассказал, что немец сидел в кустах, мог уйти незамеченным или оказать сопротивление. Но он не сделал ни того и ни другого. При появлении разведчиков бросил автомат, поднял руки и, крича «Гитлер капут!», сдался в плен… Уж не подкинули ли его к нам сами немцы?
Я спросил немецкого солдата:
— Сколько времени вы жили во Франции?
— Почти три года. Нас перебросили туда в начале сорокового года.
— Нужно полагать, за это время вы хоть немного изучили французский язык?
— Нет!
— Даже отдельных слов не запомнили?
— Нет! Это нам ни к чему. Французы должны были говорить по-немецки.
— Расскажите, в каких городах Франции вы стояли, опишите эти города, — потребовал я.
Немец назвал Канн, Ниццу и, рассказывая о них, городил такую чушь, что я окончательно утвердился в мнении, что во Франции он не был. Однако заставить признаться, что его нарочно подбросили к нам, мне так и не удалось.
В разведотделе корпуса считали, что немцы готовят прорыв именно на нашем участке. Это подтверждалось ещё и тем, что за последние дни немецкие самолёты-разведчики беспрерывно кружили над нашими позициями.
Во время очередного доклада я сказал полковнику Садовскому, что, по всей вероятности, немцы делают всё, чтобы ввести нас в заблуждение и начать наступление на другом участке. Своё мнение я постарался подкрепить фактами.
Садовский внимательно посмотрел на меня, покачал головой.
— А у меня есть все основания полагать, что вы ошибаетесь, товарищ Силин, — сказал он и протянул мне только что расшифрованную немецкую радиограмму, в которой недвусмысленно намекалось на готовившийся прорыв именно на нашем участке.
Но радиограмма не убедила меня.
— Подумайте сами, товарищ полковник, — сказал я, — зачем немцам вдруг понадобилось передавать такие важные сообщения по радио? Неужели у них нет других, более надёжных форм связи?
— Вы новичок на фронте, Силин, и не знаете, что самонадеянные немецкие генералы всегда недооценивали своих противников и за это не раз жестоко расплачивались… Между прочим, командующий франтом генерал-полковник Беккер — тоже образец самонадеянности и педантизма. Вы обратили внимание, что немецкие самолёты поднимаются в воздух всегда в определённое время, артиллерия открывает огонь ровно в восемь ноль-ноль, ни на минуту раньше и ни на минуту позже. Педантизм у них в крови, а самонадеянность стала вторым характером. Недаром они кричат о превосходстве немецкой расы над остальными народами. Впрочем, оставим это. В ваших соображениях есть определённая логика, хотя штаб корпуса держится другого мнения. На войне всё может быть, иногда даже вопреки простейшей логике! — Садовский задумался. — Если вы настаиваете на своём, я могу доложить об этом командиру корпуса.
— Я бы попросил вас об этом, — ответил я.
— В таком случае берите лист бумаги и коротко обоснуйте свои соображения. Спешите, через полчаса я буду у генерала с докладом!
Садовский аккуратно положил мою докладную записку в свою папку и отправился к генералу, а я ещё долго сидел за письменным столом и, перелистывая многочисленные сводки, донесения, показания пленных, думал: неужели я заблуждаюсь? Опытные специалисты, окончившие Академию генерального штаба, все работники разведотдела придерживались иного мнения. Я же, ничего не понимающий в военной стратегии, упорствовал. Не слишком ли это самонадеянно с моей стороны? Генерал высмеет меня, и на этом дело кончится… Но ведь я был разведчиком и привык делать выводы на основании сопоставления фактов, находить в фактах логическую последовательность. В данном случае факты говорили в мою пользу…
Было уже очень поздно. Садовский всё не возвращался. Потеряв надежду дождаться его, я пошёл спать. Рано утром мне предстояла поездка в один из полков, занимающих оборону на левом фланге.
Ютились мы с капитаном Мосляковым в узенькой комнатке. Капитан спал на топчане, а я на скамейке. Мосляков, любитель поэзии, при свете свечки читал маленькую книжечку стихов.
— Что так поздно? — спросил он, не отрываясь от книги.
Я рассказал ему о своём разговоре с Садовским.
— Вот видишь, какой человек наш полковник! Другой на его месте даже внимания не обратил бы на твои соображения, а Садовский честно доложит генералу и при этом будет ещё хвалить тебя. Между нами будь сказано, полковник в душе тоже сомневается, — немцы ведут себя слишком уж нахально! Но давай спать, утро вечера мудренее! — Капитан сладко зевнул, задул свечку и повернулся на другой бок.
Среди ночи меня разбудили. Дежурный, приоткрыв дверь, громко крикнул:
— Силина немедленно к командиру корпуса!
Я вскочил, натянул сапоги, — мы спали в одежде, — пригладил волосы и, надев пилотку, побежал к зданию бывшей школы, где разместился штаб корпуса.
Вдогонку Мосляков пожелал:
— Ни пуха ни пера!
На приём к генералу собралось человек десять офицеров. Дежурный майор велел мне подождать и пошёл докладывать.
Он тут же вернулся и предложил зайти.
Словно школьник, идущий на экзамен, я подошёл к двери, остановился, перевёл дух, одёрнул гимнастёрку, поправил ремень и вошёл.
У меня аж сердце ёкнуло, — в глубине довольно просторной комнаты, с зашторенными окнами, сидел за письменным столом моложавый генерал — точная копия Кости Волчка, когда он учился на курсах красных кавалеристов при ВЦИК. Такие же непокорные волосы цвета выгоревшей соломы, такая же смуглая кожа, тонкий нос и весёлые, озорные глаза. Если бы не седина на висках и не широкие генеральские погоны с двумя звёздочками, я, наверно, крикнул бы: «Костя, друг, ты?»
Вместо этого я доложил:
— Товарищ генерал-лейтенант, рядовой Силин по вашему приказанию прибыл!
Генерал поднялся со своего места, подошёл ко мне:
— Здравствуй, Иван Силин! Узнаёшь?
Звонкий, с детства знакомый голос Кости! Сомнения не оставалось, это он. Я не знал, как вести себя, — ведь передо мной, рядовым солдатом, стоял командир корпуса.
— Узнаю, товарищ генерал, — наконец выдавил я из себя.
— «Генерал, генерал»! — улыбаясь, передразнил Костя. — Погоны смущают тебя, что ли? — Он снял с гвоздя телогрейку и накинул на плечи. — Ещё раз — здорово, Ваня! Рад видеть тебя живым и невредимым! — Он обнял меня, мы поцеловались. — Ну вот, так-то лучше! — сказал Костя. — А теперь садись, рассказывай, что и как?
Я коротко рассказал ему о всех своих злоключениях.
— Я слышал о твоём аресте. Значит, и тебя не миновала чаша сия! — На минуту он задумался. — Об этом более подробно мы поговорим в другой раз, а сейчас нужно думать о деле!.. Неужели генерал Беккер решил перехитрить нас? Знаешь, на это похоже! — Он взял со стола мою докладную записку и ещё раз пробежал её глазами. — Ты думаешь, что того фрица, из Франции, тоже нарочно подкинули нам немцы?
— В этом я уверен! Он знает о Франции столько же, сколько я о Луне!
— Значит, так: создавая видимость наступления на нашем участке, ударить на другом… не очень-то сложная хитрость! Видно, генерал Беккер и за людей нас не считает. Ну ничего, дадим ему раза два по шее и заставим считаться с нами! Ты молодец, Ваня, — жизнь не сломила тебя, ты остался таким, каким был. Человек с мелкой душонкой не стал бы идти против мнения начальства, тем более в твоём положении. Ничего, ничего, дружище, будет всё хорошо! Приходи-ка ко мне завтра к обеду, часам к трём. Пообедаем и вместе подумаем, как быть с тобой дальше.
— К сожалению, завтра не могу — рано утром уезжаю в полк.
— Что ж, служба есть служба!.. Приходи, когда вернёшься.
Я был до крайности взволнован: мой дружок, Костя Орлов, — генерал-лейтенант и командир корпуса. Кто подума-гь мог бы!.. В прошлом чуть ли не беспризорник, он командовал большим войсковым соединением и собирался состязаться в умении воевать с немецким генерал-полковником! А я? Разве не интересную жизнь прожил? О том, что выпало на долю нашего поколения, люди будущего будут вспоминать как о чём-то прекрасном и величественном!.. Так думал я, шагая к себе в разведотдел.
Ложиться не имело смысла, — близился рассвет. Оседлал коня и поехал в полк, в котором недавно служил.
День прошёл в хлопотах. Собирая данные разведывательного характера, я ходил по траншеям, беседовал с наблюдателями, командирами частей и политработниками. Немцы вели себя спокойно, — кроме редких артиллерийских налётов, ничего не предпринимали. Не появлялись и самолёты-корректировщики. Командир полка, молодой человек, был обеспокоен. По его мнению, эта тишина ничего хорошего не предвещала…
Утром следующего дня ураганный огонь немецкой артиллерии застал меня в командном пункте полка. Мы беседовали с майором Титовым, как вдруг застонала, задрожала земля и сотни снарядов разорвались на наших передовых линиях.
Зазвонил телефон.
— Понятно, товарищ первый! — ответил командир полка и, передав трубку связисту, обратился к начальнику штаба: — Ничего не понимаю, командир дивизии приказал ответный огонь не открывать!
Мы с Титовым переглянулись.
Огонь бушевал с нарастающей силой. Всё вокруг затянулось облаками пыли. Немцы методически обрабатывали нашу оборону, то перенося огонь артиллерии в ближайшие тылы, то снова обстреливая передний край. Казалось, после такого интенсивного артналёта всё будет сметено с земли, никто не останется в живых.
Затаив дыхание, я ждал. Неужели немцы сейчас предпримут мощное наступление? Неужели я ошибся?..
Спустя полчаса огонь прекратился так же внезапно, как и начался. Командир полка приказал телефонистам связаться с батальонами и уточнить потери. К удивлению, они оказались незначительными.
В тревожном ожидании прошло минут сорок. В командном пункте все молчали.
Снова позвонил командир дивизии. Он передал, что противник предпринял наступление на соседнем участке, и приказал открыть огонь по немцам всей артиллерией, а в десять пятнадцать, при поддержке танков, самим перейти в наступление и выйти в тыл наступающей группировке немецких войск.
Заговорила наша артиллерия. Невооружённым глазом можно было видеть, как рушится немецкая оборона.
Майор Титов приказал мне вместе с людьми Шумакова проследовать за наступающими частями.
— Задача — захват штабных документов, карт. Зря не рисковать, на мелочи не размениваться, — добавил он.
Я нашёл Шумакова в глубоком блиндаже. Разведчики встретили меня как старого знакомого.
— Ребята, нашего полку прибыло! Значит, будет дело!..
Вот и танки. Их было не меньше пятидесяти. Выйдя из укрытия и стреляя на ходу, они двинулись по направлению к немецким позициям. За танками поднялась пехота.
— Пошли! — Шумаков помахал разведчикам автоматом, поправил на поясе гранаты и направился к выходу. Мы последовали за ним.
Артиллерия перенесла огонь в глубь немецких укреплений, танки утюжили пулемётные гнёзда и миномёты на переднем крае, а пехота, завязав рукопашный бой, выбивала немцев из укрытий.
Противник не выдержал нашего натиска и дрогнул. Пехотинцы, выбив ошалевших немцев из третьей линии обороны, повернули влево и начали медленно заходить в тыл наступающих частей.
Вслед за Шумаковым мы спрыгнули в траншею и только тут перевели дух.
Следить за ходом сражения нам было некогда, да и невозможно. Весь фронт пришёл в движение. Вправо от нас наступали другие полки и дивизии. В небе то и дело завязывались воздушные схватки, в которых одновременно участвовало до сотни самолётов.
Мы занимались своим делом: отыскав штабные блиндажи, собирали документы, карты, письма и распихивали всё это по трофейным портфелям.
К вечеру, когда бой стих, нас разыскал майор Титов. Передавая ему захваченные нами документы, Шумаков спросил:
— Ну как, товарищ майор?
— Здорово! — Титов сиял. — Наступающих на соседнем участке окружили. Им теперь не вырваться из наших клещей!..
Оставив в тылу окружённую группировку немцев, части нашего корпуса пошли вперёд. Сметая всё на своём пути, они прошли за десять дней более шестидесяти километров и вышли на новые рубежи.
Вернулся я в разведотдел корпуса через две недели. Здесь меня встретил полковник Садовский с приятной новостью.
— Поздравляю, Силин! Вам присвоено звание младшего лейтенанта, — сказал он, пожимая мне руку. — Кстати, вами интересовался командир корпуса. Он несколько раз звонил и спрашивал: где вы? Сходите к нему и доложитесь.
Я поблагодарил Садовского, но пойти к Косте постеснялся, — не хотелось быть навязчивым. Через несколько дней он сам позвал меня.
Костя казался утомлённым, лицо его побледнело, осунулось, под глазами легли синие тени. Нетрудно было догадаться, что он провёл много бессонных ночей.
— Здорово, Иван, наконец-то отыскался! — встретил он меня. — Побили-таки надменного Беккера, долго будет помнить. Дорого обошлась фашистам самонадеянность старого пруссака — пятнадцать тысяч пленных, ещё больше убитых и раненых. Лиха беда начало, скоро добьём его совсем, если, конечно, разгневанный фюрер не сместит своего незадачливого генерала!..
Мы пили чай и беседовали по душам. Костя был оживлён, вспоминал интересные подробности своей жизни. Он рассказал о том, как однажды, командуя ротой, отличился во время больших манёвров в степях Астрахани. Его заметил командующий и направил в Академию генерального штаба — учиться. В боях у Халхин-Гола он уже командовал полком и получил высокую правительственную награду — орден Ленина. Отечественная война застала его на Украине командиром стрелковой дивизии.
— Научились-таки воевать! — весело говорил Костя. — В тысяча девятьсот сорок первом году стоило немцам вклиниться в нашу оборону, как всё у нас разваливалось. А теперь — лезь, пожалуйста, если охота! Но шалишь, обратно не уйдёшь!.. Я мечтаю об одном: участвовать в боях за Берлин. Мы ещё рассчитаемся с фашистами сполна!
— Ты ещё не женился? — спросил я его.
— Как же! Похитил-таки из Москвы Настю с фабрики Моссельпрома. У меня дочь растёт, красавица! — Костя достал из кармана фотокарточку девочки с косичками и протянул мне. — Гляди, точная моя копия!
На прощание, держа мою руку в своей, он сказал:
— Ты не переживай, что тебе, носившему в петлицах ромб, присвоили звание всего лишь младшего лейтенанта! Не беспокойся, со временем всё станет на своё место!..
— Ну что ты, Костя! Какая разница — в каком звании защищать Родину?
— Оно-то так, но всё-таки… Ещё один совет: подай заявление о приёме тебя в кандидаты партии.
— В кандидаты?
— Да. Так нужно, понимаешь? Я дам рекомендацию.
Через неделю меня приняли в кандидаты партии. Кроме генерала Орлова, моими рекомендателями были полковник Садовский и Шумаков.
Признаться, я был немного огорчён. Вступить в партию в 1920 году на фронте гражданской войны и снова стать кандидатом не очень-то было приятно. Но, получив кандидатскую книжечку с надписью: «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)», я пережил необыкновенное чувство радости. Я опять был в рядах великой партии Ленина!
Костя был прав: мы действительно научились воевать. Соединения нашего ударного корпуса совместно со всей Советской Армией ломали сооружённые немцами укрепления, преодолевали большие водные преграды, шагали по колена в грязи и неустанно, зимой и летом, в любую погоду, двигались вперёд на запад. Окружали и уничтожали уже не отдельные группировки противника, а целые армии. Пленные немцы, как побитые собаки, нескончаемыми шеренгами двигались мимо нас в тыл. Наконец-то настал и наш час: фашисты поняли, почувствовали на своей шкуре, что их противник — социалистический строй.
Вот и немецкая земля! Она простиралась перед нашими глазами, пока ещё не опалённая дыханием войны. Отсюда три года назад фашистские орды хлынули к нашим рубежам, чтобы завоевать себе жизненное пространство. Ну что же!.. Постараемся дать им наглядный урок благоразумия на будущее…
К этому времени я уже был членом партии, старшим лейтенантом и занимал должность помощника начальника разведотдела корпуса. Работать с умным, знающим Садовским было одно удовольствие. Он предоставлял нам полную свободу проявления инициативы и всегда чутко прислушивался к мнению своих подчинённых.
У границ Германии началась лихорадочная работа разведки. Туго приходилось нам, разведчикам: ведь по ту сторону границы жили немцы, и там не на кого было нам опереться. Правда, немец уже был не тот — битый и перебитый, но всё же он защищал свою землю, свой дом. Все наши попытки перебросить в тыл к немцам людей проваливались одна за другой. Единственным источником информации оставались пленные и «языки», — их было много, но они путались, давали противоречивые сведения.
— Попытаемся перебросить «двадцатого». Уж он-то сумеет перехитрить немцев, — сказал мне Садовский во время очередного обсуждения положения наших дел.
— Разве он здесь? — Я был удивлён, за последнее время о «двадцатом» ничего не было слышно.
— Завтра явится, — ответил Садовский. — Вы с ним разработайте подробный план операции. Предусмотрите всё, даже мелочи. «Двадцатый» немного бесшабашный и думает, что такому, как он, всё нипочём! Не давайте ему зарываться. Будет очень обидно, если с ним что-нибудь стрясётся именно сейчас, накануне нашей победы.
Я с нетерпением ждал появления завоевавшего себе почти легендарную славу разведчика. Придумывал разные варианты переброски его в тыл к немцам.
И вот утром ко мне в блиндаж вошёл человек высокого роста, плотный, в кожаном пальто.
— Я «двадцатый»… — начал было он, осёкся на полуслове и уставился на меня своими чёрными живыми глазами. — Мне кажется, мы с вами встречались, товарищ старший лейтенант! — сказал он с еле уловимым мягким акцентом.
Передо мной стоял мой давнишний знакомый — перебежчик Микаэл Каспарян. Я сразу узнал его. Он пополнел, возмужал, в густых волосах появилась седина, но черты лица почти не изменились.
Я встал и сделал шаг ему навстречу.
— Помните штормовую ночь? В эту ночь один бесстрашный юноша в маленькой лодке причалил к советским берегам…
— Маленькая комната погранпоста с низким потолком… В углу топится железная печка, и молодой чекист, говорящий по-французски, снимает допрос с перебежчика! — в тон мне продолжил Каспарян. — Здравствуйте, дорогой! Наконец-то я встретился с вами, и где! Недаром говорят, что мир тесен. За эти годы я часто думал о вас. Вы ведь были первым человеком нового, незнакомого тогда мне мира, протянувшим руку помощи. Я просто счастлив, что нашёл вас!
— Садитесь же! — Я пододвинул табуретку. — Рассказывайте, как жили в эти годы.
— Да разве всё расскажешь? И недосуг сейчас… Помните, на вокзале, когда вы провожали меня, я сказал: «Сделаю всё, что в моих силах, чтобы служить революции». И я сдержал слово! Вот доказательства… — Он распахнул кожанку, и я увидел ордена на его широкой груди.
— Что и говорить, о вас легенды слагают! Он досадливо поморщился:
— Просто я делал и делаю всё, что могу!
Мы приступили к делу. Намечали и тут же отбрасывали различные варианты его перехода через линию фронта. Во всех наших намётках был один общий порок: мы прибегали к привычным, ставшими уже стандартными методам, без учёта сложившейся обстановки. Как говорится, танцевали от печки. Между тем обстановка обязывала нас придумать что-то новое, оригинальное. Но что? Долго ломали голову и ничего толкового найти не смогли.
— Знал бы я немецкий язык так же хорошо, как французский, дело было бы в шляпе! — сказал Каспарян. — Не даётся мне этот язык, да и времени у меня не было всерьёз заниматься им.
Эти его слова дали новый толчок мыслям. Каспарян отлично знал французский язык, — надо было использовать этот козырь…
— У меня возникла одна идея, — сказал я ему.
Каспарян оживился:
— Так выкладывайте её!
— Недавно к нам в плен попал француз, он оказался корреспондентом парижской газеты, сейчас не помню какой. Что, если вы явитесь к немцам под видом корреспондента профашистской французской газеты? При ваших способностях не так-то трудно сыграть эту роль.
— Чёрт его знает, я ведь даже живого корреспондента не видел в глаза. Потом, кто знает, какие профашистские газеты издаются там, во Франции? Нужны настоящие документы, где их возьмёшь?
— Не беспокойтесь, позаботимся и о документах. Сведём вас с французом — он расскажет вам всё, что нужно.
— Действительно, идея! Проникнуть в глубокий тыл и оттуда, под видом корреспондента, жаждущего увидеть своими глазами подвиги доблестных солдат фюрера, перебраться поближе к передовым! — рассуждал вслух Каспарян. — Думаю, что удастся. Остаётся ещё один неразрешённый вопрос — связь. Не могу же я таскать с собой радиопередатчик!..
— Нет, конечно! Придётся воспользоваться передатчиками самих немцев. Вы же корреспондент и приехали на фронт, чтобы радовать французов успехами немецких войск!.. Получив разрешение передавать свои корреспонденции французскому телеграфному агентству через немецкие радиостанции, постарайтесь организовать передачи в определённое время, и, разумеется, открытыми текстами, с тем чтобы мы здесь могли их перехватить. Придумать нехитрую шифровку не так уж трудно. Разумеется, передавать таким путём многое вы не сможете, но сообщать нам о самом главном и важном, думаю, удастся!..
— Что же, план вполне приемлем. Он пригоден на короткое время — дня на два, на три, пока немецкая разведка во Франции не поймёт, в чём дело. Сведите меня с вашим французом, и давайте готовиться. Скажите, много вещей было с собой у того корреспондента?
— Небольшой саквояж с бельём и туалетными принадлежностями, несколько исписанных блокнотов и портативная пишущая машинка с французским шрифтом.
— Замечательно! — Каспарян радостно потёр руки. Садовский одобрил план и дал сутки на подготовку.
— Знаю, что мало, но время не ждёт! — сказал он.
«Двадцатого» перебросили в глубокий тыл немцев на самолёте, и уже через два дня мы перехватили на условной волне его первую передачу для французского телеграфного агентства. А на четвёртый день «двадцатый» умолк, и все наши попытки узнать что-либо о его судьбе ни к чему не привели. Он исчез, словно в воду канул…
Настал час возмездия!
Вот и первый немецкий город. В окнах, на всех балконах домов — белые флаги. Людей не видно — многие бежали, а те, кто не успел, попрятались в подвалах.
Мы с капитаном Мосляковым облюбовали просторный особняк на окраине города и разместили в нём разведотдел корпуса. Полковник Садовский пришёл к нам поздно вечером. Несмотря на усталость, он был оживлён, весел.
— Я принёс вам кое-какие новости, — начал он, опускаясь в мягкое кожаное кресло в кабинете бывшего владельца особняка. — Прежде всего это касается вас, Силин. Парткомиссия нашла возможным восстановить ваш стаж с тысяча девятьсот двадцатого года. — Он протянул мне решение. — Завтра можете получить новый партийный билет. Второе… нет, о втором без вина не расскажешь!
— За этим остановки не будет, товарищ полковник!
Мосляков позвал старшину и что-то шепнул ему.
Через несколько минут на массивном письменном столе из красного дерева стояли бутылки с вином, шампанское, разные закуски и хрустальные бокалы.
— Совсем другой разговор! — Садовский наполнил бокалы пенящимся шампанским. — Второе: решено вернуть Силину ордена, полученные им до войны, и присвоить ему звание майора.
— Ура! — закричали одновременно Мосляков и старшина. Я же молчал, не зная, что сказать от охватившего меня волнения.
— Вы, капитан Мосляков, назначаетесь первым комендантом первого занятого нами немецкого города. — Садовский поднял бокал. — Выпьем же за нашу близкую и окончательную победу!..
Оставив в этом городе Мослякова, мы на рассвете двинулись дальше — вслед за наступающими частями корпуса. Мечта генерала Орлова осуществилась. Во главе корпуса, ставшего гвардейским, он участвовал в боях за взятие Берлина. В День Победы ему было присвоено звание генерала армии.
Обещанный краткосрочный отпуск мне не дали — не до того было. Я так соскучился по своим, что каждую ночь видел их во сне. Разумеется, мы с Еленой переписывались, но разве могли короткие строки письма умалить тоску по жене и сыновьям?
Я знал о них все подробности, знал, что на далёком Урале им живётся не сладко. Мой денежный аттестат не мог существенно облегчить их положение. Алёнушка была молодцом — не склонилась перед трудностями, сохранила мужество, верность и сберегла детей. За всё время ни в одном письме ни единым словом она не пожаловалась, — наоборот, уверяла, что у них всё хорошо.
Я подумывал о демобилизации, — всё соображал, удобно ли подавать рапорт. Костя вызвал меня к себе и сам заговорил об этом.
— Ну-с, дружище, мы, кажется, завершили свой тяжкий труд! Скажи, что думаешь делать дальше? — спросил он.
— Демобилизоваться — и домой! — ответил я не задумываясь.
— Может, останешься в армии? Для разведки работы хватит!.. Семью можно вызвать сюда.
— Нет, Костя, не останусь! Сам знаешь, у нас непочатый край работы, — кому же, как не мне, инженеру, восстанавливать всё разрушенное войной?
— Пожалуй, ты прав… Хотя и жалко расставаться с тобой, но ничего не поделаешь!.. Пиши рапорт… А вот это возьми как память, — он снял с руки золотые часы и протянул мне.
Мы оба были взволнованы. Наша дружба ничем не была омрачена за все эти годы, и нам обоим было чем гордиться.
Приказ о моей демобилизации был подписан. Перед отъездом зашёл к Садовскому попрощаться. Он уже носил генеральские погоны.
— Прощай, Иван Егорович! — Садовский перешёл на «ты». — Желаю тебе большого счастья, ты его заслужил вполне. Глядя на тебя, я часто думал: наш строй породил нового, несгибаемого человека, и в этом главная сила наша, — сказал он. Потом добавил: — Чуть не забыл: от «двадцатого» тебе сердечный привет!..
— Он жив?!
— Жив и здоров! Опасаясь провала, он пробрался в оккупированную Францию. Там тоже не сидел сложа руки — установил связь с руководителями движения Сопротивления. Да иначе и быть не могло: он ведь настоящий чекист!..
После этого радостного известия у меня словно гора с плеч свалилась.
С Мосляковым, ставшим майором, и старшиной Шумаковым проститься не довелось. Мосляков был назначен военным комендантом полуразрушенного американской авиацией Дрездена, а Шумаков лежал в госпитале после ранения.
По дороге домой остановился в Москве, зашёл в бывший свой наркомат. Все эти годы я вынашивал мечту: вернуться на свой завод, к своему коллективу и сказать: «Дорогие друзья, товарищи, я не обманул вашего доверия — был тем, за кого вы меня принимали, и, как видите, вернулся к вам незапятнанным. Давайте снова работать вместе». Однако в министерстве не пошли навстречу моим желаниям. Заместитель министра по кадрам принял меня очень радушно и, выслушав мои доводы, сказал:
— Нет, товарищ Силин, нецелесообразно направлять вас туда, хотя по-человечески мне и понятны ваши стремления. Завод работает хорошо, там толковый, знающий директор. Сейчас в нашей системе много прорывных предприятий. Возьмите одно из них. Дадим вам двухмесячный отпуск, поезжайте к своим. Отдохните и, кстати, загляните на завод. Люди там не забыли вас и вспоминают добрым словом!..
Возражать я не стал — он был прав. Получив назначение, послал Елене телеграмму и в тот же день выехал домой.
Я рассказал о самом главном в моей судьбе.
Вы думаете, это повесть? Нет, это жизнь.
И она продолжается!
Варткес Тевекелян
РЕКЛАМНОЕ БЮРО ГОСПОДИНА КОЧЕКА
1
Ранней весной 1931 года
из порта Пирей вышел небольшой пароход под греческим флагом, совершавший регулярные рейсы между Балканами и южным берегом Франции. Единственными пассажирами на его борту была супружеская чета из Чехословацкой республики. Молодые люди продолжали свадебное путешествие по Европе. Около месяца они прожили в Швейцарии. Потом побывали на земле древней Эллады — осмотрели бессмертные развалины Парфенона, восхищаясь гением народа, много давшего человечеству во всех отраслях искусства и науки, полюбовались пламенной синевой моря, окаймляющего берега Греции, и теперь ехали во Францию.
К вечеру подул крепкий норд-ост, началась качка. Огромные волны играли пароходом, как щепкой.
В отличие от своей жены, муж не страдал морской болезнью. И когда она, вконец измотанная, задремала в каюте второго класса, он поднялся на палубу, сел на скамью и с интересом стал наблюдать, как беснуется море.
Волны с ревом обрушивались на палубу, а потом, шипя и пенясь, скатывались с нее. Свинцовое небо то и дело прорезали молнии, грохотал гром.
Поеживаясь от холодных соленых брызг, молодой человек задумчиво смотрел вдаль. Проходивший мимо матрос крикнул ему по-французски:
— Смотрите, мсье, как бы вас не смыло за борт!..
«Ну уж нет, не для того я исколесил столько стран, чтобы на пороге к цели очутиться за бортом!» — подумал, усмехнувшись, молодой человек и в ту же минуту ясно представил себе, как он входит в кабинет своего начальника. Тот встает из-за большого стола, идет к нему навстречу и, пожимая руку, спрашивает:
— Как самочувствие, товарищ Василий?
— Отличное, — бодро отвечает он.
— Прекрасно! Значит, пора браться за новую работу. За трудную, интересную, а главное — очень нужную работу…
— Я как пионер — всегда готов!
Худое, усталое лицо начальника на мгновение смягчает улыбка.
— Сядем сюда, — он указывает на кожаный диван у стены. — Слушайте меня внимательно. Первоочередная задача — найти надежное прикрытие и, как говорят актеры, войти в роль. Когда справитесь с этим и пустите корни в стране, где вам предстоит работать, только тогда возьметесь за дело, ради которого едете. Только тогда!.. Вы отправляетесь за границу с единственной целью: быть в курсе всех событий, связанных с фашистской опасностью. Для вас, конечно, не новость, что правящие круги некоторых капиталистических стран настолько ослеплены ненавистью к Советскому Союзу, что не замечают, вернее, не желают замечать тучи, собирающиеся над Европой. Больше того, своей близорукой политикой они вольно или невольно помогают фашистским молодчикам, рассчитывая, что в конечном итоге сумеют направить фашистскую агрессию против нас…
Начальник замолкает на минуту, словно взвешивая все сказанное им. Молчит и он, Василий…
— На днях отправитесь в Чехословакию, — продолжает начальник. — Поедете с советским паспортом, поживете среди словаков, поближе познакомитесь с бытом, нравами. Главное — язык. Я знаю, вы изучали словацкий, но владеете им слабо. Поэтому вы хотя и будете словаком, но долго жившим с родителями в России, хорошо знающим русский язык и слабо родной. Получив чехословацкое подданство — в этом вам помогут, — поедете в Швейцарию и, только основательно акклиматизировавшись, попрактиковавшись во французском языке, отправитесь во Францию. Ваша внешность, обширные знания и опыт помогут вам войти в роль. Хочу еще раз напомнить: самое трудное в нашем деле — это прикрытие. Мобилизуйте все свое умение и не спеша создавайте такое прикрытие, чтобы, как говорится, комар носа не подточил!..
— В качестве кого я поеду в Швейцарию и когда, каким путем должен возвратиться на родину?
— В Швейцарию поедете с женой — в качестве молодоженов, совершающих свадебное путешествие. А когда и как вернетесь домой, вам сообщат в свое время…
Когда все это было? Почти год назад. Времени прошло немало, а кажется, что только вчера был этот день, послуживший поворотным пунктом в судьбе Василия…
Ветер начал стихать. Василий встал и, держась за канат, протянутый вдоль палубы, спустился в каюту. Жена его, Лиза, спала. Не зажигая света, он разделся и лег. В каюте было душно, пахло краской. Василий ворочался с боку на бок, но сон не шел: в памяти одна за другой вставали картины недавнего прошлого.
…До Словакии они добрались без всяких приключений. Словаки пришлись им по душе: народ добродушный, с юмором, очень гостеприимный, во многом напоминающий украинцев. Все шло хорошо — Василий побывал и в том маленьком городке, где он якобы родился. Повидался со своими «родственниками», внимательно разглядывал их лица и запоминал имена, фамилии, прозвища. В Братиславе зашел в ремесленное училище, которое будто бы окончил, — по специальности он автомеханик. Единственным затруднением был язык. Начальник оказался прав; его словацкого языка почти никто не понимал, — произношение никуда не годилось. Пришлось задержаться в Словакии дольше условленного срока — на целых три месяца, чтобы хоть немного освоить разговорную речь.
С получением чехословацкого паспорта не было особых затруднений. Голова городка, который Василий избрал местом своего рождения, жил около трех лет в России и горячо сочувствовал Советскому Союзу. Получив оттуда письмо с просьбой помочь Василию, он выдал ему официальную справку, в которой говорилось, что предъявитель ее действительно является Ярославом Кочеком, 1897 года рождения, сыном Мореики Кочековой. Потом, вернувшись из Братиславы, куда ездил для переговоров с чиновником полицейского управления, голова вручил Василию бумагу, адресованную полицейскому управлению, с просьбой выдать заграничные паспорта Ярославу Кочеку и его жене Марианне, желающим совершить свадебное путешествие по Швейцарии и Франции.
Чиновник полицейского управления Братиславы, получив от головы двести крон (значительные деньги по тем временам), не стал утруждать себя излишними вопросами и, записав фамилию, имя и возраст, сличив фотокарточки с натурой, на следующий день выдал Василию и Лизе заграничные паспорта.
Первый шаг в предстоящем долгом пути был совершен: Василий Сергеевич Максимов стал подданным Чехословацкой республики, словаком по национальности, католиком по вероисповеданию, автомехаником по профессии, а его жена Елизавета Владимировна — Марианной Кочековой…
На вторые сутки ранним утром пароход под греческим флагом причалил к одной из торговых пристаней Марселя.
После соблюдения пограничных и таможенных формальностей, прежде чем возвратить паспорта подданным дружественной Франции Чехословацкой республики, полицейский офицер счел необходимым поинтересоваться: надолго ли приехал во Францию мсье Кочек и имеет ли он намерение заняться коммерческой деятельностью? Есть ли у него во Франции родственники или близкие знакомые, если да, то где они проживают? Не состоит ли мсье Кочек в коммунистической партии? Получив исчерпывающие ответы, полицейский офицер повертел в руках паспорта и, не придумав ничего лучшего, спросил:
— Мне хотелось бы запросить Братиславское училище, в котором вы учились, о правилах приема иностранцев. Не скажете ли, мсье, на какой улице находится это училище?
Прием был явно неуклюжий, и «мсье Кочек», внутренне усмехнувшись, спокойно назвал адрес училища и добавил:
— Свой запрос вы можете адресовать директору училища, господину Кибалу. Несмотря на почтенный возраст, старик все еще продолжает руководить училищем.
Полицейский офицер, видимо вполне удовлетворенный ответом, возвратил паспорта и напомнил, что мсье Кочеку и его супруге разрешается проживать во Франции и свободно передвигаться по ее территории в течение двух месяцев, после чего они обязаны либо покинуть страну, либо продлить разрешение на право проживания во Франции в департаменте полиции или в его местных органах.
С тремя чемоданами и небольшим саквояжем Василий и Лиза вышли с территории порта и, наняв такси, попросили отвезти их в недорогой, но приличный отель.
Прогуливаясь после обеда по многоязычным, шумным улицам Марселя, они обсуждали дальнейшие планы поездки по Франции.
— Лучше всего купить подержанную машину и в ней совершать путешествие, если, конечно, удастся получить водительские права. Так будет и дешевле, и мы больше увидим, — негромко сказал Василий по-русски.
— А потом?
— Когда будем уезжать, машину продадим, выручим те же деньги. Ты ведь знаешь, в моих руках любая машина будет в целости и сохранности.
Василий тут же купил в газетном киоске карту автомобильных дорог Франции, изданную специально для туристов, и правила уличного движения. На следующий день, узнав в отеле адрес магазина, в котором продаются подержанные автомашины, они поехали туда.
Такси доставило их на окраину города, к воротам с огромной вывеской: «Автоателье». На огороженной площадке — ряды подержанных машин всех стран мира, всех марок. Подбежал юркий человечек, любезно осведомился; какую автомашину и примерно за какую цену хотел бы приобрести мсье?
— Хорошую, надежную, но не очень дорогую, — ответил Василий на сносном французском языке.
— Могу предложить почти совсем новые — «рено», «испано-сюиза», «паккард», «бьюик», «фиат».
После долгого осмотра Василий остановился на черном итальянском лимузине «фиат» выпуска 1929 года.
— Мсье понимает толк в автомашинах! — сказал юркий человечек и заломил такую цену, что Василий только рукой махнул.
— Какую цену желает предложить мсье?
Прежде чем ответить, Василий попросил заправить автомобиль бензином, сел за руль, проехал по площадке. Проверил тормоза, прислушался к работе мотора и, убедившись, что машина в хорошем состоянии, предложил за нее три тысячи франков. После утомительной торговли сошлись на трех тысячах восьмистах франках. Василий внес аванс с условием, что ателье берет на себя труд получить дорожные знаки и поможет ему достать любительские права.
Вечером, прежде чем лечь спать, Василий долго изучал правила уличного движения во Франции. Они оказались проще, чем у него на родине. Потом разложил на столе карту Франции и отметил карандашом дороги, по которым им предстояло ехать. Лиза, полулежа на кровати, читала книгу.
— А не завернуть ли нам по дороге на Лазурный берег? — предложил Василий. — Поживем там немного, поглядим, как проводят свой досуг состоятельные люди. Эта хитрая наука может пригодиться нам на будущее.
— Но жить там, наверно, очень дорого?
— Это уже зависит целиком от нас!..
На следующий день, к двенадцати часам, как было условлено, к дверям отеля подкатил черный «фиат» с номерными знаками.
Василий не поленился еще раз осмотреть машину. Убедившись, что все в порядке, уплатил продавцу остальные деньги и отправился с ним в дорожную полицию за правами.
Там ему сказали, что обычно права выдаются через два дня, но поскольку мсье иностранец, то в отношении его действуют иные правила…
Прошло три дня, Василий стал волноваться, — досадно было сидеть в Марселе без дела. Он снова отправился в «Автоателье» и разыскал знакомого продавца.
— Могу посоветовать только одно, — сказал тот, — выложите сотни две франков, и все будет в порядке. Чиновники дорожной полиции тоже хотят жить… Через два часа я принесу вам в гостиницу права — и не временные, а бессрочные!..
И он сдержал слово.
Дороги во Франции были отличные. По обеим сторонам тянулись фруктовые сады. Деревья стояли в полном цвету, и Лизе казалось, что машина мчится по сплошному цветнику. Поражала тщательность, с какой обрабатывался каждый клочок земли.
— Пока все идет отлично, да? — спросил Василий, не отрывая взгляда от дороги.
— Не будем испытывать судьбу. Ты ведь знаешь, я суеверная…
— Смешно это слышать от тебя!
— Ничего смешного нет. Я просто не люблю ничего загадывать вперед…
— Ерунда! За любое дело нужно браться как следует, и все сбудется.
— Завидую твоему характеру, уверенности в себе…
— Ну, это как сказать, — пробурчал Василий, и они замолчали, погрузившись каждый в свои мысли.
На ночь остановились в дорожном отеле. Не спрашивая документов, портье молча вручил им ключи от номера. Это понравилось Василию.
— Похоже, в этой благодатной стране можно жить без всяких разрешений и виз, — сказал он Лизе.
— Вряд ли из порядков в дорожном отеле следует делать такие выводы!..
На рассвете они снова пустились в путь. У Василия был адрес недорогого пансионата на Ривьере. Хозяйка, благообразная старуха, похожая на классную даму, приняла их очень любезно и предложила им две чудесные комнаты на втором этаже, с видом на море.
Курортный сезон еще не начался, но на Ривьере жизнь била ключом. В это еще нежаркое время года здесь отдыхали главным образом ушедшие от дел старики и молодящиеся старухи. Вода в море была уже достаточно теплой, и в дневные часы огромный пляж с золотым песком пестрел от разноцветных больших зонтов, кабинок, купальных костюмов. По вечерам пожилые люди, словно боясь упустить время, веселились до изнеможения. Из открытых окон ресторанов, казино и ночных клубов гремела музыка. Мужчины в вечерних костюмах, накрашенные старухи в сильно декольтированных платьях танцевали сколько хватало сил.
Василию скоро стало ясно, что, живя в недорогом пансионате, где останавливаются люди среднего достатка, главным образом иностранцы, невозможно завязать полезные знакомства. Переехать же в дорогой отель, посещать фешенебельные рестораны они не могли из-за ограниченности средств. Поэтому Василий решил не задерживаться на Ривьере. Впрочем, и здесь, в пансионате, он не терял времени даром.
Будучи по характеру сдержанным, даже замкнутым человеком, Василий умел, когда этого требовали обстоятельства, быть любезным и обходительным. Умел он быстро и правильно оценивать людей. Эти его свойства и помогли ему отыскать среди восемнадцати жильцов пансионата нужного человека и сблизиться с ним.
Василий в первый же день приметил стройного брюнета средних лет, одетого модно, со вкусом, веселого и, похоже, легкомысленного француза Жана Жубера.
Мсье Жубер всегда был в отличном настроении и, поднимаясь по лестнице в свою комнату, насвистывал оперные мелодии, что, нужно сказать, делал мастерски. Очевидно, он любил музыку, и Василий решил воспользоваться этим обстоятельством для знакомства.
Как-то вечером моросил мелкий, надоедливый дождь. Многие жильцы пансионата разошлись по своим комнатам, другие собрались в гостиной. Кое-кто сел за карты, большинство же скучало, не зная, чем себя занять. Василий попросил Лизу сыграть что-нибудь на рояле. Лиза, отличная пианистка, села за рояль, и вскоре все присутствующие повернулись к ней, — даже картежники отвлеклись от своего важного занятия.
Услышав звуки шопеновского полонеза, Жубер на цыпочках подошел к роялю. Видно было, что он искренне наслаждался музыкой, — слушал сосредоточенно, задумчиво. Когда Лиза кончила играть, Жубер схватил ее руку, поцеловал.
— Ах, мадам! — воскликнул он. — Вы прекрасная музыкантша! Своей великолепной игрой вы доставили мне, — впрочем, я смею думать, что не только мне, — он окинул взглядом сидящих в гостиной, — истинное наслаждение. Спасибо, большое спасибо!
Знакомство состоялось.
На следующий день Жубер пригласил Василия с женой в бар, угостил их коктейлем, а к вечеру того же дня Василий и Жубер были добрыми приятелями. Прогуливаясь с веселым французом, Василий узнал, что тот — владелец рекламного бюро в Париже. Дела идут хотя и не блестяще, но все же можно жить прилично, и он, Жан Жубер, жил бы припеваючи и даже сумел бы отложить кое-что на черный день, если бы не некоторые обстоятельства… После непродолжительной паузы он доверительно сообщил новому другу, что он женат, но отношения с женой у него натянутые: жена не понимает его. Поэтому у него есть другая — прелестная женщина. «К сожалению, в наше время это обходится очень дорого», — заключил он со вздохом.
Перед отъездом с Ривьеры Жубер вручил Василию свою визитную карточку и просил навестить его, когда тот будет в Париже.
Вскоре и чета Кочеков покинула Лазурный берег.
За то время, что Кочеки провели во Франции, они укрепились в решении остановиться на первых порах в окрестностях Парижа, осмотреться и потом уж решить, как действовать дальше.
И когда перед ними раскинулся маленький уютный городок, утопающий в зелени, чистенький, с мощеными улочками, черепичными крышами, им показалось, что они нашли именно то, что искали. В центре городка — небольшая площадь. На ней — мэрия, напротив — старенькая церковь со стрельчатыми окнами и высокой колокольней. Чуть подальше — пожарная каланча. На единственной торговой улице, начинавшейся от площади, разместились аптека, лавки мясника, булочника, бакалейщика, зеленщика, мастерские сапожника, портного, парикмахерская. Улицу украшали вывески универсального магазина и бара «Свидание друзей».
Словом, это был типичный провинциальный городок — хорошо знакомый по описаниям Бальзака, Флобера, Мопассана. В самом конце городка, у обочины шоссе, приютились заправочная станция, маленький гараж и мастерская для несложного ремонта автомашин.
Этот тихий городок находился всего в каких-нибудь двадцати пяти — тридцати километрах от Парижа, что дает свои неоспоримые достоинства.
— Кто знает, — сказала Лиза, — может быть, именно здесь, в «Свидании друзей» — когда-то наверняка это был постоялый двор, — останавливался по дороге в Париж д'Артаньян…
— Возможно, — весело отозвался Василий. — Только куда ему, д'Артаньяну, до нас с тобой!
С кем, если не с хозяином заправочной станции и ремонтной мастерской, найдет общий язык автомеханик? Василий поехал прямо туда, и не успел он выйти из машины, как около него выросла фигура коренастого, грузного, краснолицего человека лет сорока, в кожаном фартуке, клетчатой рубашке с закатанными по локоть рукавами.
— Чем могу служить, мсье? — спросил он.
— Попрошу вас — смените масло, налейте в бак сорок литров бензина. — И, пока хозяин работал, Василий завязал с ним разговор: — Красивый у вас городок, уютный, тихий…
— О, мсье, такого города, как наш, не найти во всей Франции! — Хозяин оказался человеком общительным и патриотом своего городка. — Наша церковь святой Терезы, которую вы видели на площади, построена в середине шестнадцатого века. В ней есть фрески знаменитых итальянских мастеров. У нас не раз останавливались короли Франции, чтобы поохотиться в окрестных лесах. Позднее сюда приезжал маршал империи Мюрат. Вы обратили внимание на дом с мезонином у пруда? Именно в нем и жил прославленный полководец. А вы чувствуете, мсье, какой у нас чудесный воздух? Нашим воздухом не надышишься, — он как целебный бальзам!
— Вы так расхвалили свой город, что мне захотелось пожить здесь немного, — сказал Василий.
— За чем же остановка?
— Если бы я мог снять небольшой домик или в крайнем случае меблированную квартиру…
— Это не проблема. Дом тетушки Сюзанн как раз пустует. Вон на том холме, — хозяин показал рукой. — Дом очень удобный, но вы туда не доберетесь на машине: нет дороги.
— Не беда, машину можно оставить у вас в гараже. Не так ли?
— Разумеется! — Хозяин еще больше оживился. — Можете быть совершенно уверены, что ваша машина будет у меня в целости и сохранности.
— Я не сомневаюсь в этом, — сказал Василий.
— Может быть, вы хотите осмотреть дом?
— Если возможно.
— Сейчас все устроим. — И хозяин крикнул: — Гастон!
На пороге мастерской появился смуглый лохматый мальчуган лет четырнадцати.
— Проводи мсье к тетушке Сюзанн и скажи ей, что мсье имеет намерение пожить у нас некоторое время.
Домик тетушки Сюзанн удовлетворил бы самый изысканный вкус. Три светлые, просторные комнаты на втором этаже, обставленные старинной мебелью, две комнаты и кухня на первом. И — прекрасный вид на город, на окружавшие его холмы и леса. Лиза была в восторге.
С тетушкой Сюзанн, пожилой добродушной женщиной, договорились быстро, и Василий сам внес чемоданы на горку в дом. Лиза распаковала чемоданы, и скоро все комнаты имели вполне жилой, уютный вид.
— Тихо здесь, хорошо! У меня такое ощущение, что после долгих странствий мы вошли в спокойную гавань, — негромко сказала Лиза. Она стояла у окна, глядя, как за дальними холмами угасала заря. Василий промолчал, только ласково провел рукой по мягким волосам жены. Он понимал, что тихий этот городок — лишь временная остановка на их большом и трудном пути…
Жизнь в маленьком городке налаживалась легко и быстро. При помощи того же мсье Ренара, владельца заправочной станции, они наняли служанку. «Сам кюре рекомендует ее!» — сказал мсье Ренар. Последнее обстоятельство порадовало Василия: служанка, рекомендованная кюре, невольно будет осведомителем полиции. Исповедуясь каждое воскресенье, она расскажет кюре все, что делается и говорится в доме иностранца, а кюре в свою очередь поставит об этом в известность комиссара местной полиции. Тем лучше: пусть убедятся, что Кочеки обыкновенные туристы, решившие провести свой отпуск в городке близ Парижа по тон причине, что жизнь здесь значительно дешевле, чем в столице.
Вскоре Василий познакомился почти со всеми видными гражданами городка — с нотариусом, учителем, булочником, с хозяином бара «Свидание друзей» мсье Дюраном и с самим кюре, не говоря уж о Франсуа Ренаре — владельце заправочной станции. С ним у Василия сложились самые дружеские отношения. По вечерам Василий ходил в бар, играл в карты или в домино с новыми знакомыми и не позже девяти часов возвращался домой. По воскресеньям они с Лизой отправлялись на утреннюю мессу и ни разу не забыли бросить мелочь в урну.
Местные жители вскоре привыкли видеть на улицах, в баре или в церкви хотя и молодого, но степенного иностранца атлетического телосложения и его хрупкую миловидную жену.
Все складывалось как будто удачно. Василий нашел подходящее место для временного пристанища, познакомился с нужными людьми и, кажется, завоевал их симпатии. Но время шло с катастрофической быстротой, — приближался конец разрешения на его пребывание во Франции. Еще немного, и его вышвырнут из страны. Тогда вообще всему конец. Василий думал об этом денно и нощно, но пока ничего практического придумать не мог. Он послал письмо «домой», подробно описав положение дел, просил у «отца» совета и помощи. В ответном послании «отец» писал, что способности людей, их умение находить выход из любого положения как раз и проявляются во время трудностей и сложных ситуаций. Намекал на то, что сам, мол, не маленький — думай собственной головой…
Положение казалось безвыходным, но помог случай. Предполагая, что ему скоро предстоит уехать и что нужно заранее подготовить машину, Василий зашел в мастерскую Ренара и попросил у него разрешения разобрать мотор и смазать узлы. Тот полюбопытствовал:
— Неужели мсье собирается нас покинуть?
— Придется!.. Законы Франции по отношению к иностранцам очень строги, скоро кончается срок моей визы.
Василий надел комбинезон и занялся мотором. Он работал долго. Ренар не отходил от него, внимательно наблюдая за работой иностранца, и, когда тот снова собрал мотор, сказал с восхищением:
— Вы хотя и любитель, но работаете не хуже профессионала механика!
— Вы не ошиблись, у себя на родине я работал автомехаником, — ответил Василий, вытирая тряпкой руки.
— Вот бы нам объединиться и работать вместе! Я давно ищу себе компаньона… Подумайте, при небольших затратах нам удалось бы расширить дело, прилично заработать и отложить кое-что на старость.
— Я-то не прочь поработать с вами, да и кое-какой капитал у меня есть. Но, к сожалению, срок моей визы скоро кончится. К тому же иностранцам на территории Франции нельзя заниматься предпринимательством без особого разрешения…
— Все это пустяки, формальности! При желании мы бы нашли выход.
— Каким же образом?
— Очень просто. Мэр нашего городка и начальник полиции — мои друзья детства. Они не откажутся помочь, при условии, конечно, что мы с вами договоримся обо всем.
— Думаю, договоримся. Мне ведь все равно приходится зарабатывать на жизнь. Где же, как не во Франции, можно заработать прилично? Городок ваш и люди пришлись мне по душе. Почему бы мне и не остаться здесь?
— Только учтите, мсье Кочек, — для расширения дела нам придется приобрести некоторое оборудование. Ну, для начала, скажем, универсальный и шлифовальный станки, более мощный электромотор. Нужно заказать новую вывеску, поместить объявление в газетах. А все это стоит денег…
— Понимаю!
— Если станете моим компаньоном, то все пополам — расходы и доходы, не так ли? — спросил Ренар.
— Разумеется! — с готовностью согласился Василий. — Мы учтем капитал, вложенный вами в дело, подсчитаем предстоящие затраты, и если половина суммы не превысит мои скромные возможности, то я ваш компаньон. При условии, конечно, что будет продлена виза и получено официальное разрешение властей заняться мне здесь предпринимательством.
— Уверен, что мы с вами найдем общий язык! — заключил Ренар, и они направились в заведение Дюрана пропустить по стаканчику вина.
Василий пришел домой в веселом настроении.
— Ну, старушка, дела наши, кажется, налаживаются! В скором времени я стану совладельцем заправочной станции, гаража, ремонтных мастерских и буду загребать кучу денег. И превратимся мы с тобой в типичных буржуа! — Василий говорил по-русски, зная, что служанка давно ушла домой.
— О господи! Именно об этом я и мечтала всю жизнь… А еще что?
— А еще мы получим разрешение на проживание во Французской республике и на право заниматься предпринимательством! — И Василий рассказал ей о своем разговоре с Ренаром. — Ну что, стоящий парень твой муж?
— А иначе я бы за тебя и замуж не пошла! — рассмеялась Лиза.
— Только во всем этом есть одно «но», — сказал Василий.
— Какое?
— Войдя в компанию с Ренаром, мне придется много работать в мастерской, — свободного времени не останется вовсе. И получится, что я приехал за тридевять земель, чтобы жить как средней руки буржуа.
— И все-таки пока ничего другого не остается. Разве ты забыл, что мы должны пустить корни в стране и только потом…
— Сам знаю, что нужно ухватиться за это предложение, ухватиться обеими руками!
— А что, если ты поставишь Ренару условие, что сам работать не будешь? Можешь сослаться на меня, — жена, мол, не хочет, чтобы я работал простым механиком…
— Чудачка, Ренару нужны прежде всего мои руки. Компаньонов с деньгами он найдет, а вот высококвалифицированного механика… Кажется, впрочем, я уже придумал! По существующим правилам, иностранец, желающий получить разрешение, дающее право проживать на всей территории Франции, сперва получает квитанцию, которая называется «ресэ-писэ», подтверждающую подачу заявления, и имеет право жить во Франции до получения ответа. Случается, что ответ задерживается и владелец квитанции преспокойно живет здесь хоть до скончания века. Вот я и предложу своему будущему компаньону, что по получении квитанции внесу в дело свой пай и буду работать в мастерской три дня в неделю, — разумеется, с соответствующим уменьшением моей доли в прибылях. После же получения разрешения остаться во Франции — «карт-д'идентитэ» — стану полноправным компаньоном и начну работать в полную силу. К тому времени много воды утечет в Сене и мы придумаем что-нибудь еще!
— Вроде все получается логично, — ответила Лиза. — Все знают, что мы приехали во Францию, чтобы побывать в музеях, картинных галереях, посмотреть памятники архитектуры. А вот уже почти полтора месяца сидим здесь и, по существу, ничего не видели. Почему бы нам не воспользоваться случаем и до получения разрешения не бывать чаще в Париже, тем более что я, твоя жена, изучаю историю искусства!..
Дня через два к Василию прибежал мальчуган из гаража.
— Мсье Кочек, вас просит зайти хозяин! Он сказал, что у него срочное дело.
— Хорошо, Гастон, сейчас приду. А это тебе на кино! — Василий бросил мальчугану серебряную монету.
Ренар сообщил Василию, что сегодня они могут встретиться с мэром города и начальником полиции.
— Мы условились встретиться в Сен-Клу, недалеко отсюда, и там, за ужином в ресторане, обо всем договориться. Такие дела, знаете ли, лучше всего решать подальше от посторонних глаз и ушей!..
Они приехали в Сен-Клу пораньше, чтобы встретить мэра и начальника полиции. Столик был заказан по телефону, метрдотель встретил их и провел в глубь зала.
Ренар заказал закуски, вина и доверительно сообщил Василию:
— Мои друзья вполне одобряют идею нашей с вами совместной работы. Они, как и все жители нашего городка, весьма высокого мнения о вас и о вашей очаровательной жене. Вы человек деловой, трезвый, скромный, к тому же религиозный. Не смотрите на меня так удивленно. Я знаю, что говорю!..
— Очень рад, что у вас и ваших друзей сложилось такое лестное мнение о моей скромной персоне. Я тоже сразу почувствовал к вам расположение и доверие, дорогой мсье Ренар!
Вскоре появились гости. Ренар представил мэру города и начальнику полиции будущего своего компаньона.
Ужин прошел непринужденно. Фурнье, мэр городка, он же директор отделения банка «Лионский кредит» и представитель страховой компании, господин лет сорока пяти, с заметным брюшком, оказался веселым и остроумным собеседником. Он много пил не пьянея, только лицо его стало багровым. Начальник полиции Руле, высокий, худой, подтянутый, был угрюм и малоразговорчив. На вопросы, обращенные к нему, отвечал вежливо, но односложно.
Во время десерта перешли к обсуждению деловых вопросов. Мэр сказал, что ему известно желание господина Кочека обосноваться в их городке и стать компаньоном всеми уважаемого мсье Франсуа Ренара, и тут же добавил, что стать самостоятельным предпринимателем или компаньоном подданного Французской республики иностранцу не легко. Все предприятия регистрируются в торговой палате департамента, и непременным условием регистрации является наличие у будущего предпринимателя достаточно солидного текущего счета в банке, указание об источниках состояния и доходов и рекомендации людей, пользующихся безукоризненной репутацией.
— У меня на родине, — сказал Василий, — кроме приданого жены есть небольшие сбережения. Приданое мадам Кочек составляет значительную сумму, но является для меня неприкосновенным: сами хорошо понимаете, всякое случается в жизни… Я напишу отцу, и он немедленно переведет мне тысяч семь-восемь франков. Думаю, что на первых порах такая сумма вполне достаточна для расширения дела. — Василий посмотрел на Ренара, и тот кивнул в знак согласия. — Кстати, если не ошибаюсь, господин мэр является директором местного отделения банка «Лионский кредит». Если разрешите, я открою свой текущий счет у вас и попрошу отца перевести деньги в ваш банк.
— Пожалуйста, вы можете открыть текущий счет хоть завтра! — сказал Фурнье и добавил: — Утром можете подать заявление через начальника полиции, нашего друга Руле, — он выдаст вам квитанцию. Не так ли, Жермен?
Тот молча кивнул.
— Как видите, мсье Кочек, все складывается вполне благоприятно. После поступления денег на ваш текущий счет я дам вам рекомендацию для представления в торговую палату. Думаю, что то же сделает по нашей просьбе и владелец бара, мсье Дюран. Я не ошибаюсь, Франсуа?
— Разумеется, — отозвался Ренар.
— Дюран весьма уважаемый в наших краях человек. Кроме бара он владеет еще большими виноградниками, — добавил мэр.
— О, Дюран денежный мешок! — вставил начальник полиции.
— Почему бы нам не отметить наши первые успехи? — Ренар позвал гарсона и велел подать бутылку шампанского.
Оплатить ужин хотел было он же, но Василий запротестовал:
— Мы с вами будущие компаньоны, мсье Ренар, — следовательно, все пополам — и доходы и расходы, так будет справедливо! — сказал он шутя и оплатил половину счета.
Его поступок не ускользнул от внимания мэра и начальника полиции. Они одобрительно переглянулись, что, похоже, должно было означать: «Этот Кочек, кажется, не скупой, но и не мот, — он себе на уме…»
Вернувшись домой, Василий занялся письмом «отцу» в далекую Словакию. Понимая, что хотя Франция и свободная страна, но начальник полиции наверняка захочет ознакомиться с содержанием письма иностранца, адресованного за границу, Василий писал с особой тщательностью, обдумывая каждое слово.
Закончив письмо, он позвал Лизу и прочитал ей вслух:
«Дорогой отец!
Прежде всего, рад тебе сообщить, что мы с Марианной, слава богу, пребываем в добром здоровье и чувствуем себя здесь, на благодатной земле Франции, отлично. Мы молим бога, чтобы он послал тебе и всем нашим родственникам здоровья и благополучия.
Дорогой отец, как я уже писал тебе, я познакомился с хорошими людьми и решил обосноваться здесь. Хозяин здешнего гаража и заправочной станции, мсье Франсуа Ренар, на редкость достойный человек, предложил мне стать его компаньоном, вложить некоторую сумму денег и расширить дело — превратить гараж в ремонтную мастерскую. Сам понимаешь, это то, что мне нужно. Я ведь неплохой автомеханик, — во всей Словакии едва ли кто-нибудь сможет лучше меня отремонтировать моторы внутреннего сгорания всех систем.
Разумеется, я с большим удовольствием принял предложение мсье Ренара. Уверен, что дело у нас пойдет. Правда, я еще точно не знаю, сколько придется вложить в дело денег, но полагаю, что моя доля будет не такой уж большой — в пределах моих возможностей.
Надеюсь, ты одобришь и благословишь мое начинание. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, то прошу тебя перевести на мой текущий счет в здешнем отделении банка «Лионский кредит» семь тысяч французских франков, по нижеуказанному адресу.
Тебе низко кланяется Марианна. Привет всем родственникам и знакомым, особенно тете Кларе.
Остаюсь твой любящий сын и покорный слуга
Ярослав Кочек.
26 мая 1931 года
город Н., близ Парижа».
Закончив чтение письма, Василий спросил:
— Ну как, достаточно ясно?
— Вполне. Хорошо бы скорее перевели деньги…
— Переведут, в этом я не сомневаюсь! Скоро мы перейдем с тобой на полную самоокупаемость и не будем нашим в тягость!
— Это было бы чудесно, — ответила Лиза.
Как было условлено накануне, Василий явился утром к начальнику полиции Жермену Руле с просьбой выдать ему разрешение на проживание во Франции, так как он имеет намерение вложить значительную сумму денег в предприятие Франсуа Ренара, гражданина Французской республики, и стать его компаньоном.
Руле принял Кочека учтиво, усадил в кресло, внимательно прочитал заявление.
— Отлично, да, очень хорошо! — наконец изрек он, но решил все же продемонстрировать свою власть. — Не будет ли мсье Кочек любезен сказать: работая у себя на родине автомехаником, он состоял в профсоюзе? В каком?
— Что вы, мсье Руле, какой там еще профсоюз! Я ведь был младшим компаньоном, то есть в глазах профсоюзных руководителей презренным буржуа!
— Понятно, — полицейский одобрительно кивнул головой и, подумав немного, задал следующий вопрос: — Вы газеты выписываете?
— Нет, иногда покупаю в киоске «Матэн» или «Энтрансижан», чтобы практиковаться во французском языке и узнать новости.
— А за какую партию вы голосовали во время последних выборов у себя на родине?
— За нашего президента, господина Бенеша.
— Кажется, у вас в Чехословакии много коммунистов?
— Понятия не имею! Я вообще политикой не интересуюсь…
— Как вы думаете, мсье Кочек, можно ли установить на земле равноправие, как утверждают коммунисты?
— Чушь! Я работаю не покладая рук, берегу каждый сантим и, накопив небольшой капитал, открываю собственное дело. А другой, лентяй и лежебока, хочет равняться со мной, ничего не делая! Нет, мсье, это несправедливо!
— Я тоже так думаю, — заключил начальник полиции и выдал Василию квитанцию.
Недели через полторы пришел ответ от «отца». Кочек-старший писал, что он одобряет решение сына стать компаньоном достойного господина Франсуа Ренара, тем более в таком деле, которое он хорошо знает. Правда, коль скоро Ярослав решил обосноваться во Франции, было бы лучше жить в Париже, где, без сомнения, гораздо больше возможностей для способного и делового человека. Конечно, нехорошо молодому человеку жить вдали от родины, но, с другой стороны, настоящая родина там, где хорошо живется. Старик извещал, что перевел семь тысяч франков по адресу, указанному сыном. «Пойми, — писал он, — семь тысяч франков — это целое состояние, потерять их легко, а вот заработать куда труднее».
Читая письмо «отца», Василий улыбался. «Молодцы, все понимают», — думал он. А слова о том, что в Париже больше возможностей, вполне ясны: ведь его конечная цель — Париж. Но для этого требуется солидная подготовка, — вот он и занят этой подготовкой.
Вскоре Фурнье известил господина Я.Кочека официальным письмом о том, что на его текущий счет поступило из Чехословакии семь тысяч франков.
Теперь Василию нужно было зарегистрировать в торговой палате департамента половину ремонтной мастерской на свое имя и тем самым окончательно упрочить свое положение. Человек, имеющий собственное дело, — фигура, столп общества. Власти относятся к нему с доверием.
Утром Василий, свежевыбритый, в белоснежной накрахмаленной рубашке с модным галстуком в полоску, бодро вошел в гараж. В этот ранний час шоссе пустует, — редко кто заправляет машину бензином. Ренар сидел за конторкой и, подперев рукой щеку, смотрел на дорогу. Увидев Василия, он сразу оживился.
— О, мсье Кочек, доброе утро! Как хорошо, что вы зашли! — Он крепко пожал руку будущему компаньону.
Василий приступил к делу.
— Отец перевел на мой текущий счет семь тысяч франков, — сказал он, — об этом известил меня вчера уважаемый мсье Фурнье. — Василий показал извещение и сразу понял, что весть о поступлении денег уже дошла до хозяина гаража.
— Очень рад! — Ренар вежливости ради пробежал глазами записку. — Надеюсь, мы с вами сегодня же договоримся обо всем и, не теряя времени, оформим наши взаимоотношения. Сами видите, гараж пустует, заправочная колонка бездействует. Другое дело — ремонт!
— Вы, вероятно, уже подсчитали средства, вложенные вами в дело, и дополнительные расходы на организацию ремонтной мастерской? — спросил Василий.
— Да, да, конечно! — Ренар подошел к конторке и достал толстую бухгалтерскую книгу. — Тут учтено все до сантима и, уверяю вас, ничего не преувеличено.
— Мсье Ренар, я вам верю, как самому себе. Не затрудняйте себя подробностями, достаточно будет, если вы назовете итоговые цифры.
Ренар выписал цифры аккуратной колонкой на отдельный листок и протянул его Василию.
— Мною вложено в дело шесть тысяч четыреста франков, — сказал он. — Я снимаю с этой суммы девятьсот франков — за то, что более пяти лет пользовался гаражом. Думаю, так будет справедливо. Остается пять тысяч пятьсот франков… — Затем он сказал, что на приобретение оборудования для ремонтной мастерской и прочие расходы, включая объявления в газетах, потребуется шесть тысяч шестьсот франков.
— Таким образом, мсье Кочек, — закончил он, — ваша доля составит шесть тысяч пятьдесят франков. Полагаю, целесообразно зарегистрировать наше предприятие в торговой палате с капиталом в сорок тысяч франков. Правда, это потребует некоторых дополнительных расходов на налог, но они оправдаются. Чем больше капитал у предприятия, тем солиднее оно выглядит, тем большим кредитом будет пользоваться. Вы согласны со мной?
— Я внесу свою долю сразу же, как только будет оформлена у нотариуса наша договоренность, — сказал Василий. — Однако у меня есть к вам просьба. Дело в том, что моя жена изучает историю искусства и сама немного рисует. Ей необходимо бывать в музеях и картинных галереях вашей страны, ознакомиться с памятниками архитектуры. В дальнейшем, может быть, она продолжит свое образование в Сорбонне. Поэтому я хотел бы на первых порах иметь свободными дня два-три в неделю, — разумеется, с соответствующим уменьшением моей доли в прибылях. Со временем в этом отпадет надобность. К тому же я получу положительный ответ на мое заявление, что окончательно упрочит мое положение во Франции.
Ренар задумался, почесал в затылке.
— Откровенно говоря, я предложил вам войти в дело после того, как увидел вашу работу и убедился, что вы действительно мастер. Конечно, деньги, которые вы вносите, тоже на улице не валяются… Но ведь и самой роскошной вывеской доброй славы не заработаешь. Впрочем, раз вы ставите такие условия, значит, так нужно. И мне остается только согласиться, с одной, правда, оговоркой: когда будет срочный заказ — работать вместе, потом уж выкраивайте свободные дни!
— Мсье Ренар, начнем работать, а там видно будет! Мы ведь друзья и всегда сумеем договориться!
На том и порешили. В течение ближайших дней были выполнены все формальности, и новое предприятие с основным капиталом в сорок тысяч франков было зарегистрировано в торговой палате департамента под названием «Ремонтная мастерская Франсуа Ренар и кампания».
2
Лето в этом маленьком городке оказалось на редкость приятным. Даже в самые жаркие дни зной смягчало обилие зелени и воды, а по ночам порой бывало так прохладно, что приходилось укрываться пуховыми перинами — по здешнему обычаю. Высокие своды вековых каштанов смыкались над мощеными улицами. У пруда, в котором старые плакучие ивы купали свои ветви, мсье Дюран открыл летний павильон, где кроме вина подавали прохладительные напитки и мороженое.
Чета Кочеков жила скромно и размеренно. В семь часов утра вставали. Чашка кофе с бриошами — и ровно в восемь на работу. В двенадцать часов завтрак, в шесть обед. Недолгая вечерняя прогулка у пруда, стаканчик-другой хорошего вина с друзьями в павильоне мсье Дюрана, легкий ужин, часа два чтения и — здоровый, крепкий сон при открытых окнах.
Дела в мастерской постепенно налаживались. Вывеска с аршинными буквами во весь фасад, объявление в газетах о гарантийном ремонте по умеренным ценам сделали свое дело. Но слава о замечательном иностранном механике распространилась по всей округе после того, как Василий отремонтировал старенький «форд» сельского врача.
Поломка была незначительная, но сама машина, что называется, дышала на ладан. Конечно, за восстановление этой развалины можно было заломить немалую сумму, но Василий
уговорил Ренара в целях рекламы взять умеренную плату.
Точно в назначенный срок — через пять дней — машина была отремонтирована, сношенные детали заменены, тормоза подтянуты, мотор отрегулирован, а выкрашенный заново кузов блестел на солнце, как новенький. Хозяин машины пришел в полный восторг, когда сел за руль. Такой ремонт за такую сумму!
— Чудо как хорошо вы отремонтировали мою машину! — Врач долго тряс руку Василия и от полноты чувств отвалил ему пять франков чаевых.
Разъезжая по всему округу, врач этот стал лучшей рекламой мастерской «Ренар и компания». Он усиленно рекомендовал всем своим пациентам — владельцам машин — ремонтировать их только в этой мастерской и не жалел слов, расхваливая золотые руки чехословацкого мастера, который разбирается в моторе как бог.
Заказы сыпались со всех сторон, и у Василия почти не оставалось свободных дней.
Однажды, жарким солнечным утром, метрах в двухстах от мастерской остановился шикарный лимузин. Из него вылез элегантный молодой человек. Он долго копался в моторе, потом пошел в мастерскую за помощью. Увидев Василия за слесарным верстаком, владелец лимузина обратился к нему:
— Недалеко отсюда остановилась моя машина. К сожалению, все мои попытки исправить мотор не увенчались успехом… Помогите, пожалуйста!
Голос молодого человека показался Василию знакомым. Внимательно посмотрев на посетителя, он тотчас узнал его, хотя тот отпустил усики и изменил прическу.
— Сейчас, мсье, — ответил Василий. — Я только предупрежу компаньона! — И через несколько минут вышел с молодым человеком на улицу.
Отойдя с десяток шагов, тот, убедившись, что никого поблизости нет, тихо сказал Василию:
— Один ваш знакомый приехал в Париж и хочет встретиться с вами в среду, в три часа, в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас. Если по каким-либо обстоятельствам в среду встреча не состоится, будьте в пятницу в тот же час на том же месте. Вы, конечно, узнаете вашего знакомого, как узнали меня. На всякий случай вот его приметы: одет в легкий фланелевый темно-серый костюм. На ярком галстуке золотая булавка с тремя маленькими камнями в форме подковы.
Разговаривая, они подходили к стоящей на обочине дороги машине, в которой сидела пышноволосая блондинка. Молодой человек успел шепнуть:
— У меня совершенно случайная спутница — для отвода глаз. В машине мною нарушен контакт в электропроводке.
Василий открыл капот, покопался в моторе и сообщил молодому человеку:
— Мсье, беда пустяковая, нарушен контакт в электропроводке. Я присоединю контакт и подгоню машину к мастерской, а там закреплю надежно. Это займет не более четверти часа.
Вскоре все было готово. Василий вывел автомашину на дорогу, и молодой человек расплатился и уехал.
— Девочку подцепил первый сорт! — сказал Ренар, глядя вслед удалявшейся машине.
— Сколько взяли с него? — спросил Василий.
— Двадцать четыре франка.
— Ого! Двадцать четыре франка за соединение контакта в электропроводке!.. Если бы нам всегда удавалось так легко зарабатывать, мы с вами скоро стали бы крупными коммерсантами!
— Мы и стремимся к этому! — Ренар лукаво улыбнулся и принес из-за перегородки бухгалтерскую книгу. — За вычетом всех расходов, мы заработали в этом месяце тысячу четыреста шестьдесят франков — по семьсот тридцать франков на долю каждого. Для начала недурно, а? — Глаза его светились от удовольствия. — Если так пойдет, то через годик мы выручим основной капитал, вложенный в дело.
— И я бы вернул отцу семь тысяч франков, порадовал бы старика! Он у меня прижимистый, цену деньгам знает. А получив обратно деньги, он поверит в коммерческие способности сына, сумевшего сколотить капиталец за короткое время, да еще на чужбине!..
— Какой смысл возвращать ему деньги? Они ведь ваши. Не лучше ли нам расширить дело? Купить дополнительное оборудование, организовать литейную, нанять нескольких рабочих, а там… — Ренар размечтался. Он смотрел на каштаны вдоль дороги и, как бы про себя, продолжал: — А там чем черт не шутит, со временем превратим нашу мастерскую в завод. Да, да, не смейтесь, в небольшой завод…
Встреча произошла в среду, в назначенный час. Чтобы изучить место будущего свидания и избежать всяких случайностей, Василий пораньше отправился на бульвар Монпарнас и без труда нашел «Ротонду». В этот дневной час и на бульваре и в кафе народу было немного — несколько человек за столиками на улице и двое молодых людей, видимо журналисты, внутри кафе. Они что-то усердно писали, сидя далеко друг от друга.
Василий занял столик в глубине зала, заказал пива, достал из кармана газету «Матэн» и углубился в чтение. Человек, которого он ждал, появился ровно в три часа — высокий, одетый с иголочки. Василий сразу узнал его. Тот спокойно, не торопясь подошел к столику, за которым расположился Василий, и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул рядом.
— Рад видеть тебя в полном благополучии, — сказал он по-французски и отодвинул бокал с пивом. — Слушай, ты ведь состоятельный буржуа, — закажи-ка что-нибудь более существенное. А то от пива только в животе бурчит, а толку никакого! — Гость говорил весело, непринужденно, с обаятельной улыбкой на лице. Василий подозвал гарсона, попросил принести салат, холодную телятину, сыр, бутылку бургонского.
— Мы встретились здесь потому, что мне не хотелось, чтобы нас видели вместе на улице. — Гость незаметно огляделся. — Ты слишком напряжен, держись свободнее! Ты встретился с другом и ведешь с ним дружескую беседу.
Гарсон принес еду и вино. Когда он отошел, гость продолжал:
— Я в курсе всех твоих обстоятельств. Хорошо пристроился, умно, для начала очень даже неплохо. А теперь слушай. Основная и главная твоя задача прежняя — пустить здесь, во Франции, глубокие корни. Ты приехал сюда не на месяц и не на год. Ничего, ровным счетом ничего пока от тебя не требуется — только вживайся в среду. Понял?
— Вернее, слышу. А понять этого я не могу… Если мне здесь делать нечего, то зачем я торчу здесь и зря трачу время?
— Не торопись. Придет время — узнаешь, тогда все и поймешь. Кое-что могу и сейчас сказать. Ты, надеюсь, и сам видишь некоторые новые обстоятельства… Экономический кризис, начавшийся в США в тысяча девятьсот двадцать девятом году, не утихает, наоборот — распространяется все шире. Капиталисты лихорадочно ищут выход, — они понимают, что держать обнищавшие массы в рамках старой буржуазной демократии нельзя. Отсюда — стремление к открытой диктатуре. Это относится прежде всего к побежденной Германии. Там не сегодня-завтра к власти придут фашисты, — придут при непосредственной помощи промышленников. И тогда начнется великая трагедия… Живя здесь, ты обязан быть в курсе умонастроений всех слоев общества — знать, как они относятся к фашистской опасности. Больше того, знать, как французское правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства в отношении своих младших партнеров — Польши, Югославии, Чехословакии, Румынии — в случае серьезных политических осложнения в Восточной Европе… Ты пойми, нам не нужны чужие секреты — ни военные, ни экономические. Мы этим не занимаемся и заниматься не будем. Но бороться против злейшего врага рабочего класса и демократии — против фашизма — мы обязаны всеми доступными нам средствами! — Он замолчал, поднял бокал, разглядывая темно-рубиновое вино на свет. Потом проговорил, словно раздумывая вслух: — Кто знает, может, настанет и такое время, когда мы поможем французам, располагая необходимыми сведениями… Откроем им глаза на то, что их ожидает в случае прихода к власти в Германии фашистов. Немцы, проглотив в восемнадцатом году горькую пилюлю — подписав Версальский мирный договор, мечтают о реванше, мечтают неустанно!.. Они готовятся отомстить Франции за свой позор, отомстить безжалостно!.. Вот так-то, друг мой… Начал ты хорошо. Но ты должен перебраться в Париж. Заводи знакомства с нужными людьми, сделай все, чтобы быть постоянно в курсе событий. — Гость с удовольствием осушил бокал. — Хорошее вино, ничего не скажешь!..
— Да, вина здесь отличные. А вот к еде никак не привыкну, особенно скучаю по черному хлебу. По нашему свежему, пахучему ржаному хлебу…
— Человек ко всему привыкает, — сказал гость. — Веди себя незаметно, старайся ничем не выделяться. Каждую минуту помни: ты самый заурядный человек; кроме наживы и спорта, тебя ничто не интересует, и уж совершенно не интересует политика. Никогда, ни с кем никаких бесед на политические темы, если, конечно, это не нужно для дела… Впрочем, тебя не надо учить, — сам все отлично знаешь.
— Знаю, конечно…
— Как Лиза? С ее знанием французского языка она, наверное, чувствует себя здесь как рыба в воде?
— Не совсем так… Что может быть хорошего в ее жизни? Четыре стены, кухня, церковь. Пустяковые разговоры с соседками о способах приготовления того или иного блюда. Торт по особому рецепту!.. Разве для этого она столько училась?
— Ничего, всему свое время. Передай ей от меня сердечный привет и скажи, что настанет и ее час. Как у вас с деньгами?
— Полный порядок! Я же предприниматель. Скоро, кажется, стану эксплуатировать чужой труд: мой компаньон мечтает нанять побольше рабочих — стать владельцем хоть и маленького, но все же завода. Мы и сейчас зарабатываем с ним неплохо. Возможно, в недалеком будущем накоплю те семь тысяч франков, что прислал мне «отец» из Чехословакии!..
— Вот видишь, оказывается, ты прирожденный коммерсант.
— Что ж, не боги горшки обжигают. Нужно будет — станем капиталистами. Дело, оказывается, не такое уж хитрое. К тому же уроки, полученные дома по коммерции и коммерческому праву, банковским и вексельным операциям, даром не прошли.
Условились, что сам Василий не будет делать никаких попыток связаться со своими, только в случае крайней необходимости напишет письмо или пошлет телеграмму «отцу» в Чехословакию. И терпеливо будет ждать связного. Василий просил передать привет родным, живущим под Москвой.
— Хорошо, передам. А теперь пошли. Расстанемся с тобой за углом, — сказал гость, и они вместе вышли из кафе.
— Ничего не рассказали, что делается там, у нас, — сказал Василий по дороге.
— Что же рассказывать? Трудимся, боремся с трудностями, строим…
— Завидую вам! — вздохнув, сказал Василий.
Василий направился было к стоянке, где оставил свою машину, но передумал. Почему бы не пройтись по бульвару? Дневной зной спал, пройтись было бы приятно, а подумать ему, слава богу, есть о чем…
Вот он просил приезжего товарища передать привет своим родным. Тот непременно исполнит эту просьбу — отправится в подмосковную деревню, отыщет сестру Василия Ефросинью и брата, колхозного механизатора, Александра.
Ефросинья удивится, встревожится: «Где ж сам-то Василий? Почему давно нет от него писем? И что это он вздумал приветы с оказией передавать, — почему сам не напишет?»
В ответ приезжий товарищ скажет:
«Вы, Ефросинья Сергеевна, за него не беспокойтесь. Василий жив, здоров, того и вам желает. Не пишет потому, что такие обстоятельства у него…»
«Какие такие обстоятельства, что нельзя даже письмецо родным написать?» — не унимается сестра.
Совсем, наверно, старенькая она стала!.. Года три назад, когда он видел ее в последний раз, она уж и тогда выглядела старухой. А какая была бойкая, живая! Заменила ему мать, когда та умерла родами.
Брат Александр, медлительный, скупой на слова, промолчит, — что, мол, толку спрашивать чужого человека? Раз Василий не пишет, значит, так надо, видно, есть на то причина. И, только прощаясь с приезжим, он скажет:
«Передайте Василию, что мы его всегда ждем. Пусть приезжает хоть этой осенью. Боровка как раз заколем и вообще…»
Бесконечно далек был в эти минуты Василий в своих мыслях от Парижа, от бульвара Монпарнас!.. Он видел себя маленьким мальчуганом на русской печи, под овчиной, рядом с братишкой, в закопченной, покосившейся от времени отцовской хате, крытой соломой. Сестра Ефросинья хлопочет у печи, думая всегда только об одном: чем накормить троих мужиков? Отец-здоровяк ест за троих, они с братом тоже едоки не из последних — только давай! Земли у них нет, отец занимается извозным промыслом — ездит в Москву с грузом, домой возвращается молчаливый, злой, — заработка не хватает на то, чтобы сытыми быть.
С шести лет Василий ходит в церковноприходскую школу — ходит только осенью и весной. Зимой не может: школа далеко, а валенок у него нет. Но это не мешает ему через три года закончить школу с отличием. Учитель говорит на прощанье: «Большие способности у тебя и память феноменальная!.. Постарайся дальше учиться — авось человеком станешь». Он не понял, что значит «феноменальная», но учиться очень хотел. Только ничего из этого не выходит. Отец сурово говорит: «Тоже мне, новый Ломоносов нашелся. Хотел бы я знать, на какие такие шиши ты учиться собрался? Читать, писать умеешь — ну и хватит…»
Василий начинает помогать отцу — ездит с ним в Москву, ходит за лошадьми, таскает тяжелые мешки. Ему до сих пор памятен кислый запах постоялых дворов, до сих пор видит во сне пьяных возчиков, а в ушах звенят их крики, брань…
Когда Василию стало невмоготу, он заявил отцу, что хочет поступить на завод.
«Мы хоть и плохо живем, — сказал отец, — зато мы свободные люди — нет над нами ни мастеров, ни надсмотрщиков. Я не против, — хочешь надеть себе на шею ярмо, надевай, только прежде хорошенько подумай…»
Долго думать не пришлось, — Василий узнал, что есть место ученика слесаря в механической мастерской в Москве. Платили мало — шесть рублей за двенадцать — четырнадцать часов работы. Но для него, никогда не державшего в руках денег, и шесть рублей были богатством.
К слесарному делу у Василия обнаружились большие способности, и в учениках он пробыл недолго. Через год хозяин положил ему четырнадцать рублей в месяц. Василий справил хромовые сапоги в гармошку, суконные брюки, пиджак, белую косоворотку и картуз с блестящим козырьком. Так в ту пору одевались мастеровые, и молодой слесарь старался не отставать от моды. Он до беспамятства любил музыку, и еще он очень хотел знать иностранные языки. В этом был повинен учитель церковноприходской школы, который знал латынь и греческий и говорил, что истинно образованный человек должен знать языки. Василий купил учебники, словари и решил изучать два языка одновременно, — только не латынь и греческий, а английский и французский. Парень он был настырный — ежедневно запоминал по десять слов и никогда, ни при каких обстоятельствах не отступал от своего решения. Когда ему удалось скопить денег, он купил гармошку. Какая была это радость!..
Василий был уже квалифицированным слесарем, ремонтировал сложные машины. Он снял с товарищем комнату, прилично, по моде одевался, по-прежнему упорно изучал языки, много читал, два раза в неделю брал уроки музыки. Изредка ездил в деревню навещать родных, и каждый раз с подарками.
Началась война и перевернула все вверх дном.
Крестьянина Московской губернии, Загорского уезда, деревни Выселки Василия Максимова, сына Сергея, 1897 года рождения, призвали в армию в конце 1915 года. Как мастерового, «разбирающегося в разных механизмах», его, после трехмесячной маршировки в учебном батальоне, зачислили в автомобильную роту. Там Василий хорошо изучил автомобиль и вскоре стал шофером, — профессия в русской армии дефицитная и потому довольно привилегированная.
В автомобильной роте собрался народ мастеровой, грамотный, понимающий, что к чему. Когда начальства поблизости не было, давали волю языкам — говорили откровенно. Особенно толково говорил Забродин, механик с московской фабрики «Трехгорная мануфактура», участник баррикадных боев на Пресне, отсидевший за это восемь лет.
Про Забродина говорили, что он большевик, а кто такие большевики — Василий в то время не знал. Спрашивать же боялся, — еще нарвешься на кого не надо, беды не оберешься… Забродин много видел, много читал. Знай о его разговорах с солдатами начальство, не миновать бы механику военно-полевого суда. Солдаты автороты уважали Забродила и всячески оберегали его. Он был первым человеком, открывшим Василию глаза на истинное положение вещей, заставившим над многим задуматься.
Однажды осенью, когда все свободные от дежурства солдаты автороты собрались около раскаленной печурки, Забродин, затягиваясь табачным дымом, заговорил будто невзначай:
— Да, братцы, скверно… Третьи сутки не переставая льет дождь. Холодно, сыро, и на душе тоскливо. Нам-то вроде ничего — есть крыша над головой, начальство дров не жалеет…
— К чему ты это? — перебил его пожилой солдат из питерских рабочих.
— К тому, что очень уж мудрено устроен мир, одним достаются шишки, а другим пышки… Солдатики-то сидят в сырых окопах, мерзнут, вшей кормят, чтобы другие могли жить сытно и в тепле…
— После войны все изменится, — сказал один из солдат. — Не может несправедливость вечно продолжаться, — добавил он, помолчав.
— Как же, изменится, держи карман шире! Вернешься домой, если, конечно, жив останешься, все начнется сызнова, — сказал другой.
Вокруг печурки наступило тяжелое молчание. Люди, оторванные от дома, от родных, от привычной жизни, думали каждый о своем, но думы их, как и судьбы, были во многом схожи.
— Какой же выход? — нарушил наконец молчание пожилой солдат.
— Кончать войну — и айда по домам! Дел у нас и дома по горло, — сказал Забродин.
— А родную землю на поругание немцам оставить?
— Зачем? По ту сторону фронта тоже солдаты. Сказать им: братцы, так, мол, и так, давай кончать войну и марш до хауза. Они такие же горемыки, как и мы, поймут, — сказал Забродин…
Ночью Василию спалось плохо, — из головы не выходили слова Забродина: «Кончай войну — и айда по домам». Почему бы и нет? Очень даже просто, — если солдаты побросают винтовки, тогда и войне конец. В ту ночь Василий с тоской думал, как было бы хорошо вернуться домой, — хотя какой у него дом? Комнатенка, которую он снимал пополам с товарищем, да старая отцовская изба… Вспомнил он голубоглазую девушку с косичками… Звали ее Лидой. Они познакомились в библиотеке, потом стали встречаться — ходили по улицам Москвы или по аллеям Сокольников, держась за руку. Василию казалось тогда, что он и дня не проживет без Лиды, и неизвестно, чем бы кончилась его первая любовь, если б по война… Позже, во время гражданской войны, когда после ранения под Перекопом он вернулся в Москву, разыскать Лиду он не смог…
На высокой башне часы пробили семь. Василий словно проснулся, — пора возвращаться домой! Уже сидя в машине, он подумал о том, что Лиза знает о его мимолетной любви к девушке с косичками и, кажется, немножко ревнует. Так уж устроены женщины: они могут ревновать и к далекому прошлому, ничего не поделаешь!..
Несмотря на поздний час, в мастерской горел свет: мсье Ренар дожидался компаньона.
— Наконец-то вы вернулись! — приветствовал он Василия.
— Что-нибудь случилось?
— Случилось!.. Я получил заманчивое предложение и хочу обсудить его с вами. Солидная парижская фирма по продаже подержанных автомашин предлагает нам договор на капитальный ремонт пятидесяти машин в месяц и на текущий ремонт от десяти до двадцати. Кажется, мои мечты на пути к осуществлению!
— Боюсь, что с нашими скромными возможностями такие масштабы нам не по плечу.
— А почему нам не расширить дело? Имея солидный заказ, мы без труда добьемся банковского кредита, поставим дополнительное оборудование, наймем рабочих.
— Стоит ли рисковать? Сейчас по всей стране в делах застой. Залезем в долги и не выберемся…
— Удивляюсь я вам, мсье Кочек! К нам в руки плывет золотое дело, а вы отказываетесь! — Ренар говорил раздраженно, без обычного своего добродушия.
— Я не отказываюсь от предложения — я не враг себе, — мягко сказал Василий. — Я только призываю вас, Франсуа, реально взглянуть на вещи. Капитальный ремонт в наших условиях — недостижимая мечта, как бы мы ни расширяли мастерскую. Мы только потеряем свое доброе имя, да и заказчиков тоже. Давайте возьмемся на первых порах за легкий ремонт, за окраску. И не более восьми — десяти машин в месяц, и то при условии, что у нас будет дополнительно пять-шесть квалифицированных помощников и недостающее оборудование.
— Что ж, как ни обидно, боюсь, что вы правы! — сказал Ренар после недолгого раздумья. — Ну ничего, со временем слава о нас пойдет по всей Франции!
— Будем надеяться, — согласился Василий. — Как бы только при найме новых рабочих не пришлось нам столкнуться с профсоюзными деятелями. Эти канальи способны у человека душу вымотать!..
Василий хорошо понимал, что в маленьком городке делать ему больше нечего, разве что помогать доброму толстяку Ренару сколотить солидный капитал и со временем стать заводчиком.
Он строил десятки планов переезда в столицу, но при серьезном анализе они рушились, как карточные домики. Как-то вечером, сидя в кресле у открытого окна, Василий отложил газету и сказал Лизе:
— Завтра поеду в Париж, разыщу Жана Жубера. Помнишь его?
— Конечно, помню. Как я могу забыть того, кто так восхищался моей игрой на рояле, да и мной, кажется, тоже…
— Вот-вот!.. Стоит, по-моему, попытаться сблизиться с ним и, может быть, при его помощи перебраться в Париж.
— Во всяком случае, ты ничем не рискуешь!
Рано утром, как обычно, Василий пошел в мастерскую, проинструктировал мастера и, сев в свой «фиат», укатил в Париж. Там он легко разыскал рекламное бюро мсье Жубера — маленькую, убого обставленную контору.
— О… о, кого я вижу, — мсье Кочек! Какими судьбами? — Жубер поднялся навстречу Василию. — Рад, очень рад видеть вас в добром здоровье. Садитесь, садитесь вот сюда, — Жубер показал рукой на кресло рядом с письменным столом, — рассказывайте, как поживаете, что поделываете? Я часто вспоминаю вас и вашу прелестную жену.
Василий рассказал о себе и пригласил Жубера приехать к ним как-нибудь на воскресенье.
— У нас очень мило — уют, тишина. После Парижа вы отлично отдохнете. А какие добрые люди! Узнавая французов ближе, я становлюсь горячим патриотом Франции!..
— Мне приятно слышать это. В истории моей родины немало примеров, когда иностранцы становились патриотами Франции и даже с оружием в руках сражались за ее интересы. — Жубер посмотрел на часы. — Надеюсь, вы располагаете временем? Что, если мы пообедаем вместе? Отличная идея, не правда ли? Я знаю чудный ресторанчик! Минут через двадцать я освобожусь. Посмотрите пока альбом с образцами нашей продукции, — я сейчас вернусь. — Жубер подал гостю альбом в сафьяновом переплете и вышел.
Альбом был заполнен похожими одна на другую фотографиями толстощекого улыбающегося коротыша в белом фартуке, в поварском колпаке, с подносом на вытянутой руке. Только на подносе менялись продукты — куры, колбасы, рыба, фрукты, бутылки с вином.
В шкафу за стеклом стояли фигурки таких же коротышей, сделанные из папье-маше и раскрашенные.
Рассматривая эти фигурки, Василий невольно подумал, что у владельца рекламного бюро не такая уж богатая фантазия. А ведь при некоторой инициативе и выдумке можно, пожалуй, создать интересное дело…
В «фиате» Василия они поехали на Монмартр и, оставив машину на стоянке, зашли в небольшой уютный ресторан. Жубера здесь знали. Не успели они сесть за столик, как к ним подошел сам хозяин, осведомился о здоровье, сообщил, что получены отличные омары.
Жубер продуманно заказал обед. Он был в хорошем настроении, так и сыпал анекдотами и смеялся от всей души. Немного захмелев, он поведал другу — так теперь он называл Василия — историю своей невеселой жизни.
— В наше время, имея семью, содержать любовницу — весьма дорогое удовольствие!.. Дела же, скажу вам по совести, не блестящие. Проклятый экономический кризис, конца которому не видно, основательно парализовал деловой мир. И я тоже едва свожу концы с концами. А тут еще рабочие, — они все социалисты или коммунисты, парод отпетый. С каждым днем предъявляют все новые и новые требования, как будто я содержу мастерские единственно для того, чтобы создать им приличные условия жизни… Жена моя — она намного старше меня — часто болеет, вечно ворчит. Все-то ей не нравится, и, вероятно, догадывается о существовании крошки Мадлен. А что из того, бог мой? Неужели трудно понять, что в современном мире ни один уважающий себя мужчина не обходится без любовницы, если, конечно, он не кретин и не скряга!..
Василий молча, с выражением сочувствия на лице, слушал излияния Жубера. И его материальные затруднения, и беспорядочная жизнь давали повод думать, что рано или поздно можно будет с ним столковаться. Но — только не спешить, не пороть горячку!..
— Хотите, я познакомлю вас с Мадлен? — спросил Жубер. — О, вы увидите, как она очаровательна!
— Не сомневаюсь, у вас отличный вкус!.. Вот что — приезжайте к нам с мадемуазель Мадлен! Моей жене представьте ее… ну, скажем, как вашу кузину, племянницу…
— Замечательная идея! — еще больше оживился Жубер. — Надеюсь, в вашем городишке есть приличная гостиница, где можно было бы остановиться?
— Зачем вам гостиница? Наш дом в вашем распоряжении.
— Ну, это неудобно…
— Очень даже удобно! Мы предоставим в ваше распоряжение две комнаты. Приезжайте в субботу, чтобы пробыть у нас до понедельника. Покатаемся по нашему пруду, погуляем, а вечером будем музицировать. Я взял напрокат приличный инструмент. Отлично проведем время! — Василий написал адрес, номер телефона и протянул листок Жуберу. — Позвоните, когда надумаете приехать, — я вас встречу.
На старых каштанах появились тронутые желтизной листая. Ветер срывал их и, покружив в воздухе, мягко опускал на землю. С утра и до позднего вечера гомонили перелетные птицы. Они кружились над городком, словно совершали круг почета, прежде чем улететь на юг, в теплые края. Луга и сады меняли свою окраску — постепенно все вокруг приобрело красновато-золотистые тона. Ветви фруктовых деревьев гнулись под тяжестью плодов. В садах и виноградниках мелькали белые чепчики женщин-сборщиц, похожие на белые ромашки. Наступила осень — прекрасная, щедрая осень Франции.
Жители городка были поглощены заботами о зиме. Запасали дрова и уголь. Хозяйки варили в медных тазах варенье, солили огурцы, капусту, мариновали помидоры, перец, баклажаны. Василий с Лизой тоже вынуждены были сделать кое-какие запасы на зиму и, главное, утеплить свой дом, поскольку план переезда в Париж пока повис в воздухе.
Жубер словно в воду канул. Являться же самому в рекламное бюро еще раз Василий считал неудобным: не хотелось показаться навязчивым. Он терзался тем, что рушился и этот его план. Значит, он в чем-то просчитался. Конечно, осечки могут быть всегда — от этого никто не застрахован. Беда в том, что этак он может потерять веру в свои силы, интуицию, никогда не подводившие его до сих пор.
«Зря потеряно столько времени!» Но разве время потеряно зря? Если судить объективно, ответ может быть только один — нет, не зря. Он сумел обосноваться во Франции, даже вернул половину денег, вложенных в дело Ренара. Правда, потребовалась жесточайшая экономия во всем, но это уже никому не интересная деталь. Деньги он отослал «отцу» в Чехословакию с хвастливым письмом: полюбуйтесь, мол, батя, на своего удачливого сынка, сумевшего не только пристроиться в чужой стране, по еще и зарабатывать хорошие деньги!..
Конечно, имея хотя и временное разрешение на проживание во Франции, можно перебраться в Париж хоть завтра. Снять квартиру и жить себе потихонечку. Можно, — но какой в этом толк? Неизбежно возникнет множество нежелательных вопросов: «На какие средства живет в Париже этот иностранец?.. Зачем пожаловал во Францию этот подозрительный тип? Не югославский ли он террорист с чехословацким паспортом в кармане? А может быть, анархист или даже коммунист?..» На человека пала тень подозрения — репутация испорчена. А как оправдаться в глазах людей, подозревающих тебя во всех смертных грехах?
Нет, Василий не станет делать опрометчивый шаг и без основательной подготовки перебираться в столицу… С рекламным бюро, похоже, не получается, — ну что ж, бывает!.. Очень жаль, конечно, но ничего не поделаешь. В таких случаях полагается не киснуть, не опускать руки, а искать и найти другой выход. Признаться, идея с рекламным бюро была вовсе не плоха. Стать совладельцем перспективного дела в центре Парижа, развернуться вовсю… Найти нечто подобное будет, кажется, очень трудно, но попытаться надо. Известно ведь, что под лежачий камень и вода не течет.
И вот однажды утром, когда Василий, осматривая зажигание ремонтируемой автомашины, не переставая думал о своих делах, его позвали к телефону.
— Алло, мсье Кочек, добрый день! — Это был голос Жубера. От радости у Василия даже руки вспотели. — Извините, старина, что я долго не звонил вам, — меня тоже не обошла проклятая испанка. Как поживаете?.. Спасибо, если ничего не будете иметь против, я приеду к вам в субботу со своей племянницей Мадлен… Приеду четырехчасовым поездом. Итак, до субботы. Сердечный привет супруге!..
Василий медленно повесил трубку на рычаг. Значит, его тревоги были напрасны и он зря занимался самобичеванием!..
— Звонил один приятель из Парижа, — сказал он Ренару. — В субботу собирается приехать к нам.
— Я не знал, что в Париже у вас друзья.
— Вы просто запамятовали, я как-то говорил вам о нем. Это владелец рекламного бюро, мсье Жубер. Очень приятный человек!..
Вечером, обсуждая с Лизой, как они устроят у себя парижского гостя, Василий рассказывал ей о том, как он мучился.
— Недаром говорится: веру в себя потеряешь — все потеряешь! — перефразировал он восточную поговорку. — Полагаю, теперь все будет в порядке. Впрочем, не будем забегать вперед, хотя очень многое и теперь зависит от нас. Все дело в выдержке!
— Хладнокровия и выдержки тебе не занимать — на двоих хватит, — сказала Лиза.
— Ну, и тебе жаловаться на отсутствие выдержки не приходится!
— Ты так думаешь? А мне часто кажется, что я не выдержу и удеру отсюда… Брошу все и удеру без оглядки! — Лиза отвернулась, чтобы он не видел ее лица. — Ты даже не представляешь, как мне все здесь осточертело. День-деньской сижу в четырех стенах и все думаю: за какие наши грехи судьба так неласково поступает с нами? В этой дыре мне опротивело все: пустые разговоры с соседками, ханжеское лицо служанки, ерундовые романы модных писателей… Я хочу домой, к своим! Пойми меня, — тяжело вечно притворяться, каждый раз, прежде чем слово сказать, обдумывать, что и как ты скажешь. И так месяцами, годами… — В голосе Лизы звучали слезы.
— Что ты, что ты, родная? — встревожился Василий и обнял жену за плечи. — Так нельзя, ты же знаешь, во имя чего мы здесь. И куда, наконец, девалось твое чувство юмора? Подумаешь, соседки, служанка! Ну, улыбнись, улыбнись скорей! Ты же у меня умница, все понимаешь…
— Понимаю, а сердце истомилось. Знаешь, как это трудно, когда разум и сердце не в ладу… Для чего я столько училась? Чтобы вышивать салфетки, варить абрикосовое варенье, мариновать перец?
— Ничего, родная, чуточку потерпи, отдохни. Придет и твоя очередь. Мне ведь тоже не очень-то весело торчать в захолустном городке без серьезного дела, с утра до вечера ремонтировать машины и сколачивать капитал для мсье Ренара… И все-таки мы с тобой не зря тратим здесь время. Все это окупится, вот увидишь!
— Ну хорошо… извини меня… Забудем об этом разговоре! Давай лучше подумаем, как нам принять дорогого гостя и его племянницу…
— Привезем их домой, дадим отдохнуть, накормим хорошим ужином. После ужина, если у них будет желание, пройдемся к пруду или останемся дома, помузицируем. Жубер ведь большой любитель музыки.
— А в воскресенье пойдем в церковь? — спросила Лиза.
— Непременно! Мы с тобой добрые католики и не можем пропустить мессу даже из-за гостей! Если и они захотят пойти с нами, — пожалуйста! А вот как быть с обедом — не знаю. Мне бы хотелось пригласить на обед мэра, начальника полиции, Франсуа, да и самого мсье Дюрана. Пусть Жубер посмотрит, как они относятся ко мне. Но где устроить обед? В ресторане Дюрана неудобно, — он будет в числе приглашенных. Дома у нас — канительно.
— Обед можно устроить в павильоне на берегу пруда. Там есть довольно просторные кабинеты, огражденные вьющимся виноградом.
— Так и сделаем!..
В субботу Василий и Лиза встретили на станции Жубера и его спутницу — миловидную, в меру намазанную, стройненькую шатенку лет двадцати — двадцати трех, в легком, красивом платье.
Увидев Василия, Жубер приветствовал его шумно и многословно, галантно поцеловал руку Лизе и представил им спутницу.
— Моя бедная жена захворала, и племянница согласилась сопровождать меня!..
Дома Мадлен удалилась с Лизой в отведенную ей комнату, чтобы привести себя в порядок, а Василий с Жубером выпили перед ужином аперитив.
— У вас прекрасно, удивительно легко дышится, — сказал Жубер, подходя к открытому окну. — Всю жизнь мечтал иметь загородную виллу и собственный автомобиль, но, видно, так и умру, ничего не добившись! — Он невесело усмехнулся.
— Откуда у вас такой пессимизм?
— Для пессимизма у меня есть все основания… В последнее время почти прекратился спрос на мою продукцию. Мне приходится туго, тут уж не до вилл и автомашин! — Жубер повернулся к Василию. — Интересно, а как идут ваши деда?
— Нам с компаньоном жаловаться на судьбу не приходится. На наш век хватит поношенных и разбитых автомобилей, — только успевай ремонтировать!.. Не может быть такого экономического кризиса, который заставил бы людей перестать ездить. К тому же фирма наша солидная, мы ремонтируем на совесть, заказчики всегда лестно отзываются о нашей работе. Мы завоевали прочное положение.
— Вы просто счастливчик!
— К сожалению, человеческое счастье никогда не бывает полным…
— Неужели и у вас есть основания быть недовольным судьбой?
— Есть!
— Какие же?.. Если, конечно, не секрет.
— Никакого секрета, обыкновенные житейские заботы. Моя жена — искусствовед. Она единственная дочь состоятельных родителей и намерена получить ученое звание при Венском университете. Обосновавшись во Франции, мы надеялись, что она сможет совершенствоваться по своей специальности. Но мы застряли в этом маленьком городке, а часто бывать в Париже и подолгу оставаться там, чтобы посещать музеи, слушать лекции в Сорбонне…
— Так вам необходимо перебраться в Париж! — перебил Жубер.
— Не так-то это просто. Помимо того, что здесь у меня налаженное дело, остается еще главное, не забывайте, что я иностранец и мне устроиться в Париже и прилично зарабатывать почти невозможно… Не могу же я работать простым механиком или поступить рабочим на автомобильный завод! Безработных в Париже и без меня хватает. Потом, признаться, отвык я работать по найму…
Лиза позвала мужчин ужинать, и на этом деловой разговор оборвался.
Как и можно было ожидать, Жубер и мадемуазель Мадлен отказались от посещения утренней мессы. Когда Василий и Лиза вернулись из церкви, гостей дома не оказалось. По словам служанки, они позавтракали и пошли прогуляться по городу. Вид у служанки был смущенный, растерянный. Лиза спросила:
— Что с вами, Рози? Вы чем-то расстроены?
— Ах, мадам, лучше не спрашивайте! Это просто ужасно… Я видела… Видела, как они целовались! — Служанка стыдливо опустила глаза.
— Что же в этом дурного? Почему мсье Жубер не мог поцеловать свою племянницу?
— Мадам, это был совсем не родственный поцелуй! — прошептала Рози и выбежала из комнаты.
Намеченная заранее программа была выполнена полностью. Все было мило, пристойно и скромно, хотя и не скупо.
Возвращаясь домой после обеда с местной знатью, Жубер взял Василия под руку.
— Вы просто волшебник, Кочек! Чтобы завоевать сердца моих соотечественников, как вы сумели это сделать, нужно быть поистине волшебником. Я видел, с каким уважением относятся к вам жители городка, и порадовался за вас…
После отъезда гостей Василий засел за литературу по декоративному и прикладному искусству, стал усердно изучать все тонкости рекламного дела. Большую помощь в этой работе оказывала ему Лиза — она увлеклась искусством рекламы. Василия удивляли размах и значение, какие имела реклама в Соединенных Штатах Америки, и он невольно думал, что, если бы существовала «Рекламная фирма Жан Жубер и Кь», она могла бы сказать новое слово в рекламном деле во Франции…
Он был теперь настолько уверен в возможности переезда в Париж, что несколько раз ездил туда с Лизой, чтобы подыскать подходящее жилье: небольшую, в две-три комнаты, не очень дорогую, но вполне приличную квартирку недалеко от центра.
Постепенно начал он подготавливать своего компаньона к мысли о том, что им рано или поздно придется расстаться.
3
Василий не спешил делать Жуберу конкретные деловые предложения. Он даже длительное время не появлялся у него. Он терпеливо ждал, понимая, что крах рекламного бюро Жубера не за горами.
Заехав однажды в банк по своим делам, Василий, как бы между прочим, попросил одного расторопного служащего навести справку о финансовом положении рекламного бюро мсье Жубера в Париже, объяснив законное свое любопытство тем, что предполагает завязать с этим бюро деловые отношения.
— Вообще-то принцип всех банков — держать в строгом секрете финансовое положение клиентов… Но для вас, мсье Кочек, я сделаю невозможное и, если узнаю, немедленно сообщу вам, — ответил служащий.
Через несколько дней Василию стало известно, что финансовое положение Жубера самое печальное и что векселя его скоро будут опротестованы. Крах неизбежен!..
Решив, что настало время действовать, Василий поехал в Париж. Он застал Жубера в подавленном состоянии. Живой и веселый француз как-то поблек, осунулся, даже мешки появились под глазами.
— Что с вами, не заболели ли? — участливо спросил Василий, пожимая его руку.
— Не спрашивайте, друг мой!.. Скоро, кажется, я буду конченым человеком…
— Случилось несчастье?
— Смотря что называть несчастьем… Сбыта не стало, склады забиты готовым товаром. Нечем платить рабочим. Я должен за аренду помещения, должен поставщикам сырья. А тут еще подходит срок погашения векселя в банке. Вы деловой человек, знаете: опротестовали вексель — конец всему, ты банкрот и надеяться тебе больше не на что.
— Положение действительно такое критическое или вы сгущаете краски? — сочувственно спросил Василий.
— Сгущаю? Нисколько, — все потеряно, и у меня нет никакого выхода.
— Не отчаивайтесь, мой друг. На свете не бывает положения, из которого нет выхода. Давайте подумаем вместе, что можно предпринять.
— О чем тут думать? Все ясно. Вы же не заплатите по моему векселю. А даже если бы и заплатили, все равно я не в состоянии вернуть вам ваши деньги… Лучше уж сразу — пусть объявляют банкротом, опишут имущество! — Жубер безнадежно махнул рукой.
— И все-таки давайте обсудим положение, — настаивал Василий. — На какую сумму вы выдали вексель?
Жубер неохотно назвал сумму: три тысячи восемьсот франков. Есть и еще векселя: на тысячу двести франков и на тысячу. Всего — шесть тысяч франков. Но есть и другие долги — поставщикам за папье-маше, краски, клей. Рабочим не выплачено за два месяца. За аренду помещения, электричество, мало ли еще за что…
— А конкретнее? — настаивал Василий.
Жубер впервые пристально и заинтересованно посмотрел на собеседника.
— Уж не собираетесь ли вы оплатить мои долги? — хмуро пробормотал он.
— Может быть, — невозмутимо ответил Василий.
— С какой стати? Времена добрых волшебников, кажется, давно прошли…
— Волшебников — прошли. Друзей и деловых людей — нет. Так, другие ваши долги…
— Портному, мяснику, бакалейщику, булочнику — им я, кажется, не платил за последние два месяца.
— Все понятно. А теперь выслушайте меня. Я оплачу все ваши долги, крупные и мелкие, и вложу в дело некоторую сумму, при условии, конечно, что вы возьмете меня в компаньоны!
— Вас? В компаньоны? Да с величайшим удовольствием! — воскликнул Жубер. Потом, как бы опомнившись, спросил: — Но, бог мой, зачем вам рисковать деньгами, вкладывая их в безнадежное предприятие?
— Я не думаю, что ваше предприятие безнадежное, Не обижайтесь на меня, ради всех святых, — просто вы ведете дело не совсем так, как требуется в наше время. Может быть, я не прав, но у меня сложилось такое впечатление…
Самолюбие Жубера было задето.
— Интересно все же знать, в чем же, по-вашему, заключается мое неумение правильно вести дело и на чем основаны ваши впечатления? Скоро десять лет, как существует бюро. Разве моя вина, что во всех областях торговли застой и число банкротов растет ежедневно?
— Я знаю, мой друг, что ваше бюро существует давно. Знаю и другое; по инерции вы продолжаете выпускать одну и ту же продукцию — симпатичного коротыша с подносом. Когда-то он пользовался успехом, но ведь им вы заполнили всю Францию! А ваши очень дорогие кошки и собаки из папье-маше не находят сбыта вообще, — спокойно и мягко сказал Василий.
— Что же вы можете предложить?
— Думаю, что сейчас в рекламном деле следует исходить именно из того печального факта, что в торговле застой. Следовательно, все, буквально все, кровно заинтересованы в сбыте своей продукции. Все нуждаются в рекламе, но в рекламе разнообразной, доходчивой, неожиданной и в то же время конкретной. Я перестроил бы работу рекламного бюро — подыскал бы для рекламы новые, более солидные объекты, чем гастрономия и бакалейные лавки. — Василий говорил неторопливо, уверенно. — Наши дела могут поправиться в течение ближайших трех-четырех месяцев, при условии, что мне будет предоставлена свобода действий. Было бы целесообразно временно прекратить работу бюро и возобновить ее после основательной реорганизации.
— Прекратить?! А на что мы жить станем, позвольте вас спросить?
— Какую сумму вы брали из кассы на личные расходы? — перебил Василий.
— Тысячу, тысячу двести франков в месяц. Впрочем, так было раньше, — поспешил разъяснить Жубер, — за последние месяцы не больше пятисот…
— Отлично! Вы получите свою тысячу франков в месяц.
— Как? — Жубер недоверчиво пожал плечами.
— Очень просто, будете получать из кассы тысячу франков за счет временного уменьшения основного капитала фирмы… Не думайте, Жубер, что я какой-то филантроп. Я деловой человек и сознательно иду на определенный риск, надеясь на наши с вами силы. Мне приходится поступать так еще ради
будущности Марианны, — ей необходимо жить в Париже. Иначе, конечно, я не стал бы бросать налаженное, достаточно прибыльное дело, которым занимаюсь сейчас. Недавно мы с моим компаньоном Ренаром подвели итоги — и можете себе представить? Оказывается, меньше чем за год нам удалось почти удвоить основной капитал предприятия, не принимая в расчет денег, которые мы брали ежемесячно на жизнь.
— Что ж, мне раздумывать не приходится!.. Давайте попробуем. Лично мне терять нечего, — в случае неудачи еще на несколько месяцев оттянется крах. Выигрыш во времени тоже ведь кое-что значит!..
— Не будем говорить о крахе! На днях я дам вам деньги, и вы досрочно выкупите вексель. Это произведет хорошее впечатление в финансовых кругах: фирма, испытывающая денежные затруднения, не станет учитывать векселя раньше времени.
— Что требуется от меня? — спросил Жубер.
— Да, собственно, ничего… Если не считать того, что нам нужно будет оформить наши взаимоотношения у нотариуса и зарегистрировать новое предприятие в торговой палате Парижа. У меня могут возникнуть кое-какие трудности, — я ведь иностранец. Поэтому я всецело полагаюсь на вашу помощь.
— Я сделаю для вас все, что в моих силах. В деловых кругах у меня обширные связи! — Впервые за весь этот разговор в голосе Жубера послышались бодрые нотки.
Ренар, хотя и был в известной мере подготовлен к тому, что Кочек выйдет из дела, был очень огорчен сообщением компаньона. Расстроенный, он молча стоял перед Василием, потом спросил, как ребенок:
— А как же я?
Василию стоило больших трудов успокоить толстяка.
— Все будет в порядке, не волнуйтесь! А чтобы на первых порах вам не пришлось испытывать финансовых затруднений, я оставлю свою долю капитала, ну, скажем, на полгода, не требуя процентов. Думаю, что этим я отплачу вам, хоть частично, за добро, которое вы сделали для меня. Что бы потом ни случилось, я всегда буду хранить в сердце благодарность вам!..
— Это великодушно с вашей стороны, — растроганно сказал Ренар. — Но сумею ли я один справиться с делами без вас — вот в чем вопрос?
— Несомненно справитесь! Дело налажено, заказами мастерская обеспечена на полгода вперед. Будем откровенны: какой вам смысл теперь иметь компаньона и делить с ним прибыль, когда вы и один можете расширить дело? А я, я не могу не считаться с интересами жены. Она, бедняжка, страдает здесь, хотя и старается скрывать это от меня и от всех. Марианна молода, ей необходимо завершить образование в Париже. С чем, с каким багажом она вернется рано или поздно на родину? Привезет с собой парижские туалеты? Этим никого не удивишь в наше время!..
На следующий день они посетили нотариуса и аннулировали договор на совместное владение ремонтной мастерской. Ренар вручил Василию вексель на семь тысяч франков, который тут же учел директор отделения банка «Лионский кредит». Таким образом, Василий мог перебраться в Париж, имея в кармане кругленькую сумму — одиннадцать тысяч франков наличными.
Рекомендация мэра городка, лестные отзывы Ренара и кюре, обширные связи Жубера в деловых кругах — все это сыграло свою роль, и вскоре Василий стал равноправным компаньоном рекламной фирмы.
С переездом в Париж он не торопился. Он все еще подыскивал подходящую квартиру, а пока каждое утро ездил на работу из городка и возвращался вечером. Нередко вместе с ним ездила Лиза, по-прежнему интересовавшаяся искусством рекламы.
Прежде всего Василий прекратил выпуск коротышек, собак, кошек и рассчитал весь персонал. Без устали бродил он по улицам Парижа, иногда в сопровождении Лизы, подолгу простаивал у витрин больших универсальных магазинов, у рекламных щитов возле кинотеатров, у театральных афиш.
Жубер безучастно наблюдал за действиями компаньона, меланхолически насвистывая арии из опер и модные песенки.
Как-то Василий и Лиза, проходя по набережной Сены мимо ларьков букинистов, увидели бледного длинноволосого молодого человека в черном свитере, рисующего цветными мелками на тротуаре уличные сценки. Некоторые из прохожих бросали мелкую монету в его кепку. Рисовал молодой человек быстро, уверенно. На сером асфальте оживали то молоденькая цветочница, то шофер такси, то подвыпивший посетитель бистро.
— Посмотри, он необыкновенно талантлив, — негромко сказала Лиза, замедляя шаги.
Некоторое время они молча наблюдали за работой художника.
Когда художник закурил, отдыхая, Василий подошел к нему ближе и спросил:
— Скажите, вы самоучка или учились где-нибудь?
У молодого человека было подвижное, живое лицо, насмешливые глаза.
— Собственно, почему это интересует вас? — Он оглядел Василия с головы до ног.
— Мне кажется, для самоучки вы рисуете слишком хорошо, а для профессионала…
— А для профессионала ничего другого не оставалось! Я пять лет учился в студии… Очевидно, мсье иностранец, если он не знает, что последнее ничего не значит!.. У меня нет мастерской, нет денег на холст и краски! — Он говорил резко, с вызовом, но, взглянув на Лизу, изменил тон. — Мать моя прикована к постели, — негромко проговорил он, — а я единственный ее кормилец. Да и самому мне тоже нужно есть и пить. Вот и добываю себе на пропитание, как могу…
— А хотели бы вы иметь постоянную работу? — спросил Василий.
— А вы знаете кого-нибудь, кто мне предложил бы ее? Кстати, учтите, меня даже гарсоном в ресторан не взяли. Говорят, слишком выразительная физиономия и выражает не то, что нужно!..
— Загляните ко мне завтра. — Василий протянул ему визитную карточку. — Скажем, в десять утра.
Молодой художник долго смотрел вслед Василию и Лизе. И, увидев в кепке кроме мелких серебряных монет трехфранковую бумажку, подумал: уж не появился ли в Париже новый граф Монте-Кристо?
Утром, в условленный час, он стоял перед Василием в его конторе.
— Садитесь и слушайте. — Василий указал рукой на кресло. — Здесь рекламное бюро, которое пока ничего не рекламирует. К сожалению, вышло так, что нужно начинать все сызнова. Вот я и пытаюсь. Прежде чем взять вас на работу, мне хотелось бы увериться, что вы способны трудиться в области рекламы.
— Попробуйте! — У художника оказалась неожиданно широкая и добрая улыбка.
— Надеюсь, вы не чванливы и не считаете, что реклама — дело второсортное, не имеющее ничего общего с искусством, — продолжал Василий. — Моя жена, например, считает рекламу искусством, а ей и книги в руки — она искусствовед. Конечно, этот вид искусства имеет свою специфику. Но ведь не случайно, что в Америке рекламой занимаются весьма одаренные, даже признанные художники. Даю вам пять дней, — походите по Парижу, подумайте хорошенько над оформлением витрин универсальных магазинов, как рекламировать в кинотеатрах новые фильмы. Нам нужно найти оригинальные формы рекламы, но отвечающие высоким художественным требованиям. Я буду платить вам десять франков в день. — Василий достал бумажник и отсчитал художнику пятьдесят франков. — Разумеется, это на первых порах. Потом мы установим вам оклад в зависимости от ваших способностей.
— Через пять дней я буду у вас! — Молодой человек откланялся.
— Думаете, он вернется? — с иронической улыбкой спросил Жубер, молча слушавший разговор.
— Непременно!
— Святая наивность! Друг мой, вы плохо знаете парижскую богему. У этих волосатых бродяг ничего нет святого, нет ни чести, ни совести. Сегодня же ночью он промотает ваши пятьдесят франков в компании девиц легкого поведения и разве что, вспомнив вашу щедрость, выпьет бокал за ваше здоровье!..
— Я действительно плохо знаю Париж, но хорошо разбираюсь в людях. Этот парень талантлив. Он не только вернется, но и принесет стоящее предложение.
— Поживем — увидим…
Молодой художник пришел на третий день. Он принес миниатюрный объемный макет рекламы старого американского боевика «Багдадский вор». Картина эта опять шла в одном из кинотеатров города.
На макете был изображен прославленный Дуглас Фербенкс, смуглый, обнаженный до пояса, в широких шароварах. Он притаился на крыше ажурного дворца восточного владыки. Ниже, в глубине комнаты со сводчатым потолком и узкими окнами, сидела, поджав под себя ноги, молодая девушка в легком восточном одеянии — пленница гарема. За высокими стенами дворца виднелись иглы-минаретов. На небе висел большой диск розовой луны. Все это было дано в привычных традициях «восточной романтики». Забавным и неожиданным было то, что художник включил в эту экзотическую обстановку современных парижан — тех, кто заполняет улицы, бульвары, магазины. Он как бы говорил этим: «Посмотрите фильм — и каждый из вас переживет необыкновенные приключения, вообразит себя героем!»
Василий некоторое время молча разглядывал макет. Потом позвал компаньона.
— Посмотрите-ка, Жубер, если все исполнить, ну, скажем, в половину натуральной величины, хорошо осветить, это не может не остановить внимания. Ни так ли?
— Да, неплохо…
— Работа увлекла меня, — взволнованно сказал художник и достал из папки несколько листов плотной бумаги. — Здесь наброски рисунков для рекламы кое-каких товаров…
На одном рисунке была изображена обставленная элегантной мебелью комната. Возле изящного полированного секретера стоял в полной растерянности громила с фомкой в руках. «Он так хорош, что рука не поднимается взломать его!» — гласила надпись. На другом рисунке тощий Диоген с фонарем в руках разглядывал выставку современной керамики: «Если бы я дожил до этого времени, я бы знал, где мне купить хорошенькую бочку для жилья!»
— Все это не лишено остроумия, — сказал Жубер. — Во всяком случае, свежо и ново!
— Вы молодчина, мой друг! Для начала совсем неплохо. Как ваше имя? — спросил Василий.
— Меня зовут Анри Борро.
— Так вот, Борро, сколько времени вам нужно, чтобы изготовить объемный макет «Багдадского вора»? И что для этого вам потребуется?
Лицо художника на мгновение озарилось радостью, потом снова стало сосредоточенным.
— Если дадите помощника и обеспечите необходимыми материалами, думаю, дня за три справлюсь!
— Отлично. Материалы вы найдете внизу, в мастерской. Помощника пригласите сами. Вам известны размеры витрины кинотеатра?
— Да, мсье. Я измерил витрину.
— Есть ко мне вопросы?
— Пожалуй, пока нет…
Отпустив художника, Василий поехал к владельцу кинотеатра, в котором демонстрировался «Багдадский вор». В маленьком кабинете, со стенами, сплошь завешанными афишами, произошел нелегкий для Василия разговор.
— Я пришел с деловым предложением, — сказал Василий владельцу кинотеатра.
— Слушаю вас, — ответил тот, не предложив даже сесть.
— Я совладелец рекламной фирмы «Жубер и компания». Наша фирма, помимо других дел, занята в настоящее время разработкой новых методов рекламы кинокартин. Вместо устаревших, приевшихся фотовыставок и панно мы предлагаем объемные рекламные установки, изображающие отдельные эпизоды демонстрируемых фильмов, интригующие зрителя.
— Чего же думаете достичь этим?
— Привлечь внимание публики, вызвать интерес к фильму…
— Гм… Сколько же будет стоить ваша установка?
— Примерно, тысячу — тысячу двести франков.
— О-го-го! — Владелец кинотеатра махнул рукой. — Тысячу франков! Это почти четверть дневной выручки. Какой смысл выбрасывать такие деньги, когда фирма кинопроката обязана снабжать нас рекламным материалом бесплатно? Нет, мсье, ничего у вас не получится.
— Думаю, что вы ошибаетесь. Наш метод рекламы поможет вам по крайней мере удвоить сбор. Почему бы вам не попробовать?
— Мне некогда заниматься экспериментами, да и нет у меня лишних денег… Если уж «Багдадский вор» не дает полных сборов, не поможет никакая реклама!
— В таком случае разрешите нам рекламировать картину бесплатно, в порядке опыта.
— Бесплатно? — удивился хозяин. — Зачем вам это?
— Хотя бы затем, чтобы доказать всем — в первую очередь вам — преимущества нашего метода. От вас потребуется только одно — осветить установку. Больше того, мы даем обязательство снять рекламу по первому вашему требованию.
Настойчивость Василия, его убежденность произвели впечатление. Владелец кинотеатра пожал плечами:
— Ну что ж, действуйте… Витрина в вашем распоряжении. Об освещении я позабочусь. Но помните — ни одного сантима…
— Благодарю вас! — И Василий вышел.
Из кинотеатра он отправился к директору-распорядителю большого универсального магазина и предложил оформить витрину мебельного отдела.
В отличие от хмурого хозяина кинотеатра, молодой директор-распорядитель универмага оказался приветливым и разговорчивым человеком. Он поинтересовался, как именно предполагает рекламная фирма «Жубер и компания» оформить витрину. А увидев рисунок Борро, рассмеялся и сказал:
— Это необычно и остроумно. Парижане любят такое!.. Мы меняем оформление витрин каждый месяц и вообще тратим на рекламу кучу денег. Попробуем потратить немного и на ваш эксперимент. За оформление мебельной витрины предлагаю вам триста франков, а там видно будет. К работе можете приступить хоть завтра.
— Что вы, мсье! Такой суммы не хватит даже на покупку нужных материалов.
— Ваша цена!
— Тысяча двести франков. И то только для начала. Уверен, что со временем, убедившись в преимуществах нашего метода рекламы, вы сами увеличите размер гонорара.
— Нет, нет, это слишком дорого! Обычно оформление витрины обходится нам от трехсот до семисот франков. Даю вам шестьсот, согласны?
— Чтобы иметь возможность продемонстрировать вам нашу рекламу, я, пожалуй, соглашусь… Надеюсь, мы подпишем соглашение, гарантирующее выплату обусловленной суммы?
Директор позвонил, вошла секретарша, и он распорядился подготовить соглашение.
Образовалась небольшая пауза, и, чтобы заполнить ее, директор решил занять посетителя разговором.
— Вы, по-видимому, иностранец, сударь? У вас легкий акцент…
— Совершенно верно, я из Чехословакии.
— И вы уже испробовали свои методы рекламы?
— О да, у себя на родине!.. Большой, я бы даже сказал, шумный успех, которым сопровождались мои опыты, и привел меня сюда, во Францию. Чехословакия прекрасная, но маленькая страна, и там негде развернуться человеку с размахом. Другое дело — Франция!..
— Буду рад, если наши деловые отношения получат продолжение! — Директор-распорядитель явно симпатизировал Василию. — В наше время вести торговлю нелегко!.. Вот в скором времени, при наступлении весенне-летнего сезона, предстоят новые хлопоты — о распродаже не проданных за зиму товаров, о рекламе новых к сезону… Подумайте об этом и, если у вас появятся оригинальные идеи, поделитесь со мной!..
— С величайшим удовольствием! У нас для этого есть все возможности. Наша фирма пригласила на работу лучших специалистов рекламного дела в Париже, талантливых художников. Они молоды, энергичны и, главное, не хотят идти проторенными путями!
Секретарша принесла соглашение, Василий подписал его и простился с директором-распорядителем.
Ярослав Кочек из Чехословакии, возглавляющий рекламную фирму в Париже, был на десятом небе от успешно завершенных переговоров. Направляясь к себе в контору пешком, он мысленно подводил итоги проделанной работы. Что ж, сделано немало. Он — полноправный совладелец рекламной фирмы. Художник Борро — несомненная находка. Парень очень талантлив, полон идей, у него есть вкус, выдумка. Через несколько дней у витрины кинотеатра будут толпиться зеваки. Надо думать, хозяин оценит силу рекламы, и тогда он, Василий, снимет установку или заломит такую цену, что у того глаза на лоб полезут!..
Пусть Жубер получает тысячу франков в месяц и не вмешивается ни во что. Только бы не мешал… Вообще-то он славный малый и, конечно, будет счастлив, когда Василий преподнесет ему на блюдечке кучу денег.
Нужно укрепить свои позиции в деловом мире, зарекомендовать себя солидным дельцом. Недаром он потратил столько времени на изучение рекламного дела, да и Лиза помогла ему… Его реклама будет тематической, зрительно интересной, яркой, всегда новой, оригинальной. Она будет привлекать к себе внимание и как произведение искусства… Впрочем, хватит строить воздушные замки! Еще неизвестно, как пойдут дела.
В конторе Василий узнал, что Борро пригласил себе в помощь своих друзей.
— Они, мсье, великие выдумщики! — Черные глаза художника блестели. — Они рождены для рекламного дела.
— Все это прекрасно, но учтите, что нам нужно спешить, очень спешить! — сказал Василий.
— Ах, мсье, мы истосковались по настоящей работе! Мы готовы работать день и ночь, были бы заказы…
— Я только что от владельца кинотеатра. Он отказался от наших услуг.
— Ему не понравился мой макет? — растерянно спросил художник.
— Не огорчайтесь, дело не в этом. Он просто трус и скряга… Я договорился, что мы смонтируем вашу установку бесплатно.
— Бесплатно?!
— Да, бесплатно. Тут удивляться нечему: ведь никто в Париже не знает ни нас, ни нашу работу. Вот когда ваше оформление произведет впечатление, у нас появятся заказы.
— В таком случае мы постараемся!
— А ваш страшный громила произвел самое хорошее впечатление. Вот соглашение с универсальным магазином. Это наш первый успех, Анри!
В контору вошли двое весьма скромно одетых молодых людей.
— Вот и мои друзья! Разрешите, мсье Кочек, представить их вам. Это — Доминик, — Борро указал на высокого блондина. — Вообще-то он график, по мастер на все руки. И темперамент у него как у Бенвенуто Челлини! А это Клод Гомье, — Борро положил руку на плечо коренастого парня с широкой грудью и здоровыми кулачищами. — С этим чудовищем приходится быть осторожным, и не только потому, что он первоклассный боксер, но еще и потому, что он карикатурист!
Клод был жгучий брюнет с густыми, как у негра, вьющимися волосами.
— Очень рад. Садитесь, пожалуйста! — Василию приятно было общество молодых энергичных парней. — Думаю, Анри говорил вам, что мы только-только начинаем дело и что пока у нас ничего — ни заказов, ни ясных перспектив. Но мы оптимисты, полагаемся на свои силы и на ваш талант. Подумайте сами: мы собираемся рекламировать чужие товары, так неужели у нас не хватит ума-разума разрекламировать свою работу? Для начала могу предложить вам не более четырехсот франков в месяц. В дальнейшем, по мере процветания нашей фирмы, будет увеличиваться и ваш заработок. Общее руководство мастерской возлагаю на Анри Борро. Надеюсь, вы согласны с этим?
— Вполне! — ответили в один голос молодые люди.
— Можете начать работу хоть сегодня.
Рекламная установка для кинотеатра была готова в назначенный срок. Спустившись в мастерскую, Василий не поверил своим глазам, увидев панораму восточного города, утопающего в розоватом свете луны. Неожиданными и чем-то даже трогательными выглядели на этом фоне фигуры парижан, выполненные Клодом Гомье в несколько шаржированной, гротескной манере. Каждому, кто войдет в кинозал, предоставлялась возможность забыть прозу жизни, окунуться в экзотику Востока, пережить приключения… Рядом стояло готовое оформление витрины мебельного отдела универмага. Перепачканные краской, веселые, оживленные художники нетерпеливо посматривали на Василия.
— По-моему, очень хорошо. Поздравляю вас! — сказал Василий, садясь на табуретку. — Надо отвезти оформление по адресам и приступить к монтажу. Вечером посмотрим, какое впечатление все это произведет на публику.
Василий вернулся к себе.
Последние дни Жубер не появлялся в конторе. Казалось, он совсем перестал интересоваться делами. Его безразличие немного тревожило Василия. Что это — усталость, ревность или неверие в успех?.. Человек долгие годы единолично возглавлял рекламное бюро и под конец, доведя его до катастрофы, опустил руки, а тут вдруг появляется какой-то иностранец и перестраивает всю работу по-своему…
Василий поднял трубку телефона.
— Здравствуйте, Жубер, это я, Кочек. Да нет, ничего не случилось… Я так и думал, что вы нездоровы. Надеюсь, ничего серьезного?.. Дела у нас?.. Как вам сказать, в общем идут. Завтра узнаем первые результаты, посмотрим, какое впечатление произведет наша объемная реклама на публику… Заметка в газете? Это было бы чудесно! Если вам не трудно, то, пожалуйста, организуйте… До свидания, желаю скорейшего выздоровления.
Вечером Василий с художниками отправились к кинотеатру.
Еще издали они увидели толпившихся у входа в кино и у ярко освещенной витрины людей. Встав в сторонке, они наблюдали, как постепенно толпа зевак увеличивалась. Появился ажан. Он тоже взглянул на витрину и улыбнулся.
— Это уже успех! — прошептал Доминик.
— Мсье Кочек, — негромко сказал Анри, — мне кажется, это… — Он указал на высокого, стройного человека в модном пальто и без шляпы, который в эту минуту подошел к витрине. Да, это был Жубер. Несколько минут стоял он, разглядывая витрину, а потом медленно пошел по улице. Василий молча проводил его взглядом.
— Отправимся к универмагу, — сказал он.
У витрины мебельного отдела останавливались лишь некоторые из прохожих, хотя оформление выглядело не хуже, чем в кинотеатре.
— Странно, почему так? Чем объяснить отсутствие у людей интереса к этой нашей работе? — сокрушенно спрашивал Борро.
— Вечером у кинотеатров всегда больше публики. Потом — экзотика! Я думаю, что у этой витрины днем будет больше людей, чем сейчас. Но обратите внимание, мой милый Анри, — редко кто смотрит на эту вашу витрину не улыбнувшись!.. К тому же люди покупают мебель не каждый день, — сказал Василий.
— Может быть, вы правы, мсье, но я ожидал большего успеха!
— Об успехе, друзья, будем говорить тогда, когда у дверей нашей конторы владельцы магазинов и кинотеатров часами будут ждать очереди, чтобы заказать нам оформление! — пошутил Василий. — А сейчас я предлагаю отправиться в ближайший ресторан и отметить наш первый, пока еще скромный успех!
Молодые люди не заставили долго уговаривать себя. Они готовы были сидеть в ресторане хоть до утра, но Василий спешил. Он позвал гарсона, расплатился за ужин и встал.
— Мне ведь ехать за город, — объяснил он.
Молодые люди проводили патрона до стоянки машин.
— Почему вы живете за городом? — спросил Борро.
— Не могу подыскать в Париже подходящую квартиру.
— Хотите, я вам помогу? Я знаю, в нашем квартале сдаются очень удобные квартиры.
— Буду весьма признателен, если, конечно, подойдет цена, — сказал Василий и простился с художниками.
Через два дня, под вечер, Василий зашел к владельцу кинотеатра, в котором шла картина «Багдадский вор», и попросил разрешения снять с витрины свою рекламную установку.
— Снять? Зачем? — с недоумением спросил тот.
— Мсье, вероятно, помнит, что я безвозмездно установил у вас рекламу, чтобы доказать вам ее эффективность. По-моему, цель достигнута, и я не вижу смысла оставлять у вас рекламу.
— Я не позволю вам снять ее! — Владелец кинотеатра был явно раздражен. — Картина будет демонстрироваться еще не меньше недели!..
— Боюсь, что это не в вашей власти. У нас с вами нет договора… Впрочем, если желаете воспользоваться услугами нашей фирмы…
— Сколько хотели бы вы получить?
— Три тысячи франков за рекламное оформление до конца демонстрации фильма «Багдадский вор»!
— Вы с ума сошли?! Позавчера вы просили тысячу двести франков!
— Во всякой торговле спрос порождает предложение. Позавчера мало кто знал о нашем существовании, а сегодня весь Париж желает пользоваться нашими услугами. Вы пошли нам навстречу — разрешили смонтировать оформление на витрине своего кинотеатра. Поэтому фирма готова сделать вам значительную скидку. Две тысячи франков. И ни сантима меньше!
Владелец кинотеатра молча отсчитал две тысячи франков и хмуро спросил:
— Дадите расписку или подпишем соглашение?
— Как вам угодно!
Насчет «всего Парижа» Василий преувеличил. Но слухи об успехах новой рекламной фирмы распространились по городу довольно быстро, заказчиков становилось все больше.
В конторе беспрерывно звонил телефон, заходили представители кинотеатров, магазинов. Всех интересовал один вопрос: нельзя ли заказать объемную рекламу на ту или иную кинокартину, на товар. Среди заказчиков были даже хозяева булочных, галантерейных и рыбных лавок. За несколько дней рекламная фирма «Жубер и компания» заключила двадцать шесть договоров и в кассу поступило в виде авансов более четырех тысяч франков.
Главный художник фирмы Анри Борро поставил вопрос о расширении мастерской. Но Василий не спешил с расширением дела и принимал наиболее интересные, выигрышные заказы. Отказ от ряда других заказов служил своеобразной рекламой фирме. Василий не знал твердо, действительно ли это прочный успех или временный «бум», как это часто бывает во Франции, да и не только в ней одной. Настоящий, бесспорный успех пришел после оформления витрины другого кинотеатра, в котором была возобновлена демонстрация известного фильма Рене Клэра «Под крышами Парижа».
Художники работали над рекламой этого фильма с таким вкусом, с таким удовольствием, словно оформляли любимый спектакль. Под их руками оживал прекрасный, немного грустный Париж с его старыми узкими улочками, черепичными крышами домов, тесными дворами. И, судя но тому, что по вечерам, когда зажигались огни, и парижане совершали настоящее паломничество к кинотеатру, молодым художникам удалось передать суть и настроение этого тонкого и умного фильма.
Одна серьезная газета посвятила работе художников рекламной фирмы «Жубер и компания» довольно большую статью. Отметив достоинства фильма, «подкупающего своей простотой, лиричностью и реалистическим изображением подлинной жизни», автор статьи отмечал, что «нашлись молодые талантливые художники, сгруппировавшиеся вокруг рекламной фирмы „Жубер и компания“, сумевшие передать в своем оформлении витрины кинотеатра, где идет этот замечательный фильм, всю прелесть картины. Нужно сказать, что деятельность фирмы „Жубер и компания“ вообще заслуживает всякой похвалы. Можно без преувеличения утверждать, что молодая эта фирма сказала новое слово в рекламном деле Франции. Хороший вкус, изобретательность, отличное исполнение дают возможность художникам, работающим в этой фирме, поднять рекламу до высокого уровня мастерства. Пожелаем им новых успехов». Под статьей стояла подпись — Жюль Сарьян.
Лучшего нельзя было и желать. Василий не знал только, появилась статья в результате старания Жубера или это личное мнение одного из парижских журналистов. Теряясь в догадках, он не вытерпел и позвонил компаньону.
— Вы читали статью о нас, Жубер?.. Отличная, не правда ли?.. Большое спасибо вам, после такой статьи на страницах солидной газеты дела паши пойдут в гору и мы сможем расширить мастерскую без большого риска… Как, вы ни при чем?.. Я спрашиваю потому, что вы хотели организовать статью… В таком случае это еще лучше, — значит, мы действительно заслуживаем внимания прессы!.. Очень рад, что вы поправляетесь, — надеюсь скоро увидеть вас в конторе… Вы правы, работы, что называется, непочатый край…
«Бывают чудеса на свете, — думал Василий, — журналист рекламирует работу нашей фирмы без всякой корысти!..»
Днем к нему зашел Борро.
— Я обещал помочь вам подыскать удобную квартиру и, кажется, могу исполнить обещание. На улице Сакре-кер сдается квартира из трех комнат на четвертом этаже. Хотите посмотреть?
— Конечно.
— Мы могли бы отправиться туда хоть сейчас, если вы свободны.
— Поедем сейчас!
Не успели Василий и Борро перешагнуть через порог парадных дверей большого коммерческого дома, как им преградила путь полная краснощекая женщина лет пятидесяти, в чепчике.
— Ах, это ты, Анри! — сказала она. — Как здоровье твоей матушки?
— Спасибо, тетушка Эжени. Ей немного лучше. С тех пор как я на постоянной работе, она чувствует себя спокойней… А это мой патрон, мсье Кочек. Он хотел бы осмотреть квартиру номер тридцать шесть на четвертом этаже, если, конечно, вы не будете возражать.
— Как я могу возражать? Квартиры для того и существуют, чтобы сдавать их внаем порядочным жильцам. Я только возьму ключи от квартиры…
Поднимаясь по лестнице, тетушка Эжени не замолкала ни на минуту.
— Мсье, в нашем доме живут исключительно порядочные люди. Еще не было случая, чтобы кто-нибудь задерживал плату за квартиру. Никогда никаких недоразумений за восемнадцать лет, что я служу здесь… До этого консьержкой в этом доме была моя мать… Квартира номер тридцать шесть — одна из лучших. Три просторных комнаты с высокими окнами, выходящими на восток, большая кухня, все удобства…
— И центральное отопление и ванна? — перебил консьержку Василий, хотя и знал, что в парижских домах они редко где имелись.
— О, мсье! Если вы давно живете в Париже, то должны знать, что дома с центральным отоплением, а тем более с ванной бывают только в аристократических кварталах и стоят очень дорого! И потом, зачем в Париже центральное отопление? Слава богу, у нас здесь не Северный полюс, где бродят белые медведи. До вас в этой квартире жил богатый вельможа из Алжира — не то бек, не то принц. Он был весьма доволен. У вельможи было одних слуг шесть человек, и он никогда не показывался на улице без телохранителя. Ходили слухи, что у него в Алжире есть гарем со множеством красавиц. Дикость, мсье, ничего не поделаешь!..
Квартира действительно оказалась удобной и прилично обставленной. Но и цена была приличная — шестьсот франков в месяц.
По тому, как расхваливала ее консьержка, Василий понял, что рассчитывать на скидку не приходится, и торговаться не стал.
— Завтра мы приедем с женой, и, если ей квартира тоже понравится, мы снимем ее, — сказал он, закончив осмотр.
Лизе квартира понравилась, особенно камин. Она ужо представляла себе, как в ненастную погоду будет сидеть вечерами возле камина с книгой, прислушиваться к веселому потрескиванию горящих поленьев и поджидать Василия.
— Квартира отличная, но цена! — сказала она.
— Париж стоит мессы! — пошутил Василий и сказал тетушке Эжени, что оставляет квартиру за собой.
Возвращаясь в этот вечер домой. Василий и Лиза обсуждали важный вопрос: как им проститься с людьми в маленьком городке, — с людьми, которым они были многим обязаны.
— Ты считаешь, что обязательно нужно устроить ужин? — спрашивала Лиза.
— Что значит — обязательно? Можно уехать, ограничившись визитом вежливости, — попрощались и уехали. Но нам нужно, чтобы у этих добрых людей остались хорошие воспоминания о нас. Кто знает, как сложатся наши дела дальше, — не пригодятся ли нам провинциальные друзья?
Ужин заказали в ресторане мсье Дюрана. Приглашены были все знакомые — мэр, кюре, начальник полиции, Ренар, сам Дюран, — на этот раз все с женами.
Мужчины отдали дань хорошим винам, слегка захмелели. Языки развязались, все наперебой старались сказать что-либо приятное Кочеку и его милой жене. Особенно усердствовал Франсуа Ренар.
— Скажите, друзья, разве у меня по особый нюх на людей? Мне достаточно было заговорить с мсье Кочеком, чтобы узнать, что он за человек. Это ведь я уговорил его остановиться в нашем городе. За ваше здоровье, дорогой мсье Кочек! — Толстяк поднялся с бокалом в руке. — Желаю вам всяческих успехов. Надеюсь, что наша дружба не закончится сегодняшним днем. Всегда, при любых обстоятельствах можете рассчитывать на меня и на моих друзей.
— Франсуа прав, — взял слово мэр. — Вы, мсье Кочек, всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Наш город хоть и маленький, но люди здесь благородные!..
— Мсье Кочек добрый христианин! — сказал кюре.
Даже мрачноватый, скупой на слова начальник полиции расчувствовался и стал распространяться на тему о том, что лично он всегда относился к иностранцам, живущим во Франции, с определенным подозрением. Что же касается всеми уважаемого мсье Кочека, то он составляет счастливое исключение — он вполне благонадежный человек. Такие люди, как мсье Кочек, глупостей не делают и политикой не занимаются! В заключение он сказал, что у него есть приятный сюрприз для господина Кочека и его жены: по представлению господина мэра и его скромной просьбе полицейское управление удовлетворило ходатайство господина Кочека и постановило выдать ему и его супруге разрешение на постоянное жительство в республике, за исключением ее заморских владений.
Эти слова начальника полиции были встречены дружными аплодисментами и звоном бокалов.
А в воскресенье рано утром, когда городок еще спал, Василий и Лиза выехали в Париж.
4
Каждое утро Василий и Лиза жадно набрасывались на газеты. В парижских киосках были, конечно, и «Известия» и «Правда», но они лишь с жадностью поглядывали на них, не смея купить. Хотя и считалось, что Василий, прожив несколько лет с родителями в России, знает русский язык, все же рисковать не хотелось.
Они читали газеты на французском, немецком, английском языках, — в то время английским языком хорошо владела одна Лиза. Разумеется, они не обманывались, для них было ясно, что официальные сообщения никогда не введут их в круг действия таинственных пружин, двигающих политику европейских стран. Но более надежных источников информации у них пока не было, и это вынуждало, до поры до времени, довольствоваться газетными сообщениями. А хотелось знать больше и, главное, точнее, потому что события в мире развивались в те годы с небывалой тревожной быстротой.
Всем, даже людям, далеким от политики, было ясно, что Лозаннская конференция по разоружению, организованная в 1932 году великими державами с единственной целью отвлечь внимание народов от надвигающейся военной опасности, провалилась. На этой конференции представители двух держав, потенциальных союзников в будущем, Японии и Германии, маневрировали как могли. Дело кончилось тем, что Япония вышла из Лиги наций, а представитель Германии покинул конференцию.
До этого немцы настоятельно требовали пересмотра Версальского договора, настаивали на равноправии в вооружении, — как будто члены Лиги наций собрались в Лозанне не ради упрочения мира, а с целью скорейшего вооружения государств. Свои требования немцы объясняли чувством национальной гордости. Как ни странно, военные претензии побежденной страны встречали сочувствие у большинства союзников Антанты. Это сочувствие с наибольшей откровенностью проявили на конференции американцы. Больше того, правительство Соединенных Штатов рекомендовало Англии оказать поддержку Германии, да и Францию уговаривало не упрямиться. Что касается Италии, то она открыто поддерживала Германию.
Франция не была еще послушным партнером США. Премьер-министр Эррио, понимая опасность перевооружения Германии, делал отчаянные попытки, чтобы если не остановить, то хотя бы отсрочить пересмотр Версальского договора.
Немцы, в свою очередь, старались усыпить бдительность политических деятелей Франции разговорами об угрозе коммунистической революции. В то время, когда канцлер фон Папен предлагал Франции вечный союз, объединенный генеральный штаб, военный министр фон Шлейхер и министр иностранных дел фон Нейрат старались внушить всем, что если союзники не пойдут на пересмотр унизительного для «Великой Германии» Версальского договора и не согласятся на равноправное ее участие в вооружении, то для Германии останется единственный путь — договор о дружбе с Советским Союзом.
Нехитрый этот маневр удался. США и Англия стали обвинять правительство Франции в несговорчивости и весьма прозрачно намекнули, что в результате своей нетерпимости Франция рискует остаться в изоляции.
Недальновидных этих политиков ничуть не смущало, что внешнюю политику Германии направлял председатель весьма могущественного в Берлине «Клуба господ» фон Папен, скандальная деятельность которого в прошлом всем была достаточно хорошо известна. Молодой, стройный, голубоглазый, хитрый, склонный к интригам, он был накануне первой империалистической войны военным атташе в Вашингтоне. А во время войны, обосновавшись в Южной Америке, развил бешеную деятельность, помогая германскому адмиралтейству потопить многие морские транспорты и конвои союзников.
Правая рука канцлера — но менее одиозная фигура. Толстый, неповоротливый министр иностранных дел барон Константин фон Нейрат только казался сонным и флегматичным. О его деятельности в Риме (он был послом Германии в Италии) ходило множество слухов. В частности, говорилось, что в сейфе германского посольства хранится кожаная папка, в которой собраны секретные документы, свидетельствующие о тайных связях посла с крупными политическими деятелями Италии. Говорилось также, что для Муссолини это не было тайной.
Фон Нейрат, информированный о том, что агенты Муссолини собираются похитить папку с драгоценными документами, постарался перехитрить дуче. Он заменил документы пачкой чистой бумаги и дал возможность похитителям беспрепятственно проникнуть в здание посольства, открыть сейф и завладеть кожаной папкой. В два часа ночи сотрудники посольства задержали похитителей. При проверке оказалось, что один из похитителей был лейтенантом, а другой комиссаром полиции. На следующий день посол устроил грандиозный скандал итальянским властям…
Военный министр фон Шлейхер, выступая с речью по радею 26 июля 1932 года, заявил, что отныне Германия не нуждается ни в чьих разрешениях и сама позаботится о своей безопасности. А канцлер фон Папен недвусмысленно дал понять представителям прессы, что немецкая армия будет иметь современное вооружение. Эти выступления вызвали бурю негодования во Франции. Французский посол в Берлине, Франсуа Понсэ, по поручению своего правительства потребовал объяснений. Как бы в ответ на это, Гитлер, играя на шовинистических чувствах немцев, развернул крикливую кампанию против «унизительного Версальского диктата»…
Василий, всерьез обеспокоенный своим бездельем в этой тревожной международной обстановке, не знал, что он должен предпринять, — указаний почему-то все не было. Потеряв терпение, он написал письмо «отцу» в Чехословакию. Подробно описав свое житье-бытье в Париже в качестве компаньона рекламной фирмы, он между прочим упомянул о мировых событиях и пожаловался в этой связи на свою вынужденную бездеятельность. Все это, разумеется, эзоповским языком, но достаточно ясно.
В ответном письме «отец» сообщил, что он и все родные очень довольны тем, что Ярослав наконец-то перебрался в Париж, — это начало успеха! Они рады также его коммерческим достижениям. «Отец» настоятельно рекомендует расширять дела рекламной фирмы, постараться завязать деловые отношения с другими странами, в частности с Германией, Англией, а может быть, даже с Америкой. Вот было бы здорово, если бы сынок сумел проникнуть со своими новыми идеями на родину рекламы! В том случае, если в этих странах окажутся солидные заказчики, неплохо было бы иметь там своих представителей. Главное — завязать деловые отношения с нужными людьми, в особенности с сильными мира сего. Пусть Ярослав усвоит одну простую истину: без их поддержки достигнуть больших успехов в коммерции нельзя. В конце письма «отец» писал: «Пусть Марианна воспользуется пребыванием в Париже, послушает лекции профессоров Сорбонны. Знания ей пригодятся в будущем…»
Прочитав письмо, Василий задумался. Что ж, как говорится, с горы виднее… Он сумеет расширить дело, завязать деловые отношения с другими странами. Понятно и желание «отца», чтобы он завязал знакомства с сильными мира сего. Будет сделано!..
Принять такое решение трудно, но где, каким образом он сможет найти этих людей и сойтись с ними близко? Будучи фактически хозяином рекламной фирмы, ставшей за последнее время модной, Василий общался со множеством парижан, но это были коммерсанты, владельцы разных торговых предприятий или их представители, которых интересовало только одно — торговля, сбыт, реклама. Тратить время на таких людей не имело смысла.
Он подумал, что одним из средств связи и знакомства с людьми может служить церковь. Кстати, неплохо зарекомендовать себя верующим человеком. Узнав у тетушки Эжени адрес приходской церкви святого Варфоломея, он однажды под вечер направился туда. В церкви никого не было, кроме нескольких старух в черном, но Василий скорее почувствовал, чем увидел, что его приход не остался незамеченным. Подойдя к алтарю, он опустился на колени и долго усердно молился. А поднявшись, увидел перед собой пожилого аббата.
— Здравствуйте, мсье, — приветливо сказал тот. — Если не ошибаюсь, я вижу вас впервые в своем приходе…
— Благословите, отец мой! — Василий наклонил голову и, когда аббат закончил молитву, ответил на его вопрос: — Вы правы, я несколько дней тому назад поселился в этом квартале и поспешил к вам, чтобы просить вас быть моим духовником.
— С удовольствием… Судя по вашему акценту, вы иностранец?
— Я — подданный Чехословацкой республики, словак по национальности, католик по вероисповеданию. Занимаюсь коммерческой деятельностью — компаньон рекламной фирмы. Женат, детей бог не дал, живу недалеко отсюда…
Аббат достал из кармана книжку и, записав адрес нового прихожанина, сказал:
— Вы и ваша жена, если она тоже католичка, можете исповедоваться у меня в любой из вторников, четвергов и воскресений после службы.
Василий поблагодарил, бросил в тарелку для пожертвований пятифранковую бумажку и вышел на улицу.
Проходили день за днем.
Директор-распорядитель универмага, Шарль де ла Граммон, поручил фирме «Жубер и компания» оформить еще несколько витрин. Он позвонил Василию по телефону и попросил заглянуть к нему для делового разговора.
— Должен признаться, — сказал он Василию, когда тот удобно расположился в кресле у его стола, — что тематические рекламы вашей фирмы оказались очень действенными! Публике нравится новая, красочная витрина, но… — де ла Граммон сделал паузу, — но мы тратим на рекламу слишком много денег. Нам приходится довольно часто менять оформление витрин — обязательно раз в месяц. Дорогое это удовольствие, скажу я вам! Я пригласил вас, чтобы посоветоваться — нельзя ли изготовить более фундаментальную декоративную установку, в которой можно было бы менять только детали?
— Полагаю, что можно. Правда, это обойдется вам немного дороже, но расходы оправдаются с лихвой. Дайте нам несколько дней — и я представлю вам эскизы и примерную калькуляцию.
— Отлично! С человеком, который сразу вас понимает, приятно иметь дело!..
Прощаясь, Василий
увидел теннисную ракетку в чехле, лежавшую на подоконнике.
— Вы играете в теннис, мсье? — спросил он.
— Я имею честь состоять вице-президентом клуба, где очень увлекаются теннисом, — ответил де ла Граммон.
— Завидую вам! — Василий вздохнул. — Я больше года не держал в руках ракетку.
— Ну, это ничего не значит! Навыки быстро восстанавливаются. Хотите, сыграем как-нибудь?
— С удовольствием! У себя на родине когда-то считался неплохим теннисистом, не раз брал призы. А вот что получится сейчас…
— Если вы сможете, то завтра, в шесть вечера, я жду вас в клубе. Вы только назовите свою фамилию, — швейцар будет предупрежден. Адрес знаете?
— Увы, нет! Я ведь провинциал…
Де ла Граммон записал адрес клуба и протянул листок Василию.
По пути в контору Василий купил самую дорогую ракетку. Сегодня все шло удачно. Заказ на оформление всех витрин большого универсального магазина в центре Парижа — не только выгодная сделка, дающая почти полную нагрузку мастерской, но и прекрасная реклама для фирмы. А посещение спортивного клуба позволит ему наконец расширить круг знакомств. Вот только сумеет ли он сыграть так, чтобы обратить на себя внимание? С плохим теннисистом никто играть не захочет…
В конторе Василий застал Жубера. Видя бесспорные успехи фирмы, а главное, растущие с каждым днем доходы, Жубер, хотя по-прежнему и не вникал в дела, все же стал каждый день аккуратно являться в контору. Иногда он даже спускался вниз, в мастерскую, беседовал с художниками.
Василий рассказал компаньону о своем разговоре с директором-распорядителем универсального магазина.
— Наша мастерская будет обеспечена постоянной работой, и мы спокойно сможем подумать о новых заказах. Может быть, даже за пределами Франции…
Жубер встал, зашагал по конторе, тихонько насвистывая арию из оперетты.
— Знаете, дорогой Кочек, у вас несомненный талант организатора! И я, не будучи пророком, предсказываю вам блестящую будущность. Поверьте мне, через несколько лет вы будете ворочать грандиозными делами!..
— Благодарю. Но почему ворочать грандиозными делами буду только я, а не мы с вами?
— Разно я буду вам нужен? Когда вы освоите подводные камни Парижа, я вряд ли понадоблюсь вам…
Вот, оказывается, где собака зарыта! Боязнь остаться опять одному, страх снова потерять все. Василий не дал компаньону договорить.
— Я до конца дней своих останусь признателен вам! — сказал он. — Если бы не вы, мне не видать Парижа… давайте обсудим другое. За прошлый месяц наши доходы составили сорок три тысячи франков. Теперь мы сможем позволить себе купить новое оборудование. Я веду переговоры с владельцем соседнего дома об аренде подвального помещения для расширения мастерской, по было бы разумнее перенести мастерскую куда-нибудь за город, — там арендная плата меньше. Проектное бюро во главе с Борро и Домиником останутся здесь, а Гомье можно поручить руководство мастерской. И еще, — как вы думаете, Жубер, не пора ли нам прибавить жалованье художникам?
— Но мы ведь совсем недавно повысили его!..
— Они согласились в свое время на мизерную оплату потому, что видели — у нас самих еще ничего нет. Они не роптали. Потом мы установили по тысяче франков Доминику и Гомье, а Борро, как главному художнику, тысячу пятьсот франков в месяц. Теперь будет справедливо прибавить всем хотя бы по пятьсот франков. Они хорошо работают, и такой жест с нашей стороны еще больше подбодрит их!
— Я не возражаю. Только не следует баловать их. Этому сорту людей чуждо чувство благодарности, — сколько бы вы им ни давали, они все равно будут считать, что вы эксплуатируете их труд. Хочу напомнить вам, что не так давно я, владелец бюро, брал себе на жизнь тысячу, тысячу двести франков в месяц…
— Теперь вы имейте возможность брать по три тысячи!
— Вы думаете, это не повредит финансовому положению фирмы? — Жубер впился глазами в компаньона.
— Нисколько! Ведь наш основной капитал перевалил за сто тысяч франков и мы теперь не пользуемся банковским кредитом, чтобы не платить лишние проценты. Если не произойдет ничего чрезвычайного и мы сумеем завязать деловые отношения с другими странами, думаю, что через год наш капитал составит не меньше четверти миллиона. С учетом всего имущества, разумеется…
— Вы просто гений, Кочек!.. За десять лет моих трудов здесь я ни разу не мог позволить себе брать на личные расходы столько денег… Что же касается ваших предложений о переносе за город мастерской и покупке нового оборудования — поступайте, как найдете нужным!..
Вечером, вернувшись домой, Василий обнял Лизу и закружился с ней по комнате.
— Ну, старушка, все идет, как говорят стратеги, по заранее намеченному плану!
— Пусти, пусти, сумасшедший!.. Думаешь, я девчонка?.. Даже голова закружилась!
— Скоро у нас с тобой еще не так закружится голова.
— Это почему?
— Завтра у меня экзамен. — Он достал из чехла ракетку и помахал ею.
— Ничего не понимаю!
— Попробуем этой ракеткой открыть двери за семью замками. Короче, директор-распорядитель универсального магазина, он же вице-президент весьма привилегированного спортивного клуба, пригласил меня сыграть с ним завтра партию в теннис. Если сумею показать себя, считай, что наказ «отца» будет выполнен. В том клубе собирается избранная публика, — уж среди них-то найдутся нужные нам люди.
— А у меня тоже радостная новость. Я получила разрешение посещать лекции на восточном факультете Сорбонны.
— Поздравляю!.. Но играть в теннис — это тебе не лекции в Сорбонне слушать! Где бы мне помахать ракеткой, хотя бы часика два? Может, поехать за город?
— Что ты, уже поздно, скоро стемнеет!
— Знаешь, я просто побросаю мяч здесь, в комнате. А завтра утром, пораньше, съездим все-таки за город. Хоть немного форму восстановлю.
Хотя Василий и надеялся познакомиться в клубе с нужными людьми, он прекрасно понимал, что это не так-то просто. Особенно после того, как белогвардеец Горгулов убил президента республики Поля Думера. Отношение к иностранцам — тем более к славянам — резко ухудшилось. В правых реакционных кругах Парижа все громче поговаривали о необходимости выселения из страны всех иностранцев, в первую очередь цветных и славян, которых «слишком много развелось во Франции». Правые газеты изо дня в день печатали на своих страницах резкие статьи о том, что русские белогвардейцы отплатили французам черной неблагодарностью за их великодушие и гостеприимство.
Естественно, что славянину Ярославу Кочеку трудно было рассчитывать на радушный прием со стороны членов аристократического спортивного клуба. Но терять ему было нечего, да и выхода другого у него тоже не было. Поэтому нужно было во что бы то ни стало произвести на членов клуба самое благоприятное впечатление.
Василия не интересовали русские белогвардейцы, наводнившие Францию. Он считал их живыми мертвецами, вычеркнутыми из жизни самой историей, но время от времени, в силу разных обстоятельств, ему поневоле приходилось сталкиваться с ними.
Однажды, когда фирме потребовались разнорабочие для работы в мастерской, на объявление, в числе других безработных, откликнулся белогвардеец — усатый человек с военной выправкой, в потрепанной одежде. Василий заговорил с ним, — разумеется, по-французски. «Видимо, мсье был в прошлом офицером?» — спросил он и, получив утвердительный ответ, поинтересовался, как живется ему на чужбине.
— Разве от хорошей жизни люди пойдут наниматься в чернорабочие? — в свою очередь хрипло спросил усач.
— Нужно полагать, что в прошлом вам жилось недурно?
— Мсье, в прошлом я имел честь служить в гвардейском кирасирском полку, в чине штабс-капитана. От отца наследовал большое имение, от тетушки деньги и ценные бумаги…
— Каковы ваши убеждения и есть ли у вас надежды на лучшее будущее?
— К черту идеи и убеждения! — со злобой ответил бывший штабс-капитан. — Когда вы продаете последний серебряный портсигар с монограммой, подарок вашей матушки, и когда ваша горячо любимая жена уходит с другим, потому что у того в кармане деньги, уверяю вас, вам будет не до убеждений… Идеалы, убеждения — пошлая выдумка бездельников!.. Надежд на будущее тоже никаких. Разговоры о том, что мы разобьем большевиков и вернемся домой, — миф.
— По поводу работы обратитесь, пожалуйста, к главному художнику мсье Борро. — Василий отпустил белогвардейца.
Вечером он спросил у Борро, принял ли он на работу усатого русского.
— Нет, мсье, ни его, ни других русских, обратившихся к нам, я не принял…
— Почему? Они плохие работники?
— Да нет… Честно признаюсь, я презираю русских белогвардейцев. Нам, французам, они чем-то напоминают сторонников Бурбонов, изгнанных из страны, и ждать от них чего-либо хорошего не приходится. Они ничего не забыли и ничему не научились…
Ровно в шесть часов вечера Василий в легком спортивном костюме, с элегантным чемоданчиком в руке появился у парадных дверей клуба. Швейцар в расшитой золотом ливрее низко поклонился ему, когда он назвал себя, и сообщил, что господина Кочека ждут в открытом корте номер два.
Шарль де ла Граммон, увидев Василия издали, поспешил ему навстречу.
— Если ничего не имеете против, можем начать!
— Сейчас буду готов! — Василий переоделся, взял ракетку и пошел на корт.
Игра началась в стремительном темпе. Де ла Граммон был хорошим игроком. Вначале Василий волновался, бил неточно и допускал ошибки.
Выиграв первый сет, соперник, снисходительно улыбаясь, сказал Василию:
— Не огорчайтесь, друг мой! Я ведь призер прошлогоднего чемпионата нашего клуба и редко проигрываю. Согласитесь, я недурно играю! — Он самодовольно рассмеялся.
Василий промолчал.
Во втором сете Василий обрел спокойствие и начал играть так, как играл когда-то в Москве, завоевывая звание чемпиона «Динамо» по теннису. Уверенный же в своем превосходстве де ла Граммон был благодушен, снисходителен и небрежен.
За стальной сеткой корта толпились люди. Кто-то громко сказал:
— Смотрите, господа! Какой-то новичок обыгрывает нашего вице-президента.
— Кто он, этот новичок? Удар у него мощный.
— Он здесь первый раз. Видимо, иностранец…
Игра пошла с явным преимуществом Василия. Настала очередь волноваться де ла Граммону. Под конец он растерялся, а Василий усиливал натиск, не давая противнику опомниться.
По окончании третьей партии раздались аплодисменты, — следившие за игрой поздравляли Василия.
К нему подошел высокий худощавый господин с седеющими висками.
— Жан-Поль Маринье, — назвал он себя, — начальник канцелярии министра. Вы, мсье, сыграли отлично и вызвали общее восхищение!
— Благодарю за лестные слова! Случайная удача, не больше…
— Не думаю, что это так! Впрочем, легко проверить. Случайной удачи дважды не бывает. Не согласитесь ли сыграть со мной четыре партии по пяти геймов каждая?
— Сочту для себя честью!.. Минут через двадцать начнем.
Через двадцать минут матч начался, Василий, понимая, что от его успеха многое зависит в будущем, был собран и играл отлично. Первый сет был за ним. Однако второй сет выиграл Маринье. Взяв два гейма подряд и в третьем сете, Маринье позволил себе небольшую передышку, чем сразу же сумел воспользоваться Василий. Выиграв подряд две подачи противника, а затем и гейм, он уверенно довел партию до победы. Когда он выиграл две партии, к нему подошел его партнер и пожал ему руку.
Сенсационная победа новичка над первым игроком клуба произвела сильное впечатление.
Единственный человек, знавший Василия лично, был де ла Граммон, и он, утешенный поражением Маринье, с охотой давал пояснения:
— О, это весьма опытный коммерсант и богатый человек! Вы, конечно, слышали о рекламной фирме «Жубер и компания»? О ней недавно снова писали газеты. Так он там — главная фигура. Денег загребает кучу. Не пройдет и полгода, как этот славянин станет королем рекламного дела во Франции. Мы заключаем с его фирмой соглашение на оформление всех витрин нашего магазина!..
— Это не тот, кто прославился рекламой фильма «Под крышами Парижа»?
— Да, это он!..
В дверях зала появился Василий. После теплого душа он выглядел бодрым и свежим. Маринье пригласил его, де ла Граммона и еще нескольких членов клуба поужинать в ресторане.
Из числа приглашенных Василий обратил внимание на человека, говорившего по-французски с сильным акцентом. Позднее он узнал, что это секретарь генерального консульства Германии в Париже Ганс Вебер.
В отличие от большинства своих соотечественников, степенных и надутых немцев, Вебер оказался общительным, веселым собеседником. Он рассказывал забавные истории, шутил и громко, от всей души, первый хохотал над своими шутками. Вдруг, приняв серьезный вид, он обратился к Василию, сидевшему напротив него:
— Господин Кочек, я имел честь жить некоторое время на вашей родине. Даже язык ваш попытался изучить, — к сожалению, не совсем удачно… Не думаете ли вы, что это дает мне основание претендовать на первую игру с вами, если, конечно, вы пожелаете играть с весьма посредственным игроком?
— Качества игрока познаются в игре! — ответил Василий.
— Учтите, мсье Кочек, господин Вебер отличный игрок. К тому же — неутомимый, ему ничего не стоит сыграть матч из пяти партий! — предупредил Василия де ла Граммон.
— Мы замучаем нашего гостя, если каждый из нас непременно захочет играть с ним, — сказал Маринье. — Не лучше ли организовать небольшой турнир по случаю появления у нас нового достойного партнера? Что думает на этот счет наш уважаемый вице-президент?
— Вице-президент полагает, что вас осенила блестящая идея, мой друг. Организуем в самое ближайшее время турнир в одиночном разряде, проведем предварительно жеребьевку…
— И установим три приза для победителей, — перебил де ла Граммона молодой человек с перстнем на указательном пальце.
— Насколько я понимаю, наш друг Луи претендует на один из этих призов! — пошутил Вебер.
— Почему бы нет? — Луи пожал плечами. — Скажите-ка лучше, Вебер, — правда ли, что фон Папен, выступая с правительственной декларацией, заявил: немцы хотят прежде всего уничтожить парламентский режим в Германии, а в международной политике добиваться свободы экспансии и перевооружения?
— Помнится, газеты писали нечто подобное, и, кажется, официального опровержения не последовало, — уклончиво ответил немец.
— А как могло случиться, что Геринг, правая рука Гитлера, стал председателем рейхстага? — не унимался Луи.
— На последних выборах победила партия национал-социалистов!
— Следовательно, приход к власти Гитлера вопрос дней? — вмещался в разговор де ла Граммон.
— К сожалению, я лишен возможности удовлетворить ваше любопытство, дорогой друг. Мне нужно прежде посоветоваться с нашим президентом, господином Гинденбургом… Может быть, он доверительно сообщит для вас, думает ли он поручить формирование правительства руководителю партии национал-социалистов господину Гитлеру или другому лицу, — попытался пошутить Вебер.
Шутка не удалась. Французы, встревоженные последними событиями в Германии, не приняли ее, и это не ускользнуло от внимания Василия.
За столом наступила тягостная пауза.
— Господа, хватит о политике! Мы и так сыты ею по горло! — сказал де ла Граммон. — Предлагаю выпить за здоровье сегодняшнего победителя и пожелать ему успехов в предстоящем турнире. Но имейте в виду, мсье Кочек, на этот раз мы так легко не уступим вам пальму первенства.
Вскоре стали расходиться. Когда остались втроем — де ла Граммон, Кочек и Маринье, — последний мрачно сказал:
— Вебер знает куда больше, чем говорит. Дипломат, к тому же немец… События принимают более зловещий характер, чем мы думаем. Вчера, например, фон Папен нагло требовал аннулирования долгов и равноправия во всем. Позже Эррио обратился к своим сотрудникам и сказал им дословно следующее: «Сегодня у меня нет больше иллюзий в отношении Германии. За семь лет многое изменилось! Германия будет требовать от нас уступку за уступкой, до самой катастрофы».
— К несчастью, Эррио прав. Так и будет! — Де ла Граммон подошел к окну и долго смотрел в темноту, потом повернулся к Василию: — Бедный мой друг, и над вашей родиной тоже нависнет смертельная опасность. Боюсь, как бы вас не продали политиканы!..
Василий промолчал. «Французские патриоты всерьез встревожены возможностью прихода к власти в Германии фашистов, — подумал он. — Можно, кажется, рассчитывать в дальнейшем на помощь де ла Граммона и других…»
Слухи о предстоящем турнире в спортивном клубе просочились в прессу. Газеты помещали портреты игроков, взвешивали шансы того или иного спортсмена на успех, приводили примеры из прошлого и приходили к заключению, что победа, по всей вероятности, достанется первой ракетке клуба де ла Граммону, а может быть, мсье Маринье, находящемуся в отличной спортивной форме. Упоминали и молодого Луи, хотя особых надежд на него не возлагали. Одна спортивная газета сообщила, что Ганс Вебер, секретарь германского генерального консульства в Париже, изъявил согласие участвовать в турнире. Правление спортивного клуба пошло ему навстречу, и но исключено, что он-то и будет одним из вероятных претендентов на призовое место…
Сообщали газеты и о новичке из Чехословакии, о том, как накануне он в трех сетах нанес поражение де ла Граммону. Не обошлось и без шовинистических выпадов, — один спортивный обозреватель задавал вопрос: «Неужели Франция оскудела выдающимися спортсменами и победа в предстоящем турнире достанется одному из чужестранцев — немецкому дипломату или словаку, о котором так много говорят?..»
Шумиха, поднятая вокруг турнира, сослужила хорошую службу и фирме. Газеты, писавшие о Кочеке, каждый раз упоминали о его успехах в рекламном деле. Радуясь тому, что парижские газеты создали фирме бесплатную рекламу, Василий в то же время опасался слишком широкой гласности. Однако воспрепятствовать распространению слухов о себе он не мог.
За три недели до турнира он получил извещение клуба о том, что турнир назначается на вторую субботу октября, в пять часов вечера.
Василий снял частный корт и усиленно тренировался — играл со случайными партнерами, но главным образом с Борро, прилично владеющим ракеткой. Как ему хотелось добиться победы! Она распахнула бы перед ним двери клуба и упрочила бы его положение в Париже.
Настал день турнира. В клуб приехало множество болельщиков и представителей прессы.
Турнир проводился по олимпийской системе, поэтому многое зависело от жеребьевки. Василию не повезло: в первом же круге он встречался с Вебером. Правда, в случае победы он мог рассчитывать выйти в полуфинал — остальные соперники были не столь опасны.
В спорте бывает всякое, — это общеизвестно. Иногда сильные спортсмены проигрывают слабым. Но — только иногда. Как правило, побеждает сильнейший. Василию явно не повезло: в первый же день турнира ему придется сражаться с первоклассным теннисистом. А проиграть нельзя! Для Вебера победа — дело самолюбия. А для него?..
Ровно в шесть часов раскрылись двери всех пяти крытых кортов. Участники турнира заняли свои места, и по сигналу президента спортивного клуба соревнование началось.
С первых же минут внимание зрителей привлекла игра двух пар: де ла Граммон — Маринье, Кочек — Вебер. Мощные, молниеносные удары следовали один за другим. Игра приобретала все более ожесточенный характер, становилось ясно, что в этих парах встретились не только мастерство, но и воля.
Уже в конце второго сета выявилось превосходство Василия над Вебером и более молодого, подвижного де ла Граммона над Маринье. Василий победил Вебера в двух сетах из трех. Де ла Граммон одержал верх над Маринье. Победителем в третьей паре оказался молодой Луи.
Победа над опытным Вебером окрылила Василия, — он играл собранно, энергично, напористо и выиграл свою встречу. В газетных отчетах о ходе соревнований в спортивном клубе часто упоминалось его имя. Спортивные обозреватели даже предсказывали ему окончательную победу, хотя многие верили и в победу де да Граммона.
Лиза, каждый день бывавшая на турнире, старавшаяся дома окружить Василия особой заботой, ни минуты не сомневалась в его победе. Не сомневались в победе патрона и молодые художники, особенно Борро, испытавший на себе мастерство Василия.
Как и можно было ожидать, в полуфинал вышли трое — де ла Граммон, Луи и Василий.
В субботу, в заключительный день турнира, клуб был заполнен до отказа. Кроме любителей спорта сюда понаехало множество богатых бездельников, не знающих, как убить время. Дамы из аристократических сомой пользовались случаем продемонстрировать дорогие туалеты. Спортивные обозреватели и представители большой прессы всех направлений готовили приложения к воскресным номерам своих газет. Во всех залах, коридорах, даже на лестницах толпились люди, шумели, спорили, заключали пари.
Минут за двадцать до начала соревнований в раздевалку к Василию вошел элегантно одетый смуглый человек восточного типа, с проседью в густых вьющихся волосах.
— Жюль Сарьян, журналист, — отрекомендовался он. — Может быть, вы помните — я писал о вашей рекламе и предсказал вам успех. Рад, что не ошибся!.. Сегодня предсказываю вам победу и уверен, что опять не ошибусь. Имейте в виду, мсье Кочек, из всех заключенных пари в вашу пользу заключено более семидесяти процентов.
— Я очень рад познакомиться с вами, мсье Сарьян, — давно хотел поблагодарить вас. Ваша статья помогла нам тогда. Хочу верить, что ваше предсказание сбудется и сегодня! — Василий крепко пожал худую, с длинными пальцами руку журналиста. — Прошу вас поужинать со мной сегодня после соревнований.
— С большим удовольствием поужинаю с вами, только не сегодня. Мне нужно сдать материал об итогах турнира в завтрашний номер. — Журналист достал из бумажника визитную карточку и протянул Василию. — Вы можете звонить мне по этим телефонам когда угодно. До двух часов дня на квартиру, после двух в редакцию. И мы условимся с вами о встрече. А теперь не буду вам мешать. Еще раз желаю успеха!..
В полуфинальной встрече соперником Василия был молодой Луи — неутомимый, напористый. Обыграть его было нелегким делом. Игра протекала остро, с переменным успехом, то один заканчивал очередной гейм в свою пользу, то другой, и только в третьем сете Василию удалось вырвать победу. Таким образом, Василий обеспечил себе почетное второе место. Предстояло самое трудное — одолеть многоопытного де ла Граммона. Правда, психологическое преимущество в данном случае было на стороне Василия, — он однажды уже одержал верх над ним, но то была товарищеская встреча. Де ла Граммон был человек волевой, и у него были многочисленные болельщики, всячески подбадривающие его.
После часового перерыва начался финальный матч. Первые два сета соперники поделили между собой. В начале третьего сета чаша весов явно склонялась в сторону де ла Граммона. Но Василию победа нужна была больше, чем вице-президенту клуба, и он собрал все силы свои, чтобы сломить волю противника. И победил.
Гремели аплодисменты, оркестр играл туш. Болельщики, репортеры газет и фотокорреспонденты окружили Василия. На секунду в толпе мелькнуло радостно-взволнованное лицо Лизы, которая не могла протолкаться к нему.
Увидев направленные на себя фотообъективы, Василий подумал о том, что было бы весьма нежелательным появление его портрета на страницах парижских газет. Он уронил ракетку, нагнулся, поднял ее и быстро побежал в душ.
Стоя под теплым душем, Василий почувствовал страшную усталость, болела поясница. Но не это беспокоило его. Первый раз он счастливо избежал фотографирования. И все-таки его непременно сфотографируют во время церемонии вручения приза. По простой логике вещей, каждому лестно покрасоваться на страницах большой прессы. Это — популярность, реклама. И вдруг появляется какой-то чудак, который не дает фотографировать себя. Тут что-то не так, скажет каждый здравомыслящий человек. Пойдут пересуды, догадки… Как же быть?..
В раздевалку снова зашел Сарьян и прорвал размышления Василия.
— Ну как, убедились теперь, что я если и не пророк, то ясновидец наверняка? — сказал он, смеясь, и сердечно поздравил Василия с победой.
— Готов считать вас добрым ангелом, приносящим счастье!
— Насчет ангела не знаю. Но я действительно приношу счастье тем, к кому хорошо отношусь.
Этот человек с открытым лицом, доброй улыбкой вызывал у Василия симпатию. Но обратился он к журналисту не без некоторого колебания:
— Хочу попросить у вас совета: как бы мне избежать фотографирования во время вручения призов победителям?
— Когда вы уронили ракетку и нагнулись, чтобы поднять ее, у меня мелькнуло подозрение, что это сделано нарочно, — сказал Сарьян. — Раз уж пошло на откровенность, скажите, почему вам не хочется появиться завтра на страницах утренних газет?
— Как бы вам объяснить это? — ответил Василий. — Я иностранец, к тому же славянин… Приехал во Францию туристом и вот осел здесь… Я имею разрешение проживать во Франции, но ведь каждую минуту меня могут и выселить… Зачем же мне, в моем положении, вызывать зависть, дразнить гусей?.. Потом я опасаюсь, что мои теннисные успехи могут подорвать доверие ко мне со стороны делового мира… Может быть, мне поговорить с вице-президентом клуба?
Сарьян с улыбкой покачивал головой, и Василий не мог понять — то ли журналист одобряет ход его мыслей, то ли не верит ни единому его слову.
— Видите ли, мсье Кочек, никто не может у нас запретить фоторепортерам снять любого человека, а потом напечатать его портрет на страницах газеты или журнала. Не может этого и вице-президент клуба… Есть единственный выход — заболеть. Вполне естественно, что после тяжелого и продолжительного состязания с вами мог случиться сердечный припадок, могли заболеть мышцы под правой лопаткой. Я схожу за врачом, — он окажет первую помощь, и через него вы передадите вице-президенту свои извинения в том, что не можете присутствовать на церемонии. И поедете домой… Ну как, действуем?
— Действуем! Другого не придумаешь. — Василий лег на кушетку, а Сарьян поспешил за врачом.
Молодой, франтоватый врач долго успокаивал Василия:
— Не волнуйтесь, мсье, боли в мышцах обычное явление после тяжелых соревнований. Необходимы легкий массаж плеча и полный покой. Отправляйтесь домой, ложитесь в постель, пригласите массажистку, — говорил он, выписывая рецепт. — Дня через два-три все пройдет, но в дальнейшем вы должны быть предельно осторожны, избегать переутомления. Микстуру принимайте три раза в день… Если вам понадобится моя помощь, позвоните. — Врач протянул визитную карточку. — А теперь, надеюсь, вы не станете возражать, если я пошлю за такси?
— Благодарю вас, доктор, не беспокойтесь. Моя машина стоит недалеко, и я надеюсь, что мсье Сарьян проводит меня.
— Большая к вам просьба, доктор, — сказал журналист, — предупредите, пожалуйста, господина вице-президента, что мсье Кочек почувствовал себя плохо и вы отправили его домой.
— Разумеется, это мой долг!
5
Мнимая болезнь вынудила Василия в течение нескольких дней сидеть дома. Он и вправду чувствовал себя если не больным, то усталым и бездельничал не без удовольствия.
Лиза вставала рано. Накормив его на скорую руку, спешила на лекции в Сорбонну. Оставшись один, Василий удобно устраивался в кресле и читал.
В общем-то у него не было оснований жаловаться на судьбу. Кто, когда жил такой бурной, полной разных приключений жизнью, как он, Василий? На долю многих ли выпадало счастье участвовать в революции, свержении царя, грудью защищать правое дело от злейших врагов?..
У Василия было счастливое свойство характера — он умел не унывать при любых обстоятельствах. А сейчас у него и вовсе нет причин быть недовольным тем, как все складывается. Единственное, чего не хватает, — так это родных просторов, друзей, товарищей. Здесь он даже не имеет возможности читать книги на родном языке. Он говорит с женой по-русски только дома, при закрытых дверях, да и то понижая голос до шепота.
Василий подошел к окну, долго смотрел на улицу. Конец октября, а небо над Парижем голубое, без единого облачка. Дни стоят теплые, ласковые, солнце не только светит, но и греет, как летом. Листья на деревьях вдоль широких улиц и в парках едва тронуты желтизной…
Именно в это время года Париж бывает особенно оживлен. Спадает жара, возвращаются домой из путешествий и с морских курортов состоятельные люди. Афиши извещают о начале театрального сезона. За зеркальными стеклами витрин демонстрируются зимние моды. По вечерам улицы полны праздношатающейся публикой. Говор, смех, крики торговцев жареными каштанами, песни…
А дома уже листопад. Деревья стоят обнаженные. Может быть, уже выпал первый снежок и сразу же растаял. В деревнях топятся печи, пахнет хлебом, яблоками. Скоро праздник — пятнадцатая годовщина великой революции, а они с Лизой могут только тайком думать, вспоминать об этом…
Пятнадцать лет!.. А начнешь вспоминать — как будто вчера все было… Февральские дни на фронте взбудоражили армию. Солдатам осточертела бессмысленная бойня, сырые окопы, холод, голод, грязь. В далеком Петрограде скинули царя, и люди ждали быстрых перемен, но пока ничего не менялось. Агитаторы Временного правительства дули в прежнюю дуду: «Выполнять союзнические обязательства! Война до победного конца!..»
Сарай, где помещалась авторота, конечно, не окопы, — тепло, крыша над головой, да и пули не долетают. Голодать тоже особенно не приходится: правду говорят — «около начальства не пропадешь». И все же в автороте неспокойно. Спорят до хрипоты, митингуют. Солдаты жалели, что нет среди них Забродина: его давно убрали из автороты — угнали на передовые позиции.
Но, оказывается, у большевика Забродина были в автороте единомышленники, таившиеся до поры до времени. Теперь это время настало, — они заговорили вслух. Скоро и Василий вместе с ними кричал: «Долой войну!» А в Октябрьские дни, участвуя в демонстрации, нес лозунг, написанный крупными белыми буквами на кумаче: «Вся власть Советам!».
Как-то его спросил автомеханик Кожухин: «Ты, браток, какой партии сочувствуешь?» — «Партии Ленина!» — не задумываясь ответил Василий, уверенный, что Забродин состоял именно в этой партии. «Чего ж тогда не вступаешь в партию большевиков?» — «Я-то со всем удовольствием, не знаю, как это делается», — чистосердечно признался Василий. «Подавай заявление! Напишешь — так, мол, и так, хочу стать членом партии большевиков и вместе со всеми бороться против буржуев и помещиков, идти до самой мировой революции. А мы соберемся и на ячейке обсудим. Ты из рабочих, сознательный — твое место с нами…»
Василий вернулся в Москву молодым коммунистом, поступил на свой завод, встал на учет в партийной ячейке.
Время было трудное, голодное. Рабочим выдавали в день фунт тяжелого, как глина, хлеба; три селедки, пачку махорки и коробку спичек — на неделю. Цехи не отапливались, трамваи ходили с перебоями. После работы шли в завком, грелись около печки-буржуйки, там же брали винтовки — патрулировали улицы, охраняли советские учреждения.
И вот в один прекрасный день — Василий никогда его не забудет — в цех вбежал связной, громко крикнул:
— Максимова Василия срочно в партячейку!
Секретарь ячейки, заросший рыжей щетиной, в гимнастерке, с наганом на боку, протянул ему запечатанный конверт и сказал:
— Партийная ячейка решила направить тебя на работу в Чека. Сам понимаешь, какое теперь время… Явишься на Лубянку, к товарищу Дзержинскому. Смотри, Василий, не подкачай!
Василий растерянно бормотал, — какой, мол, из него чекист? Но секретарь не стал и слушать его.
— Какой, какой!.. Тоже мне, капризный интеллигент нашелся! Что ж, по-твоему, чекистами рождаются или прикажешь их из заморских стран выписывать? Иди работай и много не рассуждай. Мы с тобой большевики и должны уметь делать все!
Дзержинский принял его в своем маленьком, похожем на келью кабинете и, прочитав направление, улыбнулся:
— Отлично, нашего полку прибыло! Очень хорошо, когда наши ряды пополняются рабочими-большевиками. Учтите, товарищ Максимов, отныне вы — солдат революции и ее грозный защитник. Будьте беспощадным к врагам и оберегайте друзей! — После короткого раздумья Феликс Эдмундович добавил: — Направим вас на Павелецкий вокзал, — там в паровозном депо окопались эсеры и меньшевики, они стараются восстановить рабочих против советской власти. Специалисты исподтишка саботируют… Мой вам совет: прежде чем принимать какие-либо меры, присмотритесь к людям, хорошенько разберитесь в обстановке. Главное — не путайте заблуждающихся с врагами! Желаю успеха, чекист Василий! — Дзержинский вызвал помощника и приказал ему оформить товарища Максимова уполномоченным по Павелецкой железной дороге…
Телефонный звонок оборвал нить воспоминаний. Василий поднял трубку.
— О, мсье Сарьян!.. Ну как же, конечно, узнал… Здоровье?.. Как всегда, отличное. Рад буду видеть вас у себя… Что за вопрос? Приезжайте, жду!
Василий был рад звонку журналиста: этот человек был приятен ему, хотя он ровным счетом ничего о нем не знал.
В ожидании гостя Василий немного прибрал квартиру, достал из буфета мартини, бокалы, жареные фисташки.
Журналист не заставил себя долго ждать.
— После своего припадка вы выглядите просто отлично! — сказал он смеясь.
— Микстура оказалась чудодейственным средством… Видите там, на тумбочке около кровати, полупустой пузырек?
— Неужели вы в самом деле принимали какую-то патентованную дрянь?
— А как же иначе? Доктор навестил меня на следующий день и, выслушав сердце, сказал, что глухие тона совсем исчезли, — разумеется, благодаря его лекарству… Обещал приехать сегодня. Зачем его разочаровывать? Впрочем, бог с ним, с доктором! Садитесь вот сюда, в кресло, здесь вам будет удобно.
Сарьян сел и, увидев на столе бутылку, пошутил:
— Разве вам можно пить?
— Умеренно. Но вы-то здоровы, вам наверняка можно выпить. Позволите налить?
— Пожалуйста!
Наполнив бокалы, Василий спросил:
— Что творится в мире? Я ведь уже четвертый день сижу дома!
— Что вам сказать? В общем, все идет своим чередом… Ваша победа на турнире произвела немалое впечатление. Газеты писали о пей со всеми подробностями. Впрочем, нужно полагать, вы сами читали. Я очень рад вашей победе, — вы утерли нос этим снобам. Желаю вам новых успехов! — Журналист медленно выпил вино.
— Спасибо!.. А если говорить не только о моих спортивных успехах?
Сарьян откинулся на спинку кресла и некоторое время молчал, как бы собираясь с мыслями.
— Все довольно сложно в этом лучшем из миров, — проговорил он, — после войны люди как-то сразу успокоились, постарались забыть о ней… К тому же газетчики, политики, служители церкви кричали на всех перекрестках, что жертвы были не напрасны, что война больше никогда не повторится, — человечество не допустит!.. И что же? Прошло каких-нибудь четырнадцать лет, и над миром снова нависли черные тучи. Да, дорогой Кочек, война снова стучится в двери. И ее опять подготавливают немецкие генералы, служившие когда-то кайзеру, а теперь республике. Политики Франции показали себя до удивления беспечными. У них одна забота: что угодно, лишь бы не революция, наподобие русской!.. Поэтому они и делают вид, что не замечают, что творится сегодня по ту сторону Рейна. Фон Папен требует аннулирования долгов, равноправия во всем — в первую очередь в вооружении. Но это только камуфляж. Германия давно в одностороннем порядке аннулировала Версальский договор и вооружается на глазах бывших союзников-победителей. Впрочем, все это полбеды, — самое страшное впереди. Я имею в виду приход к власти фашистов во главе с Гитлером. Это случится в ближайшее время, можете не сомневаться. И тогда ничто не предотвратит войну… Страшно даже думать об этом!
— Я далек от политики, — сказал Василий, — но все же мне кажется, что вы несколько преувеличиваете опасность. Может быть, немецкие генералы и петушатся, мечтая о реванше. Не исключена возможность и прихода к власти Гитлера. Недавно в клубе герр Ганс Вебер на вопрос, как могло случиться, что Геринг оказался председателем рейхстага, невозмутимо ответил: «Очень просто, — партия национал-социалистов получила большинство на последних выборах». Все это так. Но захотят ли простые люди снова проливать свою кровь за чьи-то интересы? — Василию хотелось вызвать журналиста на большую откровенность.
— Вы знаете, что такое религиозный фанатизм? Что такое шовинистический угар? Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться лицом к лицу с этим злом? — нетерпеливо спросил Сарьян.
— Нет. Но теоретически представляю себе, что это такое.
— Теоретически? Этого мало… Слишком мало. Нужно испытать на собственной шкуре, чтобы понять, что это такое!
— А вы испытали?
— Испытал… И очень хорошо знаю, как под воздействием разнузданной шовинистической пропаганды с людей спадает тоненькая оболочка цивилизации. Я хочу, чтобы вы поняли: идеи фашизма формировались не сегодня и не вчера, а еще в недрах кайзеровской Германии, когда пруссачество решило завоевать мировое господство… Да, благодарю вас, налейте мне еще. Отличное мартини!.. Вы, наверное, догадались, что я не француз. Никак не могу совсем избавиться от акцента, хотя живу во Франции давно и говорю по-французски с детства. Я — армянин, родился в Стамбуле, в состоятельной, интеллигентной семье. Отец был преуспевающим архитектором. Он получил образование здесь, в Париже. Мать тоже была образованной женщиной, владела кроме родного языка английским, турецким, свободно изъяснялась по-французски. В нашем доме господствовал культ Франции, — мои родители говорили между собой по-французски.
Я был единственным сыном. В раннем детстве меня воспитывала гувернантка-француженка, а когда мне исполнилось семь лет, родители определили меня во французский коллеж в Стамбуле, который я окончил накануне первой мировой войны. Собирался продолжать образование в Сорбонне, но не успел: помешала война…
Жили мы тихо, уединенно, в собственном особняке на берегу Босфора, в живописном местечке Бебек. Родители были далеки от общественных интересов — любили музыку, живопись, много читали, собирали картины, часто ездили в Италию и, по-своему, были счастливы… Грянула война, и ничего не осталось от тихого благополучия. Отца мобилизовали, как специалиста, присвоили ему офицерский чин и отправили в крепость Чанак-Кале руководить фортификационными работами.
Меня тоже мобилизовали, хотя я еще не достиг призывного возраста. Имея среднее образование, я после трехмесячной учебы должен был получить офицерский чин. Но я все равно подвергался неслыханным издевательствам: ведь я был гяур, другими словами — иноверец, враг ислама, да еще армянин по национальности. Мне поручали самую тяжелую, самую грязную работу, били по лицу за малейшую провинность. Били офицеры, били чавуши и баш-чавуши (фельдфебели и главный фельдфебель), ругали как могли, сажали в карцер, морили голодом. Я, избалованный юноша, воспитанный в гуманном представлении о мире, был потрясен, часто думал о самоубийстве. Поддерживали меня письма матери, умолявшей моля только об одном: выжить, выжить во что бы то ни стало!..
Он замолчал, выпил глоток вина.
— Вам но наскучило?
— Разве такое может наскучить? В юности мне тоже пришлось помыкать горя… И я был солдатом и терпел, пожалуй, больше, чем положено терпеть человеку…
— Тогда слушайте… Порабощенные, измордованные армяне — их было в Турции более двух с половиной миллионов, — пережив несколько раз резню, были на стороне русских, страстно желали победы русского оружия, надеясь таким образом избавиться от турецкого гнета и получить если не автономию, как обещало им царское правительство, то хотя бы относительную свободу, которой пользовались их соплеменники в России. Армянская молодежь, живущая в Турции, отказывалась воевать против русских, армяне, разбросанные по всем уголкам земного шара, сколачивали добровольческие отряды, из которых впоследствии складывались целые дивизии, сражавшиеся бок о бок с русской армией под командованием легендарного армянского полководца генерала Андраника…
Младотурки, вместо того чтобы найти общий язык со своими христианскими подданными, попытаться если не переманить на свою сторону, то хотя бы нейтрализовать их, принялись за старое — резню. По делали ото кустарно… Вот тут-то и пришла им на помощь Германия. Теперь документально доказано, что немецкие генералы посоветовали младотуркам истребить всех армян поголовно, чтобы в случае поражения в войне не возникал вопрос об армянской автономии и великие державы Антанты не могли спекулировать на армянском вопросе, как бывало раньше, и не добились бы от Турции чрезмерных уступок. Так и сделали, — на обширной территории бывшей Армении не оказалось армян, и, естественно, мирные конференции не обсуждали армянского вопроса…
По всей Турции началась разнузданная агитация за истребление гяуров-армян. Муллы в мечетях, представители партии младотурок на базарах, в караван-сараях, на крестьянских сходках, чиновники, офицеры и жандармы, играя на шовинистических чувствах турок, уверяли их, что спасение страны заключается только в уничтожении всех иноверцев — в первую очередь армян. Они старались пробудить в народе звериные инстинкты и вполне преуспели в этом. Мусульманское духовенство доказывало своей пастве, что по велению аллаха и его пророка земля и имущество истребленных гяуров принадлежат правоверным по закону, а на том свете им уготованы райские наслаждения и по одной гурии за каждого убитого христианина. Разве этого было не достаточно для фанатиков, чтобы они принялись за дело?..
Весной тысяча девятьсот пятнадцатого года началось избиение армян по всей султанской Турции. В течение трех-четырех месяцев было истреблено более полутора миллионов мужчин, женщин, стариков и детей. Оставшиеся в живых женщины и дети были высланы в пустыню Дор-Зор на медленное, голодное вымирание. В таких городах, как Ван, Муж, Битлис, Шабип-Кара-Псар, армяне оказывали вооруженное сопротивление, но что могла сделать горсточка плохо вооруженных людей против регулярной армии? Только погибнуть с честью, как свободные люди. Мало, очень мало кому удалось уцелеть и уехать в Армению с отступающей после революции русской армией…
Жители турецкой столицы
тоже не избегли ужасов резни. Стамбульские власти в одну ночь собрали всю армянскую интеллигенцию — адвокатов, врачей, инженеров, учителей, журналистов, писателей, всех видных людей, посадили их в товарные вагоны и под охраной жандармов отправили в глубь страны, подальше от глаз представителей иностранных государств. Среди погибших было множество высокообразованных, талантливых людей…
Солнце давно село. В комнате сгустились сумерки, но Василий не зажигал света.
— Вас, наверно, интересует, каким образом уцелел я? — продолжал после короткой паузы журналист. — До меня доходили страшные слухи, по я не придавал им особого значения. Не верил, что правительство Турции может решиться на истребление целого парода… По-настоящему я встревожился, когда перестал получать письма сперва от отца, потом и от матери. На мои телеграммы никто не отвечал, в голову лезли страшные мысли. Я не знал, как быть. Наконец решил просить у начальства отпуск дней на десять-двенадцать, чтобы съездить домой и узнать, что случилось. А в случае отказа — просто дезертировать.
Мне казалось, что в просьбе об отпуске нет ничего из ряда вон выходящего: я прослужил в армии более года, был произведен в младшие офицеры, — следовательно, мог рассчитывать на отпуск, тем более что у меня были особые обстоятельства. В то время наша часть стояла за тридевять земель от фронта, — мы несли гарнизонную службу в городе Измире.
Командовал нашей ротой присланный из действующей армии после ранения пожилой добряк из резервистов бинбаши Азиз-бей. Он никогда не бил аскеров, не оскорблял их, как делали другие офицеры. Аскеры прозвали его Ата — отец.
Выслушав мою просьбу, Азиз-бей посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал: «Зайдешь ко мне после учебы, тогда поговорим!..»
Ровно в полдень раздалась долгожданная команда: «Разойдись!» — и вмиг огромный плац опустел. Я поспешил к командиру. «Неужели, — думал я, — Ата откажет в моей просьбе и мне придется дезертировать?» Это было равносильно самоубийству. В те годы на площадях турецких городов дезертиров вешали десятками. Я видел их и читал своими глазами надписи на картонах в форме полумесяца, повешенных на шею несчастным: «Всех изменников родины — дезертиров — ждет такая участь».
В кабинете я еще раз изложил Азиз-бею свою просьбу. «Ты что, действительно такой наивный или изображаешь из себя наивного? — спросил он сердито. — Неужели ты ничего не знаешь о том, что творится вокруг?» — «А что творится?» — «У меня даже язык не поворачивается, чтобы все рассказать тебе… В общем, у нас в благословенной Турции люди посходили с ума. Не одолев врага на фронте, они принялись за мирных людей, стали уничтожать своих подданных — армян. Здесь, в армии, под моей защитой, ты в относительной безопасности. Но если я отпущу тебя, то живым вряд ли вернешься. Понял теперь?» — спросил он. Повесив голову, я стоял перед ним. Я и раньше о многом догадывался. Но так уж устроен человек: он всячески отгоняет от себя все неприятное, страшное. Наконец я пробормотал: «Все равно, пусть убьют! Мне нужно знать правду, что с моим отцом, с матерью?..» — «Все равно… Все равно»! — передразнил меня Ата. — Ишь какой храбрый нашелся! Что ты предпримешь, если я не отпущу тебя?» — «Уйду так!» — ответил я. «Станешь дезертиром? А ты знаешь, что тебя ожидает, если поймают?» Азиз-бей шагал по кабинету из угла в угол. Потом он остановился. «Итак, решение твое твердое, — ты обязательно хочешь ехать домой, в Стамбул?» — «Твердое, — ответил я не задумываясь. — Я должен знать, что с моими родителями…» — «Повесь уши на гвоздь терпения и слушай: выбери себе турецкое имя, а я выправлю документы на него. У тебя на лбу не написано, что ты армянин. Поезжай в Стамбул, разузнай про родителей и, если разыщешь себе надежное убежище, не возвращайся — жди конца войны. Не будет же продолжаться эта проклятая война до скончания века… Если не найдешь, приезжай обратно. Пока я здесь, никто не посмеет тронуть тебя пальцем!..»
Дня через два после этого разговора я покинул казарму Измира, имея в кармане отпускные документы на имя младшего офицера Али Фикрета, сел на пароход и направился в Стамбул. Офицерские патрули дважды проверяли мои документы и не обнаружили в них ничего подозрительного.
Добравшись до местечка Бебек, я пустился бежать по направлению к нашему дому. Открыл калитку и с бьющимся сердцем заглянул в сад. Там были чужие люди. Отступать было поздно, меня увидели, и, чтобы не вызывать подозрений, я спросил не сдается ли здесь комната. «Нет, господин офицер, не сдается, — ответила пожилая женщина и добавила: — Мы сами недавно живем здесь».
Мамы здесь нет… Что с нею случилось? Шатаясь как пьяный, я бесцельно бродил по набережной, пока не вспомнил про дядю Яни, приятеля моего отца, веселого грека, содержавшего маленькую закусочную на берегу моря. Отец любил посидеть у него, иногда брал с собой и меня.
В закусочной никого не было. Сам дядя Яни, в белом фартуке, в рубашке с закатанными до локтей рукавами, дремал за стойкой. Я присел за столик. Он нехотя встал и подошел ко мне. «Что пожелает господин офицер, кефаль или скумбрию?» Он меня не узнал в военной форме. «Дядя Яни, неужели вы не узнаете меня?» — «Жюль! Неужели ты? Какими судьбами очутился ты здесь?» — «Дядя Яни, где мои родители? Где мама? Почему в нашем доме живут чужие?» — «Ох, тяжелую задачу задаешь ты мне, сынок! — Дядя Яни вздохнул. — Месяца два назад жандармы привели сюда твоего отца в наручниках, — они хотели, чтобы господин Сарьян указал место, где зарыт клад. Его жестоко били, но он ничего не сказал им, а может быть, никакого клада и не было, — жандармы выдумали… Потом забрали твою мать, отвезли ее с отцом на станцию Скутари, там посадили всех армян в товарные вагоны и отправили куда-то, — куда, никто не знает… Дом ваш разграбили, потом в него переехал какой-то чиновник со своим семейством…» Дядя Яни умолк, отвернулся от меня…
Совершенно подавленный услышанным, я коротко рассказал ему, как добрался до Стамбула. «Видишь ли, сынок, возвращаться тебе в казармы опасно, — невесело сказал он. — Сегодня командиром у вас добряк, а завтра на его место пришлют зверя. Мой тебе совет — постарайся перебраться в соседнюю Болгарию. Болгары армян в обиду не дадут… Поживешь у меня несколько дней, а там подумаем, — может быть, и найдем выход».
В течение десяти дней прожил я в доме дяди Яни. Жена его, София, кормила и поила меня, старалась, чтобы я не скучал, доставала мне откуда-то французские книги. Однажды вечером дядя Яни сказал, что сведет меня с одним контрабандистом, — хотя и турком, но человеком честным и надежным. Тот обещал за определенную сумму переправить меня в Болгарию.
В Болгарии мне пришлось жить до конца войны. Нанимался я чем попало — даже грузчиком был в Варненском порту. Потом перебрался сюда, во Францию. По счастью, мой отец оказался дальновидным человеком — положил во французский национальный банк значительную сумму на мое имя. Эти деньги дали мне возможность окончить Сорбонну. Еще студентом я активно сотрудничал в газете «Пари суар» и, совмещая учебу с практикой, стал со временем журналистом…
— Да, нелегкую жизнь вы прожили! — сказал Василий, испытывая еще большую симпатию к Сарьяну.
— Что и говорить!.. Но я рассказал вам все это не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие, а для того, чтобы доказать простую истину, которую до сих пор многие не понимают. Фашизм — страшное явление нашего века. Звериная идеология его зарождается и развивается параллельно с разнузданным шовинизмом, а впоследствии первое поглощает второе. Если люди хотят сохранить накопленную веками культуру, если им претит уподобиться пещерному человеку, они должны самоотверженно бороться с фашизмом, преграждать ему путь всеми доступными средствами, — иначе будет поздно. Иногда мне делается страшно от одной мысли, что фашизм победит. Мне жалко прекрасную Францию, ставшую моей второй родиной, у меня болит сердце за все человечество!..
Журналист умолк. Василий, разумеется, полностью разделял его мысли и чувства. Однако, соблюдая осторожность, проговорил, как бы раздумывая:
— Вы, вероятно, правы. Но я деловой человек и очень далек от политики… Мне трудно судить о таких сложных делах и тем более разобраться, с кем и как следует бороться…
— Все так говорят, пока эта самая политика не схватит их за горло! — резко сказал Сарьян. — Вам, славянину, а тем более словаку, следует быть особенно бдительным. Не хочу быть пророком, но почти уверен, что немецкий фашизм первый удар обрушит на вас, чтобы открыть себе путь к богатствам России!
— Французы не допустят этого. Вы забываете, что Франция наша союзница.
Журналист молча покачал головой.
Раздался звонок. Вернулась Лиза, и Василий представил ей Сарьяна.
— Очень рада познакомиться, — мне муж рассказывал о вас! — сказала Лиза. — Сейчас приготовлю что-нибудь, мы вместе поужинаем.
Но Сарьян, сославшись на то, что жена его одна дома, от ужина отказался.
— Я и так засиделся у вас, рассказывая вашему мужу скучнейшие истории!
После ухода журналиста Василий сказал Лизе:
— Он не только приятный, но, по-моему, и надежный человек. Он немало выстрадал на своем веку и очень правильно оценивает опасность фашизма. Нам следует сблизиться с ним!..
Утром Василий застал Жубера в конторе. Как всегда элегантно одетый, чисто выбритый, тот сидел за столом и что-то писал.
— О-о, дорогой Кочек! — воскликнул он, увидев Василия. — Очень рад, что вы наконец выздоровели. За эти три-четыре дня, что вы отсутствовали, накопилась уйма дел!
— Что ж, может быть, это и хорошо?
— Еще бы! Поступили заказы из Лондона, Рима и Берлина. Подумать только, наша фирма завоевывает международные рынки! Отныне банковский кредит нам обеспечен. Потом новые заказы со всех концов Франции. Заказывают, просят, требуют, пишут все — хозяева кинотеатров, лавочники, даже владельцы казино. Вот смотрите, — Жубер показал на стопку конвертов, лежавших перед ним, — послушайте-ка: «Пришлите вашего представителя для переговоров»… «Сообщите ваши условия»… «Примите заказ на рекламу сосисок и новые сорта колбасы»… «Наши вина лучшие в мире, но сбыт неудовлетворителен, необходима хорошая реклама. Перед расходами не постоим»… Вчера мы с Борро подсчитали наши производственные возможности. Необходимо снова расширяться — в особенности сейчас, когда поступают заказы из-за границы. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.
Василий задумался. Конечно, Жубер прав, — какой предприниматель откажется от расширения дела, если есть падежные заказы? Что касается Василия, то ему новое расширение ни к чему, — и так в мастерских фирмы работало более двухсот человек. Единственно, что привлекало Василия, так это заказы из-за границы. Их он давно ждал с нетерпением. Деловые связи с Англией, Италией, Германией, а в будущем и с Америкой могли открыть заманчивые перспективы. И Василий ответил Жуберу:
— Прежде чем принять решение о расширении производства и найме новых рабочих, нам надо взвесить все «за» и «против». По-моему, было бы целесообразно собраться нам вместе с директором-распорядителем (недавно они ввели такую должность и пригласили занять ее энергичного, с большими связями в деловом мире человека по фамилии Лярош), с художниками, старшим мастером и посоветоваться с ними… Сами знаете, чрезмерное расширение дела всегда связано с определенным риском. Можно потерять все за несколько дней, тем более что деятельность нашей фирмы целиком зависит от конъюнктуры рынка. Любые колебания рынка немедленно отразятся на наших делах…
— Но сейчас-то фирма процветает! Не забывайте, что наш оборот за прошлый месяц составил кругленькую сумму — двести тысяч франков!.. Конечно, осторожность не помешает. Я ничего не имею против того, чтобы собраться и посоветоваться.
— Тогда — завтра, в одиннадцать утра. Что касается заказов из-за границы, их следует принять независимо от наших завтрашних решений. Как вы правильно отметили, дорогой Жубер, деловые связи с заграницей поднимут престиж фирмы. Кстати, вы не хотели бы посетить одну из этих стран? — Василий знал, что его компаньон мечтает о путешествии.
— С превеликим удовольствием поехал бы в Италию! Я давно обещал Мадлен повезти ее в Венецию. Вот удобный случай совместить приятное с полезным!
— Ну и поезжайте! А когда вы вернетесь, я, может быть, поеду в Лондон. В Англии мы можем заключить выгодные сделки. Что же касается Германии, боюсь, что немцам сейчас не до коммерции!..
Жубер, как говорил художник Борро, снова приобрел былую «спортивную форму» — стал шумно-приветлив, старался вникать в дела фирмы и не раз давал толковые советы. Несомненно, причиной такой перемены в Жубере были и большие заработки и успех в делах. Ведь с недавних пор о рекламной фирме «Жубер и компания» заговорил почти весь деловой Париж.
Жубер был добрый малый — слабохарактерный, без большого делового размаха, но на редкость честный, доброжелательный к людям. Как истый француз, он любил пожить: имел холостяцкую квартиру, содержал красивую любовницу, делал ей дорогие подарки, одевался у лучших портных, был постоянным посетителем концертов и ресторанов. Он был и скуп и расточителен одновременно. Василий, хорошо разбираясь в его слабостях, относился к нему с симпатией.
Совещание, созванное Василием, проходило довольно бурно. Директор-распорядитель Лярош с пеной у рта доказывал, что в коммерции нельзя упускать благоприятный момент — это подобно самоубийству. Когда заказы сыпятся со всех сторон словно из рога изобилия, преступно отказываться от них.
— Финансовое положение нашей фирмы настолько устойчиво, — доказывал он, — что для расширения дела мы не нуждаемся в банковском кредите — у нас имеются свободные средства, не участвующие в обороте. Нужно расширяться не раздумывая!
Художник Клод Гомье говорил о том, что фирма не должна размениваться на мелочи, вроде рекламирования сосисок и откормленных гусей. Нужно специализироваться на крупном — на кинорекламе, тематическом оформлении витрин больших универсальных магазинов. Это не только выгодно с коммерческой точки зрения, но и солидно.
Анри Борро выдвинул новую идею:
— Почему бы нам не взяться и за изготовление театральных декораций? То, что сейчас делается в этой области, просто позор! Даже такой всемирно известный театр, как Комеди Франсез, и тот стал забывать, что в доброе старое время театры приглашали выдающихся художников. Не сомневаюсь, что, создавая оригинальные декорации для спектаклей, наша фирма не только возродит былые традиции, но завоюет еще большую популярность в глазах просвещенной Франции!
— И вылетит в трубу! — добавил Лярош.
— Анри может возразить, что искусство требует жертв, — пошутил Жубер. — Но надеюсь, он все-таки помнит, что у нас не общество любителей сценического искусства и не благотворительное учреждение! Пусть театральными декорациями займутся другие, более компетентные организации… Не могу не возразить также нашему юному другу Гомье: в коммерции мелочей не бывает. То, что приносит прибыль, уже тем самым перестает быть мелочью. Конечно, оформление витрин и реклама кинокартин дело почетное, но не забывайте, друзья, что более сорока процентов доходов наша фирма получает от заказов мелких торговцев, ресторанов и бакалейщиков — от рекламы гусей, уток, колбасных изделий, и нам вряд ли стоит пренебрегать ими!..
В спор вступил пламенный сторонник высокого искусства Доминик. Способный живописец, не сумевший, однако, продать ни одной своей картины, он был убежден, что деньги дело преходящее, что вечно только искусство. Какие бы ни были созданы оригинальные рекламы гусей и индюшек, они не принесут славы ни художникам, ни фирме. А вот их декоративная установка к кинокартине «Под крышами Парижа» останется в истории прикладного искусства…
Василию пришлось воспользоваться правом председательствующего, чтобы и успокоить спорщиков и подвести некоторые итоги.
— Думаю, нам целесообразно придерживаться той же линии, что до сих пор. Ни у кого нет сомнений в том, что именно наши талантливые художника определили лицо фирмы. Не исключена возможность, что в недалеком будущем мы сумеем расширить рамки нашей деятельности и завоюем заграничные рынки. Не следует забывать и о конкурентах. Впереди немало всяких испытаний, — чтобы выдержать их, нужно создать солидную финансовую базу. Поэтому было бы легкомысленно пренебречь уже сегодня мелкими заказами. Мои предложения коротко сводятся к следующему: установить дополнительное оборудование и нанять новых рабочих только в том случае, если поступят солидные заказы из-за границы. Разделить работу мастерской на три самостоятельных отдела: оформление витрин больших универсальных магазинов, реклама кинокартин и так называемые мелкие заказы. Сохраняя общее руководство мастерской по-прежнему за Борро, поставить во главе каждого отдела способного, инициативного художника. Первые два отдела могли бы возглавлять Гомье и Доминик. Еще и еще раз прошу не пренебрегать мелкими заказами…
Вошел курьер и, протягивая Василию запечатанный конверт, сказал:
— Прошу прощения, мсье, приказано вручить это письмо в ваши собственные руки!
Василий поспешил закрыть совещание, предложив Борро совместно с Лярошем составить проект разделения мастерской.
Когда все вышли из кабинета, Василий вскрыл конверт.
«Господину Я.Кочеку
Совладельцу рекламной фирмы «Жубер и компания», г.Париж.
Имею честь довести до Вашего сведения, что решением жюри Вам, победителю в большом теннисном турнире 1932 года, присужден первый приз клуба — хрустальная ваза.
Прошу Вас пожаловать на торжественное заседание правления клуба, имеющее быть в субботу 21 декабря с.г. в семь часов вечера, где Вам будет вручен приз и диплом нашего клуба.
Примите, господин Кочек, заверения в моем глубоком к Вам уважении и пожелания больших спортивных успехов.
Ваш де ла Граммон, вице-президент спортивного клуба».
Василий был рад этому письму: лишний раз подтверждалось, что не слепой случай руководит его жизнью…
Давно ли он высадился с Лизой в Марселе как турист, а сегодня Ярослав Кочек не просто парижанин, но и совладелец процветающей фирмы, богатый, уважаемый всеми человек. Да, богатый — капитал его измеряется шестизначными цифрами. Лично ему принадлежит не менее двухсот пятидесяти тысяч франков. И все это достигнуто собственной смекалкой, без чьей бы то ни было помощи, — достигнуто во имя той большой цели, служению которой он посвятил свою жизнь. Его, несомненно, примут в члены аристократического спортивного клуба. Это — определенное положение, туда принимают не всякого. Ему необходимо завоевать еще симпатии и поддержку церковников. Даже в такой, казалось бы, свободомыслящей стране, как Франция, католическая церковь — сила, и пренебрегать ею не следует. Лиза — умница, не пропускает ни одной воскресной мессы. Она успела завязать знакомство с местным кюре и хочет купить постоянные места в церкви.
Если быть до конца честным перед самим собой, то нужно признать, что своими успехами он наполовину обязан жене. Она — чудо. Трудно даже представить такое удивительное сочетание различных качеств в одном человеке, как у Лизы: природный ум, широкая образованность, необыкновенная выдержка, хладнокровие, нежное сердце. Она — настоящий друг. С нею можно в огонь и в воду, — она не отступит, не подведет. С того самого дня, когда Лиза соединила свою жизнь с ним, она не знает ни беспечных радостей, ни покоя. Не всякий человек может вынести скитальческую жизнь, полную всяких неожиданностей…
В субботу, за десять минут до назначенного срока, Василий поставил машину на стоянке в переулке и направился в клуб.
Уже знакомый швейцар, похожий на генерала в своей ливрее с галунами, узнав Василия, поклонился и широко распахнул перед ним массивные дубовые двери.
В маленькой гостиной второго этажа его встретил де ла Граммон. Он сердечно приветствовал гостя:
— Рад видеть вас в добром здоровье! Мсье Кочек, без длинных предисловий хочу сообщить, что нам — мне и моим коллегам — было бы приятно иметь членом нашего клуба такого выдающегося спортсмена, как вы. Правда, вступительный и годичный взносы у нас довольно обременительные, по я надеюсь, что это обстоятельство не может служить препятствием для преуспевающего коммерсанта!
— Разумеется! Я весьма признателен вам, дорогой мсье де ла Граммон, за оказанную мне честь.
— Надеюсь, вы не будете возражать, если я стану одним из ваших поручителей?
— Я буду бесконечно благодарен вам! — Василий поклонился.
— Любезно согласился дать за вас поручительство также мсье Жан-Поль Маринье.
— Мне весьма приятно слышать это!
В небольшом круглом зале, за длинным столом, покрытым зеленым сукном, разместились члены правления. Они чинно восседали на стульях с высокими спинками, словно судьи. Впереди — немногочисленные гости, среди которых Василий заметил своих знакомых — Ганса Вебера и Сарьяна.
Де ла Граммон открыл заседание. Первым он предоставил слово председателю жюри, который огласил решение и вручил Василию хрустальную вазу и грамоту в сафьяновой папке.
— Я счастлив, — сказал Василий, — что удостоен чести быть принятым в число членов спортивного клуба, в котором собраны выдающиеся спортсмены Франции. Позволю себе заверить вас, господин президент, господа члены правления и уважаемые гости, что постараюсь высоко держать знамя — теперь я могу уже сказать — нашего клуба и свято блюсти честь спортсмена!
По существующим традициям был дан банкет в честь победителя турнира и нового члена клуба.
Позднее, когда Василий направлялся к своей машине, его догнал Сарьян и взял под руку.
— Вам здорово повезло! — сказал он. — Быть принятым в число членов спортивного клуба Парижа — этого удостаиваются не все смертные, не говоря уж об иностранцах.
— Чем же это объяснить?
— Прежде всего тем, что вы показали отличную игру, а клубу важно заполучить первоклассного игрока. Да и личное обаяние играет не последнюю роль почти во всех делах…
Мимо прошел Ганс Вебер и попрощался, приподняв шляпу.
Когда он удалился на достаточное расстояние, журналист, понизив голос, сказал:
— Учтите, Ганс Вебер хоть и немец, но достойный человек. Он убежденный антифашист, но вынужден это скрывать…
— Откуда вы знаете?
— Я знаю многое, не только о Вебере. Такова уж моя профессия… Между прочим, по словам Вебера, — а его словам можно верить, — вопрос о приходе в Германии к власти Гитлера предрешен. В последние дни ведутся переговоры между представителями фон Папена и Гитлера. Как предполагают, в самое ближайшее время они организуют личную встречу и договорятся обо всем… И знаете, что самое пикантное? Французское правительство, не встретив поддержки у англичан и боясь оказаться в изоляции, очутившись лицом к лицу со страшным врагом, заранее примирилось с возможностью фашизации Германии. Вчера поздно ночью состоялось закрытое заседание французского кабинета, где было решено не предпринимать ничего, что могло бы раздразнить главарей национал-социалистского движения в Германии. Уже даны соответствующие инструкции французскому послу в Берлине Франсуа Понсэ…
— Но это же равносильно самоубийству!..
— Видите ли, есть во Франции политики, которые надеются, что Гитлер, придя к власти, будет искать жизненные пространства для Германии на Востоке. Другими словами, национал-социалисты, ярые враги большевизма, прежде всего нападут на Советский Союз. А это на руку кое-кому во Франции.
— Я, кажется, имел случай говорить вам, что плоховато разбираюсь в политике. И все же я боюсь, как бы со временем все это не обернулось против самой Франции.
— Ах, боже мой, все может быть! — Журналист остановил проезжавшее мимо такси, попрощался с Василием и сел в машину.
Уныло падал мокрый снег с дождем, пронизывал холодный ветер. В этот поздний час, когда окончились спектакли в театрах, погасли лампочки в концертных залах, опустели кафе и рестораны, пешеходов было сравнительно мало. Но зато машины разных марок, окрасок, форм и размеров запрудили центральные улицы, и Василию приходилось соблюдать величайшую осторожность, — он двигался со скоростью но более пятнадцати километров в час, проклиная тесноту современных городов.
Сидя за рулем и напряженно, до рези в глазах, следя за мигающими фарами ползущих впереди автомашин, Василий думал о том, что отныне он регулярно будет получать по почте корреспонденцию — письма, приглашения клуба — и это немаловажное обстоятельство в его положении. Обилие корреспонденции поднимет его престиж в глазах соседей, особенно в глазах консьержки. И теперь он сможет добавить к слову «коммерсант» на своей визитной карточке еще слова — «член спортивного клуба». Это уже звучит: весь Париж знает, что в этот привилегированный спортивный клуб несостоятельных людей не принимают, — там членские взносы составляют годовой заработок рабочего средней квалификации.
На площади Согласия образовался небольшой затор, и Василий вынужден был затормозить. Он вспомнил слова Сарьяна: Вебер хоть и немец, но достойный человек, убежденный антифашист… Вчера поздно ночью состоялось закрытое заседание кабинета… Удивительная осведомленность! Положим, если судить трезво, в этом нет ничего из ряда вон выходящего: журналисты народ пронырливый, у них нюх на сенсации, как у охотничьей собаки на дичь. Все это так, но почему Сарьян считает возможным делиться новостями именно с ним, с Василием?
Ажан на перекрестке, отчаянно жестикулируя, восстановил порядок, и машины медленно тронулись с места.
Почему!.. Неужели он, Василий, неплохо разбирающийся в людях, ошибся в Сарьяне? Но понял его истинную сущность… Если так, то ему нужно немедленно собирать манатки, возвращаться на родину и заняться чем-нибудь другим, — скажем, слесарить, ремонтировать машины и не соваться больше в дела, требующие смекалки и проницательности… А почему не предположить и такое: проницательный журналист разгадал, что Ярослав Кочек такой же словак, как сам Сарьян японский микадо, и ищет теперь путей сближения с ним, как со своим единомышленником? В этом тоже мало радости: значит, не сумел сыграть свою роль до конца или сболтнул такое, что дало повод журналисту строить всякие предположения… А вообще-то в одиночку многого не сделаешь, — нужны помощники. О лучшем же помощнике, чем Сарьян, и мечтать нельзя, тем более что он, как видно, в близких отношениях с Вебером. Секретарь генерального консульства Германии в Париже — убежденный антифашист! Это же источник такой информации… Главное — не горячиться, действовать расчетливо. Прежде чем рискнуть открыться журналисту и установить связь с Вебером, следует связаться с «отцом» и получить его согласие на такой шаг.
Увлекшись своими мыслями, Василий чуть не поехал на красный свет, — хорошо, что у его машины отличные тормоза, иначе не избежать бы ему объяснений с блюстителем порядка!..
Открыв двери своим ключом, Василий тихонько вошел в квартиру. Так и есть. Лиза мирно посапывает в спальне. Он разделся и на цыпочках прошел в кабинет.
«21.XII 1932 года, Париж.
Дорогой отец!
Извини, что долго не писал, — был очень занят, да и особых новостей не было. Но сегодня у меня большая радость. Сейчас хоть и поздно, час ночи, все же решил поделиться ею с тобой.
Итак, о моих успехах: недавно в большом турнире по теннису, устроенном Парижским клубом, мне повезло: я занял первое место. Мне вручили приз — хрустальную вазу. Это не все, — сегодня, всего несколько часов назад, я был удостоен большой чести — принят в члены спортивного клуба. Вижу улыбку на твоем лице: «Подумаешь, большое дело, приняли в члены какого-то клуба, есть чему радоваться». Это не так, отец. В этот парижский клуб принимают далеко не всякого, и членство в этом клубе создает человеку определенное положение в обществе. Знаешь, кто были моими поручителями? Весьма уважаемые люди — директор-распорядитель большого универсального магазина, отпрыск аристократической фамилии де ла Граммон, о котором я писал тебе раньше. Второй поручитель — генеральный секретарь министерства мсье Жан-Поль Маринье.
Мои коммерческие дела тоже в отличном состоянии. От заказчиков отбою нет. К чести наших молодых художников должен отметить, что они вполне оправдали мои надежды: у них бездна выдумки, вкуса, неисчерпаемая энергия. Шутка сказать, наша фирма добилась монопольного положения на рынке по части объемной и тематической рекламы. Правда, есть дельцы, пытающиеся конкурировать с нами, но пока они нам не опасны. Недавно начали поступать заказы из-за границы — из Англии, Италии и Германии. На днях мой компаньон, мсье Жубер, выедет в Рим для оформления заказов и изучения итальянского рынка. После его возвращения я, возможно, поеду в Лондон. Нужно расширять международные связи нашей фирмы. Отец, мне очень хотелось бы услышать твое мнение по всем этим вопросам.
Здесь я познакомился с одним журналистом, Жюлем Сарьяном. Ты знаешь, отец, я трудно схожусь с людьми, но с ним, кажется, подружился всерьез.
А еще хочу тебе сказать, что у меня накопилось некоторое количество свободных денег: то, что мы берем с компаньоном из кассы на наши личные расходы, я полностью не трачу, — ты ведь знаешь, какая хозяйка Марианна. Так вот напиши, — если тебе нужны деньги, могу выслать на первых порах тысяч десять — пятнадцать франков.
Пиши, пожалуйста, подробно, что делается у нас дома. Как здоровье тети Клары? Не собирается ли кто из наших родичей к нам в гости? Мы с Марианной приняли бы дорогого гостя с великой радостью. Показали бы Париж. Ты даже не можешь себе представить, как мы соскучились по вас и по дому. Весною, если ничто не помешает, обязательно приедем навестить вас.
Передай привет всем. Тебе и всем нашим кланяется Марианна.
Остаюсь твой любящий сын
Ярослав Кочек.
Р.S. Отец, совсем забыл: в клубе я познакомился с секретарем генерального консульства Германии в Париже господином Гансом Вебером. По словам мсье Сарьяна, Вебер приличный человек. На меня он тоже производит благоприятное впечатление, хотя не знаю, бывают ли среди дипломатических работников приличные люди. По-моему, на то они и дипломаты, чтобы притворяться. Вообще-то мне это абсолютно безразлично, просто не хочется ошибаться в людях, а потом винить себя самого. Вот и все.
Я.К.»
Закончив письмо, Василий достал из тайника бесцветные чернила и особую ручку с тоненьким пером. Между строк письма он написал «отцу» обо всем, что узнал сегодня от Сарьяна о заседании французского кабинета, связанном с опасностью прихода к власти нацистов, о том, что Ганс Вебер убежденный антифашист, и попросил разрешения установить тесную связь с Сарьяном и Вебером. В конце Василий добавил, что, поскольку события в Германии могут принять стремительный характер, а у него появятся надежные источники информации, было бы целесообразно наладить более надежный способ связи. Может быть, даже через специального курьера.
Когда Василий кончил писать, за окном брезжил серый рассвет.
Он встал, устало потянулся. Спать не хотелось, но нужно было заставить себя уснуть, — утром предстояло много дел и голова должна быть свежей.
6
До сочельника оставалось еще около недели, но уже весь Париж был охвачен предпраздничной лихорадкой. Торговцы елочными украшениями, игрушками, поздравительными открытками, свечами, бакалейщики, владельцы больших гастрономических магазинов и рестораторы, соревнуясь между собой, старались оформить витрины как можно затейливее.
Месяца за три до праздников рекламная фирма «Жубер и компания» была завалена заказами со всех концов страны. Художники работали день и ночь и все же не успевали к сроку. Василий, твердо усвоивший одно из главных правил коммерции: принял заказ — выполняй в срок, нервничал, — ему не хотелось ронять авторитет фирмы.
Улицы были полны людей с покупками в руках. Хозяйки сбились с ног, запасаясь продуктами к праздничному столу. Казалось, все думают только об одном — как бы веселее провести праздник, совершенно забыв, что по ту сторону Рейна назревают события, таящие в себе смертельную опасность не только для Франции.
Столичные газеты, вначале с нескрываемой тревогой сообщавшие о возможности прихода к власти в Германии Гитлера и национал-социалистов, словно бы успокоились, — они, как по команде, перестали писать об этом. Больше того, реакционная пресса старалась внушить обывателю, что ничего особенного не случилось; какая, мол, французам разница, кто правит Германией? Иногда в статьях на политические темы проскальзывали и кичливые нотки: не надо забывать, что у Франции есть неприступная крепость — линия Мажино!..
Василий заказал на праздничный вечер столик у «Максима» и пригласил Сарьяна с женой.
Вечером в сочельник они встретились в вестибюле ресторана. Василий и Лиза познакомились с женой Сарьяна Жаннет, веселой голубоглазой француженкой. Как все парижанки, она была одета с большим вкусом, казалась значительно моложе своих лет. Впрочем, и Лиза сегодня ничем не отличалась от парижских модниц. Чтобы не ударить лицом в грязь, жена преуспевающего коммерсанта заказала специально к этому дню платье у дорогой портнихи. Тоненькие нитки жемчуга и бриллиантовые серьги дополняли ее туалет. Мужчины были в вечерних костюмах.
Метрдотель, во фраке, с белым цветком в петлице, похожий на опереточного артиста, спросив фамилии гостей, провел их к заказанному столику.
Когда официант, приняв заказ, удалился, дамы обнаружили под салфетками рождественские подарки. Лизе досталась маленькая обезьянка, а Жаннет — плюшевый медвежонок.
Ровно в двенадцать послышался бой часов, передаваемый по радио, зажглись свечи на громадной елке посреди зала. Все встали с бокалами, наполненными шампанским, и осушили их, пожелав друг другу счастья.
Заиграла музыка, Сарьяны остались за столиком, но Василий и Лиза танцевали, что называется, до упаду. Он — крупный, высокий, ладно скроенный, она — изящная, стройная — обращали на себя внимание. Каждый раз, когда после очередного танца они возвращались к столику, раскрасневшиеся, возбужденные, Жаннет встречала их аплодисментами, а ее муж спешил наполнить их бокалы.
— Чтобы узнать французов, — сказал Василий, когда они с Лизой отдыхали от танцев, — нужно съесть не пуд, а тонну соли! Казалось бы, народ приветливый, общительный, а между тем не очень-то гостеприимный!..
— На основании каких фактов вы пришли к такому выводу? — улыбаясь спросил Сарьян.
— Скоро два года, как я живу в этой стране, и за все это время не был приглашен ни в один дом! Тот же мой компаньон, который многим обязан мне и знает, что у нас здесь нет ни родных, ни близких друзей, не счел нужным пригласить нас даже в праздник!..
— Вы правы, мсье Кочек! Французы могут уважать вас, дружить с вами, угощать в самом дорогом ресторане, но пригласить к себе домой… Для того чтобы удостоиться такой чести, нужно очень близко сойтись с ними, быть на короткой ноге.
— У нас все гораздо проще. Словаки народ гостеприимный!..
— Чтобы вы не думали, что я тоже окончательно офранцузился, приглашаю вас с супругой. Прошу пожаловать к нам в любое время, когда вам только захочется. Хоть на Новый год, хоть позже!..
— Вот и получилось, что ты напросился в гости! — смеясь сказала Лиза.
Василий охотно принял приглашение журналиста, поблагодарил его. Ему нужно было только получить ответ от «отца».
В пятом часу утра, когда веселье в ресторане было еще в полном разгаре, Василий с Лизой и чета Сарьянов разъехались по домам.
На следующий день, решив, что лучшего времени для отправления религиозных обязанностей, чем рождество, трудно придумать, Василий пошел с женой в церковь. Терпеливо прослушав торжественную мессу, они дождались, когда кюре освободится, и подошли к нему. Он тотчас узнал их и приветливо улыбнулся.
— Я очень рад, что в моем приходе появились добрые католики, — сказал он. — Как я заметил, вы постоянно посещаете воскресную мессу…
— Конечно, отец мой! — воскликнул Василий. — Мы с женой хотели узнать, можно ли купить два постоянных места у вас в церкви. Ну, скажем, в третьем или в четвертом ряду.
— Вы хотите иметь постоянные места? Что ж, это похвально… Вы могли бы располагать свободными местами в третьем ряду. Четвертое и пятое кресла. Но известно ли вам, что места в нашей церкви стоят дорого?
— Не думаю, что это заставило бы нас отказаться от своего намерения…
— На жесткой скамейке в третьем ряду место стоит триста франков в год, а если хотите кресла с бархатной обивкой, то пятьсот франков.
— Думаю, мы удовлетворимся жесткой скамейкой. Не так ли, Марианна? — Василий повернулся к жене.
— Конечно, — ответила Лиза. — Не все ли равно, на какой скамье беседовать с богом…
Василий достал из бумажника шестьсот франков.
— Благодарю вас! — Кюре спрятал деньги в карман брюк под сутаной. — Квитанций мы не выдаем, но в книге нашей церкви будет сделана соответствующая запись о закреплении этих мест за вами.
Пожелав друг Другу счастливого рождества, они расстались.
— Вот черти полосатые, — шепнул Василий Лизе, беря ее под руку, — даже местами в божьем храме торгуют!
— Значит, придется исповедоваться этому старому фарисею?
— Самым исправным образом, не реже раза в месяц!
— Ах ты господи! Придумывай теперь грехи, чтобы получить отпущение! — Лиза вздохнула.
— Да, дорогая, выдумывать грехи, пожалуй, труднее, чем совершать их!.. Впрочем, когда соберешься на исповедь, я придумаю тебе такие грехи, что все завидовать станут!..
Дома, среди разных программ, проспектов из спортивного клуба и пригласительных билетов, их ожидало письмо «отца». Он поздравлял сына и невестку с рождеством Христовым и с Новым годом. После многочисленных пожеланий он выражал свою радость по поводу коммерческих успехов сына. Передав поклоны от родных и сообщив о здоровье тети Клары, которая, благодарение богу, поправляется, «отец» писал, что ее сын, Юзеф Холек, в самое ближайшее время собирается на студенческие каникулы во Францию. «Юзеф позвонит тебе по телефонам, номера которых ты мне сообщил, и я очень прошу — повстречайся с ним, помоги ознакомиться с достопримечательностями столицы мира. Если же ты очень занят и не можешь уделить ему достаточно внимания, пусть им займется Марианна. Он, как ты знаешь, парень хороший и вполне заслуживает того, чтобы его приняли как следует. Деньги присылать мне не надо, лучше пустить их в оборот.
Не пишу подробно, в надежде, что Юзеф расскажет вам обо всем…»
Они читали и перечитывали письмо «отца». Было ясно: курьер, который приезжает к ним, имеет достаточные полномочия. Что другое могли означать слова: «Юзеф парень хороший и заслуживает того, чтобы его приняли как следует»? Значит, этому Холеку можно доверить все. В письме нет ни единого слова ни о Сарьяне, ни о Вебере. Последние строки письма: «Не пишу подробно, в надежде, что Юзеф расскажет вам обо всем» — вот, наверное, ответ и на этот вопрос.
Вскоре после Нового года раздался телефонный звонок.
«Квартира Ярослава Кочека?» — «Да…» — «Здравствуй, брат, говорит Юзеф Холек. Твой отец обещал написать обо мне, — ты получил его письмо?» — «Получил. Где же ты, Юзеф, почему не едешь к нам?» — «Чтобы не беспокоить вас, я остановился в гостинице. Но если вы дома, могу приехать хоть сейчас». — «Мы дома и ждем тебя. Постой, с тобой хочет поговорить Марианна, передаю ей трубку». — «Здравствуй, Юзеф! Как тебе не стыдно останавливаться в гостинице?» — «Я уже сказал, — не хотел беспокоить вас». — «Ну ладно, приезжай скорее, мы тебя ждем. Наш адрес ты знаешь… Возьми такси и приезжай, мы с Ярославом так соскучились по дому…»
— Василий, как ты думаешь, наш телефон на подслушивании? — спросила Лиза, положив трубку.
— Не думаю, но быть осторожным не мешает. Береженого и бог бережет!
— Знаешь, почему я спрашиваю? Мы — словаки, подданные Чехословацкой республики. Но ни словацкий, ни чешский язык не удосужились изучить. Ленивые мы с тобой люди. К нам приезжает близкий родственник, а мы беседуем с ним по-французски. Хорошо еще, не возникла необходимость обращаться к нашему консулу, — а если бы?
— Ты не совсем права. Дело не в лени, а времени у нас совершенно нет!
— Пустое, при желании время нашлось бы…
Минут через сорок приехал двоюродный брат Юзеф. Василий, помогая гостю снять пальто, внимательно разглядывал его.
Юзеф оказался моложавым, высоким человеком со спортивной фигурой. Поглаживая русые волосы, он украдкой посмотрел по сторонам и, похоже, не поняв, есть ли дома чужие или нет, обнял сначала Василия, потом Лизу, говоря: «Здравствуй, брат! Здравствуй, сестра!» И хотя в пароле не было никакой необходимости, добавил: «Дома у нас все благополучно!»
— Ну и слава богу! — Василий, взяв Юзефа под руку, перешел на русский язык. — Ладно, все ясно! Пойдемте в кабинет. Можете говорить свободно, посторонних нет. Мы с Лизой одни.
Вслед за ними вошла в кабинет и Лиза, поставила на стол бутылку белого вина, бокалы, фрукты, а сама устроилась в кресле.
— Рассказывайте! Мы ведь заждались вас. — Василий наполнил бокалы.
— Многое должен я вам сказать — не знаю, с чего и начать. Прежде всего, «отец» поручил мне передать вам обоим большой привет, — начал гость. — Он так же, как и вы, считает, что членство в спортивном клубе еще больше упрочит ваше положение здесь, в Париже, и даст вам возможность встречаться с нужными людьми. Большое впечатление произвело на «отца» сообщение, что фирма имеет возможность наладить коммерческие отношения с заграницей. Он несколько раз повторил, что придает этому факту чрезвычайно важное значение, и просил сказать вам об этом. Если поездка ваша в Лондон совпадает с интересами фирмы, то поезжайте. Но вот в Берлине вам нужно побывать, по его мнению, обязательно, — побывать без всякого определенного задания. Просто подышать тамошним воздухом, поближе познакомиться с обстановкой. «Отец» считает, что фашистская опасность становится реальным фактом и вам пора перейти к активной работе. Он так и сказал: «Передайте товарищу Василию, что час настал!..» По мнению «отца», журналисту Сарьяну вполне можно доверять, — раскройтесь перед ним в пределах разумного и воспользуйтесь его помощью. В отношении Ганса Вебера совет такой: всецело полагаться на Сарьяна и, если тот
посоветует, можно привлечь и Вебера к антифашистской работе. В дальнейшем вам рекомендуется писать «отцу» пореже, — связь будет поддерживать специально выделенный курьер. Имейте в виду — курьер этот женщина, здоровая, краснощекая австриячка, старая революционерка, убежденная антифашистка. Запомните ее внешние данные и пароль. Зовут австриячку фрау Шульц, Анна Шульц. Она — крупная женщина лет пятидесяти, по профессии портниха. Глаза карие, волосы гладко причесаны, каштановые, с проседью. На груди, сверх белой блузки, она всегда носит большой медальон с эмалевым изображением божьей матери с младенцем. Пароль: «Вы, мадам, кажется, хотели сшить платье?» Ответ; «Да, если только не очень долго ждать». Повторить или запомнили?
— Не надо повторять!
— С фрау Шульц связь будет поддерживать главным образом Лиза. «Отец» считает это более естественным и тем самым более целесообразным. Фрау Шульц позвонит вам по домашнему телефону и условится о времени и месте встречи с Лизой. Рекомендуется встречаться с Шульц там, где она укажет, и ни в коем случае не у вас дома. Шульц не должна знать слишком много о мсье Кочеке. Ее знакомство с ним возможно только при особой необходимости. «Отец» просил также передать Лизе, что знает — безделье надоело ей, но ему скоро придет конец. Вот, пожалуй, все, что мне поручено передать вам.
— Когда вы собираетесь обратно? — спросил Василий.
— Задержусь здесь на несколько дней, я ведь студент Пражского университета, воспользовался рождественскими каникулами, чтобы посетить Францию. Не исключено, что за мной следят, поэтому мне не следует приезжать к вам еще раз. Если я понадоблюсь вам, то позвоните ко мне в гостиницу, — встретимся где-нибудь в музее. Так будет проще всего, — меня ведь интересует в Париже все, что достойно внимания.
— Предположение, что за вами следят, основано на каких-нибудь фактах? — поинтересовался Василий.
— Конкретных фактов нет. Но, в связи с определенными событиями, в отношениях между Чехословацкой республикой и Францией наблюдается некоторый холодок, и французские власти стали относиться к чехословакам с подозрением. В Праге французский консул, прежде чем выдать мне визу, вымотал всю душу…
— Скажите, товарищ, а из дома нам ничего не передавали? — спросила Лиза и тут же добавила: — Как приятно произнести слово «товарищ»!
— Нет, ничего не передавали. Но по приезде я могу узнать и сообщу через фрау Шульц.
— Пожалуйста, очень прошу! А то ведь мы с Василием сидим тут, как в ссылке. Ни писем из дома, никаких вестей…
— Ну что ж, давайте выпьем по бокалу вина за то, чтобы не было на свете фашизма и войн, — негромко сказал Василий.
— С большим удовольствием! И от души желаю вам успеха! — Гость чокнулся с Лизой, потом с Василием.
— Хорошо бы вам задержаться на несколько дней, — сказал Василий. — Дело в том, что на днях я должен встретиться с Сарьяном у него дома. Мне хотелось бы информировать «отца» о результатах моих переговоров с журналистом. Может быть, он сообщит мне кое-что новое. Сарьян ведь вхож в верха, он очень осведомленный человек.
— Хорошо, в течение трех дней я буду ждать вашего звонка до десяти утра и после восьми вечера. Запишите мой телефон. Можете говорить со мной по-чешски, я свободно владею этим языком.
— К сожалению, не могу сказать о себе то же самое. Впрочем, для начала у меня хватит запаса слов. Начнем по-чешски, потом невзначай перейдем на французский…
Гость попрощался и ушел.
— Мне понравился этот парень — молодой, собранный, толковый, — сказал Василий. — С таким можно работать.
— С тобой тоже можно работать! — пошутила Лиза.
— Думаю, что можно, — ответил Василий.
Сарьян не заставил себя долго ждать. Утром следующего дня он позвонил Василию в контору и спросил, не забыл ли тот о своем обещании побывать у него дома с женой.
— Нет, конечно! — отозвался Василий. — Вы же знаете, фирма наша солидная, мы всегда выполняем свои обещания.
— Ну и отлично! Я приду к вам после работы, возьмем такси, заедем за вашей женой и отправимся к нам. Без меня вы, чего доброго, заблудитесь. Я ведь живу на окраине Парижа, почти за городом.
— Зачем же такси? Мы можем поехать в моей машине. Или вы не доверяете мне вашу драгоценную жизнь?
— Рискну, тем более что так обойдется дешевле!..
День прошел в суете. Нужно было просмотреть почту, накопившуюся за праздничные дни, вызвать к себе главного художника, посоветоваться с ним по поводу заказов, выслушать директора-распорядителя, подписать чеки и другие банковские документы.
Ровно в пять часов в кабинет к Василию вошел Сарьян.
— Точность — вежливость королей! — сказал он, указывая на стенные часы.
Они заехали за Лизой. Она села рядом с журналистом, на заднем сиденье, и машина тронулась.
— Вас, вероятно, интересует, почему мы с Жаннет забрались так далеко? Очень просто — люблю копаться в земле! В Париже люди забыли даже запах земли. Единственная возможность отдохнуть душой — это наняться садовником и разделывать клумбы в общественных садах. Здесь же, на окраине, у меня небольшой садик с фруктовыми деревьями, кустами махровой сирени и жасмина. Я развожу цветы, даже огород у меня есть. Жаль, сейчас зима и вы не сможете полюбоваться моими цветами, в особенности розами. Их у меня шестьдесят кустов, и летом, когда раскрываются бутоны, кажется, что ты очутился на знаменитых розовых плантациях Болгарии. В детстве, когда я жил в Стамбуле, возле нашего дома был тенистый сад, и отец мой любил копаться в нем. Должно быть, я унаследовал его любовь к земле…
Залитый светом Париж остался позади, они выехали на скудно освещенную широкую улицу, вдоль которой по обеим сторонам виднелись двухэтажные коттеджи.
— Вот там, через три дома, с правой стороны остановитесь, — сказал Сарьян.
Дом журналиста был скромно, но со вкусом обставлен. В ожидании обеда расположились в просторной гостиной. Жаннет принесла аперитив.
— Вы живете вдвоем в таком большом доме? — спросила ее Лиза.
— Вдвоем. У нас нет даже постоянной прислуги, только приходящая, — сказала Жаннет. — Дом, правда, немного великоват для нас — семь комнат, четыре на первом этаже, три на втором, который всегда пустует. Но зато здесь у нас больше земли, — есть где развернуться Жюлю!..
Обед был скромный, зато в изобилии были представлены вина разных марок и сортов. После обеда Жаннет повела Лизу к себе, а мужчины пошли в кабинет хозяина — покурить, выпить кофе, побеседовать по душам.
— Расскажите погрязшему в делах человеку, что происходит на нашей многострадальной планете? Вы ведь все знаете! — начал Василий.
— Кое-что знаю… Увы! — далеко не все. К сожалению, порадовать вас нечем. — Сарьян встал, молча прошелся по комнате. Вернувшись на свое место, сказал: — Вчера, четвертого января тысяча девятьсот тридцать третьего года — прошу вас запомнить эту дату! — в Кельне, в доме банкира фон Шредера, состоялась встреча Гитлера с Папеном. По имеющимся в министерстве иностранных дел Франции сведениям, они договорились о двустороннем союзе: Папен — Гитлер. Результаты этого сговора не заставят себя долго ждать — он расчистит путь Гитлеру к власти. Поверьте мне, эта дата, четвертое января, явится началом грозных событий для Европы, а может быть, и для всего мира!
— Следовательно, вы считаете, что приход к власти национал-социалистов во главе с Гитлером предрешен?
— Да. И мне становится страшно, когда я думаю о последствиях.
— Страхом делу не поможешь! Разумнее было бы бороться против гитлеризма, бороться всеми доступными средствами. — Василий внимательно следил за выражением лица собеседника.
— Согласен, но как бороться — вот в чем вопрос. Я не министр, не генерал, у меня нет армии. Нет даже партии.
— Для начала мы заключим с вами союз для борьбы с фашизмом.
— Союз с вами?
— Не смотрите на меня так удивленно. Лучше давайте поговорим откровенно. Хотите?
— Хочу. Собственно, я давно жду такого разговора. Жду с того самого дня, когда после турнира в спортивном клубе вы отказались фотографироваться, боясь появиться на страницах газет… Тогда я понял, что для этого у вас есть свои особые причины.
— Прежде всего вы должны знать, что единственная моя цель — бороться против фашизма. Разумеется, мы с вами не в силах помешать Гитлеру и его молодчикам захватить власть в Германии. Но быть в курсе всех акций фашистов обязаны, чтобы помочь тем, кто в состоянии бороться с этим злом нашего века по-настоящему.
— Чем я могу быть вам полезным?
— Прежде всего согласием сотрудничать со мной, если вы действительно хотите бороться с фашизмом.
— Мне ли, человеку, испытавшему на своей собственной шкуре все ужасы шовинизма и фанатизма, не хотеть бороться с фашизмом!.. Я готов. Но в чем конкретно должно заключаться мое сотрудничество с вами?
— Вы окажете нам большую услугу, если согласитесь информировать меня о событиях в Германии и ставить в известность о намерениях правящих кругов Франции, связанных с германскими делами.
— Согласен, — журналист кивнул головой. — А еще?
— Разрешить, если, конечно, это вас не затруднит, пользоваться время от времени вашим домом.
— Зачем?
— Чтобы изредка встречаться здесь с нужными людьми, готовить почту для отправки определенным адресатам, иметь в исключительных случаях убежище для моих сотрудников на день или два, не больше. Повторяю, если это вас не затруднит…
— Пользуйтесь сколько вам угодно! Единственное, чего бы мне хотелось, — делать все это так, чтобы не вызвать подозрений ни у кого, даже у Жаннет, которая не только далека от политики, но и боится ее!
— Ваш дом стоит особняком. Я заметил, что сад отделяет его от любопытных взглядов соседей, в особенности летом. У вас нет даже постоянной прислуги. Наконец, у вас пустует целый этаж. Найти более идеальные условия для работы невозможно. Вы могли бы сдать мне в аренду верхний этаж. Я один или с женой — мы могли бы приезжать сюда на день, на два подышать свежим воздухом. Кстати, установление таких взаимоотношений между нами сняло бы с вас всякую ответственность. Мало ли чем могут заниматься жильцы?..
— План ваш мне нравится. Я охотно сдам вам в аренду часть дома. Жена скучает в одиночестве, к тому же она очень симпатизирует мадам Кочековой. Мой вам совет: не спешите, взвесьте все еще раз. Пусть и между женщинами укрепится взаимная дружба.
— Иметь с вами дело одно удовольствие! Спешить не будем. Еще один вопрос: скажите, стоит ли привлечь к делу Вебера?
— Вебер ненавидит фашизм. Я имел возможность убедиться в этом.
— А не может быть так, что он, прикрываясь антифашизмом, выполняет здесь задание определенных органов и старается войти в доверие к действительным антифашистам?
— Я не такой уж простак, каким, может быть, кажусь, — усмехнулся Сарьян. — Еще раз подтверждаю, что порядочность Ганса Вебера вне сомнений!
— Тогда давайте обсудим, как привлечь его к делу.
— Очень просто — встретимся с ним где-нибудь в ресторане или в кафе втроем и поговорим.
— Мне не хотелось бы, чтобы нас видели вместе. Я уверен, что за Вебером, как за иностранным дипломатом, установлена слежка и каждый его шаг, тем более встреча с иностранцем, берется на заметку.
— Об этом я, признаться, не подумал… В таком случае могу позвать его и вас к себе в гости! — предложил Сарьян.
— Так будет лучше. Если можно, следовало бы ускорить встречу.
— Ну, скажем, послезавтра, часам к восьми вечера.
— Очень хорошо!.. Теперь мы с чистой совестью можем возвратиться к дамам.
— Можем… Но прежде мне хотелось бы спросить вас: неужели вы не располагаете надежной информацией непосредственно из Германии?
— Лично я — нет. Но те, кому это положено, располагают такой информацией. Однако для верности любую информацию полагается проверять по двум-трем источникам.
В столовой уже был накрыт стол для чая, и Жаннет угостила их тортом собственного приготовления.
На обратном пути Василий, не отрывая глаз от дороги, спросил у Лизы, какое впечатление произвела на нее Жаннет.
— Она очень милая, простая, сердечная женщина. Но, к сожалению, далека от всяких общественных интересов.
— Ты понравилась ей?
— Думаю, что понравилась. Она просила меня чаще бывать у нее.
— Я рассказал Сарьяну о своих действительных целях, и он обещал сотрудничать с нами… В недалеком будущем мы арендуем верхний этаж его дома. Сама видела, идеальное место для конспиративной квартиры. Но на это потребуется согласие Жаннет. Ты уж постарайся завоевать ее симпатию…
Утром Лиза позвонила Юзефу в гостиницу, и они условились встретиться у собора Парижской богоматери, — ему не терпелось увидеть это чудо архитектуры.
Лиза сообщила ему во время осмотра собора, что Сарьян дал согласие сотрудничать, что Василий собирается арендовать второй этаж его дома, который пустует, и организовать там конспиративную явку. В случае надобности, в доме могут останавливаться на короткое время люди «отца». Встреча Василия с Вебером состоится в ближайшее время в доме того же журналиста. О результатах они сообщат.
— Василий просил еще передать вам, — сказала Лиза, — чтобы вы поспешили с отъездом. Передайте «отцу», что в Париже стало известно о состоявшемся свидании Гитлера с фон Папеном в Кельне четвертого января, в доме банкира Шредера, и сговоре между ними. В здешних осведомленных кругах считают, что приход Гитлера к власти предрешен — это только вопрос времени. И пусть ускорят приезд к нам курьера, — сейчас очень важно наладить регулярную связь с «отцом».
— Понятно…
— И последнее — не забудьте мою просьбу о весточке из дома… А теперь обойдем собор еще раз и попрощаемся!
Жубер вернулся из Италии в великолепном настроении.
— Возлагать большие надежды на рынок Италии, страны отсталой, довольно бедной, к тому же задавленной диктатурой дуче, едва ли следует. Но все же извлечь и оттуда кое-какую пользу для нас можно. В частности, я заключил договоры на рекламные заказы с двумя кинопрокатными фирмами и одной туристской конторой. — Жубер достал из портфеля три договора и вручил Василию. — Сами видите, заказы незначительные, но, может быть, это только начало и в будущем наши деловые связи с Италией расширятся. Ну, а что касается моей поездки, то она была великолепной, столько впечатлений! Мадлен в восторге от этой сказочной страны. Короче, я очень доволен, тем более что мои расходы с лихвой окупятся заключенными мною договорами!
— Скажите, Жубер, как чувствуют себя итальянцы под фашистской диктатурой? — спросил Василий, откладывая в сторону договоры.
— Я как-то этим не интересовался. Слышал о колониальных претензиях Италии к Африке, но в чем там дело — понятия не имею. В конечном итоге это нас не касается. Раз итальянцам хочется прибрать к рукам какие-то земли дикарей, — пусть, на здоровье. Сомалийцам или абиссинцам от этого хуже не будет, — цивилизованные народы, придя к ним, по крайней мере принесут с собой культуру и христианскую религию!
— Вы серьезно так думаете?
— Да… Впрочем, я плохо разбираюсь в такого рода вопросах! — поспешил сказать Жубер, почувствовав холодок в голосе компаньона.
— А если фашисты, во главе с Гитлером, захватят власть в Германии, в непосредственной близости от Франции, тогда как?
— Не понимаю ваш вопрос, мсье Кочек… Захватят так захватят, — нам от этого ни тепло ни холодно…
— Ах, мсье Жубер, мсье Жубер! Вы не представляете себе, какие последствия может иметь победа национал-социалистов для соседних с Германией стран… Впрочем, в одном вы правы: политика не наше дело! Пусть ею занимаются дипломаты… — Чтобы скрыть свое раздражение, Василий, сославшись на неотложные дела, вышел из конторы.
Он долго бесцельно бродил по улицам Парижа. Облака, закрывавшие небо с утра, поредели. Сквозь их разрывы время от времени показывалось солнце, и тогда черепичные крыши, омытые утренним дождем, ярко блестели. Он выбирал малолюдные улицы, чтобы никто не мешал ему думать о том, сколько грозных событий повидал этот город, сколько бурь бушевало над ним… Варфоломеевская ночь… Взятие Бастилии… Здесь, в этом городе, жили Робеспьер, Дантон, Марат. Здесь казнили короля и королеву… Камни мостовых Парижа сохранили память о благородной непримиримости, страстном желании справедливости, растоптанных «сверхчеловеком» того времени — Бонапартом… И — Парижская коммуна, героическая репетиция нашего Октября… В грозный час, когда в 1914—1915 годах землю Франции топтали сапоги кайзеровских солдат, сыны Франции взялись за оружие и с кличем «Родина в опасности» остановили завоевателей под стенами Вердена. Тогда они показали небывалую стойкость и героизм, покрыли свои боевые знамена неувядаемой славой… А сегодня потомок тех героев, Жубер, говорит: «Если фашисты захватят власть в Германии, мне от этого ни тепло ни холодно»… И разве Жубер одинок? К сожалению, таких, как Жубер, в современной Франции немало. Наивные люди, они не понимают, что Гитлер и его молодчики мечтают о реванше, о мщении за поражение в войне. Победа над врагом пробудила у французов радужные надежды. Простые люди Франции верили, что после войны, после стольких жертв восторжествует справедливость. Многие верили и в авторитет Лиги наций. В послевоенные годы наступило разочарование. Оно оказалось тем глубже, чем радужнее были надежды. Классовые противоречия обострились еще больше… Сумеют ли французы сегодня отстоять от фашистских орд свою прекрасную родину?..
Сарьян, точный как всегда, пригласил Василия к себе, предупредив, что у него будет Ганс Вебер. На этот раз Василий поехал к журналисту один, без Лизы.
Вебер держал себя просто, говорил сдержанно и ничуть не походил на того веселого, несколько даже легкомысленного человека, каким привыкли его видеть в спортивном клубе.
После ужина они втроем пошли в кабинет хозяина, и неожиданно Вебер сам перешел к делу:
— Жюль говорил мне о вас. Не удивляйтесь, мы с ним давнишние друзья, у нас нет секретов друг от друга. Я давно приглядываюсь к вам, но вы так искусно играете свою роль, что под конец я решил: этот Кочек один из тех современных молодых людей, для которых нет ничего святого на свете, кроме звонкой монеты. Я поверил, что вы пожаловали сюда, во Францию, с единственной целью — делать деньги.
— Мне лестно это слышать… Если столь опытный дипломат, как вы, пришел к такому заключению, значит, мне нечего опасаться агентов Сюртэ Женераль! — серьезно, без улыбки ответил Василий.
— Давайте, друзья, от комплиментов перейдем к обсуждению вопросов, ради которых мы сегодня собрались, — вмешался Сарьян. — Мы не на дипломатическом приеме!.. Мсье Кочек и я решили посвятить свои слабые силы борьбе с фашизмом, где бы он ни проявился. Мы приглашаем вас, Вебер, присоединиться к нам. Мы учли, что сегодня реальная опасность фашизма исходит от вашей родины, а вы, представляя здесь Германию, могли бы оказать неоценимую услугу, снабжая нас сведениями о событиях в Германии, с тем, чтобы наш друг Кочек мог передавать их в компетентные организации…
— В какие именно организации, нельзя ли узнать?
— Тут большого секрета нет, — сказал Василий, — речь идет об организации, видящей в фашизме смертельную опасность как для самой Германии, так и для всего человечества и поставившей перед собой задачу бороться против наступающего фашизма всеми доступными средствами… Мсье Вебер, вы знакомы с книгой Гитлера «Майн кампф»?
— Еще бы! И могу добавить, что более гнусной философии Германия не знала, — если, конечно, этот маниакальный бред можно назвать философией!..
— Вот и помогите нам, чтобы этот бред не стал страшной реальностью! — сказал Василий.
— Я готов. Только учтите, что я всего-навсего секретарь генерального консульства. Мы выдаем визы на въезд в Германию, регистрируем браки, рождение детей у подданных Германии, рассылаем повестки молодым людям, достигшим призывного возраста. Как видите, у нас не очень-то широкие полномочия. Конечно, я бываю в нашем посольстве, посещаю наш клуб, общаюсь с осведомленными дипломатическими работниками и иногда узнаю действительно важные и интересные новости. Я готов делиться с вами этими новостями, но, по-моему, такая информация, к тому же идущая через вторые, третьи руки, мало что даст. Нужно искать что-то совсем другое.
— Что именно вы имеете в виду?
Вебер молчал, затягиваясь табачным дымом.
— Есть один многообещающий источник, — сказал он, подумав. — Правда, он связан с некоторым риском. Если мы хотим действовать серьезно и не тратить свою энергию на пустяки, необходимо найти доступ к секретным сейфам германского посольства в Париже…
— Мысль правильная, но как ее осуществить? — нетерпеливо перебил Вебера экспансивный Сарьян.
— По-моему, есть одна лазейка… И если мы хорошенько пошевелим мозгами, то сумеем этой лазейкой воспользоваться… В нашем посольстве работает стенографистка Эльза Браун. Она — доверенное лицо посланника герра Роланда Кестнера и имеет доступ ко всем секретным делам. Эльза Браун, молодящаяся вдова, страдает двумя пороками — чрезмерной скупостью и столь же чрезмерной любовью к молодым кавалерам. Как истинная немка, она бережлива от природы, но ее бережливость доходит до какой-то мании. Вместо сливочного масла она покупает маргарин, пьет суррогат кофе, чтобы отложить несколько лишних франков. У нее панический страх перед необеспеченной старостью…
— И она сумела что-либо накопить? — спросил Василий.
— В том-то и дело, что нет! Экономя на мелочах, она все свои деньги тратит на молодых любовников. Над этим смеются все в посольстве…
— И вы предлагаете привлечь эту женщину к делу? — уточнил Василий.
— Да. И думаю, что это удастся. У Эльзы Браун нет никаких убеждений. Ее можно использовать двумя способами — либо подключить к ней молодого мужчину, который сумеет получать от нее нужные сведения, либо просто купить ее. Если есть у вас на примете подходящий молодой человек, давайте познакомим его с Браун. Если нет, — попытаемся предложить ей деньги. Разумеется, если вы располагаете средствами: деньги потребуются немалые!..
— Первый способ совершенно исключается, мы никогда не пойдем на такое. Что же касается денег… Я ведь совладелец доходной рекламной фирмы. Располагаю и собственными средствами. Я могу позволить себе потратить известную сумму для вознаграждения фрау Браун, в том случае, конечно, если ее сотрудничество с нами будет эффективным, — сказал Василий. — А как и с чего начать разговор с ней?
— Я уже подумал об этом. — Вебер закурил новую сигарету. — Здесь нужна женщина, причем умная, которая сумеет сблизиться с Эльзой. Сводит ее к модным портнихам, посоветует, каким пользоваться кремом, какую делать прическу и у какого парикмахера… Короче говоря, завоюет ее симпатию и войдет в доверие к ней.
— А где и как познакомить такую женщину с фрау Браун? — спросил Василий.
— Вот уж не знаю… Может быть, снова придется прибегнуть к помощи нашего друга Жюля, — Вебер улыбнулся журналисту.
— Всегда к вашим услугам! Но я не знаком ни с фрау Браун, ни с той очаровательной и находчивой женщиной, которую ей нужно будет представить! — Сарьян развел руками.
— Пусть мсье Кочек познакомит вас с той женщиной, а вы представите ее фрау Браун как свою приятельницу, — сказал Вебер. — Сделать это удобнее всего где-нибудь в ресторане. Вы пригласите меня поужинать с вами, а я приведу с собой Эльзу…
— Хорошо, как только мсье Кочек подыщет такую женщину и даст мне знать, я позвоню вам и мы договоримся о встрече! — подытожил Сарьян.
Вечером Василий рассказал о своем разговоре с Вебером Лизе и сказал, что ей и придется быть той женщиной, которая должна сблизиться с немкой и войти к ней в доверие. Заметив брезгливую гримасу на лице жены, Василий сказал:
— Так надо, Лиза!..
Назавтра Василий встретился с Сарьяном и сказал ему, что в роли будущей приятельницы Эльзы Браун выступит Лиза.
Журналист не удивился, как будто именно этого он и ждал.
— Необходимо, чтобы Браун ничего не знала обо мне, понимаете? Даже фамилию мою не слыхала, до тех пор, пока мы окончательно не уясним себе, что же в конечном итоге представляет собой эта немка.
— А зачем мне называть ваше имя? Мало ли какие прелестные приятельницы могут быть у меня, не так ли?
— Абсолютно так! У столь симпатичного мужчины могут быть приятельницами самые красивые женщины Парижа!..
— Вы все шутите, а между том у меня есть интересные новости для вас. Начинается раскол союза между Францией и малыми странами. Поляки начали первыми, поняв, что в случае прихода Гитлера к власти рассчитывать на помощь Франции не приходится. Они решили, пока не поздно, попытаться найти общий язык с немцами. Однако такая акция выглядела бы некрасиво, поэтому они готовы пойти на провокацию. В Париж заявился министр иностранных дел Польши господин Бек и потребовал от французского правительства оккупации части Рурской области, пообещав со своей стороны вторжение поляков в Германию пятью армейскими корпусами. Эту новость я узнал вчера, когда нас, группу журналистов, пригласили на улицу Кэ д'Орсэ для информации. Мы собрались у парадных дверей как раз в то время, когда господин Бек, разодетый, как опереточный тенор, поджидал свою машину, чтобы уехать. Журналисты, не зная еще ничего о предложениях министра иностранных дел Польши, поглядывали на господина Бека с явной насмешкой. Я спросил одного своего коллегу о мотивах такого не очень почтительного отношения к высокопоставленному гостю. И вот что он мне ответил: «Видите ли, господин Бек не новичок у нас в Париже, он бывал здесь еще молодым офицером в качестве военного атташе и вел довольно скандальный образ жизни, посещал игорные дома, чрезмерно увлекался женщинами, стал причиной двух нашумевших в то время историй». Но самое пикантное заключается в том, что сам тогдашний премьер-министр Польши, господин Сикорский, уведомил французское правительство через секретные каналы, чтобы не особенно доверяли военному атташе Беку… То ли получив такие сведения, то ли желая избавиться от скандального офицерика с дипломатическим паспортом в кармане, агенты Сюртэ Женераль без особого труда спровоцировали Бека, подсунув ему фальшивку под видом секретного документа, касающегося Италии. А еще через некоторое время «подыскали» и покупателя на этот документ в лице мнимого агента итальянской разведки. Бек попал в эту ловушку, как слепой щенок, — его накрыли в тот момент, когда он, продав документ, собирался получить за него большие деньги. Овладев таким образом неопровержимыми доказательствами неблаговидной деятельности господина Бека, несовместимой с дипломатической работой, его объявили персоной нон грата и выставили из Франции… Теперь, сидя в кресле министра иностранных дел Польши, господин Бек, видимо, решил отомстить французам за свой позор в прошлом!..
— По-моему, — сказал Василий, — демарш поляков свидетельствует, что союзники Франции, разочаровавшись в двойственной и предательской политике старшего партнера, постепенно отходят от него.
— Да, похоже на это… По-видимому, очередь за другими союзниками Франции. Интересно, как поведут себя в ближайшее время Румыния, Чехословакия и Югославия.
— Нужно полагать, Что и эти страны перед лицом смертельной опасности, не надеясь больше на Францию, будут искать пути для спасения!
— Вы, кажется, недалеки от истины. Этого опасаются и на улице Кэ д'Орсэ. К сожалению, разговорами ничего изменить нельзя, в особенности сейчас, перед лицом грозных событий… Итак, прошу вас передать мадам Марианне, что я имею честь пригласить ее на ужин в компании немецкого дипломата господина Ганса Вебера и его соотечественницы фрау Эльзы Браун.
— Непременно передам!..
В тот же день, вечером, стало известно о падении кабинета Поля Покура. Премьер-министром Франции стал Эдуард Даладье. Поль Покур согласился принять портфель министра иностранных дел в его кабинете.
7
Эльза Браун, в японском халатике, сидела у туалетного столика и тщательно наводила красоту на свое — увы! — уже поблекшее лицо. Разглядывая в зеркало свои округлые плечи, пышную грудь, она думала о том, что не потеряла былой привлекательности, иначе не стал бы приглашать ее на ужин такой серьезный человек, как Вебер из консульства. Вся немецкая колония в Париже считает этого худощавого, подтянутого холостяка сухарем. По правде говоря, он действительно малоразговорчив и ведет себя слишком надменно. По что из этого, зато сослуживцы Вебера отзываются о нем как о человеке умном, начитанном. Впрочем, эти его качества Эльзу Браун мало интересуют. Важно другое: Ганс стройный, крепкий мужчина и, говорят, отличный спортсмен.
Насколько ей известно, Вебер до сих пор не ухаживал ни за одной женщиной из немецкой колонии. Бот был бы фурор, если бы она появилась на вечере в клубе с Вебером! Сколько женщин позавидовали бы ей! Многие злословят по ее адресу, выдумывают всякие небылицы. Что греха таить, она питает слабость к мужчинам, в особенности к молодым!.. А разве все эти прикидывающиеся скромницами матроны не согрешили бы, если бы имели возможность? Дай им только волю!.. Взять хотя бы жену советника, фрау Эльман, — казалось бы, уж развалина, за шестьдесят, а соблазнила товарища сына, совсем мальчишку. Об этом знают все, но молчат. Как же, разве можно осуждать жену советника? А стоит ей, Эльзе Браун, встретиться изредка с молодым человеком, как об этом тотчас заговорит вся колония, — за нее ведь некому вступиться и заткнуть рот сплетникам. Если у нее будет постоянный поклонник, да еще такой, как Вебер, положение ее изменится.
Признаться, приглашение Вебера поужинать в обществе одной приятной французской супружеской пары было как снег на голову, — до этого он не обращал на нее никакого внимания, поклонится и пройдет мимо, будто она неодушевленный предмет, а не женщина. И вдруг это приглашение!.. А почему бы и нет? Что она, менее интересна, чем какая-нибудь зеленая девчонка-несмышленыш?..
Эльза Браун еще раз посмотрела на себя в зеркало, Морщинки, второй подбородок… Как она следит за собой, какую соблюдает диету! Давно забыла вкус пирожных, совсем не ест хлеба, живет на одних овощах! Годы, тут уж ничего не поделаешь… И седеть начала, но это не беда, — французы великие мастера!..
Надушившись и напудрив лицо, она долго выбирала платье. К ее великому огорчению, материальные возможности не позволяли ей одеваться у дорогих портних. Вкуса у нее хоть отбавляй, но нужны еще деньги, и большие. Наконец она остановилась на синем крепдешиновом платье, надела на шею две нитки крупного искусственного жемчуга, приготовила лакированные туфли-лодочки, но не надела их, чтобы раньше времени не болели ноги.
Звонок в дверь. Она быстро надела туфли и пошла открывать.
— О-о, фрау Браун! Как вам идет этот жемчуг! — сказал Вебер, целуя пухлую ручку стенографистки.
— Неужели? По-моему, вы просто решили сказать мне приятное!
— Если вы готовы, мы можем ехать. — Веберу хотелось сократить этот разговор.
— Может быть, выпьем бокал вина или чашечку кофе?
— С большим бы удовольствием, но ведь нас ждут!..
Вебер помог ей надеть шубку, и они спустились на улицу, где их ждало такси.
Эльза Браун впервые была в китайском ресторане и с интересом рассматривала стены, обтянутые шелком с причудливыми рисунками, фонарики, бросающие мягкий свет в зал. По обеим сторонам зала шли небольшие кабины, похожие на шатры. Приглушенно звучала странная музыка.
Не успели Вебер и Эльза войти в ресторан, как перед ними вырос словно из-под земли китаец в зеленом халате, с длинной косой и почтительно осведомился — не господин ли Вебер осчастливил его своим присутствием? Получив утвердительный ответ, китаец низко поклонился и сказал:
— Вас и вашу даму ждут в шестой кабине!..
При виде гостей Сарьян вскочил с места, поцеловал руку Эльзы и представил ей и Веберу свою спутницу:
— Мадам Марианна!.. Садитесь, прошу вас, и чувствуйте себя как дома! На каком языке вы предпочитаете говорить? — спросил он вдруг.
— Думаю, лучше по-немецки, — ответил Вебер. — Не так ли, фрау Эльза?
— Да, пожалуй, лучше по-немецки, а то с моим произношением… Больше трех лет живу во Франции и никак не научусь правильно произносить французские слова, — немка говорила с таким смешным акцентом, что Лиза о трудом сдерживала улыбку.
На звонок Сарьяна вмиг появился слуга-китаец. С его помощью журналист заказал какие-то странные блюда, о которых Эльза и понятия не имела, и сказал:
— В одном только мы сделаем отступление от китайского меню: дайте нам русскую водку и французское шампанское! А о десерте мы еще подумаем!
Ледяная водка, которую пили из крошечных, как наперсток, рюмок, — от нее не отказались и дамы — способствовала быстрому сближению новых знакомых. Когда было покончено с закусками и подали утку по-китайски, женщины беседовали так, словно давно знали друг друга.
— На вас очаровательное платье, и очень вам к лицу!.. Скажите, у кого вы шьете? — спросила Эльза.
Лиза назвала известную в Париже портниху.
— И дорого она берет?
— Как вам сказать, для Парижа не так-то уж дорого… За платье — четыреста франков, за костюм — шестьсот.
— О нет! — Эльза сокрушенно покачала головой. — Женщине, живущей на жалованье, это не по карману.
— Разве вы служите? — спросила Лиза с таким видом, будто раньше ничего не слышала о фрау Браун.
— Да, я работаю. — Эльза не уточнила, где именно, и Лиза поняла, что ее собеседница не такая уж наивная дамочка, какой кажется с первого взгляда.
— Ах, я так мечтаю скорее окончить Сорбонну и начать работать! — сказала Лиза. — Хочется быть самостоятельной… Ведь ваша работа, фрау Эльза, вполне обеспечивает вас?
— Я получаю, милая Марианна, семьсот франков в месяц плюс наградные два раза в год — на рождество и на пасху. Деньги не малые, — на них я могла бы жить у себя на родине припеваючи. Но только не здесь!..
— Да, конечно, это не очень большие деньги для Парижа. Впрочем, нужно уметь жить… Здесь есть портнихи, которые отлично шьют и берут недорого, — просто они недостаточно разрекламированы. Иногда и я шью у таких. Это обходится почти вдвое дешевле.
— Да, по нужно знать таких портних!
— Я с удовольствием сведу вас к одной из них, если пожелаете!
— Буду вам бесконечно благодарна, милая Марианна!
Мужчины, делая вид, что заняты едой, следили за разговором женщин, отмечая про себя ловкость, с какой Лиза направляла беседу.
— Еще бокал шампанского? — предложил Сарьян Эльзе Браун.
— Я и так совсем пьяна! — кокетливо улыбнулась та.
— Ну, что вы, дорогая фрау! Шампанское — дамский напиток! Вот мы с моим другом Вебером пьем русскую водку, и то ничего! — Он наполнил бокалы дам.
Они выпили по нескольку глотков, и фрау Браун вернулась к прерванному разговору:
— Вы правы, здесь все так дорого… За флакон хороших духов платишь сто и даже двести франков, за коробку пудры — тридцать-пятьдесят франков. Конечно, все это предметы роскоши, согласна, но помилуйте, какая женщина в наш век может обойтись без духов, пудры, крема, губной помады?
— Недаром французы придумали поговорку — чтобы быть красивой, нужно страдать!..
— Вы прекрасно говорите по-немецки! По выговору вас не отличишь от уроженки Берлина…
— Я училась в немецкой школе, — коротко ответила Лиза.
Разговор перешел на обсуждение достоинств китайской кухни. Отдавая ей должное, Вебер утверждал, что все-таки лучшей кухни, чем французская, нет нигде. Сарьян не соглашался, доказывая, что на Востоке, в особенности в Стамбуле, готовят отличные блюда, не хуже, чем французы. Фрау Браун тут же поинтересовалась: разве мсье Сарьян бывал в Стамбуле? Получив утвердительный отпет, она во что бы то ни стало захотела узнать — действительно ли так необыкновенны турецкие бани?
— Стамбул знаменит не только великолепными банями! — Немка раздражала журналиста, но он взял себя в руки. — Там сохранился огромный крытый базар, со множеством лабиринтов, построенный еще во времена султана Фатиха, завоевателя Константинополя. На берегу Босфора до сих пор стоят крепостные башни, воздвигнутые византийцами для обороны столицы империи; изумительные по своей красоте храмы, мечети с высокими минаретами, облицованные цветной керамикой, сверкающие на солнце всеми цветами радуги. Наконец, роскошные дворцы, соединяющие в себе мавританскую архитектуру с европейской.
— О, как это интересно! Скажите, мсье Сарьян, это правда, что у турецких султанов были гаремы, где содержалось по двенадцати жен?
— У предпоследнего султана, Абдул-Хамида, было не двенадцать, а тринадцать жен, согласно законам шариата, — ответил журналист. — И шестьдесят наложниц…
— Какой ужас! — воскликнула фрау Браун.
— Ничего ужасного! Жены и наложницы султана жили в небывалой роскоши. Я уверен, что многие современные женщины согласились бы быть на их месте, — вставил молчавший до сих пор Вебер.
— Ну нет, вы не правы! Жить в клетке, хотя и золотой, вряд ли кому захочется, — возразила Лиза.
— Не скажите, не скажите, — пьяно лепетала Эльза Браун, — жить праздно… ходить в шелковых шальварах… купаться в прозрачных водах мраморных бассейнов… есть восточные сладости… слушать музыку…
— По-моему, ваш спор, милые дамы, беспредметен: во Франции гаремы отсутствуют, и у вас нет возможности проверить, хорошо или плохо живется в золотой клетке! — смеясь сказал Сарьян.
Выходя из ресторана, мужчины умышленно отстали от дам, чтобы дать им договориться о новой встрече. Фрау Браун, не теряя времени, обратилась к Лизе:
— Марианна, милочка, вы обещали свести меня с хорошей и недорогой портнихой. Может быть, вы дадите мне номер вашего телефона и я позвоню в удобное для вас время?
— Я поздно возвращаюсь домой, меня трудно застать. — Лиза не стала спрашивать у немки номер ее телефона, чтобы не вызвать никаких подозрений. — Лучше встретимся на днях где-нибудь в кафе, когда вы освободитесь от службы. Кстати, я узнаю, когда моя портниха сможет нас принять.
— Я буду очень рада, если это удобно для вас…
— Вы хорошо знаете площадь Этуаль? Там, против станции метрополитена, есть маленькое кафе. Если не возражаете, мы могли бы встретиться в нем. Ну, скажем, завтра вечером…
— Лучше послезавтра!
— Хорошо. Я буду ждать вас там послезавтра в семь часов.
В такси, по дороге домой, Эльза говорила Веберу:
— Вы знаете, эта француженка составляет счастливое исключение среди своих соотечественниц, — во-первых, она не кривляка, и потом она в совершенстве владеет немецким языком!
— Она вам понравилась?
— Очень! Мы условились встретиться с нею послезавтра на площади Этуаль. Она хочет отвести меня к своей портнихе… Как вы думаете, в том, что я буду общаться с местной жительницей, нет ничего предосудительного?
— Как вам сказать? — Вебер пожал плечами. — Думаю, что нет… Вы же слышали, что на собраниях сотрудников советник Эльман не раз говорил, что не следует чураться местных жителей. Он даже рекомендовал чаще общаться с ними, чтобы французы не думали о нас как о нации надменной и нелюдимой.
— Мне нужно поставить об этом в известность секретаря канцелярии посольства…
— Зачем? Впрочем, как вам угодно, — если хотите подвергнуться лишним допросам… — Вебер понимал, что так отвечать ему, хорошо знающему порядки в немецком посольстве, не совсем удобно, но выхода другого не было.
По сигналу Вебера такси остановилось у парадного фрау Браун. Не отпуская руки Вебера, глядя ему в глаза, она спросила:
— Разве вы… не подниметесь ко мне?
— Благодарю вас, сейчас — нет… Уже поздно, — ответил Вебер, склоняясь к ее руке.
— Разве уже так поздно? — В голосе Эльзы Браун слышалась обида…
Пока консьержка открывала дверь, такси тронулось с места и исчезло за углом. Эльза вдруг почувствовала страшную усталость. Медленно, с большим трудом поднялась она на четвертый этаж, вошла в свою квартиру, зажгла свет. В двух ее крошечных комнатах царил беспорядок: на стульях, на кровати, даже на буфете валялись вещи — платья, чулки, белье. Фрау Браун по натуре была женщиной аккуратной, но сегодня в спешке она не успела прибрать в квартире.
«Хорошо, что Вебер не поднялся! Что он подумал бы обо мне при виде такого беспорядка?» Но она никак не могла понять поведение секретаря консульства: пригласить на ужин, потратиться и — отказаться зайти к ней? Такой поступок не укладывался у нее в голове…
Перед тем как лечь, она окончательно решила, что ничего не скажет начальнику канцелярии о предстоящей встрече с француженкой. «Вебер прав, не стоит поднимать шум из-за такого пустяка! А то пойдут вопросы: кто, почему, зачем?..»
Лиза вернулась домой взволнованная.
— Василий, я, кажется, допустила оплошность, — сказала она.
— Успокойся! И скажи толком, что случилось?
— Со мной ничего. И вообще вначале все гало хорошо. Фрау Браун — заурядная мещанка, думающая только о тряпках. Я, кажется, понравилась ей… Но потом, чтобы иметь повод для новой встречи, черт дернул меня сболтнуть, что я могу свести ее к хорошей портнихе, которая берет недорого. Браун ухватилась за это, и мы условились встретиться с нею послезавтра в маленьком кафе на площади Этуаль — там мы были с тобой, помнишь? А где я найду такую портниху?!
— Ну, знаешь, уж лучше спроси меня что-нибудь из астрономии!..
— Ты все смеешься, а я, бестолковая, испортила дело! Хорошо еще, сообразила не дать ей номер своего телефона… Можно предупредить Сарьяна, — он придумает подходящий предлог и объяснит мое внезапное исчезновение.
— Не горячись и не принимай необдуманных решений. Нам ни в коем случае нельзя упустить стенографистку. Где еще мы найдем такой источник информации?
— Но не могу же я явиться к мадам Жаклин, у которой шью, и сказать — сшейте, пожалуйста, даме по фамилии Браун платье и возьмите с нее половину или даже, может быть, четверть стоимости, — разницу оплачу я сама!
— Нет, так не скажешь… Первую часть задания ты выполнила отлично и не казни себя зря: самое главное, что ты познакомилась с этой Браун… Вот что, пошли, Лиза, спать. Как любит говорить моя сестра Ефросинья: утро вечера мудренее!
— До чего же у тебя легкий характер!
Рано утром раздался телефонный звонок. На ломаном французском языке какая-то незнакомая женщина спрашивала Марианну Кочекову.
— Это тебя! — Василий передал жене трубку.
Лиза взяла трубку и вдруг
просияла. Прикрыв телефонную трубку ладонью, сказала шепотом:
— Приехала фрау Шульц! Говорит: вы, мадам, кажется, хотели сшить платье? — И ответила: — Да, если только не очень долго ждать.
Условившись с приезжей о месте и времени встречи, Лиза положила трубку и глубоко вздохнула, словно выполнила тяжелую работу.
— Вот видишь, я же говорил тебе, что утро вечера мудренее! — сказал Василий.
— Конечно, приятно, что наконец приехал к нам постоянный курьер. Но что толку, разве это поможет сшить платье фрау Браун?
— Может быть, и поможет, ведь фрау Шульц портниха. Не исключено, что у нее есть в Париже знакомые. Ты поговори с нею, — что она тебе посоветует?
Лиза поспешила на свидание с фрау Шульц. Лекции в Сорбонне пришлось пропустить.
Они встретились у выхода с Северного вокзала. Лиза еще издали узнала фрау Шульц по описанию Юзефа. Фрау Шульц была крупная, краснощекая, полная женщина лет пятидесяти в хорошо сшитом пальто с маленьким меховым воротником и старомодной круглой шляпке, какие носили солидные дамы еще накануне мировой войны. В руке она держала большую плетеную корзину, наподобие тех, в которых парижские белошвейки носят белье заказчицам. Фрау Шульц тоже сразу заметила Лизу и пошла ей навстречу. Она еще раз произнесла пароль и, получив правильный ответ, улыбнулась и протянула Лизе руку.
— Здравствуйте, госпожа Марианна! Рада вас видеть в добром здоровье, — сказала фрау Шульц и, понизив голос, добавила: — Нам нужно поговорить, и лучше всего это сделать в кафе. Кстати, я и позавтракаю.
— Вы уже устроились? — поинтересовалась Лиза.
— В каком смысле? — не поняла приезжая.
— Я имею в виду гостиницу. Где же ваши вещи?
— Они здесь, — фрау Шульц показала на корзину. — Много ли вещей нужно мне, пожилой женщине? Ночная сорочка, две смены белья, две кофточки, полотенце, мыло, зубная щетка… Что же касается гостиницы, то в Париже у меня много хороших знакомых и подруг юности, с которыми мы вместе учились ремеслу. Они с удовольствием приютят меня на несколько дней.
Разговаривая так, они дошли до кафе, где заказали легкий завтрак для фрау Шульц и чашечку кофе с пирожным для Лизы.
— Прежде всего, хочу сообщить, что дома у вас все в полном порядке и вам беспокоиться не о чем. Родные шлют вам привет, и если вы пожелаете написать им, то я могу захватить ваши письма с собой и отправить их.
— Большое спасибо, фрау Шульц! Мы обязательно напишем, но, говоря откровенно, нам так хотелось получить письмо от них!..
— Когда будут письма из дома, я доставлю их вам! У меня масса поручений, — продолжала фрау Шульц. — Я оставлю под салфеткой письмо «отца», а вы незаметно возьмите его и спрячьте… Там обо всем написано. «Отец» просил и устно передать, чтобы господин Кочек непременно съездил в Берлин и, если представится возможность, завязал там деловые отношения, чтобы можно было и впредь наезжать туда по мере надобности. Поездку в Германию не следует откладывать. «Отец» считает правильным, что вы собираетесь нанять полдома за городом. Когда у вас будет готов ответ на письмо «отца», дайте мне знать. Особенно не спешите, я пробуду здесь несколько дней, у меня есть еще кое-какие дела. Если до моего отъезда я вам понадоблюсь, я всегда к вашим услугам. У вас есть вопросы ко мне?
— Есть большая просьба.
— Я вас слушаю!
В этот ранний утренний час кафе было пусто, они разговаривали по-немецки и так тихо, что никто не мог бы их подслушать.
Лиза рассказала о знакомстве с Эльзой Браун и о том, что ей трудно выполнить свое обещание — найти дешевую и хорошую портниху.
— Ну, в этом я смогу вам помочь! — сказала фрау Шульц. — Я собираюсь остановиться у своей близкой приятельницы, владелицы небольшого ателье. Я договорюсь с нею обо всем, а вы вечерком позвоните мне. Если все будет в порядке, то завтра же вы сможете привести туда свою немку. До моего отъезда мы сумеем сшить ей отличное платье за мизерную плату!
— Вы даже не можете себе представить, фрау Шульц, какую тяжесть вы сняли с моей души! — Лиза записала номер телефона и адрес ателье, где остановится фрау Шульц, и они расстались.
В письме «отца» повторялось почти все то, что передала фрау Шульц Лизе. Он настоятельно просил, чтобы Василий как можно скорее побывал в Берлине, «чтобы своими глазами увидеть все и познакомиться с тамошними заказчиками».
Написав ответ «отцу», Василий стал готовиться к поездке в Берлин, но до этого нужно было завершить дело с фрау Браун: мало ли какие неожиданные обстоятельства могут возникнуть, — оставить теперь Лизу одну в Париже было бы неразумно.
Встретившись с фрау Эльзой в маленьком кафе на площади Этуаль, угостив ее пирожными и кофе, Лиза повезла ее к «знакомой» портнихе на улицу Гобелен. В ателье, по рекомендации постоянной заказчицы, мадам Марианны, фрау Браун встретили как своего человека, показали новейшие журналы мод, посоветовали, какой выбрать фасон для вечернего платья. Фрау Браун прельстило платье с большим вырезом на спине и груди. Она спросила Лизу по-немецки; сколько будет стоить работа? Лиза пошла к фрау Шульц.
— Скажите ей — сто пятьдесят франков, — посоветовала та.
— Не слишком ли мало?
— Ничего, сойдет… Здесь берут за такую работу не менее четырехсот франков, и то смотря по заказчице.
Вернувшись, Лиза сообщила своей новой приятельнице, что за работу с нее возьмут всего сто пятьдесят франков.
— Я же вам говорила, что здесь цены умеренные!..
Эльза Браун не знала, как благодарить Лизу.
Теперь они встречались, как близкие подруги. Эльза Браун сетовала на то, что ей приходится отнимать столько времени у милой Марианны по своим пустяковым делам. На что Лиза отвечала, что фрау Браун пришлась ей по душе и она будет счастлива, если та получит элегантное вечернее платье. Больше того, Лиза подарила фрау Браун крем для лица и коробку пудры.
— Нет, нет, я не могу принять от вас подарки! — сопротивлялась фрау Браун. — Сколько это стоит?
— Это такие пустяки, дорогая фрау! Неужели между друзьями могут быть какие-то счеты?
Соблазн был слишком велик, и фрау Браун, сияя от удовольствия, спрятала подарки в сумочку.
Платье удалось. Фрау Браун была в восторге: такое шикарное и так дешево! В знак благодарности она приносила Лизу к себе на чашку кофе, чего никогда не делала раньше.
Лиза, конечно, приняла приглашение и пришла к своей новой подруге, захватив с собой флакон хороших духов для нее.
Фрау Браун приготовила кофе, поставила на стол печенье, конфеты.
— Прошу вас, Марианна, — чудное печенье, я его очень люблю. И конфеты отличные — с марципаном. Французы умеют готовить вкусные вещи — не то что у нас, в Германии! — говорила она. — До знакомства с вами я была совсем другого мнения о француженках, считала их слишком легкомысленными, пустыми… Впрочем, я мало с кем из парижанок была знакома. Для нас, работников посольства, не так-то просто познакомиться с местными жителями. С одной стороны, нам рекомендуется общаться с ними, завязывать дружеские отношения. С другой — обязывают информировать начальство о каждом таком знакомстве. Не очень-то приятно подвергаться форменному допросу со стороны начальника канцелярии по поводу каждого знакомства, не правда ли? В особенности для нас, женщин…
— Я но поняла, какие допросы вы имеете в виду? — спросила Лиза.
— Ну, как же!.. Достаточно сообщить начальнику канцелярии о своем новом знакомстве, как тут же посыпятся вопросы: кто он или она? Чем занимается, каких придерживается убеждений, в какой партии состоит, где живет?.. Один раз я по наивности сообщила об одном знакомом, так сама была не рада, — меня замучили вопросами!.. Интересовались всем, даже интимной стороной его жизни — выпивает ли, бывает ли у женщин…
— Значит, вы сообщаете начальству не о всех своих знакомых?
— Нет, конечно, — зачем? Мало ли какие знакомые могут быть у одинокой женщины!.. Потом, я ведь политикой не занимаюсь… Еще чашечку кофе?
— Спасибо, больше не хочу, — Лиза отодвинула от себя чашку.
Итак, фрау Браун, доверенное лицо немецкого посла, допущенная к его секретной переписке, призналась, что скрывает от начальства некоторые свои знакомства… Это уже кое-что! Лиза соображала: стоит ли воспользоваться этим признанием и не откладывая перейти к прямому разговору или повременить? Поразмыслив, она решила, что начинать откровенный разговор здесь, на квартире у фрау Браун, не следует.
— Вы получаете дорогие подарки от своих поклонников, — говорила между тем фрау Браун, — и это вполне естественно: вы молоды, красивы… Я вовсе не жалуюсь на отсутствие поклонников, — нет, их у меня больше чем достаточно!.. Но бог мой, что это за поклонники? Придут, поедят, попьют и, извините за грубость, поспят и исчезнут…
— Зато вы независимы, имеете работу, зарабатываете на жизнь, — сказала Лиза.
— Ах, милая Марианна, я уже говорила вам, что здесь, в Париже, на мой заработок даже кружевную ночную рубашку не купишь!
— У вас отличная специальность — стенографистка-машинистка!.. Разве при желании вы не можете подрабатывать?
— Хотела бы, но как? Французский я знаю поверхностно, а кому во Франции нужен мой немецкий?
— Не может быть, чтобы в таком большом городе но было бы нужды в немецкой стенографистке. Многие французские фирмы имеют деловые связи с Германией и ведут переписку на немецком языке.
— Да, но у таких фирм имеются постоянные сотрудники, ведущие переписку на иностранных языках, — возразила фрау Браун.
— Так почему бы вам не стать одной из таких сотрудниц?
— Я бы с удовольствием, но для этого нужны знакомства, солидные рекомендации…
— Не исключена возможность, что я сумею вам помочь через своего брата, — у него большие связи в деловом мире. Хотите, я поговорю с ним?
— Буду вам очень признательна. Не так уж далеко время, когда меня уволят и назначат небольшую пенсию за долголетнюю безупречную работу… Попробуй проживи на сто марок в месяц, если у тебя нет других источников дохода, кроме пенсии. Стоит вспомнить, что меня ждет необеспеченная старость, как кровь стынет в жилах!..
— Скажите мне откровенно: если мой брат найдет для вас хорошо оплачиваемую работу, вы поставите об этом в известность ваших руководителей? Сами понимаете, ни одно солидное торговое предприятие не захочет, чтобы о его делах знали посторонние, да еще в иностранном посольстве!..
— Понимаю!.. Нет, я не стала бы говорить об этом кому бы то ни было!.. Наше посольство, узнав, что я подрабатываю или собираюсь подрабатывать на стороне, немедленно отошлет меня на родину. Вы не знаете, какие у нас строгие порядки на этот счет.
— Хорошо, я поговорю с братом. Уверена, что он придумает что-нибудь! — И Лиза начала прощаться.
28 января 1933 года парижские газеты, с ссылкой на телеграфное агентство Гавас, поместили на своих страницах заметки, набранные мелким шрифтом, в которых сообщалось, что переговоры, ведущиеся между немецкими политическими партиями национал-социалистов (партия Гитлера) и националистов, завершились полным соглашением.
29 января газеты уже под крупными заголовками сообщили о том, что канцлер Германии, Шлейхер, подал в Отставку и что его отставка якобы принята президентом.
31 января французские газеты всех политических направлений поместили на своих страницах сообщение о том, что 30 января президент Германии Гинденбург подписал декрет, возлагающий на господина Адольфа Гитлера обязанности канцлера Германии — «во имя защиты народа и государства». Газеты были полны многочисленными комментариями к этому сообщению. Некоторые корреспонденты утверждали, что декрет был составлен самим Гитлером, но это уже никого не интересовало.
Так или иначе главарь немецких фашистов Адольф Гитлер захватил власть.
В полночь Василию позвонил Сарьян и рассказал о событиях в Германии. Василий не спал до утра и теперь ехал к себе в контору усталый и озабоченный. Он понимал, что Рубикон перейден, — отныне политические события в мире, в первую очередь в Европе, примут совсем иное направление, чем до сих пор.
Василий старался разглядеть сквозь стекла автомобиля лица прохожих, прочитать на них, какое впечатление произвело на французов это зловещее сообщение. Люди, как всегда, спешили по своим житейским делам, будто бы приход к власти Гитлера ничего не менял в мировом правопорядке и вообще вся эта возня по ту сторону Рейна Франции не касалась…
Не успел Василий сесть за свой письменный стол, как Жубер, весело посвистывая, вошел в контору.
— Здравствуйте, дорогой Кочек! Что вы такой хмурый? Не выспались?
Василий поднял голову и внимательно посмотрел на своего компаньона.
— Скажите, Жубер, вы читали сегодня утренние газеты?
— Читал! Что вы нашли там особенного?
— Вы не обратили внимания на сообщение агентства Гавас о том, что в Германии к власти пришли фашисты во главе с Гитлером?
— Ах, это!.. Читал, конечно. Нам-то какая разница, какой бош правит Германией — Шлейхер или Гитлер?
— Вы шутите?
— Я говорю вполне серьезно. Меня мало тронет, даже если туда вернется кайзер Вильгельм Второй…
— Блаженный вы человек, Жубер! — вырвалось у Василия, и, чтобы как-то сгладить свою резкость, он добавил: — Такие простые вещи, как разница между фашистами и порядочными людьми, должны быть понятны каждому!..
— Согласен, фашисты в большинстве своем подонки, неудачники. Я знаю одного молодчика из организации полковника де ла Рокка «Белые кресты», даже нахожусь с ним в дальнем родстве. Его выгнали из университета за неуспеваемость, и он обиделся на весь мир. Считая себя сверхчеловеком, которому все дозволено, он украл у родителей крупную сумму денег, фамильные драгоценности и скрылся из дома…
Часом позже Василий разговаривал с художниками Борро и Домиником. Молодые люди были чем-то явно удручены, и на вопрос: что с ними? — Борро ответил:
— Разве вы не знаете, мсье Кочек? В Берлине власть захватил глава фашистов Гитлер. Не иначе как французам опять проливать свою кровь!..
— Уж так сразу и кровь!..
— Мсье Кочек, мой отец погиб под Верденом. Это было всего каких-нибудь семнадцать лет тому назад. А сегодня наследники пруссаков, убивших моего отца, снова бряцают оружием. Я уверен, что немцы, имея такого главаря, как Гитлер, захотят свести прежде всего с нами старые счеты за поражение в прошлой войне… Знаете, какой плакат нарисовал вчера Доминик?
— Нет, конечно! Откуда мне знать, какие плакаты рисует наш юный друг?
— Плакат, перекликающийся с временами Великой французской революции. Под рисунком надпись: «К оружию, граждане! Отечество в опасности»…
— Сделать-то сделал, а вот кто напечатает мой плакат, — не знаю, — сказал Доминик.
— В Париже есть одна-единственная газета, которая согласилась бы напечатать этот плакат, — «Юманите», — сказал Борро. — Но тогда ты, дорогой друг, попрощайся с надеждой когда-нибудь прославиться. Художника, выступающего на страницах газеты «бешеных», — ведь надо же, коммунистов сегодня зовут так же, как когда-то звали якобинцев, — такого художника «порядочное общество» не пустит даже на порог и картины его никогда, во веки веков, не будут выставлены ни в одном выставочном зале!..
— Ну и пусть!.. Я отнесу плакат в «Юманите». Если они согласятся напечатать, я готов отдать его безвозмездно!
— Браво, Доминик! Узнаю упрямого и бесстрашного потомка санкюлотов. Не ограничивайся одним плакатом, сделай серию, бей в набат, призывай французов к бдительности! И при этом… готовься, что мсье Жубер выставит тебя за дверь. Присутствие в рекламной фирме такого вольнодумца и бунтаря, без сомнения, отрицательно скажется на ее коммерческой деятельности. Я, правда, не знаю мнения на этот счет мсье Кочека.
— Наша фирма — предприятие коммерческое, и политические убеждения или даже деятельность наших сотрудников нас не касаются, — Василий хотел дать понять художникам, что им опасаться нечего.
— Мы были уверены, что вы скажете именно так! — Борро повеселел. — Пошли, Доминик, займемся плакатами, призывающими сынов Франции к оружию. Если никто но захочет их печатать, мы сами расклеим их на афишных столбах…
Художники ушли. Василий, глядя им вслед, думал, что по-прежнему жив дух нации, ее сила, стойкость, — лишь бы подлинные патриоты не теряли бдительности…
В последующие дни столичные газеты печатали на своих страницах краткие сообщения о том, что в связи с приходом к власти национал-социалистов террор в Германии усиливается, что в Пруссии арестовано пять тысяч, в Рейнской области более двух тысяч коммунистов и противников гитлеризма, что конфискуется имущество нежелательных элементов, большинство которых по национальности евреи. Газета «Тан» не скупилась на прогнозы: «Весьма возможно, что Гитлер быстро потерпит крах и потеряет свою репутацию спасителя Германии…»
Василий, встретившись с Сарьяном, спросил его, как все это понимать: неужели имущие классы Франции настолько ослеплены ненавистью к коммунистам, что не видят подлинной опасности?
— Удивляюсь вам, дорогой друг!.. Живя столько времени во Франции, вы не поняли, что буржуа предпочитают Гитлера своим соотечественникам-коммунистам. Они надеются, что сумеют договориться с фашистами, и готовы на любые уступки. Кроме того, здесь убеждены, что Гитлер прежде всего кинется на Восток и увязнет в просторах России. Пойдемте-ка со мной в Национальное собрание, — там назначены дебаты по международным вопросам. Вы послушаете, о чем рассуждают и, главное, как рассуждают «избранники» нации!..
Фрау Шульц уехала, захватив с собой ответ «отцу». То, что произошло в Германии, не было для «отца» неожиданностью, — он ведь не раз писал и говорил, что приход к власти фашистов дело решенное, что это — вопрос времени. Вот это время и настало… Сейчас главное — знать, как реагируют на грозные события в соседнем государстве сами французы, и знать не поверхностно, не по догадкам, а доказательно, основываясь на неопровержимых фактах. Быть в курсе и того, что предпринимает французское правительство, чтобы преградить путь фашистским полчищам, если они начнут поход. Как будут французы защищать своих союзников?..
Сарьян хорошо сделал, что пригласил его в Национальное собрание. Правда, все, что там будет сказано, можно прочесть на следующий день в газетах. Но все же одно дело — читать газеты и совсем другое — послушать депутатов самому. Во Франции, на радость немецкой разведке, не умеют хранить государственные секреты, — словно нарочно, выставляют их напоказ!.. Немецкие агенты присутствуют всюду, даже на секретных заседаниях комиссии парламента, даже на заседаниях совета министров, не говоря уже о Национальном собрании. Этого мало, сами французы без оглядки разглашают свои секреты. Недавно на страницах крупных газет загорелся спор между военными специалистами о количестве и качестве французских танков и самолетов. В то время когда в Германии утверждается доктрина молниеносной войны при помощи танков, самоходных орудий, мощной авиации и моторизованных дивизий, французские генералы начисто отрицают возможности широкого использования танков в будущей войне, и поэтому, вероятно, у них нет танков новейшей конструкции. Танки, находящиеся на вооружении армии, безнадежно устарели — на них тонкая броня, и они скорее являются мишенью для немецкой бронебойной артиллерии, чем боевыми единицами. Василий не был военным специалистом, но все же понимал, как глубоко ошибаются французские генералы, когда утверждают, что будущая война будет позиционной, как и война 1914—1918 годов…
Сейчас, как никогда, важно было знать о планах фашистов в отношении своих соседей. Пора завершить затянувшуюся игру с Эльзой Браун! Пусть Лиза встретится с немкой и договорится с ней. Не сменят ли новые правители Германии своих послов за границей?..
Дома Василий сказал Лизе:
— Агенты немецкой разведки следят за всеми сотрудниками своего посольства, поэтому перемени место встреч с Браун. И когда будешь предлагать ей деньги, не скупись!
— Ты бы лучше сказал прямо, сколько мне предложить ей?
— Деликатный вопрос — сколько? Мало предложишь — не согласится. Много предложишь — испугается… Ты говоришь, она получает семьсот франков в месяц?.. Предложи ей тысячу…
— Не много?
— Думаю, что нет. Можешь обещать, что в зависимости от качества информации, которую она будет нам передавать, вознаграждение может увеличиться…
Разговаривать на эту тему у себя дома было куда легче, чем вести переговоры с самой фрау Браун.
Лиза позвонила ей и договорилась о встрече в большом студенческом кафе в Латинском квартале, — в нем всегда толпилась шумная молодежь, среди которой нетрудно было затеряться в случае крайней необходимости. Было принято в расчет и то обстоятельство, что Браун, почуяв неладное, может притащить с собой одного-двух парней из немецкого посольства.
Василий пригласил к себе в кабинет Борро и Доминика и сказал:
— Друзья, у меня к вам личная просьба. Дело в том, что моя жена должна встретиться с одной дамой в студенческом кафе в Латинском квартале. Дама эта — немка по национальности и довольно эксцентричная особа… Я вас прошу, будьте там завтра, в семь вечера. Сядьте за столик, закажите себе вина или кофе и скучайте, не показывая вида, что вы знакомы с моей женой. Если все обойдется, вы проведете остаток вечера по своему усмотрению. Если же немка попытается поднять шум, помогите жене выбраться из кафе… Вы меня поняли?
— Вполне! — ответил Борро. — Не беспокойтесь, мсье Кочек, мы все сделаем как нельзя лучше. Не так ли, Доминик?
— Какие могут быть разговоры, — разумеется!.. Знаете, мсье Кочек, у нас с Анри с этим кафе связано множество воспоминаний. Мы оба были влюблены в девушку за стойкой. Она была красавица, таких глаз больше ни у кого не встретишь!.. Звали ее Габриэллой, и мы думали, что она испанка. Потом выяснилось, что она — дочь грузинских эмигрантов, есть такая национальность на Кавказе. Мы с Анри ходили туда каждый вечер, чтобы увидеть ее, а когда бывали при деньгах, просиживали в кафе до ночи…
— Я вынужден внести в рассказ Доминика маленькую поправку, — перебил товарища Борро. — Дело в том, что влюблен в Габриэллу был один Доминик. Я сопровождал его только во имя товарищеской солидарности.
— Ну и ну! — воскликнул Доминик. — А кто разорялся на цветы? Кто преподносил красавице весной фиалки, а летом белые розы? Ты или я?
— Ты всегда был скуп, как Гобсек, и я вынужден был тратиться на цветы, чтобы девушка не думала дурно о нас. Вот и все!..
В назначенный час Эльза Браун приехала в Латинский квартал. Войдя в кафе, она пугливо озиралась по сторонам, по понимая, почему ее подруга пожелала встретиться с ней именно в этом шумном месте. Увидев Лизу, сидевшую в глубине зала за маленьким столиком, она поспешно направилась к ней.
— Здравствуйте, дорогая фрау Эльза! Рада вас видеть! — радушно приветствовала Лиза немку и, видя ее растерянность, сказала: — Не удивляйтесь, что я пригласила вас сюда. Предстоит серьезный разговор, и мне хотелось вести его подальше от любопытных глаз. — Лиза заметила, как насторожилась немка, и продолжала спокойно: — Как вы просили, я сказала брату, чтобы он подыскал для вас хорошо оплачиваемую работу. Пригласила я вас сюда, чтобы передать…
К их столику подошла девушка и спросила, что будет угодно дамам.
— Миндальные пирожные и две чашки кофе, — ответила Лиза и снова обратилась к фрау Браун: — Мой брат предлагает вам менее обременительную работу, чем работа стенографистки. Парижские торговые фирмы, имеющие деловые связи с Германией, всерьез обеспокоены последними событиями, происшедшими там. Они крайне заинтересованы в получении точной информации о том, что делается в Германии и чего можно ожидать от новой власти хотя бы на ближайшее время… Разумеется, не ту информацию, которую можно почерпнуть из чтения газет и сообщений телеграфных агентств… — Лиза замолчала, не сводя глаз с фрау Браун.
Молчала и та, как-то вся съежившись.
— Вы будете прилично вознаграждены. Ну, скажем, вам будут платить тысячу франков в месяц. Больше того, если передаваемая вами информация окажется особенно ценной, то вознаграждение будет увеличено. — Лиза только теперь заметила, что из дальнего угла кафе за ними наблюдают молодые художники.
— Вы представляете себе, как опасно то, что предлагает ваш брат? — после долгого молчания прошептала фрау Браун. — За разглашение государственной тайны сотрудников посольства наказывают строго — отстраняют от работы, лишают всех званий, наград, привлекают к суду. А там и в тюрьму могут упрятать!.. Нет, нет, я на это не пойду…
— Ну что вы! Зачем такие ужасы — суд и тюрьма!.. Подумайте сами, кто может знать о вашей деятельности? Вы храните множество секретов, неужели не сумеете сохранить собственную маленькую тайну? Кроме меня и брата, никто, ни одна душа, ничего знать не будет. Я даже брату не сообщила вашу фамилию…
— Неужели не сообщили? — оживилась фрау Браун.
— Зачем? Он будет вполне удовлетворен получением от вас нужной информации, остальное его не касается.
— Не знаю, не знаю… Это все так неожиданно…
Лиза понимала, что немка не в силах отказаться от тысячи франков дополнительного заработка. Может быть, она в эти минуты подсчитывала в уме, что сможет купить или отложить на черный день. Чтобы окончательно рассеять сомнения фрау Браун, Лиза сказала:
— Я принесла вам пятьсот франков как аванс. Они в конверте, я оставлю их на столе, а вы незаметно спрячьте в сумку. Остальное получите при следующей встрече. Надеюсь, милая фрау Браун, вы сообщите для передачи брату кое-какие новости — тоже в виде аванса! — Лиза положила на стол конверт с деньгами.
— Право, не знаю, что может интересовать вашего брата?.. Хотя… передайте ему, чтобы фирмы, имеющие деловые отношения с немецкими евреями, были осторожны… В самое ближайшее время имущество всех евреев будет конфисковано, а сами они выселены из Германии. И еще — в Германии готовится большая акция, которая даст повод национал-социалистам одним ударом ликвидировать все нежелательные элементы внутри страны. В чем конкретно заключается сущность этой акции, сказать вам не могу, не знаю, — фрау Браун запнулась было, потом добавила: — Это уже из области политики: противникам фашизма во Франции не следует возлагать надежд на дебаты в парламенте по международным вопросам, потому что многие правые депутаты связаны с нашим послом и будут выступать с речами в поддержку нового режима в Германии…
— Не проще ли будет сказать, что эти депутаты подкуплены вашим послом? — попробовала уточнить Лиза.
— Это слишком деликатный вопрос, и к нему я доступа не имею!
— Вам известны фамилии депутатов парламента, связанных с вашим послом?
— Нет…
— Что же, спасибо, на первый раз достаточно. Не откажите в любезности написать расписку в получении пятисот франков.
— Расписку! Зачем она вам? — встревожилась фрау Браун.
— Ну как же, брату нужно отчитаться в израсходованных деньгах. Если слово «расписка» вам кажется некрасивым, напишите просто, что получили от меня пятьсот франков взаймы.
— Мне вообще не хотелось бы писать ничего. Но если вы настаиваете…
— Что делать! — перебила ее Лиза. — Это нужно для формального отчета. Кроме брата и меня, никто не будет знать автора этой записки…
Фрау Браун достала из сумочки маленький блокнот и нацарапала на листке несколько слов.
Уже на улице фрау Браун вдруг спросила:
— Скажите, Марианна, Вебер в курсе наших дел?
— О ком вы говорите, кто такой Вебер?
— Помните, он сопровождал меня, когда мы ужинали вчетвером в китайском ресторане?
— Тот высокий мужчина? Ну что вы! Какое он имеет отношение к нашим с вами делам!.. Я даже фамилию его не запомнила…
Прощаясь с фрау Браун на площади Согласия, Лиза обещала позвонить ей в ближайшее время.
Василий ждал жену с нетерпением. Еще в передней он спросил:
— Ну как, все обошлось, Лиза?
— Обошлось! — Лиза подробно рассказала о своей встрече с Браун. — Я так устала, будто воз везла! — добавила она в заключение.
— Понимаю, дорогая. Не легко тебе было!.. Интересно, что за акцию готовят фашисты? У тебя какое создалось впечатление — немка в самом деле не знает или прикидывается?
— По-моему, не знает. Иначе рассказала бы, тем более в первый раз, чтобы набить себе цену.
— Жаль, уехала фрау Шульц! Нужно было бы сообщить об этом «отцу», чтобы он выяснил подробности… О подкупленных немцами депутатах следует сказать Сарьяну. Журналисты народ дотошный, они все узнают. Боюсь, у фашистов немало сторонников здесь, во Франции… — Василий как бы разговаривал сам с собой, потом обратился к жене: — Ты молодчина, Лиза, — сделала большое дело. Раз Браун даже расписку написала, значит, будет сотрудничать с нами. Только будь осторожной, не запугивай ее своей настойчивостью.
Через три дня, сидя на галерке для публики в Национальном собрании, куда его привел с собою Сарьян, Василий убедился, что фрау Браун была права, утверждая, что депутаты правого крыла в сговоре с послом Германии. Создавалось впечатление, что эти «избранники народа» начисто забыли интересы Франции и пекутся только о Гитлере и его рейхе. Бородатый депутат из партии радикал-социалистов заявил с трибуны: «У власти Гитлер или нет, какая разница, господа?»
Председатель партии «Демократический альянс» сказал: «Не вижу причин для беспокойства! В случае неприятностей Англия придет к нам на помощь, да и Гитлер не враг Франции». Третий депутат рассуждал: «Гитлер уже дважды сослужил нам службу: он сделал Германию непопулярной в Англии и Америке, он показал Англии истинное лицо Германии! Да, я решительно предпочитаю Гитлера Шлейхеру!»
У выхода из парламента Василия поджидал озабоченный Сарьян. Взяв Василия под руку, шагая рядом с ним по мокрому после дождя тротуару, он спросил:
— Ну как, видели теперь, каких представителей парод послал сюда? Они не то что Францию — родного отца продадут! Прав был Поль Бонкур, когда говорил сегодня утром на улице Кэ д'Орсэ Эррио: «Хорошенько запомните следующее; правые партии, саботировавшие сближение о демократической Германией, которого мы желали добиться в течение восьми лет, станут теперь благоприятствовать сближению с немецким диктатором! И конечно, все это будет делаться под предлогом, что Гитлер борется с коммунистами! Вскоре вы увидите все то, о чем я вам говорю!» Сегодняшнее вечернее заседание Национального собрания полностью подтвердило слова Бонкура. Отныне правые будут искать предлога для сближения с диктатором, а Гитлер, благодаря такой поддержке, скоро покажет всем, на что он способен!
— Вам или вашим товарищам-журналистам удалось установить связи некоторых правых депутатов с немецким послом?
— Кое-что удалось, завтра прочтете в газетах. Да что толку, бог ты мой! Большинство не видит пока ничего особенного в том, что какие-то депутаты парламента часто бывают у немецкого посла. Когда мы положили материал на стол нашего шефа, он удивленно уставился на нас: «Не понимаю, говорит, в чем сенсация? Ну, бывают, ну, дружат, что из того? Может быть, со временем это сослужит нам хорошую службу». С трудом уговорили его поместить в завтрашнем номере маленькую заметку…
Через несколько дней Василий пошел в клуб, как делал это иногда по вечерам. В клубе все было как всегда — несколько человек тренировались на закрытом корте при электрическом свете, другие ужинали в ресторане, а в Малой гостиной завсегдатаи клуба беседовали за чашкой кофе.
Увидев Василия, де ла Граммон пригласил его присоединиться к компании.
Пожилой господин в старомодном сюртуке с бархатной жилеткой говорил, помешивая ложечкой в чашке:
— Основа нашей внешней политики на ближайшие годы должна заключаться в том, чтобы не раздражать Гитлера. Мы должны доказать ему, что не являемся его противниками, что мы не будем мешать ему, если он обратит свой взор на Восток!..
— Ну, а как же быть с нашими союзниками? — не без ехидства спросил Маринье. — Ведь прежде чем Гитлер «обратит свой взор на Восток», как вы изволили сказать, ему необходимо подчинить себе наших союзников: Польшу, Чехословакию, Румынию, а может быть, и Югославию, чего вряд ли можно достичь мирным путем…
— Союзники!.. Пусть подчиняет, если это ему необходимо… Истинные патриоты должны думать о Франции, а не о каких-то союзниках!
— А не кажется ли вам, что при такой политике мы останемся один на один перед лицом грозного врага? — вмешался в разговор де ла Граммон.
— Понятие «враг» нуждается в уточнении. Я лично не считаю Гитлера врагом Франции. Зачем ему нападать на цивилизованную страну, когда на Востоке — неоглядные свободные просторы, на которых живут полудикие племена? Нет, господа, сегодня наш враг номер один — коммунисты, отрицающие освященную богом частную собственность и проповедующие равенство. С Гитлером мы, на худой конец, всегда договоримся, а с коммунистами — никогда! — раздраженно втолковывал пожилой господин в старомодном костюме.
— Неужели вы не понимаете, что фашисты мечтают о реванше? — спросил молодой Луи.
— Я уже говорил, что с Гитлером можно договориться, — разумеется, делая ему определенные уступки. Да и почему бы нам не стать союзниками Германии в борьбе с коммунизмом и, конечно, против Советской России, цитадели коммунизма?
— Союз с фашистами! Да вы понимаете, мсье, о чем говорите?! — горячился Луи.
В разговор вступил молчавший до сих пор модно одетый человек средних лет.
— По-моему, для искоренения коммунизма все средства хороши, — изрек он. — Ради этого можно стать союзниками не то что Гитлера, но и самого дьявола!
— Вы забываете, что Франция всегда была сильна в союзе с Россией, — спокойно сказал Маринье. — Союз с Гитлером не просто недальновидная политика, а самоубийство для Франции. Уверяю вас, никакие уступки не помогут, немцы не успокоятся до тех пор, пока не поставят Францию на колени!
— Видимо, вы, мсье Маринье, заражены идеями коммунизма, иначе вам была бы ясна разница между старой Россией и большевистской!..
— Ошибаетесь, я далек от коммунизма, а вот вы, мсье Журден, слишком близки к фашизму! — Маринье говорил сдержанно, словно речь шла о салонных пустяках.
— А вы что думаете, дальновидные французы действительно должны создать у себя новую партию, наподобие партии национал-социалистов, чтобы перекинуть мостик между Францией и новой Германией!
— Хватит нам полковника де ла Рокка с его молодчиками, они и так готовы бросить Францию к ногам Гитлера! — резко сказал Луи.
— Нам нужна Франция свободная, а не коммунистическая! — повысил голос господин в старомодном сюртуке.
— Никто и не помышляет о коммунистической Франции, а отдать ее на поругание фашистам могут только изменники! — В голосе де ла Граммона звучало нескрываемое негодование.
— Именно так, француз, поддерживающий сегодня Гитлера, — изменник! — крикнул Луи.
Господин в сюртуке и его модно одетый соратник поднялись, но, прежде чем покинуть гостиную, первый из них, багровый от от злости, прошипел:
— Мы не знали, что здесь, в привилегированном клубе, свили себе гнездо коммунисты и подозрительные иностранцы, — он бросил взгляд на Василия.
— Уж не хотите ли вы открыть в нашем клубе филиал партии национал-социалистов французского оттенка? — спросил де ла Граммон.
— Смейтесь, господа! Придет время, и мы поговорим с вами в другом, более подходящем для вас месте! Тогда уж мы посмеемся вдоволь, — сказал второй.
И они вышли из гостиной.
— Изменники, фашистские агенты! — крикнул им вслед Луи.
— Смотрите, как они распоясались, — сказал де ла Граммон.
— Кто они такие? — спросил Василий.
— Один из них, тот, что в сюртуке, — фабрикант, владелец почти всех мыловаренных заводов во Франции. Второй — наследник богатых родителей, мот, кутила…
Во второй половине следующего дня Василий стал свидетелем другой, не менее выразительной картины.
Человек триста молодых людей во главе со своим «фюрером», полковником де ла Рокком, решили устроить демонстрацию в честь победы фашистов в Германии. Когда они, выкрикивая какие-то лозунги, достигли Больших бульваров, навстречу вышли рабочие отряды, неся трехцветные знамена Франции и красные знамена революции. Подойдя к фашистским молодчикам, рабочие предложили им разойтись, те отказались, но, не выдержав натиска рабочих, быстро рассеялись.
Полицейские, стоявшие до сих пор на тротуарах в качестве наблюдателей, зашевелились, начали теснить рабочих, пошли в ход резиновые дубинки…
8
Настоятельные советы «отца» посетить Германию совпадали с желанием самого Василия побывать там и все увидеть своими глазами. Очень уж тревожные, порою просто невероятные, а порою и противоречивые сведения поступали оттуда. Однако для поездки в Берлин нужно было еще раз связаться с немецкими кинопрокатными конторами. Запрос от них был получен до захвата власти фашистами, и за это короткое время многое изменилось. Нужно было также получить визу немецкого консульства в Париже на право посещения Германии. По слухам, визы теперь давали с неохотой и далеко не всем.
Раньше заказам из-за границы фирма «Жубер и компания» особого значения не придавала. Теперь к этим заказам относились со всей серьезностью: появились симптомы, свидетельствовавшие, что внутренний рынок сужается, — заказы, особенно из провинции, уменьшились. Найти точное объяснение этому было трудно — то ли провинция насытилась рекламными изделиями фирмы, то ли торговля во Франции сокращалась. Так или иначе сбыт уменьшился, на складах накопились нереализованные изделия.
Василия не особенно тревожило сокращение сбыта; он это предвидел и обеспечил фирму постоянными заказами больших столичных магазинов и нескольких кинотеатров в центральных районах города. На худой конец, можно было бы сократить работу мастерских и ограничиться только выполнением этих заказов, — фирма могла бы существовать, дожидаясь лучших времен. Учитывая печальный опыт Жубера, Василий создал резервный капитал, который, по его мнению, должен был защитить фирму от капризов рынка. Он хорошо понимал, что любое сокращение объема производства немедленно отразится на добром имени фирмы. Каждый вправе подумать: раз пошли на сокращение и уволили рабочих, значит, дела у них неважные. Об этом узнают прежде других поставщики, а за ними и банки, ведущие финансовые операции фирмы и учитывающие ее векселя. Вот тут и поможет резервный капитал, — он позволит вовремя скупить векселя и произвести досрочные платежи, чтобы пустить пыль в глаза.
Тем не менее к солидным заказам из других стран следовало отнестись со всей серьезностью. Правда, итальянские фирмы увеличили заказы. Начали поступать заказы и из Англии. Василий рассчитывал во время своей поездки в Германию совместить приятное с полезным: заключить выгодные контракты с немецкими фирмами и увидеть своими глазами, что там творится. Он написал письмо в Берлин, в котором изъявил желание приехать туда лично и на месте договориться обо всем, если кинопрокатные конторы не изменили своего решения.
В ожидании ответа из Германии он занялся текущими делами. Лето было не за горами, и он оформил договор на аренду второго этажа дома Сарьяна, хотя журналист и считал это совершенно лишним.
— Не понимаю, зачем эти формальности? — говорил он. — Приезжайте и живите себе на здоровье, когда хотите и сколько хотите!
Василий подумывал также о покупке автомобиля новейшей марки. Дорогая машина придала бы еще больше веса и авторитета ее владельцу не только в глазах консьержки, соседей, членов клуба, но и деловых людей. Он остановил свой выбор на черном лимузине американской марки «бьюик». После продажи неплохо послужившего ему старенького «фиата» пришлось доплатить восемь тысяч франков. Зато какую красавицу машину он приобрел! Мощный шестицилиндровый мотор, мягкие амортизаторы, отличные тормоза, плавный ход, а отделка!..
По вечерам Василий по-прежнему бывал в клубе, хотя после слов фабриканта о подозрительных иностранцах ему стоило немалого труда появляться там с прежней непринужденностью.
Узнав, что Василий собирается в Берлин, Маринье сказал ему, что Франсуа Понсэ, посол Франции в Германии, его близкий друг и он может снабдить мсье Кочека рекомендательным письмом.
— В наши смутные времена не мешает иметь влиятельных покровителей, особенно в теперешней Германии!.. Франсуа — мой земляк, школьный товарищ. Он сделает все, чтобы ваше пребывание в Германии было по возможности приятным.
— Я вам безгранично благодарен, мсье Маринье! Непременно воспользуюсь вашей любезностью.
— Не стоит благодарности. Надеюсь, по возвращении из Германии вы расскажете нам обо всем, что увидите там…
— Конечно, если только смогу удовлетворить хотя бы в какой-то мере ваш интерес!..
Разговор происходил в присутствии де ла Граммона. Он посмотрел на Василия и с улыбкой сказал:
— Вы прекрасно разберетесь во всем, что будете наблюдать в Германии, и, безусловно, сумеете удовлетворить самый широкий интерес к происходящему там!
— Вам особенно важно знать, мсье Кочек, что творится по ту сторону Рейна, — сказал Маринье. — Гитлер, по моим соображениям, нападет прежде всего на своих слабых соседей, следовательно и на вашу родину. Зашевелились судетские немцы, — они требуют полной автономии, а это означает начало расчленения Чехословакии. В Австрии с каждым днем усиливается движение сторонников аншлюса…
Василию было приятно, что Маринье и де ла Граммон разговаривают с ним достаточно откровенно, и ему хотелось разобраться в причинах этого. Только ли это проявление симпатии к нему, или дело еще и в том, что он словак по национальности, — следовательно, потенциальный противник фашизма?
В очередную субботу Василий с Лизой отправились к Сарьянам — уже не в гости, а к себе домой. Договор на аренду второго этажа лежал у Василия в кармане.
Ужинали вместе. Василий привез с собой закусок и вин, чем рассердил журналиста.
Узнав, что Маринье обещал Василию рекомендательное письмо, Сарьян сказал:
— Непременно воспользуйтесь этим письмом! Франсуа Понсэ старый дипломатический волк, и при его содействии многие двери откроются перед вами. Во всяком случае, вы сможете увидеть и услышать в Берлине гораздо больше через посредство французского посольства, чем действуя самостоятельно.
Наконец пришел ответ из Берлина. Одна из двух кинопрокатных контор (вторая, как выяснилось
позднее, была закрыта, — ее владельцем оказался еврей) извещала, что готова установить деловые связи с рекламной фирмой «Жубер и компания» и рада приезду к ним совладельца фирмы, господина Кочека.
Для отъезда необходимо было выполнить последнюю формальность — получить визу в немецком консульстве. Василий отправился в генеральное консульство Германии в Париже и обратился к дежурному чиновнику с просьбой выдать ему визу для посещения Германии сроком на два месяца.
Каждый раз, когда возникала необходимость предъявлять чехословацкий паспорт, Василий испытывал беспокойство, хотя паспорт был получен им в самой Чехословакии и с соблюдением всех формальностей. Он избегал встречи со своими «соотечественниками», не посещал посольство и консульство Чехословацкой республики во Франции и до сих пор даже не зарегистрировал там паспорт, что обязан был сделать по существующим правилам.
То, что случилось в немецком генеральном консульстве, превзошло худшие опасения Василия. Чиновник, встретивший его вначале весьма любезно, сразу посуровел, узнав, что господин Кочек, желающий поехать в Германию, словак по национальности и подданный Чехословацкой республики.
— Собственно, что побуждает вас посетить Германию? — сухо спросил он.
Василий объяснил — вежливо и обстоятельно.
— Разве нельзя отрегулировать ваши коммерческие отношения с деловыми кругами Германии при помощи переписки? — последовал новый вопрос.
— Не совсем понимаю вас, — сказал Василий. — Каким способом устанавливать связи с деловыми кругами той или иной страны, путем ли переписки или через личные контакты, — решает наша фирма. И в данном случае я посетил вас для того, чтобы получить не совет, а визу.
Чиновник, пропустив его слова мимо ушей, спросил, без всякой связи с предыдущими вопросами:
— Кто вы но национальности?
— Словак.
— Имели ли раньше деловые связи с еврейскими фирмами в Германии?
— Нет. До сих пор наша фирма вообще не имела деловых связей с Германией. Это наша первая попытка, поэтому нам и понадобился личный контакт с деловыми кругами, тем более что Берлинская кинопрокатная контора любезно пригласила нашего представителя, — Василий протянул чиновнику письмо, полученное из Берлина.
Тот пробежал письмо глазами и задал очередной вопрос:
— Как вы относитесь к последним событиям в Германии?
— Я коммерсант и политикой не занимаюсь, но все же постараюсь ответить на ваш вопрос. На мой скромный взгляд, установление той или иной системы правления — внутреннее дело каждого суверенного государства и никого, кроме данного государства, касаться не должно.
Чиновник протянул ему анкету.
— Попрошу заполнить эту анкету, оставить у нас паспорт и заявление с подробным объяснением причин, побуждающих вас посетить Германию.
Вручая через несколько минут чиновнику паспорт, заявление и заполненную анкету, Василий спросил:
— Когда позволите приехать к вам за визой?
— Загляните дней через пять. Но нет никакой гарантии, что вы получите визу.
— Почему же?
— По многим причинам, объяснять которые я не обязан! — оборвал его чиновник.
Поняв, что ему могут отказать в визе, Василий в тот же вечер в спортивном клубе рассказал Веберу о своей беседе с чиновником.
— Разумеется, вопрос не в грубости этого чиновника, а в том, что мне могут отказать в визе, — сказал он. — Между тем есть настоятельная необходимость поехать в Берлин и попытаться договориться с тамошними деловыми кругами. Здесь, во Франции, рынок сбыта нашей продукции сужается с каждым днем, и мы вынуждены искать новые рынки вне Франции. Очень прошу, если это вас не затруднит, вмешаться.
— Не беспокойтесь, — сказал Вебер, — это вполне в моих силах. Через четыре дня приезжайте к нам и получите визу.
— Скажите, почему вообще так неохотно дают визу для поездки в Германию?
— С приходом к власти Гитлера в Германии происходят не очень красивые вещи… Естественно, никому не хочется, чтобы правда просочилась в другие страны. — Вебер понизил голос: — Кроме того, вы — чехословацкий подданный. А с некоторых пор отношение к вашим соотечественникам не совсем благожелательное, на этот счет получен даже специальный циркуляр…
Вебер сдержал слово. Когда через четыре дня Василий снова посетил генеральное консульство Германии, тот же чиновник вручил ему паспорт с визой и даже пожелал приятного путешествия.
Заручившись рекомендательным письмом к Франсуа Понсэ, Василий купил билет первого класса, сел в поезд на Северном вокзале и отбыл в Берлин. На душе было неспокойно, хотя он всячески старался не показать это провожавшей его Лизе…
Гостиница «Кайзерхоф», в которой Василию был оставлен номер, оказалась комфортабельной — отличное обслуживание, идеальная чистота, но чрезмерно дорогой. Впрочем, Василий сознательно шел на дополнительные расходы: каждому ведь ясно, что коммерсанту с незначительными доходами и небольшим капиталом не по карману номер в отеле «Кайзерхоф» и обед в ресторане «Унтер-ден-Линден».
Первое неблагоприятное впечатление о Берлине сложилось у Василия еще в вестибюле гостиницы, когда вышколенный портье, приняв его паспорт, спросил вежливо — не иудей ли господин Кочек?
Василий был возмущен такой бесцеремонностью, но ответил сдержанно:
— Нет, я словак по национальности и католик по вероисповеданию. Все же разрешите узнать, какое это имеет значение?
— Иудеям останавливаться у нас нельзя…
У себя в номере Василий побрился, надел свежую, рубашку, переменил костюм и спустился в ресторан позавтракать. Он решил отложить знакомство с представителями кинопрокатной конторы, чтобы иметь несколько свободных дней и оглядеться.
Позавтракав, Василий вышел на улицу. День был пасмурный. Серые облака, затянувшие небо, опустились совсем низко. Дул холодный, пронизывающий ветер. Василий зябнул в легком демисезонном пальто, но все-таки подолгу простаивал у витрин магазинов, рассматривая довольно безвкусную рекламу.
Навстречу то и дело попадались молодые мужчины в полувоенной коричневой форме. Создавалось впечатление, что Берлин превратился в военный лагерь. Люди в коричневой форме приветствовали друг друга, выбрасывая правую руку вперед. Этого фашистского приветствия, ставшего впоследствии символом варварства и неслыханной жестокости, Василий еще не видел.
Он дошел до какой-то площади. В окнах и на балконах домов висело множество знамен, которые трепал ветер. По площади шел духовой оркестр, ревели трубы, гремели литавры. За оркестром маршировали отряды молодых парней в той же коричневой форме. Поравнявшись с четырехэтажным серым зданием, с балкона которого свешивалось огромное знамя со свастикой, оркестр умолк. Молодые парни приветствовали знамя, выбросив правую руку и трижды выкрикнув: «Хайль, хайль, хайль!..» Должно быть, в этом сером здании помещался центр национал-социалистской партии, а может быть, его берлинское отделение.
Отряды распались на группы, словно на физкультурном параде. И вскоре на площади жарко разгорелось несколько костров. К кострам подъезжали тяжелые грузовики, нагруженные до самого верха книгами. Парни в коричневом бросали книги в огонь. Высокие столбы черного дыма поднялись к небу…
Берлин каждый час готовил приезжему новые сюрпризы. На улицах с утра и до позднего вечера гремели духовые оркестры, за ними бесконечными рядами маршировали молодчики в коричневой форме. На площадях устраивались парады, многолюдные митинги, на которых выступали видные деятели национал-социалистов, призывая молодежь искоренить на немецкой земле коммунистическую заразу, уничтожить евреев и готовиться к завоеванию жизненного пространства. Повсюду шли погромы еврейских лавок и магазинов. В эти же дни фашистский официоз «Дойче беобахтер» опубликовал постановление, обязывающее всех иудеев без различия возраста, пола, звания и имущественного положения носить на левой стороне груди особый знак, свидетельствующий об их расовой принадлежности.
«Отец» был прав, настойчиво рекомендуя мне посетить Берлин, — думал Василий. — Никакие статьи, как бы талантливо они ни были написаны, не могут создать даже приблизительного представления о том, что такое фашизм на практике…»
27 февраля, вечером, начался пожар рейхстага. Василий сначала не придал этому значения, — мало ли какие пожары возникают в городах! Однако из вечерних газет он узнал, что следственные органы считают поджог рейхстага делом рук коммунистов, и все понял. Тотчас поднялась новая волна террора по всей Германии. Специально созданные органы государственной безопасности арестовывали всех, кто подозревался в принадлежности или сочувствии к коммунистической партии, арестовывали и социал-демократов. Хватали евреев, сажали в товарные вагоны и отправляли в неизвестном направлении. Только самым богатым из них удавалось за баснословные деньги достать заграничные паспорта и выехать из Германии…
Чтобы не вызвать подозрений у окружающих своим бездельем, Василий связался с Берлинской конторой кинопроката. Разговаривал с ним по телефону директор конторы, Хойзингер. Он выразил свое удовлетворение приездом к ним господина Кочека и любезно сказал, что будет рад встретиться с ним сегодня, если, конечно, у господина Кочека нет более важных дел.
У господина Кочека не оказалось более важных дел, поскольку он приехал в Берлин исключительно с этой целью. Поэтому он сказал, что приедет к господину Хойзингеру в двенадцать часов дня. Кинопрокатная контора находилась в другом конце города — довольно далеко от центра. Василий взял такси.
Водителем оказался болтливый щупленький человечек средних лет. Василий у знал, что он не владелец машины, как многие берлинские таксисты, а работает у хозяина по найму. До этого же он два года был безработным. Сейчас, благодаря заботам фюрера, положение меняется — жизнь налаживается, количество безработных сокращается с каждым днем. Фюрер обещал работу всем немцам, а он не такой человек, чтобы не выполнить своих обещаний!.. Нет, в партии национал-социалистов не состоит, но на ближайших выборах будет голосовать за них… Зарабатывает не очень много, но это все же лучше, чем жить с женой и двумя маленькими детишками на жалкое пособие по безработице… Ничего, немножко терпения, и немцы тоже начнут жить как люди!.. Гитлер никому не позволит ограбить Германию, как грабили до сих пор. Он не станет платить ни единого пфеннига Антанте по проклятому Версальскому договору!..
Слушая разглагольствования шофера, Василий начинал понимать, почему значительная часть населения Германии поддерживает фашистов. Гитлер не только дает немцам работу, но и мастерски играет на их оскорбленном национальном чувстве, обещая в недалеком будущем завоевание жизненного пространства и господство над другими народами. И снова чувство беспокойства, смутной тревоги сжало сердце Василия…
Герр Хойзингер встретил его как старого знакомого, представил своим помощникам и, угощая гостя коньяком и черным кофе у себя в кабинете, приступил к деловым переговорам. Да, они хорошо осведомлены об успехах рекламы, изготовляемой фирмой «Жубер и компания», особенно в области кино. Кинопрокатная контора готова заключить договор на изготовление и поставку тематических объемных рекламных установок. Для начала — в целях рекламирования американских и французских фильмов, — вероятно, художники фирмы с этими фильмами знакомы. В зависимости от успеха этих рекламных установок может встать вопрос о рекламировании немецких фильмов, что значительно сложнее и ответственней: реклама должна явиться проводником современной немецкой идеологии…
Обсудив предварительные условия договора, Василий изъявил желание познакомиться с практикой кинопроката в Германии и посетить для этой цели еще несколько городов, — ну, скажем, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг, Дрезден. Хойзингер обещал снабдить Василия рекомендательными письмами на имя руководителей филиалов. Письма эти будут доставлены к нему в номер завтра. А к возвращению господина Кочека из поездки будет готов и договор. Хойзингер согласился выдать аванс в счет будущих заказов и даже взять на себя часть расходов, связанных с поездкой Василия по стране.
На его вопрос, что произошло со второй конторой кинопроката, изъявившей в свое время желание установить деловые контакты с его фирмой, Хойзингер ответил:
— Видите ли, господин Кочек, уже более столетия дельцы еврейской национальности захватили все финансы Германии. Не вкладывая ни одной марки в индустрию, по способствуя развитию промышленности страны, они прибрали к рукам банки, торговлю, зрелищные предприятия, увеселительные учреждения и наживали колоссальные деньги… Понятно, что истинные хозяева страны — немцы — не могли терпеть до бесконечности этот хищнический грабеж. Поэтому сейчас евреям запрещено заниматься предпринимательством. По этой причине и закрыта кинопрокатная контора, владельцем которой был некто Лифшиц…
— Нужно полагать, что теперь ваша контора стала монополисткой в области кинопроката и не боится конкуренции, — сказал Василий, стараясь ничем не проявить своего отношения к этому чудовищному, но далеко не новому приему устранения конкурентов.
— Если хотите, да, — скромно ответил герр Хойзингер. — За последнее время оборот наш почти удвоился и имеет тенденцию к дальнейшему росту… Кризис кончился, экономика страны на подъеме, безработица ликвидируется, — следовательно, в кинозалах будет больше зрителей!..
Прежде чем уехать из Берлина, необходимо было побывать во французском посольстве и передать Понсэ рекомендательное письмо. Правда, за эти дни не возникло необходимости прибегать к высокому покровительству, но было бы неучтиво не передать послу письмо его друга.
Не зная, что Паризерплац, где находилось французское посольство, близко от гостиницы, Василий нанял такси и в одну минуту оказался у массивных ворот красивого особняка. Но проникнуть в посольство было не так-то просто. Верзила сторож, не слушая объяснений Василия, повторял одно и то же: «Если мсье нужно передать письмо господину послу, пусть оставит здесь, укажет свой адрес, и господин посол известит мсье о времени, когда его смогут принять». Василий написал на обороте визитной карточки название своей гостиницы и с письмом оставил у сторожа. Затем вернулся к себе. Для огорчения оснований не было: письмо Маринье он передал, а что его не пустили в посольство — это уж не его вина.
В Берлине больше делать было нечего. Рекомендательные письма Хойзингера лежали у Василия в кармане, и на следующий день вечерним поездом он уехал в Лейпциг.
Попутчиком Василия оказался плотный человек средних лет, по виду мастеровой. Они разговорились. Василий не ошибся: сосед по купе действительно был рабочим-металлургом, ехавшим в Лейпциг навестить родных. На вопрос, был ли он безработным, рабочий отрицательно покачал головой. Нет, он все время имел работу. Правда, работал по сокращенному графику, три дня в неделю, и зарабатывал мало, но все же ему жилось куда лучше, чем многим другим, совсем лишившимся работы… Да, в политической партии он состоял — был социал-демократом. Потом разочаровался и вышел из партии… Никаких репрессий со стороны новых властей он не боится. Кто и на каком основании может его тронуть, — ведь он добровольно и задолго до прихода к власти Гитлера отрекся от социал-демократии… Почему? Очень просто: руководители партии оказались болтунами, они умели говорить только красивые слова и ничего не делали для рабочих. А вот Гитлер — человек дела! Он выступает против плутократии, думает о социальном строе нового типа. Почему, спрашивается, социализм должен быть обязательно русского образца, — разве нет и не может быть других форм? Германия — высокоразвитая индустриальная страна и может развиваться по своему особому пути. Правду сказать, вожди немецкой социал-демократии вообще надеялись, что социализм преподнесут им на тарелочке, — иначе зачем было им отвергать предложение Тельмана о совместных действиях, когда коммунисты на последних выборах получили почти пять миллионов голосов? Объединись они тогда с коммунистами, — создали бы коалиционное правительство левого направления, и, уверяю вас, народ пошел бы за ними.
— Вам известны факты, говорящие о том, что новые власти ограничивают деятельность крупных монополий, или, как вы выразились, плутократии, и собираются строить какой-то новый социализм? — спросил Василий.
— Нет, таких фактов я не знаю… Но ведь Гитлер окончательно ликвидировал унизительный для немцев Версальский договор и показал Антанте кукиш — разве одно это уже не вызывает сочувствия? А то получалась очень уж несерьезная история, — с нами, с немцами, союзники обращались, как с каким-нибудь колониальным народцем… Сами вооружались, оснащали свою армию новейшей военной техникой, а нам все запрещали. Нам, великой нации, запрещали иметь авиацию, подводные лодки, военно-морской флот!.. Дураку понятно, что союзники могли оккупировать безоружную страну, — ведь оккупировали же французы Рурскую область. А репарации? Разве они не были открытым грабежом? Мы голодали, у наших детей не было молока, а французы и англичане бесились с жиру… Как ни говорите, Гитлер молодец, — он всем дал понять, что нельзя с нами обращаться, как с неграми в Африке. Мы, немцы, великая нация и сумеем постоять за себя!
— А разве войну тысяча девятьсот четырнадцатого года затеял не кайзер? Немецкая армия разрушила множество французских городов и сел, не говоря уже о России, где сравнивали с землей целые районы… Вы не находите, что за все это кто-то тоже должен был отвечать?
— Но при чем тут немцы? Спросили бы с кайзера и его генералов! И то сказать, немцы тоже пострадали от войны не меньше, чем французы…
Василию стало неприятно продолжать этот разговор. Если рабочий, бывший социал-демократ, так рассуждает, чего же ожидать от мелкой буржуазии, составляющей большинство нации?
Он зевнул и устроился поудобнее, давая понять, что хочет вздремнуть…
В отличие от Берлина, шумного, крикливого, Лейпциг показался тихим, уютным. Рядом с широкими асфальтированными улицами — узенькие средневековые улочки, мощенные булыжником. Массивные здания официальных учреждений с колоннами из гранита и маленькие особняки бюргеров, с остроконечными, покрытыми черепицей крышами. Грандиозные католические храмы в стиле ранней готики. Множество парков, вековые деревья вдоль тротуаров. И на каждом шагу — памятники выдающимся, а чаще ничем не примечательным землякам.
Лейпциг жил от ярмарки до ярмарки. Во время ярмарок город оживал, потом снова впадал в спячку. Между ярмарками в Лейпциге задавали тон студенты знаменитого университета — одного из древнейших в Европе. Но старой цеховой традиции устраивали карнавалы печатники и меховщики. В этом городе печатались самые красивые в мире книги, выпускались отлично имитированные меха, мало чем отличающиеся от натуральных.
Руководитель лейпцигского отделения конторы кинопроката, Малер, весьма любезный человек, несмотря на протесты Василия, повсюду его сопровождал и с удовольствием показывал достопримечательности родного города. Побывали они и на огромной территории, где уже шла работа по подготовке к весенней ярмарке.
— Господин Кочек, почему бы вам не посетить ярмарочный комитет и не предложить свои услуги? Весьма возможно, что они заинтересуются вашей продукцией, — сказал Малер.
На следующий день, захватив с собой альбом фирмы, вырезки из газет, отзывы торговых палат и многочисленных заказчиков, Василий, в сопровождении Малера, отправился в ярмарочный комитет.
Предложением совладельца парижской рекламной фирмы заинтересовались. С Василием вели долгие беседы и наконец обещали дать окончательный ответ через два-три дня. Делать было нечего, — Василий скучал в Лейпциге от безделья, терпеливо ожидая решения комитета.
Наконец вице-председатель ярмарочного комитета сообщил Василию по телефону, что комитет согласен заключить с фирмой «Жубер и компания» договор на значительную сумму, если фирма примет на себя обязательство изготовить заказанную рекламу не позже 10 мая текущего года.
Василий подписал договор и в тот же день отправил телеграмму Жуберу с сообщением о сделке. Написал он также и Анри Борро, предложив ему быть готовым к поездке в Берлин и Лейпциг для уточнения заказов. Он решил прервать путешествие по городам Германии и вернулся в Берлин, чтобы, подписав договор с конторой кинопроката, поспешить в Париж.
В гостинице «Кайзерхоф» его ожидало приглашение французского посла пожаловать на ужин 1 марта в семь часов вечера.
Василий явился во французское посольство за пять минут до назначенного срока. Он немного волновался, не зная, как его примут и сумеет ли он, по бывавший никогда на такого рода приемах, не ударить, как говорится, в грязь лицом.
Ровно в семь часов метрдотель, в безукоризненном фраке, которого Василий принял сначала за самого посла, пригласил «господ гостей в столовую отужинать».
На пороге столовой Василия встретил Франсуа Понсэ.
— Очень рад знакомству с вами! Маринье пишет о вас необыкновенно тепло, а друг моего друга — мой друг! — улыбаясь сказал он.
За стол село восемь человек, и, как вскоре выяснилось, все, кроме Василия, французы. В их числе единственная дама — жена посла. Василий понял, что присутствует на интимном ужине друзей Понсэ. Все, по-видимому, отлично знали друг друга, держались непринужденно.
Кто-то заговорил о недавнем поджоге рейхстага. Посол, смеясь, сказал, что поджог послужил поводом самовозвеличения некоторых руководителей национал-социалистов.
— Знаете, господа, что сказал господин Геринг? Он сравнил себя с Нероном! Он часто повторяет: «Христиане подожгли Рим, чтобы обвинить в этом Нерона, а коммунисты подожгли рейхстаг, чтобы обвинить в этом мена!..» Звучит это и смешно и страшно!.. Осведомленные люди утверждают, что рейхстаг соединен подземным коридором с особняком Геринга. Следовательно, поджигатели могли пройти этим путем…
— Я слышал, что арестован какой-то голландец ван дер Люббе, — сказал седой человек с морщинистым лицом. — Его обвиняют в поджоге рейхстага. Говорят, у него в кармане обнаружен членский билет коммунистической партии.
— А другие утверждают, что поджог рейхстага дело рук молодчиков Рема и совершен не без ведома более крупных деятелей, — вставил молодой человек с военной выправкой. — Во всяком случае, поджог не мог совершить один человек…
— Для меня совершенно очевидно одно, — сказал Понсэ, — тайна поджога рейхстага будет раскрыта не скоро. Пройдут годы, прежде чем мы узнаем истину. А пока этот факт будет использован национал-социалистами для предвыборной кампании. Более благоприятного повода для агитации трудно придумать: обвинить в поджоге коммунистов, разжечь шовинистические страсти…
— Господа, не хватит ли говорить о политике! — вмешалась жена посла и пригласила гостей в гостиную пить кофе.
Слушая беседу людей, без сомнения весьма осведомленных, знающих значительно больше, чем они говорят, Василий думал: неужели все эти французы, увидевшие фашизм, так сказать, в натуральном виде, без всяких прикрас, могут когда-нибудь стать на его сторону и ради узких, своекорыстных интересов предать и свой народ и свою родину?
В маленькой гостиной гости пили черный кофе с ликером. И разговор снова коснулся событий в Германии. Кто-то высказал мысль, что победа национал-социалистов на предстоящих выборах не вызывает сомнения.
— Еще бы! — сказал человек с седой головой. — После такого террора и запугивания избирателей мудрено было бы не победить. Вся Германия покрылась сетью концентрационных лагерей, в которые бросают всех, кто проявит малейшее недовольство существующим режимом!
— Вам не кажется, господа, что в результате варварских методов, применяемых национал-социалистами в управлении страной, пропасть между Германией и внешним миром углубляется? — спросил посол.
— Гитлер не придает этому никакого значения, зная заранее, что великие державы и пальцем не пошевельнут, чтобы обуздать фашизм и положить конец варварству в центре Европы! — ответил послу старик.
Франсуа Понсэ, видя, что гость из Парижа все время молчит, не принимая участия в разговоре, спросил Василия:
— Скажите, мсье Кочек, какое впечатление вы уносите с собой из Германии?
— Самое тяжелое, — сказал Василий.
— Действительно, здесь творится нечто умопомрачительное!.. Впрочем, этого нужно было ожидать. Мы, французы, вместо того чтобы сблизиться с Германией, когда здесь существовали демократические порядки, тащились в хвосте политики Англии и Америки, — боялись остаться в изоляции. А теперь расплачиваемся за это и будем еще расплачиваться жестоко…
— Господин посол, я коммерсант и, признаюсь, плохо разбираюсь в политике. Но, пробыв в этой несчастной стране немногим больше двух недель и увидев все собственными глазами, я ужаснулся. Временами мне кажется, что в Европу возвращается средневековое варварство. Неужели государственные деятели великих держав, в первую очередь Франции, не понимают, что нужно остановить фашизм, — остановить сейчас, немедленно, иначе будет поздно?
— К сожалению, уже поздно!.. В настоящее время интересы союзников резко расходятся. Англичане жаждут ослабления Франции, чтобы иметь возможность единолично господствовать в Европе. Запомните мои слова: они попытаются и фашизм в Германии использовать в своих интересах!
— Как бы им не пришлось расплачиваться за такую близорукую политику! — сказал Василий и встал, чтобы откланяться.
— Скажите, мсье Кочек, я ничем не могу быть вам полезным? — спросил Понсэ.
— Благодарю вас. Я свои дела успешно закончил и на днях возвращаюсь в Париж.
— По приезде передайте, пожалуйста, сердечный привет Маринье и расскажите ему обо всем, что видели здесь…
До выборов в Берлине оставалось несколько дней. Каждый день под звуки фанфар и духовых оркестров устраивались парады, факельные шествия, шумные митинги и собрания. В самый день выборов — 5 марта — отряды СА разместились во всех пунктах голосования. Выборы и подсчет голосов происходили под руководством нацистов. В результате национал-социалисты получили в рейхстаге двести восемьдесят восемь мест — абсолютное большинство.
На следующий же день после выборов террор в Германии усилился. Начались повальные обыски и аресты, конфискация имущества евреев и враждебно настроенных к фашизму людей. Василий слушал выступление Геринга по радио. Как бы отвечая на вопрос, почему все так происходит, тот говорил без тени смущения: «В большом деле без издержек не обойтись. Это неизбежно…»
В Германии делать было больше нечего. Все, что Василий видел вокруг себя, возмущало, вызывало чувство негодования. Он возвращался домой с тяжелым сердцем.
Германо-бельгийскую границу поезд Берлин — Париж пересекал ночью. На немецкой пограничной станции пограничники и таможенники побежали по вагонам. Они обходили одно за другим купе, будили пассажиров, проверяли документы, вещи. Некоторым пассажирам пограничники предлагали сойти с поезда с вещами и направляли их в помещение таможни при вокзале. Носильщиков почему-то не оказалось, и пожилые люди, мужчины и женщины, сгибаясь под тяжестью чемоданов, шагали к вокзалу.
Очередь дошла до Василия. Офицер пограничной службы повертел в руке чехословацкий паспорт и сказал:
— В таможню с вещами!
— У меня один маленький чемодан, его нетрудно проверить и здесь, на месте, — Василий хотел было открыть чемодан.
— Не возражать! — гаркнул офицер.
Василия проводили в помещение пограничного пункта. В большой комнате, обставленной казенной мебелью и пропитанной запахом казармы, за большим столом сидел грозного вида офицер. Рядом с его столом стоял человек в форме таможенного чиновника. Взяв паспорт Василия, офицер начал задавать уже ставшие привычными вопросы:
— Фамилия?.. Место рождения?.. Профессия?.. Зачем ездили в Германию?
Получив исчерпывающие ответы на все эти вопросы, офицер исподлобья взглянул на Василия:
— Иудей?
— Словак и католик по вероисповеданию.
— Иудеи заклятые враги Германии, но… — небольшая пауза, — славяне тоже не лучше, хотя они и христиане!
Василий молчал.
— Отвечайте на вопрос: почему на вашей родине, в Чехословакии, угнетают немецкое меньшинство?
— Политикой я не интересуюсь и ответить на ваш вопрос не могу. Потом, я живу во Франции.
— Все вы невинные овечки и ничего не знаете? Подождите, придет время — сами разберетесь или мы заставим вас разобраться!..
Василий молча положил перед офицером договоры, заключенные в Берлине и Лейпциге.
— Из этих бумаг следует, что вы установили коммерческие связи с немецкими торговыми организациями. Но так ли? — спросил офицер.
— Совершенно верно. Я совладелец рекламной фирмы в Париже, и у нас давно установились добрые отношения с немецкими деловыми кругами!
Офицер вернул ему паспорт и договоры.
— Можете следовать дальше!
Чемодан его даже не открыли.
Переехав французскую границу, Василий облегченно вздохнул. «Нет, ехать еще раз в Германию с чехословацким паспортом не стоит!» — подумал он.
В Париже Василия ждало множество новостей.
Лизы дома не оказалось, и он, оставив чемодан, поспешил в контору. Первым, кого он увидел, был Борро.
— Ну, Анри, какие у нас новости?
— Есть кое-какие!.. Начнем с того, что за последнее время мсье Жубер находится в подавленном состоянии духа и почти ни с кем не разговаривает. Никто не решается спросить его о причине такого настроения, а он, в свою очередь, избегает разговоров на эту тему. Даже ваша телеграмма о выгодных заказах не произвела на него никакого впечатления!.. Поступило предложение от крупной американской фирмы послать к ним представителя для переговоров о рекламировании нескольких кинокартин. Мы еще не ответили им, — ждали вашего приезда. Гомье закончил эскизы для Италии, и, если вы их одобрите, мы тотчас отошлем их… Что касается лично меня, то я собираюсь посетить, как вы пожелали, национал-социалистский рай — побывать в Берлине, Лейпциге…
— Хорошо, что напомнили об этом!.. Сегодняшняя Германия, Анри, — это страшная тюрьма, и при малейшей оплошности вы можете исчезнуть в ней бесследно, как исчезают многие. Я соглашусь на вашу поездку при условии, что вы дадите мне слово ничего там не видеть, ничему не удивляться, а главное — молчать!
— Смею заверить вас, дорогой патрон, что у меня нет никакого желания очутиться за решеткой и, тем более, исчезнуть бесследно из этого лучшего из миров!.. Постараюсь быть немым как рыба. В этом вы можете на меня положиться, — сказал Борро.
— Когда вы собираетесь ехать?
— Хоть завтра, если у вас нет возражений. Немецкая виза у меня в кармане, остается купить билет.
— Возражений нет. Хочу обратить ваше внимание на важность прочных деловых отношений нашей фирмы с ярмарочным комитетом в Лейпциге. Учтите, у них неисчерпаемые возможности обеспечить нас заказами.
— Сделаю все, что в моих силах!.
Не успел Василий разобрать почту, как в кабинет вошел Жубер. Он молча пожал компаньону руку, медленно снял пальто, повесил на вешалку.
Борро оказался прав: вид у Жубера был неважный, он заметно осунулся, побледнел.
— Хорошо, что вы приехали, — сказал Жубер, присаживаясь к столу Василия. — Надеюсь, путешествие было приятным?
— Поездка была удачная, но тяжелая… Вы знаете из моей телеграммы, что мне удалось завершить переговоры с Берлинской конторой кинопроката и, самое главное, заключить выгодный договор с Лейпцигским ярмарочным комитетом. Таким образом, на ближайшее время мы с вами избавлены от капризов рынка. И все-таки поездка была ужасная! Вы даже представить себе не можете, что творится там, в Германии. Неприкрытая диктатура, уничтожение всякой демократии, подавление человеческой личности, варварство… Временами мне не верилось, что все это я вижу наяву… — Василий замолчал, заметив, что Жубер не слушает его, и спросил: — А теперь скажите, что с вами?
— Почему вы задаете мне такой вопрос?
— За короткое время моего отсутствия вы сильно изменились.
Жубер хотел было что-то сказать, но промолчал.
— Если вы не хотите быть со мной откровенным, не смею настаивать. Но мне казалось, что между друзьями не должно быть секретов!
— Ах, мой друг! Я несчастный человек…
— Что случилось?
— Вы знаете, как я любил Мадлен… Для нее я пожертвовал всем, чуть не разорился…
— И что же?
— Мне и больно и горько говорить об этом… Недавно я случайно застал ее с другим. И знаете, что самое досадное? Нет, вы даже представить себе не можете! Старый, толстый боров!.. Менять Жана Жубера — и на кого? На старого развратника!
— Не огорчайтесь!.. Древний поэт сказал: «Лучше на худом челне пуститься вплавь в открытое море, чем довериться лживым клятвам женщины»…
— Я ведь любил ее!..
Под вечер Василий позвонил Сарьяну.
— Приехали? — обрадовался тот. — И голова цела? Браво, брависсимо!.. Он еще спрашивает, хочу ли я встретиться с ним?! Не хочу, а настаиваю на этом. Больше того, на правах дружбы требую!..
— Приходите к нам!
— Мне совестно утруждать каждый раз Марианну. Не лучше ли встретиться где-нибудь в ресторане?
— Нет, не лучше. Я еще и жену не видел. Заехал домой с вокзала, а она уже ушла на лекции. Приезжайте к нам, посидим, выпьем бутылочку вина, потолкуем…
Вечером не успел Василий войти в дом, как Лиза бросилась к нему, обняла и вдруг расплакалась.
— Ну что ты, что ты? — успокаивал ее Василий, проводя рукой по гладко причесанным волосам жены.
— Я так беспокоилась, так волновалась!.. Места себе не находила, ночей не спала…
— Но ведь для беспокойства не было никаких оснований!
— Как же не было? Ты думаешь, я дурочка и не знаю, что творится там, где ты был… О господи, когда будет конец нашей проклятущей жизни? — Лиза вытерла слезы.
— Твердо могу сказать тебе — конец будет не скоро. Совсем даже не скоро, и поэтому нам нужно беречь нервы.
— Тебе легко говорить — беречь нервы. Я тут одна-одинешенька в этих стенах… Чего только не лезло в голову…
— Ты лучше расскажи, как жила без меня, что у тебя нового?
— Все по-прежнему. Впрочем, у меня маленькая радость: профессор Жерико, прочитав мой реферат, обещал зачислить меня с будущего учебного года на основное отделение университета. За время твоего отсутствия я встречалась с фрау Браун. Она охотно приняла от меня еще пятьсот франков и обещала принести на днях список французских журналистов, подкупленных немецким посольством и работающих на Германию. По ее словам, в списке есть фамилии довольно известных политических обозревателей.
— Это очень важно, мы найдем способ известить французские власти. Пусть они знают предателей и примут необходимые меры.
Лиза покачала головой:
— Боюсь, что французские власти никаких мер на примут…
— К сожалению, ты, пожалуй, права…
— Раза два звонил Сарьян — спрашивал, нет ли от тебя вестей?
— Хорошо, что напомнила! — спохватился Василий. — Он обещал приехать сегодня. Как у нас с едой?
— Кусок холодного мяса, фруктовые консервы…
— Вот что, я сбегаю куплю вина, а ты приведи себя в порядок и накрой на стол.
— Хлеба, хлеба не забудь!
Стол был давно накрыт, закуски расставлены, бутылки раскупорены, а Сарьяна все не было, Василий начал тревожиться, — журналист человек пунктуальный и никогда не опаздывает.
Он влетел в дом как вихрь, когда его уже перестали ждать.
— Извините, пожалуйста! Причины у меня весьма основательные… К тому же я голоден как волк! — Он сел за стол, выпил вина и принялся за закуску.
— Признавайтесь, Жюль, — не задержало ли вас свидание с прекрасной дамой? — спросил Василий.
— Кажется, я имел уже случай сообщить вам, что я однолюб и, кроме Жаннет, никаких других женщин просто не замечаю!.. Исключение, конечно, составляет Марианна, — тут же поправился Сарьян. — Нас, группу журналистов, пригласили на Кэ д'Орсэ, и лично мсье Бонкур сделал довольно важную информацию. Но обо всем этом потом, сперва расскажите о ваших впечатлениях!..
Пока Василий со всеми подробностями рассказывал о виденном и пережитом в Германии, Сарьян отдал должное и ветчине с корнишонами, и холодной телятине, не забывая подливать себе вина.
— Кажется, я понял секрет успеха Гитлера, — говорил Василий, — он выбрал удачное время для захвата власти. Экономический кризис потухает повсеместно, — разумеется, и в Германии тоже. Заметно некоторое оживление в промышленности и торговле. Гитлер ловко использует это, создавая у своих соотечественников впечатление, что все это происходит благодаря ему. Безработица постепенно ликвидируется, жизнь улучшается, — как же не быть благодарным фюреру? Он, Гитлер, жонглирует демагогическими лозунгами, утверждает, что выступает против магнатов капитализма. Народ верит, что именно он порвал ненавистный немцам и действительно несправедливый Версальский договор. Германия вооружается на всех парах, — безработные получают работу, а промышленники — колоссальные барыши.
— А где же были левые — социал-демократы и коммунисты, имевшие одно время большинство депутатских мест в рейхстаге? — спросил Сарьян.
— Насколько я знаю, социал-демократы отвергли предложение коммунистов о совместных действиях и раскололи левый фронт. Коммунистическая же партия Германии страдала некоторой левизной, сектантством. Руководство ее утверждало, что коммунистам в такой экономически развитой стране, как Германия, нет дела до городской мелкой буржуазии и крестьянства. А мелкая буржуазия в Германии составляет большинство населения. Она-то и стала опорой фашизма…
— О боже мой! — вздохнул Сарьян. — Стоит встретиться двум приятелям, как они только и делают, что говорят о политике, даже в присутствии дамы!..
— Я всегда с удовольствием слушаю ваши беседы, — сказала Лиза. — Что поделаешь, мы живем в такую эпоху, когда политика заслоняет собою все остальные интересы!..
— Кстати, как идут у вас дела с той немкой, знакомой Ганса Вебера? — спросил Лизу журналист.
— Она оказалась довольно сговорчивой…
— Эта самая фрау Браун, — сказал Василий, — передаст нам на днях список известных французских журналистов, купленных немецким посольством и работающих в пользу Германии. Как вы считаете, можно ли будет каким-либо способом разоблачить этих продажных писак? Марианна, например, думает, что никто не примет никаких мер в отношении журналистов, берущих деньги у немецкого посла, — даже если правительство будет располагать неопровержимыми доказательствами.
— Видите ли, — сказал Сарьян, — у нас считается нормальным, когда журналист получает деньги от политических партий, акционерных и страховых обществ, даже от отдельных предпринимателей и пишет в их пользу. Действует простейшая логика — каждый зарабатывает свой хлеб как может. Конечно, в данном случае речь идет о поддержке фашизма. Но как мы сумеем доказать, что эти журналисты действительно подкуплены немцами? Сослаться на их статьи? Пустое, в свободной стране каждый волен писать, что он думает. Боюсь, что Марианна права — тут ничего не сделаешь! — Он помолчал, подумал. — Я бы мог попытаться опубликовать этот список в газете, но опять-таки нужны веские доказательства, иначе патрон не согласится. Допустим, мы сумеем уговорить его. Журналисты тут же возбудят против нас судебный процесс, и мы проиграем его… Постойте, что, если этот список вручить самому министру? Поль Бонкур доверяет мне, — пусть, по крайней мере, знает, кто из журналистов продает Францию!..
— Вы правы, — сказал Василий, — Бонкур честный политик и убежденный антифашист; ему, может быть, удастся использовать список журналистов-изменников в борьбе против профашистски настроенных членов кабинета и в Национальном собрании.
— Я так и сделаю. Но положение самого Бонкура становится шатким…
— Почему?
— По многим причинам… Но главным образом из-за разногласий с премьер-министром Даладье. Вам, наверно, известно, что три государства — Югославия, Чехословакия и Румыния, потеряв всякую надежду на защиту со стороны Франции от возможной немецкой агрессии, заключили между собой союз и создали Малую Антанту. В противовес этому, английское правительство, во главе с Макдональдом, выдвигает идею создания Пакта четырех. Сегодняшний неожиданный вызов журналистов на Кэ д'Орсэ был связан именно с этим. Поль Бонкур прав, когда утверждает, что в этом Пакте четырех — Англия, Франция, Германия и Италия — англичане оставляют за собой роль арбитра, а Франция оказывается лицом к лицу с двумя тесно связанными между собой фашистскими государствами. Премьер-министр требует от Бонкура других предложений, а других предложений у него нет.
— Неужели французы попадутся на удочку англичан?
— Правые во Франции и лейбористы в Англии надеются, что таким путем можно направить интересы Гитлера на Восток. Немецкая армия увязнет в снегах России, а Европа избавится от войны. Чтобы сладить с Гитлером, англичане обещают ему даже колонии. Лозунг правых — «избегать войну любой ценой» — очень популярен среди обывателей и имущих классов не только Франции, но и Англии.
— До чего же поганая штука политика! — вырвалось у Василия.
— Поганая, что и говорить! — Сарьян поднялся. — Кажется, мы заговорились, уже поздно, пора домой… Спасибо за угощение, за приятную беседу. — У дверей он повернулся к Василию: — Как только получите список, дайте его мне, я все же покажу его министру!..
После очередной встречи с фрау Браун Лиза вернулась домой очень взволнованной.
— Знаешь, Василий, немка, передав мне список журналистов, рассказала страшные вещи!.. Она перепечатала для посла телеграмму из Берлина о тем, что сегодня утром, на одном из пригородных вокзалов Бухареста, был убит двумя выстрелами из револьвера румынский министр внутренних дел Дука — главный вдохновитель всей франкофильской политики на Балканах. Днем посол Кестнер созвал на совещание своих ближайших сотрудников, доверительно сообщил им об этом факте и произнес речь, которую стенографировала фрау Браун. Вот копия этой речи, — хочешь послушать? «Поздравляю вас, господа, лед тронулся, исчез с земли один из самых ярых врагов Германии на Балканах, господин Дука. Да будет земля ему пухом!..» Ты подумай, какой цинизм!.. «Учтите, господа, что это только начало. В Берлине
считают, что с помощью пяти или шести подобного рода политических убийств Германия сэкономила бы средства на войну и добилась бы в Европе всего, чего только пожелала бы!.. Итак, — продолжал посол, — прежде всего речь идет о Дольфусе. По мнению Берлина, он единственный австриец, который по-настоящему против аншлюса. Но полагают, что он будет устранен своими же соотечественниками, так как в Австрии число сторонников аншлюса растет с каждым днем. Вторым убийством, которое необходимо нам для того, чтобы добиться своего в Европе, должно быть убийство югославского короля Александра. Авторитетные круги Берлина утверждают, что его исчезновение положит конец единству Югославии и всей политике союзнических отношений между Францией и Балканами. Затем настанет очередь Титулеску — верного союзника Парижа и Лондона. Далее, авторитетные круги утверждают, что в тот день, когда не станет Бенеша, немецкое меньшинство в Чехословакии вернется к матери-родине. И еще: до тех пор, пока жив король Альберт, Бельгия никогда не войдет в германскую систему. Надеюсь, господа, вы согласитесь со мной, что было бы неплохо, если бы и во Франции исчезли те или иные политические деятели». Дополнительная запись стенографистки: «В ответ на последние слова герра Роланда Кестнера раздаются аплодисменты присутствующих…»
— Дай-ка сюда! — Василий взял у Лизы копию стенограммы и пробежал ее глазами. — Вот мерзавцы! Без счета убивают своих, а теперь принялись за политический террор в соседних государствах!..
— Нужно немедленно предупредить «отца» — он найдет способ сообщить органам безопасности тех государств, в которых предполагаются злодейские убийства!
— Ты права. Только как предупредить? Была бы здесь фрау Шульц!
— Нужно ее срочно вызвать!
— Правильно, попробуем вызвать фрау Шульц! — И Василий сел за письмо. Он писал:
«Вернувшись из Германии, где мне удалось заключить несколько выгодных договоров и завязать перспективные отношения с некоторыми немецкими деловыми кругами, я застал Марианну нездоровой. Она, по-видимому, захворала всерьез и нуждается в уходе. Я очень занят делами фирмы, — у нас самый разгар выполнения заграничных заказов, и отлучаться мне невозможно. Есть, конечно, выход: положить Марианну в больницу, но, признаться, ни ей, ни мне этого не хочется. Отец, не могла бы приехать к нам тетя Клара, хотя бы на короткое время? Убедительно прошу тебя, уговори ее, — пусть она собирается к нам в Париж как можно скорое.
О своих делах напишу подробно в другой раз…»
— Тебе, Лиза, придется полежать в постели несколько дней, — сказал Василий жене, прочитав ей написанное. — Во всяком случае, не выходи из дому до приезда фрау Шульц. Читай, готовься к экзаменам — словом, делай все, что захочешь, но не показывайся на улицу!
Копию списка журналистов, подкупленных немецким посольством в Париже, Сарьян вручил министру иностранных дел Бонкуру при очередной встрече и сказал ему, что список получен из, самых достоверных источников. Бонкур использовал этот список в одном из своих публичных выступлений: «Правительство Франции располагает данными, свидетельствующими, что некоторые журналисты, имена которых нам известны, находятся в весьма тесных связях с посольством одной иностранной державы и отдают свое перо на служение этой державе». Присутствовавшие на этом выступлении министра рассказывали, что в ответ на сообщение Бонкура последовали многочисленные вопросы; «Кто они? Почему не называете фамилий?.. Неужели правительство осмелится отменить свободу слова и заткнуть рот журналистам?» Кто-то крикнул с места: «Франция — свободная республика, и каждый вправе говорить или писать все, что захочет…»
Сообщение министра никаких последствий не имело, — на страницах парижской печати по-прежнему появлялись прогерманские и профашистские статьи.
9
Наступила ранняя весна — прекрасная парижская весна. На зазеленевшие бульвары высыпала детвора. Цветочницы, продавали фиалки. В магазинах обновлялись витрины. Манекенщицы рекламировали весенне-летние моды 1933 года. Многочисленные отели и рестораны готовились к наплыву туристов.
Экономический кризис шел на убыль, полным ходом работали заводы и фабрики, деловая активность росла с каждым днем. Фирма «Жубер и компания» тоже процветала, — к заказам от крупных универмагов и торговых фирм из провинции прибавились заказы из-за границы, в особенности из Германии. Василий не ошибся в своих расчетах: ярмарочный комитет Лейпцига, особенно после того как там побывал Борро, засыпал их заказами. Основной капитал фирмы перевалил за четыреста тысяч франков.
В спортивном клубе устраивались большие и малые соревнования, в которых участвовал и Василий. Маринье и де ла Граммон прониклись к нему особой симпатией после того, как в доверительной дружеской беседе он рассказал им о виденном в Германии. Маринье сказал ему тогда: «Мсье Кочек, у вас острый глаз и отличное восприятие, — вы увидели и услышали в Германии самое значительное, достойное внимания, и мы искренне благодарны вам за ваши ценные сообщения».
Фрау Браун по-прежнему аккуратно получала свою тысячу франков в месяц и передавала Лизе разного рода информацию, иногда ценную. Она честно «зарабатывала» свои деньги…
В ожидании «отца», о предполагаемом приезде которого сообщила фрау Шульц, побывав в Париже, Василий и Лиза жили в городе. Только по субботам они уезжали к Сарьянам, а в понедельник утром возвращались в Париж.
Василий удивлялся, с какой любовью, с каким увлечением работал журналист в саду — окапывал фруктовые деревья, опрыскивал их химикатами, сажал цветы, готовил землю под огород. Василий с удовольствием помогал ему. Видя, с какой ловкостью он орудует лопатой и граблями, Сарьян не раз говорил:
— Дорогой Кочек, вы прирожденный земледелец, вам следовало бы стать фермером!..
«Отец» приехал в Париж неожиданно. Явившись в контору фирмы, он спросил на ломаном французском языке, где можно найти господина Кочека.
Узнав его голос, Василий приоткрыл двери кабинета.
— Кто меня спрашивает? Я — Кочек. — И когда «отец» подошел к нему: — Чем могу служить?
— Уделите несколько минут для делового разговора.
Жубера не было в конторе, и они, оставшись вдвоем, могли разговаривать свободно.
— Чемодан свой я оставил на вокзале, номер в гостинице не снял, — сказал «отец», устроившись в кресле. — Удобно тебе поместить гостя на загородной даче?
— Вполне!
— Тогда после работы заезжай за мной на Северный вокзал. Я возьму чемодан из камеры хранения и буду ждать тебя у главного входа. Какое время тебя устроит?
— Хорошо бы в шесть тридцать. К этому времени вернется Лиза, и мы втроем поедем за город.
— Отлично, буду ровно в шесть тридцать!.. Скажи своим, что я представитель обувной фирмы «Батя» из Чехословакии. Приехал договариваться о заказе на рекламу в Латинской Америке. На случай, если нас увидят вместе, — привез тебе привет от родителей.
— Хорошо, только у нас вряд ли кто будет интересоваться вами. У меня бывают десятки посетителей на дню… А что вы будете делать до вечера?
— Поброжу по Парижу. Может человек позволить себе изредка такую роскошь? Позавтракаю, почитаю газету в кафе, вот время и пройдет. Ты обо мне не беспокойся, не пропаду! — Он надел шляпу и вышел.
«О делах — ни слова!.. Вот выдержка у человека», — подумал Василий.
Он накупил всякой еды, прихватил несколько бутылок вина, — знал, что «отец» любит французские вина. Заехал домой за Лизой, и в седьмом часу они подъезжали к Северному вокзалу. Василий издали увидел высокую фигуру «отца» в модном летнем реглане, в широкополой шляпе, со щегольским чемоданом в руке. Василий подкатил к ступенькам главного входа. «Отец» быстро открыл дверцу, сел рядом с Лизой на заднее сиденье, и они тронулись.
— Лучшего места для деловых разговоров, чем машина, я не знаю. Рассказывайте, товарищи парижане, что у вас нового? — спросил «отец».
— Все идет своим чередом — в общем, нормально, — отозвался Василий. — Мы от вас ждем новостей.
— Мои новости не ахти какие. Помнишь, Василий, больше года назад я говорил тебе, что в Германии к власти придут фашисты? К сожалению, мой прогноз оправдался. И знаете, друзья, что самое странное? Политические деятели Англии, Франции и Америки словно загипнотизированы! Они делают вид, что не замечают опасности, которую готовит им Гитлер. Более того, всячески ублажают его. Глупцы, они не понимают, с кем имеют дело!..
— Дело не только в слепоте политических деятелей, а еще и в том, что у фашизма немало сторонников, — сказал Василий. — Во Франции они развивают бешеную активность по созданию «пятой колонны». Одни делают это ради денег, которыми их щедро снабжает немецкое посольство, другие — из-за ненависти к Народному фронту, к коммунистам прежде всего. За последние полгода фашистские и профашистские организации, такие, как «Боевые кресты», «Объединение бывших фронтовиков», «Патриотическая молодежь», активизировались. Имея поддержку со стороны префекта парижской полиции Кьяппа, они действуют без опаски!..
— Все это я знаю, в частности и из вашей же информации: вы толково работаете!.. Могу сообщить, что мы ничего не знали о том, что фашисты подготавливают политический террор в других странах. Ждали от них всякой пакости, но такого, признаться, не ожидали!..
— А удалось сообщить кому следует о готовящихся убийствах? — спросила Лиза.
— Удалось-то удалось, а вот сумеют ли они обезопасить своих руководителей — неизвестно! Уж больно беспечные люди эти враги Гитлера… Бенеш, например, считает, что эти опасения преувеличены — никакое, мол, уважающее себя государство не станет на путь убийства из-за угла своих политических противников! А король Югославии Александр убежден, что времена плаща и шпаги давно миновали…
— Как бы не пришлось им расплачиваться кровью за свое благодушие! — сказал Василий.
— Ну, а как ты живешь, моя красавица? Привыкла к парижскому климату? — обратился «отец» к Лизе, желая, видимо, переменить тему разговора.
— Так вот и живу!.. Всего много — и денег, и нарядов, а на душе смутно… Очень я устала, затосковала, хочу домой… «Отец», помогли бы вы нам вернуться домой… Если не насовсем, то хотя бы в отпуск съездить, повидаться со своими…
— Что же, в отпуск, пожалуй, можно… Нужно только сперва заглянуть в Чехословакию, взять там ваши советские паспорта, вернуться опять сюда и вместе с Василием поехать домой через Швейцарию или Скандинавию. Ехать через Германию, даже транзитом, опасно… А вот и сюрприз: я привез вам обоим письма из дома! — «Отец» достал из кармана два письма и протянул Лизе. Ей очень хотелось тут же прочесть их, но она сдержалась.
— Когда же можно поехать за паспортами? — спросила она.
— Да хоть завтра, если, конечно, Василий не будет возражать!
— Мы это еще обсудим, — спокойно сказал Василий.
— Правильно, нужно обсудить!.. У меня, Лиза, есть к тебе просьба. Когда ты вернешься из отпуска, придется тебе на время расстаться с мужем и поехать в одну страну для выполнения такого же задания, что и здесь. Но — самостоятельно, без помощи Василия. Думаю, ты уже набралась опыта, справишься…
— Вот уж не знаю… Одно дело — справляться с работой, когда у тебя есть твердая опора, и совсем другое, когда ты одна. Лучше уж я останусь с Василием!..
— Василий нужен здесь, а ты — там… Понимаешь ли, какое дело, — двое мужчин, толковые, опытные работники, побывали там и ничего не смогли сделать. Нужна женщина, спокойная, вдумчивая, преданная долгу. В той стране немцы укрепляют свои позиции, вербуют своих сторонников не только из среды продажных политиканов, но и в армии. Как они добиваются всего этого, через какие каналы? Нам неизвестно, а знать надо. Правда, помешать этому мы не можем, но быть в курсе событий обязаны. Ты понимаешь меня? — «Отец» повернулся к Лизе и посмотрел ей в глаза.
— Понимаю, конечно, — тихо сказала Лиза. — Но учтите, что связь со стенографисткой немецкого посольства фрау Браун поддерживается здесь через меня. Она никого больше не знает и знать не захочет!
— Учитываем и это. Но поскольку твое пребывание в той стране нужно до зарезу, будем искать другие пути для связи с Браун. В недалеком будущем сюда приедет на постоянное жительство Шульц. Ей, австриячке, скоро будет невозможно пересекать границу и поддерживать связь с вами. В Париже она начнет работать портнихой. Разве нельзя, чтобы она заменила тебя? Они ведь, кажется, знакомы?
— Знакомы…
— Вот видишь, все складывается как нельзя лучше!
— Правильнее будет сказать: вы все предусмотрели заранее! Но я не хочу, не могу ехать без Василия! — твердо сказала Лиза.
— Понятно, твою волю насиловать никто не собирается, решение остается за тобой. Хочу, однако, добавить, что это не мое личное мнение, а партийное поручение, — в голосе «отца» прозвучал холодок.
В машине наступило молчание, только и было слышно, как шуршали шины по гладкому асфальту. Не оборачиваясь, глядя на шоссе, Василий сказал:
— Мы себя считаем солдатами партии, и для нас ее поручение — закон. Лиза не раз доказывала это на деле. Раз нужно — она поедет куда угодно и когда угодно, хоть к черту на рога!..
Машина остановилась у коттеджа Сарьянов. Прежде чем войти в дом, «отец» осмотрелся и, похоже, остался доволен. Особенно понравилось ему то, что можно подняться на второй этаж со двора, минуя хозяев.
Ужинали все вместе внизу, в столовой. Василий представил «отца» Сарьяну и Жаннет как одного из директоров обувной фабрики «Батя» в Чехословакии, приехавшего в Париж для деловых переговоров о рекламе, и добавил, что мсье Волочек, хорошо знакомый с его родными, привез от них письма.
Журналист не поверил ни единому слову Василия, но ничем этого не проявил. Как радушный хозяин, он подливал в бокалы вино, предлагал закуски, рассказывал веселые истории.
У себя наверху Лиза показала «отцу», шутя называя его мсье Волочек, его комнату. Но прежде чем лечь спать, они еще долго беседовали.
— К тому времени, когда вы вернетесь из отпуска, фрау Шульц, видимо, обоснуется в Париже. Нужно, чтобы Лиза свела ее с Браун. Это целесообразно со многих точек зрения. Во-первых, Лиза некоторое время будет отсутствовать, — нужно, чтобы в это время кто-то снабжал Браун деньгами и регулярно получал от нее информацию — вдруг произойдет что-то важное! Во-вторых, немка ничего но должна знать о Василии. В жизни всякое бывает, и нужно, чтобы он, как жена цезаря, оставался вне подозрений при любых обстоятельствах, — тихо говорил «отец». — Для связи с вами вместо Шульц придется подыскать другого человека…
— Желательно, чтобы связь была постоянной, а то возникает необходимость срочно информировать вас, и не знаешь, как быть, — сказал Василий.
— Мы постараемся наладить именно такую связь. Но вам придется быть готовыми к тому, что при нынешней политической ситуации она может оборваться в любую минуту. Следовательно, нужно иметь в запасе другие возможности. Ты, Василий, подумай над таким вопросом: нельзя ли, в случае особой необходимости, использовать коммерческие связи вашей фирмы с другими странами для связи? Разумеется, не иначе как путем легальной переписки?..
— Можно, но трудно. Для этого нужно иметь в этих странах надежных корреспондентов. Не лучше ли использовать для этой цели одного из наших художников? У меня на примете есть один…
— Проверенный? — спросил «отец».
— Точнее было бы сказать — надежный. До сих пор мне не приходилось давать ему никаких поручений, за исключением одного случая, — помнишь, Лиза, во время твоей первой встречи с фрау Браун в кафе сидели Борро с приятелем? К счастью, все обошлось благополучно, помощь их не потребовалась. Он побывал в Германии, своими глазами видел, что такое фашизм… Парень честный, порядочным, я ручаюсь. И есть у него еще одно достоинство — он истинный патриот Франции.
— Последнее несомненно существенно. Да и вообще твое предложение заманчиво, — как бы сам с собой вслух рассуждал «отец». — Но прежде чем привлечь его к делу, хорошенько проверь его — давай небольшие поручения, приучай работать. Раз он патриот и любит свою родину, объясни ему, что борьба с фашизмом — первостепенная задача всех честных людей!..
— Не беспокойтесь, все будет сделано по высокому классу! — пошутил Василий.
— А теперь разговор с тобой, красавица, — обратился «отец» к Лизе, как будто вопрос о ее поездке решен окончательно. — Может случиться, что мы с тобой не встретимся больше ни в Чехословакии, ни дома. Поэтому выслушай меня внимательно. После отпуска вернешься сюда с Василием и, как подданная Чехословацкой республики, совершенствующаяся по своей специальности в Сорбонне, поедешь в ту страну, о которой я говорил, через Италию. Обязательно через Италию! Поживешь в ней недельки две-три, поездишь по разным городам, познакомишься с шедеврами искусства… В той стране, куда ты поедешь, ученые недавно произвели большие раскопки и обнаружили остатки римского не то городища, не то военного укрепления. Найдено великое множество интересных для истории искусства предметов. Все это — по твоей специальности!.. Раскопки производились в каких-нибудь тридцати — тридцати пяти километрах от столицы той страны. Таким образом, ознакомление, а может быть, и участие в раскопках не помешает тебе жить в столице. Друзья снабдят тебя рекомендательными письмами на имя профессора Николаи, руководителя раскопок… Думаю, задача ясна. А как нужно вести себя в той стране, расскажет тебе Василий, — он мастак в этих делах. Если нужны деньги, наскребем…
— Деньги не понадобятся, — сказал Василий, — «Жубер и компания» солидная фирма, и один из ее совладельцев возьмет на себя все расходы, связанные с такой благородной целью, как раскопки древнеримских городищ и изучение истории искусства.
— Замечательно! Вот что значит иметь дело с финансистами, — рассмеялся «отец». — Одной заботой у меня будет меньше… Ну, как, Лиза, есть у тебя вопросы ко мне?
— Есть. Хочу знать: с кем я должна связаться там, на месте, и кто будет мне помогать?
— Никто.
— Никто? Неужели мне придется начинать на голом месте?
— Совершенно верно, именно на голом месте. Поживешь, осмотришься, сама подберешь себе помощников. Как в каждой стране, так и там много антифашистов и людей, сочувствующих нам. Вот таких и поищешь. Здесь вы тоже начинали на голом месте…
— Но здесь был Василий!
— А там — товарищ Лиза! Мы ведь не разведчики в обычном смысле этого слова, — мы антифашисты. И не только защищаем интересы своей родины, но и помогаем тем народам, которым грозит фашизм. Поэтому нам легче работать, у нас везде найдутся помощники! — «Отец» зевнул, потянулся. — Ну что ж, дети мои, пора и спать! Кажется, старость подходит, — быстро устаю, рано тянет ко сну…
— Прежде чем пожелать вам спокойной ночи, хотелось бы узнать, долго ли вы пробудете у нас? — спросил Василий.
— Завтра побуду — и в дорогу… Почему ты спросил?
— Когда приедет во Францию фрау Шульц и скоро ли явится новый курьер?
— Фрау Шульц будет буквально на днях. О курьере пока ничего определенного сказать не могу. Думаю, что скоро…
— Лизе придется дождаться фрау Шульц, свести ее с Браун — только после этого она сможет поехать в Чехословакию, — сказал Василий, — а я начну подготавливать компаньона к мысли, что поеду домой… К вам просьба: я дам Лизе письма на имя Жубера, Маринье и де ла Граммона. Лиза их возьмет с собой туда, а вы дайте команду, чтобы их отправили по адресам через чехословацкую почту.
— Молодец, хорошо придумал!.. Постой, а как насчет бумаги, конвертов?
— Ничего страшного, если письма будут написаны на французской бумаге и вложены во французские конверты. Уезжая отсюда, каждый захочет взять с собой красивую бумагу и конверты, а во Франции они действительно хороши!..
В левых газетах стали время от времени появляться антифашистские карикатуры, подписанные «К.Г.». Сначала они вызывали только смех. Но от рисунка к рисунку они становились злее, целеустремленней. Василий догадывался, что характер карикатур менялся не без влияния Борро, — тот, после поездки в Германию, подкидывал своему другу, Клоду Гомье, идеи, подсказывал темы, а может быть, и сам принимал участие в его работе.
Однажды в газетном киоске на первой странице «Юманите» Василий увидел большую карикатуру на Гитлера и купил газету, хотя раньше он никогда не позволял себе этого. Впрочем, Василий попросил у продавца все утренние парижские газеты, — не должно возникнуть даже тени подозрения, что мсье Кочек, коммерсант, читает коммунистическую прессу.
У себя в кабинете Василий долго рассматривал карикатуру. В это время к нему зашел Борро.
— Вы видели это, Анри? — спросил Василий.
— Да, видел.
— Нравится?
— Как вам сказать?.. Ничего.
— Автор — Гомье?
— Мсье Кочек, я давно решил не скрывать этого от вас, да как-то не удавалось поговорить с вами… Все карикатуры, появившиеся за последнее время на страницах левой печати, принадлежат Клоду. И если… — Борро запнулся, — если это может причинить вам неприятности и принести вред коммерческим делам, Клод тотчас уйдет из фирмы. Но рисовать карикатуры он не перестанет!
— Что ж, откровенность за откровенность… Я давно знаю, что Клод Гомье рисует политические плакаты и карикатуры. Заметил я и то, что за последнее время они стали более зрелыми… Полагаю, что тут не обошлось без вашего влияния.
— Да, патрон, вы не ошиблись! Если это не устраивает вас, то я тоже подам заявление об уходе…
— Не о том речь! — остановил Василий художника. — Я не собираюсь упрекать вас, но и вы должны правильно понять меня. Я иностранец, в любой день префект полиции может потребовать, чтобы я покинул Францию в течение двадцати четырех часов. Мне не хотелось бы лишний раз привлекать к себе внимание полиции…
— Мы уйдем оба! — перебил Василия художник. — Вы сделали для нас так много, что было бы неблагородно с нашей стороны…
— Анри, будет лучше, если вы выслушаете меня не перебивая. В интересах дела и ваших лично не нужно, чтобы вы говорили о своем участии в этой работе. Под карикатурами нет вашей подписи… Что касается Гомье, то он не должен числиться в списке сотрудников нашей фирмы, но продолжать работу может!
— Не понимаю.
— Чего же тут не понимать? Он будет выполнять работу дома и представлять счета на оплату от подставного лица!..
— Мсье Кочек, было время, когда нам было очень худо — мы перебивались кое-как и часто ложились спать с пустым желудком. Однако никто из нас не позволял себе сделок с совестью… Клод не только талантливый художник, но и порядочный человек, — он вряд ли примет ваше предложение! — В голосе Борро слышалась плохо скрытая обида.
— Вы всерьез хотите бороться против фашизма? — хмуря брови, спросил Василий.
— Средства борьбы должны соответствовать нашим идеалам…
— Дорогой Анри, я хотел бы, чтобы вы мне верили и доверяли. Тогда мы с вами поговорим кое о чем более важном… Сейчас могу только еще раз сказать вам: для успешной борьбы с нацизмом нужно уметь изворачиваться, иногда хитрить. Нельзя быть донкихотами, если хочешь реально взглянуть на вещи: нам придется иметь дело с коварным врагом!
— Я вам и верю и доверяю!
— По-видимому, не в той все же мере, в какой хотелось бы… Ничего, это пройдет, и тогда мы поговорим с вами более откровенно. Я уволю Гомье, а вы объясните ему, ради чего это делается, — чтобы он не обижался и продолжал работать по вашим заданиям. При этом заработок его ни в коем случае не должен снижаться!.. Вы только не думайте, что я поступаю так из желания убить одним выстрелом двух зайцев — оградить себя от возможных неприятностей и сохранить для фирмы талантливого художника!
— Я вас понял. — Лицо у Борро было хмурое, губы сжаты.
Он встал и молча вышел.
Дела фирмы шли успешно, но производить более внушительное впечатление на клиентуру никогда не было лишним, поэтому Василий арендовал и второй этаж дома, в котором помещалась контора. На первом этаже находились теперь экспедиция, бухгалтерия, кабинет директора-распорядителя. На втором — кабинеты обоих совладельцев фирмы и главного художника. В коридорах — ковровые дорожки, заглушающие звуки шагов. Между кабинетами Я.Кочека и Ж.Жубера — секретариат, а рядом небольшая гостиная для переговоров, приема и угощения крупных клиентов. По всему фасаду дома шла огромная вывеска: «Рекламная фирма Жубер и компания» — золотом на голубом фоне. По ночам горел световой призыв: «Реклама — могучий двигатель торговли! Пользуйтесь услугами нашей фирмы!» Все это потребовало дополнительных расходов, но они составляли ничтожный процент в оборотах фирмы.
То, что у него был теперь отдельный кабинет, у дверей которого сидела секретарша, охранявшая его покой, особенно устраивало Василия.
Жубер, все еще переживавший измену Мадлен, был безучастен ко всему. Он уже не насвистывал арий из опер, не ходил жизнерадостным донжуаном, но по-прежнему следил за своей внешностью. И все же даже он пришел в восторг, войдя впервые в свой новый кабинет. Он, как ребенок, обрадовался, увидев большой ворсистый ковер на полу, книжные шкафы из красного дерева, изящный буфетик с баром, массивный письменный стол, маленький столик для телефонов, в углу — огромные часы с басовитым звоном, тяжелые занавеси на окнах, — словом, кабинет не хуже, чем у директоров крупных акционерных компаний, банков и страховых обществ.
В начале апреля пришло из Америки еще одно письмо. Нью-йоркская контора кинопроката интересовалась, почему до сих пор не прибыл представитель рекламной фирмы «Жубер и компания» для переговоров. Контора кинопроката брала на себя все расходы, связанные с приездом представителя фирмы в Америку.
«А почему бы не поехать в Америку мне самому? — подумал Василий, прочитав письмо. — Изучить, кстати, постановку рекламного дела, а оттуда махнуть прямо в Швейцарию? Там встретиться с Лизой — и вместе домой…»
Не откладывая дело в долгий ящик, он отправился в американское консульство.
В просторной приемной консульства было много народу. Василий вручил дежурному чиновнику свою визитную карточку и попросил доложить о себе.
— Кому? — спросил тот.
— Если можно, вице-консулу! — сказал Василий первое, что пришло ему в голову.
Вскоре его пригласили. В роскошном кабинете, в окружении множества телефонных аппаратов, сидел за громадным письменным столом широкоплечий, коротко подстриженный человек. На его простоватом лице светились серые проницательные глаза. Поднявшись навстречу пошедшему, вице-консул оказался коренастым человеком невысокого роста. Пригласив Василия сесть и сам усевшись в кресло, он спросил:
— Чем могу быть вам полезен, господин Кочек? — Вице-консул довольно чисто говорил по-французски.
— Не так давно, — сказал Василий, — мы получили приглашение от кинопрокатной конторы приехать в Нью-Йорк для деловых переговоров. В то время по некоторым причинам наша фирма лишена была возможности принять это приглашение. Сейчас кинопрокатная контора повторила свое приглашение. Я решил побеспокоить вас просьбой дать мне визу для поездки в Америку и, если можно, ускорить это, потому что оттуда я собираюсь ехать на родину. — Василий протянул вице-консулу полученное им письмо из Америки.
Вице-консул, прочитав письмо, вернул его Василию.
— Для получения визы вам придется выполнить некоторые формальности: заполнить анкету в трех экземплярах, приложить к ней восемь фотокарточек, представить врачебную справку о том, что не болеете трахомой и, извините, венерическими заболеваниями, — сказал он.
— Что поделаешь, придется выполнить все это! — Василий улыбнулся и хотел было встать и уйти, но вице-консул удержал его:
— Простите, господин Кочек, кто вы по национальности?
— Словак из Чехословакии. Разве это имеет значение для получения визы?
— Нет, конечно! Просто я сам — американец югославского происхождения, вернее, хорват, то есть такой же славянин, как вы.
— Очень приятно! — ответил Василий, стараясь понять, к чему клонит американец.
— Мой отец, правда, давно эмигрировал из Югославии и в Штатах устроился довольно прилично. Я родился и вырос в Штатах, там же получил образование. И вот — стал дипломатом, хотя и небольшим, но все же дипломатом!.. Фамилия у меня хорватская — Ковачич. Джо Ковачич, — повторил он. — Странно, мне иногда снятся югославские горы, хотя я никогда не видел их… Говорят, это зов родины…
— Скорее всего, результат рассказов вашего отца о родине!
— Может быть… А вы? Давно живете во Франции?
— Нет, всего три года.
— Как же вам удалось так скоро получить французское подданство?
— Вы ошибаетесь, я подданный Чехословацкой республики.
— Как же?.. — Ковачич взглянул на визитную карточку Василия. — Тут написано, что вы владелец фирмы.
— Законы Французской республики позволяют иностранцам заниматься предпринимательством.
— Я этого не знал!.. И как у вас идут дела?
— Жаловаться не приходится! У нас работают талантливые художники, отличные мастера. Оформление витрин многих больших магазинов Парижа, да и не только Парижа, изготовляется в наших мастерских. Также многие кинотеатры пользуются нашей тематической рекламой. Мы поддерживаем деловые связи с Италией, Англией, Германией. Особенно успешно работаем для Лейпцигской ярмарки. Надеемся установить такие же связи с американскими кинопрокатными фирмами…
— Интересно! Очень интересно… Рекламное дело всегда интересовало меня…
— Вы могли бы заехать к нам, посмотреть наши мастерские. Я познакомлю вас с образцами наших изделий, — предложил Василий, видя искреннее дружелюбие американца.
— С удовольствием, не знаю только, когда вам удобно?
— В любой день, в любое время, когда вам захочется. На карточке указаны номера телефонов и адрес. Позвоните, и я буду весь к вашим услугам!
Ковачич не заставил себя долго ждать. Дня через три он позвонил по телефону и приехал к Василию. Контора, или, как он называл, офис, ему очень понравилась, а от мастерских он пришел в восторг и уверял Василия, что фирма будет иметь несомненный успех в Штатах.
После осмотра мастерских они пообедали в русском ресторане. Василий пригласил Сарьяна и Борро, угостил всех смирновской водкой «Слезинка», черной икрой, лососиной и русскими блинами. Ковачич пил и ел много, похваливая русскую кухню:
— Я окончательно убедился, что французы и русские понимают толк в еде! У нас в Штатах готовят однообразно и невкусно!
В отличие от немцев, работники американского дипломатического корпуса оказались весьма общительными, запросто завязывали знакомства с местными жителями. Ковачич по-приятельски относился к Василию — приезжал к нему в контору, приглашал его на обед или ужин. В первое время это вызывало у Василия подозрение — уж не старается ли американец узнать, что за человек этот Кочек? Ведь каждый американский дипломат в то же время и разведчик… Однако вскоре он убедился, что вице-консулу просто приятно бывать в обществе словака, почти соотечественника.
Прошло около месяца, и однажды Ковачич позвонил и с огорчением сообщил Василию, что в визе ему отказано.
— Надеюсь, вы верите, что мы здесь ни при чем, — добавил он. — На наш запрос эмиграционные власти ответили отказом. Не огорчайтесь, мистер Кочек, мы сегодня же пошлем более мотивированный запрос. Было бы неплохо, если бы вы тоже написали приглашавшим вас конторам, чтобы они на месте приняли меры. К сожалению, получить американскую визу не так-то легко!..
— Написать напишу. Но, должен вам признаться, дорогой мистер Ковачич, что я не очень-то спешу в Америку. Дадут мне визу — хорошо, не дадут — плакать не стану. Жили до сих пор без Америки, проживем и дальше!
— В ваших словах я чувствую обиду… Еще раз уверяю вас, генеральное консульство ни при чем!
— Поеду я в Америку или нет, это не может помещать нашей взаимной симпатии! — заверил Ковачича Василий.
Часом позже к нему явился представитель ярмарочного комитета в Лейпциге — молодой человек, по виду типичный немец. Посетитель плотно прикрыл за собой дверь и, подойдя близко к письменному столу, назвал пароль. Получив ответ и убедившись, что перед ним сидит именно тот, кто ему нужен, молодой человек сказал, что приехал от «отца».
— Теперь связь с вами буду поддерживать я, под видом представителя Лейпцигского ярмарочного комитета. «Отец» просил передать, что все бумаги готовы и чтобы вы ускорили отъезд в Чехословакию Елизаветы Владимировны. Она должна так рассчитать время, чтобы попасть в назначенную страну во время студенческих каникул, а до этого побывать еще в Италии.
— Ясно, — коротко ответил Василий и спросил молодого человека, где тот остановился.
— Все в порядке, не беспокойтесь. Я пробуду в Париже дня два-три. Перед отъездом заеду к вам за письмом.
— Хорошо, я приготовлю письмо для «отца».
Дома они долго обсуждали, какой маршрут избрать Лизе для поездки в Чехословакию. Самый краткий путь лежал через Германию. Получить транзитную визу было несложно, но все в Василии восставало против поездки Лизы через территорию третьего рейха. Разложили на столе карты и убедились, что обходный путь через Италию — Австрию отнимет много времени. Пришлось подать заявление в немецкое консульство с просьбой выдать подданной Чехословацкой республики Марианне Кочековой транзитную визу для поездки на родину через Германию.
Провожая жену на Северном вокзале, Василий еще и еще раз просил ее:
— Будь осторожна! Пока поезд следует по территории Германии, не выходи из вагона. Случайным спутникам не доверяй, в длинные беседы не вступай. Нацисты способны подсадить к чешке специального агента и устроить любую провокацию!
— Дорогой, ты разговариваешь со мной так, словно я маленькая девочка!.. Не беспокойся, все будет в порядке. Не успеешь соскучиться, как я вернусь обратно, — старалась успокоить его Лиза.
— И все же будь осторожна!
Стоя на платформе, Василий долго смотрел поезду вслед, борясь с тревожным чувством, охватившим его…
Франко-германскую границу пересекли без всяких приключений. Немецкие пограничники и таможенники были даже вежливы.
Козырнув и спросив разрешения, они проверили документы и вещи пассажиров тут же, в вагоне, и, еще раз извинившись, ушли. Словом, на границе все обстояло по-прежнему, как до прихода к власти в Германии нацистов. Единственно, что бросалось в глаза, так это широкая повязка со свастикой на рукавах у пограничников. Зато на германо-чехословацкой границе пограничники были подчеркнуто грубы, подолгу вертели в руках чехословацкие паспорта, задавали пассажирам неуместные вопросы, каждого спрашивали о его национальности. Таможенники расшвыривали вещи, достав их из чемоданов, ощупывали каждый шов, выливали чай из термосов и некоторым пассажирам предлагали пройти в помещение таможни, чтобы там продолжить проверку. К счастью, Лизу миновали такие испытания.
Пассажиры трех вагонов, следовавших прямо в Прагу, облегченно вздохнули, когда очутились на территории Чехословакии. Здесь, на пограничном пункте, Лиза узнала, что немецкие пограничники сияли с поезда пятерых пассажиров еврейской национальности.
В Праге Лиза, не теряя времени, пересела на другой поезд и поехала на «родину» — в словацкую деревню. Староста, предупрежденный заранее о ее приезде, встретил землячку радушно. Но когда они пришли к нему домой и остались одни, посоветовал ей долго здесь не задерживаться.
— У нас тоже завелись предатели, — сказал он, вручив ей объемистый пакет.
В пакете Лиза обнаружила советские паспорта — свой и Василия, письмо чешского профессора Свободы к руководителю раскопок профессору Николаи, заключавшее в себе просьбу допустить госпожу Марианну Кочекову, специалистку по истории искусств и архитектуры, в настоящее время совершенствующуюся в Сорбонне, к участию в археологических раскопках.
Ехать обратно во Францию без задержки в Чехословакии было не совсем удобно, — ведь она приехала сюда навестить тяжело больную тетку. Не послушать старосту, верного товарища, тоже было нельзя. Поэтому Лиза в тот же день вернулась в Прагу, сняла номер в гостинице, оставила там вещи, привела себя в порядок и вышла на улицу.
Был теплый солнечный день, и Прага даже после Парижа казалась сказочно красивой. По тротуарам сновали толпы хорошо одетых людей. Слышались громкий говор, смех, и невольно создавалось впечатление, что в мире все хорошо и спокойно, что над Чехословакией не нависла опасность. «Что это, — думала Лиза, — беспечность или желание отогнать от себя мрачные мысли и жить сегодняшним днем?»
Ночью, в холодном номере гостиницы, Лизе не спалось. Ворочаясь с боку на бок, она все думала о своей судьбе, превратившей ее, любящую тихий семейный уют, в скиталицу. Почему, почему на их долю с Василием выпала такая беспокойная жизнь?.. Через минуту Лиза уже говорила сама себе: «Но ведь кто-то должен заниматься тем, чем занимаемся мы!» Она своими глазами видела фашизм, видела, правда, очень мало, не и этого оказалось достаточно, чтобы понять многое и всем сердцем возненавидеть его… Нет, она не будет сидеть без дела в этом чудесном городе. Могло ведь случиться, что больная тетка умерла и ее похоронили, не дождавшись приезда племянницы из Франции. К тому же она учится, скоро экзамены, — вот она и спешит обратно. Документы ее в полном порядке, и никто придраться к ней не может!..
После почти бессонной ночи Лиза поспешила на городскую железнодорожную станцию, купила билет в вагон, идущий в Париж через Германию, и вечером уехала.
На пограничном пункте опять хамили молодые парни со свастикой на рукаве, но в общем для Лизы все обошлось благополучно, и она без всяких осложнений доехала до германо-французской границы, где и случилось непредвиденное.
Пограничники, проверив ее паспорт, вернули его обратно и даже пожелали счастливого пути. Таможенники слегка покопались в вещах и, закрыв чемодан, ушли… Не прошло и трех минут, как офицер вернулся и предложил Лизе следовать за ним.
— Куда? — спросила она.
— Нам вопросов не задают, — ответил ей офицер. — Поторапливайтесь!
В сумочке у Лизы лежали два советских паспорта, рекомендательное письмо. На советском паспорте наклеена ее, Лизина, фотокарточка, а на руках у нее — паспорт Чехословацкой республики… Разве этого мало, чтобы заподозрить ее в шпионаже в пользу Советского Союза или Чехословакии? Отправят в концентрационный лагерь — и поминай как звали! Такие мысли молнией пронеслись у нее в голове, и она лихорадочно думала, что же ей предпринять и можно ли что-либо предпринять в таком положении? Оставить сумочку в купе — все равно найдут. Уронить ее по дороге — вряд ли это пройдет незамеченным…
Офицер торопил ее, а Лиза медленно застегивала кофточку, чтобы выиграть хотя бы еще секунду.
— Проверяли же таможенники мои вещи! У меня нет ничего, ровным счетом ничего. Вот посмотрите! — с этими словами она вывалила содержимое чемодана на сиденье. — Здесь только мои платья, белье…
Офицер, громко чертыхаясь, стал помогать Лизе укладывать вещи обратно в чемодан.
— Скорее, скорее! — повторял он.
— Но ведь я могу отстать от поезда.
— Поедете следующим, если вообще поедете!
Вещи были собраны, офицер, не доверяя ей больше, сам взялся за ручку чемодана. В это время дверь приоткрылась, в купе заглянул плотный человек с помятым лицом.
— Не здесь! В первом купе с того конца, — сказал он шепотом и тут же исчез.
Офицер швырнул чемодан на сиденье и, прошипев проклятие, кинулся в другой конец вагона. Лиза видела, как он вел к выходу молодую женщину. Та держала в руке револьвер и говорила по-английски: «Не понимаю, что тут особенного? Ну револьвер! Я же купила его, купила за доллары…»
У Лизы ослабли ноги, она присела на диван и долго но могла прийти в себя.
Поезд наконец тронулся…
В это самое время около трех часов ночи, в Париже, Василий проснулся, словно кто-то толкнул его в бок и позвал на помощь. Он сел в постели, вслушиваясь в ночную тишину, и вдруг как-то особенно отчетливо представил себе, что он один в квартире, что Лизы нет, она уехала. Он попытался представить себе, где сейчас она может быть — в деревне у старосты или уже в Праге, снова лег, но заснуть не мог. Полежав с открытыми глазами, он встал, выпил несколько глотков минеральной воды, подошел к окну и открыл его настежь. Большой город спал. В окнах домов давно погасли огни, и только световые рекламы на крышах больших магазинов то вспыхивали, то снова гасли. По тротуару простучали женские каблучки — тук-тук…
Ночная прохлада окончательно прогнала сон, и мысли его снова вернулись к Лизе. Родная, любимая Лиза! Где ты?.. В памяти вставали картины давно минувших дней, — они были такими яркими, такими живыми, будто все, о чем он вспоминал, произошло вчера…
Вот группу чекистов собрали в зал заседаний, и секретарь партийной ячейки, немолодой уже человек, сказал, что им всем нужно изучать иностранные языки. Он предложил присутствующим выбрать один из трех языков — немецкий, французский или английский. Потом их разбили на группы. Василий, знавший немного по-французски, попал во вторую группу.
Разошлись по кабинетам, приспособленным под классы. Ждать пришлось недолго. В сопровождении секретаря ячейки вошла молоденькая девушка в черном закрытом платье с белым воротничком.
— Вот ваша преподавательница, Елизавета Владимировна Горская! — отрекомендовал девушку секретарь. — Прошу любить и жаловать! — и вышел из кабинета.
Девушка подошла к столу перед классной доской и робко поздоровалась. Голубые глава, золотистые волосы и нежный голосок делали ее похожей скорее на гимназистку, чем на преподавательницу для взрослых, видавших виды людей.
— Я буду обучать вас французскому языку, главным образом разговорному. Но все равно сперва нужно научиться читать и писать. Сегодня мы познакомимся с латинским алфавитом, которым пользуются французы. Откройте, пожалуйста, тетради и запишите! — Она подошла к доске и стала мелом тщательно выводить буквы, протяжно произнося вслух: «А-а… Бэ-э…»
Она повернулась к классу, чтобы посмотреть, как пишут эти давно не сидевшие за партой ученики. Один из них не писал, и она спросила его, краснея:
— А вы почему не пишете?
— Латинский алфавит я знаю. Французским тоже немного владею…
— Очень хорошо! А как ваша фамилия?
— Меня зовут товарищ Василий, — ответил тот под
общий хохот класса.
— Это хорошо, товарищ Василий, что вы знаете французский язык, — будете моим помощником, — сказала она по-французски.
Василий, старательно подбирая слова, попытался ответить ей на французском языке. Так состоялось их знакомство.
Молодая учительница всем понравилась, она была внимательная, мягкая, понимала шутки, не стеснялась быть и строгой, требовательной. При ошибках своих великовозрастных учеников говорила:
— Я понимаю, вам, взрослым людям, трудно учить язык. Но раз вы добровольно взялись за трудное дело — должны стараться!
А однажды сказала одному пожилому человеку, что вынуждена будет исключить его из группы, потому что тот не выполняет домашние задания.
— Мне некогда, я очень занят, — буркнул в ответ ученик.
— В таком случае подайте рапорт… Занятость не может служить оправданием. Все присутствующие здесь товарищи очень заняты и все же стараются… — Она сделала небольшую паузу и продолжала: — Не мне говорить вам о том, как важно знать иностранные языки. Пройдет некоторое время, и наша страна установит дипломатические и экономические отношения со многими капиталистическими государствами, — может быть, даже со всем миром! Как тогда нужны будут работники, знающие иностранные языки!
После этих слов девушка понравилась всем еще больше.
Как-то весенним солнечным днем Василий вышел на улицу вместе с учительницей и попросил разрешения проводить ее.
— Пожалуйста, — просто ответила она. — Тем более что я живу недалеко.
Они разговорились.
— Елизавета Владимировна, вы такая молодая и так хорошо знаете французский…
— Меня языкам учили с детства. Впрочем, это длинная история… Как-нибудь расскажу, если вам интересно.
— А почему не сейчас?
— Устала очень!.. Вы не обижайтесь на меня, ладно?
— Обижаться не буду, но о вашем обещании когда-нибудь напомню!..
Василий помнит, как в другой раз, выйдя из управления, они не свернули к Ильинским воротам, а спустились вниз, к Театральной площади, миновали шумный Охотный ряд и незаметно очутились у храма Христа Спасителя. Сели на ступеньки, огляделись вокруг. Был теплый вечер, небо чистое-чистое, ни облачка. Отсюда, с высоты, хорошо был виден противоположный берег. Маленькие домишки, трамваи, редкие извозчики. На реке покачивались лодки, изредка проплывали, пыхтя и дымя, самоходные баржи.
— Вы не забыли свое обещание, Елизавета Владимировна? — нарушил молчание Василий.
— Какое?
— Рассказать о себе.
— Не забыла… Вы спрашивали, где я научилась французскому языку… Родилась я в семье довольно известного московского адвоката. Он имел большую практику и, говорят, хорошо зарабатывал, но богатым он стал, получив приданое жены, дочери замоскворецкого купца. Родители пригласили для моего воспитания двух гувернанток — француженку и немку. В доме был заведен такой порядок: до обеда говорили по-французски, после обеда — по-немецки…
В гимназии я подружилась с Катей, девушкой из бедной семьи. Иногда бывала тайком от родителей у нее дома, узнала, что отец Кати сослан в Сибирь за революционную деятельность. Брат моей подруги, Григорий, был старше нас. Он учился в Московском университете. От него я услышала о вещах, о которых раньше не имела ни малейшего представления: о революции, классовой борьбе… Брат и сестра стали давать мне запрещенные книги. Я читала их по ночам, испытывая необыкновенную гордость, что мне доверяют…
Мой отец принял Февральскую революцию с восторгом — он даже занял какой-то важный пост в военном комитете. Катя и Григорий доказывали мне, что произошла только перемена декораций, что народ ничего не получит. Вскоре вернулся из Сибири отец Кати, Евгений Иванович. Он оказался очень умным и образованным человеком. В отличие от моих родителей, он разговаривал со мной как со взрослой. И это поднимало меня в моих собственных глазах. Позже я узнала, что Евгений Иванович — большевик…
В дни Февральской революции я из патриотических чувств поступила на курсы сестер милосердия, готовилась ехать на фронт. Как ни странно, отец не препятствовал моим стремлениям. Накануне Октябрьской революции я окончила курсы, работала в военном госпитале. Я понимала: мир раскололся, и каждый мыслящий человек должен был в те дни определить свое место. Быть на стороне белогвардейцев, участвовать в их борьбе против красных я но могла… Я решила, что мое место с большевиками, и заявила об этом отцу. Разразился скандал, кончившийся разрывом с семьей. При помощи того же Евгения Ивановича я стала сестрой милосердия Красной Армии. Когда вернулась домой, узнала, что отец с матерью уехали на юг. Потом стало известно, что в дороге они заболели тифом и умерли.
Меня приютила моя старая няня. Я и сейчас живу с ней, учусь в Московском университете — хочу стать лингвистом. Вот и вся моя биография!
— И в партию вступили? — спросил Василий.
— Да, на Южном фронте, в двадцатом году…
У них мало было свободного времени, встречались они урывками, но каждый вскоре понял, что их связывает нечто большее, чем дружба. И когда однажды Василий, набравшись храбрости, сказал: «Лиза, я люблю вас и прошу выйти за меня замуж», это не было чем-то совершенно неожиданным для нее. Она молча приникла к нему и тихо расплакалась. Он долго смотрел ей в глаза и впервые поцеловал ее.
Свадьбу сыграли в комнате Василия, в которой стояла железная кровать, покрытая солдатским одеялом, письменный стол и две табуретки. Зато на столе красовался, невесть откуда попавший сюда, чернильный прибор с бронзовыми египетскими сфинксами.
Из деревни приехала сестра Василия, Ефросинья, привезла домашних лепешек, полмешка картошки, квашеной капусты, кусок сала, две бутылки самогона. Убрав чернильный прибор, она постелила на стол чистую простыню, разложила лепешки, перелила самогон в графин, наварила картошки. В общем, получилось не хуже, чем у людей. Пришла Катя с букетиком цветов, ее отец, Евгений Иванович, старая Лизина няня.
Пили за здоровье молодых мутную самогонку, ели картошку с капустой. Василий без устали хвалил Ефросинью:
— Молодчага сестра, выручила, а то я и не знал, чем угостить. Вчера получил паек — три селедки и полфунта растительного масла, да и те забыл на работе!..
Вот так и вошла Лиза навсегда в его беспокойную жизнь. Вошла — и приняла, наравне с ним, все тяготы и тревоги.
Кроме семьи Кати и Григория, у Лизы не было никого на целом свете, и когда она говорила о «своих», то имела в виду именно их…
Наступил рассвет. Улицы постепенно заполнялись шумом. Спешил на работу рабочий люд, появились дворники и мусорщики, разносчики молока, овощей и свежих булок. Деловая жизнь Парижа началась…
В конторе Василия ждало извещение, приглашающее господина Кочека посетить американское генконсульство в Париже «в любое удобное время с девяти часов утра до пяти часов вечера, кроме воскресенья». Это озадачило Василия, и он позвонил Джо Ковачичу.
— Алло, Кочек, могу поздравить вас! — весело закричал тот. — Получено указание выдать вам визу. Я еще вчера звонил вам, чтобы сообщить эту приятную новость и потребовать угощения, но, к сожалению, не застал вас!
— Спасибо. Угощение за мной! Когда я могу получить визу?
— Хоть сегодня.
За визой Василий поехал вечером с тем, чтобы пригласить Ковачича поужинать. Формальности не отняли много времени, и через какой-нибудь час они сидели вдвоем в кавказском ресторане, ели шашлык, пили терпкое красное вино. Джо уверял, что лучшего места для жизни, чем Париж, на всем свете не отыскать.
— Народ здесь легкий, веселый, жизнь приятная, не то что у нас в Штатах.
— Чем же не нравятся вам Штаты?
— Люди у нас скучные, все заняты только одним — делать доллары, до остального нет никакого дела. Впрочем, скоро вы сами все увидите…
— Скажите, Джо, а как американцы и вы лично относитесь к фашизму? — спросил Василий.
— По-моему, никак!
— Разве вы не знаете, какие зверства творят в Германии наци?
— Ну и черт с ними! Если им нравится пожирать друг друга, пусть едят на здоровье. От этого ничего в мире не убавится и не прибавится.
— А не ошибаетесь ли вы, Джо? — спросил Василий. — Фашисты претендуют на мировое господство. И если им не помешать, они поработят все народы… Кстати, не исключена возможность, что начнут они с моей и вашего отца родины…
— Неужели? — американец удивленно уставился на Василия. — Возможно, вы правы… Плохо быть маленьким народом и иметь рядом сильных соседей. Сильные всегда пожирают слабых. У нас в Штатах идет непрекращающаяся конкуренция, и в этой борьбе всегда побеждают сильные, — таков закон природы!
— К сожалению, речь идет о другом! На карту поставлены судьбы пародов. Неужели такая могущественная страна, как Америка, не придет на помощь слабым? Не исключена возможность, что Франция примет на себя первый удар. Немецкие генералы злопамятны, они не забыли поражение в прошлой войне!
— Заранее скажу: что касается наших, то они пальцем не пошевельнут ради чужих интересов! Другое дело, если запахнет наживой, — тогда Америка выступит в защиту кого угодно, хоть черта! — смеясь сказал Джо Ковачич.
Василию показалось, что в разговоре с американцем он зашел слишком далеко.
— Ладно, — сказал он, — чего ради нам ломать голову над вопросами, которые нас не касаются?.. Поживем — увидим, не так ли?
— Поживем — увидим! — согласился Джо и тут же добавил: — А все-таки моему старику будет обидно, если немцы тронут Югославию!..
Наконец пришла долгожданная телеграмма от Лизы из Страсбурга. Встретив ее на вокзале, Василий с тревогой смотрел на жену, — за короткое время она сильно изменилась: похудела, лицо бледное.
— Что с тобой, Лиза?
— Ничего… Просто устала, переволновалась…
Дома, за завтраком, она рассказала о своих приключениях.
— Понимаешь, я страшно испугалась, глядя в холодные глаза фашистского офицера… Впервые поняла отчетливо, что мы с тобой играем со смертью…
— Не следует так говорить, — остановил ее Василий. — Умереть можно по-всякому: пойдешь по улице, упадет с крыши на голову кирпич — и готово! Или угодишь под колеса автомобиля… Если уж суждено умереть, то на посту!..
Не успела Лиза отдохнуть после поездки, как пришло сообщение от «отца», что отпуска их отменяются: Лизе необходимо срочно ехать в одну из Балканских стран через Италию, как было условлено. Откладывалась и поездка Василия в Америку.
10
Лиза разъезжала по городам Италии — побывала в Пизе, Ферраре, Сиене, Флоренции. С неослабевающим душевным волнением посещала прославленные музеи и картинные галереи, дивясь человеческому гению, создавшему бессмертные произведения искусства. Люди возвели величественные соборы, построили дворцы из мрамора и гранита, заполнили их картинами и скульптурой. Но человеку мало всего этого, — вместо того чтобы самому создавать прекрасное, он захотел присвоить богатства соседа. По улицам старинных городов Италии шагают чернорубашечники, горланят песни, полные ненависти к другим народам. С балкона римского дворца раскормленный, как боров, дуче призывает молодежь — наследников римских легионеров, как он ее называет, — быть готовой к завоеваниям чужих территорий. В соборе святого Петра папа публично благословляет Муссолини и Гитлера на подвиги во славу церкви, хотя всему миру известно, что фашисты в Германии преследуют католиков и воскрешают языческий культ древних германцев.
В Италии светит солнце, к покою призывает голубая гладь Неаполитанского залива. По вечерам звучат песни — не те, которые горланят фашистские молодчики, а которые всегда пели и поют здесь рыбаки, уличные торговцы, гондольеры… И тогда Лизе хорошо, спокойно, она наслаждается своим путешествием. Останавливается в хороших гостиницах, ни в чем себе не отказывает, — Василий щедро снабдил ее деньгами. «Постарайся хорошенько отдохнуть, — сказал он ей на прощанье, — учти, что нам не часто выпадает такое счастье — побывать беззаботным туристом в самой прекрасной стране». И все же что-то постоянно гложет сердце, а по ночам мучает бессонница. Впереди у нее трудное дело. Разве исключена возможность провала? Конечно, она постарается быть всегда начеку, но не все зависит от нее, могут быть любые случайности. Достаточно вспомнить случившееся на германо-французской границе…
Под окнами гостиницы опять горланят чернорубашечники — кричат о своем желании восстановить великую Римскую империю, наследниками которой являются… В жилах у них течет кровь непобедимых легионеров! Жалкие маньяки, — не понимают, что к прошлому возврата нет. Что сохранилось от этого прошлого? Воспоминания и развалины…
До конца студенческих каникул оставалось немногим больше месяца. За этот короткий срок ей нужно многое успеть в чужой стране, в которой она не знала ни одной живой души, не имела ни одного надежного адреса. Знала по имени только профессора Николаи, производящего археологические раскопки…
Последним пунктом своего путешествия по Италии Лиза избрала Венецию. Прожив пять дней в одной из гостиниц на Лидо, совершенно очарованная этим сказочным городом — «каменным лотосом», она купила билет второго класса и села на небольшой пароход, похожий на тот, на котором они плыли с Василием в Марсель.
Было очень жарко, даже море не приносило прохлады. Пассажиры, изнемогая от скуки и жары, не знали, куда себя девать. Слонялись по палубе, часами дремали под тентами в шезлонгах.
На второй день плавания Лиза заметила двух детей — семилетнего мальчика и девочку лет пяти, бегающих по палубе. Когда дети, устав от беготни, присели возле нее, Лиза заговорила с ними. Они пришли в восторг от того, что она говорит с ними на их родном языке.
— В Италии никто нас не понимал! Итальянцы такие невежественные, не знают немецкого языка, — сказал мальчик.
Подошла молодая женщина.
— Вот вы где! Мои дети не наскучили вам? — спросила она улыбаясь.
— Мы только что познакомились, — ответила Лиза, — и потом, они такие милые!
Женщина, продолжая улыбаться, протянула ей маленькую руку:
— Гертруда Дитрих!..
Лиза назвала себя.
Они разговорились. Выяснилось, что Гертруда — жена директора немецкого банка в том самом городе, куда должна была поехать из Италии Лиза. Они всем семейством проводят отпуск в Италии.
Подошел рослый мужчина с рыжими усами, в белом костюме.
— Познакомьтесь, мой муж Иоганн Дитрих, — представила его Гертруда, а сын ее сказал:
— Папа, знаешь, фрейлейн Марианна разговаривает по-немецки, как мы!
— Очень приятно, — Дитрих поклонился. — По-видимому, фрейлейн немка?
— Не совсем, — ответила Лиза. — Отец мой словак, а мать немка из Восточной Пруссии. Хотя и ношу фамилию отца, но его помню плохо, — он умер, когда мне было три года, и мы с мамой остались одни.
— Насколько мне известно, национальность по закону определяется по отцу! — сказал Дитрих.
— Ну, какая же я славянка! Не знаю ни одного словацкого или чешского слова…
— Приведенные вами доводы кажутся убедительными, — в самом деле, вы не только рождены немкой, но и воспитаны ею. Следовательно, вас можно считать немкой. Немкой от смешанного брака, — подчеркнул все же Дитрих. И спросил: — Вы тоже проводили отпуск в Италии?
— Нет, я учусь в Сорбонне. И мне нужно было собрать материал для дипломной работы… Сейчас направляюсь туда же, куда и вы… Ведь там, в окрестностях города, проводятся археологические раскопки не то древнеримского городища, не то военного укрепления под руководством профессора Николаи. Вот только не знаю, допустит ли он меня к раскопкам…
— Профессор Николаи большой оригинал. От него всего можно ожидать!
— Вы знакомы с профессором?
— Немного, — усмехнулся Дитрих. — По приезде мы попросим его оказать вам содействие. Думаю, что профессор не откажет. Как ты полагаешь, Гертруда?
— Разумеется, он не откажет тебе, Иоганн! — поспешила с ответом жена.
— Я буду вам так благодарна, герр Дитрих!..
Лиза была сегодня, что называется, в ударе: легенда об умершем отце и матери-немке пришла в голову мгновенно. Этот Дитрих, без сомнения, наци или сочувствующий им. Она сразу поняла, что случайное знакомство с немецкой семьей на пароходе может послужить ей мостиком для проникновения в немецкое общество города. И тут же, на ходу, приняла решение, что нужно использовать для знакомства с профессором Николаи не письмо из Чехословакии, а влияние директора немецкого банка в том городе, где ей предстояло некоторое время жить и работать. Конечно, она затеяла рискованную игру, но, как любит повторять Василий: «В нашем деле без риска нельзя. Только риск должен быть разумным…»
Настало время обеда. Девочка так и вцепилась в ее платье: «Фрейлейн Марианна, пойдемте с нами, пожалуйста!»
— Действительно, почему бы вам не пообедать с нами в первом классе? — обратился к ней Дитрих.
— С удовольствием, я только должна переодеться!
За табльдотом кроме Лизы и семьи Дитрих сидел еще мужчина средних лет, круглолицый, чисто выбритый, с солидным брюшком. Когда Дитрих представил ему Лизу, он церемонно поклонился и сказал:
— Альберт Орковский, к вашим услугам!
Гертруда шепнула Лизе на ухо:
— Очень влиятельное лицо в нашем городе…
За обедом больше и громче всех говорил Дитрих. Соковский, сказав две-три незначительные фразы, пил свое пиво.
— Наш город очень красив, фрейлейн Марианна, — говорил Дитрих, обращаясь к Лизе. — Много зелени, большая река, внушительных размеров парки и площади. Поживете у нас — и вам не захочется возвращаться обратно, к своим изнеженным французикам!
— Но они вовсе не мои! — ответила Лиза, мысленно попросив прощения у французских друзей.
— Однако вы, немка, предпочли учиться не в Германии, а избрали Сорбонну.
— Это зависело не от меня. Мой дядя, мамин брат, переехал в Париж и взял меня с собой, — у него нет своих детей…
— Чем он занимается, ваш дядя, в Париже? — Дитрих без малейшего стеснения задавал вопрос за вопросом, словно вел допрос подсудимого, а не беседовал за столом с девушкой.
Это заметил даже Соковский.
— Ну знаешь, Иоганн! — пробурчал он.
— Но ведь нужно знать своих попутчиц!.. Надеюсь, фрейлейн ничего не имеет против моих вопросов?
— О, разумеется! — ответила Лиза, улыбаясь. — Мой дядя коммерсант и довольно богатый человек.
— А ваша мать живет в Чехословакии?
— Да, у нее там небольшой стекольный завод — наследство отца.
— И много дохода приносит этот завод?
— Думаю, что да. Иначе мама не стала бы жить среди словаков, а переехала бы к себе на родину, в Восточную Пруссию, или к дяде в Париж, — он ее все время зовет.
— Ничего! Скоро немцы будут чувствовать себя в Чехословакии совсем по-другому, — вашей маме недолго терпеть! — сказал Дитрих, переглянувшись с Соковским. Обед пришел к концу, и мужчины, извинившись перед дамами, поднялись на палубу покурить.
Лиза занялась детьми. Пока убирали со стола, она мастерила им из бумаги разных птиц, потом села за пианино, и под ее аккомпанемент дети пели и танцевали, а фрау Гертруда, сидя в сторонке, с улыбкой смотрела, как ее дети веселятся в обществе этой малознакомой девушки…
Вечером, сославшись на головную боль, Лиза рано ушла к себе в каюту. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами и думала, что пролог к спектаклю сыгран как будто неплохо. Сыграть бы взятую на себя роль удачно до конца — до занавеса! Если бы Василий был здесь, он нахвалил бы ее…
Напряжение дня давало себя знать, — голова и вправду разламывалась. Лиза только сейчас поняла, как она устала за эти несколько часов… «А что, если у тебя не хватит сил сыграть роль до конца? — спросила она себя и тут же ответила: — Зачем задавать такие глупые вопросы? Ты же видела холодные глаза Дитриха, — такие люди пощады не знают. Значит, нужно быть сильнее его!..»
Утром Лиза, свежая, отдохнувшая, поднялась на палубу. В Италии она успела загореть — лицо и руки приобрели бронзовый оттенок. Загар очень шел к ней, а белое платье из тонкого полотна подчеркивало цвет ее золотистых волос.
Утро было тихое — ни малейшего дуновения ветра. Вовсю светило солнце, дышалось легко. Тишину нарушал только шум двигателя. Пароход медленно плыл, оставляя за собой на искрящейся глади моря широкую полосу белой пены.
К Лизе подошел толстяк Соковский, в спортивном костюме, с толстой сигарой в зубах.
— Доброе утро, фрейлейн! Как ваша голова?
— Благодарю вас, все хорошо!
— Я всегда утверждал, что покойный сон лучший целитель, чем десять ученых врачей, вместе взятых! В этом платье вы выглядите просто очаровательно. Боюсь, молодежь нашего города, увидев вас, потеряет покой…
Подбежали дети Дитрихов. Соковский покосился на них и замолчал.
Обедали снова вместе. Дитрих расщедрился — заказал вина. Он был в превосходном настроении и после обеда попросил фрейлейн Марианну сыграть что-нибудь.
Лиза не заставила долго уговаривать себя, села за пианино и сыграла вальс Шуберта.
— Ба! Оказывается, помимо всех прочих ваших качеств, вы еще и отличная музыкантша! — воскликнул Дитрих и попросил ее сыграть еще что-нибудь.
За несколько дней пути дети привязались к Лизе, а у взрослых появились явные признаки расположения к ней. Они всегда вместе обедали и ужинали, вместе гуляли по палубе, Лиза часто играла им немецкую классику. Накануне приезда, когда все собрались вечером на палубе и любовались лунной дорожкой на море, Дитрих спросил Лизу:
— Скажите, фрейлейн Марианна, есть у вас в нашем городе знакомые?
— К сожалению, нет.
— Где же в таком случае вы думаете остановиться?
— Еще не знаю. Сниму номер в недорогой гостинице, постараюсь найти себе приличный пансион…
— Не думаю, что гостиница подходящее место для одинокой девушки… Не так ли, Альберт? — обратился Дитрих к толстяку.
— Разумеется.
— Вот что, фрейлейн Марианна, вы можете жить некоторое время с нами, пока мы не подыщем для вас подходящее место в пансионате или в порядочной немецкий семье.
— К нам, фрейлейн Марианна, поедемте к нам! — радостно закричали дети.
— Право, не знаю… мне совестно беспокоить вас!..
— Никакого беспокойства, — вмешалась Гертруда. — Дом у нас большой, свободных комнат много. Паулю и Эльзе тоже будет весело с вами.
Не успели Дитрихи войти в дом и распаковать вещи, как к ним началось паломничество. Создавалось такое впечатление, что все немцы, живущие в этом городе, считали себя обязанными засвидетельствовать свое почтение герру Иоганну Дитриху. Все шумно выражали свою радость по поводу его возвращения, говорили, что без него чувствовали себя сиротами, что за время его отсутствия образовался полнейший застой в делах, для завершения которых требуется и его совет, и личное его вмешательство… Невольная свидетельница этих разговоров, Лиза поняла, что ее хозяин — глава местных фашистов и кроме своих официальных обязанностей директора немецкого банка выполняет особые функции. Что ж, все это было ей на руку!..
Лизу представляли гостям как друга семьи, и все местные немцы стали считать ее «своей», относились к ней доверительно и говорили при ней о таких делах, о которых не стали бы говорить при посторонних. Лиза же старалась как можно реже попадаться на глаза и, когда начинались особо откровенные разговоры, незаметно исчезала. На это обратил внимание Дитрих и как-то сказал жене:
— Знаешь, эта Марианна очень тактичная и скромная девушка, недаром в ее жилах течет немецкая кровь! Будь она чистокровная немка, я предложил бы ей работу воспитательницы наших детей.
— Это было бы чудно! Пауль и Эльза в ней души не чают.
— Нельзя! Детей Иоганна Дитриха не может воспитывать девушка, родившаяся от смешанного брака, — оборвал жену Дитрих.
Толстяк Соковский редко появлялся в доме директора банка, но каждый раз говорил Лизе неуклюжие комплименты.
— Мы вас непременно выдадим здесь замуж и устроим пышную свадьбу!
Фрау Гертруда под большим секретом сообщила Лизе, что Альберт Соковский — доверенное лицо фон Нейрата, его неофициальный представитель, и выполняет здесь особо важное задание.
— Вы должны знать, милая Марианна, что в этой стране живут неполноценные люди, и потому некоторые их политики, стоящие в настоящее время у власти, надеются получить у Франции помощь против нас — немцев. Но их надежды напрасны! У Соковского есть при дворе короля надежные друзья, с их помощью он уберет негодных министров и на их место посадит преданных Германии людей! — выбалтывала она Лизе слышанные от мужа секреты. — Не думайте, что герр Соковский просто флегматичный толстяк. Он — стопроцентный пруссак и все может… Говорят, он лично знаком с фюрером еще по Мюнхену и ссужал его деньгами, когда зарождалась партия национал-социалистов. Соковский чудовищно богат, он владелец большого завода сельскохозяйственных машин и еще кое-чего, о чем не принято говорить громко. Надеюсь, вы понимаете меня, милая?..
Лиза не раз предлагала Гертруде деньги за комнату и питание, но та каждый раз решительно отказывалась. Чтобы хоть как-нибудь отблагодарить своих хозяев, Лиза играла с Эльзой и Паулем, водила их гулять. После обеда, когда детей укладывали спать, она, взяв путеводитель, бродила по городу, знакомилась с его достопримечательностями, посещала музей. Иногда к ней присоединялся кто-нибудь из местных немцев, — молодые люди старались развлекать красивую девушку, друга семьи Дитрихов, завоевать ее расположение. Лиза охотно прогуливалась с ними по людным улицам — демонстрировала местным властям свои обширные знакомства с влиятельными немцами.
Спустя несколько дней после приезда Дитрих сказал Лизе, что ему удалось связаться с чудаком профессором и, если у фрейлейн Марианны не пропала охота копаться в земле, она может съездить к этому Николаи.
— Профессор живет в палатке около своих сокровищ и почти не бывает в городе, — добавил он.
— Вы дадите к нему записку или мне просто сказать, что я от вас?
— Просто скажите, что от меня. Этого будет достаточно!..
Рано утром Лиза, с саквояжем в руках, стояла на обочине-шоссе и усердно «голосовала» проезжавшим мимо машинам. Наконец шофер грузовика затормозил, и она села в кабину рядом с ним. К несчастью, оказалось, что шофер не понимает ни слова из языков, на которых пыталась разговаривать с ним Лиза. Потеряв всякую надежду растолковать ему цель своей поездки, она начала показывать, как копают землю, и повторяла слова: «Профессор, раскопки, понимаете, профессор Николаи».
Имя профессора оказалось известным шоферу. Около столба с отметкой «двадцать семь» он затормозил и показал на людей, копошившихся в земле. Расплатившись с шофером, Лиза побежала к ним и без труда догадалась, кто из них профессор Николаи.
— Я от господина Дитриха, он говорил вам обо мне, — представившись, сказала Лиза.
— Вы француженка? — профессор внимательно разглядывал просительницу.
— Нет, не француженка…
— Где же в таком случае вы научились так хорошо говорить по-французски?
— Давно живу в Париже, учусь в Сорбонне.
— Скажите честно, вы хотите получить диплом, чтобы принести его своему жениху в приданое, или действительно собираетесь заниматься наукой?
— По мере моих скромных сил хочу заниматься наукой. И буду вам весьма благодарна, если вы разрешите мне участвовать в руководимых вами раскопках, — сказала Лиза.
— Раскопки — не женское дело! Видите, какая у нас грязь, пыль… Впрочем, если вас действительно интересует наша работа, можете приезжать к нам и знакомиться со всем, что мы извлекаем из земли, — предметы эти двухтысячелетней давности. Вы умеете рисовать? — спросил профессор.
— Умею немножко.
— Отлично, кое-что срисуете. Видите ту мраморную статую женщины? Она хорошо сохранилась, только чуть-чуть пострадал нос. Она уникальна! Такой вы не найдете ни в одном музее мира. Если есть с собой бумага и карандаш, можете начать рисовать.
— Благодарю вас, вы очень добры!.. Как вы полагаете, здесь было поселение римлян или крепость? У нас много толков по этому поводу.
— Скорее всего, здесь было поселение. Но так как римляне жили в чужой стране, окруженные народом, враждебно настроенным по отношению к ним, они вынуждены были обнести поселение крепостной стеной, широким валом и воздвигнуть сторожевые башни. Однако это не полегло им, — по всей видимости, жители этой страны напали на римлян, уничтожили их и разрушили поселение…
В течение целого часа, под палящим солнцем, старик водил Лизу по развалинам, показывал остатки крепостной стены и башен, давал объяснения.
— Учтите, мадемуазель, — столь же печально завершается участь завоевателей во все века! Если канула в Лету могущественная Римская империя, то что же ждет современных завоевателей?..
Лиза срисовала мраморную статую и, когда солнце склонилось к закату, попрощалась с профессором и поехала в город.
Теперь у Лизы было полное основание пожить в этом городе еще некоторое время. Она мысленно благодарила чудака ученого за то, что он не разрешил ей участвовать в раскопках, — иначе Лизе пришлось бы каждый день ездить в эту пустынную местность и часами копаться в земле под палящим солнцем.
Фрау Гертруда, сообщив Лизе, что в пансионате, где обычно останавливаются немцы, освободилась комната, сказала:
— Не понимаю, почему бы вам не жить у нас до самого отъезда? Вы же видите, мы хорошо относимся к вам, а дети мои привязались к вам…
— Я не могу больше стеснять вас, тем более что теперь часто буду чуть свет ездить на раскопки и возвращаться обратно в пыли и грязи…
— Ну, вам виднее! — Гертруда даже немного обиделась. — Надеюсь, вы не покинете нас совсем и хотя бы субботы и воскресенья будете проводить у нас!..
— С удовольствием и благодарностью!
В пансионате, куда Лиза перебралась в тот же день, жили одни немцы — преимущественно молодые мужчины. Женщин было трое, не считая хозяйки, чем-то напоминавшей Лизе фрау Браун.
Многие жильцы пансионата были знакомы с Марианной, как с другом дома Дитриха, и ее появление вызвало всеобщее удовольствие. Они относились к Лизе с полнейшим довернем. Прожив в пансионате всего несколько дней, Лиза уже знала, что все эти господа, обосновавшиеся в стране под личиной коммерсантов, коммивояжеров и представителей разных немецких торговых фирм, не что иное, как агенты разведки и уполномоченные партии национал-социалистов. Они не скрывали, что собираются изменить в чужой стране государственный строй и посадить на министерские кресла угодных им людей. Если этого не удастся достичь «мирным» путем — путем устройства различного рода провокаций и подкупов, то у них в запасе имеются другие, более действенные средства. В частности, они намекали на хорошо вооруженные фашистские отряды из местной молодежи, готовые по первому сигналу двинуться в бой за завоевание власти.
Один, похожий на молодого ученого, немец часто говорил о том, что прибегать к насильственным действиям рановато, — можно взбудоражить всю Европу раньше времени. Другое дело — мирные средства. Кто может помешать королю дать теперешним министрам отставку и поручить формирование нового правительства надежному человеку, который в интересах государства порвет связь с Францией, заключит тесный союз с Германией и приспособит экономику страны к интересам старшего партнера? Законно, мирно и, главное, без шума!
Но среди молодых немцев, проживающих в пансионате, были и горячие головы — сторонники немедленных действий.
— Нам наплевать на мнение Европы! — кричал рыжий молодой немец с веснушчатым лицом. — Кого нам бояться? Изнеженных французиков или чопорных англичан, сидящих на своем острове? Остальная мелочь — вроде Бельгии и Голландии — вообще не в счет!..
Эти немцы говорили так, будто если не сегодня, то завтра они станут хозяевами всей Европы и будут диктовать народам свою волю.
По вечерам они пили пиво, горячо спорили, горланили свой гимн — «Германия, Германия превыше всего». С Лизой они вели себя корректно, даже подчеркнуто почтительно. К этому их обязывала железная дисциплина: не могли же они позволить себе вольность по отношению к другу семьи герра Дитриха — вождя местных фашистов!..
Каждую субботу, купив маленькие подарки детям, Лиза отправлялась к Дитрихам. Вечером там собирались более или менее именитые немцы. Здесь тоже не обходилось без пива и сосисок, по пили умеренно, обменивались новостями, и если спорили, то без шума и криков.
Однажды в доме Дитриха появилась новая личность — сухощавый немец лет сорока с брезгливым выражением лица, по фамилии фон Болен. Он только что приехал из Германии и привез массу новостей. По тому, с какой почтительностью приняли гостя, с каким вниманием слушали его, Лиза догадалась, что вновь прибывший — крупная птица среди нацистов.
Сначала он рассказывал столичные сплетни, кого на какую должность назначили, что говорил фюрер в своих многочисленных речах. Завладев вниманием слушателей, он перешел к более важному, придав этому своему сообщению шутливый оттенок.
— На съезде партии в Нюрнберге фюрер вручает знамена штурмовикам города Кельна. Возвращаясь к себе домой, они несут впереди отряда штандарт, на котором написано крупными буквами: «Страсбург»… Это, видите ли, не нравится послу Франции, господину Франсуа Понсэ. Он является к фюреру в имперскую канцелярию и говорит: «Господин канцлер, мое правительство не может допустить, чтобы штурмовые отряды писали на своих штандартах „Страсбург“, — это звучит как призыв к захвату чужих территорий».
Здесь фон Болен, как опытный рассказчик, сделал паузу, и не ошибся, — сразу раздались голоса: «Что ответил этому нахалу фюрер?»
— Терпеливо выслушав посла, фюрер весьма вежливо отвечает ему: «Я сожалею, что этот факт ускользнул от моего внимания. Смею утверждать, что я никоим образом не помышляю о том, чтобы требовать возвращения Эльзас-Лотарингии! Я знаю хорошо этих каналий эльзасцев, — они не захотят присоединиться ни к Германии, ни к Франции. Следовательно, бесполезно драться из-за них. Я мечтаю лишь о том, господин посол, чтобы в один прекрасный день мне воздвигли памятник как человеку, который установил вечный мир между Францией и Германией. Французскому послу не остается ничего другого, как откланяться и уйти. Вы подумайте, какая мудрая хитрость! Всем ведь известны высказывания фюрера, что мы рано или поздно рассчитаемся с Францией за все — за поражение, за версальский позор и унижения, которые вытерпел немецкий народ. А официальному послу он говорит совсем другое. Попробуй придерись!
— Хайль Гитлер! — сказал один из гостей, все вскочили и, стуча пивными кружками по столу, закричали: «Хайль, хайль!»
Слушая все эти разговоры, наблюдая за поведением людей, восторгавшихся цинизмом своего фюрера, Лиза внутренне содрогалась. У нее накопилось немало интересных наблюдений, а связи все не было. В свое время на вопрос Лизы, как ей связаться с «отцом», тот ответил: «Ты езжай, приспосабливайся к местным условиям, наблюдай и запоминай, — придет время, мы найдем тебя. Прошло много времени, а никто ее не нашел. Скоро студенческие каникулы кончатся, и оставаться ей здесь будет нельзя. Собственно, и смысла в этом нет никакого. Она успела увидеть здесь фашистов в натуральном виде, узнала их мысли, познакомилась с методами их работы. Теперь она твердо знает: у фашистов нет никаких моральных устоев, ничто не может их смутить. Так думала Лиза, не зная, что главное — впереди…
В ту субботу гости разошлись довольно поздно и в столовой остались только трое: хозяин дома, толстяк Соковский и фон Болен. Они о чем-то беседовали.
Спальня Лизы находилась на втором этаже, как раз над столовой, и, когда немцы разговаривали громко, ей все было слышно. Но сегодня эти трое говорили почти шепотом, и ничего нельзя было разобрать. Но вот беседующие внизу забыли об осторожности и постепенно повысили голоса. Фон Болен внушал толстяку:
— Постарайтесь создать впечатление у министра двора, что вручаете ему документ исключительной важности. Скажите ему, что нашей разведке удалось перехватить совершенно секретное письмо министерства иностранных дел Франции к своему послу здесь. Документ этот сфабрикован специалистами по всем правилам искусства. Тут и подлинный бланк министерства, подпись статс-секретаря, шрифт, которым печатают особо важные документы, и даже специальная бумага, которой пользуются французы. Вот этот документ. — Лиза поняла, что фон Болен достал из кармана какую-то бумагу и показал собеседникам. — Здесь говорится, что перед лицом немецкой опасности французское правительство вынуждено пойти на дальнейшее сближение с Советским Союзом. В настоящее время с русскими ведутся предварительные переговоры на предмет заключения военного союза, в результате чего им будет разрешено разместить на территории Франции, по возможности близ франко-германской границы, воинские соединения, численностью до трех армейских корпусов полного состава. Одновременно Франция обязуется оказать русским необходимую военную и иную помощь в случае нападения Германии на СССР. В конце письма говорится, что министерство иностранных дел Франции поручает своему послу подготовить почву для сообщения здешнему правительству об этом соглашении, когда оно будет подписано. Постарайтесь убедить министра, что перед лицом немецкой агрессии у западного мира нет иного выхода, как сближение с Советским Союзом. Как в Париже, так и в Лондоне убеждены, мол, что союз с русскими подействует отрезвляюще на национал-социалистское правительство Германии. Пусть ваш друг, министр двора, внушает здешнему королю мысль, что большевики, разместив части Красной Армии на территории Франции, никогда оттуда не уйдут. Больше того, не исключена возможность, что они потребуют от союзников территориальные уступки за счет Польши, Румынии и Венгрии. Пусть министр двора примет необходимые меры, чтобы не обнародовать содержание письма раньше времени. Но если все же сведения о нем просочатся в печать, тогда нашему другу Дитриху придется организовать мощные массовые демонстрации молодежи, студентов, служащих государственных учреждений с требованием отставки правительства. Целесообразно спровоцировать, по возможности, беспорядки и столкновения с полицией — лучше с человеческими жертвами.
— Может быть, стоило бы вручить копию этого письма местным журналистам, работающим на нас, чтобы они хотя бы намекнули на первых порах о существовании подобного соглашения между французами и русскими? — спросил Дитрих. — Сейчас это покажется более правдоподобным: ведь во французской прессе раздаются голоса в пользу переговоров с Кремлем. В Париже всерьез поговаривают о поездке в Москву известных русофилов Эррио и Пьера Кота. Учтите, наши люди уже сейчас могут вывести на улицу несколько тысяч человек!
— К этому вопросу мы еще вернемся, когда Соковский сообщит нам, какое впечатление произведет письмо в дворцовых кругах.
— Об этом нетрудно догадаться: в любом конце мира монархи смертельно боятся большевиков, — сказал Соковский. — У меня есть другое предложение. Не лучше ли выбрать более короткий путь — убрать премьера и одним махом разрешить все проблемы?
— Нет, в Берлине считают, что к этому нужно прибегать в самом крайнем случае, когда исчерпаны все другие меры!.. Лично я вполне согласен с такой установкой, для спешки у нас нет особой надобности, — сказал фон Болен. Наступила короткая пауза, — видимо, он размышлял о чем-то. — Впрочем, вы, кажется, правы, дорогой Иоганн: стоит сказать журналистам о существовании такого письма, не раскрывая, разумеется, его содержания. Пусть строят всякие догадки и пишут об этом… Скажите, Соковский, вы успели прибрать к рукам нужных людей в здешней полиции? Я интересуюсь этим на тот случай, если возникнет необходимость в организации демонстрации со всеми последствиями.
— Что за вопрос! Не только в полиции, но и в генеральном штабе армии у нас свои люди, готовые действовать по нашему первому сигналу… Я в жизни не встречал более алчных и продажных людей, чем в этой стране. Здесь за деньги можно купить не только чинов полиции, но и самого короля вместе с королевой, — вопрос в цене! — позволил себе пошутить толстяк Соковский.
— Итак, мы обо всем договорились, — снова заговорил фон Болен. — У меня к вам обоим одна-единственная просьба: постарайтесь, чтобы наши люди не вели себя здесь все-таки слишком вызывающе. Нам ни к чему раздражать местное население.
Скрипнуло кресло, — видимо, приезжий гость встал, встали и остальные.
— Не беспокойтесь! Все будет сделано, и мы уверены, что в Берлине нами будут довольны! — поспешил заверить фон Болена Дитрих.
— Вот и отлично… Кстати, Дитрих, кто эта девушка, которая гостит у вас по субботам и воскресеньям? — спросил фон Болен.
— Немка от смешанного брака. Родилась в Чехословакии, учится в Сорбонне.
— Думаете, у нее все в порядке?
— Абсолютно уверен.
— Не интересовались, как она очутилась здесь?
— Приехала для участия в археологических раскопках, которые ведет профессор Николаи.
— Это не тот ли профессор, который разглагольствовал не так давно о демократии и праве каждой нации выбирать себе способ управления по своему усмотрению?
— Он самый! — ответил за Дитриха Соковский.
— Значит, жив еще! Жаль, очень жаль… Лучше было бы прочитать сообщение о его скоропостижной кончине! — Фон Болен расхохотался.
Рассмеялись и те двое. Соковский сказал:
— Мы об этом подумаем.
От этих слов у Лизы даже дыхание перехватило. Внизу опять перешли на шепот, потом все стихло, гости и хозяин ушли. Но она была слишком возбуждена услышанным, чтобы заснуть. Сообщить бы обо всем «отцу», чтобы наши вовремя разоблачили фальшивку… Но как? Единственная возможность — ехать в Париж как можно быстрее. Нет, и это не годится: отъезд раньше времени может вызвать подозрения, и так фон Болен интересовался ею. Она ведь ни разу не заикнулась, что собирается скоро уезжать. Если бы срочная телеграмма, вызов… К сожалению, некому послать такую телеграмму.
Утром в воскресенье, когда в доме все спали, Лиза сама приготовила для детей завтрак и позвала их в столовую. На столе лежал лист бумаги. Лиза бросила на него быстрый взгляд и успела прочитать заголовок: это была та фальшивка, о которой шла речь вчера ночью.
Как, почему такая сверхсекретная бумага очутилась на столе? Забыли случайно или оставили с определенным умыслом? Неужели ее заподозрили в чем-то? Она, кажется, не
давала никакого повода для этого, так в чем же дело? Все это молнией пронеслось в голове Лизы… Конечно, было бы очень эффектно — приехать в Париж и положить на стол бумагу, сфабрикованную в Берлине. Не только рассказать словами о готовящемся заговоре, но и доказать это документом. Соблазн велик, что и говорить. Однако не надо забывать, с кем имеешь дело. О забывчивости таких прожженных людей, как эти, и речи быть не может, — тут явная ловушка. Малейшая оплошность, один неосторожный шаг, и все пропало — погибнешь сама и дело погубишь.
Лизе, как сквозь сон, послышался голос мальчика:
— Фрейлейн Марианна, на столе какая-то бумага! — Он потянулся, чтобы посмотреть.
— Подожди, Пауль, — остановила его Лиза, — разве ты не знаешь, что чужие бумаги читать не полагается? — Она накрыла листок салфеткой.
Накормив детей, Лиза повела их гулять…
Время бежало быстро, до начала занятий в университете оставались считанные дни, — пора было собираться домой. Лиза поехала за город, на раскопки, чтобы попрощаться с профессором Николаи. Всю дорогу она думала о том, что следует предупредить ученого о грозящей ему опасности — посоветовать уехать отсюда куда глаза глядят. Нет, делать это ей, Лизе, нельзя ни в коем случае. Профессор первым долгом спросит ее, откуда она знает о том, что ему, чело-веку абсолютно мирной профессии, грозит опасность. Ясно, что Лиза не сможет дать удовлетворительного ответа. Тогда он посчитает ее за сплетницу, интриганку, может подняться шум, история эта дойдет до ушей фашистов, и они поймут все… Помочь профессору необходимо: приехав в Париж, она попросит Василия или самого «отца» найти способ и спасти его. Они такой способ найдут!..
Накануне отъезда Лиза купила детям игрушки и отправилась к Дитрихам прощаться. Она горячо поблагодарила их за все хорошее, что они сделали для нее, обещала писать из Парижа.
Пожелав Лизе доброго пути, Дитрих спросил, не желает ли она проститься также с Соковским.
— Я бы с удовольствием, но мне неудобно одной идти к нему!
— В таком случае я пойду с вами.
— Что вы! Зачем вам беспокоиться? — Лиза насторожилась: с чего бы такая настойчивая любезность? Но тут вмешалась Гертруда:
— Иоганн проводит вас, тем более что Соковский живет в нескольких кварталах от нас.
Лизе поневоле пришлось согласиться.
Соковский жил в небольшой вилле, недалеко от Дитрихов. Дверь открыл дюжий молодчик двухметрового роста. Узнав директора банка, он поклонился и пропустил гостей в дом. Проводил их в кабинет хозяина другой молодой человек, с военной выправкой, ростом чуть ниже первого. При виде их Лизе стало не по себе, по она сразу взяла себя в руки и спокойно поднялась по лестнице на второй этаж.
Кабинет Соковского был роскошно обставлен. На полу ковер, заглушающий шаги, мягкая мебель, обтянутая светлой парчой, шкафы, набитые книгами, огромных размеров письменный стол, на стенах картины.
Увидев вошедших, Соковский отложил иллюстрированный журнал, который читал, и вскочил с кресла.
— О, кого я вижу! Какой приятный сюрприз для меня!
— Я пришла попрощаться, а герр Дитрих любезно согласился проводить меня, — сказала Лиза.
— Уже покидаете нас?
— Да, скоро начнутся занятия в университете…
Соковский сделал два шага и очутился возле Лизы. Правой рукой он схватил ее за подбородок и посмотрел прямо в глаза.
— Скажите, студентка, вы действительно та, за кого себя выдаете?
— Я вас не понимаю, — тихо проговорила Лиза.
— Так и не понимаете? — Он опустил руку.
— Нет! — Лиза достала из сумочки кружевной платок и, делая вид, что вытирает слезы, закрыла им лицо, чтобы не заметили ее волнения.
— Почему вы плачете? — На этот раз вопрос был задан мягко, почти ласково.
— Мне… обидно…
— Обидно? Почему обидно?
— Я вас так уважала… так была благодарна всем — и фрау Гертруде, и герру Дитриху, и лично вам… за ваше внимание ко мне… И вдруг — такие слова! — Лиза лихорадочно вспоминала, есть ли у нее с собой или в вещах хоть что-нибудь компрометирующее. Как будто бы ничего. Паспорт, студенческий билет, тетрадь, заполненная записями о раскопках. Привезенное с собой письмо на имя профессора Николаи давно уничтожено. Она помнила, что тщательно проверила записи в паспорте и не нашла там никаких указаний на то, что она замужем. Значит, это просто психологическая атака! Правда, они могли проверить, есть ли в действительности у нее мать, владелица стекольного завода в Словакии, но пока об этом никакого разговора не было.
Она заметила, как Дитрих и Соковский переглянулись, последний даже покрутил кончики усов.
— Успокойтесь, я пошутил!.. Желаю вам счастливого пути… Но учтите, фрейлейн Марианна, если вы нас обманули и будете болтать лишнее о виденном и слышанном здесь, — берегитесь. Мы вас найдем всюду. Поняли? — с такими грозными словами Соковский отпустил Лизу.
Только на улице она почувствовала, как неприятно прилипла к телу сорочка. Вздохнув полной грудью, Лиза подумала: «Кажется, пронесло и на этот раз!..»
11
Солнце пригревало все сильней, парижская весна была на исходе. На улицах и бульварах — много гуляющей публики. Появились и туристы, среди них много немцев. «С чего бы это?» — недоумевал Василий. Без Лизы Париж казался ему Скучным, пустынным. Она все еще не возвращалась, но давала о себе знать, и он сильно тревожился. Он ведь даже адреса ее не знал. Впрочем, даже если бы знал, все равно писать было нельзя.
По вечерам Василию не хотелось ехать в пустую квартиру, где все напоминало о Лизе, и он большую часть свободного времени проводил в спортивном клубе — иногда играл, а чаще просто беседовал с друзьями. Туда же приезжал и Сарьян, они вместе обедали, потом отправлялись к журналисту и работали в саду до наступления темноты.
Все попытки Василия связаться с «отцом» и узнать о Лизе ни к чему не привели. «Отец» словно в воду канул: письма, отправленные ему, оставались без ответа. Василий терялся в догадках. Не находя иного выхода, он решил разыскать фрау Шульц. При нормальных обстоятельствах он не стал бы встречаться с нею, — делать это не полагалось по целому ряду причин, по неясность положения служила ему некоторым оправданием.
Василий разыскал фрау Шульц в модном ателье. Обращаясь к ней, спросил:
— Моя жена заказывала у вас вечернее платье. Она в отъезде и поручила мне узнать, готово ли оно?
— Готово, пройдите сюда, я вам покажу. — Фрау Шульц сразу поняла, о чем речь, и провела Василия в маленькую комнатку за приемным залом.
Выяснилось, что и она обеспокоена отсутствием вестей от «отца».
— Ни писем, ни курьера — ничего! Сама не пойму, в чем дело! — Она сообщила, что с Браун встречается редко, — стенографистка уклоняется от регулярных встреч и вообще ведет себя странно, нервозно, никаких заслуживающих внимания сведений не приносит, хотя от получения денег не отказывается.
— Чем вы объясняете все это? — спросил Василий.
— Признаться, особенно голову над этим не ломала, потому что, если бы она и сообщила что-то достойное внимания, я все равно ничего не могла бы предпринять, — связи у меня нет никакой.
— Если все же Браун сообщит вам интересные новости, дайте, пожалуйста, знать. Звоните по моему прямому телефону в контору, — сказал Василий, простился и ушел.
Ганс Вебер реже стал появляться в клубе, а играть в теннис вовсе перестал. Придет на короткое время, полистает журналы, выпьет в баре бокал вина и исчезнет надолго. Василию хотелось поговорить с ним, но сделать это наедине с Вебером ему не удавалось, демонстрировать же при сложившихся обстоятельствах свою особую близость с секретарем генерального консульства Германии не хотелось. После встречи с фрау Шульц Василий все же решил выяснить у Вебера кое-что касательно стенографистки: ее нервозность, о которой говорила фрау Шульц, вызывала в нем некоторую тревогу.
Однажды, увидев Вебера в читальном зале перелистывающим иллюстрированный журнал, Василий подсел к нему и шепотом, как и полагалось в этом месте, пригласил поужинать.
— Нужно поговорить с вами…
Вебер понимающе кивнул головой. Спустя короткое время он появился в ресторане и подсел к столику Василия. От ужина он отказался — заказал себе кофе. Вид у него был озабоченный.
— Почему вы стали редко появляться здесь? — по-дружески спросил его Василий.
— Обстоятельства! — неопределенно ответил Вебер и, понизив голос, добавил: — Спортивный клуб считается у нас рассадником демократических идей и антигерманских настроений. Посещение его не особенно поощряется нашим начальством…
— Скажите, вы знаете что-нибудь о фрау Браун?
— Что именно?
— Говорят, в последнее время она что-то очень уж нервничает…
— Предполагается, что скоро сменят весь состав немецких дипломатических работников, долго живших в Париже. Не исключено, что это коснется и Браун.
— Разве так уж плохо поехать на родину?
Вебер посмотрел на Василия с улыбкой. Его взгляд как бы говорил: «Вы действительно наивный или хотите показаться таким?»
— Неужели вы всерьез полагаете, что очень приятно возвратиться в наш третий рейх? Браун была здесь сносно обеспечена материально, пользовалась относительной свободой, заводила себе любых кавалеров… Там она будет не только под надзором, но и не сможет встречаться с мужчинами не арийской расы. Вот и волнуется дамочка в предвидении всяких неприятностей…
— Спасибо, я все понял. А как обстоит дело с вами?
— Думаю, что меня тоже скоро отзовут, по когда именно — затрудняюсь сказать.
— В Германии будьте предельно осторожны! Я видел своими глазами, что там творится…
— Вы думаете, я не знаю?
— Еще одно: я вас попрошу — предупредите меня или Сарьяна в случае отъезда. И не забудьте оставить мне ваш берлинский адрес.
— Оставлю обязательно. Я больше чем убежден, что мы с вами еще встретимся… Встретимся в свободной Германии! Не может быть, чтобы восторжествовало варварство. Не вся же Германия состоит из фашистов.
— Разумеется, нет, но преградить путь варварству можно только борьбой! — Василий посмотрел на своего собеседника, — тот сидел мрачный, с полузакрытыми глазами.
— Мы и будем бороться! Будем во что бы то ни стало. — Вебер поднял голову, его худощавое лицо стало жестким.
— В случае надобности вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку, — сказал Василий.
— Я это хорошо знаю. — Вебер поднялся. — Мне пора. — Он крепко пожал руку Василию и пошел к выходу.
Василий смотрел ему вслед и думал о том, что Веберу будет не легко. Ставя перед собой задачу бороться с фашизмом в Германии, он рисковал годовой. Но Василий верил, что такие, как Вебер, не отступают, не дезертируют с поля боя…
В конторе, беседуя с Борро, Василий предложил отправить Клода Гомье в Америку.
— Клод ведь мечтал об этой поездке. Пусть выполнит в Америке поручение нашей фирмы и одновременно позондирует почву, — может быть, ему удастся и на самом деле найти что-либо интересное для нас.
— Может быть… Но об этом лучше всего спросить у самого Клода! — Борро помолчал, потом спросил: — Скажите, мсье Кочек, вы действительно хотите дать Клоду поручение в Америке или считаете целесообразным сплавить его отсюда?
— Анри, давайте поговорим в открытую и раз и навсегда поймем друг друга!.. Я знаю, что Клод, Доминик и вы — подлинные патриоты. Вы ненавидите фашизм, не хотите отдать свою родину на поругание фашистам. Это хорошо — так и должно быть: ни один честный человек, если он к тому же талантлив, не может мириться с тем варварством, которое приносит с собой фашизм. Но согласитесь — одними карикатурами и плакатами, как бы они ни были остры, одолеть такого коварного и злобного врага невозможно. Необходимо сочетать разнообразные формы борьбы. Ваш же друг Клод, человек увлекающийся, чрезмерно горячий, может навлечь на себя, и не только на себя, уйму неприятностей, ничего не достигнув при этом…
— Может быть, — снова сказал Борро.
— Не может быть, а именно так. Здесь, во Франции, имеются в среде имущих классов многочисленные сторонники Гитлера. Не потому, что они обожают главаря немецких фашистов, — нет, а потому, что смертельно боятся коммунистов. Сторонники Гитлера создают организации, их финансируют, причем финансируют весьма солидно. Они тайно вооружаются, выступают в печати, говорят речи с трибуны Национального собрания и готовят общественное мнение к тому, что приход фашистов к власти якобы неизбежен. А вы ограничиваетесь печатанием плакатов и рисованием карикатур. Этого мало, слишком мало. Если вы хотите всерьез бороться, беритесь за дело как следует, создавайте свою организацию, сплотите вокруг себя лучшую часть молодежи Франции, научитесь конспирации, сумейте жертвовать малым ради большого. Вы поняли меня?
— Понял, — ответил художник, глядя Василию в глаза.
— Итак, пусть Клод съездит в Америку. Посоветуйте ему не слишком торопиться с возвращением…
— Я скажу ему. — Борро встал. — Мсье Кочек, у вас есть ко мне еще вопросы?
— Вопросов нет, а есть просьба. Сделайте все возможное, чтобы нам и в Америке оказаться победителями. Это очень важно для нас. В случае успеха мы переключимся главным образом на выполнение заказов для Америки и откажемся от мелких заказов.
— Клод и Доминик работают с большим увлечением, им тоже хочется показать себя американцам. Надеюсь, мы добьемся успеха, — ответил Борро, явно думая о чем-то другом…
Василий давно уже не виделся с Ковачичем и в один из свободных вечеров позвонил ему и спросил — не желает ли господин вице-консул пообедать с бедным коммерсантом?
Джо Ковачич с удовольствием принял приглашение, и они условились встретиться в шесть у «Максима». Зная, что в этом дорогом ресторане не всегда бывают свободные места, Василий заранее заказал столик по телефону.
Василий давно вынашивал идею получить при помощи Ковачича американский паспорт, но все откладывал разговор. Он хорошо понимал, что при теперешней международной обстановке с его чехословацким паспортом далеко не уедешь, а в недалеком будущем и вовсе можно остаться без подданства. К такому заключению Василий пришел после поездки в Германию.
Ковачич, как настоящий джентльмен, появился в ресторане минута в минуту — в шесть часов. Увидев Василия за столиком, весело окликнул его:
— Хэлло, Кочек! Как поживаете, старина?
— Отлично! Садитесь сюда. Я соскучился по вас, Джо!
Василий заказал роскошный обед, коньяк, вино, шампанское. Вице-консул умел пить не пьянея.
За десертом разговор зашел о делах Василия.
— Все было бы о'кэй! — сказал Василий. — Вот только жаль, что с каждым днем я все сильнее чувствую свою неполноценность…
— Неполноценность?
— Представьте себе, да!.. Я ведь подданный Чехословацкой республики, а не США, как вы. Боюсь, что в недалекое будущем, взяв в руки мой паспорт, чиновники и даже портье в гостиницах будут недоумевать: что, мол, еще за такая страна — Чехословакия? Когда я был в Германии, немцы не скрывали своего презрения ко мне, и, если хотите, я еле ноги унес оттуда… Скажу вам доверительно, что дело идет к развязке: немцы оккупируют мою родину, и тогда моему паспорту вообще будет грош цена!
— Ну нет! Не может быть, чтобы немцы рискнули на такой шаг. Нельзя же, в самом деле, заниматься разбоем среди бела дня! — Ковачич недоверчиво покачал головой.
— Очень даже можно!.. Не успел Гитлер прийти к власти, как судетские немцы заговорили об автономии. Поверьте мне, это только начало, самое страшное впереди. Скажу вам больше: не только Чехословакия, но и родина ваших предков под угрозой.
— Впрочем, вы, вероятно, правы: от фашистов всего можно ожидать. Беда заключается в том, что из-за боязни большевиков никто им не станет мешать! — согласился Ковачич.
— Джо, ради нашей дружбы, помогите мне получить американский паспорт! — сказал вдруг Василий, не сводя глаз с американца.
— Это очень трудно, очень!.. Чтобы получить подданство, нужно родиться в Штатах или жить там долго, не менее десяти — пятнадцати лет…
— Если б было легко, я не стал бы обращаться к вам. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я считаюсь удачливым коммерсантом, начал на голом месте, накопил значительное состояние, а что толку? Завтра все может пойти прахом… Готов нести любые расходы, только помогите!
— Дело не в расходах! — Вице-консул досадливо поморщился. — А в возможностях…
— Всю жизнь буду вам обязан!
— В данный момент ничего не могу вам обещать. Если подвернется подходящий случай, дам вам знать…
Они выпили еще бутылку шампанского, и Василий довез Ковачича до особняка, в котором помещалось консульство США, а на втором этаже жили его сотрудники.
Поставив машину в гараж, Василий решил пройтись по ночному городу. Было тепло, как летом. Много гуляющей публики. За мраморными столиками, поставленными прямо на улице, перед кафе и ресторанами, сидели пожилые люди и глазели на проходящих. На каждом шагу слышались звуки модных песенок. Париж гулял, Париж веселился. А на душе у Василия было тревожно. От Лизы все еще никаких вестей. «Отец» тоже молчит… Неужели ему, Василию, суждено всю жизнь провести в тревоге? Так ведь можно и состариться, не увидев светлого дня, не испытав никаких радостей. Разве это жизнь — всегда начеку, днем и ночью, утром и вечером. Взвешивать каждое свое слово, прежде чем его произнести… Даже сегодня утром, в разговоре с Борро, парнем безусловно честным, порядочным, пришлось прибегать к намекам. Видимо, Борро мучается в догадках; что за человек этот Кочек, чего он добивается? С одной стороны, дает советы, как лучше бороться с фашизмом, с другой — отсылает Клода в Америку, чтобы, упаси бог, тот не бросил тень на рекламную фирму «Жубер и компания». Бедный парень ломает голову над этими вопросами, а спросить прямо не решается… Или взять того же Ганса Вебера! Открыться бы перед ним, — ведь нет никакого сомнения, что Вебер настоящий антифашист и в будущем может быть полезным помощником. Нет, пока нельзя, — как говорит «отец», несозревшие плоды не срывают. А кто знает, когда они созреют?.. Что Вебер, — даже с таким близким и верным другом, как Сарьян, и то приходится держать себя в строгих рамках. Такая уж, видно, у него судьба, и ничего тут не изменишь! Василий вздохнул и стал думать о другом.
В последнее время страницы французских газет пестрели сообщениями о тенденциях правительства, направленных к сближению с Советским Союзом. Писали о визите в Москву Эррио и Пьера Кота. Казалось бы, все логично, правильно, так и должно быть. Всему миру известно, что между Францией и Россией всегда существовали дружеские отношения, и теперь, когда в соседней Германии раздаются воинственные крики, для Франции остается единственный выход: заручиться поддержкой могущественного Советского Союза, в случае если эти крики перейдут в агрессивные действия. Но выяснилось, что, посылая в Россию Эррио и Кота, сторонников сближения с русскими, кабинет министров не наделил их никакими полномочиями, — им вменялось в обязанность только прощупать настроения Кремля. Другими словами, правящие круги Франции прибегли к не очень хитрому маневру: пустили дымовую завесу, желая показать Гитлеру, что если он попытается так или иначе посягнуть на интересы Франции, то она найдет себе сильного союзника в лице коммунистической России.
Недавно в спортивном клубе Маринье сообщил Василию, что русские предложили представителям Франции заключить военный союз, но французы отступили, чем и подтвердили лишний раз, что на берегах Сены никто не помышляет о серьезных перспективах союза с Советской Россией. Поняв маневр французского кабинета, русское правительство, видимо, вынуждено будет выработать самостоятельную линию поведения. А ведь, чтобы противостоять Германии, Франция нуждается в помощи России, иначе она не устоит. Недаром такие крупные военные специалисты, как генералы Вейган и Делаттр де Гассинье, горячо поддерживают идею союза с Россией.
— Боюсь, как бы в конечном счете мы не перехитрили самих себя! — сказал Маринье в заключение.
«Значив — подумал Василий, — у нас в Москве раскусили нечестную игру французского кабинета, не дали обвести себя вокруг пальца, не захотели стать громоотводом для французской буржуазии, желающей, с одной стороны, невинность соблюсти, а с другой — капитал приобрести! Нет, шалишь, времена не те: в России не царь, а большевики стоят во главе государства, а они никогда не захотят участвовать в нечестной игре!..»
А Гитлер становился все более наглым. То ли поняв несерьезность переговоров Франции с русскими, то ли желая окончательно упрочить свои позиции, он прибег к новому трюку — распустил рейхстаг и объявил о предстоящем 12 ноября 1933 года плебисците.
Неожиданная сенсация! Плебисцит дает Гитлеру сорок миллионов пятьсот тысяч голосов.
Результаты плебисцита в Германии потрясли Европу, и политики, возлагавшие свои надежды на непрочность положения фашистского диктатора, пришли в уныние. Отныне всем приходилось считаться с человеком, единолично правившим большим государством в центре Европы и помышляющим о мировом господстве.
Предположения «отца» оправдались полностью: мировые события разворачивались с необыкновенной быстротой и фашизм становился реальной угрозой для всего человечества. Увеличивалась ответственность и Василия. А он сидел сложа руки. «Отец» не подавал о себе вестей, и всякая связь с ним прекратилась. Нужно же было такому случиться именно сейчас, в разгар таких политических событий! Будь здесь Лиза, Василий поехал бы домой сам или послал бы ее, но сейчас об этом даже думать нельзя!
На следующий день, утром, секретарша доложила Василию, что некий мсье Франсуа Ренар просит принять его.
— Просите! — Василий торопливо встал из-за стола и пошел навстречу старому компаньону.
Переступив порог кабинета, обставленного дорогой мебелью, Ренар оценивающе огляделся по сторонам. Он мало изменился — такой же плотный, краснощекий, с брюшком. Вот только костюм на нем был модный, из дорогого материала, хотя и приобретенный в магазине готового платья.
— А-а, дорогой Ренар! Я рад видеть вас в добром здоровье! — Василий обнял гостя, усадил его в кожаное кресло. — Рассказывайте, как живете, как идут дела?
— Я тоже очень рад видеть вас, Кочек! Жаловаться не приходится, с вашей легкой руки все идет отлично. Мы ведь расширили дело — у нас теперь не мастерская, а авторемонтный завод. Правда, небольшой, но все же завод! — Похоже, толстяк, став заводчиком, приобрел привычку говорить о себе во множественном числе.
— Поздравляю! Значит, осуществились ваши мечты?
— Еще как!.. У нас работает сорок человек рабочих и мастеров. Построили новый цех для окраски машин, установили небольшой конвейер. Помните, еще при вас поступило предложение от одной парижской фирмы по продаже подержанных автомобилей? Так вот, мы сейчас полностью обслуживаем эту фирму. Доходы приличные, грех жаловаться. Кстати, я принес вам деньги, — Ренар полез в карман пиджака, достал пачку денег и положил ее перед Василием. — Пожалуйста, посчитайте и, если не трудно, верните мне вексель.
Василий открыл стенной несгораемый шкаф, положил туда, не считая, деньги и достал вексель.
— Спасибо, что вы не забыли меня. Я рад, что эти деньги пригодились вам! — Василий позвонил и попросил секретаршу подать фрукты и коньяк.
— О нет, днем, в рабочее время, я спиртного в рот не беру! — Ренар наотрез отказался от коньяка.
— В таком случае — лимонад, мороженое?
— Пожалуй, это можно! — Он еще раз оглядел кабинет Василия. — Вижу, ваши дела тоже процветают!.. Впрочем, я знал, что вы, с вашей деловой смекалкой, далеко пойдете. Не только знал сам, но и говорил об этом неустанно мсье Дюрану и нашему мэру.
— Как они поживают? Я давно ничего не слышал о них, — поинтересовался Василий.
— Без особых перемен, если не считать, что мсье Дюран еще больше разбогател — купил новые земельные участки под виноград. Он утверждает, что скоро цены на землю подымутся в два-три раза. У Дюрана особый нюх, он редко ошибается. Если у вас есть свободные деньги, вложите их в землю. Уверяю вас, не ошибетесь! Я мог бы подыскать для вас подходящие участки…
— Вы очень добры ко мне, Ренар, но, к сожалению, я не смогу воспользоваться вашим советом.
— Это почему же?
— По очень простой причине. Все мой попытки получить французское подданство не увенчались успехом. Следовательно, рано или поздно мне придется вернуться на родину.
— Просто удивительно, о чем думает наше правительство? Если не дать французское подданство такому полезному республике человеку, как вы, кому же тогда давать? — искренне сокрушался толстяк.
Пообещав при первой возможности побывать у него, Василий попросил передать поклон всем друзьям и проводил Ренара до самой улицы.
Вечером за Василием заехал Сарьян и увез его к себе. Пока Жаннет хлопотала об ужине, друзья, переодевшись, пошли в сад. Василий окапывал плодовые деревья. Сарьян полол огород. Наполненный ароматом сирени и ранних цветов, воздух казался особенно чистым после парижской духоты. Здесь и дышалось хорошо и работалось легко.
— Батраки, ужинать! — послышался голосок Жаннет.
После освежающего душа друзья ели с большим аппетитом, особенно Василий. Под его крепкими зубами так и хрустели косточки куропатки.
— В конечном счете все становится на свои места! — неожиданно сказал Сарьян за десертом.
— О чем это вы? — Василий поднял голову и удивленно уставился на него.
— Говорю, все становится на свои места!.. Собственно, так и должно было быть…
— Не понимаю!
— Проследите за моими мыслями, и все поймете… В связи с уходом Германии из Женевы, Лига наций фактически перестала существовать. Также приказал долго жить мертворожденный комитет по разоружению… Вы читали заявление сэра Макдональда? Он сказал, что без Германии правительство его величества не примет участия ни в какой конференции по разоружению. Пакт четырех фактически стал первой крупной победой Гитлера и поражением Франции. Итальянская официозная пресса не скрывает своего восторга по этому поводу. А барон Азоизи, делегат Италии в Лиге наций, намекая на то, что Германия стала могучим политическим фактором в Европе, мягко внушает своим коллегам: «Нужно быть реалистами и принимать вещи такими, как они есть…» В пакте четырех силы распределяются далеко не в пользу Франции. Америка избрала роль наблюдателя, но скорее сочувствующего Германии. Политические деятели за океаном рассуждают примерно так: против левых сил Европы, в особенности против большевистской России, нужна реальная сила, такой силой может быть только современная Германия. Недаром делегат Соединенных Штатов, Норман Дэвис, рекомендует: «Главное — не обострять положения»… Англия, как всегда, заботится только о своих собственных интересах, и Франция остается одинокой перед лицом двух тотальных государств — Италии и Германии. Ну, а если учесть, что переговоры с русскими оказались чистым блефом, картина станет совершенно ясной!..
— Вы нарисовали уж очень мрачную картину…
— Просто реалистичную! Подумайте сами, при такой разобщенности в Европе, кто может помешать Гитлеру перейти от слов к делу? Ведь после подписания Францией пакта четырех от нее отойдут, если уже не отошли, все ее союзники на Балканах, не говоря уже о Польше, где во главе государства стоят такие нечистоплотные политиканы, как маршал Пилсудский и полковник Бек, — они давно ведут сепаратные переговоры с Германией. Малые государства, оставленные старшим партнером на произвол судьбы, вынуждены действовать по поговорке: на бога надейся, а сам не плошай — спасайся кто как может!.. Присоединение Австрии к рейху тоже вопрос дней. Если канцлер Дольфус будет и дальше сопротивляться аншлюсу, его просто уберут. Поверьте мне, что отныне великие державы начнут делать Гитлеру уступку за уступкой до тех пор, пока не наступит катастрофа…
— Жюль, неужели у тебя нет других тем для беседы с друзьями, чем эта проклятая политика? — перебила Сарьяна Жаннет.
— Извини, дорогая!.. Я, кажется, действительно становлюсь не в меру болтливым, — грустно ответил журналист.
Поднявшись к себе наверх, Василий долго сидел у открытого окна и думал о том, что Сарьян прав в своих рассуждениях. Мир неудержимо движется навстречу катастрофе…
Позвонил Ковачич и сообщил, что им необходимо повидаться. Договорились о встрече в итальянском ресторане. И как только они заняли столик в дальнем углу, Ковачич, не теряя времени, перешел к делу.
— Вчера карета скорой помощи подобрала на улице человека в бессознательном состоянии, — сказал он. — Врач установил смерть, и доставили его не в больницу, а в морг. В кармане покойника нашли американский паспорт. Позвонили к нам в консульство, у телефона оказался я. Я немедленно помчался в морг. Умершего звали Дэвид Хэйфи, и, по заключению врачей, умер он от разрыва сердца, в результате злоупотребления алкоголем. Когда я просматривал бумаги Хэйфи, меня осенила идея: а не больше ли пользы будет для моего отечества, если вместо пьяницы Хэйфи мой друг Кочек станет гражданином Соединенных Штатов?
— Но как же это можно сделать? — недоверчиво спросил Василий.
— А вот слушайте!.. В результате автомобильных катастроф и других несчастных случаев на улицах Парижа ежедневно гибнет несколько человек. Личность некоторых из них установить не удается — нет документов. Многих из них никто и не разыскивает. Скажите, почему одним из таких неопознанных мертвецов не может быть и Дэвид Хэйфи из штата Мичиган?
— Но ведь у него был паспорт, и, наверно, в морге его зарегистрировали под фамилией, указанной в паспорте?
— В том-то и дело, что не зарегистрировали!.. Дежурный по моргу, не зная английского языка, отнес Хэйфи в графу неизвестных. К тому же этот дежурный был сильно под мухой, — будь даже паспорт французским, он все равно ничего не понял бы. Еле двигая языком, он спросил меня: «Скажите, мистер, это не американский паспорт?» — «Нет, это не паспорт», — ответил я. «А герб вроде американский», — пьяно лепетал он. «Да нет же!.. Не разобравшись, зря беспокоите должностных лиц, отрываете их от работы», — рассердился я и положил себе в карман паспорт, чековую книжку и другие бумаги Хэйфи, а деньги оставил на столе. Их было порядочно — около тысячи долларов и несколько сот франков. «Полагаю, — сказал я дежурному, — что покойник был человеком неизвестным в этих краях и никем не будет опознан. Следовательно, вы с чистой совестью можете оставить эти деньги у себя, разумеется, если не будете болтать лишнее!» В ответ он понимающе кивнул головой. Нужно полагать, что такого рода случаи не редкость в его биографии…
— Ну, а дальше? — спросил Василий. Вся эта история не очень-то была ему по душе.
— Дэвида Хэйфи, умершего от невоздержания, не воскресить. Пусть земля будет ему пухом!.. Уверен, что служащий морга, завладев кучей денег, никому ни слова не скажет ни о моем посещении, ни о документах, взятых мною, — даже если вспомнит о них. Какой ему смысл? Чековую книжку и прочие бумаги Хэйфи мы уничтожим, и его наследники по истечении определенного времени преспокойно получат деньги, находящиеся на его текущем счету.
— Допустим, все произойдет так, как вы сказали, но что толку? Не могу же я воспользоваться паспортом некоего Дэвида Хэйфи, хотя и мертвого. На паспорте его фотокарточка, — меня тотчас же разоблачат как самозванца, да еще обвинят в убийстве человека с целью ограбления и присвоения его паспорта…
— Неужели вы считаете меня наивным и думаете, что я предложу вам вместо фотокарточки Хэйфи наклеить вашу и вручить вам его паспорт? Такая грубая работа недостойна нас с вами! Мы найдем такие ходы, что в них запутаются профессиональные криминалисты.
— Что же вы предлагаете?
— Вы только внимательно следите за моими мыслями и через десять минут подтвердите, что они действительно гениальны! — Ковачич рассмеялся. — Когда смерть человека, подобранного на улице, окончательно забудется и на все запросы из Штатов (если, конечно, они поступят) будет дан ответ, что американскому консульству в Париже ничего не известно о Дэвиде Хэйфи, вы предъявите нам испорченный американский паспорт и попросите выдать взамен дубликат… Вы, наверно, ждете, что я предложу вам залить паспорт бедняги Хэйфи чернилами или кипятком, не так ли? Скажите честно, я угадал ваши мысли?
— Почти…
— Слушайте, это опять была бы грубая работа профанов!.. Вы плавать умеете? — спросил Ковачич, наливая себе и Василию вина.
— Умею.
— Отлично! В таком случае без риска утонуть вы искупаетесь в Сене. Благо, в это время года вода в реке не такая уж холодная и воспаление легких исключается!
— Извините меня, Джо, но я пока не могу уловить связь между паспортом и купанием в Сене, — сказал Василий, хотя ему был уже ясен не такой уж хитроумный план американца.
— Вот видите, даже вы, коммерсант, мастер рекламного дела, не можете уловить этой связи! — просиял Ковачич. — Вода в Сене загрязнена маслом, нефтью и всякой прочей дрянью. Разумеется, вы искупаетесь в одежде, имея в боковом кармане пиджака паспорт. И если еще чуть-чуть приоткроете страницу, где написана фамилия владельца, а также наклеена фотокарточка, то все будет в полном порядке. Ваш паспорт будет испорчен на совесть! Вы сейчас спросите — а как вам очутиться в Сене, да еще в одежде? Ну, это совсем просто! Разве у иностранца, впервые приехавшего в Париж, не может возникнуть желания покататься на лодке по Сене? И разве вы не можете сделать неловкий шаг и вместо лодки оказаться в мутных водах реки? Нырните себе на здоровье раза два, сделайте вид, что тонете, — прохожие кинутся вам на помощь, спасут вас. Это же событие — смелые французы спасли американца от верной смерти! Если, на ваше счастье, в это время окажется поблизости еще полисмен, — дело будет в шляпе: он составит протокол. Было бы идеально, если бы появилась хоть небольшая заметка об этом печальном происшествии на четвертой странице вечерней газеты. В условиях Парижа такую заметку нетрудно организовать за недорогую цену, даже если во время вашего купания не будет никакого репортера!..
— Джо, вы действительно все гениально продумали. Удовлетворите в последний раз мое любопытство, и я сдамся на милость победителя!
— Пожалуйста! Готов ответить на любые ваши вопросы. — Ковачич с довольным видом откинулся на спинку кресла и закурил.
— Предъявив вам испорченный паспорт, я должен буду дать сведения о себе: где родился в Штатах, где получил заграничный паспорт, адрес моей семьи в Америке, ну и тому подобное. Разве вы не сделаете запрос, чтобы установить, соответствуют ли действительности эти сведения?
— У вас отличная голова, Кочек! Я все время думал: догадается ли этот славянин уточнить такой первостепенной важности вопрос или пройдет мимо? Догадался! Славянин оказался не таким уже простачком… Хорошо, так и нужно, — терпеть не могу простачков! А теперь отвечаю на ваш вопрос; в некоторых случаях, когда у нас возникают сомнения, мы запрашиваем госдепартамент, в других нет. В вашем случае все предельно ясно. К тому же вашим делом заниматься буду я. Захочу — запрошу, захочу — не запрошу. Тут мне никто не указ. Вообще-то, должен вам сказать, Кочек, что вы родились под счастливой звездой. Примерно через месяц наш шеф уезжает в Африку поохотиться на слонов. В его отсутствие я остаюсь полным хозяином положения!
— Ну, Джо, сдаюсь и пью за ваше здоровье, — вы действительно гений! — Василий поднял бокал с вином и чокнулся с Ковачичем. — Скажите только, откуда все это у вас?
— Откуда, откуда!.. Думаете, я зря проторчал два года в спецшколе, прежде чем перешел на работу в госдепартамент?
— Не знаю, что за спецшкола и чему там учат, но могу сказать только одно; если у человека нет своей головы на плечах, то никакая школа ему не поможет!
— Это само собой! — охотно согласился американец.
Все последующие дни Василий обдумывал предложение Ковачича, не зная, на что решиться. Конечно, американский паспорт был ему необходим, но во имя чего Ковачич идет на такой риск? После долгих размышлений Василий все же решил, что терять ему нечего, да ведь и такой случай может не подвернуться больше… Если хорошенько разобраться, то в этом деле и риска большого нет. Правда, Ковачич признался, что учился в спецшколе, — следовательно, является разведчиком по совместительству. Ну и пусть! Выдавая ему этот паспорт, Ковачич совершает должностное преступление, — вряд ли он станет рисковать…
Дни неизвестности тянулись без конца. Лизы все не было, от «отца» тоже ни звука. Василий снова отправился к фрау Шульц — на этот раз, чтобы предложить ей поехать к «отцу».
— Если, конечно, — сказал он, — эта поездка не связана с большим риском для вас…
Фрау Шульц согласилась без колебаний, но ехать ей не пришлось: в Париж собственной персоной прибыл «отец». Он похудел, постарел, на лице появились морщины, глаза ввалились. Летнее пальто висело на нем, как на вешалке.
— Что с вами, почему от вас долго не было вестей? — спросил Василий в машине, по дороге к Сарьянам.
— Болел, почти три месяца пролежал в больнице, — ответил «отец».
— От Лизы нет никаких вестей, — уехала, как в воду канула, — продолжал Василий.
— Дело в том, что в стране, куда уехала твоя жена, положение очень осложнилось… Там вовсю орудуют немецкие фашисты. Не исключена возможность, что они не сегодня-завтра организуют государственный переворот и поставят во главе правительства своих людей. Меня не было на месте, а двое наших людей, посланных туда на связь с Лизой, не смогли добраться до нее, и только совсем недавно, буквально несколько дней назад, нам стало известно, что она жива, здорова и скоро будет здесь. Я и приехал сюда, чтобы повидаться с Лизой — узнать из первых рук, что же там творится.
— Это правда, Лиза скоро приедет? — От сильного волнения Василий на несколько секунд даже забыл, что сидит за рулем.
— Мне говорить неправду не положено…
Чтобы загладить свою неловкость, Василий спросил, надолго ли приехал «отец».
— Поживу немного у тебя, если, конечно, не будешь возражать. Дождусь Лизу, поговорю с нею, а там видно будет.
— Пожалуйста, живите сколько угодно, я очень рад! Мы посадим вас на усиленное питание, и вы скоро поправитесь.
— У нас говорят так: была бы кожа да кости… Спасибо за приглашение, — действительно, после больницы нужно бы отдохнуть, да все некогда. Вокруг такое творится, что только успевай поворачиваться… А что у тебя нового?
— Особых новостей нет. По словам фрау Шульц, стенографистка немецкого посла проявляет необычную нервозность. Ценной информации не дает, а деньги получает по-прежнему. Ганс Вебер объясняет ее поведение тем, что ей скоро предстоит возвращение в фатерланд. После Франции, где она вела свободную и сытую жизнь, не очень-то хочется в фашистский рай!.. Возможно, сам Вебер тоже поедет в Германию. По его словам, фашисты меняют весь дипломатический персонал за границей.
— Что еще?
— А еще — в скором времени актив нашей фирмы перевалит за триста тысяч франков, а там, смотришь, мы станем и миллионерами!.. На днях отправил в Америку одного своего художника-антифашиста, Клода Гомье, честного, но очень уж горячего парня, — боялся, что он бросит тень на нашу фирму. И есть у меня еще одна новость, требующая вашего совета… Хочу получить американский паспорт! — И Василий пересказал «отцу» свою недавнюю беседу с вице-консулом.
«Отец» некоторое время молчал, потом, глядя в сторону и как бы рассуждая вслух, сказал:
— Хотя в его положении заниматься рискованными операциями не положено, но, с другой стороны, упускать то, что само плывет в руки, тоже неразумно, тем более что такой случай не подвернется больше… Иметь же в кармане американский паспорт, полученный от самого консула, чего-то стоит! Рискнем, — заключил он, поворачиваясь к Василию, — американское подданство может сослужить тебе большую услугу в самое ближайшее время!
— Почему именно в ближайшее время?
— Потому, что в недалеком будущем тебе придется перебазироваться в Германию. Конечно, не сегодня и не завтра, но думаю, что скоро. Получив паспорт, поезжай в Америку, постарайся завязать там деловые отношения с фирмами, торгующими с Германией, стать их представителем в Берлине. Ты — богатый человек, опытный коммерсант, при твоих способностях тебе несложно осуществить такой план. Будет вполне логично, если ты, учтя неустойчивое положение в Европе, ликвидируешь свои дела во Франции и переведешь весь свой капитал в какой-нибудь солидный нью-йоркский банк. В Америке лучшего аттестата на благонадежность, чем сотни тысяч долларов на текущем счету, не придумаешь. Нельзя не оценить, Василий, положение человека, представляющего в Берлине крупные американские фирмы. Фашисты, весьма заинтересованные в торговле с Америкой, где, кстати, покупают главным образом стратегическое сырье, будут нянчиться с тобой, как с малым ребенком. Мы обо всем этом поговорим более подробно, когда придет время. Сейчас хочу посоветовать тебе: не теряй связи с Гансом Вебером и Браун, — они очень пригодятся в Германии. Вебер — как убежденный антифашист и честный человек, а Браун можно будет по-прежнему покупать за деньги, если она будет работать в каком-нибудь важном учреждении.
— Не хочется ехать в Германию! — вырвалось у Василия.
— Понимаю, — сказал «отец». — К сожалению, нам с тобой не дано жить там, где хочется, заниматься тем, что любо. Моя бы воля, я, например, занялся бы разведением цветов — тюльпанов и роз, которые очень люблю!..
В течение нескольких дней «отец» жил безвыездно у Василия за городом, наслаждался отдыхом. Он подолгу бродил по саду, ухаживал за цветами, как большой знаток этого дела, потом садился в шезлонг с книжкой. Устав от чтения, «отец» сладко подремывал. По всему было видно, что он устал и не оправился как следует от болезни.
В эти дни Василий освобождался пораньше и спешил домой. Он старался окружить «отца» заботой, привозил из города вкусную еду, фрукты, хорошие вина.
По вечерам, после ужина, к ним присоединялись Сарьяны. Вчетвером играли в покер, подолгу разговаривали. Во время этих бесед журналист невольно демонстрировал свои всесторонние знания, политическую зрелость и все больше и больше нравился «отцу». Жаннет тоже симпатизировала гостю, посмеивалась над его французским языком и угощала домашним печеньем.
В воскресенье Василий в город не поехал, и обычный распорядок дня «отца»
нарушился. После завтрака они уселись в саду за шахматной доской. Первую партию выиграл «отец», но Василий был помоложе, упрямее, он всячески старался не ударить лицом в грязь — и вторую партию выиграл. Приступили к контровой и, увлеченные игрой, не услышали шума подъехавшего такси и скрипа калитки, когда в сад вошла Лиза. Увидев их за шахматной доской, в пижамах, она направилась прямо к ним.
Первой заметила Лизу из окна кухни Жаннет, но Лиза знаком попросила ее молчать, незаметно подкралась к Василию и руками закрыла ему глаза.
— Лиза! — Василий вскочил, опрокинул шахматную доску, рассыпал фигуры. Заключив жену в объятия, закружился с нею по саду.
— Хватит… оставь!.. Сумасшедший! — слабо сопротивлялась Лиза.
Василий бережно опустил жену на землю.
— Не пойму, почему ты так осунулась? Кормили тебя, что ли, плохо?
— Просто устала с дороги… А ты тоже хорош, жену не встретил. Приезжаю домой, моя телеграмма из Марселя — в почтовом ящике, в квартире — никого. Взяла такси и прямо сюда… Как хорошо, что «отец» здесь! Мне нужно поговорить сразу же, немедленно!
— Неотложных дел не бывает, их выдумывают нетерпеливые люди, — сказал «отец». — У нас здесь времени хоть отбавляй, успеем поговорить о делах!
Как ни старался он отложить деловые разговоры, все же ему пришлось после обеда выслушать сообщение Лизы о поездке. Закончив свой рассказ, она еще раз попросила «отца» спасти профессора Николаи.
— Над ним занесена рука убийцы, — если вы не поможете, он погибнет!.. Я видела своими глазами всех этих подонков. Уверяю вас, эти цивилизованные звери в модных галстуках ни перед чем не остановятся! Раз Соковский дал обещание фон Болену заняться профессором Николаи, значит, займется!
— Хорошо, подумаем, как помочь твоему профессору!..
— Нужно не думать, а делать, — делать срочно, иначе поздно будет!
— Еще раз повторяю: мы сделаем все, чтобы спасти профессора Николаи, а как практически приступить к делу, признаться, пока еще не знаю… Ты лучше повтори еще раз содержание письма, якобы отправленного МИДом Франции своему послу…
Повторив текст письма, Лиза добавила, что, насколько она помнит, немцы сказали, будто письмо подписано генеральным секретарем министерства иностранных дел Алексисом не то Ленжен, не то Леже.
— Алексис Леже, — уточнил Василий.
— Черт возьми, это же целый заговор! А как помешать — не знаешь, — сказал «отец». — Доказательств у нас никаких, нам могут и не поверить. Сидеть же сложа руки и ничего не предпринимать тоже нельзя, — воспользовавшись этой фальшивкой, фашисты такое натворят там, что потом локти будешь кусать…
— Ситуация сложная, — согласился Василий. — Может быть, стоит привлечь к этому делу Сарьяна? У него широкие связи в правительственных и научных кругах, он-то наверняка сможет что-то предпринять.
— Можно попробовать, — сказал «отец». — Лиза, ты продиктуй содержание письма по-французски, как его помнишь, а Василий запишет.
Когда письмо было готово и «отец» предложил пригласить журналиста, Василий сказал:
— Можно попросить Сарьяна организовать срочный вызов профессора Николаи через Сорбонну или Французскую академию.
— По-твоему, это в его силах?
— Уверен, что он может это сделать.
— Ну что ж, попросим журналиста… Я думаю, что, пока нет никаких разговоров о письме, это не вызовет у фашистов подозрения. Лиза, пригласи Сарьяна подняться к нам, если он не очень занят, а сама останься внизу. Лучше, если мы поговорим с ним без тебя!..
— Дорогой друг, есть к вам конфиденциальный разговор, — сказал Василий, как только журналист вошел в их большую светлую комнату. — Но прежде всего ознакомьтесь с этой бумагой и скажите нам, что это такое?
— Фальшивка! — решительно сказал Сарьян, возвращая Василию письмо. — Фальшивка гнусная, страшная, составленная с целью провокации. Министерство иностранных дел Франции никогда не написало бы такое письмо, прежде всего потому, что факты, изложенные в нем, не соответствуют действительности. Правительство Франции не только не замышляет допустить русские войска на свою территорию, но и вообще далеко от мысли заключить с большевиками какой бы то ни было военный союз. Потом… потом, — помилуй бог! — какой идиот напишет такое письмо открытым текстом! Разве у французов нет надежных шифровок или дипломатических курьеров, чтобы доставить такого рода документ адресату надежным путем? Если Леже увидит свою подпись под этим письмом, он умрет от разрыва сердца!..
— Право, Сарьян, ваша исключительная проницательность никогда не была столь поразительной! — сказал Василий. — К сожалению, в нашем распоряжении нет ни подлинника этого письма, сфабрикованного, по всей вероятности, в Берлине, ни других доказательств, а между тем вы правы — это провокация, причем очень серьезная. При помощи этой фальшивки немецкие фашисты собираются организовать государственный переворот в одной союзной Франции стране, с тем чтобы целиком подчинить ее интересам третьего рейха. Затевается крупная игра. Даже если бы у нас и были доказательства, мы все равно не могли бы дать им огласку из соображений безопасности человека, добывшего копию этого письма, — в том-то и сложность нашего положения!.. Быть может, все же стоит довести до сведения одного из членов кабинета о существовании этой фальшивки, но с просьбой, чтобы он не дал ей широкой огласки?
— Я не совсем представляю, как можно сделать что-либо толковое и в то же время не дать огласки такому письму? — чуть раздраженно сказал Сарьян.
— При желании можно, — вмешался в разговор молчавший до сих пор «отец». — Почему, например, член кабинета министров не может информировать через закрытые дипломатические каналы главу государства той страны о готовящемся заговоре?
— Пожалуй, — журналист внимательно посмотрел на гостя.
— Скоро у нас появится еще одна возможность — фашисты рано или поздно заговорят о существовании этого письма, иначе зачем оно им? Вот тогда можно напечатать на страницах французских газет всю правду! — продолжал развивать свою мысль «отец».
— Вы могли бы взять на себя такую нелегкую миссию? — спросил Василий Сарьяна.
— Что именно?
— Передать, по вашему усмотрению, одному из министров копию этого письма, предупредив, что оно записано по памяти, и сообщить о заговоре. А позже, когда это будет возможно, разоблачить фальшивку на страницах французской прессы.
— Думаю, что это я сумею сделать… Вы только дайте мне копию письма.
— Позволю себе напомнить, — сказал «отец», — что преждевременное обнародование письма повлечет за собой большую опасность для человека, доставившего его нам с риском для жизни!
— Понимаю…
— И еще одна просьба, — сказал Василий. — В той стране, где орудуют немецкие фашисты, жизнь одного ученого в опасности. Его нужно спасти. Это — профессор археологии Николаи. Единственный способ помочь ому — срочный вызов Сорбонны или Французской академии. Быть может, таким путем ему и удастся вырваться оттуда.
— Дайте мне адрес профессора, и я завтра же организую ему вызов, — это сделать гораздо проще!
Василий сел за машинку и, стуча двумя пальцами, снял копию с письма. Один экземпляр, вместе с адресом профессора Николаи, он вручил Сарьяну, второй дал «отцу», а третий, на всякий случай, оставил себе.
Вечером Василий посадил Лизу и «отца» в свою машину и повез их по окрестностям Парижа. Путешествие они завершили в маленьком ресторанчике на берегу Сены. О делах не говорили, — «отец» решил дать возможность Лизе прийти в себя после пережитого во время поездки в «ту» страну. И только на третий день после ее возвращения, усадив мужа и жену возле себя, он завел разговор о предстоящих делах.
— Итак, завтра я вас покину, на этот раз — надолго, — сказал он. — Дела складываются так, что нам обоим придется перебазироваться в Германию. Спешить с этим не нужно, а готовиться пора. Было бы очень хорошо, если бы тебе, Василий, удалось получить американский паспорт и поехать в Берлин представителем американских фирм. Даже если американцы предложат тебе продавать немцам стратегическое сырье: нефть, смазочные масла, цинк, олово, никель, алюминий, вольфрам и прочее, — не раздумывая соглашайся! Через тебя или без тебя — они все равно будут продавать все ото немцам. Если хочешь знать, даже хорошо — представительствовать от солидных фирм и картелей, поставляющих Германии такие материалы. Фашисты будут всячески обхаживать тебя, и ты будешь в большей безопасности…
— Но ведь Василий однажды уже ездил… туда. Разве не опасно появиться ему там снова, да еще с американским паспортом? Меня тоже фашисты видели и засекли по всем правилам, — сказала Лиза.
— Наивно было бы думать, что немецкая разведка только тем и была занята, что следила за неким Ярославом Кочеком из Чехословакии во время его пребывания в Германии. На минуту допустим, что это было так, — ну и что из того? Почему богатый коммерсант Кочек не мог за это время принять американское подданство? С тобой, Лиза, дело обстоит еще проще. Если даже фашистские разведчики взяли тебя на заметку, что мало вероятно, то все не так уж трудно объяснить. Ты встретила американца, полюбила и вышла за него замуж. Подумаешь, невидаль какая!.. Слов нет, нам необходима осторожность, но преувеличивать хитрость врага тоже не следует, тем более что, пока вы соберетесь в Германию, много воды утечет, многое забудется. В Германии живите скромно, постарайтесь ничем не привлекать к себе внимания соседей, в особенности полиции. Впрочем, все это я говорю зря, — вы отлично знаете, как себя вести!
— Что мы должны будем делать в Германии? — спросил Василий.
— Снова создать надежное прикрытие — жить, приспосабливаться к местным условиям и наблюдать, Наблюдать внимательно и запоминать. А когда придет время, попытаться установить связь с местным подпольем. Поначалу через Вебера. Не может быть, чтобы в Германии не существовали антифашистские группы, — их только нужно найти. Смотри, Василий, не горячись! Кроме Вебера, тебя не должна знать ни одна живая душа. Действовать будешь только через него. Не упускай из вида также эту Браун, — мне почему-то кажется, что она еще пригодится нам. Работая представителем американских фирм, о своем личном бизнесе тоже не забывай. Этим ты завоюешь большее доверие у окружающих, завяжешь нужные знакомства. Когда пустишь крепкие корни в Берлине, начнешь потихоньку собирать информацию о кознях фашистов — не только против нас, но и против Франции, Англии и даже Америки. Если мы хотим преградить путь фашизму, то обязаны помогать всем, забывая о противоречиях, существующих между нами, даже зная, что правители этих стран готовы утопить нас в ложке воды. Поживем — увидим, кто из нас окажется прозорливее, мы или они.
— Хорошо, «отец». Единственное, о чем я вас прошу, — обеспечьте нас надежной и постоянно действующей связью.
— Об этом мы позаботимся, — пообещал «отец». — Скажи, Василий, если возникнет необходимость ликвидировать твои дела во Франции, сможешь сделать это быстро?
— Хоть завтра!
— Сколько получишь за свою долю в рекламной фирме?
— Если у меня будет еще немного времени, я смогу довести свой капитал до трехсот тысяч, а может быть, и больше. За последнее время, в связи с заказами Лейпцигской ярмарки, доходы наши здорово увеличились. В ближайшее время они могут стать еще больше, если наладятся наши деловые отношения с Америкой.
— Отлично!.. Когда продашь свою долю, деньги преврати в доллары и помести их, как мы уже говорили, в солидный нью-йоркский банк. Эти деньги пригодятся тебе, — в дальнейшем все свои расходы будешь покрывать сам, из своих средств, на нас рассчитывать не приходится.
— Деньги для меня не проблема, я научился зарабатывать их здесь, заработаю и в Германии.
Утром, прощаясь, «отец» посоветовал Василию разведать — можно ли будет рассчитывать на друзей из спортивного клуба, де ла Граммона и Маринье, в случае каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Об отпуске не было сказано ни одного слова, и Василий понял, что сейчас поднимать вопрос об этом бесполезно.
12
Они шли своим чередом. Париж веселился — рестораны, кафе, в особенности ночные клубы и варьете были полны посетителями. На Больших бульварах устраивались выставки художников, магазины и салоны демонстрировали новые моды к предстоящему осенне-зимнему сезону. И все же за всем этим чувствовалась пока еще неясная тревога.
В Париж приехал профессор Николаи. Сарьян не только встретил ученого на вокзале, но и успел взять у него интервью.
— Большой оригинал этот профессор, — рассказывал Василию журналист. — Знаете, как он ответил на вопрос: догадывался ли он о грозящей ему опасности? «Дело в том, — сказал он, — что все люди смертны. Ушли из мира выдающиеся ученые, художники, полководцы, монархи, — уйдем и мы, а как, в результате чего, поверьте, мне совершенно безразлично». — «Но ведь природа вложила в каждое живое существо инстинкт самосохранения, — попробовал я возразить, — никому не хочется умирать раньше времени». — «Разумеется! Если вы полагаете, что мне не хочется жить, то глубоко ошибаетесь, — иначе я не покинул бы свою родину, зная заранее, что не скоро вернусь туда». На мой последний вопрос, чем же он думает заниматься в Париже, ученый дал обстоятельный ответ. «Прежде всего заниматься своим делом — по кратким записям восстановить картину и опубликовать предварительные данные о раскопках древнеримского городища, относящегося к середине третьего века до нашей эры. К сожалению, я не успел довести до конца раскопки. Но и того, что извлечено из земли и изучено, достаточно, чтобы сделать некоторые интересные выводы… Буду читать лекции в Сорбонне, где когда-то учился сам… А еще нужно что-то предпринять, открыть людям глаза, чтобы они осознали надвигающуюся опасность. Как это сделать, — признаюсь, сам еще не знаю. Я никогда не занимался политикой, больше того — презирал людей, посвятивших себя этому, на мой взгляд, бесполезному занятию. Но с некоторых пор понял, что своей пассивностью невольно становлюсь пособником черных сил. Утверждение, что фашизм продукт только нашего времени, — глубокая ошибка. Во все времена диктаторы всех рангов и способностей занимались тем же, чем сегодня занимается Гитлер, — играли на религиозном фанатизме или шовинизме масс, старались отвлечь их от внутренних трудностей и противоречий и направить их энергию на специально придуманного внешнего врага». Действительно, человек прозрел, ничего не скажешь! — заключил свой рассказ Сарьян.
— Честь и хвала профессору! — сказал Василий.
Клод Гомье слал из Америки обнадеживающие вести. Оформленные им витрины большого универсального магазина в центре Нью-Йорка произвели впечатление.
Вслед за этим из Америки начали поступать заказы. Василий не ошибся в расчетах: заказы были выгодны и основательно увеличивали доходы фирмы.
С начала нового учебного года Лизу зачислили на основное отделение, и она из вольнослушательницы превратилась в полноправную студентку Сорбонны. С радостью рассказывала она мужу о шумной овации, устроенной студентами и профессурой в честь профессора Николаи. Он узнал ее в толпе студентов, подошел к ней и крепко пожал руку. И Лиза не поняла, что это могло означать — было ли просто знаком симпатии, или он понял ее роль в его приглашении в Париж…
После утомительной поездки Лиза чувствовала себя неважно, хотя и скрывала это от Василия. Временами она задумывалась и часами молчала. В разговорах с Василием часто возвращалась к вопросу о предстоящей поездке в Германию.
— Неужели мы на самом деле поедем в Германию? — спрашивала она с тревогой.
— Как видно, придется, — Василий отвечал спокойно, равнодушно, стараясь даже своим тоном подчеркнуть, что он не видит в этом ничего особенного.
— Боюсь я этой поездки!.. Ты бы посмотрел на физиономии фашистов. Не люди, а выродки какие-то, способные на любую подлость…
— Хорошего там действительно мало, но ехать кто-то все равно должен!.. Нельзя допускать, чтобы они безнаказанно творили все, что им заблагорассудится. Конечно, мы с тобой не сумеем их остановить, но хоть будем знать об их планах — и это немало. Потом, чего нам бояться? За это время мы кое-чему научились, и нас голыми руками не возьмешь. Мы подготовимся как следует и только после этого поедем, — Василий всячески старался успокоить Лизу. Он и в самом деле не боялся предстоящей поездки.
Вместо ответа Лиза только вздыхала, но спокойнее и веселее не становилась…
Однажды Ковачич пригласил Василия в консульство, протянул ему пакет и посоветовал действовать.
— Джо, а как мне быть с женой? — спросил Василий. — Не может быть такого положения, чтобы муж был подданным Соединенных Штатов Америки, а жена — Чехословацкой республики!
— Подумаешь, проблема! В анкете укажите, что вы холостой, а через некоторое время сочетайтесь с вашей супругой церковным браком. Представите нам справку, и мы выдадим вашей жене американский паспорт или, на худой конец, запишем ее в ваш паспорт, что фактически одно и то же.
— Джо, светлая вы голова!
В пакете, как Василий и ожидал, оказался паспорт Дэвида Хэйфи.
Прежде чем облюбовать лодочную станцию на берегу Сены и разыграть спектакль с купаньем. Василий откровенно рассказал обо всем Сарьяну и попросил его помощи.
— Мне нужно, чтобы в тот же день, вечером, в газете появилась заметка об этом происшествии. Я всецело рассчитываю на вас.
— Сделаем, — не задумываясь согласился журналист. — Давайте вместе набросаем текст сообщения в отдел городской хроники. А когда вас вытащат из воды, я опишу ваших спасителей и передам готовую заметку нашему хроникеру. Все будет в порядке, такие вещи у нас практикуются.
Они тут же набросали текст будущей заметки. Журналист, прочитав ее вслух, спросил:
— Ну как, сойдет?
— Вполне, — ответил Василий и посмотрел на часы. — Сейчас без пяти минут два. Я успею съездить домой переодеться и к трем часам буду у лодочной станции. Вас же попрошу проехать в машине мимо места происшествия минут пятнадцать четвертого!
Спектакль был разыгран, что называется, как по нотам. Прежде чем отправиться на берег Сены принимать холодную ванну, Василий поехал домой, надел хороший, дорогой костюм, широкополую шляпу. Он вполне мог сойти за американца из Южных штатов, одевающихся дорого, но безвкусно. Тщательно проверил карманы, вынул из них все бумаги и оставил только паспорт Дэвида Хэйфи, несколько сот американских долларов и франков. Между лицевой стороной паспорта и обложкой заложил тонкую пластинку из губки, а боковой карман пиджака, куда положил паспорт, заколол английской булавкой.
На лодочной станции Василий на ломаном французском языке объяснил хозяину, что хочет покататься на лодке, заплатил деньги, небрежно сунул квитанцию в карман брюк.
Хозяин бросил в лодку весла, развязал тонкую стальную цепь, которой лодка была привязана к железному кольцу, и, передав конец цепи «американцу», показал рукой, что тот может отчаливать.
Василий встал одной ногой на корму, другой хотел оттолкнуться от пристани, но не успел: лодка быстро устремилась вперед, и он, потеряв равновесие, упал в воду.
Он камнем пошел ко дну, пуская пузыри, вынырнул, снова скрылся под водой, снова вынырнул, колотя руками по воде. Первым ему на помощь бросился проходивший мимо молодой человек, по виду студент. Он схватил утопающего за шиворот и подтолкнул его к пристани. Там он и хозяин лодочной станции вытащили тяжелого, промокшего до костей «американца» на берег. Они хотели было сделать ему искусственное дыхание, но тот отказался. Он встал, встряхнулся, выжал, сколько мог, пиджак, сокрушенно посмотрел на свою широкополую шляпу, уплывшую далеко от берега. Потом щедро наградил своих спасителей намокшими долларами. Подняв руку, остановил мчавшуюся мимо машину, поговорил с водителем и, получив разрешение, сел на заднее сиденье и уехал.
За рулем сидел Сарьян. Он довез Василия до дома и на прощанье посоветовал во избежание простуды выпить коньяку.
Дома Василий прежде всего достал из кармана паспорт бедняги Дэвида Хэйфи. Многоопытный Джо Ковачич оказался прав: паспорт был испорчен основательно. Фотокарточка отклеилась. Не вынимая губки, Василий спрятал паспорт в письменный стол.
В этот день он больше не поехал в контору, дождался Лизу и рассказал ей о необыкновенных событиях дня.
— Господи!.. Почему же ты раньше не сказал мне об этом? — спросила она в сильном волнении.
— Чтобы раньше времени не тревожить тебя. Как видишь, все обошлось. Теперь нам с тобой остается совершить еще один подвиг, и тогда игра будет завершена.
— Какой еще подвиг?
— Мадам, нам предстоит обвенчаться в церкви.
— С ума сошел!
— Никогда в жизни не был так твердо уверен в своих умственных способностях! Я получу американский паспорт, и мы обвенчаемся у нашего милого кюре. Думаю, что, получив солидное пожертвование, он не станет требовать от нас различных справок, метрик и прочего. Тогда ты, моя жена, станешь подданной Соединенных Штатов Америки!
— Что-то все очень уж просто у тебя получается…
— Не будем раньше времени растравлять душу сомнениями!.. Не лучше ли отправиться в оперу?
В тот же вечер, вернувшись из театра, Василий прочитал на четвертой полосе «Пари суар» заметку, набранную петитом:
«Спасли американца.
Сегодня, в четвертом часу, один американский турист, наняв лодку у мсье Роше, решил покататься по Сене. Садясь в лодку, он оступился и упал в воду. Не умея плавать, турист пошел ко дну и наверняка утонул бы, если бы не двое отважных французов — хозяин лодочной станции, мсье Роше, и молодой человек лет восемнадцати, проходивший в это время мимо места происшествия. Молодой француз, не задумываясь, снял пиджак, бросился в реку и, рискуя жизнью (вспомним, что утопающие обычно хватаются за своих спасителей!), нырнул и помог незадачливому туристу подняться на поверхность. Он и мсье Роше вытащили утопающего на пристань и оказали ему первую помощь.
Щедро наградив своих спасителей, американец остановил первую попавшуюся машину и уехал.
Молодой человек отказался назвать свою фамилию».
— Молодец Сарьян, — сказал Василий, протягивая газету Лизе.
На следующий день он пошел к Ковачичу с испорченным паспортом и своей фотокарточкой. Тот поставил в уголке ее печать и велел тоже основательно намочить в загрязненной маслом и керосином воде, а потом явиться со всеми документами к секретарю консульства.
— При заполнении анкет напишите свою подлинную фамилию и имя, на вопрос о семейном положении ответьте — холост, — еще раз напомнил Ковачич и добавил: — Все будет о'кэй! Патрон уехал, и теперь я здесь полноправный хозяин.
Секретарь консульства, повертев в руках предъявленный ему Василием паспорт, сказал:
— Да, испорчен безнадежно!.. Скажите, мистер Кочек, полицейские не составили протокола о происшествии?
— Не знаю, мне никто ничего об этом не говорил… Хотя постойте, в какой-то газете напечатали заметку о том, как я упал в воду и как отважные французы спасли меня, хотя я в их помощи вовсе не нуждался…
— У вас сохранилась эта газета?
— Вряд ли, но если вам она нужна, то можно найти. Заметка была напечатана в тот же день в вечерней газете, а вот названия не помню.
— «Пари суар», — подсказал секретарь.
— Да, что-то в этом роде…
— Было бы полезно приложить к вашему заявлению вырезку из этой газеты, — сказал секретарь и предложил Василию прийти за новым паспортом дня через три-четыре.
— Хорошо, мне не к спеху. Но, понимаете, жить в этом городе без документов невозможно. Дал кому-нибудь по физиономии — покажи полисмену документ…
— Это правда, — на лице секретаря появилось нечто вроде улыбки. Он достал из ящика письменного стола бланк консульства, притянул к себе портативную пишущую машинку и самолично настукал справку о том, что паспорт подданного Соединенных Штатов мистера Ярослава Кочека действительно находится в американском консульстве в Париже. Протянув подписанную и заверенную печатью справку Василию, он напомнил, чтобы мистер Кочек не забыл захватить с собой вырезку из газеты, когда придет за паспортом.
— Большое вам спасибо! — Василий поднялся с кресла, в котором сидел.
— Все же признайтесь, мистер Кочек, — остановил его секретарь, — в тот день вы были порядком навеселе — иначе не очутились бы в Сене!
— Был грех, — весело подмигнул в ответ Василий.
Через три дня исполняющий обязанности консула Соединенных Штатов Америки в Париже мистер Джозеф Ковачич торжественно вручил новенький паспорт американскому гражданину Ярославу Кочеку и посоветовал относиться к важнейшему документу, каким, без сомнения, является американский паспорт, более бережно.
Вечером, по случаю счастливого завершения столь рискованного предприятия, Василий устроил для Ковачича грандиозный кутеж в русском ресторане под старинным названием «Славянский базар».
В Париже снова зима. Серые дни, холодный ветер, мокрый снег вперемешку с дождем. Но зимний холод никак не отразился на кипении политических страстей. В Париже ни на минуту не прекращалась борьба между партиями и отдельными группировками. Руководство социал-демократической партии, боясь усиливающегося влияния коммунистов, отказалось от дальнейшего укрепления единого фронта. Либеральная буржуазия, боясь, с одной стороны, собственного парода, а с другой — агрессии фашистской Германии, растерялась и не знала, что предпринять. Магнаты промышленности открыто искали путей сговора с Гитлером. Фашистские организации, вроде «Бывших фронтовиков», «Патриотической молодежи» и «Боевых крестов», развивали бешеную активность, — их целью был захват власти.
В эти дни вновь заговорила стенографистка Эльза Браун. Она сообщила фрау Шульц, что в Париж приехал некий Пауль Бель — представитель иностранного отдела нацистской партии, которым руководит Риббентроп, назначенный на этот пост Гитлером.
На сверхсекретном совещании у советника немецкого посольства, на котором присутствовало всего восемь особо доверенных лиц, Бель, получивший от Риббентропа специальное задание руководить готовившимся в Париже восстанием, сделал сообщение. Он сказал, что установил тесный контакт с руководителями всех трех наиболее крупных фашистских организаций Франции, что разработан подробный план совместного восстания. Столица разделена на десять секторов, во главе каждого сектора поставлены опытные руководители из отставных офицеров, которые располагают значительным количеством оружия.
По словам Эльзы Браун, на этом совещании открыто говорилось о том, что префект парижской полиции, господин Кьяпп, держит в своих руках все нити заговора, но не только не делает никаких попыток раскрыть его, а, наоборот, всячески помогает фашистским организациям. На днях Кьяпп выпустил на свободу двух видных руководителей организации «Бывших фронтовиков», у которых при обыске были обнаружены оружие и подробный план восстания. И кто-то своевременно предупредил фашистов о предстоящем полицейском налете на склад оружия. Осведомленные люди утверждают, что это тоже дело рук префекта полиции… В заключение Бель высказался в том смысле, что лучше сейчас пойти на определенный риск — одним махом покончить с республиканским строем во Франции, посадить во главе будущего правительства фашистов, чем потом долго возиться с французами, а может быть, даже начинать против них военные действия. Бель обещал перебросить во Францию дополнительное количество оружия через бельгийскую границу и посоветовал не скупиться при оказании фашистским организациям финансовой помощи.
На совещании было решено форсировать подготовку к восстанию, хотя определенный срок назван не был, — было только высказано пожелание не откладывать его позднее марта.
Василий, рассказав о планах немцев Сарьяну, решил поговорить и с Маринье.
Маринье выслушал Василия с большим интересом и сказал, что немедленно доведет до сведения министра обо всем услышанном, ни в коем случае не называя фамилию мсье Кочека.
— Разве я не понимаю, что вам, как иностранцу, рискованно вмешиваться в политику? — Воспитанный человек, он не задал ни одного вопроса о том, откуда у совладельца рекламной фирмы такие сведения.
По тому, с какой быстротой были приняты меры и Кьяпп был уволен в отставку, можно было понять, что правительство располагало и другими данными о деятельности префекта полиции и о готовившемся фашистском восстании. Из-за этого быстрого и решительного удара день восстания, вероятно, значительно отодвинулся бы, если бы не скандал, внезапно разразившийся в Париже.
Крупнейший французский финансист Александр Стависский, ворочавший миллионами, неожиданно для всех обанкротился и покончил с собой. После его смерти выяснилось, что созданные им банки и другие предприятия дутые, а сам Стависский аферист высокой марки. В его финансовых махинациях оказались замешанными многие политические деятели и парламентарии. Парижане были крайне возбуждены, — банкротство Стависского затрагивало интересы сотен тысяч людей, мелких держателей акций его фиктивных предприятий.
Газеты сообщили, что на шестое февраля в три часа дня назначено заседание Национального собрания. А накануне, поздно вечером, в квартире Василия раздался телефонный звонок. Фрау Шульц — Василий узнал ее по голосу — просила к телефону мадам Марианну.
До этого фрау Шульц никогда не звонила им домой, и Василий понял, что только чрезвычайные обстоятельства принудили ее пойти на это. И действительно, положив трубку на рычаг, Лиза сказала, что ей нужно сейчас же встретиться с фрау Шульц.
— Как я поняла, у нее что-то срочное, — добавила она, поспешно накидывая пальто.
— Я провожу тебя!
— Зачем? Я скоро вернусь.
Лиза ушла. Сильно встревоженный, Василий шагал по столовой из угла в угол. Первое, что пришло в голову, опасение, что немцы разоблачили стенографистку и вслед за этим последует множество неприятностей. Но тогда фрау Шульц не стала бы звонить, тем более так поздно. Что еще? Маринье огласил его фамилию? Если даже допустить, что это так, — откуда об этом стало известно Шульц?..
Наконец-то раздался звонок и в прихожую влетела взволнованная Лиза, Она прошептала скороговоркой:
— Час тому назад Эльза Браун неожиданно появилась в ателье и, уединясь с фрау Шульц в отдельной кабине для примерки платья, сказала, что фашисты назначили восстание на завтра — в день дебатов в Национальном собрании!
— Других подробностей она не сообщила?
— Она сказала, что фашисты намереваются стянуть свои силы к площади Согласия, штурмом ворваться в Национальное собрание, перебить левых депутатов, а остальных силой принудить голосовать за передачу им власти.
Василий посмотрел на часы — около десяти. Ехать к Сарьяну за город — значит потерять много времени. Нужно срочно повидаться с Маринье. В телефонном справочнике Василий нашел номер его домашнего телефона и позвонил.
— Извините, ради бога, за поздний звонок, меня вынудили к этому особые обстоятельства, — сказал он, когда к телефону подошел Маринье.
— Приезжайте ко мне, я буду ждать вас, — Маринье сказал свой адрес.
В доме Маринье Василий назвал себя слуге, открывшему ему двери, тренером спортивного клуба. Когда хозяин спросил его, к чему такая осторожность, Василий ответил — не исключено, что кто-либо из слуг Маринье состоит в штурмовых отрядах полковника де ла Рокка.
— Может быть, может быть, — Маринье нахмурился, но спорить не стал.
Василий рассказал ему все, о чем только что узнал.
— Не может быть! — Маринье слегка побледнел.
— Источники информации тщательно проверены, она не вызывают никаких сомнений! — Василий следил за выражением лица хозяина дома и ждал, что же он будет делать.
— Позвоню министру и попрошу принять меня немедленно! — Маринье назвал нужный номер и, закончив разговор, обратился к Василию: — На чем вы приехали ко мне?
— На такси.
— Жаль, я думал, на своей машине… Ну, все равно, — надеюсь, мы поймаем такси!..
Правительство, предупрежденное о готовившемся восстании, стянуло к Национальному собранию полицейских и отряд гвардии, для защиты парламента от фашистов.
Парижане с удивлением и страхом наблюдали, как через площадь Согласия идут к парламенту отряды фашистов. Перед министерством морского флота произошло настоящее сражение между демонстрантами и гвардейцами. Горел подожженный фашистами автобус. Слышались крики: «Долой Даладье!», «Да здравствует Кьяпп!»
Депутаты с опаской поглядывали на охрану, выставленную у Бурбонского дворца, — опасность, что фашисты ворвутся в здание парламента, была вполне реальной.
В шесть часов правительство Даладье получило первый вотум доверия: «за» проголосовали триста депутатов, «против» — двести семнадцать.
Девять часов вечера. Заседание палаты депутатов продолжается. Не прекращается и фашистский мятеж. Возле здания министерства морского флота возникает пожар. Гвардейцы выстрелами из револьверов отгоняют фашистских молодчиков, пытающихся ворваться в здание парламента.
Даладье вторично ставит на голосование вопрос о доверии правительству. На этот раз за вотум доверия голосуют уже триста шестьдесят депутатов.
Правительство Даладье все же вынуждено было подать в отставку через два дня. Председателем правительства национального единства становится сенатор, бывший президент республики Гастон Думерг. Министром иностранных дел — престарелый Луи Барту, названный впоследствии апостолом восточного Локарно.
Февраль был на исходе, приближалась весна 1934 года. Казалось, весь мир превратился в большой кипящий котел, а политики и власть имущие взяли на себя роль кочегаров, неустанно подбрасывая под этот котел горючее. Даже не искушенным в политике людям становилось ясно, что дело идет к войне — к большой, кровопролитной войне. Не хотели замечать этого правящие круги больших капиталистических государств. Вместо того чтобы одернуть бесноватого ефрейтора, они закрывали глаза на все, что творили фашисты, надеясь, что Гитлеру удастся то, чего не удалось сделать Антанте в 1917—1920 годах, — уничтожить Советское государство. Со своей стороны, гитлеровцы всячески укрепляли эти надежды ослепленных ненавистью к коммунизму политических деятелей, превратив антикоммунизм в государственную доктрину фашистской Германии. В Берлине открыто заявляли о своем намерении «всеми средствами бороться против опасности большевизма», «покончить с мировым коммунизмом», «ликвидировать Советский Союз». Эти антикоммунистические, антисоветские призывы гитлеровцев находили отзвук в сердцах правящих кругов капиталистических государств, в особенности у руководителей монополий Соединенных Штатов Америки.
Как следствие этого перед фашистской Германией широко раскрылись двери стальных сейфов и доллары широким потоком потекли к фашистам. Заключались десятки договоров и соглашений на поставку Германии стратегического сырья, вооружения и даже новейших авиационных моторов. От Америки не отставала и Англия. Британские банки: «Империал кемикл индастрис», «Виккерс-Армстронг», «Хиггинс энд Кь» и другие — широко финансировали немецкие предприятия, занятые производством вооружения. По словам американского посла в Берлине Додда, «…англичане сами нарушили Версальский договор, продавая Германии самолеты и другую военную технику».
Стало известно, что американский дипломат, Норман Дэвис, посетив Германию в начале 1933 года, беседовал с Гитлером. Выслушав его антисоветские высказывания, Дэвис заявил Гитлеру, что Соединенные Штаты относятся к проводимой Гитлером политике с полным пониманием.
В этой обстановке Василию было ясно, что ему не избежать поездки в Германию. Следовательно, нужно было готовиться, не теряя времени. Прежде всего необходимо оформить американское подданство Лизы.
Василий опасался, как бы старик кюре не потребовал от него справку о гражданском браке и другие документы. Это было бы катастрофой, потому что никаких документов он предъявить не мог.
Василий посетил старика и попросил у него разрешения исповедаться. Он признался своему духовнику в тяжком грехе:
— Оформив гражданский брак у себя на родине, я до сих пор не обвенчался в нашей святой церкви…
— Почему вы так долго откладывали венчание?
— После женитьбы мы решили совершить, свадебное путешествие и вот обосновались здесь, во Франции, не позаботившись запастись необходимыми для венчания документами. Я готов идти на любые жертвы, лишь бы получить отпущение грехов и венчаться в церкви!
— Грех свой вы можете искупить молитвой и покаянием… А венчаться без надлежащих документов невозможно!
— Отец мой, жена моя ждет ребенка. Не можем же мы, добрые христиане, растить внебрачное дитя…
— У вас имеются хотя бы какие-нибудь документы?
— Паспорт, рекомендации друзей из спортивного клуба и деловых людей… Наконец, мое желание покрыть все расходы.
— Сегодня я дам вам отпущение грехов. Что касается венчания — это вопрос серьезный, и я должен посоветоваться с епископом. Приходите ко мне за ответом дня через три, — сказал кюре.
Василий спросил, глядя на него в упор:
— Не лучше ли будет, если я теперь же пожертвую в пользу святой нашей церкви значительную сумму денег, скажем, две или три тысячи франков?
— Лучше три, — шепотом сказал кюре.
— Согласен. — Василий немного помедлил. — Может быть, удобнее обойтись без совета его преосвященства? На мой взгляд, такие вопросы вполне полномочны решать вы сами, без чужой помощи. Я жертвую три тысячи франков в пользу церкви. Вам же, за ваши труды, заплачу две тысячи франков. Думаю, что так будет справедливо.
— А свидетели у вас есть?
— При желании они могут быть, но лучше обойтись без свидетелей. Мне стыдно признаваться кому бы то ни было, даже близким друзьям, что я до сих пор не обвенчан в церкви…
— Когда вы хотите венчаться?
— Хоть завтра.
— Хорошо, завтра я буду ждать вас к трем часам… — И, как бы размышляя вслух, кюре добавил: — Действительно, может быть, лучше обойтись без свидетелей?..
Василий отсчитал пять тысяч франков и обещал быть в церкви завтра ровно в три.
Когда утром Василий попросил Лизу пропустить занятия в Сорбонне и пойти с ним в магазин выбрать подвенечное платье, она рассмеялась:
— Ты шутишь, надеюсь?
— Какие могут быть шутки в таком серьезном деле? Я прошу тебя стать моей женой не только перед людьми, но и перед богом!
Недели через две после венчания Василий поехал в американское консульство и подал заявление о выдаче его законной жене американского паспорта. Эта его просьба была удовлетворена исполняющим обязанности консула Соединенных Штатов Америки в Париже мистером Ковачичем.
Как только уладилось дело с паспортами, Василий решил вместе с Лизой отправиться за океан. Хотелось «набраться американского духа», как он говорил, и наладить в Нью-Йорке связи с деловыми кругами. Все это — в плане подготовки поездки в Берлин в качестве представителя какой-либо солидной американской фирмы.
Для въезда в Америку ее подданным особой визы не требовалось, но все же Василий в ресторане, за обедом, сообщил Ковачичу о своем намерении посетить Штаты.
— Настоящий коммерсант должен чувствовать веления времени и поступать в соответствии с ними, — говорил он. — Мне кажется, что сейчас большой бизнес следует искать в торговле между Америкой и Германией. Немцы вооружаются, перестраивают соответственно свою промышленность, делают колоссальные закупки в Америке. Так почему бы и мне не попробовать свои силы на этом поприще? Как подданный Соединенных Штатов, я могу позволить себе поехать в Берлин и заняться там каким-нибудь выгодным делом. Разумеется, было бы идеально поехать туда в качестве представителя кругов, торгующих с Германией. В Нью-Йорке у меня дела, связанные с нашей рекламной конторой, но я попытаюсь найти солидную фирму, которая захотела бы поручить мне представительство в Германии. Ликвидируя свои дела здесь, в Париже, я надеюсь получить значительную сумму наличных денег. Если их пустить в оборот, торгуя с Германией, можно неплохо заработать. Во всяком случае, нужно попробовать!
— Конечно, следует попытаться, — согласился Ковачич. — Я уверен, что в Америке вы найдете то, что вас интересует. Хотите, я вам дам рекомендательное письмо?
— Это было бы чудесно! Но вы так много сделали для меня, что я не осмеливаюсь беспокоить вас еще раз…
— Пустяки. Прежде всего, я отрекомендую вас моему отцу, — старик ворочает большими делами и может быть вам полезен. Он души не чает в славянах и, надеюсь, сделает для вас все, что в его силах. Потом дам письмо к одному моему приятелю, с которым вместе учились в колледже. Он сын нефтяного магната Адамса, а сам — вице-президент «Стандард ойл компани».
— Джо, вы посланы мне самим господом богом! Я даже не знаю, как вас отблагодарить! — воскликнул Василий.
— Не так уж я бескорыстен, как вам кажется!.. Временами я думаю — не стать ли мне вашим компаньоном? У моего старика отличный нюх на бизнес, — если он почует приличный заработок в торговле с Германией, то отвалит мне сотню-другую тысяч долларов. Но, став вашим компаньоном, я вовсе не собираюсь бросать государственную службу. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что, будучи вице-консулом, а со временем и консулом, а может быть, даже советником американского посольства при каком-нибудь европейском государстве, я могу принести больше пользы нашему делу, чем если стану обыкновенным бизнесменом?
— Безусловно! — Василия заинтересовала инициатива американца. — Вовремя полученная информация порою значит в бизнесе куда больше, чем хитроумная комбинация самого способного коммерсанта. Давайте сделаем так: я поеду в Штаты, осмотрюсь там и по возвращении подробно проинформирую вас, — тогда и примем окончательное решение. Сейчас одно могу вам сказать: я был бы счастлив иметь такого компаньона, как вы, Джо!
— Рад слышать это. В свою очередь могу сказать: у вас, Кочек, ясный ум, вы все схватываете на лету, с нами приятно иметь дело!
Перед отъездом Василий спросил у Жубера: не будет ли тот возражать, если он изымет из дела пятьдесят тысяч франков в счет своей доли? Ему нужно послать деньги домой, отцу.
Жубер с готовностью согласился — хоть сто тысяч! Василий сделал еще
один шаг — задал Жуберу вопрос: как тот поступит, если возникнет необходимость ему, Кочеку, покинуть фирму? Предпочтет ли Жубер вести дела фирмы сам или возьмет нового компаньона?
Жубер был удивлен, — он не был подготовлен к ответу на такой вопрос и потому только молча пожал плечами.
Превратив пятьдесят тысяч французских франков в американские доллары, Василий поместил их через Парижское отделение в один из американских банков, тесно связанный с тяжелой промышленностью Германии.
Супружеская чета Кочеков ехала во втором классе громадного океанского парохода. Путешествие было приятным. На небе ни единого облачка, море спокойное, каюта уютная. В большом бассейне подогретая морская вода, — купайся хоть круглые сутки. По вечерам в просторном зале с кожаными креслами демонстрировались кинокартины. В баре играл джаз, и после ужина пассажиры развлекались танцами.
По утрам Кочеки вставали чуть свет, поднимались на палубу и долго стояли у борта, наблюдая за рождением нового дня, — как просыпался океан и его зеленоватые воды, искрясь, озарялись солнечным блеском. В эти минуты казалось, что в воздухе звучит песня. Затаив дыхание, они слушали эту удивительную песню, сердца их наполнялись радостью бытия, а мысли уносили их далеко — к родным краям, забытому детству, и жизнь не казалась такой тревожной, какой была на самом деле…
Контрольный пункт Нью-Йорка состоял из двух смежных залов. В первом, более просторном, прибывшие в ожидании вызова пили кофе с бутербродами или прохладительные напитки, а во втором зале, за стеклянной перегородкой, сидели за длинным столом контролеры.
Василий вместе с Лизой тоже сели за маленький столик и заказали кофе, наблюдая за тем, что происходит в соседнем зале. Когда пришла их очередь, контролер, повертев в руках паспорт, спросил:
— Потеряли, что ли, свой паспорт в Европе?
— Вроде этого…
— Не понимаю!
— Упал в реку, намочил паспорт. Пришлось просить новый…
— Лишнее, значит, пропустили!..
— Было дело.
— Понятно. Стоит нашему брату уехать из Штатов — и готово: словно с цепи срываемся! — Контролер поставил свой штамп и протянул паспорт соседу. Дальше все пошло как по маслу — все пять представителей разных ведомств Америки, начиная от разведки и кончая эмиграционными учреждениями, поставили свой штамп. Последний контролер, возвращая паспорт Василию, сказал, что тот может покинуть порт после осмотра вещей в таможне. Лизу ни о чем не спросили.
Предупрежденный телеграммой, Клод Гомье ждал их у выхода из порта. Они сердечно поздоровались. Клод посадил их в подержанный «форд» и повез в гостиницу, недалеко от Бродвея. Здесь они расстались.
— Отдыхайте, — сказал Клод, — а завтра, если ничего не будете иметь против, я приеду к вам утром, часам к десяти, и подробно проинформирую вас о делах.
— Очень хорошо! — Василий протянул ему руку. — Надеюсь, у вас все в порядке?
— Одно могу сказать: лучшего трудно ждать! У меня в портфеле уже восемнадцать договоров. Если найдете нужным, могу удвоить и даже утроить их количество, — ответил художник.
В тот же вечер Василий узнал телефон старика Ковачича и, позвонив, сообщил ему, что привез письмо от сына. Условились встретиться в одиннадцать утра в его конторе. Что касается сына нефтяного магната Адамса, Василий счел целесообразным связаться с ним после встречи с отцом Джо.
Мистер Ковачич оказался крепко скроенным, бодрым стариком. Он приветливо встретил Василия.
— Ну, как там мой лоботряс, не завел еще себе жену-француженку? — спросил он, прочитав письмо сына.
— Джо пользуется большим уважением у окружающих и ведет себя весьма достойно. Перед моим отъездом он замещал консула, — ответил Василий.
— Рад слышать это. Раз ему хочется, пусть делает дипломатическую карьеру, хотя я и не понимаю, зачем ему это. — Старик оценивающе посмотрел на Василия. — В письме Джо просит помочь вам советом и оказать содействие. Хотелось бы узнать, в какого рода совете вы нуждаетесь и в чем я могу оказать вам содействие?
— В Париже у меня доходное рекламное дело, — сказал Василий. — Но, как говорится, человек всегда ищет, где лучше. Недавно я побывал по делам своей фирмы в Германии и пришел к заключению, что можно хорошо зарабатывать на торговле с немцами. Хотелось бы услышать ваш совет по этому поводу. Джо сказал мне, что он тоже не прочь войти в дело и попытать счастья. Но ехать в Берлин просто бизнесменом — едва ли что даст, тем более сейчас. Хорошо бы поехать туда в качестве представителя достаточно солидной американской фирмы, торгующей с Германией. Не могли бы вы оказать мне в этом содействие? Мне это не к спеху, я могу и подождать…
— В наше время хорошо заработать можно торговлей оружием. Если хотите сколотить себе капитал, займитесь этим!
— К сожалению, я в этом ничего не смыслю, да и вообще предпочел бы более мирное дело…
— Оказывается, вы щепетильный человек! — старик усмехнулся. — Чем же в таком случае вы хотели бы торговать?
— Прежде всего машинами, — я ведь по профессии механик. Можно — нефтью, бензином, смазочными маслами. Насколько мне известно, у немцев своей нефти нет…
— Об этом стоит подумать… Вы правы, с некоторых пор торговля с Германией оживилась, и расторопному малому тут есть чем заняться. Вы долго пробудете у нас?
— Дней десять — пятнадцать, не больше.
— В субботу приезжайте к нам с женой пообедать. Я пришлю за вами в гостиницу свою машину. Об остальном мы еще поговорим… Жаль, что не хотите заняться оружием! В наше время это самый ходкий товар, и здесь я мог бы оказать вам содействие…
— Всякое оружие в конечном итоге обязательно стреляет, а я по характеру человек мирный…
— Бизнес есть бизнес. А оттого, что вы не хотите заниматься этим делом, в мире оружия меньше не станет!.. Впрочем, каждому свое. — Заключив так, Ковачич дал понять, что свидание окончено.
От разговора со стариком у Василия осталось странное впечатление. Неужели этот бывший славянин продает немцам оружие, зная заранее, что оно может быть направлено и против его соотечественников? А почему, собственно говоря, нет? Бизнес, есть бизнес…
Свидание с Адамсом-младшим состоялось на следующий день в конторе «Стандард ойл компани». Сказав секретарше, что желает лично передать мистеру Адамсу письмо от его друга Джо Ковачича, и вручив ей свою визитную карточку, Василий сел в мягкое кресло и стал ждать. Работа в конторе мистера Адамса-младшего была отлично организована. Василий наблюдал, как накрашенная, модно одетая секретарша четко, без лишних слов соединяла шефа по телефону с кем полагалось и твердо отказывала другим, сообщая им, что мистер Адамс в данную минуту занят, сама вызывала по телефону нужных людей, успевая в то же время быстро стучать на пишущей машинке, расшифровывая застенографированные поручения шефа. За десять — двенадцать минут, в течение которых Василий дожидался приема, мистер Адамс успел поговорить с Лондоном, Берлином и Техасом.
Наконец Василия пригласили в кабинет. За большим письменным столом, уставленным разноцветными телефонными аппаратами, сидел широкоплечий, спортивного вида молодой человек лет тридцати — тридцати двух, с жесткими чертами лица, глубоко посаженными проницательными серыми глазами.
Взяв у Василия письмо, он широким жестом пригласил его сесть в кресло.
— Я прочитаю письмо, и мы поговорим с вами, — сказал он.
Василий огляделся по сторонам. Кабинет сына нефтяного магната был обставлен скромно, значительно скромнее, чем его собственный кабинет в Париже.
Закончив чтение письма, Адамс спросил:
— Джо просит оказать вам содействие, — в чем именно оно должно заключаться?
— В Париже мои дела идут неплохо. За сравнительно короткий срок мне удалось сколотить там небольшой капитал…
— Какой? — перебил его американец.
— При ликвидации всех дел, думаю, наберется полмиллиона франков.
— А в долларах?
Пока Василий прикидывал в уме, мистер Адамс взял телефонную трубку и спросил у кого-то: «По какому курсу котируются сегодня французские франки?» И тут же записал ответ.
— Вы говорите, что вам удалось накопить небольшой капитал, — сказал он. — Продолжайте, я вас слушаю.
— Мне хотелось бы заняться чем-либо другим, более доходным…
— Почему?
— Деловому человеку свойственна неудовлетворенность своим положением, стремление к более широким возможностям, — так уж устроен мир!.. Я убежден, что в современных условиях можно недурно зарабатывать, торгуя с немцами. Хочу податься в Германию и попытать там счастья… Может быть, вы, мистер Адамс, могли бы поручить мне какое-нибудь дело в Германии?
Вместо ответа американец начал задавать вопросы:
— Вам известно, что немцы покупают главным образом стратегическое сырье и очень мало других товаров?
— Да.
— Что они вынашивают агрессивные планы?
— Тоже известно.
— И что же вы думаете по этому поводу?
— Полагаю, что при умении можно направить агрессию немцев туда, куда желательно…
— А именно?
— На Восток, — ответил не задумываясь Василий.
Наступила небольшая пауза. Адамс думал о чем-то, барабаня пальцами по столу.
— Вы могли бы взять на себя представительство нашей компании в Германии? — наконец спросил он.
— Мог бы, если, конечно, условия будут приемлемы.
— Один процент с общей суммы оборота, — сказал Адамс.
— А чему равняется сумма оборота? — спросил Василий.
— Это зависит от вас, — чем больше будете продавать, тем больше будет и ваш заработок.
— Я понимаю, это в перспективном плане. Все же хотелось бы знать, как обстоят дела сейчас?
— Мы только начали завязывать деловые отношения с Германией и заключили первый контракт на поставку бензина и смазочных масел на общую сумму в сто тысяч долларов. Повторяю, это только начало!
— Надеюсь, вы поймете меня, если я скажу, что мне надо жить, кормить семью и до налаживания наших дел с Германией.
— Ваши условия? — спросил Адамс.
— Нужно подумать. Подсчитать…
— Тогда послушайте меня: один процент с общего оборота, плюс покрытие всех ваших расходов, связанных с поездкой и пребыванием в Германии, еще — бесплатный перевоз на наших танкерах ста мешков кофе в каждый рейс. Подходит?
— Да, вполне.
— Когда можете приступить к работе?
— Месяца через три-четыре. Мне нужно ликвидировать свои дела в Париже.
— Немного поздновато, но ничего не поделаешь. Перед отъездом зайдете в наш юридический отдел, заключите соответствующий договор. Получите необходимую информацию и документы для ведения наших дел в Германии. Вам необходимо соблюдать одно условие: никогда, ни при каких обстоятельствах не разглашать наших коммерческих тайн. Никто не должен знать, что мы продаем, кому и по какой цене. Джо пишет, что на вас можно положиться, — буду рад, если это так.
— Мистер Адамс, уверен, что вы останетесь довольны мною. Кстати, Джо хочет вступить со мною в компанию…
— Зачем это ему? Пусть работает в компании с отцом, — старик ворочает миллионами, и Джо его единственный наследник!
— Думаю, будет лучше, если я не стану вмешиваться в чужие семейные дела. Если Джо захочет работать со мной, — пожалуйста, я не против!
На этом беседа закончилась.
Дело было сделано, торчать зря в Нью-Йорке не имело смысла. Оформив документы в юридическом отделе компании и познакомившись с некоторыми секретными деталями, связанными с торговлей в Германии, Василий возвращался с Лизой в Париж на том же океанском пароходе. Кроме доверенности, уполномачивающей его представлять интересы «Стандард ойл компани» по всей Германии, заключать договоры на поставку нефти, бензина, смазочных масел и учинять расчеты, он вез с собой новые контракты на оформление витрин кинотеатров и универсальных магазинов Нью-Йорка. Гомье оказался молодцом, — кроме того, что он умел хорошо рисовать, он проявил незаурядные организаторские и коммерческие способности. Прощаясь с Василием, он уверял его, что при желании дело в Америке можно расширить в колоссальных масштабах.
Вечером, в первый день плаванья, спустившись в свою каюту, Василий сказал Лизе:
— Мы провернули в Нью-Йорке поистине колоссальное дело, — шутка сказать: Ярослав Кочек, американец славянского происхождения, он же Василий Максимов, — уполномоченный и доверенное лицо всемирно известной нефтяной компании в Германии! Я уверен, что немцы будут ухаживать за нами…
— Я уже говорила, что боюсь фашистов. От людей, не имеющих ни чести, ни совести, всего можно ожидать. Гитлер сам пишет в своей книге, что он освобождает свой народ от всех моральных обязательств…
— Все правильно, за исключением одного, самого главного: ты не учитываешь, что фашистской Германии нужны бензин и смазочные масла, без которых не сдвинется с места ни один танк, не поднимется в воздух ни один самолет. При такой зависимости от Америки какой им смысл ссориться с представителем нефтяной компании?
— Как бы ты не переоценил свои силы!.. Не забывай, что в случае особых обстоятельств американцы не заступятся за тебя. Ты слышал, с каким цинизмом рассуждал о политике старик Ковачич, когда мы были у него на обеде. Он говорил: «Сильные всегда пожирают слабых, — таков закон природы. Если мои соотечественники, югославы, хотят, чтобы немцы не проглотили их, как удав кролика, пусть не дают повода к ссорам о сильным соседом». В этих словах заключен весь моральный кодекс буржуазного мира!..
— Да, старик страшноватый человек! Он всячески уговаривал меня быть уполномоченным его фирмы и поставлять Германии новейшие самолеты-бомбардировщики, авиамоторы и другое вооружение, обещая при этом золотые горы. В ответ на мои опасения, что фашисты используют это вооружение для порабощения других народов, и в первую очередь своих ближайших соседей, он сказал, что я наивный, даже сентиментальный человек и не понимаю простых вещей: если у немцев есть деньги, они все равно купят вооружение, не в Америке, так в той же Европе!
— Это похоже на правду!..
— К сожалению, похоже… Здесь только и слышишь на каждом шагу, что деньги не пахнут. Боюсь, как бы самолеты не сбросили бомбы на голову тех, кто продал их!..
— Но ведь, осуждая других, ты сам собираешься участвовать в этой страшной игре — продавать фашистам если не бомбы, то горючее…
— Иногда большая цель оправдывает средства. Я уверен, что «отец» одобрит мои действия, узнав, что я нашел надежное прикрытие для работы в Германии!..
13
Василий и Лиза вернулись в Париж в самый разгар лета. Состоятельные жители столицы разъехались по своим поместьям, загородным виллам, по морским курортам. Город был переполнен иностранными туристами. Отели и рестораны работали с полной нагрузкой. Деньги со всего мира текли в Париж, и жизнь, веселая, легкая, кипучая, шла своим чередом.
Жубер тоже казался повеселевшим, жизнерадостным, снова насвистывал арии из классических опер и модные песенки. Его беззаботность так удивила Василия, что он, против обыкновения, попытался затеять с ним серьезный разговор:
— Скажите, Жубер, чем объяснить, что сейчас, когда весь мир встревожен событиями в Германии, французы относятся к ним совершенно безразлично?
— Французы, мой друг, привыкли к спокойной жизни. Они не хотят замечать ничего, что может нарушить их покой. Так ведь легче жить!
— А вам никогда не приходит в голову, что, может быть, придется жестоко расплачиваться за такую беспечность?
— Какой смысл заглядывать так далеко и раньше времени портить себе настроение? Если настанет час расплаты, тогда и будем думать.
— А не поздно будет?
— Дорогой мой, я фаталист. Чему быть, того не миновать! И расстраивать себя всякими предположениями не собираюсь, — это бессмысленно. Я заранее знаю, от моего хотения или нехотения ничего не зависит. Мой девиз — живи, пока живется! Человеку, слава богу, не дано знать, что его ждет впереди…
Лишний раз убедившись, что вести с Жубером беседу о политике совершенно бесполезно, Василий заговорил о другом:
— Помните о нашей беседе перед моим отъездом в Америку? Как вы думаете поступить, если я уйду из фирмы? Тогда вы определенного ответа не дали…
— Вы это всерьез?
— Вполне. В конце года я думаю покинуть Францию.
— Дорогой Кочек, извините за откровенность, но я удивляюсь вам! Чего вам здесь не хватает! Налаженное дело, большие доходы. За короткое время вы сумели скопить целое состояние и при желании можете его умножить. Если вас потянуло к земле, купите поместье в живописном месте, разводите скаковых лошадей или породистый скот. Посещайте бега, поезжайте в Монте-Карло — играйте в рулетку, веселитесь. Наконец, заведите красивую любовницу. При таких доходах, как у нас с вами, человек может позволить себе все, что угодно!
— Думаю, что все это не для меня.
— Не понимаю почему. Но раз вы так решили, ничего не поделаешь. Деньги вы можете получить в любое время, — я проверил и убедился, что у нас хватит свободных средств, чтобы рассчитаться с вами полностью. Больше того, фирма может продолжать свою деятельность без вложения дополнительных капиталов.
— Жубер, раз вы занялись подсчетом денег, то знаете, что составляет моя доля? — спросил Василий, хотя сам хорошо знал это.
— Приблизительно четыреста семьдесят тысяч франков минус пятьдесят тысяч, которые вы уже взяли. Итого — четыреста двадцать тысяч франков. Но вы же не завтра собираетесь уезжать, а до конца года мы еще заработаем.
— Неплохо было бы округлить свой капитал до полумиллиона франков. Полмиллиона! Это звучит…
— Останьтесь, и вы достигнете этого без особого труда, — ответил Жубер и добавил: — Я убежден, что отныне смогу вести дела фирмы самостоятельно, а следовательно, соответственно увеличатся и мои доходы. Но все же я предпочел бы работать с вами. Буду очень рад, если вы измените свое решение и останетесь!..
С Джо Ковачичем Василий встретился в итальянском ресторане за ужином. Говорил больше он, а Джо лишь изредка вставлял реплики. Казалось, он готов был до утра слушать рассказы Василия об отце, о том, как Василий был принят Адамсом, и об Америке вообще.
— Я же говорил, что в колледже мы очень дружили с Адамсом! Видели, как он вас принял?
— Он не только любезно принял меня, но и поручил представительство от нефтяной компании в Германии. — Василий передал Ковачичу подробности своего разговора с Адамсом.
— Как же вы решили поступить?
— Вот об этом мне и хотелось с вами потолковать. Я принял предложение мистера Адамса и, как только ликвидирую свои дела здесь, поеду в Берлин… Джо, надеюсь, вы помните, что перед моим отъездом в Америку собирались стать моим компаньоном?
Ковачич кивнул головой.
— Тогда послушайте, что я вам скажу. Мистер Адамс предложил мне, в качестве дополнительного вознаграждения, бесплатно перевозить на танкерах компании по сто мешков кофе в каждый рейс. Я подсчитал: если мы будем работать вместе и просто станем продавать кофе немцам, то получим по пять тысяч долларов с каждой партии, не меньше. Немцы ввели у себя строгие ограничения на вывоз из страны валюты. Но вы ведь понимаете, что их марки не нужны нам в Америке. К тому же у них очень высокие пошлины. Если бы вы сумели договориться со своими друзьями — дипломатическими работниками в Германии — о том, чтобы они разрешили нам использовать дипломатическую почту для вывоза твердой валюты и переписки, касающейся наших коммерческих дел, тогда все было бы в порядке. Я возьму на себя всю остальную работу: получение и реализацию кофе, превращение марок в доллары. А если Адамс согласится увеличить количество переносимого на его танкерах кофе и прибавить к кофе еще несколько десятков ящиков сигарет, наши доходи здорово бы увеличились!.. Предлагаю вам вполне разумный план разделения труда: ваши связи, моя работа и коммерческая смекалка.
— Мистер Кочек, ваше предложение принимается! — торжественно объявил Ковачич. — С сегодняшнего дня вы можете считать меня своим компаньоном. Генеральный консул Америки в Берлине — мой однокашник по спецкурсам Роджерс, Джек Роджерс, отличный парень. Для меня он сделает все. Надеюсь столковаться и с Адамсом, — что ему стоит подкинуть нам пару сот мешков кофе и несколько ящиков сигарет? Танкеры все равно ведь пересекают океан. В крайнем случае используем моего старика, — он тоже фрахтует пароходы и может дать указание капитанам подбросить нам и кофе и сигареты. Итак, по рукам!
— По рукам!..
Через несколько дней после этого разговора секретарша доложила Василию, что какой-то человек настоятельно просит, чтобы его принял мсье Кочек.
— Посоветуйте ему обратиться к директору-распорядителю, мсье Лярошу.
— Я уже говорила ему это, но он желает видеть именно вас.
— Ну, пусть зайдет!..
У посетителя было помятое лицо, тусклый взгляд, да и костюм на нем тоже был мятый и потертый.
— Я вас слушаю, — сказал Василий, чувствуя к этому человеку какую-то невольную неприязнь.
— Меня зовут Гастон Фове, — представился посетитель. — Я изготовил крем для лица по совершенно новой рецептуре, назвал его «Кристалл»… Мой крем отличного качества, но, к сожалению, в наше время без солидной рекламы успеха не добьешься, если даже изобретешь вечный двигатель. Мы с вами можем заработать кучу денег, если вы возьметесь рекламировать мой крем. Само собою разумеется, что реклама должна быть широкая и броская. — С этими словами он достал из старенького портфеля баночки с кремом в красочных упаковках и разложил их перед Василием.
— В чем же заключаются достоинства вашего крема? — спросил Василий.
— Я уже говорил вам, что «Кристалл» изготовляется по особой рецептуре, в его составе имеются очень важные компоненты — пчелиный воск, смягчающий кожу лица, сглаживающий морщины, питательные вещества… Вы же понимаете, я не могу разглашать раньше времени секрет «Кристалла»…
— Скажите, мсье, вы предъявляли свое изобретение органам здравоохранения и получили разрешение на производство нового крема?..
— Нет…
— Зачем же вы пришли к нам?
— Странно!.. Неужели вы не хотите заработать большие деньги?
— Хотим, но только законным путем. Предъявите нам разрешение на производство вашего крема и рекомендацию управления гигиены, и мы примем у вас заказ на любую рекламу.
— Ах, мсье, мсье! Разве вы не понимаете, что если я обращусь в официальные учреждения за разрешением, то парфюмерные фабриканты убьют меня еще до рождения, — что называется, в утробе матери. Предлагаю вам половину всех доходов…
— Нет, мсье Фове. У нас солидная фирма, и мы незаконными операциями не занимаемся.
— А если я предложу вам крупную сумму наличными?
— Тоже нет.
— Так я и поверю, что вы разбогатели только на законных операциях!
— Это уж ваше личное дело!.. Надеюсь, вы понимаете, что нам с вами больше не о чем разговаривать?
— Как не понимать, конечно, понимаю! Разве можно жить на этом свете без протекции? Вы просто не доверяете мне. — Посетитель горестно вздохнул и вышел из кабинета, даже не попрощавшись. Василий был озадачен: кто он — подосланный шпик или неудачник, один из тех, кто всю жизнь охотится за легким заработком и никогда ничего не добивается?
Вслед за изобретателем крема в кабинет Василия вошел скромно одетый человек средних лет.
— Мсье, я прибегаю к вашей помощи, надеюсь на вашу гуманность и человеколюбие! — бойко начал он. — Я — один из тех, кто имеет несчастье быть занесенным в черный список за свои политические убеждения, а у меня жена, дети… Прошу вас, дайте мне работу, какую угодно, но работу!
— А почему вы решили обратиться именно ко мне? — спросил Василий, не веря ни единому слову посетителя.
— По слухам, вы человек широких взглядов. Может быть, для вас не будет иметь значения то обстоятельство, что я занесен в черный список…
— Ваши сведения обо мне совершенно ошибочны, — перебил Василий. — Я прежде всего коммерсант. Политикой никогда не интересовался и, надеюсь, не буду интересоваться и впредь. Если вы действительно очутились в отчаянном положении, могу предложить вам десять франков.
— Мсье, вы напрасно боитесь меня!
Василий, не отвечая, нажал кнопку звонка и, когда вошла секретарша, сказал:
— Проводите, пожалуйста, этого господина. Если он пожелает, скажите кассиру, чтобы тот выдал ему десять франков!
Человек ушел, осторожно ступая по ковру, словно под его ногами было заминированное поле. А на душе у Василия остался скверный осадок: кому понадобилось подсылать к нему провокаторов?..
Наконец приехал курьер, и Василий получил от «отца» долгожданный ответ на свое письмо. Как и нужно было ожидать, «отец» высоко оценил то, что Василий имеет возможность поехать в Германию не просто бизнесменом, а представителем американской нефтяной компании. «Ты даже представить себе не можешь, как это здорово и какие перспективы откроет перед тобой это представительство для работы в фашистской Германии», — писал он. Он не торопил Василия с отъездом в Берлин. «Не спеши, ликвидируй свое дело по всем правилам, чтобы не понести убытков. Перед отъездом поговори по душам и в возможных пределах откровенно с Борро и со своими друзьями по спортивному клубу — Маринье и де ла Граммоном, чтобы, в случае особой нужды, можно было на них опереться…» И опять — ни слова об отпуске или поездке домой, хотя бы на короткое время…
Ночью 30 июня 1934 года, названной современниками ночью «длинных ножей», Гитлер беспощадно расправился со своими противниками внутри фашистской партии во главе с Ремом. В эту ночь по приказу Гитлера было убито свыше тысячи излишне честолюбивых нацистов, в их числе — генерал Шлейхер. Спустя несколько дней после этих кровавых событий Гитлер, выступая по радио, цинично объяснил немцам причину «чистки» 30 июня:
»…Рем проводил свою личную политику, он хотел организовать мое убийство, и заговор был подготовлен. 1 июля в 16 часов 30 минут отряды штурмовиков должны были овладеть Берлином… Я покарал бунтовщиков. Как представитель германского народа, я имею право единолично вершить суд, приговор которого не подлежит обжалованию. Я приказал уничтожить заговорщиков, как это всегда делалось во все времена. Я отдал приказ расстреливать!..»
Всем стало ясно, что Гитлер и его ближайшее окружение не остановятся ни перед чем для достижения своих целей. Это понял и австрийский канцлер Дольфус. Он хотел было уехать из Австрии, но не успел, — 25 июля его убили.
К Василию прибежал взволнованный Сарьян и рассказал ему подробности этого очередного злодеяния нацистов.
— Четверо убийц ворвались в кабинет Дольфуса, предложили ему подать в отставку — «в целях достижения умиротворения и восстановления согласия» — и передать свои полномочия фон Ринтелену, доверенному лицу Гитлера. Убийцы пытались заставить канцлера выступить по радио — оповестить страну о принятом решении, отдать приказ войсковым частям, сосредоточенным перед зданием, разойтись. Они дали Дольфусу пять минут на размышление. Когда время истекло и канцлер по-прежнему ответил категорическим отказом, его тут же сразили пули… Дольфус, в известной мере, стал жертвой своей собственной политической игры, — сказал в заключение Сарьян. — Это по его инициативе были созданы хеймеры, вооруженные отряды реакции, и при их помощи были разгромлены все демократические партии и организации, утоплены в крови вооруженные выступления венских рабочих. Я глубоко убежден, что такая участь ожидает всех непоследовательных политиков; в наши дни нельзя бороться с фашизмом, не опираясь на демократические силы нации!
Василий замечал, как под влиянием событий, охватывающих весь мир, зрели политические убеждения Сарьяна, как он из либерального интеллигента становился настоящим антифашистом. Это стало особенно ясно накануне марсельской трагедии…
К концу 1934 года, под руководством престарелого, многоопытного министра иностранных дел Барту, внешнеполитические позиции Франции значительно укрепились. Растерянность первых дней после захвата власти в Германии Гитлером уступила место активным действиям. Восточный Локарно — детище Барту — начинает давать первые плоды, особенно после вступления СССР в Лигу наций.
Гитлер, провозглашенный недавно «фюрером» и приступивший к реорганизации немецкой армии, был явно обеспокоен успехами внешней политики Франции и пытался принимать контрмеры. Прежде всего он укрепил контакты с Италией и Испанией, в которой назревала гражданская война. Нацисты переходят к своему излюбленному приему — террору в отношении неугодных политических деятелей соседних государств. На этот раз очередная жертва — югославский король Александр, а следом — воинственный министр Франции Барту…
Однажды Сарьян вернулся к себе домой значительно позже обычного, и Василий услышал его разговор с женой.
— Жаннет, мне совершенно необходимо срочно поговорить с Кочеком по неотложному делу!
— А если они уже спят? Неужели нельзя подождать до утра?
— Я сидел в их окнах свет. Все-таки попробую…
— Дело твое!..
Сарьян, поднявшись на второй этаж, тихонько постучал к Василию.
— Вы не спите?
— Нет, нет, заходите, пожалуйста! — Василий открыл дверь.
— Извините за позднее вторжение… Мне необходимо поговорить с вами.
Василий провел журналиста к себе в кабинет.
— Вы, конечно, слышали, что по приглашению французского правительства к нам приезжает король Югославии Александр для ведения переговоров о союзе, — сказал Сарьян, устало опустившись в кресло.
— Да, читал об этом в газетах.
— Вам известно также, что король Александр — один из злейших врагов фашистской Германии и Гитлер считает, что его нужно непременно убрать, как убрали Дольфуса, чтобы ни в косм случае не допустить сближения Югославии с Францией.
— По логике вещей это похоже на правду, но в то же время Франция — не Австрия, и здесь немецкие фашисты вряд ли рискнут на такой шаг.
— Дорогой мой, неужели я стал бы тревожить вас среди ночи только на основании каких-то логических рассуждений, не имея на руках фактов?.. Сегодня к нам в редакцию поступило весьма убедительное письмо, в котором человек, не желающий назвать себя, сообщает о готовящемся покушении на короля Александра и, если удастся, одновременно на Барту. Я дежурил в редакции, и письмо попало ко мне. — Сарьян достал из кармана конверт и протянул Василию.
Пробежав письмо, Василий сказал:
— Судя по подробностям, автор письма действительно в курсе дела!..
— Вот видите! Тогда давайте подумаем вместе, как мне поступить?
— Вероятно, прежде всего нужно опубликовать письмо. Если не целиком, то хотя бы в выдержках, — сказал Василий. — Этим вы убьете сразу двух зайцев: дадите понять организаторам покушения, что их планы раскрыты, и откроете глаза полиции.
— Браво! Только напечатать нужно именно выдержки из письма, не сообщая, что оно анонимное. И конечно — запросить правительство: какие меры принимаются для охраны высокопоставленного гостя Франции, его величества короля Югославии? Взять интервью у сотрудников Сюртэ Женераль и тоже опубликовать на страницах газеты. Это произведет впечатление. Короче — нужно бить тревогу, и чем громче, тем лучше!..
— Вот именно, бить тревогу!
После ухода журналиста Василий облокотился на подоконник и долго смотрел в темноту. Ночь была тихая, звездная. Снизу доносился одуряющий запах цветущего табака. Изредка на шоссе появлялась полоса света — проносилась автомашина, и снова все погружалось в темноту.
«Неужели нацистам удастся еще одно убийство?» Василий понимал, что при сложившихся обстоятельствах исчезновение с политической арены одного из последовательных противников немецкой экспансии, искреннего друга Франции может коренным образом изменить соотношение сил на Балканах…
Через день на страницах газеты, в которой работал Сарьян, появилось сенсационное сообщение о готовившемся покушении на короля Югославии Александра. Сообщение подкреплялось цитатами из письма в редакцию осведомленного автора, не пожелавшего огласить свое имя. Газета обращалась к правительственным органам с просьбой уведомить ее о том, какие меры принимаются для охраны короля.
Сообщение прошло незамеченным: ни один орган печати не откликнулся на него, промолчало и правительство. В метро, в кафе, в гостиных, читая это сообщение, люди пожимали плечами, — ерунда, мол, очередная утка! Какому-то писаке захотелось блеснуть выдумкой. Кто, в самом деле, осмелится поднять во Франции руку на союзника и гостя страны?..
Через несколько дней, в утреннем выпуске своей газеты, Сарьян сообщил новые подробности плана покушения на короля Югославии Александра. Он писал о том, что, по имеющимся точным сведениям, покушение готовят руководители хорватских террористов Павлович и Першич, живущие в Берлине. В их дневнике, опубликованном там, говорится, что они подписали соглашение с македонскими националистами о совместных действиях.
Другая газета, «Пари-миди», опубликовала на своих страницах выдержки из дневника Павловича и Першича, в которых авторы прямо заявляли, что ставят перед собой задачу уничтожить руководителей Югославии и установить в ней власть националистов.
Правительство и полиция по-прежнему считали, что особых мер по охране короля принимать не следует…
…Ровно в два часа дня 9 октября король сходит с корабля на набережную Марселя. Его встречают министр иностранных дел Франции Барту и генерал Жорж. Они садятся в открытый автомобиль. На пути их следования нет сплошного кордона — полицейские расставлены через каждые десять метров. Ни мотоциклисты, ни кавалеристы не сопровождают автомашину, только один полковник гарцует на лошади с правой стороны. Короче говоря, нет никакой охраны, словно все сделано, чтобы облегчить террористам их черное дело…
В то время, когда машина проезжает мимо здания биржи, из толпы выскакивает человек. Лошадь полковника, то ли испугавшись его, то ли по желанию всадника, встает на дыбы. Человек беспрепятственно вскакивает на подножку автомобиля. Гремят выстрелы. Король Александр, обливаясь кровью, падает. Барту ранен в руку, генерал Жорж в живот.
Полковник, вместо того чтобы задержать преступника, тут же пристреливает его. Тело короля переносят в здание префектуры, над которым тотчас приспускают флаг — в знак того, что король умер. О раненом Барту забывают все. В течение почти трех часов никому не приходит в голову оказать помощь истекающему кровью министру, и он умирает на операционном столе больницы.
Премьер-министр Гастон Думерг созывает срочное заседание совета министров в связи с убийством короля Югославии Александра. В начале заседания раздается телефонный звонок и кто-то извещает премьера о смерти Барту.
— Не может быть! — восклицает Думерг и сообщает эту печальную новость министрам…
Некоторые министры не соглашаются считать трагедию в Марселе результатом стечения роковых обстоятельств и требуют наказания виновных. Большинство же высказывается против: когда, мол, русским белогвардейцем был убит президент Думер, никто не понес наказания, хотя оснований для этого было больше чем достаточно, — почему же сегодня нужно принимать иное решение?..
Выдвигался еще один демагогический мотив: если наказать виновных, то тем самым правительство Франции принимает на себя ответственность за убийство на своей территории югославского короля Александра, а этого допускать ни в коем случае нельзя…
Правая печать стремится обойти марсельскую трагедию молчанием, делая вид, что ничего особенного не случилось, — югославские террористы убили своего короля. К Франции и к французам эта акция не имеет никакого отношения. Но орган коммунистической партии бьет тревогу. Разбирая подробно все обстоятельства покушения, доказывает, что власти, получившие из разных источников сигналы о готовящемся террористическом акте, не приняли никаких мер для его предотвращения. Больше того — террориста застрелили на месте, вместо того чтобы задержать и дать возможность следственным органам, размотав весь клубок, выявить подлинных организаторов преступления. Но те, кто думает, что со смертью террориста все концы спрятаны, ошибаются: уши подлинных организаторов преступления торчат на поверхности. Придет время — они ответят сполна за все!..
Правительство подает в отставку.
Министром иностранных дел Франции становится Пьер Лаваль…
В эти тревожные дни Василий неожиданно получил повестку из полиции с предложением явиться в комнату № 24 к дежурному комиссару. Он тщательно перебрал в памяти все, что случилось с ним со дня высадки в Марсельском порту, обдумал каждый свой шаг и не смог вспомнить ничего, что могло бы послужить причиной вызова в полицию. Шагая по комнате городской квартиры из угла в угол, Василий еще и еще раз вспоминал малейшие подробности своей жизни, встречи с разными людьми, деловые разговоры и сердечные беседы. Он всегда был осторожен, взвешивал каждое свое слово — и вот все-таки получил приглашение в полицию… Неужели это связано с посещением того подозрительного субъекта? Или полиция пронюхала что-нибудь, связанное с получением американского паспорта? Тогда дело хуже, неприятностей не оберешься…
Правду сказать, теперь, когда он собирался уехать из Франции, вызов в полицию большого значения не имел. Самое большее, что могут с ним сделать, — предложить покинуть пределы Франции. Его беспокоило другое: по-видимому, он допустил какую-то ошибку. А это уже провал — брак в работе…
В таких рассуждениях прошла ночь. И только когда небо начало медленно бледнеть, когда приблизился серый осенний рассвет, Василий открыл окно. В комнату хлынул холодный воздух. С улицы доносился нарастающий шум, вмещавший в себя и шаги пешеходов, и шуршание шин автомобилей по асфальту, и крики уличных торговцев, и заводские гудки. День Парижа начинался…
Василий быстро разделся и лег в постель, чтобы хоть немного вздремнуть перед трудным днем. Но уснуть ему так и не пришлось, — предстояло решить трудную задачу, о которой он совсем забыл: какой паспорт предъявить полиции — чехословацкий или американский? Конечно, отношение к американцу будет совсем другое, но предъявить американский паспорт Василий не мог: во всех документах, в банке, в торговой палате он значился Ярославом Кочеком, подданным Чехословацкой республики.
Ровно в восемь часов Василий был на ногах. Тщательно побрился и, приняв ванну, почувствовал себя бодрым. Лизе он ничего не говорил о вызове в полицию, — зачем тревожить ее раньше времени?
В конторе он занялся текущими делами, а ровно в двенадцать был в полиции, постучал в дверь комнаты № 24 и услышал сердитый голос: «Войдите!..» За столом, заваленным папками, сидел средних лет человек в штатском. Прочитав протянутую Василием повестку, он предложил ему сесть на стул против себя.
— Давно проживаете во Франции? — спросил он после небольшой паузы.
— С весны тысяча девятьсот тридцать первого года.
— Национальность, подданство, занятия?
— Словак, чехословацкое, совладелец рекламной фирмы «Жубер и компания».
— Состоите ли в политических партиях или организациях?
— Нет, не состою.
— Убеждения?
— Я коммерсант. И убеждения мои заключаются в том, что нужно зарабатывать деньги — чем больше, тем лучше, — ответил Василий.
— И вы преуспели?
— У меня нет никаких оснований жаловаться на судьбу…
— Скажите, мсье Кочек, вы слышали об убийстве югославского короля в Марселе?
— Читал об этом в газетах.
— Что вы думаете по этому поводу?
— Как христианин, считаю это зверством. Никто не имеет права убивать себе подобных…
Комиссар раскрыл лежавшую перед ним папку и стал перелистывать какие-то бумаги, потом поднял голову и произнес целую речь:
— Видите ли, мсье Кочек, славяне неблагодарные люди, — на наше гостеприимство они отвечают злом. Один русский, спасшийся у нас от большевиков, убил президента Думера, а на днях другой славянин, не то из Македонии, не то из Хорватии, убил своего короля и тем самым причинил нам большие неприятности. Согласитесь, что нашему терпению может прийти конец!.. Перед лицом таких обстоятельств мы вынуждены принять надлежащие меры и обезопасить себя от возможных эксцессов на будущее. Принято решение выселить из Франции всех подозрительных славян, чем бы они ни занимались… — Комиссар сделал паузу и посмотрел на Василия: какое впечатление произведут на того эти слова?
Василий сидел спокойно, вертел в руке связку ключей от машины.
— Впрочем, это решение не касается порядочных людей, — продолжал комиссар. — Мы, французы, народ гуманный и умеем отличать белое от черного. К примеру, взять вас. Множество почтенных людей отзываются о вас весьма положительно. — Комиссар опять начал перелистывать бумаги в папке. — Вот ваш бывший компаньон, владелец авторемонтного завода мсье Франсуа Ренар, хозяин бара того же городка, начальник полиции Руле, члены правления спортивного клуба господа Маринье и де ла Граммон, ваш нынешний компаньон мсье Жубер и, наконец, ваш духовник дают о вас самые лестные отзывы как о примерном семьянине, верующем католике и трезвом, порядочном и благонадежном человеке… Следовательно, вы составляете приятное исключение и можете прожить во Франции, сколько будет вам угодно! — заключил комиссар.
— Мне остается только поблагодарить вас! — сказал Василий.
— Я побеспокоил вас с единственной целью: объявить вам об этом. Не смею больше задерживать! — комиссар протянул руку.
Василий пожал руку комиссара и вышел. И только на улице, садясь в машину, он понял, какого напряжения стоил ему этот визит в полицию. Все-таки и на этот раз пронесло!..
Василий был доволен собой: оказывается, он составляет исключение для парижской полиции! Можно ли было думать о более лестной аттестации? И все же вызов в полицию послужил толчком, — после него благонадежнейший мсье Кочек ускорил ликвидацию своих дел.
Прежде всего Василий договорился с Жубером о том, что изымет причитающиеся ему деньги постепенно, до конца декабря, чтобы фирма не испытывала никаких финансовых затруднений. Он брал ежемесячно по пятьдесят тысяч франков, превращал их в доллары по официальному курсу — одиннадцать франков семьдесят сантимов за доллар — и переводил на свой текущий счет в американском банке.
Он еще не забыл о своем вызове в полицию, когда Лиза рассказала ему о новой неприятности.
— Ты подумай только, они выследили его и хотели
убить!..
— Кто кого выследил, кого хотели убить?
— Выследили профессора Николаи и вчера ночью напали на него, хотели убить.
— Откуда ты узнала об этом?
— Рассказал наш декан, он друг профессора Николаи. Он был в больнице, беседовал с ним и узнал, что поздно ночью к Николаи позвонили. На вопрос: «Кто там?» — последовал грозный окрик: «Открывайте, полиция». Профессор открыл дверь, и к нему ворвались трое здоровенных молодых парней. Он попытался оказать сопротивление, даже сбил одного с ног, но что может сделать один человек, каким бы он ни был смелым, против трех вооруженных бандитов? Несколько ударов ножом — и профессор, обливаясь кровью, упал и потерял сознание. Решив, что он мертв, убийцы ушли, забыв закрыть дверь квартиры. Соседка, жившая этажом выше, увидела открытую настежь дверь, подняла тревогу, вызвала полицию… По словам врачей, жизнь профессора Николаи вне опасности, но он в тяжелом состоянии. Мерзавцы, нашли-таки старика!.. — У Лизы задрожали губы, глаза наполнились слезами.
— Нужно отдать им справедливость, работают смело!.. Какую широкую разведывательную сеть должны иметь нацисты, чтобы так легко выследить неугодного им человека и организовать покушение на его жизнь в чужой стране!
— Как ты думаешь, не могли они выследить и меня?
— Ну что ты!.. Профессор Николаи — видная личность: он читал лекции, выступал со статьями, разоблачая махинации нацистов у себя на родине. Найти его не представляло особого труда… — Василий старался успокоить жену, но сам был встревожен не на шутку. Нацистские агенты, напавшие на след профессора Николаи, с таким же успехом могли выследить и Лизу. Тогда жизнь в Германии будет весьма сложна… Но если не ехать в Берлин Василию, снабженному такими солидными рекомендациями, то кому же ехать туда?..
За месяц до отъезда в Германию Василий написал своему новому патрону, мистеру Адамсу-младшему, что в конце года собирается ехать в Берлин и просит сообщить, нет ли дополнительных поручений, кроме тех, которые он получил в бытность свою в Нью-Йорке.
В эти дни Василий часто встречался с Джо Ковачичем. Однажды Джо встретил его с сияющим лицом:
— Ну, дружище, кажется, наше дело в шляпе! Мой старик раскошелился и обещает подбрасывать нам каждый месяц по нескольку сот мешков кофе и сотню ящиков сигарет на зафрахтованных им пароходах, — в том, разумеется, случае, если у нас дело пойдет удачно. Вы только постарайтесь наладить отношения с таможенниками, а остальное будет — о'кэй! Мы с вами такие деньги зашибем, что чертям тошно станет. Мне очень важно начать зарабатывать самому, чтобы доказать старику, что он ошибается, думая обо мне как о бездарном чиновнике госдепартамента. Кстати, в своем письме отец хвалит вас: «Твой будущий компаньон серьезный человек, он произвел на меня весьма положительное впечатление, хотя мы с ним разошлись кое в чем!..»
— Все это прекрасно. Я почти уверен, что мне удастся договориться с таможенниками. Но весь вопрос заключается в перевозке валюты. Если мы не сумеем найти пути для вывоза твердой валюты, то перед нами встанут новые трудности…
— Не беспокойтесь! Я сегодня же переговорю но телефону с нашим генеральным консулом в Берлине и выясню все возможности…
Как будто все было готово для отъезда. Из Америки пришел ответ: Адамс писал, что единственное, о чем должен позаботиться мистер Кочек, это увеличение поставок нефти, бензина и смазочных масел. Дела в рекламном бюро тоже были ликвидированы; никаких недоразумений между компаньонами не возникло, и Василий расставался с Жубером дружески. Оставалось выполнить последнее поручение «отца»: переговорить кое с кем из друзей по душам.
Прежде чем навсегда покинуть свой кабинет, Василий счел уместным вызвать к себе художников, мастеров и других работников конторы и с каждым попрощаться, сказать добрые слова. Борро он вызвал в первую очередь.
— Дорогой Анри, с вами у меня особый разговор, — начал Василий. — Прежде всего хочу поблагодарить вас за все хорошее, что вы сделали для фирмы. И еще хочу надеяться, что оставляю здесь верного друга и, в случае надобности, могу целиком положиться на него…
— Не сомневайтесь в этом! — ответил художник.
— Учтите, Анри, вы можете понадобиться мне не ради каких-то моих личных дел… Ну, как бы сказать яснее, чтобы вам было понятно?..
— Мсье Кочек, не считайте меня наивным младенцем. Я, возможно, догадываюсь, кто вы и чего добиваетесь. Можете говорить со мной совершенно откровенно!..
— Отлично, будем говорить откровенно!.. Но прежде всего скажите мне — кто я и чего добиваюсь?
— Вы — революционер-антифашист, боретесь против фашистов и, конечно, выступаете не только от своего имени…
— А от чьего же?
— Точно не знаю… И думаю, что это не так уж важно. Важно, что наши интересы совпадают, — я имею в виду французских патриотов. Скажу вам на прощанье еще одно: вы, без сомнения, очень талантливый человек, и ваша работа всегда вызывала во мне немножко доброй зависти. Я старался учиться у вас и, кажется, кое-чему научился. Всегда, при всех обстоятельствах вы можете положиться на меня!
— Наступают трудные времена, Анри!.. Не исключено, что Гитлер захочет свести счеты с Францией. Это было бы трагедией не только для вас, французов, но и для всего человечества. Может быть, настанет такое время, когда нам придется действовать сообща… Не дожидаясь этого, постарайтесь сплотить вокруг себя настоящих патриотов, научитесь конспирации, готовьтесь к боям. Я не сомневаюсь, что они не за горами. Если когда-нибудь от меня придет человек и скажет вам: «Мне хотелось бы заказать вам портрет», — доверьтесь ему!..
— Я понял вас! — Борро порывисто обнял Василия и быстро вышел.
К удивлению Василия, разговор с Маринье не получился, тот держался неприступно, отвечал односложно и кончил тем, что сказал:
— Мсье Кочек, я знаю, вы честный человек и заслуживаете всякого уважения, но я считаю невозможным сотрудничество с вами. Хочу вас заверить, что мы, французы, как-нибудь разберемся в своих делах без чужой помощи!
Совсем по-другому вел себя де ла Граммон. Он сердечно принял Василия, когда тот пришел прощаться.
— Да, вы правы, времена наступают трудные!.. Доверительно могу признаться вам, что боюсь, как бы наши тупоголовые правители, не видящие ничего дальше своего носа, не привели нас к катастрофе, — говорил он. — Они делают Гитлеру уступку за уступкой, не понимая, что ему дай только палец — он и всю руку и голову отхватит!.. Вы не обижайтесь на нашего друга Маринье, — он типичный представитель чиновничьей касты Франции. Но человек он честный и истинный патриот. В критический момент он будет стоять по эту сторону баррикад. Мне искренне жаль расставаться с вами!.. Пишите, дайте о себе знать, и, если я чем-нибудь смогу быть полезным, всегда к вашим услугам!
С Сарьяном простились, как прощаются перед долгой разлукой давние и близкие друзья.
— Дорогой друг, — говорил журналист, — после вашего отъезда я осиротею, мне не с кем будет отвести душу. Не забывайте меня и, если будет удобно, пишите чаще! — Он дал Василию берлинский адрес Ганса Вебера и еще раз повторил, что на того можно вполне положиться.
Визы на въезд в Германию получены, билеты на курьерский поезд Париж — Берлин приобретены, необходимые покупки сделаны. Даже автомобиль отправлен багажом. Накануне отъезда Василий в последний раз поужинал с Ковачичем. Они договорились обо всем. Джо передал Василию рекомендательное письмо своему другу, генеральному консулу Америки в Берлине О'Кейли. Распив последнюю бутылку вина, вышли из ресторана. На улице было сыро, большие хлопья снега кружились в воздухе.
— Ну, старина, желаю успеха! Всецело рассчитываю на вас, надеюсь, что скоро мы с вами сколотим порядочное состояние! — Джо крепко пожал руку Василию, остановил такси и уехал.
Василий шагал по улицам Парижа со смешанным чувством: ему было жаль уезжать из этого прекрасного города, но, с другой стороны, ему казалось, что настоящая работа начнется там, в Германии. «Будет трудно?» — спрашивал он сам себя и тут же отвечал: «Может быть»… И думал о том, что так или иначе начинается новая полоса в его беспокойной биографии.
14
На этот раз Василий остановился в Берлине в обыкновенной, сравнительно недорогой гостинице, — теперь ему не требовалось набивать себе цену. Отношение к американскому подданному было в Германии более чем предупредительным, — это он почувствовал еще в дороге, при переезде франко-германской границы, когда пограничники почтительно брали его и Лизин паспорта и тут же возвращали о поклоном обратно, а таможенники только делали вид, что осматривают вещи американского пассажира, — приподнимали крышки многочисленных чемоданов, не интересуясь их содержимым.
В гостинице Василию предоставили номер-люкс на третьем этаже с ванной и телефоном. Портье и другие служащие гостиницы встречали американскую чету с неизменной улыбкой на лицах, стараясь мгновенно выполнить любые ее желания. Единственное, чего они не могли сделать, это досыта накормить заокеанских гостей. В ресторанах по всей территории третьего рейха были установлены определенные дни для мясных и рыбных блюд, в остальное время подавали блюда из овощей, хлеб заменяли суррогатом, сливочное масло маргарином.
Прожив в гостинице несколько дней и показав Лизе город, Василий решил, что пора браться за дела — нанять квартиру, связаться с фирмой-покупательницей, явиться и американское консульство для регистрации. Он попросил портье подсказать ему, как и где найти в Берлине квартиру. Портье дал Василию адреса и телефоны нескольких контор по сдаче и найму квартир. На звонки Василия отвечали вежливые девицы, служащие этих контор, задавали множество различных вопросов: в каком районе, на каком этаже, из скольких комнат господин хотел бы нанять квартиру? С центральным отоплением или печным? С ванной или без? И наконец, последние и самые существенные вопросы: национальность и подданство? Тут же предупреждение, что иудеям квартиры не сдаются. Василий сообщал, что он не возражал бы против небольшого особняка, обязательно о гаражом.
Наем квартиры в Берлине оказался делом не сложным, — пустовало много квартир, даже целые дома, в особенности после высылки из Германии евреев. Уже на следующий день Василию сообщили, что могут предложить особняк из восьми комнат, обставленных новой мебелью, с большим садом и гаражом, в районе Потсдама. Василий и Лиза поехали смотреть особняк. Их сопровождал представитель конторы.
Белый двухэтажный дом с балконами посреди большого сада. За домом — гараж для трех автомашин с ямой и другими приспособлениями для ремонта. У ворот — сторожка. Водопровод, канализация, собственная котельная, угольный бункер, телефон. В цокольном этаже — кухня, холодильные камеры и помещения для прислуги. Все необходимое для райской жизни!..
Разумеется, в этих восьми комнатах, обставленных дорогой мебелью, Василию и Лизе делать было нечего. Но особняк имел целый ряд преимуществ по сравнению с городской квартирой, какой бы удобной она ни была. Высокий каменный забор отделял его от улицы. Отсутствие поблизости соседей исключало опасность подслушивания, и, наконец, тишина и чистый воздух тоже чего-то стоили.
Лиза, осмотрев все, невесело сказала:
— Здесь, конечно, хорошо, но чем я буду заниматься в этих хоромах целыми днями, когда ты уедешь в город?
— Будешь читать, займешься хозяйством… А когда тебе это надоест, поедешь со мной в город.
— А что я буду делать в городе?
— Ну, друг мой, мало ли чем можно заняться в таком большом городе, как Берлин? Музеи, картинные галереи, кино… Наконец, при желании, можно поступить на какую-нибудь работу. Ты знаешь языки, а здесь много американских учреждений.
— Ну, посмотрим, — неторопливо ответила Лиза и добавила: — Ты представляешь, какую заломят цену за этот дворец!..
— Вот это меня меньше всего интересует, — платить будет компания. Но если даже ей покажется дорого, доплачу из своих собственных средств. Их у меня немало, да и здесь заработаю…
Лиза молча пожала плечами.
Цену за особняк действительно заломили колоссальную — четыре тысячи марок в месяц. Приличная квартира из трех комнат со всеми удобствами в центре города стоила не больше трехсот марок.
— Нет, это для меня слишком обременительно, — сказал Василий, когда ему назвали эту цену при заключении договора, и предложил две тысячи пятьсот марок.
Должно быть, охотников снять особняк за такую сумму в Берлине было не так-то много, — предложение Василия приняли и, получив арендную плату за месяц вперед, заключили с ним договор. А еще через несколько дней, когда прибыла автомашина, Василий и Лиза переехали в особняк.
Теперь нужно было арендовать помещение для конторы, нанять служащих и начать нормально работать. Да и для особняка требовались садовник, сторож, истопник и горничная. Сторож, живущий в особняке, не внушал Василию доверия. До найма людей Василий решил повидаться с Вебером и побывать у генерального консула Америки — представиться и вручить ему письмо Джо Ковачича.
О'Кейли оказался симпатичным малым. Прочитав письмо, он сказал, улыбаясь:
— Покровительствовать подданным Соединенных Штатов моя обязанность. Если могу помочь вам советом — всегда к вашим услугам!.. Скажите, мистер Кочек, вы живете в гостинице или сняли квартиру?
— Снял особняк в Потсдаме и позавчера переехал туда с женой.
— Это ж безумно дорого! — воскликнул О'Кейли.
— Очень дорого, зато удобно — тишина, чистый воздух. Все это чего-то стоит… Потом, признаюсь вам, я надеюсь здесь прилично заработать и покрыть все свои расходы с лихвой. Если, конечно, вы поможете мне.
— Чем?
— Прежде всего советом. Мне нужно открыть в Берлине контору, нанять служащих, установить связи… В общем, масса всяких хлопот!
— Помещение для конторы найти легко: в деловой части Берлина много пустующих помещений, — места высланных евреев еще никто не занял. А вот с наймом людей будьте осторожны: здесь каждый третий или агент, или осведомитель гестапо. Смотрите, как бы они не подсунули вам своих людей, — сказал О'Кейли.
— А как этого избежать?
— Трудно, но можно. Хотите, мы порекомендуем вам кое-кого…
— Безгранично буду вам признателен!
— Не стоит благодарности, это тоже моя обязанность… Кстати, как вы устроились с питанием?
— Очень плохо. В Париже мы с женой привыкли к хорошей еде, здесь же одни овощи, вместо хлеба — картошка, а если и дадут изредка мясо, то такое, что есть нельзя. Не говоря уж о том, что нет приличного вина!
— Вы можете пользоваться нашим магазином, там за доллары вам продадут все, что вашей душе угодно. — Консул написал записку и протянул Василию. — Зайдите туда — это во дворе консульства, — купите все необходимое и сделайте заказ на будущее… В письме Джо просит меня кое в чем еще помочь вам… Об этом он говорил со мной и по телефону. Когда возникнет у вас нужда, приходите, — я сделаю все, что смогу.
— Я хотел бы спросить вас, мистер О'Кейли, как вы думаете, пойдут у нас здесь дела? Мне нацисты не внушают особого доверия…
— Нацисты во главе с Гитлером — дрянь, это, конечно, строго между нами!.. Они пробудили в немцах самые низменные чувства. Однако нацисты все же лучше, чем коммунисты. С нацистами можно договориться на определенных условиях, завязать с ними торговые отношения, как, к примеру, делает ваша компания, и неплохо заработать. А что коммунисты? Они не признают ни частной собственности, ни частного предпринимательства!
— Абсолютно согласен с вами!.. Без частной собственности мир рухнет… Признаться, я небольшой политик, но все же боюсь, как бы Гитлер не обманул нас… У него волчий аппетит. Сперва он проглотит своих ближних соседей, потом примется за крупных, — тогда и нам станет не особенно уютно в этом мире…
— По отношению ближних соседей — пожалуйста! Кушайте их, герр Гитлер, на здоровье, — никаких возражений!.. Нам удобнее иметь дело с одним мощным государством, чем возиться со всякой мелочью. Сказать вам правду, в наш век мелкие государства не имеют права на существование, и чем скорее произойдет их неизбежный распад, тем лучше. Пусть Гитлер встает на ноги и всей мощью обрушится на Советы — нас это вполне устроит!
— Вам никогда не приходило в голову, что Гитлер в конечном итоге обведет нас вокруг пальца? — спросил Василий.
— Ну что вы! — генеральный консул расхохотался. — Мы для Германии совершенно недосягаемы!.. Он вынужден будет напасть на Советы. Гитлер и его ближайшее окружение хорошо понимают, что для них враг номер один — это большевики, что им не жить на нашей планете, пока существуют Советы. Если до этого немцы немножко потреплют зазнавшихся англичан, тоже будет неплохо, — образуется вакуум, а мы заполним его. Времена меняются, мистер Кочек. Англичане не имеют никаких прав господствовать над миром, как они это делали до сих пор. Мы самая богатая нация, и будущность принадлежит нам — американцам! — Голос О'Кейли звучал торжественно.
— Вопросы эти очень уж сложны, не для моего ума! — скромно сказал Василий и поднялся.
В магазине Василий наполнил три объемистых бумажных пакета различными продуктами, купил несколько бутылок вина, положил все это в багажник и отвез домой Лизе.
После обеда он позвонил в контору акционерного общества «Фламме» — основного покупателя продукции компании, представляемой мистером Ярославом Кочеком, — и назвал себя.
— Одну минуточку! — попросил женский голос, и его тут же соединили с герром Шиллинбергом, генеральным директором общества.
— О, мистер Кочек! Здравствуйте, здравствуйте, мы Давно ждем вас!
— Когда вы могли бы принять меня, герр Шиллинберг?
— Когда только вам будет угодно! Хоть сейчас, если вы не возражаете…
Василий не торопясь собрался, взял портфель и, прощаясь с Лизой, весело сказал:
— Ну, великая битва начинается!..
Он знал, что акционерное общество «Фламме» создано нацистами специально для закупки нефти в Америке, что руководители общества — подставные лица, а фактически хозяином его является рейхсминистр Геринг, прибравший в то время к рукам не только всю авиацию Германии, но и ее авиационную промышленность.
Герр Шиллинберг, высокий, упитанный, с прилизанными светлыми волосами, числившийся генеральным директором «Фламме», принял уполномоченного богатейшей американской нефтяной компании весьма учтиво и предупредительно.
— Вы не будете возражать, если при нашей беседе будут присутствовать мои заместители — вице-директор Бломе и Цизель? — осведомился он.
— Разумеется, нет!
В просторный кабинет, обставленный темной тяжелой дубовой мебелью, вошли два типичных бюргера в старомодных костюмах. Представившись американскому гостю, они чинно уселись у самого стола, накрытого зеленым сукном.
Вошла секретарша с подносом, на котором красовались фарфоровые чашки, кофейник, бутылка шнапса и четыре малюсенькие рюмочки. Поставив все это на стол, она молча вышла.
Герр Шиллинберг собственноручно наполнил чашку дымящимся кофе и, протягивая ее Василию, спросил, не пожелает ли мистер Кочек рюмочку шнапса?
— Пожалуй, не откажусь! — Василий глотнул отдающий сивухой напиток и даже не поморщился. Кофе оказался суррогатом. «Если уж в таком богатом учреждении пьют суррогат вместо кофе, — подумал Василий, — значит, в Германии найдутся покупатели на настоящий бразильский кофе!..»
Начались деловые разговоры. Шиллинберг сообщил уполномоченному компании «Стандард ойл», что «Фламме» готово значительно увеличить закупки горючего в Америке, в особенности авиационного бензина, при условии, что компания предоставит обществу долгосрочные кредиты и построит в Германии современные бензохранилища.
Василий, зная мнение Адамса по первому вопросу, ответил, что компания не считает возможным предоставление долгосрочных кредитов, речь может идти только о коммерческом, то есть кратковременном, кредите, и тут же спросил: на какое количество предполагается увеличение закупок?
— При наличии кредита мы могли бы покупать у вас до двухсот пятидесяти тысяч тонн бензина и тридцати тысяч тонн смазочных материалов в год, — ответил генеральный директор.
— Я хоть сегодня готов заключить контракт на поставку такого количества бензина и масел.
— А кредит?
— Как я уже сказал, компания предоставит вам коммерческий кредит под векселя акционерного общества на срок от четырех до шести месяцев из расчета полтора процента годовых. Что касается бензохранилищ, то вряд ли мы можем взять на себя такие обязательства… Впрочем, я готов запросить компанию, если вы будете на этом настаивать. — Василий говорил спокойно, уверенно, и у руководителей «Фламме» создалось впечатление, что они имеют дело с представителем, наделенным большими полномочиями.
— Ваше предложение мы обсудим на совете директората и уведомим вас о его решении, — сказал Шиллинберг.
— Пожалуйста, я вас не тороплю!.. Не смогли бы вы оказать мне небольшую услугу — помочь подыскать помещение под мою контору не очень далеко от вас?
Вице-директор Бломе тут же взялся помочь мистеру Кочеку.
Василию обязательно нужно было связаться с Гансом Вебером. У него были и адрес и номер домашнего телефона, но являться к нему домой не следовало: это вызвало бы подозрение и могло повредить Веберу. Оставалось одно — позвонить по телефону. Василий не знал, насколько удобно и это, — он не сомневался, что в Берлине все телефонные разговоры подслушиваются. Он попросил Лизу пойти на железнодорожную станцию Потсдам, оттуда, по телефону-автомату, позвонить Веберу домой и, на правах старой знакомой, назначить ему свидание.
— Он человек толковый, — сказал Василий, — и когда ты назовешь себя, поймет, о чем идет речь. Больше того, я уверен, что он сам ждет нашего звонка, зная, что мы должны приехать сюда.
— Если Вебер захочет встретиться со мной, — где, в каком месте назначить ему свидание? — спросила Лиза.
— Где-нибудь поблизости отсюда. Ну, скажем, на той же станции Потсдам. Погуляйте немного и, если убедитесь, что слежки нет, приходите сюда. Ночь сегодня темная, и вряд ли кто вас узнает.
— Скажи, ты абсолютно уверен в Вебере? Представляешь, что будет, если мы ошибемся в нем!..
— Абсолютно уверенным ни в чем нельзя быть!.. Но Вебер всегда производил на меня хорошее впечатление. К тому же его рекомендовал Сарьян, в честности которого сомневаться не приходится. Потом, ведь Вебер привел к нам фрау Браун.
— А если все это игра? Продуманная во всех деталях игра?
— Без определенного доверия к людям нам нельзя! Тогда мы с тобой в разведчики не годимся, вот и все…
Вебер оказался дома; судя по тону голоса, обрадовался звонку и тут же изъявил желание встретиться. Через полчаса Лиза издали узнала Вебера по его высокой, худой фигуре, пошла ему навстречу, взяла под руку и повела в парк.
— Мы пойдем к нашему дому, тут недалеко. Муж ждет вас! — сказала она.
Встретились Василий с Вебером сердечно. Вебер словно бы ожил, увидев господина Кочека.
— Наконец-то вы приехали!
Василий усадил его на диван, придвинул столик, достал шотландское виски и наполнил рюмки.
— После такого холода не мешает немножко согреться, — сказал он, — да и за встречу стоит выпить!
Лиза сказала, что ей нужно готовить ужин, и вышла, оставив мужчин одних.
— Рассказывайте, дружище, что нового у вас, как устроились? — Василий сел рядом с Вебером на диван.
— Рассказать нужно о многом, не знаю, с чего начать!.. Прежде всего, я очень рад вашему приезду. Живу я неплохо, работаю теперь в консульском отделе министерства иностранных дел, занимаю скромную должность референта.
— Как вы нашли Германию?
— Что вам сказать?.. Даже не верится, что это моя родина, — настолько все изменилось, в особенности — люди. Они боятся сказать друг другу лишнее слово, живут в постоянном страхе.
— Неужели все смирились с существующим строем и никто не делает попыток бороться?
— Бороться?.. Трудно, очень трудно. — Вебер опустил голову и некоторое время молчал, потом взглянул на Василия. — Конечно, есть честные люди, ведущие посильную борьбу, но все это капля в море…
— Но ведь реки берут начало от маленьких ручейков, — сказал Василий.
— Конечно… Но случается и так, что ручейки высыхают, не успев влиться в большой поток…
— Бывает и так, — согласился Василий. — И все же, несмотря на тысячи препятствий, все в жизни стремится к конечной цели. Я понимаю, что небольшому числу честных людей неимоверно трудно бороться против гигантской государственной полицейской машины. Но даже сам факт сопротивления значит много, — по крайней море, весь мир будет знать, что не все немцы одобряют нацизм!
— Исходя из этих принципов, мы и действуем. Нас немного, но члены нашего кружка — верные, порядочные люди. Делаем мало, но это все, что мы можем пока… Нам нужна помощь! — закончил он, понизив голос.
— Придет время, мы поговорим об этом, — сказал Василий. — Сейчас мне нужна ваша помощь. Я приехал сюда как американец и представляю в Германии нефтяную компанию «Стандард ойл». Я открою в Берлине контору, мне потребуются сотрудники. Не можете ли вы порекомендовать юрисконсульта, дельного бухгалтера, письмоводителя, знающих языки, а лично для меня сторожа-садовника и служанку? Поймите меня правильно: нужны не борцы-антифашисты, а просто порядочные люди, не связанные с гестапо, — вот и все!
— Думаю, что сумею подыскать вам таких людей, Должны ли они знать, что мы с вами знакомы?
— Откровенно говоря, это нежелательно… Найдите юрисконсульта или бухгалтера и присылайте их ко мне сюда, сказав, что узнали от кого-то: американскому дельцу нужны, мол, работники.
— Как вы узнаете, что человек пришел к вам именно от меня? — спросил Вебер.
— Хотя бы по тому, что никто еще не знает, что мне нужны сотрудники, — следовательно, никто ко мне и не обратится.
— У меня на примете есть один юрист… Глауберг, Альберт Глауберг. Если вы не возражаете, он явится к вам сюда завтра вечером, в семь часов.
— Как вы думаете, он не находится под подозрением у гестапо?
— Дорогой Кочек, сейчас в Германии нет людей, не подозреваемых гестапо, — в полицейском государстве иначе не бывает. Насколько мне известно, Глауберг никогда не участвовал в политической борьбе, он человек скромный, малозаметный.
— По-вашему, ему можно доверять?
— Как вам сказать… До определенных пределов, но не больше…
— Понятно! Скажите этому Глаубергу, — пусть приходит ко мне!
Лиза пригласила Вебера к столу, но тот, сказав, что после восьми часов ничего не ест, поблагодарил и отказался.
— Не буду вам мешать! — сказал он, вставая.
— Скажите, а как в дальнейшем мы сможем связываться с вами? — спросил Василий.
— Мадам Марианна всегда может позвонить по телефону ко мне домой. Но, учитывая, что у нас подслушиваются все разговоры, лучше всего говорить в интимном плане… Вполне естественно, что я захочу встретиться с интересной дамой, назначу ей свидание… Кстати, у меня есть конспиративная квартира, где мы с вами могли бы изредка встречаться.
— В той квартире вы можете встречаться с миссис Кочековой, но не со мной. Немедленно возникнет подозрение: почему муж той женщины, за которой ухаживает Вебер, очутился у него… Я думаю, лучше всего показать, что мы с вами знакомы еще с Парижа: случайно встретиться на улице, на людях, громко изъявить свою радость. Тогда я смогу звонить вам по телефону, изредка встречаться с вами, даже приглашать вас к себе в гости или в ресторан поужинать.
— Это, конечно, можно, но…
— Что вас смущает?
— Как только в гестапо станет известно, что мы знакомы, меня немедленно вызовут туда…
— Ну и что?
— И прикажут следить за вами, сообщать обо всем, что я узнаю о вас. Не забудьте, вы американец, следовательно, подозрительны…
— В этом я тоже не вижу ничего страшного. Вы знаете, что я человек аполитичный, что цель моей жизни — делать деньги, и больше ничего!.. Вот об этом вы и сообщите гестапо…
— Не хотелось бы иметь с ними дело, — Вебер брезгливо поморщился. — Ну да ничего… Как говорят, с волками жить — по-волчьи выть. Пойдем и на это…
Уже провожая гостя, Василий, как бы невзначай, спросил, не знает ли он, где сейчас фрау Браун, и встречает ли он ее?
— Эльза Браун работает стенографисткой в иностранном отделе нацистской партии…
— Вот как! — От этой новости у Василия даже дух захватило.
— В отличие от Парижа, здесь, в Берлине, она ведет скромный образ жизни, нигде не показывается, избегает встречи со мной, — сказал Вебер.
— Не посоветуете, как нам установить связь с нею?
— По-моему, она не захочет этого…
— Понятно, что не захочет!.. Но зато нам очень хочется повидаться с нею и продолжить полезное знакомство. Нет, дорогой, как бы Браун ни отпиралась, нам нужно связаться с нею во что бы то ни стало!.. Шутка ли, иностранный отдел нацистской партии! Там ведь и плетутся все интриги.
— По-моему, Браун легче всего встретить на улице, — не слишком охотно сказал Вебер. — Со свойственной ей педантичностью, она выходит из дома ровно в половине девятого, спускается в метро, без пятнадцати девять выходит недалеко от рейхстага и идет к себе на работу… По вечерам ее иногда задерживают, и потому она не всегда возвращается домой в одно и то же время…
Василий проводил Вебера до самой калитки. Вернувшись, он застал Лизу стоящей у окна.
— На улице так темно, что хоть глаз выколи! — сказал он.
Лиза резко повернулась к нему:
— Скажи, Василий, какое впечатление ты вынес сегодня от Вебера?
— Самое благоприятное!
— Это правда?
— Правда. Но почему ты спрашиваешь об этом? Разве ты заметила в нем что-нибудь подозрительное?
— Нет, не заметила. Но поняла, что отныне мы целиком в его руках, если он ловкий провокатор, и нам не выбраться отсюда!
— Успокойся, дорогая! Раз и навсегда выкинь из головы такие мысли. Вебер никакой не провокатор, он интеллигент-антифашист. Разумеется, не такой борец, чтобы завтра свергнуть в Германии фашистский режим, но поверь моему опыту: он честный и порядочный человек, к тому же очень осторожный. Я сегодня окончательно убедился в этом.
— Дай-то бог, как говорится, чтоб было так!
— А тебе придется выполнить одну довольно неприятную работу, — Василий испытующе посмотрел на Лизу.
— Нужно так нужно!.. Я понимаю, что мы приехали сюда не для того, чтобы совершенствоваться в немецком языке… Что я должна сделать?
— Повидаться с фрау Браун. Не только повидаться, но и уговорить ее сотрудничать с нами по-прежнему. Ты только подумай, какие перед нами откроются перспективы, если она начнет давать нам информацию о тех кознях, которые подготавливают гитлеровцы против своих соседей и в конечном итоге против нас!
— Посоветуй, как к ней найти подход, и я постараюсь…
— Думаю, что с первой встречи ничего у тебя не получится. О поведении Браун могу рассказать тебе со всеми подробностями, как по открытой книге!.. Она будет отпираться, отказываться, просить, умолять оставить ее в покое и даже угрожать, что пойдет в гестапо и все расскажет. Причем все это, за исключением угрозы, она сделает искренне, из боязни разоблачения. Ну, а у нас с тобой имеются основания думать, что мы все же уговорим ее работать с нами!
— Противное и опасное дело! — как бы про себя прошептала Лиза.
— Не бойся, Браун шума не поднимет и в гестапо не пойдет. Но дело здесь мы затеваем действительно опасное! — согласился Василий…
Вскоре на фасаде четырехэтажного дома на оживленной улице, в самом центре Берлина, появилась новая вывеска — «Стандард ойл компани» — Берлинское отделение».
Контора состояла из четырех комнат — кабинет представителя компании, или директора Берлинского отделения, как обычно именовали мистера Кочека, большая приемная, комната, где сидели бухгалтер и делопроизводитель, и кабинет юрисконсульта. Василий приказал убрать старую мебель, оставшуюся от прежнего хозяина, и купить новую. Через несколько дней все четыре комнаты были обставлены с большим вкусом. Люди тоже подобрались, при помощи Вебера, неплохие: флегматичный, медлительный, малоразговорчивый, но отлично разбирающийся в запутанных статьях гражданского и коммерческого кодекса юрист Глауберг. Опытный бухгалтер Шульце, носивший усы, как у Вильгельма Второго, работавший в одной еврейской экспортно-импортной фирме и потому теперь не пользующийся доверием у хозяев-арийцев. Пожилой, седоволосый делопроизводитель Колвиц, свободно владеющий несколькими европейскими языками, но не добившийся успеха в жизни из-за пристрастия к спиртным напиткам, и, наконец, секретарша фрейлейн Лотта, рыжеволосая, голубоглазая девица с ангелоподобным лицом, умеющая печатать на машинке и стенографировать, — вот и весь персонал конторы.
Во всех комнатах установили телефоны, а в кабинете шефа — даже три аппарата, открыли текущий счет в немецком национальном банке, заказали штампы, бланки, печать, и контора начала функционировать.
Василий сообщил в письме Адамсу о проделанной работе и о предложении генерального директора «Фламме» Шиллинберга об увеличении в значительных размерах закупок горючего, главным образом авиационного бензина, при условии предоставления долгосрочного кредита в размере трех миллионов долларов и строительства за счет компании больших бензохранилищ в районе Гамбургского порта. Отправив письма в Нью-Йорк срочной почтой, Василий стал ждать ответа. Он посетил генерального консула Америки и попросил его отправить Адамсу письмо через дипломатическую почту или шифрованную телеграмму о том, что он, Кочек, не рекомендует соглашаться на предоставление «Фламме» долгосрочного кредита, так как Германия, усиленно занятая увеличением воздушного флота и постройкой подводных лодок, сильно нуждается в горючем и «Фламме» увеличит закупки и при наличии обычного коммерческого кредита из расчета полутора процентов годовых. Что же касается строительства емкостей в районе Гамбурга, то он рекомендовал бы компании построить для начала три — пять бензохранилищ, с непременным условием, что они будут принадлежать компании. О'Кейли записал все, что говорил Василий, и обещал в тот же день передать его просьбу Адамсу. Откинувшись на спинку кресла, О'Кейли сказал:
— Я считаю, что ваши рекомендации правильны. Чего-чего, а уж горючее они закупят за наличные денежки. На днях военно-морское министерство спустило на воду три подводных лодки и в верфях Гамбурга начато строительство двух крейсеров. По нашим сведениям, фирма «Мессершмитт» ведет серийное производство бомбардировщиков и самолетов-корректировщиков. Гитлер взял курс на вооружение и перевооружение, а горючего у него нет. Почему же вашей компании не использовать это обстоятельство?
— Поверьте, что мы сумеем использовать эту ситуацию! — с улыбкой ответил Василий.
После якобы случайной встречи с Вебером на улице Василий пригласил его в ресторан поужинать. Вечером, когда над Берлином низко опустились свинцовые тучи и пошел мокрый снег, они втроем — Василий, Лиза и Вебер — сидели за отдельным столиком в ресторане «Дрезден» и под грохот джаза, на глазах у многочисленных посетителей, беседовали о своих делах.
— Через несколько дней я приглашу вас к себе в гости — приезжайте, нам нужно поговорить, — сказал Василий.
— С удовольствием, но учтите: мои опасения оправдались. Меня вызывали в гестапо и долго выпытывали, кто вы и откуда я вас знаю. В заключение велели поддерживать с вами связь и обо всем докладывать. Разумеется, я без колебаний изъявил готовность исполнить свой патриотический долг…
— Ну и прекрасно, — весело ответил Василий.
— Нам до зарезу нужна бумага и типографский шрифт, — не сможете ли помочь? — спросил Вебер.
— Нужно подумать. Вы, должно быть, намереваетесь печатать газету или прокламации?
— Начнем с прокламаций. Бумага продается, но закупка ее в больших количествах вызовет подозрение.
— Печатать прокламации — дело серьезное, легко провалиться… Хорошенько продумайте все: подберите надежных печатников и распространителей, разыщите подходящее помещение. И вот что: кроме вас, никто, ни один человек, не должен знать меня и мое имя. Только при строгом соблюдении этого условия я готов сотрудничать с вами и помогать в пределах моих возможностей. — Василий поднял бокал с вином, чокнулся с Лизой, Вебером и выпил.
Джаз заиграл модный фокстрот. Вебер поднялся с места и пригласил Лизу. Вскоре они кружились в толпе танцующих.
Возвратившись на место, Вебер продолжил прерванный разговор:
— Сейчас никто, кроме меня, не будет знать о вас ничего. Но со временем возникнет необходимость, чтобы еще один человек из наших познакомился с вами. Мало ли что может случиться…
— Это правильно, и мы к этому вопросу еще вернемся. Ставлю вас в известность, Вебер, что в самое ближайшее время мы попытаемся связаться с фрау Браун…
— Раз вы считаете это необходимым…
— Да, считаю!.. На какое количество бумаги вы рассчитываете? — спросил Василий.
— Чем больше, тем лучше!
— Я понимаю и постараюсь через своих друзей достать вам килограммов сто — сто двадцать бумаги. Продумайте способ получения и транспортировки. Скажете мне, когда приедете в гости…
Они не спеша пили вино, довольствуясь скудным ужином, состоящим из крошечных кусков мяса и вареной картошки, посыпанной мелко нарезанным зеленым луком и сыром. Василий и Вебер по очереди приглашали Лизу танцевать.
Было уже за полночь, когда они попрощались у дверей ресторана.
Прежде чем встретиться с Эльзой Браун, Лиза в течение двух дней наблюдала, как она выходит из станции метро и, стуча каблучками по асфальту, направляется на работу.
На третий день Лиза пошла навстречу Браун и, поравнявшись с нею, сказала:
— Здравствуйте, фрау Браун, как поживаете?
— Вы… здесь? — От неожиданности немка чуть не выронила сумочку из рук.
— Что в этом удивительного? Я же говорила вам, что у моего брата здесь дела!
Эльза Браун ускорила шаг, чтобы как можно скорее отделаться от назойливой знакомой.
— Фрау Браун, нам нужно с вами поговорить. Где мы могли бы это сделать?
— Нам не о чем разговаривать!.. Оставьте меня в покое, — срывающимся шепотом проговорила стенографистка.
— Напрасно вы так думаете! — Лиза заметила, что они приближаются к входу в иностранный отдел нацистской партии, и вынуждена была сказать: — До свидания, фрау Эльза! До новой встречи…
Браун торопливо скрылась за тяжелой дверью.
Чтобы иметь больше времени для разговора, Лиза на следующий день поджидала фрау Браун недалеко от дома, в котором та жила… Не успела стенографистка выйти из парадного, как Лиза подошла к ней.
— Опять вы!.. — воскликнула фрау Браун. — И адрес мой узнали!..
— В Берлине адресные столы работают весьма исправно!.. Итак, фрау Браун, нам все-таки нужно поговорить. Я пришла сюда, чтобы узнать, где бы мы могли встретиться? — говорила Лиза, шагая рядом с нею.
— Я же сказала, нам не о чем говорить!..
— Я это слышала. Но подумайте — вы будете иметь много денег, гораздо больше, чем в Париже. Если захотите, можете получать и продукты, которые здесь не достать. Поймите, речь идет о совершенно невинных вещах, и для вас никакой опасности нет…
— Уходите, мадам, и оставьте меня в покое! Иначе я позову полицейского, — в голосе фрау Браун звучала скорее мольба, чем угроза.
— Ну, этого вы никогда не сделаете! — спокойно сказала Лиза.
— Почему вы так думаете?
— Какой смысл вам губить себя?
— Вы тоже погибнете со мной.
— Нет, погибнете только вы. Мне, иностранке, больше чем высылка из страны, ничто не грозит.
Они молча спустились вниз, в туннель метро.
— Ну так где бы мы могли поговорить? — снова спросила Лиза.
— Я уже ответила вам!..
— Не следует так обращаться с доброй старой знакомой! Мы просто поговорим с вами и, если не договоримся, расстанемся навсегда!
— Знаю я это «навсегда»!.. Не хочу иметь с вами никакого дела!..
Подошел поезд, фрау Браун бросилась к вагону…
Василий посоветовал Лизе не отчаиваться, сделать перерыв на день или два и дать фрау Браун возможность успокоиться, прийти в себя, обдумать создавшееся положение.
И действительно, когда Лиза через три дня снова подстерегла фрау Браун у подъезда ее дома, немка держала себя по-другому. Может быть, ее соблазнили деньги, а может быть, она поняла, что Лиза все равно от нее не отстанет. Протянув Лизе записочку, фрау Браун сказала:
— Сегодня в восемь часов вечера приезжайте ко мне по этому адресу. Такси не нанимайте, вообще постарайтесь, чтобы за вами никто не проследил…
— Что это за адрес? — поинтересовалась Лиза.
— Квартира моей подруги… Она позволяет мне изредка встречаться там с поклонниками…
С нелегким сердцем отправилась Лиза по этому адресу. Всего ведь можно было ожидать — засады, любой провокации. Она условилась с Василием, что он будет поджидать ее в своей машине за квартал от дома и, если в назначенное время Лиза не вернется, тотчас обратится к О'Кейли. Добраться до дома подруги фрау Браун Лиза должна была одна.
Дом этот, оказалось, находился довольно далеко — почти на окраине города, за несколько кварталов от строящейся автострады Берлин — Лейпциг. Лизе пришлось ехать туда и на метро, и на автобусе, а конец пути проделать на трамвае. Найдя без особого труда дом, Лиза поднялась на последний, четвертый этаж.
Дверь открыла сама фрау Браун, вид у нее был мрачный. Не обращая на это внимания, Лиза любезно поздоровалась с ней, спросила о здоровье, сняла пальто, повесила на вешалку и прошла в маленькую комнату.
— Думаю, нам нет смысла тратить время на пустяки, — сказала она, усевшись на диван, — лучше сразу обсудим дело, ради которого я приехала сюда, в такую даль.
— Я вас слушаю. — Браун сидела в кресле у окна, не поднимая головы и стараясь не встретиться взглядом с Лизой.
— Вы будете иметь три тысячи марок ежемесячно. Другими словами, в три раза больше, чем получали в Париже. Встречаться с вами будем не чаще двух раз в месяц и, чтобы не привлекать к себе внимания любопытных, постараемся видеться каждый раз в другом месте.
— Что от меня потребуется?
— То же самое, что в Париже, На этот раз — правдивая информация о планах иностранного отдела национал-социалистской партии. Разумеется, не о мелких и общеизвестных фактах, а о крупных, значительных и секретных.
— Это все?
— Все.
— Тогда выслушайте мои условия. — Браун встала и села рядом с Лизой. — Никаких расписок в получении денег — это раз. Второе — ни с кем, кроме вас, встречаться не буду.
— Считайте, что ваши предложения приняты и строго будут соблюдаться, — ответила Лиза.
— Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что здесь не Париж. Там, в случае чего, можно было исчезнуть, скрыться в любой другой стране. Здесь же, в случае разоблачения, дорога одна — на тот свет. В лучшем случае — в концентрационный лагерь, тоже смерть, только медленная. Нужно соблюдать величайшую осторожность. Дайте мне слово, что мое имя нигде, ни при каких обстоятельствах не будет упоминаться!..
— Фрау Эльза, поверьте, что я дорожу своей безопасностью не меньше, чем вы своей. Можете быть уверены, что, как бы ни сложились дела, вы будете в стороне и ни одна душа, кроме меня, ничего знать о вас не будет. А теперь получите, пожалуйста, первый аванс, — Лиза вынула из сумочки три бумажки по тысяче марок и положила их на журнальный столик перед фрау Браун, — и скажите, есть ли у вас что-либо интересное?
— Есть кое-что… Итальянцы готовятся к войне с Абиссинией и, кажется, получили согласие нашего правительства на поддержку… Последнее время шли интенсивные переговоры между руководителями нашего ведомства и представителями Италии. О результатах этих переговоров каждый день докладывали лично фюреру. На прошлой неделе приезжали к нам руководители нацистской партии Австрии: Зейс-Инкварт, Тавс и Леопольд. Они вели переговоры о разработке «плана Отто», который держится в строгом секрете. Часто приезжает глава фашистской партии судетских немцев Гейнлейн. В последний его приезд ему посоветовали подготовить требования о предоставлении Судетской области автономии… — Все это фрау Браун проговорила быстро, шепотом.
— Спасибо, фрау Эльза! Я очень рада, что мы с вами снова нашли общий язык! — Лиза встала.
— Если вам нужно будет встретиться со своими поклонниками, можете воспользоваться этой квартирой за небольшую плату, — сказала фрау Браун. — Моя подруга может уступить ее вам на время или на ночь. Больше того, она может подыскать для вас приличных кавалеров, если вы этого пожелаете…
— Спасибо. В случае нужды дам вам знать…
— Если вам не трудно, захватите, пожалуйста, с собою в следующий раз коробочку французской пудры рашель, губную помаду и пачку натурального кофе. Привыкла в Париже пить настоящий кофе, никак не могу примириться с суррогатом!..
Надоедливые, моросящие без перерыва днем и ночью дожди прекратились, словно по команде. Небо очистилось от туч, засияло солнце. Началась весна, тревожная весна 1935 года.
Из Нью-Йорка пришли очередные телеграммы. В одной из них Адамс одобрял деятельность Василия в Германии. В другой бухгалтерия извещала, что на текущий счет мистера Кочека в немецкий национальный банк переведено десять тысяч долларов на покрытие организационных расходов. Еще одной телеграммой коммерческий отдел компании извещал своего уполномоченного, что танкер с горючим прибудет в порт Гамбург десятого апреля под панамским флагом. Василию предлагалось выехать туда, связаться с капитаном танкера, мистером Бемом, оформить сдачу горючего и масла акционерному обществу «Фламме» и подобрать постоянного представителя компании в Гамбурге.
Василий посетил генерального консула О'Кейли, сообщил ему о своем отъезде и взял у него рекомендательное письмо на имя мистера Меллона, американского консула в Гамбурге.
— Желаю успеха, мистер Кочек! По возвращении расскажите, как там, в Гамбурге, дела, — сказал О'Кейли на прощание и добавил: — Кажется, ваш совет не предоставлять акционерному обществу «Фламме» долгосрочных кредитов не будет принят во внимание… После переговоров Гибсона с Гитлером госдепартамент посоветовал руководителям банков, фирм, компаний и трестов, имеющих деловые связи с Германией, предоставлять долгосрочные кредиты немецким фирмам. Федеральное правительство будет гарантировать эти кредиты.
— Что же, с горы виднее… Мое дело маленькое — информировать компанию о положении дел в Германии, а им решать, как быть!
— Да, мы всего лишь исполнители, — согласился О'Кейли. — Но чтобы лучше исполнять порученное, необходимо быть в курсе большой политики и действовать наверняка, со знанием дела.
— Вероятно, вы правы, хотя должен вам заметить, что никогда не интересовался политикой и вот все же добился в жизни кое-чего! — улыбнулся Василий.
— Времена были другие!
— Возможно… В чем же суть этой большой политики, если, конечно, не секрет?
— Секрета никакого нет. Просто наши государственные деятели считают, что Германия — единственная реальная сила в Европе, могущая помешать распространению коммунизма. Следовательно, Америка заинтересована в укреплении позиции Гитлера. Разумеется, до каких-то пределов!..
— Кто может определить их? — спросил Василий.
О'Кейли молча развел руками…
За два дня до отъезда Василий попросил своего юрисконсульта поехать в Гамбург, забронировать там в гостинице хороший номер и постараться выяснить, с кем из чиновников таможни Гамбургского порта можно найти общий язык. Василий был уверен, что Глауберг успешно справится с этим деликатным поручением. Несмотря на свою медлительность и флегматичность, он оказался проницательным и ловким юристом, — во всяком случае, отлично разбирался в обстановке, умел при случае использовать и человеческие слабости…
Вечером Василий позвонил Веберу и сказал, что миссис Марианна и он будут рады предложить госпоже и господину Веберу у себя в особняке чашку чая. О госпоже Вебер было сказано из того расчета, что если телефонный разговор подслушают, то гестаповцы узнают, что мистер Кочек не настолько близок с Вебером, чтобы знать, женат он или нет.
— К сожалению, я холост, — ответил Вебер.
— Мы рады будем видеть вас у себя!
Вебер спросил адрес, хотя отлично знал его, и приехал около восьми часов. Предстоял откровенный разговор, и Лиза, зная об этом, под благовидным предлогом вышла из гостиной.
— Дорогой Вебер, мне кажется, настало время поговорить нам с вами совершенно откровенно, — начал Василий, как только они остались вдвоем. — Прежде всего хочу сообщить вам, что я никакой не словак и не американец, тем более не коммерсант по призванию. Но, будучи решительным врагом фашизма, помогаю и впредь буду помогать всем борющимся с фашизмом, независимо от их убеждений и политических взглядов. Надеюсь, в этом наши интересы полностью совпадают. До сих пор я не спрашивал вас о ваших политических убеждениях, не интересовался также и целями, которых вы добиваетесь здесь, в Германии. Перед нами стоит главная и единственная задача — всеми силами бороться против фашизма. Раз это так, давайте заключим союз, объединим наши усилия… Согласны со мной?
— Вполне, — ответил Вебер, внимательно слушавший Василия.
— В таком случае разрешите задать вам несколько вопросов и кое-что уточнить. Разумеется, вы ответите на них только в том случае, если сочтете возможным.
— Пожалуйста…
— Хорошо ли проверены антифашисты-подпольщики, действующие с вами?
— В настоящее время нас наберется человек тридцать — тридцать пять, если учесть и сочувствующих. Мы из осторожности задерживаем рост нашей организации, — при желании могли бы значительно расширить ее. В Германии антифашистов немало… Мы все давно знаем друг друга и стараемся не допускать в свою среду случайных людей…
— Есть ли у вас четко выработанная программа или конкретные цели, которых вы добиваетесь?
— Программы у нас нет, а наша цель — уничтожить диктатуру Гитлера и национал-социалистов, восстановить в Германии демократические порядки.
— Разрешите узнать, в каких политических партиях состояли раньше члены вашей организации?
— Я вынужден огорчить вас: среди нас нет ни коммунистов, ни социалистов. Впрочем, нам известно, что существует еще одна подпольная антифашистская организация, состоящая из коммунистов и социал-демократов. Она, по-видимому, больше нашей, в ней много рабочих… Может быть, вам желательно связаться именно с той группой и работать с ними? Если так, скажите мне откровенно, и я постараюсь найти пути к ним…
— Нет, друг мой, такая постановка вопроса сама по себе неправильна, — не мне работать с ними, а вам, вашей группе. Распыляя силы, которых и так мало, вы ничего не добьетесь. Вам нужно понять еще и то обстоятельство, что сегодня успешно бороться с фашизмом без коммунистов невозможно. Позвольте дать вам дружеский совет: установите контакт с той группой и хотя бы координируйте свои действия, если не хотите объединяться с ними и желаете сохранить организационную самостоятельность.
— Лично я считаю, что вы правы. Но прежде чем принять решение, мне нужно посоветоваться с друзьями. Думаю, что они тоже поймут целесообразность контакта с той группой подпольщиков, — такая мысль у нас уже возникала. В то же время считаю своим долгом предупредить вас заранее, что наши не пойдут на объединение: мы преследуем разные цели!..
— Это называется делить шкуру неубитого медведя… Вы сперва победите фашизм, а потом уж говорите о конечных целях. Впрочем, дело ваше!.. Мне хотелось бы посоветовать вам — до мельчайших подробностей продумать методы конспирации и четкую организацию работы вашей группы, с таким расчетом, чтобы, в случае провала одного звена, уцелели другие. И наконец, еще одно — для успешной борьбы с национал-социалистами нужно быть в курсе их планов, ближних и дальних, во всех аспектах — внутренних и внешних, политических и экономических. А для этого необходимо располагать широкой информацией. Постарайтесь иметь своих людей везде, где только представится возможность, — в окружении Гитлера, Геббельса, Геринга, Гесса, Розенберга, Бормана и других главарей фашистов, в генеральном штабе и гестапо, в министерстве иностранных дел, в правлении банка и в полицейском участке… Я понимаю, достигнуть этого невозможно в один или два дня, нужно время и терпение. Но если вы хотите бороться с фашистами всерьез, необходимо набраться терпения, ни в чем не допускать поспешности, рисковать только в случае крайней необходимости. В деле расстановки людей вы можете пользоваться моей помощью и моими деньгами. Но помощь должна быть взаимной: вы, в свою очередь, должны делиться со мной добытой информацией. Обещаю вам, что то же самое буду делать и я. Подумайте обо всем, что я вам сказал. После моего возвращения из Гамбурга мы снова встретимся и уточним детали нашей совместной работы.
— Когда вы предполагаете вернуться?
— Через неделю, самое позднее через десять дней. Дам вам знать, как только вернусь.
— Хорошо, к тому времени я тоже кое-что подготовлю… Да, я нашел для вас подходящего сторожа-садовника, — сказал Вебер.
— Кто он?
— Хороший садовник и убежденный антифашист. Умный, осторожный человек. Он ничего не будет знать о вас, кроме того, что вы обыкновенный денежный мешок… Во всяком случае, я старался внушить ему это. Если вы согласитесь нанять его, он переедет с семьей к вам в сторожку и, по возможности, будет красть у вас бумагу…
— Что ж, пришлите его ко мне хоть завтра.
— Я советую вам прибегнуть к другому, более сложному, но зато совершенно безопасному способу: дайте объявление в вечерней газете, что вам требуется садовник-сторож. В числе других, желающих занять эту должность, придет и мой знакомый, вы его и выберете. Фамилия у него самая простая — Мюллер!..
Гамбург — морские ворота Германии — показался Василию и Лизе более оживленным и веселым, чем Берлин. Порт и все, что было связано с ним, накладывало своеобразный отпечаток на жизненный уклад этого большого города. На каждом шагу встречались иностранцы, матросы из самых отдаленных уголков земли. Каждый второй гамбуржец знал хоть один иностранный язык. В Гамбурге сосредоточилось множество увеселительных заведений, публичных домов, нравы здесь были проще, чем в других городах Германии. В ресторанах кормили лучше — подавали отлично приготовленную рыбу, мясо. В магазинах тоже было больше продовольственных и других товаров, чем в столице. В Гамбурге в невиданных размерах процветала спекуляция, — на черном рынке можно было купить все что угодно, начиная от потребительских товаров и кончая иностранной валютой, золотом и драгоценными камнями. В этом шумном многоязычном городе дышалось как-то свободнее.
Глауберг встретил патрона с женой на вокзале и повез их в лучшую гостиницу под названием «Гамбург», где был забронирован трехкомнатный люкс.
Было еще рано, и, чтобы не терять драгоценное время, Василий быстренько привел себя в порядок и отправился к американскому консулу.
Мистер Меллон, немолодой американец с седеющими висками, оказался в высшей степени любезным, неглупым человеком. Он объяснил, что местная обстановка мало чем отличается от той, которая господствует ныне во всей стране, — те же фашисты с их крикливой демагогией… Что касается человека для постоянного представительства фирмы, то у него есть на примете один немец, и, если мистер Кочек скажет, где он будет завтра в одиннадцать утра, человек этот явится к нему с запиской консула.
— Кто такой он, этот немец, — внушает ли он доверие? Я хочу сказать, не связан ли он с нацистами? — спросил Василий.
— Ах, дорогой мой! Разве сейчас можно разобраться, кто из немцев внушает доверие, а кто нет? Все они, в той или иной степени, заражены шовинизмом и, как только выпьют кружку пива, горланят, что Германия превыше всего!.. Человек, которого я собираюсь вам рекомендовать, кажется вполне приличным, а там кто знает, что у него на душе. Поговорите с ним поподробнее, выясните все, что вас интересует, — посоветовал консул.
— Очень вам признателен, пусть придет ко мне в гостиницу часам к десяти… Мне хотелось бы спросить вас еще об одном деликатном деле. Не скажете ли вы мне, что из себя представляют здешние таможенные чиновники?
— Сплошные жулики и взяточники!
— С ними можно иметь дело?
— Если хорошо платить, то можно. Учтите, с недавних пор во главе таможни находится один ярый национал-социалист, любитель выпить и большой мерзавец. Если дело у вас крупное, то лучше всего связаться с ним. Действуйте смело и ничего не бойтесь. Немцы не пойдут на провокацию против уполномоченного могущественной американской нефтяной компании. Сегодня они в нас нуждаются и поэтому всячески будут обхаживать вас. Что будет завтра, не знаю!..
В номере гостиницы Глауберг доложил патрону, что он успел познакомиться с несколькими руководителями гамбургской таможни — не с самыми, конечно, крупными — и пришел к заключению, что они сговорчивые люди и с особым уважением относятся к американцам. Не зная, о чем конкретно идет речь, он, Глауберг, лишен был возможности вести с ними предметный разговор, но, по предварительным его впечатлениям, таможенные чиновники пойдут навстречу любым желаниям мистера Кочека, разумеется при условии приличного вознаграждения.
— Ну, это понятно — не даром же они будут стараться! А нельзя ли, герр Глауберг, встретиться с ними? — спросил Василий.
— Почему бы нет? По-моему, лучше всего сделать это в отдельном кабинете ресторана при вашей гостинице. Я буду с ними ужинать, а вы зайдете к нам как бы невзначай, и я познакомлю вас со всеми. Их будет трое.
— Предложение в принципе принимается, о своем решении и о сроке скажу вам позднее…
Утром, в назначенный час, явился гренадерского вида краснощекий немец с добродушным лицом и хитроватыми глазами. Он отрекомендовался Карлом Бремером и протянул Василию записку от консула.
— Садитесь и коротко расскажите о себе, — Василий указал на кресло.
— Что же вам рассказать?.. — Бремер пожал плечами. — Родился здесь, в Гамбурге, в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Потомственный моряк, — мой отец, дед, как и я, были моряками. Окончил морское училище и службу свою начал в тысяча девятьсот пятнадцатом году на военном корабле гардемарином. Два года проторчал во французском плену, — наш линкор торпедировала французская подводная лодка, и я уцелел в числе немногих немецких матросов. После войны служил помощником капитана на торговом пароходе, потом перешел в управление порта боцманом. Накопив немного денег, решил заняться коммерцией, но во время кризиса разорился и потерял все. В настоящее время выполняю отдельные поручения американских фирм и компаний. Мечтаю о постоянной работе, — закончил свою короткую исповедь бывший моряк и посмотрел на Василия, ожидая решения своей судьбы.
— В каких партиях или политических организациях состояли?
— Политикой никогда не занимался и заниматься не собираюсь!
— Герр Бремер, скажите мне совершенно откровенно: как вы относитесь к национал-социалистам?
— Могу сказать, — и, надеюсь, вы меня поймете, — вполне положительно, хотя и не все одобряю в деятельности наци. Как истинный немец, я люблю свою прекрасную родину и должен вам сказать, что единственный человек, кто сумел вывести Германию из того унизительного положения, в котором она находилась после Версаля, был Гитлер, — за это честь и хвала ему!.. Мы — великая нация, и все попытки держать нас в подчиненном положении напрасны!..
— Благодарю вас за откровенность. Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос: знакомы ли вы с руководителями порта и работниками таможни?
— Почти со всеми.
— В таком случае я познакомлю вас с вашими основными обязанностями и кое с чем еще… — Василий подробно, не жалея, времени, рассказал Бремеру обо всем, что касалось работы того как местного представителя компании, и спросил, сможет ли он выполнять некоторые деликатные поручения, связанные с таможней.
— Смогу! Скажите, что нужно.
— Наш юрисконсульт, герр Глауберг, приглашает завтра вечером нескольких таможенных чиновников на ужин. Примите, пожалуйста, участие в этом товарищеском ужине и постарайтесь договориться с ними о деле.
— Вам известны фамилии приглашенных?
— Нет. Я познакомлю вас с Глаубергом, и он расскажет обо всем. — Василий пришел к заключению, что лично ему не к чему знакомиться с таможенниками.
Судя по всему, юрисконсульт и бывший моряк знали свое дело. На следующий день после встречи за ужином с таможенниками они вдвоем явились к Василию и сообщили условия соглашения: чиновникам таможни платить натурой в размере десяти процентов от всех товаров. Следовательно, из ста мешков кофе оставлять им десять мешков, кроме того, пропускать через таможню тридцать процентов товара и оплачивать полагающуюся пошлину. Это на тот случай, если вдруг возникнет необходимость предъявить квитанции таможне.
Василий принял эти условия и засадил Карла Бремера за работу.
Точно в условленный день и час танкер под панамским флагом вошел в порт Гамбург, имея в своих трюмах десять тысяч тонн бензина и тысячу тонн смазочных масел. Василия, как уполномоченного нефтяной компании «Стандард ойл», беспрепятственно пропустили на борт танкера. Начальник порта сообщил, что мистер Кочек может посещать танкер в любое время дня и ночи, — по этому поводу охране даны соответствующие указания.
Капитан танкера Фрэнк Бем, коренастый морской волк, пригласил Василия к себе в каюту, запер дверь на ключ, передал ему пакет и попросил после прочтения вернуть его обратно.
Василий, не понимая, в чем дело, удивился такой таинственности. В пакете было личное письмо Адамса. Шеф сообщал конфиденциально, что, в случае военного конфликта между Италией и Абиссинией, сенат, возможно, примет закон о нейтралитете и запретит американским компаниям поставлять стратегическое сырье воюющим странам. Напоминая, что нефть, бензин и смазочные масла относятся к стратегическим материалам, наряду с вооружением, сталью, свинцом, каучуком и прочим, мистер Адамс предлагал своему уполномоченному продумать возможность обхода этого закона при поставке горючего Италии в больших размерах и срочно сообщить свои соображения. Далее шеф ставил Василия в известность, что компанией принято решение построить в Гамбурге несколько сборных бензохранилищ, общей емкостью в сто тысяч тонн. Детали этих хранилищ будут поставляться компанией из Америки, а сборку поручено вести акционерному обществу «фламме».
В конце письма Адамс любезно осведомлял Василия, что, согласно договоренности, посылает ему сто мешков бразильского кофе и сто ящиков сигарет высших сортов. Стоимость этого товара будет удерживаться бухгалтерией компании из полагающегося мистеру Кочеку гонорара.
Капитан сжег письмо в присутствии Василия.
— Если хотите ответить мистеру Адамсу, садитесь за мой письменный стол и пишите. По возвращении в Нью-Йорк я вручу ваше письмо ему лично, — сказал капитан.
Василий сообщил Адамсу, что, учитывая благожелательное отношение немцев к планам дуче, нетрудно будет получить разрешение перекачивать бензин прямо из американских танкеров в итальянские в порту Гамбург. В том случае, если об этом не удастся договориться в верхах, то он, Кочек, возьмется наладить дело на месте при небольших затратах и без всякого шума. Василий также спрашивал шефа; где и с кем из итальянцев ему следует встретиться, чтобы уточнить план действий?
Спрятав письмо в карман белоснежного кителя, капитан достал из буфета бутылку виски, содовую, бокалы и предложил выпить за успехи компании и его, мистера Кочека. После первого бокала поговорили о новостях, о жизни в фашистской Германии, а после второго Василий обратился к Бему:
— Скажите, капитан, могу я рассчитывать на вашу помощь, если возникнет надобность?
— Всегда и во всем! — с готовностью согласился капитан и все же поинтересовался — о чем может идти речь?
— Пересылать через вас моему компаньону, Джо Ковачичу, в Париж следуемые ему деньги или его отцу, мистеру Ковачичу, в Нью-Йорк, а также письма, которые не к чему вскрывать на почте…
— Всего-то!.. Кстати, я знаком с мистером Ковачичем — когда-то работал у него. Прижимистый старик. В то время Джо учился еще в колледже…
Они выпили еще по одному бокалу, и Василий, сославшись на дела, вернулся в город.
Пока перекачивали бензин из танкера в хранилища общества «Фламме», помощники Василия успешно завершили операцию в таможне и перевезли девяносто мешков кофе и столько же ящиков сигарет на склад, арендованный предусмотрительным Бремером для этой цели.
Василий подписал с представителями «Фламме» акт о сдаче бензина и смазочных масел и собирался возвратиться в Берлин, когда к нему в номер позвонил по телефону бухгалтер Шульце и зачитал телеграмму, полученную от мистера Ковачича из Нью-Йорка. В телеграмме говорилось, что с пароходом «Олимпик», плывущим под греческим флагом, отправлено для мистера Кочека триста мешков кофе, двести ящиков сигарет и сто ящиков сгубленного молока. Мистера Кочека просили встретить пароход «Олимпик», обеспечить приемку товара и перевести на текущий счет фирмы «Ковачич и компания» десять тысяч долларов в виде аванса — в целях обеспечения дальнейших поставок товара.
Василию пришлось задержаться в Гамбурге еще на несколько дней. Он дал указание Бремеру реализовать часть товара на месте по ценам черного рынка, а остальную часть, на которую имелись квитанции об оплате пошлины, отправить в Берлин.
— Вы можете превратить марки, вырученные за кофе и сигареты, в доллары? — спросил Василий бывшего моряка.
— Разумеется!
— Тогда действуйте — и доллары привезите мне в Берлин. За труды будете получать вознаграждение из расчета три процента от выручки.
Предварительные подсчеты показали, что, за вычетом всех расходов и стоимости кофе и сигарет, можно заработать кругленькую сумму около тридцати тысяч долларов. Таким образом, на долю каждого компаньона приходилось по пятнадцати тысяч долларов.
Василий был уверен, что Джо останется доволен.
15
На обратном пути в Берлин, в узком коридоре спального вагона, Василий увидел человека в форме оберштурмбанфюрера. Это был типичный ариец — высоченный блондин с развитой грудной клеткой, с резкими чертами лица, глубоко посаженными серыми глазами. Он курил у окна, загораживая своей массивной фигурой весь проход. Василий попросил разрешения пройти, тот посторонился, посмотрел на пассажира из соседнего купе, глаза их встретились. Почему-то Василию захотелось познакомиться с этим человеком. Он остановился рядом с оберштурмбанфюрером и так же, как он, стал смотреть в окно.
— Отличная погода для ранней весны, не правда ли? — спросил Василий через некоторое время.
— Да, погода стоит замечательная, — согласился немец.
Они поговорили о каких-то пустяках. Василий, как бы невзначай, между прочим, сообщил оберштурмбанфюреру, что он американец и представляет в Германии крупнейшую нефтяную компанию, но его специальность — торговля кофе.
— О, кофе великолепный напиток! К сожалению, настоящий кофе давно исчез, — посетовал немец и в свою очередь отрекомендовался: — Отто Лемке.
Он рассказал, что вступил в партию национал-социалистов еще в 1928 году в Мюнхене, когда фюрер только-только собирал вокруг себя единомышленников.
— Единственный народ на земном шаре, заслуживающий уважения кроме нас, немцев, — это американцы! — разглагольствовал Лемке. — Американцы, как и мы, люди дела, — не то что изнеженные, вымирающие французы, одряхлевшие англичане и славянские племена вроде чехов, югославов, поляков и другой мелочи!..
Позднее Василий пригласил оберштурмбанфюрера пообедать вместе в вагоне-ресторане, сказав, что у Него есть несколько бутылок отличного виски.
Отто Лемке не заставил себя долго уговаривать, и они пошли в вагон-ресторан. Лиза, сославшись на нездоровье, осталась в купе.
В вагоне-ресторане народу было мало. Отто Лемке заявил, что терпеть не может спиртных напитков, разбавленных водой, глушил чистое виски и, порядком захмелев, болтал без умолку. Под большим секретом он сообщил Василию, что служит в охране имперской канцелярии и имеет доступ к высшим кругам партии.
— Наши партийные вожди доверяют мне самые большие секреты, а Рудольф Гесс души не чает во мне… Для этого у него есть все основания. Я всегда был верен фюреру, даже в «ночь длинных ножей»… Американцы — наши друзья, и мне незачем скрывать от вас все это!
К концу обеда они так сдружились, что оберштурмбанфюрер Отто Лемке говорил Василию «ты» и покровительственно похлопывал его по плечу.
Утром, подъезжая к Берлину, Василий подарил ему пачку кофе, бутылку виски и дал свой служебный телефон, сказав, что всегда будет рад встретиться со своим другом Отто Лемке.
Дома Василий и Лиза обнаружили, что у них побывали некие посторонние лица и покопались в вещах, хотя все было аккуратнейшим образом положено на место. Это обстоятельство немного встревожило Василия, несмотря на то что он прекрасно знал, что в фашистской Германии подозревают всякого, тем более будут подозревать его, иностранца.
Негласный обыск в доме послужил Василию предупреждением, а то за последнее время он вел себя излишне самоуверенно, забывая, что малейший неосторожный шаг может привести к катастрофе.
Еще с юношеских лет Василий проявлял большие способности к языкам. Почти самоучкой овладел он французским, позже изучал английский и научился довольно бегло говорить. Хуже обстояло с немецким, — этот язык Василий знал слабо и взялся за него вплотную только после того, как «отец» сказал, что, возможно, придется ехать в Германию. Живя в Берлине, Василий быстро освоил разговорную речь, но грамматику знал слабо. Он решил пригласить учительницу, настоящую немку, и сказал об этом юрисконсульту Глаубергу. Тот с готовностью согласился подыскать квалифицированную учительницу.
После этого разговора прошло порядочно времени, Василий не возвращался к нему, не вспоминал о разговоре и Глауберг.
В вечерней газете Василий поместил объявление о том, что требуется сторож-садовник. В контору стали приходить садовники с солидными рекомендациями, некоторые предъявляли даже дипломы об окончании специальных училищ по садоводству и декоративному растениеводству. Василий записывал адреса претендентов, обещал известить их о своем решении, поджидая садовника, рекомендованного Вебером. Наконец, тот явился. Это был немногословный, крепкий старичок, по фамилии Мюллер. На вопросы Василия он отвечал коротко и, в отличие от многих других претендентов на должность садовника, заискивавших перед богатым американцем, держался весьма независимо.
— Если вам нужен настоящий садовник, то лучше меня не найдете во всем Берлине! — сказал он. — Я окончил специальное училище по садоводству и декоративному растениеводству, имею диплом. По своей специальности работаю более тридцати пяти лет. Вывел новые сорта тюльпанов и роз. В данное время работаю у генерала Вахмахера и согласен перейти к вам только потому, что вы предоставляете жилье.
— Вы что же, собираетесь переехать ко мне в сторожку со всем семейством? — спросил Василий.
— Нет, зачем же. Я буду жить у вас с женой, — она мне помогает в работе. Дети мои останутся в старой квартире.
Договорились об условиях. Мюллер сказал, что переедет в Потсдам дня через три.
Видимо побоявшись, что шеф прибегнет к такому же способу найма учительницы, юрисконсульт представил патрону миловидную даму — беленькую, пухленькую, голубоглазую, лет тридцати восьми. Ее звали Катрин Хигель. Держалась она скромно, по с достоинством. Сообщила, что работает в школе — преподает немецкий язык в старших классах. Была замужем, сейчас живет со своей престарелой матерью. Договорились, что фрау Хигель будет заниматься с мистером Кочеком три раза в неделю, по два часа, в его служебном кабинете после работы.
Василий давно искал удобный предлог для встречи с Вебером. Звонить ему домой или на работу не хотелось. И вдруг сам Вебер позвонил ему в контору и сказал, что хотел бы повидаться с ним.
— Пожалуйста! — ответил Василий. — Для старых друзей мои двери всегда открыты. Приезжайте когда хотите.
— Если не возражаете, я зайду к вам сейчас на несколько минут, — сказал Вебер.
Почему он так неосторожен? Позвонил по служебному телефону, отважился появиться среди белого дня? Василию стало как-то беспокойно после этого звонка.
Не прошло и получаса, как явился Вебер. Опустившись в кресло, вытер платком вспотевший лоб, сказал, что сегодня душно, как в июле, потом спросил:
— Никто не может подслушать наш разговор?
— Я часто проверяю кабинет, нет ли где аппарата подслушивания. Но такая возможность не исключена, — тихо ответил Василий.
— Как же быть? Мне нужно поговорить с вами.
— Если у вас есть время, пойдемте в парк. В это время там, кроме старух и детишек, никого не бывает, — предложил Василий.
Несколько минут они посидели, поболтали, потом Вебер поднялся с кресла. Василий предложил проводить друга. Они вместе вышли на улицу и направились по Шарлоттенбургскому шоссе к знаменитому «Функтуруму». Там, в отдаленном и пустынном уголке парка, сели на скамейку.
— После вашего отъезда меня еще раз вызвали в гестапо, — сказал Вебер, — и предложили сообщить о вас все, что я знаю и о чем мы разговаривали с вами в последнюю нашу встречу. Я повторил, что вы типичный бизнесмен, что все ваши помыслы сосредоточены только на одном: как бы нажить побольше денег. Поинтересовались вашим отношением к режиму. Я ответил, что у нас не было разговора на эту тему, но мне кажется, что вы, как и большинство янки, человек ограниченный и вряд ли интересуетесь политикой. Кажется, я убедил их в этом, но все же они решили установить за вами слежку. Один из них высказал мысль, что следовало бы завербовать одного из ваших служащих. Будьте осторожны, они не оставят вас в покое!
— Благодарю за предупреждение. Они уже копались в наших вещах… Пусть следят сколько им угодно, я их не боюсь. — Василию хотелось внушить своему собеседнику уверенность.
— Смотрите, с гестапо шутки плохие! — ответил Вебер. — Теперь — о другом: мы решили не сливаться со второй подпольной группой. Не потому, что преследуем разные цели, — нет, сейчас у всех нас цель одна: бороться с фашизмом. Но такое объединение может быть опасным. Нам неизвестно, насколько хорошо они законспирированы. Мне кажется, что будет целесообразно, если вы познакомитесь с руководителем той группы и, если сочтете нужным, лично будете поддерживать с ним связь.
— Кто же он, этот таинственный руководитель, и как я смогу связаться с ним, если захочу? — поинтересовался Василий.
— Зовут его Герман, фамилию я не знаю. Он работает в трамвайном депо мастером по ремонту. Насколько мне известно, в прошлом был коммунистом. Встретиться с ним вы можете в одной из конспиративных квартир, которыми мы располагаем. Назначьте время, и я приведу Германа.
— Вы говорили ему обо мне и изъявил ли он желание встретиться со мной?
— Говорил, не называя вашей фамилии. Сказал, что есть такой человек, и только. Он сам попросил меня свести его с вами.
— Ну что же, давайте устроим встречу. На следующей неделе в понедельник, часам к девяти вечера, — устроит?
— Вполне.
— Скажите адрес.
Василию очень хотелось связаться с подпольной группой, в которой действовали коммунисты и социал-демократы. Вебер назвал адрес, Василий повторил его про себя.
— У вас все? — спросил он.
— Нет, не все. — Вебер посмотрел по сторонам и, убедившись, что поблизости нет никого, сказал: — Один из членов нашей группы говорил мне, что в генеральном штабе работает некий инженер-майор… У него тяжело больна единственная дочь. Он истратился на врачей, на лекарства и сейчас остро нуждается в деньгах. К тому же он вообще недолюбливает нацистов, и, по мнению нашего товарища, можно попытаться подкупить его. Как вы думаете, стоит ли нам сделать это? Майор, хотя и занимает скромную должность в генеральном штабе, имеет доступ к важным делам…
— Не зная всех обстоятельств, мне трудно что-либо сказать. Ясно одно: иметь своего человека в таком учреждении, как генеральный штаб, крайне важно, и поэтому стоит рискнуть, соблюдая величайшую осторожность. Очень прошу поставить меня в известность о результатах ваших переговоров с этим майором.
— Ну, разумеется!.. И еще один вопрос: учитывая, что мы с вами не можем часто встречаться, я подумал — не стоит ли вам стать членом берлинского спортивного клуба, где состою и я. Там мы могли бы вместе играть, незаметно поговорить или хотя бы назначить свидание.
— Хорошо, я наведу справки через своих «соотечественников»-американцев и при их помощи вступлю в спортивный клуб. А если не удастся стать членом клуба, постараюсь добыть разрешение на постоянную игру.
— Вообще-то нам не мешало бы иметь связного, — сказал Вебер. — По-моему, Мюллер, ваш садовник, вполне подходит для этой цели.
— Может быть. Дайте мне время познакомиться с ним поближе. Скажите, Вебер, как у вас в организации с деньгами, не нужно ли помочь?
— Как вам сказать? — Вебер смущенно замялся. — У нас больших расходов нет… К тому же все члены нашей группы работают и живут более или менее сносно. Среди нас есть даже один владелец трикотажной фабрики. Он зарабатывает приличные деньги поставкой подшлемников для солдат фюрера…
— В таком случае выслушайте меня. Кроме того, что я являюсь представителем нефтяной компании, я еще торгую дефицитными товарами — кофе и сигаретами. Это приносит мне немалые дополнительные доходы, и я без труда могу помочь вам деньгами. Вы платите за конспиративные квартиры, собираетесь печатать листовки, вступить в переговоры с майором — да мало ли что еще! Все это требует денег. У меня в бумажнике около трех тысяч марок, я их дам вам сейчас, а при следующей встрече принесу еще. — Василий достал деньги и положил их на скамейку между собой и Вебером. Тот взял их и быстро спрятал в карман.
Они расстались у выхода из парка. Василий в такси, Вебер в трамвае вернулись в город.
Василий сказал Веберу правду: дела у него шли хорошо. В Гамбургский порт прибывали один за другим танкеры с нефтью, пароходы с оружием, авиационными моторами, цинком, оловом и другими остродефицитными материалами. Многие из них привозили товар и для мистера Кочека. Большую часть кофе и сигарет Карл Бремер реализовал на месте, меньшую часть отправлял в Берлин. Бремер уже два раза приезжал к Василию и привозил выручку в долларах, получая три процента комиссионных. В свою очередь, Василий отправлял Джо Ковачичу в Париж его долю. В ответ вице-консул присылал Василию благодарственные письма.
Для того чтобы обратить внимание властей на свои побочные занятия, Василию пришлось арендовать небольшой склад в самом Берлине и перевезти туда полученные из Гамбурга товары, завести клиентуру, сбывать кофе и сигареты. Понятно, что в Берлин поступал товар, прошедший таможню и снабженный квитанциями об уплате полагающихся пошлин.
Лето было в разгаре, город задыхался от бензинной гари и духоты. Зато в потсдамском особняке — благодать: чистый воздух, прохлада. Мюллер и в самом деле оказался прекрасным садовником. Вскоре господин Кочек стал обладателем превосходного сада и цветника. Старый садовник каждое утро присылал Лизе букеты свежих роз.
Как-то вечером Василию позвонил О'Кейли и попросил его утром заехать в консульство. «Хочу передать вам кое-какие поручения от вашего патрона и сообщить некоторые новости», — сказал генеральный консул.
Утром, не заезжая в контору, Василий отправился прямо в американское консульство.
О'Кейли принял его с подчеркнутой приветливостью, поинтересовался, как идут дела, и только после этого протянул Василию запечатанный конверт, сказав, что письмо получено через дипломатическую почту.
Василий хотел было спрятать конверт в карман, чтобы прочитать письмо позже, но О'Кейли вежливо остановил его:
— Я прошу вас прочитать письмо здесь и вернуть его мне. Извините, но существует такой порядок: бумаги, полученные через дипломатическую почту, выносить из консульства не полагается.
Письмо было от Адамса. Он уведомлял Василия, что его предположения относительно возможного военного столкновения между Италией и Абиссинией подтверждаются полностью. Великие державы, по-видимому, займут позицию невмешательства. В американском сенате подготовлен проект постановления, воспрещающего подданным Соединенных Штатов продавать вооружение-и стратегическое сырье воюющим странам. Шеф предлагал своему представителю выехать в Женеву с таким расчетом, чтобы прибыть туда не позже десятого августа, остановиться в отеле «Савой». Там его разыщет представитель итальянской нефтяной компании, синьор Мачарелли, с которым необходимо договориться и уточнить все детали поставки нефтепродуктов итальянской компании. «Мы не намерены вмешиваться в политику, — писал мистер Адамс, — наше дело коммерция — ею мы и будем заниматься». В заключение он предостерегал: «Надеюсь, вы понимаете, мистер Кочек, что все это должно храниться в строгом секрете и о результатах ваших переговоров с синьором Мачарелли и о дальнейших ваших действиях никто не должен знать».
Записав в своем блокноте дату поездки в Женеву, название отеля и фамилию итальянца, с которым ему предстояла встреча, Василий вернул письмо О'Кейли и, поймав на себе его вопросительный взгляд, сказал:
— Мистер Адамс предлагает мне поехать в Женеву, встретиться там с представителем итальянской нефтяной компании и уладить с ним некоторые деловые вопросы. Надеюсь, моя поездка не встретит препятствий?
— Какие могут быть препятствия? Я сегодня же пои звоню швейцарскому консулу и попрошу его выдать вам постоянную визу. Вы можете оставить свой паспорт у меня, мы сами позаботимся обо всем!
Василий сказал, что он, пожалуй, возьмет с собой в Швейцарию жену и, если мистер О'Кейли не будет возражать, принесет оба паспорта на следующий день.
— Пожалуйста, как вам угодно! — согласился тот и, немного помедлив, добавил: — Вами интересовался секретарь нашего посольства, мистер Петерсон. Больше того, он просил привезти вас к нему. Если вы не очень заняты, мы могли бы поехать к нему хоть сейчас!..
— Что ж, я рад, — с готовностью согласился Василий. Ему было известно, что Петерсон хотя и числился только секретарем американского посольства в Берлине, но, как очень состоятельный человек, пользовался немалым влиянием в политических кругах Вашингтона. В отличие от других американских дипломатов, Петерсон один занимал трехэтажный особняк, держал множество прислуги, устраивал многолюдные приемы.
За руль машины сел О'Кейли, Василий устроился рядом, и они долго кружили среди новостроек, пока не доехали до Шарлоттенбурга, где жил Петерсон.
Высокий, поджарый, тридцатипятилетний мужчина, он скорее напоминал спортсмена, чем дипломата. Оказался он веселым, словоохотливым человеком и радушным хозяином. Повел гостей в домашний бар, наполнил бокалы «для начала» итальянским вермутом, предложил крошечные сэндвичи с паштетом и черной икрой и хрустящие пирожки с мясом. Выпили, закусили. Когда Петерсон заговорил о делах, от его веселости не осталось следа, он стал воплощением деловитости, приветливое лицо его стало жестким.
— Мистер Кочек, я слышал о вас много хорошего. И то, что мой друг, мистер Адамс-младший, дает вам деликатные поручения, говорит о многом, — в частности о том, что вы человек верный и вам можно доверять. Мне хотелось просить вас, чтобы вы ни с кем не делились планами вашей компании снабжать Италию горючим и в дальнейшем, может быть даже обходя закон о нейтралитете. Вы представляете, какой разразится скандал, если это станет достоянием газетчиков, и какой ущерб понесет ваша компания?.. Еще одно, дорогой мистер Кочек, — мы живем с вами в мире, где все может случиться: сегодняшний ваш друг и союзник завтра может стать вашим врагом номер один. Учитывая такую возможность, необходимо проявлять мудрую предусмотрительность. Живя здесь, поставляя немцам авиабензин и смазочные масла, которых нет в Германии, вы, разумеется, догадываетесь, что нацисты поспешно вооружаются… Нам, американцам, небезынтересно знать об этом поподробнее. Вот я и хотел вас спросить: не согласитесь ли вы сотрудничать с нашим авиационным атташе? Вы, представитель компании, поставляющей бензин для «Люфтваффе», легко можете найти предлог, чтобы побывать на военных аэродромах, установить дружественные отношения с военными летчиками. Больше того, если вы пожелаете, мы можем представить вас шефу «Люфтваффе», господину Герингу… Что вы скажете на это?
Василий застыл в кресле с бокалом вермута в руке.
Конечно, ему было бы очень интересно узнать побольше о немецкой авиации, познакомиться и с самим всемогущим Герингом, открыть тем самым себе широкие перспективы для успешной деятельности. Но, с другой стороны, вряд ли имело смысл раньше времени подвергать себя такой опасности и ради журавля в небе упускать из рук синицу.
— Я вам очень благодарен за доверие! Готов помочь лично вам и нашим соотечественникам всем, чем только смогу… Но для той роли, которую вы мне предлагаете, я совершенно непригоден, — твердо ответил Василий.
— Не бойтесь, вам не грозит никакая опасность! — улыбаясь, сказал секретарь посольства. — А в случае чего всегда, при любых обстоятельствах мы сумеем вас защитить!
— Нет, я на это не пойду. Сообщать вам через мистера О'Кейли, если узнаю что-либо интересное, — это я готов делать. Но специально заниматься добыванием сведений не могу и не хочу!
— Ну что же, очень жаль! Насиловать чью бы то ни было волю не в моих правилах. Буду рад, если вы сообщите нам интересные новости, — сказал Петерсон и, пожимая руку Василию, дал понять, что разговор окончен.
— Скажите, мистер О'Кейли, вы знали, зачем меня пригласил секретарь посольства? — спросил Василий, когда они ехали обратно.
— Точно не знал, но догадывался.
— И как вы думаете, я правильно поступил?
— Пожалуй, да. Какой смысл вам, преуспевающему бизнесмену, связывать себя с разведкой? Потом от них не избавишься… Но все же каждый из нас обязан выполнять свой патриотический долг, и, если у вас появятся интересные сведения о немецкой авиации, сообщите мне, — дружески сказал О'Кейли.
К удивлению Василия, в приемной конторы его ждал оберштурмбанфюрер, с которым он ехал из Гамбурга.
— О, господин Лемке! Какими судьбами? — Василий приветствовал его, как старого знакомого.
— Я пришел поблагодарить вас от своего имени и по поручению моей жены. Последние две недели мы с Элизабет наслаждались натуральным кофе! — сказал Лемке, садясь по приглашению Василия в кресло.
— Очень рад, что сумел доставить вам и вашей жене маленькое удовольствие. Готов служить вам и в дальнейшем чем только смогу! — Василий рассыпался в любезностях перед эсэсовцем, напряженно стараясь разгадать цель, ради которой тот пожаловал в его контору.
— Вы меня весьма обяжете… — Лемке ерзал в кресле, видимо желая что-то сказать, но не решаясь. — У меня к вам небольшая просьба… Но если она вас затруднит, скажите прямо, я не обижусь… У нас с женой есть небольшие сбережения, и нам хотелось бы поместить их в каком-нибудь надежном американском банке. Вы не могли бы оказать нам в этом содействие?
— Разумеется, могу! Но почему именно в американском банке, а не в Швейцарии? Эта страна давно зарекомендовала себя как надежная хранительница денег не только частных лиц, но и целых государств!
— Разве в Швейцарии лучше?.
— Без сомнения. Она не участвовала и не будет участвовать ни в каких войнах. Больше того, в случае войны враждующие страны будут кровно заинтересованы сохранить нейтралитет Швейцарии, чтобы иметь возможность действовать через нее. Таким образом, деньги ваши уцелеют при всех возможных международных конфликтах.
— Швейцария так Швейцария… Пожалуй, я соглашусь и на нее, при условии, что вы поможете мне и там… Вы деловой человек и должны понимать, что об этом разговоре не должна знать ни одна душа, — добавил Лемке.
— Ну, разумеется!.. На днях я как раз собираюсь ехать в Женеву и, если хотите, наведу там справки и по приезде расскажу вам подробно, как можно положить деньги в швейцарский банк, соблюдая секретность. А о какой сумме идет речь? — спросил Василий.
— Я же говорил, что сбережения у нас небольшие, — пожалуй, не больше восьмидесяти тысяч марок… Кроме того, мне хотелось бы сдать в банк на хранение немного драгоценных камней, золотых безделушек — приданое моей жены.
Василий понимал, что и деньги и драгоценности оберштурмбанфюрер просто-напросто украл при обыске в богатых еврейских домах или вымогал их под угрозой, но спокойно, как ни в чем не бывало посоветовал:
— Лучше, если вы превратите ваши марки в твердую валюту — скажем, в американские доллары. Вы обезопасите себя от возможной девальвации марки. Драгоценности можно сдать в банк на хранение по акту или, если пожелаете, можно арендовать небольшой сейф… Между прочим, должен вам заметить, дорогой герр Лемке, что сумма ваших сбережений далеко не соответствует вашему высокому званию. Вы — почти генерал СС, а денег всего восемьдесят тысяч марок. По официальному курсу это составит менее восьми тысяч долларов!..
— Что поделаешь, больше не сумел скопить, — вздохнул Лемке.
— Ничего, при большом желании, да при вашем высоком звании всегда можно заработать хорошие деньги!..
— Как это?
— Об этом поговорим после моего возвращения из Швейцарии, — пообещал Василий. — Может быть, я сумею помочь вам кое в чем… В случае надобности вы ведь смогли бы поехать в Женеву на несколько дней?
— Что за вопрос!.. Я, кажется, говорил вам, что пользуюсь у руководства неограниченным доверием и уже несколько раз побывал за границей с ответственными поручениями.
— Надеюсь, не откажете в любезности передать от меня фрау Элизабет немного кофе и принять отличные американские сигареты? — Василий достал из шкафа пачку кофе в изящном пакете, блок сигарет и протянул их оберштурмбанфюреру.
— Право, не знаю… Мне так неудобно, — бормоча так, Лемке достал из кармана газету и аккуратно завернул в нее кофе и сигареты. — Большое вам спасибо!.. Надеюсь, в недалеком будущем я тоже сумею оказать вам услугу.
— Дело не в услугах, просто вы приятны мне!.. Приезжайте к нам как-нибудь в гости, с женой. У меня есть отличное виски и даже русская водка, — знакомый капитан привез из Одессы.
Лемке поблагодарил и некоторое время молчал, потупившись. Потом сказал:
— Раз мы собираемся подружиться с вами, то хочу сообщить вам кое-что, о чем вам не мешает знать… В гестапо интересовались вами. Туда несколько раз приглашали некоего Ганса Вебера, чиновника министерства иностранных дел, знающего вас еще по Парижу. Он не смог или не захотел дать о вас никаких порочащих сведений — назвал вас типичным американским бизнесменом, интересующимся только наживой. Недавно вызвали туда и вашего юрисконсульта Глауберга с целью завербовать его как осведомителя. Чем кончился у них разговор, пока не знаю. Не говорите ничего такого, чего не хотели бы доверить чужим ушам, и при фрейлейн Лотте, — она давно состоит платным осведомителем в гестапо.
— Спасибо за сообщение!.. Но, честно говоря, мне нечего опасаться. Я делаю деньги, и ничто другое меня действительно не интересует! — ответил Василий, прощаясь с оберштурмбанфюрером.
В свое время, прежде чем навсегда покинуть Францию, Василий условился с «отцом» о связи. Писать из Берлина в Чехословакию по прежнему адресу было нельзя: Василий стал американцем и никаких родственников, тем более отца, иметь там уже не мог. Для отправки корреспонденции, если в том появится крайняя необходимость, наметили три адреса: в Париже — фрау Шульц, в Софии — владелец бензиновой колонки некто Стамбулов и в Женеве — пансионат «Глория» мистера Дэвиса.
Решив, что лучшего места для свидания с «отцом», чем Женева, не найти, Василий написал в два адреса — Стамбулову и Дэвису — о том, что предполагает быть в Женеве не позже десятого августа. Остановится он в отеле «Савой» и очень бы хотел встретиться с «отцом» для обсуждения некоторых весьма важных вопросов. Он был убежден, что «отец» непременно явится на свидание.
«Савой», где поселились Василий и Лиза, оказался очень дорогим отелем: в нем останавливались главы правительств и министры иностранных дел многих государств, приезжающие в Женеву для участия в работе Лиги наций. Но сейчас, по случаю перерыва в заседаниях этой международной организации, отель пустовал.
На второй день после приезда, утром, в номере Василия раздался телефонный звонок. Портье сообщил, что мистера Кочека желает видеть синьор Мачарелли. Василий попросил портье передать синьору Мачарелли, что будет рад видеть его у себя в номере.
Через несколько минут в номер вошел пожилой мужчина с солидным брюшком, большим горбатым носом. Круглые очки в роговой оправе с толстыми стеклами надежно прятали его бегающие глаза.
Отрекомендовавшись на сносном английском языке представителем итальянской нефтяной компании, синьор Мачарелли протянул Василию пухлую руку.
— Нужно полагать, что вы были предупреждены о моем визите, не так ли?
— Разумеется! — ответил Василий.
От предложения выпить что-либо синьор Мачарелли отказался, и они сразу перешли к деловым вопросам.
— Наши бензохранилища в Гамбурге, из которых вы могли бы без помех выкачивать бензин в свои танкеры, будут готовы к концу года, в лучшем случае — в середине ноября, — сказал Василий. — Учитывая это, я предлагаю вам следующий способ получения горючего: наши танкеры с горючим причалят к коммерческой пристани Гамбурга по договоренности с портовыми властями. Ваши станут рядом и по ночам, чтобы не привлекать внимания любопытных, будут перекачивать бензин. Разумеется, можно было бы сделать то же самое в открытом море — подальше от территориальных вод Германии, — по вы понимаете, что это опасно, особенно в штормовую погоду…
— Такой способ перекачки бензина нас не устраивает, — сказал синьор Мачарелли.
— Что же вы предлагаете? — Василий был несколько озадачен этим заявлением итальянца в самом начале переговоров.
— По прибытии ваших танкеров в Гамбург переадресуйте их в один из итальянских портов, которые мы укажем! — ответил тот.
— А это, к сожалению, не устраивает нас! — довольно резко сказал Василий. — Вы хотите причинить нашей компании немало неприятностей, афишируя, что мы продолжаем поставлять Италии горючее даже тогда, когда начнется военный конфликт между вашей страной и Абиссинией и сенат Соединенных Штатов примет закон о нейтралитете и невмешательстве?.. Нет, это невозможно!
— Ну, кто может знать об этом? Перепишите судовые документы. Можно поменять даже флаг, под которым ваши танкеры прибудут в Гамбург, и делу конец, — настаивал Мачарелли.
— Танкер не куриное яйцо, — его не перекрасишь и в карман не спрячешь. Нет, наша компания на это не пойдет. Мы согласны поставлять вам бензин и смазочные масла даже во время военного конфликта, но только Франко-порт Гамбург.
— А цены! Как будет с ценами? Вы представляете, во что обойдется нам галлон бензина, если мы будем фрахтовать танкеры и перекачивать в них бензин? Какую примерно скидку вы могли бы нам предложить?
— Никакой. Вести с вами какие бы то ни было переговоры о ценах я не могу. Не имею на это полномочий. Неофициально могу вам сообщить, что компания не только не собирается терпеть убытки на незаконной поставке вам горючего, но предполагает заработать на этом. Иначе какой смысл нам рисковать? У нас покупатели найдутся, а вот самолеты дуче не поднимутся в воздух без бензина, а танки не пойдут по просторам Африки. Победа над Абиссинией сулит вам множество выгод, и, если вы хотите их иметь, придется пойти на маленькие жертвы и платить за наш бензин настоящую цену. — Василий говорил все это с тяжелым сердцем: никогда еще, пожалуй, роль торгаша не была ему так противна, — зашибать деньги на войне!..
— В таком случае я должен связаться с Римом и посоветоваться с директорами компании! — сказал Мачарелли.
— Поступайте, как считаете нужным. Единственно, о чем я буду вас просить: в телефонном разговоре с Римом не называть нашу компанию и мою фамилию!
— Не беспокойтесь! — Итальянец замялся. — Мистер Кочек, не лучше ли нам договориться с вами?
— О чем?
— О цене поставляемого бензина.
— Я же сказал вам, что не уполномочен вести переговоры об этом.
— Мы с вами деловые люди и можем говорить деловым языком, — проговорил итальянец, наклоняясь к Василию. — Не имея полномочий вести переговоры о ценах, вы, как доверенное лицо компании, можете повлиять на своего хозяина и добиться для нас некоторых льгот с учетом сложившейся ситуации. Пусть компания сделает нам небольшую скидку или, на худой конец, поставляет бензин по прежней цене. В первом случае вы получите два процента от общей суммы скидки, во втором — полпроцента. Учитывая, что мы собираемся покупать у вас горючее в больших, очень больших размерах, эти проценты составят солидную сумму… Согласны?
— Нет, у нас не принято совершать за спиной патрона какие-либо сделки, да и я достаточно богат, чтобы не прибегать к сомнительным способам наживы.
— Куртажные всегда, во всем мире считались законным заработком, — сказал синьор Мачарелли.
Василий пропустил его слова мимо ушей.
— Итак, вы свяжетесь с Римом и дадите мне окончательный ответ. Когда я могу ждать его?
— Полагаю, завтра в это время.
— Синьор Мачарелли, может быть, сейчас, когда мы закончили деловые разговоры, выпьете что-нибудь? — Василий открыл буфет и достал бутылку вина.
— Благодарю вас, я не имею привычки пить спиртное днем. — Синьор Мачарелли чопорно откланялся и ушел.
Он позвонил на следующий день точно в условленный час и попросил отсрочки для окончательного ответа еще на два-три дня.
В тот же день, вечером, выйдя с Лизой из отеля, Василий увидел «отца» и не успел опомниться, как тот помахал рукой, что-то крикнул и быстро подошел к ним, будто удивляясь и радуясь случайной встрече со старыми знакомыми.
— Вот уже третий час торчу на улице, ожидая вашего выхода, — сказал он, понизив голос.
— Вы бы зашли к нам в номер. — Василий с первого взгляда заметил, что «отец» не совсем оправился после болезни.
— Я считал неудобным так просто заявиться к вам в гостиницу. Вы, мои дорогие дети, должны знать, что Женева стала центром мирового шпионажа еще со времен мировой войны и остается таковым по сей день. Здесь кишмя кишат разведчики всех мастей и рангов, так что осторожность не мешает. Я почти не сомневаюсь, что за тобой следят если не пять пар глаз, то четыре наверняка. Они много дали бы, чтобы узнать, какие переговоры ведет этот американец с представителем итальянской нефтяной компании!
— Вы знаете об этом? — не без удивления спросил Василий.
— Ну, брат, если я не буду знать таких простых вещей, то грош мне цена в базарный день!.. Ладно, не будим больше говорить об этом. Зайдем лучше в какое-нибудь малолюдное кафе, поужинаем, побеседуем без помех, — предложил «отец» и повел Василия с Лизой в кафе недалеко от Дворца наций, где обычно собирались журналисты.
Сели за мраморный столик, «отец» заказал обильный ужин и две бутылки дорогого вина. Когда гарсон подал заказанное, «отец» обратился к Василию и Лизе:
— Ну-с, рассказывайте теперь про свое житье-бытье. Что, кроме желания познакомиться с синьором Мачарелли, привело вас в этот город банков и страховых компаний? Василий, неужели ты так разбогател, что решил поместить свои капиталы в швейцарских банках?
— Не свои капиталы, а деньги оберштурмбанфюрера Отто Лемке, — ответил Василий и рассказал по порядку о всех своих делах в Берлине.
— Раз эсэсовец падок на деньги и счел возможным разоткровенничаться с тобой, — не робей, купи его на корню. Но особых поручений до норы до времени не давай, — он пригодится в будущем!.. Поддерживая связь с Гансом Вебером, обязательно познакомься с руководителем второй группы подпольщиков и помоги ему. По нашим сведениям, та группа действует более целеустремленно и активно. Майора, о котором ты говорил, попытайся привлечь к делу, если это не вызовет особых осложнений. Пока от тебя не требуется никаких активных действий, — будь осторожен, закрепляйся в Германии так, как сумел это сделать во Франции. Постарайся завоевать доверие властей, в том смысле, чтобы они думали о тебе как о дельце, спекулянте. Будь в курсе событий и информируй нас, но не рискуй, на рожон не лезь… Главное — подготовить надежных людей с тем, чтобы, когда настанет час, — дай бог, как говорится, чтобы такого часа никогда не настало! — ты мог бы перейти к активным действиям, и то только по нашей команде. А пока — информация и еще раз информация, причем надежная, проверенная, а порою и дублированная. Мы должны быть в курсе всех планов фашистов! — Закончив свои наставления, «отец» принялся за еду.
— Вы никогда не задумывались над тем, как мне нелегко? — спросил вдруг Василий.
— Что — нелегко?
— То, что я своими руками помогаю фашистам укреплять их режим, поставляя им столь необходимое для авиации и танков горючее. А теперь еще веду переговоры с представителем дуче о способе поставки итальянским фашистам бензина в случае войны с Абиссинией… Просто бред какой-то!..
— А ты рассуждай трезво, — спокойно сказал «отец». — Допустим, ты не будешь заниматься поставкой фашистам авиабензина, — что от этого изменится? Не ты, так другой будет поставлять им горючее. Лучше уж ты, — по крайней мере, мы будем знать потребность немцев в авиационном горючем и в смазочных маслах и сделаем соответствующие выводы.
— Разумом я тоже все это понимаю, а сердце протестует…
— Уверяю тебя, Василий, вы с Лизой делаете куда больше, чем тысяча краснобаев, воюющих с фашизмом на словах. Я уверен, что люди в будущем помянут всех нас добрым словом. Не так ли, Лиза? — «отец» повернулся к ней.
— Может быть, и так, — сказала Лиза. — Но нам тяжело, очень даже тяжело. И этого не скроешь… Мы ведь не день, не месяц и даже не год, а годами находимся в таком двойственном положении… Я бы скорее согласилась на любой опасный для жизни подвиг, чем годами жить так, как мы живем. — Голос у Лизы задрожал, и она замолчала.
— Слов нет, тяжело!.. — просто и как-то даже немного грустно сказал «отец». — То, чем занимаемся мы с вами, — не от хорошей жизни, от горькой необходимости… Раньше люди рисковали головой ради денег, наживы, мы же готовы положить головы на плаху во имя своих идей, убеждений, ради служения своему народу, и сознание этого укрепляет паши силы.
Не могу обещать вам, что вашей тяжкой работе скоро конец. Борьба будет долгой, мучительной, и вы нужны будете здесь, а не где-нибудь в другом месте, потому что вы с порученным вам делом справляетесь хорошо. Наберитесь терпения, мужества и продолжайте, дети, работу… А теперь перейдем к практическим делам. Отныне основным вашим связистом будет Стамбулов из Болгарии. Он часто будет приезжать к вам по торговым делам. Скоро он расширит свою торговлю бензином, маслами и явится к тебе, Василий, как к представителю компании, покупать товар, минуя монополии. Ты окажи ему возможное содействие и дай повод почаще приезжать в Берлин. Стамбулов хороший, проверенный товарищ. К фрау Шульц — больше никаких писем, забудьте ее адрес. По некоторым данным, она на подозрении у Сюртэ Женераль, и ей, бедняжке, скоро придется уехать из Франции, и на этот раз навсегда. В случае особой необходимости можете писать Сарьяну — он, в свою очередь, переправит ваше письмо куда следует. Сарьян честный, благородный человек. Как это ни парадоксально, фашизм способствовал тому, что все честные люди группируются вокруг коммунистов, и этот процесс будет продолжаться по мере усиления борьбы с фашизмом. — «Отец» допил свой бокал, закурил.
— Я вам уже писал, что Вебер просил помочь ему с типографским шрифтом, — сказал Василий. — Мне самому заняться этим рискованно.
— И не надо! Заниматься доставкой шрифтов и красок поручено Стамбулову. Он скоро доставит их тебе. Шрифты подели между обеими подпольными группами. Еще и еще раз советую основательно заняться оберштурмбанфюрером. На первых порах постарайся не пугать его поручениями, а прощупай, к чему его можно приспособить. Раз он в команде по охране имперской канцелярии, значит, человек весьма осведомленный!..
На прощание «отец» сказал, что, может быть, зайдет перед отъездом к ним в отель или позвонит.
Расставаться с «отцом» им, как всегда, было грустно, — он был для них частицей родины, живым воплощением той земли, где они родились и выросли…
Синьор Мачарелли явился наконец к Василию в отель и сообщил, что итальянская нефтяная компания согласна на условия, предложенные мистером Кочеком. Мистер Кочек должен обещать, что компания будет уведомлена заранее о времени прибытия танкеров с горючим в Гамбург, чтобы избежать ненужных и дорогостоящих простоев итальянских танкеров.
Наведя для Лемке справки в швейцарских банках о размещении денег под девизом, Василий посчитал свои дела законченными и возвратился с Лизой в Берлин.
В столице третьего рейха за эти дни ничего не изменилось. По-прежнему под оглушительные звуки духовых оркестров маршировали солдаты в стальных касках, в сапогах, подкованных железом, происходили факельные шествия по ночам, митинговали на площадях фашистские молодчики. И по-прежнему повсюду слышалось: «Хайль, хайль, хайль!»…
В отравленной атмосфере Берлина трудно было дышать, особенно после тихой Женевы. Но Василий, стиснув зубы, напустив на себя веселость и беззаботность, с новой энергией взялся за дела.
Прежде всего через О'Кейли он известил Адамса об итогах своих переговоров с Мачарелли, порекомендовал не делать никаких скидок, наоборот, обосновал целесообразность накинуть, в случае войны, несколько центов на галлон бензина и просил ускорить строительство бензохранилищ в Гамбурге, что значительно облегчило бы перекачку горючего в итальянские танкеры и создало бы видимость, что Италии бензин поставляет Германия.
Через день Василий получил большую зашифрованную телеграмму из Америки, в которой Адамс поздравлял своего уполномоченного с успешным завершением переговоров, уведомлял, что его доля в прибылях от продажи горючего Германии и Италии увеличивается на 0,1 процента, а также, что приняты все меры, чтобы закончить строительство бензохранилищ в ноябре.
О'Кейли, улыбаясь, сказал Василию:
— При постоянном нарастании поставок горючего Германии и Италии вы, мистер Кочек, заработаете кучу денег, участвуя в прибылях компании хотя бы на одну десятую процента! А если учесть еще доходы от продажи кофе и сигарет, то вы станете миллионером.
— А почему бы и нет? Не даром же мне торчать в этом фашистском раю и читать каждый день по утрам хвастливые передовицы «Фолькишер беобахтер» о том, как немцы скоро создадут великую Германию и завоюют весь мир, — шутя ответил Василий.
— По всем джентльменским кодексам, полагалось бы отметить такие успехи! — недвусмысленно намекнул генеральный консул.
— Хоть сегодня вечером — шикарный ужин в ресторане! Или дюжину виски сейчас.
— Лучше уж дюжину виски, а то в немецких ресторанах подадут вместо бифштекса капустные котлеты.
— Будет сделано! — Василий тотчас же заплатил в американской лавке за двенадцать бутылок виски и, сказав продавцу, что проиграл мистеру О'Кейли пари, велел отнести ему покупку.
Генеральный консул был прав: коммерческие дела Василия шли отлично и его доходы росли с каждым днем. За короткое время он успел переслать через капитана танкера Джо Ковачичу около тридцати пяти тысяч долларов — его долю в доходах — и столько же оставить себе. Это — кроме тех процентов, которые перечисляла компания на его текущий счет в нью-йоркский банк. Впрочем, расходы Василия тоже росли, — он вел широкий образ жизни, требующий больших денег, занимал целый особняк, содержал трех слуг, хорошо одевался, выписывал из Парижа наряды Лизе, ежемесячно платил фрау Браун обусловленную сумму, а после встречи с «отцом» оказывал еще существенную материальную поддержку обеим подпольным группам.
По возвращении в Берлин Василий встретился с Вебером на конспиративной квартире, сообщил, что скоро будут типографские шрифты, и попросил о двух вещах: устроить свидание с майором из генерального штаба, представив ему Василия под вымышленной фамилией, и свести его с руководителем второй подпольной группы, мастером Германом. На прощание вручил Веберу десять тысяч марок.
Как уже было сказано, Ганс Вебер отличался аккуратностью и пунктуальностью. На следующий день он познакомил Василия с мастером Германом и, представив их друг другу, сам тут же ушел.
Мастер Герман говорил медленно, как бы обдумывая каждую фразу, и внимательно прислушивался к словам собеседника.
— Мне давно сказали о вашем приезде в Берлин, — начал он, — однако я не сделал никаких попыток связаться с вами, считая это неудобным. Был уверен, что вы сами разыщите меня, если захотите… В нашей группе тридцать пять человек. Все это проверенные и абсолютно надежные люди, — они скорее пойдут на смерть, чем предадут. Кроме активных членов группы у нас еще более ста человек сочувствующих, в той или иной форме помогающих нам. Люди наши разбиты на пятерки, каждый из членов пятерки знает в лицо только своего руководителя. Руководители пятерок, в свою очередь, знают одного из руководящей тройки. Надеемся, что в случае провала одного звена уцелеют другие и организация сможет продолжать работу. К сожалению, делаем мало, но постепенно наращиваем силы для предстоящих битв, потому что уверены — такое время рано или поздно наступит…
Он умолк, и Василий подумал, что мастер Герман во многом отличается от Вебера, хотя оба они честные, убежденные люди, поставившие перед собой одну и ту; же нелегкую задачу — избавить Германию от позора, в котором она очутилась. Вебер был куда образованнее и подготовленнее во всех отношениях, чем Герман, но зато у последнего была ясность взглядов, глубокая вера в будущее и решимость.
— Я очень рад знакомству с вами и готов помочь вам всем, чем только смогу, — сказал Василий.
— Уже одно то, что о нашем существовании знают те, с кем связаны вы, — большая поддержка для нас; значит, мы не в одиночестве! — ответил мастер Герман. — Конечно, от помощи мы не откажемся. Наша главная задача — сколотить боевую, хорошо законспирированную организацию. Приближается семнадцатая годовщина Октябрьской социалистической революции в России, нам хотелось бы отметить эту дату — выпустить боевые листовки, распространить их по заводам и фабрикам хотя бы в Берлине, поддержать боевой дух немецкого пролетариата, напомнить, что Октябрьская революция — наша революция. К сожалению, у нас нет ни типографского шрифта, ни бумаги, а времени остается совсем мало. Наша заветная мечта — выпускать подпольную газету, доказать всем — друзьям и врагам, что пролетариат Германии живет и действует. Многое хотелось бы еще сделать, но наши возможности не соответствуют нашим желаниям…
— Скажите, товарищ Герман, как вы относитесь к группе Вебера, не хотели бы вы с ней объединиться?
— Крайне отраден факт существования такой группы, состоящей исключительно из либеральной интеллигенции. Это доказывает, что не только рабочие борются с фашизмом, но и все честные немцы. Мы согласились бы объединиться, — разумеется, на определенных условиях. Но они на это не пойдут — считают себя обособленной группой!.. Лучше уж мы установим с ними более тесную связь и будем действовать согласованно, — ответил мастер.
— Надеюсь, что скоро мои друзья достанут для вас типографский шрифт, а может быть, и бумагу. Не знаю, известно ли вам, что я занимаюсь торговлей и зарабатываю немало денег, — могу помочь вам и деньгами из своих собственных средств. Вот пока небольшая сумма, — Василий достал из кармана пачку денег и положил перед мастером Германом. — Тут десять тысяч марок, они вам безусловно пригодятся.
— Деньги действительно пригодятся… Вы же знаете, какие теперь у нас заработки. Лозунг — пушки вместо масла — продолжает действовать… Спасибо!
— Благодарить не нужно, мы делаем общее дело… Знаете, товарищ Герман, очень важно иметь своих людей на всех заводах и фабриках — особенно работающих на вооружение, на железной дороге, хорошо бы и в воинских частях. Но это — дело будущего. Что касается вашего отношения к группе Вебера, — вам виднее. Я могу сказать только одно: у вас и так мало сил, распылять их не стоит. Подумайте об этом!
Условившись о времени и месте будущих встреч, они разошлись.
В тот же день оберштурмбанфюрер Отто Лемке явился к Василию.
— Все в полном порядке, дорогой Лемке, — поспешил порадовать его Василий, — можете поехать в Женеву, явиться в банк с моей запиской, и там примут ваш вклад под любым девизом, какой вы изберете. Примут на хранение и драгоценности. Я обо всем договорился, не называя вашей фамилии. Если вам по каким-нибудь причинам не удастся поехать в Женеву, то я возьму на себя эту миссию во время своей следующей поездки туда.
— Ну, зачем же мне затруднять вас! Поеду сам — это мне ничего не стоит!
— Перед отъездом не забудьте зайти ко мне — за запиской… А теперь я позволю себе вернуться к нашему прошлому разговору. Скажите откровенно, как другу, — хотите подзаработать деньжат, причем в твердой валюте?
— Кто откажется от заработка! — воскликнул Лемке. — Мы все понемногу стареем. Нужно подумать и о будущем!..
— Золотые слова, каждый разумный человек обязан думать о старости, о потомстве. Таков закон природы! Одними идеями, даже самыми возвышенными, сыт не будешь, в конечном итоге все на свете определяется тем, сколько у тебя в кармане денег… Итак, я даю вам возможность заработать, требуя взамен самую малость — всякого рода информацию. Мне, представителю крупной американской нефтяной компании и коммерсанту, нужно знать все, что делается в мире сегодня и что предполагается на завтра, — иначе попадешь впросак!.. Вам, с вашим высоким положением, ничего не стоит собрать любую информацию — экономическую, международную, политическую. Предлагаю вам для начала триста американских долларов в месяц. Вы знаете, я не политик, — снабжая меня нужной информацией, вы ничем не рискуете. Если же собранные вами сведения будут особо ценными для компании, которую я представляю, гонорар ваш может быть удвоен!..
— Вы, дорогой мистер Кочек, легко убедили меня. Ваше предложение принимается, — ответил Отто Лемке и протянул Василию руку, которую тот крепко пожал с дружеской улыбкой на лице и с чувством гадливости в душе…
В эти дни произошло еще одно любопытное событие в жизни Василия. Преподавательница немецкого языка Катрин Хигель с некоторых пор стала проявлять повышенный интерес к мистеру Кочеку. Она кокетничала с ним, а однажды после урока спросила:
— Скажите, мистер Кочек, неужели вы никогда не развлекаетесь?
— Что вы под этим подразумеваете?
— Ну… вечеринки в интимном кругу, где можно немножко выпить, потанцевать, повеселиться, даже поухаживать…
— Вы же знаете, я женатый человек.
— Разве грех изредка встретиться с другой женщиной, немножко встряхнуться? Говорят, жена, какой бы она ни была красивой, со временем приедается!..
— Пока еще я этого не испытал.
Учительница не угомонилась и после такого достаточно сухого ответа.
— Можно задать вам еще один нескромный вопрос?
— Пожалуйста!..
— Я вам нравлюсь хоть чуточку?
— Вы отличная учительница.
— И это все? Боже мой! Многие мужчины находят меня очень привлекательной. Живя с мужем непродолжительное время, я сохранила не только фигуру, но и темперамент. Впрочем, могу познакомить вас со своей двоюродной сестрой, — ей всего семнадцать лет, она очень хороша…
— Вы очень любезны, фрау Хигель, но я не смогу воспользоваться вашим предложением. Я принадлежу к категории тех скучных мужчин, которые не изменяют своим женам. Может быть, это смешно, старомодно, но тут уж ничего не поделаешь! — Василий говорил все это мягко, даже дружелюбно и проводил учительницу, как всегда, до самых дверей.
А через месяца полтора заплатил ей до конца года и сообщил, что больше не нуждается в ее услугах. Таким образом, в окружении Василия стало одним агентом гестапо меньше.
Настал день седьмого ноября — дорогой праздник для каждого советского человека, где бы он ни находился. Василий и Лиза представляли себе праздничную Москву. Со всех концов ее стекаются к своим заводам, фабрикам, учреждениям и вузам трудящиеся, студенты, чтобы участвовать в демонстрации. Ровно в девять часов на Мавзолей Ленина поднимутся руководители партии и правительства, раздадутся звуки фанфар и на Красной площади начнется военный парад. На улицах — музыка, танцы, веселье. А здесь они не могут не только как-либо отметить свой праздник, но боятся даже показать вид, что он имеет к ним касательство. Встали они чуть свет и не спускали глаз со стрелки часов. Они мысленно были там — в Москве. Вот сейчас, без пятнадцати девять, прекратится доступ к трибунам Красной площади и на короткое время воцарится тишина. В их ушах звучат аплодисменты, — это на трибунах встречают руководителей партии и правительства, поднимающихся на Мавзолей. Войска давно выстроены. Звонят кремлевские куранты — ровно девять часов. Горнисты дают сигнал — слушайте все! И из Спасских ворот Кремля выезжает на коне Ворошилов, принимающий парад… Потом — короткая речь, поздравление с праздником и артиллерийский салют. Празднично и торжественно сегодня на Красной площади… А они, — единственное, что могли они сделать для праздника, это надеть лучшие платья, поехать в центр Берлина и там пешком пройтись по Унтер-ден-Линден, мысленно отсалютовать красному флагу с серпом и молотом, развевающемуся над зданием посольства.
Медленно прохаживаясь по противоположной стороне улицы, они видели, как советские граждане, живущие в Берлине, входили в посольство, чтобы принять участие в митинге, посвященном семнадцатой годовщине Великого Октября. Василий и Лиза завидовали каждому, кто свободно, без всякой опаски, открывал массивные парадные двери посольства. Вдруг Василий заметил на глазах у Лизы слезы.
— Нам только этого не хватало, чтобы гестапо заметило, как ты ревешь здесь, напротив советского посольства! — прошептал он, сжимая ее руку.
В ответ Лиза показала глазами на входящих в посольство.
— Какие они счастливые! — шепнула она…
В эти дни начали поступать тревожные сведения из разных источников. Первой об этом сообщила фрау Браун при очередной встрече с Лизой: имеются точные сведения, что фюрер дал согласие Муссолини поддержать его в войне Италии против Абиссинии. Больше того — из трех разных источников стало известно, что в Рим недавно ездил премьер-министр Франции Лаваль и заявил дуче, что французское правительство не станет препятствовать захвату Абиссинии. В иностранном отделе национал-социалистской партии, сообщила Браун, вопрос о нападении Италии на Абиссинию считают предрешенным.
Днем позже к Василию зашел оберштурмбанфюрер Лемке и тоже сказал, что в самое ближайшее время можно ожидать начала войны между Италией и Абиссинией.
— Наш фюрер, чтобы поддержать боевой дух итальяшек, отправил им три эшелона с вооружением и подарил Бенито Муссолини эскадру истребителей. Говорят, итальянцам пришлось основательно раскошелиться, чтобы склонить в свою пользу общественное мнение Франции. Будто бы на подкуп политических деятелей Франции, депутатов парламента и влиятельных журналистов они потратили кругленькую сумму, превышающую сто тридцать миллионов франков. Вот где можно подзаработать! — захлебывался восторгом Отто Лемке.
О предстоящем нападении Италии на Абиссинию сообщил Василию и. Вебер. В консульском отделе министерства иностранных дел знали, что война начнется в середине декабря.
Получив подтверждение о предстоящем нападении Италии на Абиссинию из трех источников, Василий через Стамбулова немедленно отправил «отцу» зашифрованное письмо.
Сведения, полученные от Вебера, оказались наиболее точными. В середине декабря 1934 года итальянские войска атаковали абиссинский отряд в оазисе Упа-Упа, расположенном в ста километрах от границы. Создалась реальная угроза военного конфликта. Италия усиленно стягивала войска к абиссинской границе.
Понятно, великие державы имели все возможности положить конец итало-абиссинскому конфликту в самом его зародыше, но они этого не сделали. 3 октября 1935 года вооруженные силы Италии вторглись в Абиссинию. Началась итало-абиссинская война.
Приняв закон о нейтралитете еще 31 августа того же, 1935 года, Соединенные Штаты Америки запретили поставку оружия воюющим сторонам. В резолюции, принятой совместно палатой представителей и сенатом, ничего не было сказано о стратегическом сырье, в том числе и о нефти. Несмотря на это, Василий получил от Адамса указание: отпускать итальянским танкерам авиационный бензин только через гамбургское бензохранилище, которое было готово к этому времени, чтобы не бросалось в глаза увеличение поставок горючего Италии.
Даже после того, как под давлением мирового общественного мнения Лига наций 7 ноября 1935 года была вынуждена признать Италию агрессором, ничего не изменилось.
В феврале 1936 года в Соединенных Штатах был принят новый закон, продлевающий срок нейтралитета и устанавливающий эмбарго на вывоз в воюющие державы стратегических материалов. О нефти и нефтепродуктах и в этом законе ничего не было сказано.
И все же Лига наций оказалась вынужденной приступить к обсуждению вопроса о запрете ввоза нефти в Италию. Представители Лондона и Парижа разволновались не на шутку: им стало известно, что десять государств — членов Лиги наций — дали согласие прекратить поставки нефти Италии. В числе этих государств были СССР, Румыния, Иран и Голландия, на долю которых приходилось около семидесяти пяти процентов поставляемой Италии нефти. Представители великих держав сделали все возможное, чтобы затянуть обсуждение вопроса о «нефтяных санкциях».
Пока под высокими сводами Дворца наций произносились горячие речи, танкеры, груженные американским бензином, держали курс к итальянским берегам, и дуче не испытывал ни малейшего недостатка в нефтяных продуктах.
Фрау Браун известила Лизу, что она печатала расшифрованную депешу, переданную послом Германии из Парижа, в которой говорилось, что 9 декабря 1935 года в Париже подписано секретное соглашение между премьером Франции Пьером Лавалем и английским министром иностранных дел Самуэлем Хором о мирном урегулировании итало-абиссинского военного конфликта. В этом соглашении предлагалось негусу Хайле Селассие уступить Италии значительную часть своей территории — несколько провинций, название которых фрау Браун не запомнила. По словам посла, такая уступка фактически свела бы на нет существование Абиссинии как суверенного государства, поскольку, в дополнение к территориальным уступкам, Абиссиния обязывалась принять к себе на службу итальянских советников и предоставить Италии ряд экономических привилегий. Лаваль и Хор, обходя Лигу наций, фактически продали члена этой международной организация, Абиссинию.
Получив эти сведения, Василий немедленно выехал в Гамбург, куда только что прибыл американский танкер, и через капитана Фрэнка Бема послал письмо Сарьяну с подробным описанием сделки Лаваля — Хора. Он просил журналиста известить «отца», а с сообщаемыми им, Василием, фактами поступить по своему усмотрению.
По-видимому, содержание секретного соглашения между двумя высокопоставленными представителями Франции и Англии просочилось в печать и по другим каналам. Газеты, широко комментируя это соглашение, подняли большой шум. Позорный сговор двух министров вызвал взрыв негодования во всем мире. Тем не менее послы Англии в Риме и Аддис-Абебе настойчиво добивались принятия условий Лаваля — Хора.
Взрыв возмущения скандальным предательством Лаваля был особенно бурным во Франции. В январе 1936 года премьер подал в отставку, получив всего двадцать голосов при голосовании вотума доверия в Национальном собрании. На смену Лавалю пришел Альбер Сарро, министром иностранных дел стал Фландон, и положение во Франции мало изменилось…
Вебер известил Василия, что майор, о котором в свое время шла речь, вернулся из командировки. Зять майора устроит у себя дома небольшую вечеринку, на которой и познакомит своего родственника с богатым американским бизнесменом Хексингом, то есть с Василием. Такой способ знакомства с сотрудником генерального штаба армии — тем более под вымышленным именем — таил в себе известный риск, но Василий согласился. Вечером следующего дня он отправился вместе с Лизой в гости к незнакомому человеку по адресу, полученному от Вебера. Хозяин дома, Иоганн Мейер, принял их, как старых знакомых, и пригласил в гостиную. Вскоре прибыл и майор Кольвиц, высокий, худой человек в очках, с изможденным лицом.
Майор чуть ли не с первых слов, не стесняясь присутствия постороннего человека, стал жаловаться на свою судьбу: его единственная дочь тяжко больна. Доктора никак не могут поставить правильный диагноз. У каких только светил медицины она не была, — все напрасно, одно разорение и никакого толка!..
Василию стало ясно, что майор знает, с какой целью его познакомили с богатым американцем. Когда мужчины остались одни, хозяин дома сразу перешел к делу:
— Ты хотел поместить дочку в санаторий, а денег на это у тебя нет, не так ли? Вот мистер Хексинг может ссудить тебя деньгами, если, конечно, ты согласишься.
— На что? — насторожился майор.
— Будем говорить откровенно. Ты, Фридрих, не нацист и не сочувствуешь им… Мистера Хексинга, как делового американца, интересуют планы наших генералов, уже поставивших однажды Германию на край гибели…
— Ты понимаешь, Иоганн, о чем говоришь? Это же пахнет виселицей, — тихо сказал майор.
— Не произноси такие страшные слова на ночь глядя! Кто и каким образом может узнать, что ты, встречаясь со знакомым американцем, делишься с ним некоторыми новостями, которые, кстати сказать, через короткое время перестают быть новостями?
— Это, конечно, так, но все-таки… — пробормотал майор.
В разговор вмешался Василий.
— Вообще-то совсем не обязательно, чтобы мы встречались с вами, — сказал он. — Вы можете поделиться новостями со своим родственником, нашим хозяином, а он со мной… Я возьму на себя все расходы по лечению вашей дочери. Надеюсь, три тысячи марок в месяц хватит?
— Да, конечно, — ответил майор и тут же добавил: — Я должен подумать…
— Подумайте, я вас не тороплю. Если надумаете, дайте знать через герра Мейера, — он меня найдет. Если лечение вашей дочери будет стоить дороже, я все равно приму на себя все расходы! — Василий хотел подчеркнуть, что за деньгами остановки не будет, — вы, мол, только начните работать, господин майор, и, если сведения, которыми вы будете меня снабжать, окажутся стоящими, вознаграждение будет увеличено…
Они поняли друг друга, хотя не
произнесли больше ни слова.
В эти бурные дни, когда события в Европе развивались с необыкновенной быстротой, в Берлин из Болгарии приехал Стамбулов.
Его провели в кабинет Василия, и он, назвав себя, сразу заговорил громко и возмущенно:
— Господин директор, войдите, пожалуйста, в мое положение! От этих оптовиков житья не стало, — бензин продаем мы, а деньги загребают они. Разве это справедливо? Нет… больше так не пойдет!
— Не волнуйтесь, — попытался успокоить его Василий, — скажите, чем я могу вам помочь.
— Я привез вам привет от «отца», — сказал Стамбулов, понизив голос, и снова громко заговорил: — Повторяю, больше так не пойдет! Я открыл большую керосиновую лавку, арендовал еще две бензоколонки на самых оживленных улицах столицы, хочу расширить дело и покупать бензин не румынский, а американский!.. Отправьте, пожалуйста, по моему адресу в Софию, несколько цистерн бензина и вагон автола… Где сказано, что мы, болгары, обязаны покупать и продавать только румынский бензин? Правда, они наши соседи, но что из этого? Все равно горючее нам они продают по ценам мирового рынка, да еще через посредников-оптовиков! — И снова тихо: — Я кое-что привез, мне нужно поговорить с вами…
— Хорошо, мы продадим вам бензин. Но оптовики поднимут большой шум… Я думаю, в покупке румынского бензина заинтересованы не только они, но кое-кто посильное. — И тоже понизив голос: — Я вызову юрисконсульта и дам ему указания. Когда закончите все формальности, заходите — поговорим…
Глауберг, получив указания, повел болгарина к себе, а Василий, оставшись один, подумал о том, что «отец» умеет подбирать людей. Стамбулов понравился Василию. Круглолицый, с черными усиками, густыми косматыми бровями, большими серыми глазами, он производил впечатление веселого, темпераментного человека. По-видимому, он был и опытным конспиратором: даже младенцу ясно, что человек, опасающийся полиции, будет вести себя тише воды ниже травы, чтобы не привлекать к себе внимание, а этот шумит, кричит…
Стамбулов вернулся к Василию с сияющим лицом.
— Кажется, все в порядке! — сказал он, развалившись в кресле. — Теперь я покажу своим конкурентам, на что способен Стамбулов! — И понизив голос: — Я привез типографский шрифт, полтонны бумаги. Шрифт в трех чемоданах находится в камере хранения. Нужно, чтобы надежный человек получил по квитанции. За бумагой придется послать машину и приготовить место, куда ее сложить. Лучше всего, если машина будет от какого-нибудь издательства, газеты иди журнала. У меня заготовлена доверенность, в нее нужно только вписать фамилию получателя.
— Как вы сумели перевезти через границу шрифт и отправить сюда такое количество бумаги? — спросил Василий.
— Подумаешь, дело какое!.. В фашистской Германии за деньги можно купить не только таможенного чиновника или железнодорожное начальство, но и самого Геринга! — весело сказал болгарин.
Василий взял у Стамбулова квитанцию камеры хранения, накладные, выданные отправителем бумаги, доверенность и, дав ему номер своего домашнего телефона, попросил позвонить после десяти вечера.
В тот же день он связался с мастером Германом и спросил, сумеет ли тот организовать получение чемоданов со шрифтом, бумаги и есть ли у него место для хранения ее.
— Какие же мы подпольщики, если не сможем получить и надежно спрятать то, что другие сумели провезти из-за тридевяти земель? Не беспокойтесь, все будет сделано! — сказал мастер.
— Часть шрифта и немного бумаги дадите Веберу, я ему обещал, — сказал Василий и попросил позвонить ему из автомата. — Если все будет в порядке, спросите: «Это справочная вокзала?» В случае непредвиденных осложнений зададите вопрос: «Можно заказать билет на Мюнхен?»
— Хорошо, позвоню. Но вы напрасно беспокоитесь, товарищ!
Однако Василий беспокоился, и даже очень. Шагая из угла в угол большой гостиной, он отчетливо представлял себе страшные последствия провала. Только около одиннадцати часов раздался наконец долгожданный звонок. Знакомый голос спросил: «Это справочная вокзала?»
— Нет, вы ошиблись! — весело ответил Василий.
16
Начало 1936 года было отмечено двумя важными событиями. Шестнадцатого февраля, во время выборов в кортесы, реакция в Испании потерпела серьезное поражение и было создано правительство республики во главе с Асаньи, впоследствии ставшим президентом. Двумя месяцами позже, на выборах в Национальное собрание Франции, победили левые и к власти пришло правительство Народного фронта.
В те дни английская консервативная газета «Дейли мейл» писала: «Если зараза коммунизма, распространяющаяся сейчас в Испании и Франции, перекинется на другие страны, то самыми полезными друзьями для нас оказались бы два правительства — германское и итальянское, уничтожившие эту заразу на своей земле». Эти строчки стали как бы сигналом для мировой реакции.
Василий получил озадачившее его телеграфное распоряжение мистера Адамса: срочно переадресовать прибывающие в гамбургский порт танкеры с авиационным бензином в Испанское Марокко и на Балеарские острова. А через день в контору к нему явился Отто Лемке и, объявив о своем скором отъезде в Испанию, сказал:
— Ну, мистер Кочек, можете меня поздравить: я буду участником величайших исторических событии и не исключена возможность, что мое имя будет записано в анналах истории золотыми буквами!.. Мы в Испании уничтожим всех евреев, коммунистов и прочих социалистов и тоже установим новый порядок! Ваша родина, Америка, нам не помеха, — она объявит нейтралитет и ни во что вмешиваться не будет, Англия же целиком на нашей стороне. Остаются французики, но что они смогут сделать одни?
— Откуда вам все это известно? — со скучающим видом спросил Василий.
— Отто Лемке не такой человек, чтобы бросать слова на ветер!
— Все может быть… Не думаю только, что Англия целиком на вашей стороне…
— Не верите? — усмехаясь, спросил Лемке.
— Политик я плохой, не могу этому поверить!
— А если докажу?.. Хотите пари?
— Дорогой Лемке, к чему мне это пари? Да и чем вы сможете подтвердить свои слова?
— Документами, подлинными документами!.. Я представлю вам копию стенограммы недавних бесед представителя Великобритании с нашим фюрером… Вы будете удовлетворены?
— Если только стенограмма будет подлинная.
— Дорогой Кочек, неужели вы…
— Сколько это будет стоить? — перебил его Василий, понимая, что оберштурмбанфюрер затеял весь этот разговор, чтобы предложить ему секретный документ.
— Тысяча долларов! — был ответ.
— Не слишком ли дорого?
— Дорого? В другом месте за такой документ дали бы куда больше, но я уступаю вам по-дружески…
— Согласен. В конце концов, если даже переплачу, — неважно, мы же друзья… Давайте документ и получайте деньги!
Вечером того же дня Лемке явился в особняк Василия и вручил ему один-единственный лист папиросной бумаги, наполовину заполненный машинописным текстом.
— И это все?! — разочарованно воскликнул Василий.
— В документе важно не количество строк, а его содержание. Прочитайте и вникните!.. Дело в том, что в Берлин приехало доверенное лицо премьер-министра Англии Болдуина, сэр Томас Джонс, чтобы позондировать возможность переговоров между Англией и Германией. Гость беседовал с Риббентропом, а на следующий день был приглашен к фюреру. Теперь поняли, что дело идет не о пустяках? Вы держите в руках не что иное, как копию стенографической записи беседы Джонса с Гитлером. Учтите, стенограмма была перепечатана всего в пяти экземплярах, — у вас пятый экземпляр. — Лемке взял бумагу из рук Василия и стал читать: — «Джонс сказал фюреру, что, по мнению английского правительства и, в частности, по личному мнению премьер-министра его величества, сэра Болдуина, победа Народного фронта во Франции и неизбежность гражданской войны в Испании сделали особо важным сближение позиций Германии и Англии…» Обратите внимание, последние слова подчеркнуты. И далее: «Фюрер ответил собеседнику, что вполне согласен с ним, и заявил, что он, в свою очередь, намерен содействовать осуществлению общего плана».
— А что это значит — «содействовать осуществлению общего плана»? — спросил Василий.
— Что же тут непонятного? Общими силами окончательно и безоговорочно искоренить коммунизм! Для достижения этой цели — прежде всего поднять военный мятеж в Испании и покончить там с республикой, потом справиться с Народным фронтом во Франции. Скажу вам под большим секретом, — как только диктор радиостанции Сеуты скажет: «Над всей Испанией безоблачное небо», — начнется горячее дело, в котором примет участие и ваш покорный слуга, оберштурмбанфюрер Отто Лемке!
Сообщения эсэсовца и документ, проданный им, были настолько важными, что нужно было немедленно поставить в известность «отца». Утром следующего дня Василий поручил юрисконсульту срочно вызвать в Берлин торговца бензином Стамбулова, — пора было всерьез подумать о завоевании болгарского рынка…
Стамбулов не заставил себя ждать, через два дня он уже сидел в кабинете Василия и, слушая его, кивал головой.
— Я вас понял и по приезде немедленно передам… Вот сволочи!.. Значит, решили утопить в крови республику, а англичане опять в своей излюбленной роли, — сказал он, и его жизнерадостное лицо стало озабоченным.
— Похоже на это, — невесело ответил Василий.
— Знаете, с покупкой у вас бензина получилось здорово, — сказал, помолчав, Стамбулов. — Вполне естественно, что коммерсант, расширяя дело, хочет избавиться от посредников и заработать побольше. Вы бы видели, какой переполох поднялся среди наших оптовиков, когда цистерны с американским бензином и вагон автола прибыли на товарную станцию Софии!.. Теперь у меня есть основания приезжать сюда, в Берлин, когда захочу, не вызывая ни у кого ни малейшего подозрения. Нужно же мне отрегулировать дело с поставщиком!
В тот же день Стамбулов уехал.
Оберштурмбанфюрер Отто Лемке говорил правду, — по сигналу радиостанции, передавшей в эфир условный сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо», начался военный мятеж под руководством Санхурхо. Фашисты выступили в Испанском Марокко, на Канарских и Балеарских островах. Начался мятеж и на севере Испании. После гибели Санхурхо во время авиационной катастрофы мятежом стал руководить генерал Франко.
Майор Фридрих Кольвиц передал Василию через своего родственника Иоганна Мейера сведения о том, как и чем помогают Германия и Италия испанским мятежникам. В частности, он сообщил, что дуче поставляет мятежникам десять тысяч винтовок, двадцать тысяч ручных гранат, двести пулеметов и полтора миллиона песет наличными. Гитлер отправил в Испанию, в помощь Франко, воздушный корпус «Кондор», насчитывающий более ста боевых самолетов и четыре тысячи пятьсот человек личного состава. По сведениям майора, генералитет немецкой армии принял решение испытать в Испании пикирующие бомбардировщики и тяжелые танки.
В то время когда фашистская авиация уже четыреста шестьдесят два раза бомбила испанские города, а позже переправила туда двести пятьдесят тысяч итальянских и пятьдесят тысяч немецких солдат и офицеров, великие державы — Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки — разыграли постыдный фарс, провозгласив через Лигу нации политику невмешательства, поставив тем самым знак равенства между законным правительством республики и мятежниками, и воспретили продажу оружия и стратегических материалов обеим сторонам.
Кто-кто, а Василий хорошо знал, сколько нефти и нефтепродуктов поставляется генералу Франко в обход закона «невмешательства». Первоначально горючее поставлялось Франко в кредит. В Берлин к Василию явился представитель мятежников, чтобы вести расчеты и выдавать компании векселя. Василию было известно также, что отец Джо, Ковачич-старший, поставляет испанским мятежникам огнестрельное оружие, главным образом пулеметы и пушки, и загребает миллионы на этом.
Социалист Леон Блюм, возглавлявший тогда правительство Франции, проводил трусливую политику, открыто заявляя, что поддержка республиканцев в Испании может привести Францию к войне с диктаторами. Генеральный комиссар испанской республиканской армии, Альварес дель Вайо, бросил Леону Блюму в лицо: «…Если вы будете по-прежнему занимать уклончивую позицию, то обещаю вам, что всякий раз, когда в окопах падет испанский социалист, его последней мыслью будет проклятье вам. Он сможет сказать: „Мой убийца — Леон Блюм…“
Только Советский Союз да вооруженные интернациональные бригады, стекавшиеся в Испанию со всех концов земного шара, грудью защищали правое дело республики, понимая, что гражданская война на земле многострадальной Испании есть не что иное, как начало большой войны с фашизмом…
Нежданно-негаданно в Берлин приехал Сарьян и первым делом позвонил Василию.
— Алло, мистер Кочек!.. Не узнаете?
— Сарьян?! Неужели?
— Он самый, собственной персоной!
— Где вы, откуда звоните?
— В Берлине. Звоню из отеля «Адлон».
— Спуститесь на улицу. Я сейчас заеду за вами, хочется поскорее обнять вас!
Сидя в автомобиле, по дороге домой, Василий узнал, что Сарьян приехал в Берлин специальным корреспондентом своей газеты с заданием освещать приезд в Германию дуче и прием, который будет оказан ему Гитлером.
— Неужели встреча двух диктаторов такое событие, что газеты посылают специальных корреспондентов? — спросил Василий.
— Дело, разумеется, не во встрече, а в том, что под нею кроется. Есть точные сведения, что Италия присоединится к антикоминтерновскому пакту, заключенному между Германией и Японией в тысяча девятьсот тридцать шестом году. Ну, а Гитлер сделает все, чтобы получить согласие дуче на аншлюс Австрии…
Лиза была искренне рада неожиданному гостю.
— Ах, мсье Сарьян, вы не можете себе представить, как мы тут одиноки и с каким восторгом вспоминаем время, проведенное в вашем доме под Парижем! Как вы поживаете, как Жаннет?
— Благодарю вас, все более или менее в порядке, если можно назвать порядком наше бурное время!.. Мы с Жаннет тоже часто вспоминаем вас и боимся, что те счастливые дни утрачены безвозвратно… — Журналист, всегда оживленный, жизнерадостный, сегодня казался задумчивым, встревоженным; В его волосах прибавились серебряные нити, под черными, как маслины, выразительными глазами обозначились темные круги.
Василий достал из буфета вермут и наполнил бокалы.
— Выпьем за благополучие, за то, чтобы в мире восторжествовал разум! — Он поднял бокал.
— Аминь! — ответил Сарьян и выпил.
— Рассказывайте же, что делается в Париже?
— Веселого мало… Вы читали, конечно, о падении кабинета Леона Блюма?.. Предав испанских республиканцев, проводя двусмысленную политику, — я бы сказал, подлую и трусливую, — Блюм сам, своими собственными руками, убил Народный фронт и открыл путь для наступления реакции. Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что новое радикал-социалистическое правительство Шотана — Блюма готово пойти на любые уступки диктаторам, лишь бы избежать воины. Все понимают, что Гитлер в самое ближайшее время собирается захватить Австрию, а потом возьмется за Чехословакию. Но никто ничего не предпринимает, чтобы положить конец домогательствам диктатора. Влиятельный депутат Фланден заявляет во французском Национальном собрании: «Не будем проявлять героизм ради Австрии, — лучше укроемся за нашей линией Мажино». Пацифистски настроенный профсоюз учителей вторит ему: «Мы предпочитаем получить пощечину, чем пулю в лоб!..» Потомки Великой французской революции из-за своей трусости рискуют остаться один на один с вооруженной до зубов, жаждущей реванша и мести Германией!..
— А как ведут себя мои друзья: де ла Граммон, Маринье, художник Борро?
— Де ла Граммона выбрали на дополнительных выборах депутатом Национального собрания. Насколько мне известно, он занимает четкую позицию и возглавляет в парламенте группу последовательных антифашистов. Маринье как был чиновником, так им и остался, хотя и считает себя человеком прогрессивных взглядов. Ненавидя фашизм, он в равной степени ненавидит коммунистов, социалистов и всех, кто представляет интересы простых людей… Молодцом оказался ваш Борро. Весною он выставил свою новую картину под названием «Родина», вызвавшую восторг у истинных патриотов. Борро считается выдающимся прогрессивным художником Франции. Такого не сломаешь и не купишь, — у него твердые убеждения, он будет бороться за Францию до конца!..
На следующий день Сарьян выехал в Мюнхен, чтобы присутствовать на церемонии встречи фюрером Муссолини.
Встреча, обставленная необыкновенно пышно, состоялась 25 сентября, а утром «Фолькишер беобахтер» напечатала на первой странице отчет о ней. Дальше шло описание того, как фюрер и дуче шествовали от вокзала до города, между двумя рядами бюстов римских императоров, преемником которых считал себя Муссолини. Над большой площадью, где толпы людей приветствовали дуче, на высокой колонне возвышалась гигантская буква «М»…
Через два дня фюрер и дуче приехали в Берлин. Василий был свидетелем этого «события». Муссолини стоял на переднем плане в роскошном открытом автомобиле, Гитлер занимал место позади него. Они торжественно проехали несколько километров по городу — от имперской канцелярии до Олимпийского стадиона.
28 сентября, в семь часов вечера, в Берлине состоялся огромный митинг. Радиостанции всей Германии передавали, как Гитлер приветствовал своего гостя — «одного из величайших людей всех веков, одного из тех редких гениев, которых создает не история, а которые сами творят историю…». В ответ Муссолини тоже не поскупился на громкие слова: «Когда фашизм имеет друга, он идет с ним до конца. Завтра Европа станет фашистской и сто пятнадцать миллионов человек поднимутся как один в несокрушимой решимости…»
Поздно вечером, проводив Сарьяна до калитки, Василий увидел на боковой дорожке листок бумаги и поднял его. У него дрогнуло сердце, когда он понял, что держит в руке газету, размером с листовку, под названием «Красное знамя» — орган подпольной антифашистской организации Германии». А в левом краю, сверху, было набрано мелким шрифтом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Значит, подпольная организация живет и действует, — мастер Герман сдержал слово. Но как подпольная газета оказалась здесь, на садовой дорожке? Подбросил садовник Мюллер, хотел показать богачу-американцу, что рабочий класс Германии жив и действует?..
При очередной встрече с Василием Вебер без обиняков высказал свое недовольство появлением подпольной газеты под старым названием — «Красное знамя».
— Не понимаю, чего можно достичь изданием крошечной газеты определенного направления? Какой смысл дразнить фашистов, навлекать на себя ярость гестапо? — сказал он.
— Дорогой Вебер, не целесообразнее ли нам с вами проявить терпимость и широту взглядов? Пусть каждый борется с фашизмом, как сочтет нужным, — в данном случае хороши все средства! — ответил Василий.
Появление подпольной газеты произвело большое впечатление на рабочих берлинских заводов и фабрик. Газету читали все, даже те, кто был далек от активной борьбы. Агенты гестапо рыскали по заводам и фабрикам, хватали подозрительных лиц, по так и не смогли узнать, где и как печаталась газета.
О том, насколько власти встревожены появлением газеты, сообщил Василию Лемке, недавно вернувшийся из Испании.
— Удивительно живучи эти коммунисты! — возмущался он. — Казалось, всем им конец — упрятали в концентрационные лагеря не только членов этой партии, но и всех им сочувствующих. А они все еще сопротивляются, даже издают газету! Гитлер приказал достать их хоть из-под земли. Иначе, говорит, всех расстреляю!.. Смелые они люди, ничего не скажешь, — неожиданно закончил он.
— О ком это вы, герр Лемке?
— Да о коммунистах! Подумать только, все дрожат от страха, а они издают газету, призывают к сопротивлению. Сегодня весь мир, даже надменные англичане, склоняет головы перед нами, а коммунисты бунтуют и призывают бунтовать других!..
— Почему вы думаете, что газету издали коммунисты, и не увлекаетесь ли вы, дорогой друг, утверждая, что перед вами склоняет голову весь мир? — По лицу Василия пробежала еле заметная улыбка.
— Увлекаюсь? Нисколько!.. Подумайте сами. С Испанией мы справились? Еще как! Перебили в ней всех коммунистов, социалистов, анархистов, евреев и всякую нечисть. А французы и англичане при этом только делали вид, что не одобряют наши действия, а на самом деле радовались нашим успехам в Испании. Сейчас очередь за Австрией и Чехословакией. Покончим с ними, — глядишь, все Балканы будут наши. Отсюда до мирового господства один шаг. Конечно, без Америки, — поправился Лемке, чтобы не обидеть американца.
— Вы считаете, что присоединение Австрии к рейху и захват Чехословакии предрешены?
— Еще бы не считать!.. Разве вы не слышали о приезде в Берлин австрийского канцлера Шушинга? Приняв его в имперской канцелярии, фюрер сказал, что если тот будет и дальше упрямиться, то он, Гитлер, прикажет разбомбить главные города Австрии, а некоторые из них стереть с лица земли, как это было сделано в Испании. Ну, Шушинг капитулировал и дал согласие предоставить австрийскому нацисту Зейс-Инкварту важный пост в своем кабинете… Имейте в виду, что это только начало, — восьмая немецкая армия стоит наготове у австрийской границы… Что же касается Чехословакии, то план «Грюн» давно утвержден и Чехословакия как самостоятельное государство перестанет существовать не позже конца этого года!..
— Но разве французы допустят, чтобы вы прикарманили два самостоятельных государства Центральной Европы?
— Дорогой мой, наш фюрер отнюдь не простачок! Он заранее договорился обо всем с англичанами, а французы и пикнуть не посмеют без англичан!.. Мы и Францию раздавим в два счета. Не беспокойтесь, Гитлер все рассчитал заранее, осечки не будет!
— Похоже, что вы правы. Заключать с вами пари я не рискую.
— И хорошо сделаете, тут пахнет явным проигрышем!.. У меня просьба к вам, — Лемке заискивающе улыбнулся. — Не согласились бы вы положить к себе в сейф кое-какую мелочь?.. Мне неудобно держать это дома…
Он достал из кармана брюк плоскую жестяную коробочку и, открыв ее, высыпал на стол бриллиантовые кольца, серьги, колье.
— Испанская добыча? — сдерживая негодование, спросил Василий.
— Угу, — самодовольно промычал оберштурмбанфюрер.
— Положите коробочку в сейф, пусть лежит… Надеюсь, расписки не потребуется?
— Что вы, конечно нет! — Лемке аккуратно собрал драгоценности в коробочку и положил ее в сейф.
— Герр Лемке, услуга за услугу. Я тоже попрошу вас кое о чем. Вам, конечно, известно, что компания, которую я имею честь представлять, имеет большие интересы в Чехословакии — более шестидесяти процентов нефти и нефтепродуктов, потребляемых этой страной, поставляем мы. Нас крайне интересует все, что касается ее. Попрошу вас собрать подробнейшие сведения о планах Германии в отношении Чехословакии. Само собой разумеется, что за вознаграждением дело не станет.
— Положитесь на меня, для вас я сделаю все, даже невозможное! — ответил Лемке.
Василий, как всегда, решил продублировать сведения, полученные от оберштурмбанфюрера касательно Австрии. Майор Кольвиц из генерального штаба не только подтвердил слова Отто Лемке, но назвал даже точную дату вторжения немецких войск на территорию Австрии — 12 марта 1938 года.
И он не ошибся: в этот день, на рассвете, 8-я немецкая армия вторглась на территорию Австрийской республики и, не встречая никакого сопротивления, быстро оккупировала ее. На следующий день «имперским законом» Австрия была включена в состав рейха, а Гитлер обратился к австрийцам с балкона венской ратуши с речью: «Если из австрийского города, где я родился, провидение призвало меня к руководству рейхом, то оно не могло не возложить на меня миссию возвратить мою дорогую родину германскому рейху…»
В Берлине рейхсмаршал Геринг принимал поочередно послов иностранных государств и каждому говорил: «Отсутствие добросовестности со стороны канцлера Шушинга заставило нас действовать таким образом, как мы только что поступили…»
Посол Англии, Невиль Гендерсон, известный своими прогитлеровскими настроениями, попытался возразить. Он сказал Герингу: «Но, господин маршал, если даже канцлер и был недостаточно благоразумен, разве это основание для того, чтобы Германия совершила столь грубое насилие?»
На что Геринг ответил: «Слишком поздно! Гитлер уже в Вене…»
Фрау Эльза Браун регулярно встречалась с Лизой, охотно принимала от нее разные подношения, жаловалась на горькую судьбу одинокой, всеми покинутой женщины, делилась своими горестями… Боже мой! Гитлер окончательно покончил с понятиями морали и предоставил женщинам такие свободы, о которых они раньше и думать не могли… Сейчас немки, без всякого опасения, что они будут осуждены, ложатся спать с первым встречным мужчиной, а почтенные матроны, матери семейств, считают своим патриотическим долгом заводить молодых любовников из военных и открыто сожительствовать с ними. Нужно же усладить жизнь солдат фюрера!..
— Подумайте, мадам, при таком падении нравов, когда становятся доступными молодые девушки из хороших семей, кому нужна такая пожилая женщина, как я? — Это был не просто вопрос, а крик души фрау Браун…
По ее словам, поступающие за последнее время в иностранный отдел нацистской партии сведения касаются главным образом Чехословакии. По-видимому, во Франции и в Англии примирились с мыслью, что Гитлер рано или поздно захватит если не всю Чехословакию, то значительную часть ее.
Известный французский юрист, Жозеф Бартелеми, писал в газете «Тан»: «Разве есть необходимость в том, чтобы пожертвовать тремя миллионами французов ради сохранения трех миллионов чешских немцев под господством Чехословакии?»
Ему вторила английская газета «Дейли экспресс». В статье под заголовком «Снова чехи» говорилось: «Мы не любим этой братии. Невозможно, чтобы английское правительство взяло на себя обязательство заставить нас сражаться за такое полуразвалившееся государство, каким является Чехословакия».
Эльза Браун рассказывала: в иностранном отделе партии убеждены, что тезис: «Лучше быть побежденным с Гитлером, чем победить с Советами» — пользуется явным, все большим и большим успехом в кулуарах французского парламента…
Двадцать второго мая на чехословацко-германской границе немецкими таможенниками были убиты два словацких мотоциклиста. Оба государства приняли решение о мобилизации. Министерства иностранных дел Франции и Англии общими усилиями добились от Берлина и Праги отмены принятых мер. Есть основания для ликования, и французы ликуют: впервые объединенные усилия приводят к желательным результатам. Гитлер отступает.
Отто Лемке громко расхохотался, когда разговор коснулся этой темы.
— Ну и чудаки же эти французы, я вам скажу! Они всерьез уверились, что англичане заодно с ними и что фюрер испугался и отступил… Между тем об отступлении и речи быть не может, это только тактический ход со стороны нашего фюрера. Зачем дразнить гусей, когда и так известно, о чем думают англичане?
— О чем же, по-вашему, они думают?
— Англичане просто предупреждают своего партнера, чтобы французы не возлагали особых надежд на немощь Лондона.
— Не может быть!
— В политике все бывает. Неужели вам опять требуется доказательство? — Лемке с видом победителя полез в карман и, достав оттуда бумагу, протянул Василию.
Это была копия конфиденциальной ноты Форин Офис французскому министерству иностранных дел.
Черным по белому было написано: «Чрезвычайно важно, чтобы французское правительство не строило никаких иллюзий в отношении позиции английского правительства в случае, если совместные усилия, направленные на достижение мирного решения чехословацкого вопроса, не увенчаются успехом…»
— Наши ребята из разведки работают отлично, не правда ли? Не успели французы опомниться от шока, получив такую ноту, как ее точная копия была на столе у фюрера. Разве нужно быть большим мудрецом, чтобы понять: совместного выступления в защиту Чехословакии не будет! — сказал Лемке.
— Да, похоже на это, — ответил Василий.
В тот же день, переписанная Василием условным шрифтом, нота эта была переправлена Стамбулову в Софию для вручения «отцу»…
Пришла открытка от мастера Германа с просьбой сообщить: не нужен ли представительству «Стандард ойл» опытный счетовод со специальным образованием?
Такие предложения поступали часто от разных людей и никаких подозрений вызвать не могли. Открытка означала, что мастер Герман хочет встретиться с Василием.
— Мне хотелось показать вам кое-что, — сказал мастер, когда они встретились на конспиративной квартире. Он протянул Василию четвертый номер «Красного знамени», выходящего два раза в месяц. — Послушайте же, что тут написано! — Он надел очки и начал читать обращение к немецкому народу, напечатанное на первой странице.
«Дорогие соотечественники!
Есть люди, которые со слезами изумления на глазах радуются победам фюрера. Как же иначе, ведь он претворяет в жизнь вековые мечты немецких капиталистов и помещиков о великой Германии.
Да, Австрия силой присоединена к рейху, на очереди Чехословакия. У нас еще множество соседей, и они могут стать легкой нашей добычей, если этого мы пожелаем.
Дорогие соотечественники!
Запомните одну простую истину — нация, угнетающая другие народы, не может быть свободной сама. Подумайте о будущем, пока не поздно. Не способствуйте злодеяниям нацистов во главе с Гитлером, не позорьте свою родину, не вызывайте гнев и ненависть к нам других народов. Не забывайте, что рано или поздно наступит час расплаты.
Мы, антифашисты, призываем вас на борьбу с фашизмом. Преградим путь авантюрам, — трудящимся нужен мир, работа, дружба, а не великая Германия, построенная на могилах миллионов.
Долой фашизм! Долой войну! Долой Гитлера!
Да здравствует мир на земле и демократия!
6 июня 1938 года, г.Берлин».
— Ну как? — спросил мастер Герман, закончив чтение.
— Это как раз то, что сегодня и нужно! А что, товарищ Герман, есть у вас надежные связные на заводах и фабриках? Доходит газета до рабочих?
— А как же иначе? Неужели вы думаете, что мы печатаем нашу газету, преодолевая тысячи препятствий, рискуя головой, ради собственного удовольствия? У нас больше полсотни связных. Они успели уже распространить свежий номер. Кое-где газету расклеили на стенах курилок или подбросили в шкафчики рабочих…
…После Мюнхена гитлеровцы решили, что им дозволено все, что в мире нет силы, способной противостоять Германии. Готовясь к большой войне, они усилили репрессии внутри страны. Агенты гестапо арестовывали людей по малейшему подозрению, прямо на улице, и без суда и следствия отправляли их в концентрационные лагеря. Обыскам и арестам не было конца. Усилилась слежка и за иностранцами, — Василий чувствовал это на каждом шагу.
Однажды днем Лиза позвонила ему в контору и сказала, что только что арестовали садовника Мюллера, а теперь агенты полиции требуют, чтобы их впустили в особняк произвести обыск.
— Я заперла двери и отказалась впустить их в дом. Но они не перестают стучать, настаивают, чтобы им открыли, грозятся выломать двери… Не знаю, что делать?
— Прежде всего, не волнуйся. Двери не открывай, — не сломают, не бойся. Я сейчас приеду! — Повесив трубку, Василий позвонил генеральному консулу О'Кейли и помчался домой.
Агенты гестапо топтались у подъезда, не рискуя взломать двери богатого особняка, принадлежащего американцу.
— В чем дело, господа? — сердито спросил Василий. — Почему вы так ведете себя у моего дома?
Офицер сказал, верное, отрапортовал по-военному:
— По нашим сведениям, ваш садовник Мюллер является коммунистом и связан с подпольной подрывной организацией!
— Что же следует из этого?
— Дело в том, что при обыске мы ничего не нашли у него.
— Тем более непонятно, что вам нужно в моем доме!
— Он… я хотел сказать — Мюллер… мог спрятать свои бумаги у вас…
— Странная у вас логика, господин офицер!.. У садовника ничего не нашли и поэтому решили произвести обыск в доме американского подданного, представителя компании, снабжающей вашу страну нефтью. Считая такой поступок с вашей стороны актом совершенно недопустимого произвола и проявлением недружелюбия в отношении ко мне и компании, которую я имею честь представлять, я вынужден буду довести об этом до сведения рейхсмаршала господина Геринга! До получения удовлетворительного ответа временно прекращаю всякие операции!
— Но ведь мы не произвели у вас обыска! — Вид у офицера был растерянный, упоминание американцем имени всемогущего рейхсмаршала произвело на него впечатление.
В это время к калитке сада подкатил лимузин с дипломатическими номерными знаками. Из машины вышел генеральный консул Соединенных Штатов Америки в Берлине О'Кейли. Он отрекомендовался офицеру и осведомился: на каком основании и по чьему приказу полиция ворвалась в дом американского подданного и пытается произвести обыск?
— Вы, уважаемые господа, как видно, не понимаете разницу между подданными Чехословакии и Америки! Раз и навсегда зарубите себе на носу: то, что можно сделать с чехами и прочими народами, нельзя делать с американцами! Мы этого не допустим, понятно? Я вынужден буду официально протестовать против такого произвола! — О'Кейли вел себя предельно грубо.
Офицер повторил историю с Мюллером.
— Странно, вместо того чтобы предупредить мистера Кочека и оградить его от коммунистов, вы хотите произвести у него обыск! Уезжайте отсюда как можно скорее, иначе я вынужден буду позвонить господину Риббентропу.
Полицейские, поджав хвосты, как побитые собаки, ушли. Василий поблагодарил О'Кейли и пригласил его в дом выпить виски.
— Совершенно обнаглели эти немцы! Не понимаю, почему наши так церемонятся с ними, — раздраженно сказал О'Кейли после третьего бокала виски с содовой.
— Вы сами когда-то говорили — из боязни русских! — ответил Василий.
— Говорил… Знаете, чего я боюсь теперь? Как бы немцы не двинулись на нас, вместо того чтобы ударить по русским. Уж очень развязно они стали вести себя. В цирках существует неписаный закон — зверя, вышедшего из повиновения дрессировщику, убивают. Как бы то же самое не случилось здесь!
— Боюсь, что здешний зверь загрызет своего дрессировщика, он ведь давно вышел из повиновения! — сказал Василий…
Садовника Мюллера пришлось выручать при помощи Отто Лемке. Операция эта обошлась Василию в триста американских долларов. Мюллер вернулся дней через десять, худой, постаревший, с ссадинами на морщинистом лице.
— Что они сделали с вами, Мюллер? — участливо спросил Василий.
— Об этом не имею права говорить, я дал подписку, — сказал садовник и, помолчав, добавил: — Впрочем, вам можно доверять… Они били меня три раза в день, иногда и ночью… Все спрашивали про какую-то подпольную организацию, издающую коммунистическую газету… Вами тоже интересовались, мистер Кочек.
— И что же?
— Ничего… Ни о каких организациях я не имею ни малейшего понятия и вообще, скажу вам откровенно, политикой не интересуюсь. Нужно думать, что произошла ошибка — меня спутали с кем-то. Что же касается вас, то, разумеется, кроме хорошего, я ничего сказать им не мог…
— Приятно слышать, что работающий у меня садовник политикой не интересуется, иначе отвечать пришлось бы мне! Все же будьте осторожны и имейте в виду, что я поручился за вас.
— Этого я не знал…
Однажды, уйдя из конторы раньше обычного, Василий вернулся с полдороги обратно, вспомнив, что забыл портфель. У себя в кабинете он застал юрисконсульта Глауберга, — тот рылся в ящиках его письменного стола.
— Что вы тут делаете? — резко спросил Василий.
— Ищу копию последнего нашего письма к фирме «Фламме»… — Вид у юрисконсульта был растерянный.
— Почему вы ищете ее не в канцелярии, а у меня?
— Там ее нет…
— Сейчас проверим! — Василий позвонил и попросил секретаршу позвать делопроизводителя. Когда тот явился, велел ему принести папку с исходящими бумагами. — Мне нужна копия нашего последнего письма компании «Фламме», — если не ошибаюсь, о расчетах. — Он заметил, что Глауберг делает делопроизводителю какие-то знаки, и добавил: — Надеюсь, эта копия имеется у вас в делах, иначе вы немедленно потеряете работу!
Делопроизводитель вернулся через минуту с папкой и показал патрону копию письма.
— Смею вас заверить, — сказал он, — что документы у нас не теряются.
— Благодарю вас. Можете быть свободны.
Отпустив делопроизводителя, Василий снова спросил Глауберга:
— Так что же все-таки вы искали в ящиках моего стола?
Юрисконсульт молчал, на лице его выступили красные пятна.
— Еще один вопрос: откуда у вас ключи от стола?
— Они были здесь… Вероятно, вы забыли…
— Неправда! — Василий достал из кармана связку ключей в кожаном футляре и показал Глаубергу. — Что вы искали в ящиках моего стола и по чьему заданию это делали?
— Извините, этого больше не повторится… — выдавил из себя Глауберг, губы его дрожали.
— Не может повториться потому, что вас здесь не будет! Уходите немедленно и больше не попадайтесь мне на глаза!
Утром он приказал бухгалтеру отчислить Глауберга.
То, что случилось с садовником Мюллером и юрисконсультом Глаубергом, насторожило Василия. Может наступить такое время, когда фашисты ни с чем считаться не будут… «Нужно быть осмотрительней, не давать им ни малейшего повода для подозрений», — внушал себе Василий. Однако они с Лизой живут в фашистском раю не для того, чтобы увеличивать свои сбережения в американском банке, а чтобы заниматься делом. Опасным и нужным.
Отто Лемке, успевший накопить солидный капитал в швейцарском банке при помощи Василия, по-прежнему снабжал его ценной информацией. Неоднократные проверки получаемых от него сведений (для этого использовались фрау Браун и майор генерального штаба Фридрих Кольвиц) всегда подтверждали их правильность.
В конце февраля 1939 года Лемке явился к Василию хмурый, расстроенный. Ему кажется, пробормотал он, что фюрер начал зарываться и что это к хорошему не приведет…
— Что вы, герр Лемке, разве фюрер может зарываться?
— Представьте — может… Он затевает новую игру — хочет захватить всю Чехословакию.
— Но ведь фюрер сам подписал мюнхенское соглашение, гарантирующее неприкосновенность новых чехословацких границ!
— Ах, мистер Кочек, вы наивный человек!.. Какое значение имеет для Гитлера подпись на клочке бумаги? Сам поставил свою подпись, сам же может взять ее обратно… Есть приказ фюрера по армии — быть готовым для вторжения в Чехословакию, с целью полной ее оккупации, не позже 15 марта…
Прежде чем сообщить тревожную весть «отцу», Василий решил проверить ее. И Кольвиц подтвердил, что вторжение в Чехословацкую республику намечено в ночь на 15 марта.
В эту самую ночь, в то время когда немецко-фашистские войска вторглись в Чехословакию, президент республики Гаха сидел в одиночестве в огромном салоне новой имперской канцелярии. На столе перед ним лежал документ с коротким текстом. Время от времени Гаха наклонялся над документом и, морщась как от зубной боли, снова откидывался на спинку кресла. Ему было приказано Гитлером подписать этот документ, в котором говорилось, что «…он, будучи в полном сознании и здравом уме, вручает судьбу чехословацкого народа и всей страны фюреру и германскому рейху…».
Гаха понимал, что подписание такого документа — позорное предательство в отношении своего народа, но води сопротивляться у него не было. Он находился в полуобморочном состоянии. Ему сделали укол, и в конце концов он поставил свою подпись под документом…
Так перевернулась еще одна печальная страница в трагической летописи тех лет.
На очереди — вопрос о Данциге.
Требуя присоединения Данцига к Германии, а также предоставления права на сооружение собственной транспортной магистрали через «Польский коридор», гитлеровцы сулили Польше, в качестве компенсации, часть Советской Украины.
Реакционная клика, определявшая политику тогдашней Польши, отказалась от помощи Советского Союза и стала на путь открытого предательства национальных интересов польского народа.
7 апреля 1939 года итальянские войска вторглись в Албанию. 28 апреля германское правительство заявило о расторжении англо-германского морского соглашения и аннулировании германо-польского пакта о ненападении. 22 марта литовские правители скрепя сердце уступили Германии Мемельскую область с портом Мемель (Клайпеда) на Балтийском море. Днем позже Румыния подписала договор, по которому подчиняла свою экономику интересам германской промышленности. Гитлер заявил также претензии на бывшие немецкие колонии, захваченные Англией и Францией в итоге мировой войны, и предъявил территориальные требования к Польше.
Для отражения немецкой агрессии Советское правительство настойчиво предлагало западным державам организовать систему коллективной безопасности. Английские правящие круги вынуждены были пойти навстречу советским предложениям, главным образом для успокоения общественного мнения своей страны.
Начались длинные и бесплодные англо-франко-советские переговоры…
В это время в Берлин приехал Стамбулов и передал Василию, что англичане ведут переговоры не только с Советским Союзом, но и с Германией, причем немцы хотя и не делают из этого большого секрета, однако содержание переговоров не раскрывают.
— «Отец» просил передать вам, что чрезвычайно важно знать все подробности этих переговоров.
Прежде всего Василий обратился к Веберу. Однако тот занял на этот раз уклончивую позицию и сказал:
— К сожалению, в этом вопросе я не могу быть вам полезным…
— Но вы же работаете в министерстве иностранных дел, хотя и в консульском отделе. Неужели нет у вас друзей, знакомых, через которых вы могли бы узнать, кто из руководящих, государственных деятелей ведет здесь переговоры и о чем? Это крайне важно!
— Нет, не могу, — был ответ.
Отказ Вебера смутил Василия: что это — трусость или желание отойти от опасной политической деятельности?
Фрау Браун и раньше никогда не бралась доставать документы, не проходившие
через ее руки. Кольвиц вообще не шел в данном случае в счет: дипломатические переговоры — это не по его ведомству. Оставался один Отто Лемке.
Василий пригласил его к себе.
— Дорогой Лемке, мы с вами давнишние знакомые и имеем все основания доверять друг другу. У меня есть к вам просьба, или, если хотите, назовем это деловым предложением. Моему шефу стало известно, что англичане ведут двойную игру: начали переговоры с русскими в Москве об организации системы коллективной безопасности, что, по существу, направлено против Германии, и одновременно договариваются с руководящими немецкими деятелями о возможностях англо-германского союза. Шеф требует, не знаю, для каких целей, подробной информации. Не могли бы вы помочь мне в этом деле? Понимаю, задача довольно сложная, и перед расходами я не постою.
— Откровенность за откровенность: мне совершенно безразлично, для чего и для кого нужны вам эти сведения! — усмехнулся оберштурмбанфюрер. — Следовательно, не затрудняйте себя объяснениями… То, о чем пишет ваш шеф, соответствует истине. Англичане всегда любили вести двойную игру, но шалишь — нашего фюрера не перехитрить!.. Совсем недавно я слышал, как Розенберг говорил Гессу в приемной Гитлера, что англичане никогда всерьез не думали договариваться с русскими — они боятся большевиков больше, чем черт ладана, — а затеяли эту игру, чтобы поймать нас на удочку. Розенбергу известны все подробности того, что делается и говорится на этих переговорах, из английских же источников… Признаться, я не интересовался переговорами англичан здесь, у нас в Берлине, и уж конечно не располагаю никакими документами. Следовательно, я должен связаться с нужными людьми, понести какие-то расходы…
— Я же сказал вам, что перед расходами не постою, — напомнил Василий.
— Понимаю. Но вы знаете, я люблю во всем ясность. Какую сумму вы могли бы ассигновать на это дело?
— Лучше, если вы сами назовете цифру.
— Три тысячи американских долларов. Без запросов, не правда ли?
— Торговаться не буду, хотя и дороговато… Могу вручить вам сейчас тысячу долларов в качестве аванса, остальные потом. Учтите, что сведения эти нужны мне срочно, — ну, скажем, в течение трех дней. Ведь после того, как опубликуют коммюнике о завершении переговоров, наши с вами сведения никому не будут нужны.
— Коммюнике? Никакого коммюнике не будет! Вы забываете, что англичане продают не только русских, но и своих союзников — французов, Польшу тоже. Что касается сроков, то раньше трех дней ничего не успею сделать.
— Через три дня, вечерком, жду вас здесь. А теперь — рюмочку коньяку. Впрочем, нет, лучше дам вам две бутылки отличного греческого коньяка «Метакса», и вы разопьете их с друзьями! — Василию противно было видеть пьяную физиономию эсэсовца у себя дома.
Провожая Лемке, он спросил:
— Кстати, какое впечатление на гестаповцев произвело то, что я прогнал Глауберга?
— Его чуть не посадили за то, что он оказался таким идиотом и вел себя, как мальчишка. После истории с попыткой произвести у вас обыск берлинские гестаповцы получили нагоняй от высокого начальства. Им приказано быть с вами поосторожней. Так что можете спать спокойно!
— Я и так сплю спокойно!
В маленькой угловой комнатке, приспособленной Василием под рабочий кабинет, его ждал Стамбулов.
— Ну как? — спросил он.
— Через три дня получим необходимые сведения, а может быть, и кое-какие документы. Советую вам, во избежание всяких случайностей, эти три дня не выходить на улицу. Живите у нас, отдыхайте…
В назначенное время Лемке сидел в гостиной напротив Василия, пил маленькими рюмками коньяк и рассказывал. Время от времени он доставал из кармана документы, подтверждающие его слова, и передавал их Василию.
— Попытку начать переговоры с нами англичане сделали еще в начале тысяча девятьсот тридцать девятого года. Доверенное лицо британского премьера, Думмонд-Вольф, разговаривая с ответственным сотрудником нашего министерства иностранных дел Рюттером, сказал, что Англия готова отказаться в пользу Германии от большинства своих прав в Восточной и Юго-Восточной Европе и что политика Англии в отношении сотрудничества с Германией не изменилась после Мюнхена… Вот вам краткая запись этой беседы, — с этими словами Лемке положил перед Василием лист бумаги. — Личный секретарь Риббентропа, Кордт, в беседе с помощником заместителя министра иностранных дел Великобритании Сарджентом дал понять, что все усилия английского правительства достичь соглашения с Германией не будут иметь успеха, пока не прекратятся англо-франко-советские переговоры… Вот вам копия донесения нашего посла в Лондоне, — Лемке положил перед Василием еще один документ. — В донесении говорится, что в Англии разработана программа, одобренная Чемберленом, и что с нами будет заключен пакт о ненападении…
Восьмого августа, то есть накануне открытия московских переговоров, английское правительство предложило Гитлеру созвать конференцию пяти держав — Англии, Германии, Франции, Италии и Польши — для обсуждения вопроса о присоединении Данцига к Германии. Конференция должна была состояться без участия Советского Союза. Вот еще копня письма Чемберлена к Гитлеру, где предлагаются двусторонние польско-германские переговоры с последующим участием Англии… Думаю, что хватит!
Лемке налил себе еще одну рюмку коньяку и как бы между прочим сказал:
— Деньги попрошу перевести на мой текущий счет в швейцарском банке… Ваше здоровье, мистер Кочек!
В тот же вечер Стамбулов выехал к себе на родину.
На прощание Василий сказал ему:
— Скажите «отцу», что англичане замышляют новый Мюнхен, на этот раз для того, чтобы пожертвовать интересами Польши и втянуть Советский Союз в войну с фашистской Германией!..
Нового Мюнхена организовать не удалось. Виной тому были сами немцы: они предъявили англичанам требования, затрагивающие коренные экономические и колониальные интересы Великобритании, и тем самым убедили даже твердолобых политических деятелей в том, что договориться с Германией обычным дипломатическим языком невозможно, — для воздействия на Гитлера нужны более эффективные средства. В конце концов таким средством была признана угроза заключения военного союза между Англией, Францией и СССР.
Предложение начать военные переговоры было встречено правительством Советского Союза благожелательно: оно хорошо понимало, что только объединенными усилиями можно остановить немецкую агрессию и предотвратить пожар мировой войны. Английское правительство взяло курс на затягивание переговоров, предписывало своей делегации «обращаться с русскими сдержанно».
Главой английской делегации на переговорам был назначен адмирал в отставке Реджинадьд Планкетт Эрл Дракс, а во главе французской стоял малоизвестный генерал Думенк. К тому же они не были снабжены широкими полномочиями.
Опасаясь, что генерал Думенк может поставить вопрос о пропуске советских войск через Польшу, представитель Англии всячески отговаривал его от этого и фактически ориентировал на срыв переговоров.
На запрос, согласна ли Польша пропустить советские войска через свою территорию, был получен отрицательный ответ.
Стало очевидным, что нет никакого смысла продолжать переговоры, тем более что Советское правительство знало: англичане ведут переговоры и с немцами в Берлине.
Вечером 31 августа Василий узнал, что Гитлер принял решение напасть на Польшу 1 сентября. У Василия не оставалось времени, чтобы дать знать «отцу» об этом. Он поехал домой, поужинал и даже лег спать, но сон не шел к нему. Ему казалось, что он совершает преступление, ничего не сообщая «отцу». Он встал, оделся, сел в машину и, доехав до почты, отправил Стамбулову в Софию телеграмму: «Поставка бензина задерживается из-за крупной аварии танкера».
И только 3 сентября, когда немецкая авиация бомбила польские города, сея ужас и смерть, английское правительство, а затем и французское, под давлением общественного мнения, вынуждены были объявить Германии войну.
Жизнь в Германии становилась с каждым днем невыносимей. Василия, основного поставщика горючего, власти ограничили в бензине: тридцать литров в месяц — и ни капли больше. А еще спустя некоторое время военный комендант Потсдама известил его, что занимаемый им особняк предназначается под госпиталь, и предписал освободить дом в течение двадцати четырех часов. Пришлось спешно подыскать квартиру в самом Берлине. По всей Германии были введены карточки на все виды продуктов питания и предметов ширпотреба. Магазин для американцев был закрыт. Благо, у Василия денег было много, кофе и сигареты прибывали из Америки по-прежнему, а цены на них поднялись, он имел возможность доставать все необходимое.
За иностранцами, проживающими в Германии, была установлена строжайшая слежка. Стоило Василию выйти из дома, как возле пего словно из-под земли вырастали двое агентов и сопровождали его повсюду. Телефонные разговоры подслушивались, письма перлюстрировались, телеграммы проходили через строгую цензуру.
За Лизой тоже ходили по пятам, и ей стало нелегко встречаться с фрау Браун, — приходилось всячески изворачиваться, назначать свидания в самых различных местах.
Один Отто Лемке, пользуясь своим высоким положением, ничего не боялся и по-прежнему посещал Василия в конторе. Напустив на себя веселость и беззаботность, он сообщал новости с фронтов войны, хвастался тем, что фюрер поставил на колени всю Европу, а в минуты откровенности вздыхал и сетовал, что конца войны не видно и вряд ли она окончится победой немецкого оружия… Василий держался с ним сдержанно, старался не говорить ничего лишнего, но деньги платил ему по-прежнему аккуратно.
В эти тяжелые дни связь с «отцом» продолжала действовать безотказно: Стамбулов находил десятки способов, чтобы поддерживать эту связь. Радостно было еще и то, что, несмотря на неимоверные трудности, подпольщики не снижали активности. В начале войны группе мастера Германа удалось выпускать даже листовки с призывом саботировать войну, бороться всеми силами против авантюристов, толкающих Германию в пропасть. От мастера Германа Василий узнал и о причине странного поведения Ганса Вебера.
— Вебер — типичный немецкий интеллигент, воспитанный в чисто немецком духе. Он считает, что бороться против ненавистных нацистов и маньяка Гитлера нужно. Это даже благородно — рисковать головой ради своих убеждений. Но открывать иностранцу, даже другу, государственную тайну — это уже измена. Не думайте о нем плохо — Ганс Вебер по-своему честен, и ему вполне можно доверять!..
На второй год войны Бельгия, Люксембург, Голландия и большая часть Франции оказались под пятой немецких солдат.
Василий написал письмо Джо Ковачичу, ставшему консулом в Париже, с просьбой оказать покровительство его друзьям — журналисту Сарьяну и художнику Борро. Через некоторое время он получил от них ответ через того же Ковачича.
Сарьян писал, что он перешел на нелегальное положение, всеми силами помогает движению Сопротивления. «Я верю в непокорный дух французского народа и знаю, что он победит, а предателей своих пригвоздит к позорному столбу», — заканчивал он свое письмо. Из письма Борро было видно, что он тяжело переживал унижение своей родины. «Нет, что ни говорите, мы, французы, ничему но научились, и, пока нас не побьют основательно, мы не встряхнемся. Но уж когда встряхнемся, тогда покажем, на что мы способны. В том, что в конечном итоге мы побьем немцев, у меня нет ни малейшего сомнения, другой вопрос — каких жертв это будет нам стоить…»
В ноябре 1940 года к Василию пришел Отто Лемке. Он устало развалился в кресле и мрачно сказал, что у него паршивые новости.
— Стоит ли огорчаться, дорогой Лемке, — вся наша жизнь состоит из неприятностей! — попробовал пошутить Василий, но эсэсовец только махнул рукой.
— Есть сведения, что фюрер приказал генеральному штабу разработать план нападения на коммунистическую Россию, — сказал он.
— Что? — вырвалось у Василия.
— То, что слышали!.. Такой план вообще давно существовал, но ему особого значения не придавали… Только подумайте: не закончив войну на Западе, помышлять о войне с русскими!.. И вообще скажу вам доверительно, что воевать нам с русскими нельзя: коммунисты — фанатики, их не поставишь на колени… Знающие люди говорят, что они будут драться до последнего…
— Думаю, что на сей раз ваши опасения напрасны. Гитлер достаточно умен, недаром ведь он подписал с русскими пакт о ненападении.
— Чепуха! Нашему фюреру ничего не стоит порвать любые пакты и договоры, — он перед пустыми формальностями не остановится. Осведомленные люди утверждают, что фюрер отменил план вторжения на Британские острова. Поговаривают и о том, что готовится поездка в Англию одного из помощников Гитлера для переговоров с английским правительством, чтобы в войне против России заполучить Англию в качестве союзника.
— Нет, это невероятно!
— Вы удивительный человек, Кочек! Ничему не верите, вам обязательно подавай доказательства, не так ли?
— Да, именно так. Факты всегда нужны. А в особенности они нужны для подтверждения невероятных с точки зрения простой логики слухов, о которых вы только что рассказали!..
— Можно и факты! — процедил сквозь зубы Лемке, вытащил из внутреннего кармана кителя тоненькую книжечку в мягкой обложке и протянул Василию. — Скажите, пожалуйста, если страна не готовится к войне с русскими, тогда зачем это?
Василий держал в руках солдатский разговорник, рассчитанный на то, что фашистские войска вскоре будут на территории Советского Союза. Перелистывая странички, Василий читал: «Руки вверх», «Сдавайся, буду стрелять», «Где правление колхоза?», «Ты коммунист?», «Как зовут секретаря райкома?», «Давай хлеб, сало»…
— Похоже на то, что фюрер действительно затевает страшную игру, — сделав над собой усилие, как можно спокойнее сказал Василий. — А как же газеты сообщают о приезде в Берлин советской правительственной делегации, чуть ли не с Молотовым во главе?
— Подумаешь, делегация!.. Постараются заговорить русским зубы и поскорее выпроводить. Наши давно набили себе руку в такого рода делах. Кстати, Кочек, я решил бросить работу в иностранном отделе гестапо и, возможно, буду руководить нашей агентурой в нейтральных странах… Чего доброго, война может принять такой оборот, что потеряешь не только все накопленное, но и голову сложишь…
— Разумное решение!.. Слушайте, Лемке, вы не могли бы оставить у меня этот разговорник?
— Не знаю… — Лемке замялся.
— Сколько? — прямо спросил Василий.
— Тысяча долларов!
— Ну, это вы перехватили! Тысячу долларов за такую чепуху!.. Триста долларов, и ни цента больше. — Василий торговался с эсэсовцем, чтобы у того не сложилось впечатление, что американец чрезмерно заинтересовался разговорником. Немного подумав, он добавил: — Если хотите знать, нам выгодно, чтобы Гитлер ввязался в войну с русскими. Во-первых, русские охладят немного его пыл; во-вторых, а это главное, мы избавимся от залежей товаров!..
— Триста так триста, — сказал Лемке, пропуская мимо ушей рассуждения Василия, — только на этот раз наличными — может быть, скоро поеду в Швецию и Швейцарию!
Василий отсчитал эсэсовцу триста долларов и спрятал разговорник в сейф.
Он был сильно встревожен. До сих пор он собирал сведения о планах гитлеровцев в отношении других стран — Франции, Австрии, Чехословакии, Польши. Полученные же от Лемке сведения касались непосредственно его родины, — было от чего прийти в отчаяние. Живя столько лет в Германии, он близко узнал фашистов и отчетливо представлял себе, что будет, если им удастся вступить на советскую землю.
Нужно было действовать, — действовать безотлагательно, энергично и в то же время осмотрительно. Узнать все о планах Гитлера в отношении Советского Союза и как можно подробнее и вовремя известить «отца». Он решил пойти на риск и повидаться с Кольвицем. Работая в генеральном штабе, тот, безусловно, знал об этих планах. Нужно было заставить заговорить и фрау Браун, заплатить ей любые деньги.
Кольвиц ни за что не соглашался встречаться с кем-нибудь, кроме самого «мистера Хексинга», — это он оговорил в самом начале их сотрудничества. Встреча американца с работником генерального штаба, конечно, могла вызвать подозрения. Василий боялся не столько за себя, сколько за Кольвица, — если б того арестовали, то связь с генеральным штабом оборвалась бы. Кроме того, Кольвиц мог выдать подпольщиков, да и самого Василия. Но другого выхода не было. Василий с превеликим трудом связался с Вебером и попросил устроить ему свидание с Кольвицем.
Свидание состоялось поздно вечером. Василий рассчитался с Кольвицем за три последних месяца и только было хотел спросить о планах войны с Россией, как тот опередил его.
— Я знаю, зачем вы меня вызвали и что вас интересует, — сказал Кольвиц. — Да, это правда, есть директива разработать детальный план нападения на Советскую Россию. Но это вовсе не значит, что война является неизбежной. Специалисты считают, что воевать с русскими — безумие, тем более что придется воевать на два фронта, и они, конечно, будут всеми силами сопротивляться…
— А когда предполагается нападение на Россию?
— Этого я вам сказать не могу, просто не знаю.
— Герр Кольвиц, вы хорошо понимаете, как важно для компании, которую я представляю, знать это своевременно. Я заплачу вам любые деньги, если вы узнаете о предполагаемых сроках и известите меня.
— Допустим, я узнаю, но как вам сообщить? Скажу откровенно, встречаться нам с вами рискованно…
— Вы пришлете мне открытку. Но письмо, а именно открытку от имени хозяйки прачечной, куда мы обычно сдаем белье в стирку, и сообщите, что с меня следует столько-то марок. При умножении этой цифры на три должен получиться год. Скажем, вы напишете: «С вас следует 647 марок 23 пфеннига». При умножении этой суммы марок на три получится 1941, это год. Пфенниги означают месяц — февраль — и день — третий. Значит, третье февраля тысяча девятьсот сорок первого года. Надеюсь, вы освоили эту нехитрую комбинацию с цифрами? Повторяю, за деньгами остановки не будет, только сообщите мне вовремя!..
Сообщения газет подтвердились. 12 ноября 1940 года в Берлин прибыла специальным поездом советская правительственная делегация во главе с Молотовым. Вечером следующего дня делегация была принята Гитлером.
Василия мало интересовало содержание переговоров, он неустанно думал лишь об одном: как вручить кому-либо из членов делегации солдатский разговорник и сообщение о разработке немецким генеральным штабом плана нападения на Советский Союз.
Василий и Лиза пришли к заключению, что есть один только способ: Лиза проникнет в советское посольство и вручит одному из ответственных работников конверт для главы делегации.
Разработали детальный план, подумали и о мерах безопасности на тот случай, если вдруг агенты гестапо задержат Лизу. Лиза заготовила заявление на имя советского посольства с просьбой дать ей визу для поездки в Ленинград, навестить больную родственницу, — иначе почему она посетила советское посольство? Если ей зададут вопрос — почему же заявление осталось у нее? — она ответит: не приняли. Василий должен был остановиться со своей машиной в переулке, недалеко от Бранденбургских ворот, начать копаться в моторе и ждать возвращения Лизы. Если все обойдется благополучно, она должна держать сумочку в правой руке, если нет — в левой. Если же она вообще не явится в течение часа, то Василий поедет в американское консульство, чтобы принять меры для ее освобождения с помощью О'Кейли.
Ровно в десять часов утра, на Унтер-ден-Линден появилась элегантная дама и не спеша направилась к зданию советского посольства. В вестибюле открылось стеклянное окошко, и дежурный спросил, что ей угодно.
— Мне нужно поговорить с кем-нибудь из ответственных работников посольства, — ответила Лиза.
— По какому делу? — последовал новый вопрос.
— По чрезвычайно важному делу.
Окошко закрылось, и Лиза увидела, как дежурный поднял телефонную трубку и набрал номер. Она не слышала через толстое стекло, о чем говорит дежурный. Положив трубку, он открыл окошко и попросил Лизу подождать.
— Сейчас к вам выйдут, — сказал он.
Минут через пять у дверей, ведущих во внутренние помещения, появился молодой человек в отлично сшитом костюме. Он поклонился посетительнице.
— Вы хотели видеть сотрудника посольства? Я вас слушаю, — сказал он по-немецки.
— Здесь? В вестибюле…
— А где же еще?
— У меня важное, очень важное дело, — не личное, конечно… Не могли бы вы принять меня в своем кабинете?
— Пойдемте! — Молодой человек открыл перед Лизой дверь, провел ее в небольшой кабинет, усадил в кресло и сам сел напротив нее.
— Я вас слушаю, — повторил он.
— Простите… Но вы действительно ответственный работник? — спросила Лиза.
Хозяин кабинета улыбнулся:
— Я третий секретарь посольства.
— В таком случае примите этот конверт, — Лиза достала из сумочки конверт, протянула его секретарю, — вручите его как можно скорее главе советской правительственной делегации. Здесь сообщение о том, что Гитлер поручил генеральному штабу разработать план нападения на Советский Союз, и немецко-русский солдатский разговорник.
— Откуда у вас такие сведения и как к вам попал этот разговорник?
— Это вам не обязательно знать… Сведения абсолютно верные. Что же касается разговорника, то ведь он у вас в руках, — чего же больше?
— Ну что же… Кажется, вы правы. Благодарю вас!.. Будьте уверены, конверт будет вручен товарищу Молотову сегодня же… Скажите хотя бы свою фамилию…
— Фамилия моя ничего вам не скажет… Поверили мне — и хорошо!.. Скажите, меня не задержат гестаповцы, когда я выйду от вас?
— Нет, не посмеют. Особенно сейчас, во время пребывания здесь советской правительственной делегации. Вы только проследите, чтобы вас незаметно не сфотографировали!
— До свидания! — Лиза поднялась.
Секретарь посольства проводил ее до приемной. Здесь Лиза не выдержала и сказала по-русски:
— Товарищ, разрешите вас поцеловать!
Он молча нагнулся и поцеловал ей руку. Лиза коснулась губами его лба.
Когда она вышла, дежурный открыл свое окошко и, приложив палец к виску, повертел несколько раз, — у дамочки, мол, не все дома!
— Нет, брат, ошибаешься!.. Тут другое дело, — серьезно и задумчиво сказал ему третий секретарь.
Никто Лизу не задержал, и она, с сумочкой в правой руке, прошла мимо Василия, все еще копавшегося в моторе.
Это была последняя работа, выполненная Василием и Лизой в Германии. Они не знали тогда, что еще один экземпляр разговорника принес в советское посольство в Берлине немецкий рабочий-печатник…
О'Кейли пригласил Василия к себе и вручил ему телеграмму от Адамса. Шеф предлагал ликвидировать дела компании в Германии в течение десяти — пятнадцати дней, выехать в Женеву и там ждать дальнейших указаний.
— Чем это вызвано? — спросил Василий.
— Если быть откровенным до конца, то должен сказать вам, что это мы посоветовали мистеру Адамсу поступить так по ряду причин. Во-первых, за последнее время немцы стали усиленно интересоваться вашей личностью, — вот мы и сочли за благо выпроводить вас отсюда, пока не поздно… Во-вторых, мы вообще сворачиваем свои дела в Германии и рекомендуем всем американским гражданам постепенно, чтобы не вызывать ненужных подозрений у немцев, покинуть страну. Поезжайте в Женеву и ждите нас, мы тоже скоро приедем туда!
Ликвидируя дела нефтяной компании, Василий позаботился и о том, чтобы сохранить надежную связь с друзьями в Берлине.
В середине декабря 1940 года Василий и Лиза покинули негостеприимную землю третьего рейха.
17
Лига наций давно прекратила свое существование, и теперь великолепные дворцы ее, как старый, так и новый, построенный перед войной, пустовали. Под сводами их больше не велись горячие и бесплодные дебаты и напыщенные дипломаты не переливали из пустого в порожнее, с соблюдением всех правил риторики…
Но Женева по-прежнему полна была иностранцами. Много было американцев, много немцев, французов, англичан, итальянцев и даже японцев. Представители стран Латинской Америки орудовали в Швейцарии под видом корреспондентов различных газет и агентств, существующих и несуществующих торговых и финансовых фирм, акционерных обществ и страховых компаний.
Все отели и многочисленные пансионаты были битком набиты, и Василию не без труда удалось найти отдельную меблированную квартиру из четырех комнат на одной из тихих окраинных улиц.
Женева стала центром мирового шпионажа и разнузданной спекуляции. Разведчики стран следили друг за другом, на ходу ловили слухи, новости, сенсации, вербовали информаторов и осведомителей из среды дипломатического и военного персонала противников, создавали хитроумные способы связи. Представители фирм и компаний покупали и продавали все: стратегическое сырье, редкие металлы, готовые изделия и дефицитные товары. Агентам воюющих стран ничего не стоило купить сталь, нефть, подшипники, стальные тросы, навигационные приборы для самолетов, предметы ширпотреба и продукты питания. Все это открыто, на глазах у швейцарских властей, объявивших строгий нейтралитет. Василий слышал, как один делец говорил другому: «Чему вы удивляетесь, это же бизнес! При желании здесь, в Швейцарии, можно купить целую эскадру боевых самолетов и любое количество дальнобойных пушек, — были бы только деньги!..»
Чтобы всерьез обосноваться здесь и быть полезным делу, которому он служил, Василию нужно было заняться достаточно масштабной коммерческой деятельностью. Осмотревшись, взвесив все возможности, он написал обстоятельную докладную записку Адамсу с целым рядом деловых предложений. Василий сообщил, что здесь можно сбывать нефть и нефтепродукты нейтральным и «невоюющим» странам, не нарушая закон о нейтралитете, утвержденный американским сенатом, или же организовать дочернюю компанию в одной из латиноамериканских стран и действовать от ее имени.
«Мистер Адамс, вы хорошо понимаете — торговля будет и после войны, — писал он, — особенно такими товарами, как нефть и нефтепродукты, без чего не может обойтись в современных условиях ни одна страна, будь она маленькой или большой. Следовательно, о закреплении за собой рынков сбыта нужно думать уже сейчас. Зачем, например, нам терять такой выгодный рынок, как испанский, и не попытаться завоевать португальский? Почему нам не воспользоваться затруднениями англичан и не вытеснить их с рынков Швеции и Швейцарии? Буду ждать ваших указаний. Заверяю вас, что сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать процветанию нашей компании. Я пишу „нашей“, потому что моя судьба тесно связана с судьбой компании, которую возглавляете вы, мистер Адамс…»
Не дожидаясь ответа из Нью-Йорка, Василий написал письмо в Париж, Джо Ковачичу, и сообщил ему, что, при некоторой смекалке, энергии и предприимчивости, в Женеве можно сколотить миллионы. «Организуйте через своего старика поставку мне в возможно больших количествах: чая, кофе, сигарет, сгущенного молока, свиной тушенки, различных лекарств. Условия остаются прежними — чистая прибыль пополам. Здесь нет проблемы с валютой, — швейцарские марки котируются везде.
Надеюсь, вы учитываете, что я не предлагаю поставлять сюда что-либо имеющее хоть какое-нибудь отношение к войне. Упаси меня бог от этого! Мы будем торговать только товарами, облегчающими людям жизнь, что особенно важно в наш жестокий век…»
Через десять дней Адамс известил Василия, что его предложения принимаются. Ему поручается организация отделения компании в Швейцарии, а сам мистер Кочек назначается уполномоченным с окладом в размере пяти тысяч долларов в месяц кроме отчислений процентов от реализации.
Джо Ковачич ответил предельно лаконичной телеграммой: «Вы умница, старик дал согласие, скоро товар поступит. Желаю успеха».
За последние годы Василий набил себе руку в коммерции, — он и в Женеве легко справился с организационными делами. И вот уже на фасаде его конторы красовалась вывеска с золотыми буквами: «Стандард ойл компани», а внизу — «Швейцарское отделение. Торговля нефтью и нефтепродуктами».
Из Америки поступили первые партии товаров, отправленные Ковачичем-старшим. Работа закипела.
Новый, 1941 год пришлось опять встречать на чужбине и вдвоем. Ровно без десяти двенадцать Василий и Лиза сели за стол и наполнили бокалы шампанским. Василию очень хотелось переключить радио на московскую волну, но это было не совсем безопасно, — могли подслушать соседи. И все же он, настраивая радио, поймал на несколько секунд Москву, — оттуда передавали праздничный концерт.
— Опоздали! — Василий с досадой махнул рукой. — Ну, старушка, выпьем за благополучие нашей родины, за наш народ, чтобы черные тучи миновали нас… С Новым годом!
— С Новым годом! — ответила Лиза, высоко поднимая пенящийся бокал.
Они и не предполагали, что новый, 1941 год станет для их родины началом неслыханных страданий…
В Женеву приехал оберштурмбанфюрер Отто Лемке, и Василий пригласил его к себе в контору.
Лемке явился в назначенный час. Он был в штатском костюме и потому потерял половину своей представительности, — то ли дело черная форма эсэсовца, с черепом на фуражке!..
Опустившись в кожаное кресло, Лемке, тяжело вздохнув, закурил.
— Вы начали курить? — удивился Василий.
— От такой жизни не то что закуришь, — завоешь, пожалуй! — ответил тот, затягиваясь табачным дымом.
— Чем же вы огорчены? Вы всегда такой бодрый, жизнерадостный и вдруг скисли…
— Ах, дорогой Кочек!.. Я принес вам такие сведения… Двенадцатого декабря фюрер подписал директиву номер двадцать один, озаглавленную «план Барбаросса»… Кажется, я имел случай говорить вам, что первоначально он фигурировал под шифром «план Отто».
— Что это за директива, подписанная фюрером? — спросил Василий.
— Буду говорить с вами начистоту… То, что я сейчас сообщу вам, настолько важно, что, скажи я об этом русским, они осыпали бы меня золотом с ног до головы. Но я, Отто Лемке, не желаю иметь никаких дел с коммунистами! Да и вам давать эти сведения даром не резонно. Короче, с вас, как со старого знакомого, возьму всего лишь пять тысяч долларов. Согласны?
— Согласен, если только сведения действительно стоящие!
— Еще бы не стоящие!.. Согласно этой директиве, генеральный штаб должен разработать план нападения на Советскую Россию. Копию директивы достать не удалось, хотя я ее читал и даже успел списать начало. Вот оно. — Эсэсовец достал из бумажника лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул. — «Германские вооруженные силы должны быть готовы еще до окончания войны против Англии разбить Советскую Россию в стремительном походе, — прочитал он вслух. — Для этого армия должна пустить в действие все находящиеся в ее распоряжении соединения, за исключением лишь тех, которые необходимы, чтобы оградить оккупированные районы от каких-либо неожиданностей. Приготовления должны быть закопчены до 15 мая 1941 года. Особое внимание следует уделить тому, чтобы подготовку этого нападения было невозможно обнаружить…» Ну как, достаточно?
Василий молчал, стараясь изо всех сил не показать свое волнение.
— А как же с Англией? — спросил он как можно спокойнее. — Неужели ваши все же отважатся воевать на два фронта?
— Фюрер предполагает, что если он нападет на Советскую Россию, то Англия согласится на переговоры и в конечном итоге будет помогать войне против коммунистов… Ходят слухи, что скоро начнутся переговоры с англичанами. Как и предполагалось раньше, кто-то из руководителей партии поедет в Англию…
— Ну что же… Это не только важные, но и устрашающие сведения!
— Я же и говорю: война с коммунистами — это вам не легкая прогулка по странам Европы. Боюсь, что русские себя покажут!..
— Вы оставите мне копию начала директивы?
— Могу, но… — Лемке замялся.
— Да, да, понимаю! Нужно сперва рассчитаться с вами… Вот вам чек на пять тысяч долларов. — Василий подписал чек и дал его Лемке. — Еще одна просьба к вам: в Берлине вы найдете моего бывшего садовника Мюллера и передадите ему письмо, а когда будете возвращаться, привезете ответ.
— Пожалуйста, это не составит мне большого труда! — Настроение у Лемке заметно улучшилось после получения чека.
— Когда вы собираетесь снова побывать здесь? — спросил Василий.
— Примерно через месяц.
— А если я возьму на себя все ваши дорожные расходы, могли бы вы прибыть недели через две?
— Пожалуй, могу. Сегодня пятое января, буду у вас пятнадцатого. Это вас устроит?
— Вполне… Завтра я напишу Мюллеру письмо…
Перед своим отъездом из Берлина Василий имел беседу с садовником Мюллером, который, после того как Василий вызволил его из гестапо, стал относиться к нему с большим доверием. Они договорились, что в случае крайней необходимости Мюллер будет служить своего рода почтовым ящиком.
Пожимая на прощанье большую волосатую руку эсэсовца, Василий сказал:
— Пригласил бы вас в ресторан пообедать, но, откровенно говоря, в ваших интересах, чтобы нас не видели вдвоем!..
Лемке ушел, а Василий долго сидел за письменным столом, обхватив голову руками. Кажется, совершилось худшее, чего можно было бы ожидать. Гитлер решил напасть на Советский Союз!.. «Нужно действовать, немедленно известить „отца“. И отсюда, из Швейцарии, это сделать легко», — говорил сам себе Василий, а другой голос нашептывал ему: «Не горячись, следуй правилу — прежде чем сообщить „отцу“ такие важные сведения, сперва проверь их, дублируй из нескольких источников…»
Василий терзался до тех пор, пока не появился через десять дней оберштурмбанфюрер. Вручив письмо Мюллера, он вопросительно посмотрел на Василия.
— Вы хотели бы получить деньги за ваши путевые издержки, — сколько? — спросил Василий.
— Мелочь, триста долларов…
Сведения Лемке подтверждались. Правда, Фридрих Кольвиц указывал несколько сроков нападения на Советский Союз — 20 апреля, 18 мая, 22 июня и даже 6 апреля. Но он давал понять, что эти сроки названы, чтобы ввести в заблуждение противника. Главное же — Кольвиц подтверждал существование самой директивы. И еще Мюллер писал, что здоровье фрау Эльзы ухудшается с каждым днем и врачи не надеются на улучшение. Сама она думает, что жить ей осталось не более полугода.
Яснее не скажешь: полгода — те же сроки, что установил Гитлер на подготовку армии для нападения на Советский Союз…
Теперь нельзя было терять ни минуты. Василий заперся у себя в кабинете, составил зашифрованную телеграмму на имя «отца» и отправил адресату.
Через день он получил телеграмму «молнию» с предложением немедленно выехать с женой в Москву через нейтральную Швецию. Это означало ехать или морем, где рыскали немецкие подводные лодки и топили все, что попадалось им на глаза, или же через Финляндию, которая фактически была оккупирована Германией. Времени для размышлений не оставалось. Василий в тот же день посетил советского консула и получил визу на поездку в Москву — «по делам американской нефтяной компании „Стандард ойл“.
В гостинице «Националь», где обычно останавливались иностранцы, был забронирован номер с видом на Манеж для двух американцев — мужа и жены.
Лиза часами могла стоять у окна, не в силах оторвать глаз от улицы, от кремлевской стены, от прохожих. Она радовалась всему: московскому морозцу, снегу на крышах домов, детворе, играющей во дворе соседнего дома, студентам, спешащим в университет…
Не успели они распаковать чемоданы, как раздался телефонный звонок. Василий снял трубку.
— Мистер Кочек, если у вас нет неотложных дел, то просим вас зайти к нам. Адрес вам известен, пропуск будет заказан.
Через полчаса Василий стоял перед молодым, но весьма ответственным работником, даже не предложившим ему сесть.
— Скажите, Максимов, вы прислали «отцу» эту телеграмму? — сухо спросил тот, держа в руке расшифрованную телеграмму Василия.
— Я прислал.
— И вы утверждаете, что немцы собираются напасть на Советский Союз?
— По крайней мере, об этом говорят те неопровержимые сведения, которыми я располагаю.
— Сведения, сведения!.. Похоже, вам даже в голову не приходило, что такие, с позволения сказать, сведения могли вам подсунуть те, кто заинтересован в том, чтобы дезориентировать нас, ввести в заблуждение или даже спровоцировать…
— Я не мальчик, чтобы мне могли подсунуть ложные сведения. То, о чем я сообщил «отцу», соответствует действительности. Прошу вас в этом не сомневаться! — Василий побледнел от гнева и горького недоумения.
— Поссорить нас с Германией хотят прежде всего англичане, — надеюсь, это вам известно? Да, англичане! — Ответственный работник поднялся из-за письменного стола, и Василий отметил про себя, что он маленького роста и, несмотря на сравнительно молодые годы, успел отрастить порядочное брюшко. «Спортом не занимается», — подумал Василий. Между тем ответственный работник продолжал: — Одно из двух — или вас ввели в заблуждение, подсунув вам фальшивку, или…
Василий не дал ему закончить.
— Вы не смеете так говорить со мной! — тихо сказал он, повернулся и вышел из кабинета.
Он отметил пропуск у секретаря, спустился на улицу. День был морозный, на чистом небе сияло солнце, дышалось легко. Василий вдохнул холодный воздух всей грудью, расправил плечи и не спеша пошел в гостиницу. В голове было пусто. Что это — дурной сон или недоразумение? После стольких лет тяжелой работы на чужбине — и вдруг: «или вас ввели в заблуждение…» Он хотел, наверно, сказать или «подкупили»… Василий внутренне содрогнулся, словно получил пощечину…
— Ну что? — спросила Лиза и, заметив его напряженный взгляд, осеклась.
— Нашелся человек, к тому же ответственный работник, для которого вся наша с тобой десятилетняя работа ничего не стоит! — с горечью проговорил Василий. — И оказывается, я вообще мальчишка, которого каждый дурак может обмануть…
— Ты не волнуйся, главное — не волнуйся!.. Недоразумение какое-нибудь… Что он сказал? — Лиза не знала, как успокоить Василия.
— Язык не поворачивается, чтобы повторить его слова!..
— Что он, с ума сошел?
— Нет, Лиза, он просто дурак и чинуша!.. Общая направленность политики заключается на сегодня в том, чтобы не давать немцам повода для преждевременных конфликтов, всеми средствами выиграть время. Вот он и не хочет верить, что существуют факты, противоречащие этой концепции, — не хватает у него широты взгляда! И вообще — нельзя же идти против общего течения, даже если это крайне необходимо…
У Василия была удивительная способность: при крупных неприятностях он ложился в постель и мгновенно засыпал. Так и на этот раз — лег и заснул.
Проснувшись, он как ни в чем не бывало пригласил Лизу в шашлычную.
— Поедим с тобой настоящего шашлычка, выпьем бутылочку цинандали, а там — будь что будет!.. У нас с тобой в жизни бывало всякое… Не вешай голову, старушка, одевайся, и пошли.
В шашлычной у Никитских ворот они просидели допоздна. Там было тепло и по-своему уютно. Ни на одну минуту их не покидало сознание того, что они у себя дома, на родной своей земле. Потом они пешком прошли на Красную площадь, молча постояли у Мавзолея, послушали бой кремлевских курантов. В гостиницу вернулись в двенадцатом часу. Дежурная по коридору, протягивая Василию ключи от номера и записочку, сказала по-английски:
— Просили вас позвонить по этому телефону, как только вернетесь.
Василий поблагодарил дежурную, но звонить не стал. В номере он сказал Лизе:
— Поздно, и я не совсем в форме… Позвоню утром, авось до утра ничего особенного не случится.
Утром его опередили. Позвонил по телефону помощник того ответственного работника, у которого Василий был. Он попросил как можно скорее прийти. Тон помощника был вежливый, даже предупредительный.
Когда Василий вошел в кабинет, ответственный работник сказал, не глядя на него:
— Вас вызывает к себе товарищ Сталин…
Василий молчал — ему показалось, что он ослышался.
— Вы должны быть у товарища Сталина ровно в одиннадцать часов.
Только теперь до Василия дошел смысл этих слов.
— Я должен сходить в гостиницу и переменить хотя бы рубашку. Это много времени не отнимет.
Услышав в голосе Василия решительные нотки, ответственный работник махнул рукой:
— Идите, но чтобы одна нога там, другая здесь. Будьте у меня ровно в десять тридцать, живым или мертвым!
— Постараюсь все-таки живым, — ответил Василий и быстро вышел из кабинета.
В приемной Сталина дежурный секретарь поставил галочки против фамилий приглашенных и попросил подождать. А когда стрелки круглых стенных часов показали ровно одиннадцать, двери кабинета открылись и человек в полувоенной форме негромко сказал:
— Попрошу товарища Максимова.
Василий прошел через небольшой коридор в кабинет Сталина. Ответственный работник остался в приемной, — его не пригласили.
Сталин стоял у камина с трубкой в руке.
— Здравствуйте, товарищ Максимов. Садитесь вот сюда, — Сталин показал рукой на свободное кресло.
— Спасибо, я постою…
— Почему так? Говорят, в ногах правды нет! — Сталин улыбнулся.
— Я не могу сесть… Вы ведь стоите, товарищ Сталин.
Сталин пропустил мимо ушей слова Василия и, вытряхнув пепел из трубки в камин, сказал:
— Вы писали, товарищ Максимов, о директиве Гитлера генеральному штабу немецкой армии?..
— Да, товарищ Сталин, писал.
— Откуда стало вам известно о наличии такой директивы?
— Узнал из надежных источников.
— Не допускаете, что это провокация, подстроенная немцами специально для нас?
— Такое предположение совершенно исключается.
— Вы уверены в этом?
— Да, товарищ Сталин, уверен.
— Нельзя ли допустить другое — вся эта история, связанная с директивой Гитлера, организована англичанами и стараниями их разведки попала к вам?
— Нет, такой вариант тоже исключается.
— Почему вы говорите так уверенно, товарищ Максимов?
— По очень простой причине. Люди, доставившие мне эти сведения, проверены и перепроверены не раз и не два. С ними я работаю давно, и не было случая, чтобы они пытались обмануть меня. Потом, у нас есть неписаный закон: прежде чем сообщать о таких важных делах, мы проверяем дважды и трижды полученные сведения через разные источники. Кроме
того, у меня имеются еще и косвенные доказательства, подтверждающие правильность сообщенных мною сведений. Немецкий солдатский разговорник тоже говорит кое о чем. Не знаю, докладывали ли вам о том, что во время пребывания в Берлине советской правительственной делегации мы передали ей через наше посольство экземпляр этого разговорника…
Сталин молча кивнул головой.
— И еще — на первый взгляд маловажный, но на самом деле весьма существенный факт. В Берлине, на улице Унтер-ден-Линден, находится самое большое и самое роскошное фотоателье Гофмана. Его считают придворным фотографом Гитлера. С начала войны на Западе стало обычным явлением, что этот самый Гофман, осведомленный о планах фюрера, вывешивает на одной из витрин большую карту той страны, куда нацелен очередной удар фашистской армии. Совсем недавно мне стало известно, что Гофман вывесил на витрине большую карту Советского Союза…
— Значит, они не боятся ни бога и ни черта, — сказал Сталин и после минутного раздумья подошел к Василию. — Вы понимаете, товарищ Максимов, рассуждая логично, кажется совершенно невероятным, чтобы Гитлер рискнул ввязаться в войну с Советским Союзом, не закончив кампанию на Западе, оставив у себя в тылу англичан. С другой стороны, ваша твердая уверенность заставляет думать, что такая директива существует на самом деле. Совсем уж другой вопрос — с какой целью она, эта директива, составлена… — Он снова помолчал. — Гитлер, составляя директиву, мог преследовать разные цели. По этой причине нам нужно действовать по мудрой народной пословице — семь раз отмерь, один раз отрежь… Немедленно возвращайтесь обратно в Женеву. Еще и еще раз проверьте все и доложите лично мне. Отныне вы должны неустанно следить за всеми происками фашистов, быть в курсе их планов, в особенности против нас. Нельзя жалеть ни сил, ни средств!.. Вы кажетесь человеком толковым — опытным, наблюдательным. Будем надеяться, что вы успешно справитесь с этой сложной, но благородной задачей и не дадите ни немецкой, ни английской, ни каким-либо другим разведкам обмануть себя.
— Постараюсь, товарищ Сталин, — ответил Василий.
— Желаю успеха! — Сталин протянул Василию руку.
В приемной Василию пришлось подождать: сопровождавший его ответственный работник был приглашен к Сталину.
Сталин сказал ему:
— Очевидно, этот Максимов толковый человек и хорошо знает свое дело.
— Да, товарищ Сталин, Максимов очень серьезный и толковый человек, — поспешил подтвердить ответственный работник, хотя только что был о Василии противоположного мнения.
— Однако и он мог ошибиться… — И, как бы думая вслух, не глядя на собеседника, Сталин продолжал: — Невероятно, просто невероятно, чтобы Гитлер решился напасть на нас, не покончив с Англией!.. Только маньяк или законченный авантюрист отважился бы на подобный; шаг… — И опять к ответственному работнику: — Всячески помогите Максимову, создайте ему все условия, чтобы он мог справиться с нелегкой задачей, которую мы ему задали…
Вечером к ним в номер пришел «отец». Он заметно сдал. Волосы совсем поседели, на лбу и вокруг глаз появились глубокие морщинки.
— Ну, как жизнь молодая? — спросил он с деланной веселостью. — Надеюсь, все в порядке?
— Как вам сказать? Сейчас, пожалуй, в порядке, чего не мог бы сказать вчера в это же время…
— Знаю, дорогой, все знаю! — «Отец» дружески обнял его за плечи. — Не обращай внимания на мелочи жизни!.. Сказано ведь, что дураков не сеют, не жнут — они сами рождаются. Тут уж ничего не сделаешь!.. Я тому вельможе доказывал, что ты не такой человек, чтобы сообщать непроверенные сведения, — все напрасно!..
— Это верно, что дураков не сеют и не жнут, — сказал Василий. — Но, имея большую власть, они могут таких дров наломать, что потом костей не соберешь!
— Будем мужественны и не станем обращать внимания на случайные жизненные невзгоды. Нам нужно беречь свои нервы, впереди еще много работы! — «Отец» старался уйти от неприятного разговора, но ему помешала в этом Лиза:
— Хороши мелочи и жизненные невзгоды!.. И потом, «отец», — почему о своих нервах должны заботиться только мы сами?
— Что я могу сказать, Лиза? Вы абсолютно правы, и если мои личные извинения что-нибудь значат для вас, то я приношу их вам и еще раз прошу — не сердитесь! И главное — не опускайте руки… А теперь перейдем к нашим делам. Учитывая, что события принимают довольно неприятный оборот и у вас будет много работы и немало трудностей, я решил отдать вам Стамбулова. Он опытный конспиратор и предприимчивый малый, может оказаться вам очень полезным. Надеюсь, Василий, ты найдешь для него подходящее прикрытие?
— Разумеется, найду! Это вы хорошо придумали: Стамбулов подходящий помощник…
— И еще хочу я связать вас с одним местным антифашистом, — продолжал «отец», — фамилия его Дикман, он коренной швейцарец. Дикман сам явится к тебе, Василий, и в случае необходимости будет вам полезен. По-моему, помощь местного человека никогда не помешает. Не так ли?
— Разумеется, особенно в условиях Женевы, когда вокруг тебя вертятся подозрительные люди и не знаешь, кто из них в какой разведке работает, — ответил Василий.
— Сейчас ваша задача заключается главным образом в том, чтобы иметь точную информацию о всех шагах Гитлера — не только совершенных, но и намечаемых. Твой оберштурмбанфюрер — ценная находка, особенно сейчас, когда он работает в заграничном отделе гестапо и имеет возможность посещать Женеву. Ты его озолоти, только не выпускай из рук. Мюллер человек верный, но не совсем подходящий почтовый ящик: он уже однажды побывал в гестапо, и, думается мне, подозрение с него не снято. Будет целесообразно, если мастер Герман выделит вам запасного для почтового ящика, — мало ли что может случиться… Немецкие подпольщики со временем смогут оказывать вам неоценимую помощь. И Кольвицу и фрау Браун плати сполна по-прежнему, независимо от того, делают они что-либо для вас или нет. Они пригодятся еще. Кажется, я сказал вам все… Может быть, у вас есть вопросы?
— Есть, — сказал Василий. — Нельзя ли нам съездить в деревню, тут недалеко. Мы бы управились дня за два. Хочется повидаться с братом, сестрою… Кто знает, когда я теперь приеду домой!
— Как ни печально, Василий, но тебе не удастся повидаться с родными. Дорог каждый день, каждый час… Я уже забронировал для вас билеты на самолет Москва — Стокгольм на завтра. Оттуда вы доберетесь до Женевы.
— Может быть, я смог бы съездить к ним сегодня ночью, а завтра вернуться или послать за ними, чтобы они сами приехали сюда?
— Ни того, ни другого делать не советую, — сказал «отец». — Я уверен, что не одна пара глаз следит за каждым твоим шагом. И естественно, что у тех, кто заинтересован тобою, возникнет вопрос: зачем этому американцу, приехавшему в Москву по делам американской нефтяной компании, вдруг понадобилось посетить русскую деревню?.. Вслед за тобой полетят телеграммы в американскую разведку с предложением проверить личность мистера Кочека, неведение которого в Москве показалось подозрительным… Надеюсь, ты этого не хочешь? Кстати, завтра, до отъезда, обязательно побывай в Нефтеэкспорте и для отвода глаз повидайся с товарищем Щукиным, заместителем управляющего объединением. Он предупрежден и будет ждать тебя.
— Хорошо, побываю в Нефтеэкспорте, — сказал Василий.
— А вы сами не собираетесь в наши края? — спросила Лиза.
— Не знаю, это зависит не от меня…
— Скажите, как вы думаете, «отец», — будет война с немцами или директива Гитлера генеральному штабу дана совсем из других соображений? — спросил Василий.
— Трудно сказать… Лично мне кажется, что каждый, кто внимательно читал «Майн кампф», не может не понимать, что войны с фашистской Германией нам не миновать! Претендовать на мировое господство и оставить по соседству такого злейшего врага фашизма, как Советский Союз, — нельзя. Гитлер, по-видимому, рассчитывает, что, нападая на нас, он найдет сочувствие на Западе, сумеет заключить почетный мир с Англией и присвоить себе все, что уже завоевано, — другими словами, стать единоличным хозяином Европы. Он, конечно, ошибается в своих расчетах, но крови прольется много!
— Я тоже пришел к такому заключению, — сказал, помолчав, Василий.
Когда «отец» собрался уходить, Василий спросил его:
— Вы ничего не знаете о моих парижских друзьях и знакомых?
— Кое-что знаю, — ответил «отец». — Маринье, твой партнер по спортивному клубу, успел удрать в Англию и там принимает активное участие в работе комитета Сопротивления. А вот другому твоему партнеру, де ла Граммону, не повезло: он попал в руки гестапо и сейчас находится в одном из концентрационных лагерей в Германии. Твой друг Сарьян исчез, и мы никак не можем напасть на его след — то ли он глубоко законспирировался, то ли погиб в застенках гестапо…
— А художник Борро?
— Борро молодец! Он возглавляет боевую группу антифашистов парижского района, и его бойцы причиняют немало хлопот. Словом, работают они здорово!
— Я рад, что не ошибся в нем, — сказал Василий.
В Женеве жизнь шла своим чередом. Швейцарское отделение нефтяной компании «Стандард ойл» работало с предельной нагрузкой: желающих купить бензин и смазочные масла было много, — успевай только выполнять заказы. Неплохо шли и личные коммерческие дела мистера Кочека. Из Америки в его адрес нескончаемым потоком поступали товары. Он уже считался в известной мере монополистом: лучших кофе и тушенки ни у кого, кроме мистера Кочека, достать было нельзя. Коммерческие и финансовые круги Женевы считали его солидным дельцом и относились к нему с уважением.
С приездом в Женеву Стамбулова работать стало легче. Василий зачислил его в штат своей конторы на должность консультанта по финансовым вопросам. Прежде всего Стамбулову предстояло проверить, соответствуют ли действительности слухи о том, что на советско-польской границе происходит концентрация немецких войск.
— Я знаю, что это нелегко, но делать нечего — нужно! — сказал ему Василий. — Примитесь за дело со всей свойственной вам энергией и находчивостью, но зря не рискуйте. Денег не жалейте!
— Понимаю, шеф, не беспокойтесь! — ответил Стамбулов со своей неизменной улыбкой.
В Женеву снова приехал Отто Лемке. Он казался усталым, чем-то подавленным.
— Все же скажу вам, наши зря затевают эту страшную войну с русскими, — сказал он Василию, — кадровые военные утверждают в один голос, что нам не справиться с ними. К сожалению, сомневающихся немедленно отстраняют от активных дел и выдвигают на их место сторонников опасной теории, что Советская Россия — гигант на глиняных ногах… Хороши глиняные ноги, когда они в свое время одолели чуть ли не весь мир, устанавливая у себя власть, а совсем недавно набили морду япошкам у Халхин-Гола!..
— Не понимаю, вам-то чего тревожиться? На русский фронт вас не пошлют, — вы не молоды и нужны в тылу. Больше того: как бы война ни кончилась, вы лично внакладе не будете, станете состоятельным человеком, — попробовал его успокоить Василий.
— Странно вы рассуждаете, мистер Кочек!.. Что же я — не немец и все, что относится к Германии, ко мне не имеет отношения? Признаюсь вам чистосердечно, будет очень жаль, если мы потеряем все то, что завоевали в столь короткий срок!
— Вынужден вас огорчить, герр Лемке, — сказал Василий, — история доказывает на многочисленных приметах, что еще ни одному народу не удавалось построить свое благополучие на страданиях других народов. Не удастся этого и современной Германии!.. Мой вам дружеский совет: думайте о себе и не упускайте из виду ту простую истину, что в конечном итоге все в этом бренном мире решается деньгами. Будут у вас деньги — вы на коне и после войны, не будут — всем вашим заслугам и наградам грош цена. Возьмите пример с меня, я не спеша делаю деньги и знаю твердо, что победителем в этой войне буду я!
— Вы забываете, что у вас другие возможности!..
— А что мешает вам расширить свои возможности? При вашем положении вы могли бы заработать значительно больше, чем сейчас!
— Не вижу таких возможностей…
— Было бы желание, а возможности найдутся! Могу порекомендовать вам, например, такой способ: в оккупированной вами Франции есть немало людей, готовых заплатить хорошие деньги любому, кто поможет им выехать за границу. А еще больше можно заработать, освобождая некоторых узников концентрационных лагерей.
— Это трудно! — сказал Лемке.
— А кто вам сказал, что зарабатывать деньги легко? — спросил Василий. — Хотите, подыщу для вас клиентов?
— Вывозить людей из Франции, пожалуй, еще можно, а насчет освобождения из лагерей — не знаю. Во всяком случае, я не возьмусь за это…
— Ну что же, займитесь пока вывозом людей из Франции, а там будет видно…
— Возьмусь, но при условии, что, кроме вас, я ни с кем другим никаких дел иметь не буду.
— Согласен!.. Могу быть вашим маклером за десять процентов комиссионных…
Договорились о цене — две с половиной тысячи долларов за человека. Василий написал Джо Ковачичу в Париж письмо с просьбой найти через художника Борро журналиста Сарьяна и узнать у него — не хочет ли он покинуть пределы Франции легальными путями? А также осведомиться у Борро — не знает ли он людей, которым необходимо выехать из Франции? Пусть сообщит их фамилии для получения официальных пропусков. Письмо к Джо удалось отправить в Париж, как всегда, дипломатической почтой.
Спустя несколько дней в кабинете Василия появился с видом победителя Стамбулов.
— Все в полном порядке! — заявил он.
— Что именно в порядке? Рассказывайте!..
— Мне удалось установить связь с двумя железнодорожниками, — сказал Стамбулов. — Один из них пожилой поляк, работает весовщиком на бывшей пограничной с Германией станции, а второй хоть и немец, но антифашист, бывший социал-демократ, диспетчер на узловой станции. Теперь мы будем иметь точные сведения о движении воинских эшелонов на восток.
Связь с «отцом» поддерживалась через специальных курьеров, приезжавших в Женеву. Им регулярно передавались сведения о воинских эшелонах, направляющихся на восток. Этих эшелонов становилось все больше и больше. И все они были нагружены военной техникой, танками, орудиями, боеприпасами, а главное — солдатами. Василий с тревогой наблюдал за всем происходящим. Создавалось впечатление, что там, дома, никто всерьез не принимает приготовлений немцев…
Вскоре Джо Ковачич сообщил Василию адрес Сарьяна. Журналист соглашался выехать из Франции вместе с женой, а Борро переслал список семей участников Сопротивления, которым грозила смертельная опасность. Он сообщал через американского консула, что он и его товарищи были бы чрезвычайно благодарны, если бы удалось вывезти указанных в списке лиц.
Нежданно-негаданно в Женеву приехал О'Кейли. Василий пригласил его на ужин в один из самых дорогих ресторанов — «Отель де Берг».
Они сели в дальнем углу и, попивая терпкое венгерское вино, вели неторопливую беседу. Василий сразу заметил, что настроение американского генерального консула в Берлине резко изменилось. Он несколько раз повторил, что Гитлер совсем обнаглел. «Если русские не остановят Гитлера, тогда вся Европа окажется под пятой Германии…»
— Разве войну Гитлера с русскими вы считаете предрешенной? — спросил Василий.
— Без сомнения!.. Впрочем, дальнейший ход событий всецело будет зависеть от позиции англичан.
— Какое отношение позиция англичан имеет к войне Германии с русскими?
— Гитлер собирается заключить мир с Англией. Даже младенцу ясно, что это его очередной маневр: он думает покончить с русскими без помех, а потом обрушиться на Британию. При таком варианте мир разделится на три сферы влияния: в Европе — Германия, на Дальнем Востоке — Япония и за океаном — Соединенные Штаты Америки. Это опасно, этого допустить нельзя! — сказал О'Кейли, и его лицо стало жестким, озабоченным. — Настанет день, и Германия, объединившись с Японией, повернет оружие против нас. Тогда — всему конец, вы понимаете? Вот вам ключ к бредовым мечтам Гитлера о мировом господстве!
— Неужели вы допускаете, что англичане пойдут на мировую с Гитлером, после того как он обманул их не раз и не два?
— Во многом это будет зависеть от позиции, которую займет наше правительство. Если мы ввяжемся в войну на стороне англичан, они не пойдут на мировую с Гитлером. А по всем признакам, мы ввяжемся в войну…
— У меня все перепуталось в голове!.. Вступая в войну на стороне англичан, мы, американцы, тем самым будем помогать коммунистической России. Неужели это возможно? Вы когда-то говорили, что единственная сила, способная противостоять коммунистической заразе, — это Германия во главе с таким фанатиком, как Гитлер…
— Дорогой мой, в политике все возможно!.. Если бы Гитлер, ограничившись захватом Чехословакии и присоединением Австрии, повернул бы свои войска против русских, мы бы его всячески поддерживали. Но когда он замахнулся на всю Европу, и не только на Европу… Сейчас очень важно, чтобы он сломал зубы на русских. Как бы ни кончилась война с Россией, обе стороны будут основательно обессилены. Русские легко не покорятся немцам — они станут драться до последнего. Вот тогда мы и сможем навязать миру свою волю! — О'Кейли подался вперед и, понизив голос, сказал: — Наша разведка узнала, что Гитлер решается на рискованный шаг — он хочет отправить в Англию в первой половине мая, до начала кампании о русскими, своего ближайшего помощника, Рудольфа Гесса, для переговоров. Гесс полетит туда якобы по собственной инициативе. Расчет простой: если англичане примут его и согласятся вести переговоры, Гесс получит соответствующие полномочия; если нет — немцы объявят его изменником, и делу конец!.. Однако хватит нам разговаривать на такие темы, давайте лучше выпьем!.. Расскажите, как вы устроились здесь, что поделываете?
Василию было не до пустых разговоров. Ему хотелось как можно поскорее закончить ужин, что он вскоре и сделал. Он отвез О'Кейли в его отель, а сам поспешил в пансионат, где жил Стамбулов. Стамбулова он не застал. Оставалось одно — набраться терпения и ждать до утра. Он лег в постель, но сон не шел к нему. Рудольф Гесс — второе лицо в партии национал-социалистов и официальный преемник Гитлера… Может быть, сейчас он направляется на аэродром, чтобы улететь в Англию, а на польско-советской границе фашистские полчища готовятся к наступлению на Советскую страну. Нет, он спать не будет…
Василий встал, на цыпочках, чтобы не разбудить Лизу, пошел в столовую и позвонил Стамбулову в пансионат. Ему ответили, что «мсье Стамбулов уже спит». Василий попросил разбудить мсье Стамбулова и позвать к телефону.
— Говорит Кочек, — сказал он, услышав в трубке сонный голос болгарина, — извините за поздний звонок. Прошу вас сейчас же приехать ко мне на квартиру. Есть важное дело. Я вас буду ждать на улице.
Василий оделся, бесшумно открыл дверь и спустился вниз. Ночь была теплая, звездная. Тишина. Во всех окнах давно погасли огни. Женева погрузилась в спокойный сон… А в просторных кабинетах немецкие генералы, склонившись над картами, готовили его родному народу смерть…
Звук шагов оборвал размышления Василия. Взяв Стамбулова под руку и прохаживаясь с ним по пустынному переулку, Василий рассказал ему об услышанном.
— Надеюсь, вы понимаете — медлить нельзя. Нужно, чтобы эти сведения были у «отца» не позже одиннадцати часов утра! — сказал Василий.
— Не знаю, что и делать… Курьер уехал, а другой приедет не раньше чем дней через пять. Рискнем зашифровать телеграмму?
— Нет, это рискованно. Немцы могут перехватить ее…
— Нашел! — воскликнул Стамбулов. — Я знаю одного местного радиолюбителя-коротковолновика, он работает по ночам. Однажды я уже использовал этот канал связи… Поеду к нему и вызову Москву. Получив ответ, продиктую радиограмму для «отца». Пока агенты немецкой разведки очухаются и организуют перехват, все будет кончено, — они не успеют записать и двух фраз, как радиограмма будет в Москве.
— Этот ваш радиолюбитель надежный человек? Он согласится передать в Москву такую радиограмму?
— Что за вопрос! Иначе Стамбулов не стал бы поддерживать с ним знакомство… Не будем терять время — быстренько составьте текст шифровки. Мы должны успеть до рассвета!..
Утром, в конторе, на вопросительный взгляд Василия болгарин ответил еле заметным кивком головы. Это означало, что все в порядке — в Москве уже знают о планах Гитлера.
Василий облегченно вздохнул и весело взялся за текущие дела…
Двенадцатого мая сообщение О'Кейли подтвердилось полностью: всему миру стало известно, что десятого мая Рудольф Гесс, лично пилотируя самолет «Мессершмитт-110», вылетел из Аугустбурга, взяв курс на Даунгавел Касл, Шотландия. Он намеревался попасть в имение лорда Гамильтона, чтобы через него начать переговоры с английским правительством. Гесса постигла неудача: кончилось горючее. Он выбросился с парашютом. Незваного гостя задержали местные жители и передали властям.
Английские власти интернировали Гесса, а гитлеровцы, поняв, что игра не удалась, объявили его душевнобольным, сняли со всех постов и даже репрессировали его родственников…
Прослушав сообщение об этом по немецкому радио, Василий подумал, что дома историю с Гессом узнали вовремя. Но факты доказывали правильность и второй части сведений — о готовящемся нападении фашистской Германии на Советский Союз. Война стучалась в дверь.
Василий потерял покой, ходил хмурый, задумчивый, по ночам не мог уснуть, а чуть свет с тревогой включал радиоприемник. Скупал все газеты, какие только продавались в киосках.
Двадцать второго июня, рано утром, немецкое радио, после бравурного марша, сообщило, что немецкие войска вторглись в пределы Советской России и, преодолевая упорное сопротивление противника, заняли множество сел и городов.
Так началась для Василия и Лизы Отечественная война.
Первой мыслью Василия было: немедленно вернуться домой и с оружием в руках защищать родину. Он написал об этом «отцу» и в ответ получил нагоняй. «Отец» писал, что никак не ожидал от него такого легкомыслия. «А где ты находишься, разве не на самой передовой?» — спрашивал он и заканчивал письмо словами, звучавшими как приказ: «Выкинь из головы эти мысли, запасись терпением и жди. Информируй нас обо всем, что удастся тебе узнать, не гнушайся даже мелочами, — на войне мелочей не бывает. Если на первых порах не удастся сделать много, не огорчайся и жди своего часа…»
Начались тягостные будни. Немецкое радио передавало на дню по пять — семь раз военные сводки. Гитлеровские пропагандисты неудержимо хвастались победами на Восточном фронте. Совинформбюро каждый день сообщало об оставлении таких-то населенных пунктов и городов. Тоска делалась невыносимой, у Василия все порой валилось из рук… И так дни, недели, месяцы…
К осени фашистские полчища стояли под Москвой, и немецкие генералы хвастливо заявляли, что им видны в бинокль башни Московского Кремля.
И вдруг, словно по команде, телеграфные агентства и радиостанции всего мира заговорили о небывалом упорстве русских. Газетные полосы были полны сообщениями о героизме Советской Армии, а некоторые военные обозреватели высказались в том смысле, что немецким победам первых месяцев войны приходит конец и, как видно, последнее слово останется за русскими. Сами немцы стали сетовать на трудности войны на Востоке — на плохую погоду, холод, бездорожье.
И как гром среди ясного неба было сообщение о переходе Советской Армии в наступление, о разгроме большой немецкой группировки под Москвой. Всем стало ясно: русские развеяли миф о непобедимости немецкой армии.
Ранней весной 1942 года в Женеву приехал Лемке — постаревший и еще более мрачный.
— Мистер Кочек, у меня к вам серьезный разговор, — сказал он, как только поздоровался с Василием и плотно прикрыл за собой двери кабинета. — Скажите, могу ли я рассчитывать на вашу помощь? Нет, это не то слово, — на ваше покровительство, но, — поправился он, — если в этом Явится необходимость… Я сотрудничаю с вами с первого дня вашего приезда в Германию и помогал вам чем только мог…
— Я всегда высоко ценил вашу помощь, дорогой Лемке. — Василий сразу понял, куда клонит эсэсовец.
— Будем говорить откровенно и называть вещи своими именами, как это подобает мужчинам, — сказал Лемке. — Не знаю, как для других, а для меня лично вопрос совершенно ясен: раз мы не смогли с ходу разгромить русских и занять Москву, значит, войну мы проиграли… Ведь весь расчет Гитлера был основан на молниеносной войне, а этого не получилось. Я не молодой человек и хорошо помню восемнадцатый год, поражение, позор, Версаль, оккупацию, наказание военных преступников и прочее… Уверен, что то же самое повторится теперь, но в более крупных масштабах. Вряд ли русские простят нам все то, что мы натворили у них. Я дважды был на Восточном фронте по делам нашего отдела и видел своими глазами сожженные города и села, массовое уничтожение мирного населения… А англичане напомнят нам Дюнкерк, Лондон, Ковентри… И американцы… Почти весь мир против нас… Чтобы уцелеть после этой войны, нужно иметь покровителей!..
— Скажите, Лемке, вы всерьез считаете, что проиграли войну?
— Не проиграли, а проиграем, — тут есть небольшая разница…
— В таком случае я твердо обещаю засвидетельствовать перед победителями ваши заслуги и обеспечить вам покровительство американских властей. А пока, надеюсь, вы еще активнее будете сотрудничать со мной. Кстати, как обстоит дело с вывозом некоторых семей из Франции?
— Все в полном порядке. Если мне согласятся платить и дадут адреса, я добьюсь пропусков на выезд. Сами понимаете, сейчас, больше чем когда-либо, я обязан заботиться о своем будущем…
Василий дал Лемке пять тысяч долларов и адрес Сарьяна.
— Это проба. Если дело кончится благополучно, то будут другие, — пообещал он Лемке.
Дни шли за днями. Василию приходилось заниматься главным образом мелочами — систематизировать полученную из разных источников информацию и передавать «отцу». Лиза работала не покладая рук — она просматривала за день множество газет на немецком, английском и французском языках и на основании пустяковых на первый взгляд заметок и сообщений делала выводы, передавала их Василию для просмотра и отправки домой.
Приезд в Женеву Сарьяна и Жаннет был для Василия и Лизы настоящим праздником. Перебивая друг друга, Сарьяны рассказывали обо всем пережитом ими в оккупированной Франции.
— Французам полезно было увидеть фашистов вблизи, — сказал Сарьян. — Сейчас редкий француз может сотрудничать с оккупантами, даже самые правые стали антифашистами, а большинство участвует в движении Сопротивления.
Радость быть в обществе друзей продолжалась недолго. Сарьян был слишком активным человеком и не мог сидеть сложа руки.
Вскоре он перебрался в Лондон, чтобы принять участие в освобождении Франции.
Из семи друзей Борро удалось переправить в Португалию только четырех, остальных арестовало гестапо…
После разгрома немецких войск под Сталинградом — Василий и Лиза отметили у себя дома это событие как большой и радостный праздник — многие реальные политики на Западе, да и в самой Германии, вынуждены были пересмотреть свои позиции.
В очередной приезд Отто Лемке привез письмо от мастера Германа, переданное через Мюллера. Письмо было со множеством намеков и неясных фраз. После внимательного изучения этого послания Василий понял, что в письме говорилось о немецких генералах, считающих, что Гитлер приведет Германию к катастрофе.
Немецкие генералы против Гитлера! В этом было что-то новое, необычное. Эти сведения стоили того, чтобы о них немедленно поставить в известность «отца».
По ответному письму «отца» было видно, что он хорошо оценил ситуацию, предлагая узнать подробнее, кто эти генералы, какие цели они ставят, чего добиваются. Если они намерены выступить, нужно оказать им всяческое содействие во всем, даже в невозможном.
Василию, при помощи того же всемогущего оберштурмбанфюрера, пришлось командировать в Берлин Стамбулова: тот должен был повидаться с руководителями подполья и по возможности помочь им.
Стамбулов возвратился из Берлина очень быстро. Как ему удалось установить, в дело вмешалась американская разведка. Узнав о существовании группы недовольных генералов и их связи с немецкими подпольщиками-антифашистами, агенты американской разведки в Берлине решились на неслыханный провокационный шаг: чтобы иметь возможность самолично направлять действия недовольных генералов в угодном им направлении, они выдали гестапо группу Ганса Вебера. О второй группе подпольщиков американские разведчики ничего не знали.
Из тридцати трех подпольщиков спаслись только четверо; двадцать девять человек, во главе с Вебером, были расстреляны без суда и следствия.
Когда окончательно стало ясно, что генеральским бунтом стала руководить американская разведка, Василий получил от «отца» указание не вмешиваться в дела недовольных генералов…
Как раз в это самое время Василию стало известно, что немцы через шведских представителей зондируют почву для сепаратных переговоров с Америкой. Действительно, вскоре в Женеву зачастили высокопоставленные немецкие военные в штатском и, по «случайному» совпадению, туда же приехал из Берна посол Соединенных Штатов Америки в Швейцарии. Василий с помощью вездесущего Стамбулова знал о каждом шаге американского посла.
Потом в Женеву пожаловал сам мистер Даллес-младший, а из Берлина приехали несколько немецких генералов под видом частных лиц.
Даллес привез с собой целую армию советников и десятка два дюжих детективов. Они заняли целый этаж в отеле «Савой» и закрыли туда доступ посторонним, даже сменили часть служащих этажа. Впрочем, сам Даллес вел себя скромно, нигде не показывался, ни с кем не встречался.
По поводу приезда Даллеса в Женеву ходили разные слухи. Говорили — и этому способствовали сами американцы, — что мистер Даллес, устав от чрезмерно напряженной работы, решил отдохнуть у Женевского озера. Разумеется, никто не верил этой версии. Василий хорошо знал о подлинных причинах приезда в Швейцарию шефа американской разведки. «Отец» тоже не дремал — еще задолго до приезда Даллеса он предупредил Василия о возможных сепаратных переговорах между представителями Германии и Америки, за спиной союзников. «Отец» настоятельно требовал сделать все возможное, чтобы знать не только всех участников переговоров, но и содержание их бесед.
Легко сказать — «сделать все возможное»! А как это осуществить, когда американцы забаррикадировались на третьем этаже отеля «Савой» и местные полицейские власти бдительно их охраняют?
Прежде всего Василий начал изучать окружение Даллеса и, к своему удивлению, обнаружил среди его советников француза — Жан-Поля Маринье, старого своего знакомого по Парижскому спортивному клубу.
Попытка связаться с ним по телефону не увенчалась успехом: портье отеля отказался сообщить номер его телефона. Тогда Василий оставил портье свой телефон с просьбой передать его мсье Маринье.
Попутно Василий выяснил еще одно любопытное обстоятельство: охрана немецкой делегации в Женеве была поручена оберштурмбанфюреру Отто Лемке и его помощникам.
Сверх всякого ожидания, Маринье позвонил Василию в тот же день, вечером, домой и изъявил желание встретиться.
— Если не возражаете, мы могли бы прогуляться с вами по набережной и поговорить, — сказал он.
Они встретились в девять часов вечера возле лодочной станции. После взаимных любезностей по случаю встречи Василий предложил Маринье покататься по озеру на лодке.
— Так будет лучше — подальше от любопытных глаз и нескромных ушей, — добавил он.
Маринье согласился.
Отдалившись от берега на порядочное расстояние, Василий перестал грести и обратился к французу:
— Рассчитывая на вашу скромность, я позволю себе говорить с вами без обиняков — к этому меня вынуждают обстоятельства. Я живу здесь как американский гражданин — представляю интересы нефтяной компании «Стандард ойл». Это мое официальное положение, главное же заключается в том, что я, как, вероятно, и вы, страстно желаю поражения Германии и освобождения моей родины. Не секрет, что сегодня фактически воюют с гитлеровцами русские — они приближают день окончательной победы над фашизмом. Между тем, насколько я знаю, американцы, в лице мистера Даллеса, собираются вести переговоры с немцами за спиной русских…
— Откуда вам это известно? — перебил его Маринье.
— Разве это имеет значение и меняет суть дела?
— Нет, конечно… Я спросил потому, что миссия Даллеса держится в строгом секрете…
— На свете не бывает секретов, о которых не знали бы другие!.. Мне хотелось бы знать ваше мнение — честно ли поступают американцы в отношении своих союзников, русских?
— Нет! — коротко ответил француз.
— В таком случае могу ли я рассчитывать на вашу помощь?
— Какую?
— Узнать через вас содержание этих переговоров.
— У меня тоже есть к вам вопрос: не скажете ли, мсье Кочек, для чего вам это нужно?
— Для пользы дела!
— Кому будут предназначены эти сведения?
— Могу заверить вас в том, что они будут использованы во имя справедливости! — уклончиво ответил Василий.
Наступила долгая пауза. Василий понимал, что идет на большой риск, разговаривая с Маринье откровенно. Но уже одно то, что Маринье не отказал ему сразу, кое-что значило.
— Я должен подумать о вашем предложении, — наконец ответил Маринье.
— Я только прошу вас учесть при этом, что речь идет о жизни миллионов, о свободе народов! — сказал Василий и взялся за весла.
Прощаясь с Василием на набережной, Маринье обещал позвонить ему на следующий день вечером.
Ждать пришлось всего двадцать четыре часа, но какими длинными они показались Василию! Он с тревогой думал: а вдруг Маринье откажется? Однажды он уже отказал — там, во Франции… Неужели жизнь ничему не научила его?..
Чтобы не тратить даром времени, он разыскал эсэсовца.
— Какие же мы с вами друзья, герр Лемке? Приехали в Женеву и даже не показываетесь!..
— Я очень занят — охраняю драгоценную жизнь целой оравы начальников, — оправдывался оберштурмбанфюрер. — К тому же не сомневаюсь, что за мною установлена слежка, — я-то хорошо знаю наши порядки!.. Ходить к вам без особой надобности не имеет смысла, — начнутся вопросы, догадки, предположения…
— Дорогой Лемке, не скажете ли мне, зачем приехали сюда начальники, которых вы охраняете?
— Мистер Кочек, я уверен, что вы знаете это не хуже меня!
— Хочу от вас получить подтверждение…
— Пожалуйста, подтверждаю: они приехали сюда, чтобы вести переговоры с американцами. Наши руководители наконец-то поняли, что дело идет к катастрофе и единственный выход из создавшегося положения — заключить мир с Западом и со всей силой обрушиться на русских. Если не победить, то хотя бы остановить их и не пускать к себе…
— Вижу, вы стали большим стратегом, Лемке! — Василий усмехнулся.
— Поневоле станешь, когда вокруг одни только твердолобые дураки!
— Будете ли вы присутствовать при переговорах?
— Нет, конечно, — меня дальше фойе отеля «Савой» не пустят.
— Окажите мне дружескую услугу — назовите фамилии и звания генералов, участвующих в переговорах.
Лемке долго молчал, потом махнул рукой и назвал пятерых немецких генералов.
Выдав Лемке в награду бутылку рома и три блока сигарет, Василий отпустил его.
Позвонил Маринье и снова назначил свидание на набережной у лодочной станции.
Маринье был взволнован, — Василий понял это с первых его слов, как только они сели в лодку и отчалили от берега.
— Я не спал всю ночь, — заговорил француз, — все думал о вашем предложении… Не знаю почему, но я решил помочь вам. Во всей этой истории для меня есть одно оправдание: американцы действительно поступают нечестно, собираясь предавать своих союзников. Надеюсь, потомство не осудит мой поступок и не сочтет меня изменником…
— Я думаю, что все честные люди отдадут вам должное, — сказал Василий.
Они условились, что Маринье будет делать короткие записи о ходе переговоров, а Василий придумает способ получения этих записей, поскольку частое появление Маринье на улицах или в ресторанах может вызвать у американцев подозрение.
Василий и Стамбулов долго ломали голову над тем, как получать записи Маринье. Решили, что лучше всего, если Маринье будет делать свои записи на папиросной бумаге, потом положит их в пустую коробку из-под сигарет и в условный час, прогуливаясь, бросит ее в мусорный ящик за углом отеля. Спустя короткое время свой человек достанет коробку из ящика.
— Но для этого нужно иметь своего мусорщика, — сказал Стамбулов.
— Подумаем и о своем мусорщике!
Василий вспомнил о здешнем антифашисте Дикмане, о котором говорил ему в свое время «отец», и отправился к нему. Дикман оказался упитанным, краснощеким человеком средних лет с гладко причесанными волосами. Он работал в конторе туристской фирмы.
— Ну что ж, придется вам помочь, — сказал Дикман, выслушав Василия. — Мы найдем надежного человека, наденем на него форму мусорщика, и в определенный час он подкатит ручную тележку к тому ящику, который вы укажете…
Стамбулов установил, что мусорные ящики опоражниваются три раза в день — в семь часов утра, в три часа дня и в девять часов вечера. Дикман, встретившись с Василием вторично, сообщил ему, что человек для роли мусорщика найден, форма и тележка имеются. Выбрав утренние часы, они сделали пробу, — все обошлось гладко.
Маринье записывал во время переговоров самое важное, а рано утром, положив свои записи в пустую коробку из-под сигарет, бросал ее в мусорный ящик. Чуть позже они попадали к Василию.
Переведя записи Маринье на русский язык, Василий шифровал их, а ночью Стамбулов передавал шифровку через своего знакомого радиолюбителя по условным позывным в Москву.
В Москве знали о содержании всех переговоров мистера Даллеса с немецкими генералами…
Весна 1945 года. Небывалая война, кровавая, изнурительная, приближалась к концу. Советские войска вели бои на земле фашистской Германии. Час расплаты приближался…
Василий, отличавшийся железным здоровьем, начал сдавать. Сказались годы напряженной, полной опасности работы. Его одолевали головокружения, мучила слабость, бессонница. Лиза настаивала, чтобы он хоть немного отдохнул. Василий долго сопротивлялся, но здоровье его с каждым днем ухудшалось, и он вынужден был просить у компании отпуск. Он и Лиза поехали в Швейцарские Альпы, надеясь, что чистый воздух в горах поможет Василию лучше всяких лекарств, врачей и санаториев.
Однажды, после длительной лыжной прогулки и сытного завтрака, они сидели у окна гостиной маленького пансиона, в котором остановились. Искрился на солнце нетронутый снег, к маленькой, затерянной в горах деревушке вели лыжные следы. Вокруг тишина — ни единого звука, словно все притихло, замерло в мире и нет в нем ни грохота пушек, ни крови, ни смерти, ни пожарищ…
Лиза негромко сказала:
— Наши бойцы приближаются к Берлину, а мы сидим здесь, наслаждаемся отдыхом… Господи, чего бы я не отдала, чтобы быть с ними, с ними войти в Берлин!.. Шагать по знакомым улицам и быть собой, а не какой-то миссис Кочек. Вслух думать, что справедливость восторжествовала… Знаешь, Василий, временами меня мучает стыд: я не могу не думать, что все эти годы я отсиживалась в тылу, а люди воевали по-настоящему…
Василий нахмурился, помолчал, чтобы не заговорить слишком резко, потом сказал:
— От тебя, друг мой, я не ожидал услышать такое!.. Разве мы с тобой не на самом переднем крае борьбы? Неужели тебе нужно объяснять, что есть частица и нашей с тобой работы в том, что бойцы Советской Армии стоят у стен Берлина?
— И все-таки…
— Никаких «все-таки»! Мы скоро вернемся домой, вернемся с высоко поднятой головой. Пусть нам не устроят торжественной встречи и не увенчают наши головы лавровыми венками. По мы-то с тобой знаем, каково нам приходилось, знаем, что мы сделали вое, что могли. А сделать это было, честное слово, трудно, чертовски трудно!..
Он положил свою большую сильную руку на руку Лизы, и она смущенно улыбнулась ему в ответ…
Эпилог
В августе 1945 года к зданию советской военной комендатуры в Берлине подкатил роскошный лимузин. За рулем сидел хорошо одетый мужчина атлетического телосложения, а рядом с ним красивая женщина.
Мужчина вышел из машины и, хлопнув дверцей, уверенно прошел в комендатуру.
— Мне нужно видеть господина коменданта, — обратился он к дежурному старшине на чистейшем русском языке.
— Кто вы и откуда? — поинтересовался старшина.
— Я американец, и у меня очень важное дело к коменданту, — ответил мужчина.
Старшина пошел докладывать и, возвратись, сказал:
— Комендант очень занят и принять вас сейчас не может.
— Да поймите вы, у меня важное, неотложное дело! Пожалуйста, попросите господина коменданта уделить мне пять минут.
Старшина вновь пошел к коменданту.
— Товарищ полковник, этот американец пристал как банный лист, говорит, у него важное, неотложное дело.
— Некогда мне возиться с ним! — ответил комендант, не отрываясь от бумаг, лежащих перед ним.
— Товарищ полковник, он — представитель союзной нам нации, по виду симпатичный и говорит по-нашему не хуже нас с вами!
— Ладно, — раз симпатичный, зови!
Американец вошел в кабинет с двумя чемоданами, большим и маленьким. Поставив их на пол, он сказал:
— Товарищ комендант, в этих чемоданах иностранная, валюта. Прошу вас вызвать представителя советской разведки, чтобы я мог сдать ему эти деньги.
Комендант удивленно посмотрел на посетителя:
— Скажите сперва — кто вы?
— По паспорту я — гражданин Соединенных Штатов Америки и зовут меня Ярослав Кочек. А по-нашему — просто товарищ Василий… Еду домой, не таскать же мне с собой такую кучу денег в иностранной валюте. Спокойнее сдать деньги представителю нашей разведки и взять с собой квитанцию.
Комендант понимающе кивнул, пригласил гостя сесть и вызвал к себе майора из разведки. Когда тот явился, комендант, улыбаясь, представил ему Василия.
— Прошу принять у меня иностранную валюту и дать расписку, — сказал Василий майору. — Вот в этом чемодане, — Василий указал рукой на большой, — сто тридцать пять тысяч американских долларов и двести восемьдесят тысяч
швейцарских франков, а в маленьком — пять тысяч пятьсот долларов. Живя за границей более четырнадцати лет, я занимался коммерческой деятельностью и заработал эти деньги. Каждый месяц я брал себе определенную сумму на жизнь и вел запись. Из этого расчета откладывал три процента для уплаты членских партийных взносов.
— Партийные взносы принять не могу, — машинально ответил майор.
— И не надо! Вы дайте мне только квитанцию с указанием суммы, а в остальном дома разберутся!..
Зуфар Максумович Фаткудинов
Тайна стоит жизни

Глава I
Моим братьям Мирзе и Асрару Фаткудиновым, павшим смертью храбрых, посвящаю.
Автор
Порывистый майский ветер сметал с тротуара потемневшие прошлогодние листья, взвихривал их, бросал на дорогу и в воды Казанки. Было свежо. Жуков потер руки и нетерпеливо посмотрел на часы. «Что-то Ильдар опаздывает, — подумал он. — На него это не похоже. Наверно, что-нибудь на работе».
Александр подождал еще несколько минут и позвонил Закирову на работу. Телефон молчал. «Видимо, уже двинулся сюда», — решил Александр.
Жуков подошел к чугунной ограде и, задумавшись, стал смотреть на воду. Мысли кружились вокруг дела об убийстве работника горисполкома Древцова и ограблении его квартиры.
К этому делу Жукова подключили два дня назад — вел его лейтенант Треньков, но сдвигов не было. Случай оказался сложным. Во-первых, не ясны мотивы: террористический акт с попыткой подвести его под хищение со случайным убийством или, наоборот, хищение с не предусмотренным заранее убийством. Во-вторых, раскрытие дела затруднялось некоторыми ошибками, допущенными Треньковым в ходе первоначальных следственных действий.
При повторном осмотре места происшествия и допросе новых людей Жуков выявил свежие штрихи, которые дополняли картину. По ним он пришел, пока что для себя, к выводу: основная цель преступника — похитить из квартиры Древцова фамильные драгоценности, доставшиеся тому от отца, известного художника.
Теперь Жуков разрабатывал другую, противоположную существующей, версию. При новом осмотре квартиры потерпевшего в бачке унитаза обнаружили тяжелую мраморную пепельницу, куда забросил ее преступник. Экспертиза показала: именно этим предметом был убит Древцов. Жукову бросились в глаза тщательность поиска ценностей и быстрота действий преступника. Оказалось, что Древцов в день гибели вернулся с дачи, куда он выезжал на лето, можно сказать, случайно: срочной телеграммой вызвали родственники на междугородние переговоры.
За сегодняшний день Александр просмотрел картотеку «домушников» прочел, как грустные рассказы, несколько уголовных дел, покрытых архивной пылью. Успел послать запросы в Москву. Нужно было еще «процедить» из бумаг данные об одном прожженном «домушнике», но это он решил сделать завтра.
Оторвавшись от мыслей, Александр критически осмотрел свой единственный цивильный костюм, начищенные до глянца ботинки и остался доволен. Форму офицера НКВД он надевал не часто. Сегодня они с Ильдаром, закадычным другом, идут в ресторан, где должны собраться бывшие одноклассники.
Жуков услышал торопливые шаги. Он медленно, словно не желая оторвать взгляда от воды, повернулся. То был Закиров.
— Привет, Сашута! Извини, дорогой. Как говорится, нищему и ветер навстречу.
— Чего так?
Закиров перевел дыхание.
— Знаешь, уже выходил, и буквально на пороге поймал Михаил Иванович Нурбанов. Он шел от начальства. Короче, в отдел переправили одно занятное дельце, ну а он, не мешкая его мне...
Александр понимающе кивнул.
— Вообще, работы — завались, а мы, как чокнутые, понеслись куда-то...
— Не хнычь. Если уж решили — надо идти. — Жуков слегка подтолкнул ладонью Закирова. — Увидишь сейчас Элечку Бабанину, и заботы рассеются, как дым на ветру.
Друзья заспешили к ресторану «Центральный». Их кто-то окликнул. Оба оглянулись. Цокая по асфальту коваными сапогами, приближался запыхавшийся военный.
— Здорово, ребятишки! — выдохнул он, поравнявшись. — Как борзые несетесь. Еле догнал.
Это был Колька Батенов, бывший одноклассник. С Батеновым они иногда виделись — тот учился в военном училище и дважды в год приезжал на каникулы к родителям. А теперь в его петлицах весело поблескивали по два малиновых кубика — год назад присвоили лейтенанта.
— Я в автобусе ехал, увидел вас, голубчиков, а он — за угол и на полквартала протащил, — проговорил он. — Вот и пришлось: ноги в руки — и за вами!
Николай снял фуражку, осторожно приложил платок к вспотевшему лбу, вытащил из кармана большие часы:
— Кажется, запаздываем.
— Ничего, не на работу, — сказал Закиров, — успеем...
За длинным столом сидело человек пятнадцать бывших одноклассников, о чем-то оживленно беседуя.
— О-о-о!.. — закричала хором повеселевшая компания. — Сколько лет, сколько зим!
Начались рукопожатия.
Постепенно подходили остальные запоздавшие. Пришла и Эля Бабанина, стройная, в голубом платье. Золотая цепочка дважды обвивала ее красивую шею. Большие голубые глаза с густыми ресницами излучали нежность и доброту. Ильдару показалось, что она стала еще прекраснее, и сердце его дрогнуло. Нет, не прошли, оказывается, чувства к ней. Откуда-то появились скованность, нерешительность. Приготовленные слова разом улетучились. Мозг одеревенел.
«Вот та, к которой так неудержимо тянет, — думал Ильдар. — Сколько лет совсем рядышком живет. А вот, поди ж, попробуй, скажи ей о своих чувствах. А что, если все-таки признаться ей сегодня?..» От этой мысли его бросило в жар. Ему стало душно.
— Ты чего, старикашка, загрустил? — прикоснулся к нему Александр. — Пригласи ее танцевать, а то уведут.
За разговорами не заметили, как наполнился зал. Желающие танцевать толпились вокруг оркестровой площадки. Танго и фокстроты сменяли друг друга. Наконец в привычный звуковой фон оркестра решительно вклинился звонкий голос молодого певца:
Москва златоглавая — звон колоколов,
Царь-пушка державная, аромат пирогов,
Конфетки, бараночки, словно лебеди саночки...
Эх, вы, кони залетные, слышу песнь с облучка.
Разудалая песенка вдохнула энергию, многие от столов цепочкой потянулись к танцевальной площадке. Красивый тенор с нотками грусти продолжал:
Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные.
Грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка.
— Ну чего, как телок, хлопаешь ушами? — зашептал Жуков. — Иди скорей, лучшего случая не будет.
Ильдар поднялся и, застенчиво улыбаясь, пригласил Элю танцевать.
«Неужели это та неприступная отличница Эля, на которую я боялся взглянуть в школе? — думал он. — Да и сейчас, кажется, не могу похвастаться смелостью».
С замиранием сердца чувствовал на щеке ее дыхание, ощущал тепло ее рук. Надо было что-то сказать, поговорить с ней! Но на ум ничего путного не приходило. «Во дубина! — ругал себя Ильдар. — Но что сказать? Что давно люблю? Что все эти годы думал о ней? А если поднимет на смех? Ну и пусть! Но сказать надо... Только подумать, как это лучше сделать. Вот сейчас в спокойной обстановке за столом подумаю, затем приглашу еще раз танцевать и обо всем скажу». От этого решения пересохло во рту.
Закиров очнулся, когда солист кончил петь. Они добрались до стола. Жукова на месте не было.
— А где Сашутка? — спросил Ильдар у сидевшего по соседству Буренкина.
— А черт знает, куда его понесло! Увидел какого-то бородача, ну и ходу за ним, как охотник за добычей.
— Давно?
— Как только ты пошел отплясывать.
В душу сразу же закралось беспокойство. Александр обязательно предупредил бы его об уходе. Что еще за бородач? А может, какой-то знакомый? Решил с ним поболтать? А может...
Закиров подошел к Эле:
— Н-надеюсь, мы еще разок станцуем...
Та посмотрела на него широко раскрытыми глазами:
— Конечно, конечно...
— Я на минутку, Эля. Я сейчас...
Он поспешил к выходу. Жукова нигде не было. На вопрос швейцар пояснил, что недавно вышли трое мужчин.
Беспокойство переросло в тревогу, и Закиров бросился на улицу.
Вечерняя прохлада дохнула на него. День угас, но облака, подкрашенные в розовый цвет, мягко светились в вышине. Фонари еще не горели.
Всматриваясь в силуэты прохожих, Ильдар заспешил по центральной улице. Лица причудливо расплывались в темноте. Знакомой фигуры не было видно. Куда же он подевался?
«Неужели засек кого-то из древцовского дела?» — подумалось Ильдару.
Он вернулся назад и побежал в переулок, озираясь по сторонам. Останавливался у подъездов домов, прислушивался к шорохам. Никого.
Через два дома завернул в покосившиеся, без единой створки ворота. В глубине безлюдного двора белел квадрат поленницы. Левее от нее густела тьма арки. Двор был проходной.
Ильдар перебежал двор, нырнул в мрачную подворотню и выскочил на соседнюю узкую улочку. Поблизости никого не было.
Он вернулся во двор. Замер, напрягая слух и зрение. Густеющие сумерки заволакивали окружающие предметы. Несло пищевыми отходами и хлоркой.
Ему послышался шорох. Осторожно сделал нескольку шагов к подъезду. Из щелей рассохшейся двери просачивался слабый, мечущийся свет.
«Спички, что ли, жгут? Прикуривают? А может, ребятня балуется?» Закиров подошел к подъезду, быстро отворил дверь.
Увиденное ошеломило его.
У самого входа лицом к двери стояли двое мужчин, разглядывая какие-то бумаги. В руке одного из них — пистолет, другой держал зажженную спичку.
Чуть левее — под деревянной лестницей — неподвижно лежал мужчина. Его рубашка в бурых пятнах белела в полумраке.
Сердце перестало биться от минутного ужаса: «Неужели это Сашка?!»
В нежилом подъезде эти двое, видимо, не ожидали никого, но все-таки первым опомнился рослый мужчина.
— Легаш? — угрюмо-угрожающе выдавил он, направляя оружие на Закирова.
Глухой хриплый голос заставил Ильдара действовать, и он стремительно ударил верзилу ногой по руке — пистолет упал в темноте где-то слева. Чернявый мужчина с бородкой бросил спичку и замахнулся. Ильдар сильным ударом кулака сбил его с ног. Тут же Закиров бросился на здоровяка, пытаясь провести удар под ложечку. Тот попятился, но, запнувшись о ступеньки, растянулся на лестнице, увлекая за собой Закирова. Он попытался сбросить с себя Ильдара, но тот вцепился мертвой хваткой, не давая ему выбраться.
— Волоки за ноги! — заорал верзила своему напарнику. — Пырни его пером! Скорей!
Чувствуя, что тот, с бородкой, уже поднялся с пола, Ильдар попытался рывком встать, чтобы с ходу нанести еще удар, но толстяк, словно клещами, захватил обе руки. Закиров подтянул ногу, уперся ею о стенку и сместился чуть в сторону. В тот момент, когда силуэт бородача показался на фоне открытой двери, откуда исходил тусклый свет, Ильдар пнул его ногой. Бородач пошатнулся и осел у двери.
Закиров рванул правую руку, но преступник был сильнее его и высвободиться не удалось.
— Зажги, Космач, спичку! Подними пушку и пали!
Слышно было, как тот, у двери, словно проснувшись, начал шарить в темноте.
— Пали, скорее, сука! — зарычал снова бандит. — Только сбоку подходи! Меня не задень!
Критическая ситуация подсказала решение: Ильдар резко ударил головой в лицо преступника и рванулся изо всех сил. Тот не сумел на этот раз удержать его.
Закиров прыгнул в темноте наугад на другого преступника, но промахнулся. Тот успел отыскать пистолет и полыхнул из него.
В тесном деревянном подъезде выстрел показался пушечным грохотом.
Закиров перехватил руку бородача. Ахнул выстрел — с потолка посыпалась штукатурка. Попытка отнять оружие не увенчалась успехом — сильный удар подскочившего второго преступника кулаком в грудь выбросил его за дверь. Он упал.
— Пали, падла! — донеслось из подъезда. Но там на секунду замешкались.
— Дай сюда! Я сам! — грозно раздался тот же голос. Ильдар сунул руку в карман за оружием. Мелькнула тоскливая мысль: «Кажется, опоздал — с предохранителя не снят».
Закиров выхватил пистолет, но в это время здоровяк, прячась за косяк, выбросил руку с револьвером в дверной проем. Ильдар, лежа, рванулся в сторону, пытаясь заслониться дверью. Грохнул выстрел. Пуля ударила где-то рядом. И тут, скорее инстинктивно, чем обдуманно, он изо всех сил толкнул ногой дверь. Это спасло ему жизнь: сухая дощатая дверь, резко захлопнувшись, уперлась в металл оружия, в то же мгновение тишину разорвал новый выстрел преступника.
Сняв с предохранителя пистолет, Закиров дважды выстрелил в дверь и рванулся к стене.
В подъезде снова хлопнул выстрел, и мелкие щепки брызнули по сторонам. Послышался топот по деревянной лестнице.
«Уходят, гады», — с этой мыслью Ильдар рванул дверь и несколько раз выстрелил. Кто-то охнул.
Он, как пловец, нырнул в темноту подъезда, распластался под лестницей. Прислушался. В глубине подъезда кто-то хрипел. Из квартиры донесся звук выбиваемых стекол.
«Один, кажется, готов, а другой уходит», — мелькнула у него мысль. Он поднялся по лестнице и на ощупь по стенке двинулся к двери квартиры. У самого порога запнулся о чье-то тело и больно ударился головой о косяк.
Закиров зажег спичку. Привалившись к стене, сидел мертвый преступник, стрелявший в него. Ильдар взял его оружие и толкнул дверь, но она не открылась. Навалился всем телом — бесполезно.
Он бросился к выходу, перебежал двор, выскочил на соседнюю улицу — никого. Побежал обратно. Тревожно стучало сердце: «Неужели под лестницей Саша?» Не хотелось верить. Запыхавшись, влетел в подъезд.
Не переводя дыхания, Ильдар зажег спичку, всмотрелся в лицо лежавшего, и сердце больно сжалось — это был Александр. Ильдар прижался ухом к его груди: сердце как-то отдаленно стучало. Жив!
— Жив! — бешено закричал он от распирающей грудь радости и выскочил на улицу. — Сашутка жив! Эй, есть тут кто-нибудь?
Двор ответил угрюмым молчанием. И он во весь дух понесся к ближайшему телефону.
Глава II
Настроение у дежурного второго отделения Советского райотдела милиции Светловолжска старшего лейтенанта Геннадия Севчука было неважное — поругался с женой.
В последнее время что-то у них не стало ладиться. На службу приходил с настроением, как он выражался, «на нуле», был вял, к тому же появилась рассеянность. О семейных неладах долгое время ни с кем не делился, даже со своим приятелем Равкатом Измайловым. По натуре он был скрытен.
Резко задребезжал телефон. Севчук снял трубку, выслушал и начал уточнять:
— Так... На какой улице, говорите?.. На Правобулачной? А приметы их?.. Хорошо... Сейчас будем.
— Равкат, — сказал он Измайлову, — на Правобулачной около дома номер пятьдесят, совершен грабеж. Потерпевшая будет ждать. Бери машину и — мигом.
— Есть!
Измайлов кинулся к выходу, застучали по коридору сапоги оперативников, хлопнула дверь, и все смолкло.
Севчуку нелегко было оставаться одному: вытащил учебник немецкого языка, нашел нужную страницу, но склонение артиклей не поддавалось — мысли рассеивались. В голове была неразбериха: всплывали какие-то события, люди...
«Да, в таком состоянии много не осилю сегодня», — перелистывая оставшиеся страницы учебника, мысленно сказал себе Геннадий.
Тоскливые думы его неоднократно прерывались за вечер всякими сообщениями. В час ночи позвонил сторож стройуправления — сообщил, что около двенадцати ночи неизвестный злоумышленник проник через окно в контору и учинил погром: разбросал бумаги, разорвал на куски спецодежду, выдрал подкладку. Из казенного имущества ничего не взято. Сторож предположил, что преступник, видимо, порезался о стекло — на полу пятна крови.
Севчук машинально занес это сообщение в журнал происшествий и, особо не задумываясь, решил: это дело рук пацанов.
Подобный случай в его практике уже был. «Вернется оперативная группа — пошлю, — подумал Севчук. — Но все-таки надо пока поставить в известность участкового уполномоченного».
В это время позвонила жена.
— Знаешь, Геннадий, я решила завтра подать на развод. Нам надо разойтись. Так будет лучше для нас обоих.
Она выпалила это в одно дыхание. Хотя Геннадий приходил сам к тому же выводу, слова жены оказались для него неожиданными. Он растерялся.
— Зачем же так торопишься? — хриплым незнакомым голосом выдавил Геннадий, понимая: оттяжка вряд ли что изменит. Но какая-то сила заставляла цепляться за развалины семейного очага. — Слушай, давай пока не будем разводиться, а? Я очень прошу. Поживем на расстоянии и увидим: нужны мы друг другу или нет. Ну, пожалуйста, больше я ни о чем не буду просить...
— Все это бесполезно, — сказал почти незнакомый женский голос с металлическим оттенком, и в трубке зазвучали короткие гудки.
Севчук оказался окончательно выбитым из колен. Дальнейшее происходило как во сне. Группы прибывали и уезжали вновь. Приводили кого-то. Составлялись разные протоколы, брали объяснения с задержанных. Все было как обычно.
На рассвете, когда уже проснулись птицы и сон клонил голову Севчука к столу, пришла телефонограмма из Народного комиссариата внутренних дел республики.
Всем райгоротделам милиции республики.
Немедленно примите меры к розыску и задержанию преступника: среднего роста, шатен, полного телосложения, носит бороду и усы. Ранен из огнестрельного оружия в правое плечо или в руку. Скрылся от преследования около 22 часов. Преступник вооружен. О всех известных фактах, имеющих отношение к данному сообщению, немедленно доложить.
Севчук словно очнулся от оцепенения — по телу пробежал неприятный холодок, засосало под ложечкой: верный признак неприятностей. «О всех известных фактах, имеющих отношение к данному сообщению, немедленно доложить», — повторил он про себя.
Геннадий чувствовал, что сообщение сторожа стройуправления имеет отношение к телефонограмме.
«А что же я предпринял по тому сообщению? — встрепенулся Севчук. — Неужели ничего?!» Он с испугом схватил раскрытый журнал и обнаружил: в графе о принятых мерах по сообщению не было никакой записи.
— Та-ак, — вслух произнес он, бессильно опускаясь на стул. — Вот это да. Как же я так оплошал? — И Геннадий вспомнил звонок жены.
Сердце заныло от тревожного предчувствия.
Он вскочил и торопливо начал ходить по комнате. Мысли, перегоняя друг друга, носились в голове: «Да он и разорвал эту тужурку потому, что надо было перевязать рану, — вдруг осенило его. — А бумаги? Бумаги, пожалуй, раскидал, чтобы капли крови прикрыть, дабы не заметили сразу, чтоб прошло определенное время. Выиграть время! А я, балда... — Он схватился обеими руками за голову. — А я тут нюни распустил... Надо срочно послать туда Измайлова. Он все сделает, что может, все...»
Севчук кинулся в коридор, крикнул постовому:
— Позовите быстренько Измайлова... Быстрее!..
Мысли отчетливо нарисовали дальнейшую картину: «Через два-три часа закончат осмотр места происшествия, и можно будет сообщить о нем. Спросят: почему не сразу доложили по получении телефонограммы? Начнут выяснять детали: что да как, да когда... Выяснится мое бездействие — нагоняй обеспечен. Не будешь же ссылаться на жену. Это только усугубит положение: могут еще аморалку прикрутить».
Он вернулся в комнату. «А если доложить сейчас? Что тогда? А, собственно, что докладывать? Свои догадки? Выдать их за осмотр места происшествия, а тем временем Измайлов прояснит обстановку. Соблазнительный выход. Во всяком случае, есть шанс выкрутиться».
Севчук снова высунулся, в окно и резко покрутил головой, точно готовил себя к испытаниям на центрифуге, затем подошел к столу. «Нет, — решил он. — Если и мы будем ловчить, кому же верить?!»
Он оперся обеими руками о спинку стула, тихо, отрешенно произнес вслух:
— Черт знает, что со мной происходит! Видимо, Неля права: никчемный я человек, раз на ум приходят такие подлые мысли.
Через несколько минут Измайлов с двумя оперативниками, прихватив проводника с собакой, выехали на место происшествия.
Совсем рассвело. Солнце поднялась над горизонтом, и лучи его, проникая через листву, рассыпались по комнате неровными пятнами. Геннадий прикрыл глаза ладонью, как козырьком, и через запыленные, давно немытые стекла всматривался в проезжую часть дороги. Было плохо видно, и он приоткрыл другую створку окна.
«А вдруг я ошибаюсь? — с надеждой подумал он. — Могли же там пошуровать мальчишки!? Вполне. Если так, то группа должна сейчас вернуться».
Но группы не было ни через час, ни через два. «Может, собака след взяла и теперь работают по нему? — гадал Геннадий. — Если это матерый волк, вряд ли он даст возможность использовать собаку, тем более прошло уже столько времени...»
Между тем группа Измайлова обследовала контору стройуправления и обнаружила на полу кровь. Проследив предполагаемое движение ночного гостя и направление падающих капель крови, решили, что неизвестный ранен в правую часть тела — в руку или плечо.
Дальше стали искать след. Нашли. Привел он к продовольственному магазину и затерялся. Решили: тот тип умчался на машине. Стали искать сторожиху. Минут через десять появляется.
Оказывается, она напротив живет и наблюдает, по ее словам, из окна своей квартиры. Сначала оперативники усомнились в этом, но на их вопрос насчет бородача она тут же выдала:
— Видела его. Крутился около часа ночи. Думала: присматривает, что плохо лежит, ведь два раза обошел магазин-то, забрел, как бездомный пес, и в будку мою. А тут как раз сосед Фуат на своем драндулете-полуторке. Этот мужик-то — к нему. Не знаю, об чем они там толковали, да после тот-то, похожий на дьяка, сел к нему в кабину и — айда. А куда? Бог его знает. Но сосед эдак через час-два вернулся.
Измайлов этого соседа — с койки. Тот сказал, что повез бородача за четвертную в Святовский поселок.
Взяли шофера с собой. Показал где незнакомец сошел.
Собака с трудом взяла след. Несколько раз теряла. Совсем потеряли след около Волжского монастыря, точнее, на его каменных ступенях. Лестница спускалась к самой Волге. Пришлось изрядно полазить, но без толку...
Прибыл Измайлов только около восьми утра.
— Знаешь, старина, — начал он уже с порога, — не повезло мне сегодня. Видишь, фендель какой на лбу поставил? И надо ж, на ровном месте поскользнулся, на лестнице — к воде спускался...
— Слушай, не тяни кота за хвост, рассказывай быстрее, — перебил Геннадий. — Время не терпит — давно пора докладывать.
Глава III
Совещание следственного отдела НКВД республики началось в шестнадцать часов. В нем участвовали и некоторые сотрудники райотделов милиции. Заместитель начальника полноватый и лысеющий майор Галямов изложил всем суть дел последних дней. Докладывал стоя, привычно медленно раскачиваясь с пяток на носки. В бумажки не заглядывал — обладал отменной памятью. Остановился и на событиях вчерашнего дня. Чуть надтреснутым усталым голосом поведал о попытке милиции задержать неизвестного, следы которого затерялись в районе Волжского монастыря, в поселке Святовске. Майор высказал предположение: раненный Закировым преступник и лицо, проникшее в контору стройуправления, — один человек. Привел при этом доводы: идентичность отпечатков обуви, характер ранения и кровотечения, последовательность событий по времени. Он отметил, что одна из причин, позволивших преступнику скрыться, — медлительность работников второго отделения милиции Советского района.
— Товарищи, — продолжал Галямов, глядя в распахнутое окно, — сейчас еще не ясно, почему Жуков заподозрил тех двух, которых преследовал. Сам он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. По заключению врачей, если все будет нормально, с Жуковым можно будет побеседовать не раньше, чем через неделю.
Галямов налил из графина в стакан воды и немного отпил.
— Я напомню присутствующим, — заговорил он чуть бодрее, — Жуков совместно с Треньковым вели дело об убийстве Древцова и ограблении его квартиры. Мы уже слушали Тренькова о состоянии дела. К сожалению, он нас не порадовал. — Майор снял очки и тоном приказа заключил: — Руководство отдела поручает старшему лейтенанту Закирову возглавить расследование.
Он повернулся к Закирову и, окинув его быстрым оценивающим взглядом, немного тише произнес:
— Товарищ Закиров, у вас есть возражения по этому поводу?
Закиров нерешительно поднялся с места:
— Нет. Но на мне висят два срочных дела и...
— Все дела вы передадите капитану Черных, — не дал ему договорить Галямов. — Он завтра из отпуска выходит. И учтите, Закиров, надо что есть мочи налечь. Уже две недели прошло, а результаты — кошкины слезы.
Потом с председательского места поднялся молодой еще, чуть седеющий красивый шатен с тремя шпалами в петлицах.
Шепот в кабинете мгновенно стих, воцарилась тишина. Откуда-то издалека донесся перестук трамвайных колес.
— Товарищи, — начал полковник Нурбанов, возглавлявший отдел, — последние дни Жуков изучал картотеку и архивные дела по выдвинутой им версии. Не исключена возможность, что он увидел в ресторане лицо, причастное к убийству Древцова. К тому же нельзя не учитывать и другого: дела, которые расследовал Жуков, все без исключения окончились поимкой преступников. Мне представляется, что выдвинутая им версия заслуживает пристального внимания, во всяком случае, она в большей степени увязывает известные нам факты и события в одну цепь, хотя и здесь много белых пятен. Полагаю, что не исчерпана и предыдущая версия: террористический акт в отношении ответственного советского работника. Поэтому Тренькову надо поработать некоторое время в этом направлении. Сколько ему работать, определит Закиров. Видимо, не нужно пока противопоставлять эти версии.
Зазвонил телефон, соединяющий с наркомом автономной республики.
Нурбанов взял трубку. Судя по тому, как напряглось его лицо и он нервно начал записывать данные, все поняли: случилось что-то серьезное.
— Извините, товарищи, — сказал он, закончив разговор. — Продолжим далее... Итак, товарищ Закиров, постарайтесь немедленно установить личность убитого преступника и, по возможности, бородача, его сообщника. Это первое. Второе: я вам рекомендую побывать на месте происшествия — квартире потерпевшего. Это многое прояснит, даст пищу для размышлений. Все. Совещание закончено.
Нурбанов попросил остаться некоторых сотрудников отдела. Он немного постоял в раздумье, внимательно посмотрел на каждого из присутствующих, словно определял их готовность воспринять и оценить то, что хочет сказать.
— Только что звонил нарком... В восьми километрах от Светловолжска, вниз по Волге, в три часа ночи в течение нескольких минут работала неизвестная рация. Часть передачи удалось записать. Над шифровкой работают. Оперативная группа установила: следы затерялись на берегу Волги, в шести километрах от Волжского монастыря, если взять его за крайнее строение населенного пункта Святовска. При прочесывании в придорожных кустах найден велосипед с проколотыми шинами. Есть предположение, что этим велосипедом оставлены следы на месте работы рации. Соответствующие документы сейчас будут доставлены. А пока давайте-ка взглянем на карту.
Нурбанов пригласил всех к карте республики. Он взял указку и повел ею по разноцветным значкам.
— Видимо, здесь он работал, потом подался по извилине дороги. Она, видите, здесь наиболее близко подходит к Волге?..
— Не исключается, что здесь он пересел в лодку, — предположил старший следователь майор Стеклов, — и по течению — вниз. Скорость течения тоже надо учитывать.
— Не исключается, — подтвердил Нурбанов, — но впереди, примерно в полукилометре, находится развилка дорог... И можно допустить, что там ждала его машина. Отсюда радист мог двигаться в трех направлениях. Следовательно, извилина к реке... использование лодки могут оказаться лишь прикрытием. Расчет: ввести нас в заблуждение. Но может быть и наоборот: противник исходил из близких наших соображений, с учетом, конечно, своих практических возможностей.
— Одну дорогу, товарищ полковник, можно все же исключить: вряд ли он поехал навстречу опергруппе. Это единственная дорога сюда из Светловолжска, — сказал Закиров. Но тут же засомневался в собственном предположении: — Хотя здесь еще надо учесть фактор времени: когда опергруппа может прибыть на место передачи.
— Верно. Теперь поразмыслим именно...
— Разрешите? — раздался голос появившегося в дверях посыльного.
Нурбанов повернулся.
Посыльный, обратившись по форме к полковнику, передал пакет с данными, связанными с деятельностью неизвестного лазутчика.
— ...именно с этих позиций, — продолжил Нурбанов, быстро знакомясь с содержимым пакета. — Радист исходил, конечно, из худшего — работа рации и ее местонахождение будут известны контрразведке. Но сколько для этого понадобится времени? При удаче для пеленгации и прибытия на место нахождения рации необходимо как минимум сорок — сорок пять минут. У развилки дорог мы можем оказаться минут через тридцать пять — не раньше. А что же предпринимает радист? Для сбора, упаковки рации ему с лихвой хватает пяти минут. До развилки дорог два километра. На велосипеде по проселочной дороге со скоростью двадцать — двадцать пять километров их можно преодолеть за шесть-семь минут. Таким образом, у него остается в запасе не менее двадцати минут. Если даже сломается велосипед, радист значительно раньше достигнет развилки, чем мы. Именно на этот случай, видимо, шпионом предусмотрена дополнительная страховка: автомашина или лодка...
Для проверки различных вариантов действий радиста руководство отдела решило создать специальные группы.
Решено было также организовать поиск рации. Предположили, что ее хранят в тайнике где-то в лесном массиве, прилегающем к ближайшим населенным пунктам.
Галямов и Стеклов считали, что рацию надо искать в районе от развилки дорог до Святовска по крутым безлюдным откосам берега. Пришли также к выводу о необходимости обратить особое внимание на три ближайших населенных пункта.
Майор Петр Прохорович Стеклов — в прошлом активный участник гражданской войны, помощник командира особого отряда губернского ЧК — настаивал начать серьезную работу по поиску радиста со Святовского поселка, в котором, как он полагал, немало затаившихся недобитков, темных людишек. Он, как уроженец Святовска, считал, что Волжский монастырь, который находится на территории этого поселка, — обитель с неразгаданным мрачным прошлым.
После выступления Стеклова совещание закончилось, но расходиться не спешили.
— Петр Прохорович, — обратился Нурбанов к майору, — я много слышал об этом монастыре. Ты расскажи-ка нам буквально за пять минут, — он посмотрел на часы, — что примечательного в его истории.
Стеклов поведал, что монастырь-крепость был построен по инициативе патриарха всея Руси Никона еще при царе Алексее Михайловиче почти триста лет назад и пользовался особым покровительством высшего столичного духовенства и членов царской семьи. Его положение не изменилось, когда сам патриарх Никон попал в опалу за попытку подчинить себе царя, возвысить власть духовную над властью светской. Вокруг монастыря селился разношерстный люд. С годами это селение получило название Святовска. Монастырь служил форпостом для борьбы со всякой крамолой, особенно с раскольниками. Сторонники Никона считали, что раскольники-староверы приносят вред православному учению больший, чем иноверцы, — они подрывают веру изнутри. Поэтому в монастыре при его строительстве были предусмотрены тайные палаты, где расправлялись с еретиками-старообрядцами. Впоследствии преследование старообрядцев активно начала светская власть, фактически подменив в этом официальную церковь. Это соответствовало желаниям церкви, поскольку православная вера отрицала насилие. Церковь вдохновляла на проявление насилия, но свою причастность к этому пыталась скрыть. Когда ересь в округе была искоренена, а оставшиеся старообрядцы попрятались по лесам, тайные палаты стали использоваться для сокрытия церковных ценностей от набегов разбойников.
Говорил майор Стеклов с юношеской горячностью, хотя ему было за пятьдесят. Он отметил, что тайны монастыря были использованы в гражданскую войну врагами советской власти и одно время монастырь был убежищем атамана Мефодия. Трижды его накрывали в монастыре — и каждый раз главарю банды удавалась непостижимым образом уйти через сплошной заслон красноармейских частей особого назначения.
— Когда мы выследили атамана и окружили монастырь последний раз, — рассказывал Стеклов, — я собственными ушами впервые за свою жизнь услышал, хотя жил у монастырской стены около тридцати лет, странный гул из-под земли. Мне, мальчишке, еще дед говорил: «Когда дьявол ударит в подземный колокол, быть беде: кого-то из обитателей монастыря мертвым найдут — сатана вилами насквозь пронзит». Я не поверил ему. Но когда мы ворвались в монастырь после перестрелки, в церкви святых апостолов нашли нашего человека, внедренного в банду. Он был убит именно тем способом, о котором говорил мне дед-пономарь. Кстати, сам он тоже умер таинственным образом.
Майор подошел к окну и закурил. Все выжидательно молчали. И он, поняв это, продолжил:
— Отец мне тогда сказал: «Дед твой умер раньше божьего предначертания — слишком много знал. Я должен отплатить за его смерть настоятелю монастыря отцу Викентию. Но что может сделать бедный поденный работник? Ничего! Он прихлопнет меня как комара, и вы, мои кровинки, пойдете по миру». Так и остался долг за архимандритом Викентием.
Стеклов потушил папиросу и отошел от окна.
— Позднее, когда уж царя скинули, отец пояснил мне историю с дедом немножко подробней. Но об этом как-нибудь потом.
— Так что ж, тот человек, которого вы нашли в монастыре, действительно был убит вилами? — спросил Закиров с легким налетом то ли смущения, то ли сомнения.
— Насчет вил сатаны утверждать не берусь, — улыбнулся Стеклов. — А вот то, что он был прошит ровной строчкой, словно толстой машинной иглой, это собственными глазами видел.
— Вы, Петр Прохорович, считаете, что атаман и его шайка бежали через подземные убежища? — спросил Нурбанов.
— В этом я убежден. И думаю, их могут использовать темные элементы в своих целях. Михаил Иванович, я должен уточнить тут: спасался каждый раз лишь атаман, члены банды уничтожались либо сдавались нам в плен. Никто из пойманных бандитов не знал, каким образом и когда исчезал их главарь. Правда, когда Мефодий направлялся в монастырь, он брал с собой десять — пятнадцать человек, не более. А в банду входили человек сто пятьдесят. Короче говоря, в монастыре он был как дома. Был уверен в недосягаемости, поэтому и брал с собой немногочисленную охрану. В других же случаях он никогда не рисковал отправляться куда-нибудь в столь малочисленном сопровождении.
— А вы не задумывались, майор, почему все-таки уходил от вас всегда один он, даже без ближайших помощников? Иными словами, мог ли он объективно только один укрыться в своем убежище или сознательно оставлял своих людей на верную гибель, лишь бы не раскрыть некую тайну?
— Откровенно говоря, я задумался над этим вопросом не сразу и не вдруг. Эта мысль мне пришла намного позже, когда было покончено с бандитизмом в наших краях, а сам атаман Мефодий, по рассказу одного знакомого, был убит где-то под Астраханью. Полагаю, что атаман имел возможность укрыть от преследователей сразу несколько человек. Но почему он этого не делал — трудно сказать. Бесспорным мне представляется одно: тайна, которую он так оберегал, видимо, стоила человеческих жизней. Вот почему я и предлагаю начать со Святовского поселка и монастыря.
— Товарищ майор, откуда взялся в этих краях атаман Мефодий? — поинтересовался лейтенант Закиров.
— Видите ли, он был сыном настоятеля монастыря отца Викентия.
— А-а, — протянул удивленно тот. — Так вот почему он тут околачивался и так хорошо ориентировался...
— Товарищи! — произнес Нурбанов. — Мы немного засиделись, мне пора в горком партии. Думаю, что история, которую поведал нам Петр Прохорович, не только занимательна, но может оказаться и полезной. Поручаю вам дело о радисте, майор. Но не увлекайтесь Святовским поселком. Думаю, что и Светловолжску надо уделить внимание. Соответствующую информацию вражеская агентура может добывать только там. Другие населенные пункты не имеют более или менее значимых предприятий. Радист начал работать — стало быть, наша информация начала уплывать. Возможно, он сообщил своим шефам лишь о начале деятельности. Будем надеяться на это. Иначе выходит: мы тут даром едим государственный хлеб.
Все начали расходиться.
— Товарищ майор, — обратился Закиров к Стеклову, — позвольте узнать, что все-таки поведал вам отец?
Подошли молодые сотрудники отдела Юрий Мишанов, Тагир Матыгулин и с затаенным дыханием уставились на Стеклова.
— Пойдемте-ка потихоньку, по пути и поговорим... Видите ли, ребята, тут дело связано с легендами, ходившими в Святовске не одно столетие. А они, как это водится, бывают малоправдоподобны. Истина с годами окутывается домыслами, словно корабль, канувший в морскую пучину, илом — до нее добраться трудно...
Майор снял очки, протер стекла куском марли и не торопясь продолжил:
— Дед незадолго перед своей внезапной смертью рассказал отцу такой случай. Накануне после вечерни уснул он прямо на колокольне. Тепло было, солнышко только что зашло, ветерком обдавало, вот и притулился в уголке. Проснулся: темно, чует, словно кто-то жерновами крутит над изголовьем. Встрепенулся он, глянул по сторонам и не поймет, в чем дело. На краю проема колокольни, не доходя, однако, края стены, вроде как колодец образовался. Смотрит: отверстие-то уменьшается, и показалось в черноте колодца лицо самого настоятеля монастыря — отца Викентия. Подумал, это сатана в облике его явился, осенил себя крестным знамением и зажмурил от страха глаза. А когда открыл их — ничего уж и не было.
Майор помолчал, положил очки в нагрудный карман.
— В Святовске и поныне ходят легенды: якобы люди в прошлые века видели, как на колокольне — не знаю, на которой из трех, мой дед как раз на ней устраивал перезвон — появлялся в полночь черный гроб на фоне белой стены, освещаемый каким-то таинственным огнем. При этом очевидцам казалось, будто там бегали призраки. Вот такие дела...
— А как же ваш дед? К какому, так сказать, выводу он пришел? — спросил лейтенант Матыгулин.
Стеклов улыбнулся:
— К какому он пришел выводу, я не знаю. Отец мне сказал, что дед после того случая поверил в слухи и кое-кому рассказал об увиденном. Именно это, как считал отец, погубило его: на другой же день отравили... Ведь дед столовался в монастыре.
Они остановились в конце коридора у окна. Тут находился кабинет Стеклова. Майор смахнул невидимую пыль с подоконника, положил папку, вздохнул и тепло посмотрел на столпившихся вокруг него молодых людей. Он любил молодежь. И те тянулись к нему.
— Ну, если уж я сегодня уподобился старушке-страннице, которая разносит слухи и легенды с примесью небылиц, то должен сказать еще кое-что... Если подземный гул или, как считал мой дед, подземный колокол извещал об убийстве раба божьего — обитателя монастыря, то появление гроба на колокольне было другим драматическим предвестником: на следующий день находили мертвым одного из «смутьянов-еретиков» среди жителей Святовска. Поселок жил в постоянном страхе. Это уж я по себе знаю...
Майор кончил курить, достал из брючного кармана ключи от кабинета, на миг задумался.
— Отец мой, умирая в семнадцатом году от чахотки, полученной на кирпичном заводе при Никишине, владельце его, наказывал: «Никогда не отступай от дела рабочих. Развороши волчье логово — это будет платой за деда... Слова мои помни всегда...»
Стеклов глубоко вздохнул:
— Слова его помню и свято чту, а вот настоятель монастыря исчез. Оставил после себя сына, атамана разбойников, темные дела да мрачные легенды. Не хотелось бы мне уйти на пенсию, не доведя дело до конца.
— Товарищ майор, неужели вы не пытались осмотреть монастырь, хотя бы колокольни? — спросили его.
— Осматривал, изучал и не раз, все пока свелось, как говорят гадальщицы, к пустым хлопотам. Все чрезвычайно искусно сработано старыми русскими мастерами. Я уверен: там есть что разгадывать...
Стеклов не стал рассказывать другие легенды — те вообще не внушали доверия, хотя считал, что их тоже следует проверить.
— Товарищ майор! — крикнули с другого конца коридора. — Вас просит к себе замнаркома.
Стеклов извинился и направился к начальству.
Глава IV
Прошел май с его грозами и неожиданными заморозками. В первых числах июня после сильной духоты прошумели дожди вперемешку с градом. От влажной земли повеяло приятной прохладой. Через раскрытое окно больничной палаты доносился пьянящий запах молодых листьев тополя и ясеня. Александр Жуков смотрел на дождевые капли, искрившиеся на нежно-зеленых листьях.
Голова гудела. Ноги и руки казались стянутыми резиновыми жгутами. Где-то в глубине мозга не давало покоя: «Как это случилось?.. Как я мог оплошать?» Лицо его было бледно, с оттенком желтизны.
Правда, лечащий врач заверил родственников и друзей, что все худшее позади. Тем не менее разговаривать ему долго не разрешали. Закиров, ежедневно наведывавшийся в больницу, попал к другу только на девятые сутки.
Ильдар многое хотел сказать Александру, но решил не утомлять его. Осторожно пожал его бессильную руку, вглядываясь повлажневшими глазами в лицо больного.
— Ты, Сашутка, будь молодцом. Главное, не расстраивайся. Врач сказал: все у тебя в порядке. Нужно только немножко отлежаться. Понял?
Александр утвердительно качнул головой.
— Да, чуть не забыл: все наши огромный привет тебе передают.
— Спасибо... Им тоже... привет, — тихо произнес Жуков. — А как бородач и его сообщник?..
— Сообщник на том свете. Личность его пока не установлена. Бородач, которого ты узнал, да?..
— Да... — глухо отозвался Александр.
— ...Зовут его, как ты помнишь, Фролов Валерий, по кличке Космач. Так?
— Да, так...
— Ты молодчага, Саша. Я по той фотографии, что в деле, ни за что не узнал бы...
...Жуков разглядел преступника в ресторане. Взгляды их неожиданно встретились. Бородач насторожился, заерзал. Забеспокоился и сидевший рядом с ним здоровенный детина.
Александр понял: он допустил ошибку, увлекшись наблюдением. Звериным чутьем бородач безошибочно определил: нужно бежать как можно быстрее. Он зашагал к выходу. Сосед его остался за столом, к Жукову спиной. Поэтому лица верзилы не удалось рассмотреть.
Александр хотел было предупредить Закирова, но побоялся упустить преступника. Он отправился за бородачом вслед. Миновали переулок, свернули в проходной двор. Фролов шел спокойно, не оглядываясь.
Жуков был уверен, что тот нырнет под арку и попытается уйти от него. Но борода, как мысленно окрестил его Александр, к удивлению его, обошел поленницу и вошел в подъезд.
Контрразведчик начал вести наблюдение за ним из-за поленницы. Он заметил появившегося во дворе мужчину. Тот шел мимо, не обращая ни на кого внимания. Тут дверь в подъезде распахнулась и появился Фролов. Внимание Александра переключилось на преступника. Он и глазом не успел моргнуть, как тот, проходивший мимо мужчина, оказался рядом. Жуков увернулся от удара бородача и в следующее мгновение приемом уложил его на землю. Он приготовился было встретить поспешившего на выручку другого преступника, но вдруг почувствовал адскую боль в голове. Дальше ничего не помнил. Очнулся уже в больнице...
— Фролов бросил в тебя поленом... — пояснил Закиров.
— Выходит, я сыграл роль по их сценарию... Они перехитрили...
Приоткрылась дверь, и раздался негромкий женский голос:
— Заканчивайте. Больному долго разговаривать нельзя. Закиров еще раз взял руку Александра, тихонько сжал ее ладонями:
— Пока, дружище. Твоя версия верна. Сейчас я по ней работаю.
Закиров встал. Чтобы не расстраивать Александра, он сознательно ничего не сказал о том, что Космач скрылся.
— Ну еще раз до свидания, Сашута. Скорее выздоравливай! Завтра опять приду.
Закиров осторожно закрыл за собой дверь.
После его посещения настроение у Александра немного улучшилось. Не только оттого, что Ильдар успокаивающе действовал на него, но и потому, что лед расследования тронулся.
Александр попытался покопаться в деле Древцова, но не смог.
Память, как из глубокой ямы, вытаскивала из затуманенного сознания какие-то лица, слова.
...Вот он увидел себя на лыжах. Рыхлый свежевыпавший снег ярко искрится на морозном солнце, слепя глаза. С высокого крутого берега Волги мчатся редкие смельчаки.
К берегу вплотную примыкала сосновая роща, нависая над застывшей волжской равниной. В роще сновало множество лыжников. Одни любовались с высоты местностью, другие стояли на краю спуска, примеряясь: можно ли отсюда съехать. Лыжники весело уговаривали друг друга скатиться разок, показать удаль. Некоторые решались, но редко кто не падал. Обычно падавший вызывал веселье: он подымал клубы снежной пыли, в которых на некоторое время исчезал, как при дымовой завесе, летели в стороны палки и лыжи.
Александр увидел белокурую девушку, направлявшуюся из рощи к обрывистому берегу. Впереди шел на лыжах парень, неестественно выбрасывая вперед почти прямые руки. Палки проносились слишком далеко и отталкиваться ими было трудно. Но он изо всех сил старался развить скорость, частил ногами. Длинный шарф развевался по ветру, путался в ногах.
— Ишь, фрайер, наяривает как на лыжах, — донеслось до Александра. Он оглянулся — недалеко стояло четверо подвыпивших мужчин, двое на лыжах. Они о чем-то говорили вполголоса, глядя на приближающуюся парочку. Те остановились рядом.
Один из четверых, обращаясь к спутнику блондинки, сказал развязно:
— Слышь, мастер, общественность просит, чтобы ей показали на этом косогоре урок слалома. И девушка, надеюсь, ждет того же.
Те невольно взглянули вниз — он от страха попятился назад, а блондинка испуганно заговорила:
— Да вы что, шутите?! Тут костей не соберешь!
Здоровый верзила небрежно бросил:
— Поможем собрать кости, пусть не беспокоится! — И, обращаясь к другому своему дружку, сказал: — Помоги проявить мужество и героизм скромному товарищу. Я знаю — он хочет этого, нужен только стимул...
Долговязый мужчина, что стоял ближе к парню, проворно подскочил к нему и с силой потянул за длинный шарф, подтаскивая, как телка, к обрывистому берегу. Другой хулиган подтолкнул парня в спину.
Все стали смотреть, что произойдет со стремительно уносящимся вниз лыжником. Вначале тот балансировал, словно переходил по жердине глубокую речку, готовый вот-вот рухнуть. Но затем, к удивлению всех, принял устойчивое положение. Однако, домчавшись почти до середины спуска, парень споткнулся, точно кто-то накрепко схватил его за ноги, и, ломая лыжи, снежным комом покатился вниз.
— Как вам не стыдно? — опомнившись, крикнула блондинка. — Ведь угробили человека!
— Она хочет выразить, так сказать, на ушко сочувствие своему хахалю, — снова подал голос верзила. — Снарядите и ее в путь-дороженьку, к милому... — И он похабно выругался.
— Слово Бугая для меня закон, — весело отозвался долговязый и, взяв ее за локоть, потянул к краю спуска. У нее от испуга расширились глаза. Беспомощность, однако, сменилась активными действиями: она обеими руками судорожно уцепилась за одежду долговязого, попыталась остановиться. Другой — неопределенного возраста тип — наступил ей на лыжу, она упала. На нее нарочно повалился долговязый.
Александр чувствовал: без столкновения с этой братией не обойтись. Он хотел снять лыжи, но передумал и решительно направился к девушке.
Долговязый не спешил вставать.
— Ай да Дюдя Хлебный, клевую бабу призыркал! — заржал его дружок Бугай.
Дальнейшие события произошли стремительно. Жуков рванул долговязого за ноги и спихнул его вниз, куда только что столкнули лыжника. Находившийся рядом дружок его кинулся на Александра. Жукову удалось увернуться от удара и отправить этого вслед за первым. Подвыпивший мужчина потерял равновесие и кубарем покатился, зарываясь в снег.
Девушка между тем встала и отъехала в сторону, растерянно глядя на происходящее.
Двое остальных — на лыжах — угрожающе двинулись на Жукова. У одного в руке был нож.
— Ну что, шпана! — поддел их Александр. — Поехали с горки, там и поговорим. Хотя вы же от страха сразу окочуритесь!
Жуков придвинулся к краю крутого спуска и, решив отвлечь внимание хулиганов от девушки, скомандовал:
— Дешевки, за мной!
Один не выдержал обидных слов и рванулся следом. Набирая скорость, оба понеслись вниз. Чувствуя за спиной преследователя, Александр резко повернул влево. Тот оказался опытным лыжником: сделал тот же вираж. Александр несколько раз менял направление спуска, стараясь одновременно сбить непомерно высокую скорость, но мужчина, как тень, не отставал от него.
Жуков понимал: при удобном моменте тот ткнет ему острием лыжной палки в спину, собьет с ног и тогда ему придется туго.
Несмотря на большую крутизну, спуск временами резко переходил почти в равнину, напоминая лестницу с ее площадками. Этим и решил воспользоваться Жуков. Преследователь, не задумываясь, копировал его «ходы», но на мгновение позже, при этом находился постоянно немного выше его. Миновав уже середину спуска, после очередной такой равнинной площадки Жуков резко повернул в сторону, сразу же повторил этот вираж и преследователь, но оказался в это время на площадке, сопротивление лыж резко возросло, он потерял равновесие и полетел в снег. Мужчина был явно увлечен погоней и не заметил вовремя неровности спуска.
Жуков остановился неподалеку от упавшего. Тот еле встал с одной лыжей на ноге, вытер лицо от снега, зло взглянул на Жукова и с яростью рванулся было вверх, к нему, но нога без лыжи заскользила, и он съехал еще ниже.
Теперь, на больничной койке, Жукову вдруг показалось, что где-то он снова видел это перекосившееся от злобы лицо. Точно видел! В предчувствии серьезного открытия у него появилось внутреннее напряжение, дыхание затруднилось.
«Да, точно... Это был он, Бугай!..»
— Сестра! Сестра! — слабым голосом позвал он. — Скорей позвоните в НКВД — немедленно пусть приедут!..
Глава V
Карусель последних дней вертела Закирова нещадно: поджимали сроки, а заметных сдвигов не было. К делу об убийстве Древцова цеплялись, как колючки репейника, мелкие и крупные заковыки. Одни удавалось отскоблить, как пустую шелуху, быстро, другие, забирая много времени и труда, так и оставались пока что неясными задачками. Но Закиров считал, что появление некоторых из них можно было предвидеть и их нельзя относить к неожиданностям. К примеру, при расследовании было установлено: за три месяца до гибели у Древцова исчезли на работе ключи от квартиры. Эта деталь была выяснена до конца — желаемых результатов она не дала.
Не показалось Закирову неожиданным, что кто-то на протяжении нескольких недель, как пояснила дочь Древцова, названивал по телефону и, не отвечая, вешал трубку. Звонки приходились на различные дни недели.
«Изучали расписание домочадцев, — решил Закиров. — Вряд ли это сердечные вздохи по замужней неинтересной женщине».
Она же высказала предположение: «По-видимому, звонивший живет где-то недалеко. Я как музыкант улавливаю различную степень звучания коротких гудков: звонят издалека — гудки после того, как повесят трубку, слабые, а с близкого расстояния громкие. Преобладали громкие гудки».
Все это время Ильдара не покидало ощущение: в квартире потерпевшего орудовал преступник, ранее бывавший в ней. Жуков и Треньков перебрали многих знакомых Древцова; не остались без внимания и случайные лица — слесари, агенты госстраха.
Мучил и другой вопрос: как преступник сумел подобрать ключи к сложным замкам, изготовленным по индивидуальному заказу. Техническая экспертиза бесстрастно заключила: дверные замки открыты дубликатами ключей. Следы отмычек отсутствуют.
Вчитываясь в бумаги и мысленно представляя дом и квартиру Древцова, Закиров снова и снова задавал себе вопрос, каким образом преступник достал ключи. Человека, изготовившего их, нет в живых. Мастер не знал, кому предназначались замки. Заказчиком их был фронтовой друг Древцова. Вот и замкнулся проклятый круг.
А если предположить, что ключи хозяина квартиры на короткий срок перекочевали в чьи-то руки, скажем, для снятия слепков с них? Можно допустить такой вариант? Пожалуй, можно. Вытащили у него незаметно из кармана. Но когда? Для этого нужно ведь знать наверняка, где находятся ключи. Преступник, возможно, следил за Древцовым, наблюдал с лестничной площадки, сверху, когда тот закрывал двери.
Зная время ухода Древцова на работу, злоумышленник должен был находиться в подъезде пять — десять минут. Это в лучшем случае для него. Так сказать, если везло. Но чтобы убедиться в своих наблюдениях, что ключ постоянно он кладет в одно и то же место, преступнику понадобилось бы несколько раз топтаться на лестничной площадке — курить и прикидываться гостем соседей. Видимо, так оно и было. А что из этого можно выжать? Опросить жильцов, не фигурирующих в деле? Попытаться подтвердить причастность Космача к убийству? Это уже кое-что. Тогда версия будет покоиться на фундаменте фактов.
«Надо будет еще по ходу тщательно обследовать лестничную площадку и подоконник», — решил Закиров.
Где все-таки вытащили у Древцова ключи и положили их обратно? За то время, что он проходил от двери до подъезда, где ожидала его служебная машина, не успеть даже цирковому иллюзионисту. Ведь еще надо снять слепки и положить ключи обратно.
Такое же примерно расстояние от стоянки автомашины до служебного помещения.
«Тогда где же ему залезли в карман?»— продолжала беспокойно метаться мысль в голове.
В баню Древцов не ходил — предпочитал душ и ванну. От магазина и прочих хозяйственных дел спасали женщины. Заходил лишь изредка к друзьям и знакомым.
— Так... так... — вслух проговорил Закиров. — И снова тупик...
Он встал и зашагал из угла в угол в своем небольшом кабинетике, смахивающем на билетную кассу. Окно комнаты выходило во двор, где стояло несколько чахлых лип.
Ильдар вспомнил Жукова. Посмотрел на часы. Посещение больных — с 18-00. «Через три часа можно будет двинуть к нему», — подумал он.
Ему очень не хватало Александра. Они понимали друг друга с полуслова. Мысли Жукова и Закирова «витали», как говорил их начальник, полковник Нурбанов, на одной волне. Присутствие одного придавало уверенности другому. И так шло со школьной скамьи.
Закиров посмотрел во двор. Там сооружали леса для ремонта здания. Он позавидовал этим рабочим. «Они точно знают, что делать, а я — нет, — думал он. — Иду к цели как с завязанными глазами: то и дело теряю направление, спотыкаюсь. И конца-краю этому не видно. С превеликим бы удовольствием камни ворочал, землю пахал, лишь бы дело двигалось. Где же концы искать?»
Он присел на стул, обхватил голову руками.
— Ну, ладно, хватит причитать, — вполголоса сказал он себе. — Надо больше думать. Думать надо...
«Что я сегодня могу сказать Александру? — подумал Закиров. — Ничего».
Кто под кличкой Бугай бегал, неизвестно. А отсюда и подходов к Космачу не видно. Он, конечно, затаился и на поверхность вряд ли вынырнет сейчас. Хотя, как знать, что может повлиять на его поведение?
Зазвонил телефон.
— Я слушаю.
— Товарищ Закиров, как у вас дело движется? — послышался в трубке голос Нурбанова.
— Пока ничего нового нет, товарищ полковник.
— Что предприняли за два дня? Узнали, кто такой Дюдя Хлебный?
— Мы с Треньковым перерыли в архиве дела за последние три года. Ознакомились с картотекой судимостей, но пока ничего...
— Дайте запрос в Москву. Это первое. Второе: поговорите с народом, проживающим в доме, где жил Древцов. Я думаю, нужно еще побывать и в домоуправлении. В общем, надо думать и думать. Пора максимально активизироваться. Через два дня, в пятницу, прошу доложить, — и он положил трубку.
Нурбанов был серьезно озабочен состоянием расследования. Это понимал и до предела взвинченный Закиров.
«А ведь мог с полным правом и вздрючить — дело-то ни черта не движется, — подумал Ильдар. — Знает, на кого и как нажать, а самое главное — умеет давать разумные советы, в дальновидности которых уже неоднократно убеждался за время работы».
В кабинет вразвалку вошел Треньков и уселся на стул.
Отец Тренькова, как поговаривали сотрудники, был «тузом» в легкой промышленности. Судя по всему, работой в детстве его не утруждали. И здесь Треньков черновую работу не любил — старался уйти от нее. Работал импульсивно, неровно. Иногда проходил мимо главного, находясь в плену собственных «конструкций» и «моделей», оторванных от реальности. Но ему делали скидку на молодость, на неопытность. Многие недолюбливали Эдуарда Тренькова за бесцеремонность и самомнение. Некоторые выражали свое отношение к нему открыто, другие молча.
Когда к делу Древцова, которое было в производстве у Тренькова, подключили Жукова, следователь Черных заметил: «Ну вот, запрягли в одну упряжку трепетную лань с козлом».
Сомнений ни у кого не было, кто лань, а кто козел. Разве только у самого Тренькова.
Закирову не приходилось раньше сталкиваться по работе с Треньковым, и знал он его мало.
Треньков тем временем закурил и начал рассказывать что-то о женщинах. Ильдар погрузился в свои мысли и не вникал в его слова: «Надо будет ему сказать: пусть завтра займется жильцами дома, может, что и узнает. А я обойду в округе мелкие организации — Космач предпочитает работать именно в таких конторах».
— Так вот, — словно издалека донеслись до него слова Тренькова, — я пришел к выводу: идеальных женщин нет. Вернее, они бывают, но лишь в двух случаях: это та женщина, которую мы любим, и та, о которой мы ничего не знаем.
— Но во втором случае выходит: женщина существует лишь в воображении, — сказал Ильдар только для того, чтобы продемонстрировать свое внимание.
— Почему же? Не только в воображении. Вот, к примеру, увидишь на улице незнакомую, очаровательную женщину и воспринимаешь ее как идеальную. Она ведь существует реально — не только в воображении. Понятно, что ты в мыслях дорисовываешь ее внутренний облик. Но стоит познакомиться да приблизиться — и недавнее очарование исчезает, как туман на солнце. По опыту тебе скажу: много я разных красоток повидал — все на одну колодку сшиты: сверху — зеркальный блеск, а внутри — коряги да теснота душевная.
— А жена твоя разве...
Треньков небрежно махнул рукой, вид его говорил: «Понял тебя, можешь не продолжать».
— Женился, а мозгами до этого не пошевелил, не прислушался и к отцу. А он истину глаголил. Не пытайся, говорит, Эдик, накинуть супружескую узду на красотку — не удержишь. Красивая женщина — это скорее общественное достояние, чем личное. Ею любуются, как произведением искусства, все, кому не лень, ведь глаза другим не запечатаешь сургучом. Вот и начинает у них кружиться голова. А красота — не признает ума.
«Видно, перегрелся в семейной жаровне, — подумал Закиров, — вот и разоткровенничался. А может, человек такой — с душой нараспашку?»
— Вот здесь я кое-что набросал по делу Древцова, посмотри.
Он передал Тренькову план-вопросник — что нужно сделать в ближайшее время.
— Будут какие идеи — давай. Обсудим.
Они просидели над бумагой битый час. Ильдар поведал о звонке Нурбанова.
Затем Треньков стал названивать какому-то приятелю, приглашая в гости к себе. Судя по разговору, тот отказывался. И тогда Эдуард с кавказским акцентом произнес:
— Дарагой, если гара нэ ыдот к Магамэту, то я пайду к ней.
Закиров корпел над бумагами, мучительно раздумывая все над тем же вопросом: где преступник раздобыл ключи?
Догадка к нему пришла неожиданно, когда Треньков говорил про Магомета: если преступники не могли к нему подъехать, то они могли как-то заставить его прийти туда, где можно снять слепки с ключей. Как же я об этом раньше не догадался, болван! Они могли это сделать под каким-нибудь благовидным предлогом. Скорее всего под видом общественных мероприятий. Он же был активным участником гражданской войны, известным человеком в городе.
Мозг лихорадочно работал, перебирая различные варианты действий преступника. Возможно даже, послали какое-нибудь письменное приглашение. Скажем, на встречу с ветеранами или молодежью, в домоуправление, в какую-нибудь другую организацию или в школу, где действительно в это время происходило мероприятие. В общем, на такое мероприятие, где нужно было снять верхнюю одежду — пальто, плащ. Именно там он всегда носил ключи, несмотря на замечания родственников. Он очень, как говорила его дочь, верил людям и слышать не хотел, когда ему что-то говорили об осторожности.
Закиров сунул папку с бумагами в сейф, надел пиджак, снова вытащил бумаги, схватился за телефон. «А вдруг этот ход не подтвердится? Что тогда?» Ему стало жарко, он сбросил пиджак.
«Успокойся, — мысленно приказал он себе. — Будь что будет — надо немедленно, сейчас же действовать».
Он набрал номер домашнего телефона Древцовых. Никто не отвечал. Ильдар быстро собрался и поехал к Древцовой на работу.
Глава VI
Майор Стеклов глянул с моста вниз. Поверхность воды напоминала огромную мраморную плиту, переливающуюся неровными щербинками в косых лучах заходящего солнца. Лишь небольшие волны от приближающейся лодки напоминали о воде.
Очень ему хотелось выкупаться, да опасался: схватит радикулит, проклятый, потом будет не разогнуться эдак недели две. Но больше боялся другого: выйти из строя — работа не ждет. Ох, не ждет! Из головы не выходил радист.
Сегодня целый день обшаривали с группой солдат и работников милиции местность — прибрежные кусты, проверяли щупом сомнительные кочки, в некоторых местах снимали пласты дерна. Но рацию не нашли. Он понимал, что искать рацию на площади в несколько километров равносильно поиску меченого зверя в тайге.
Стеклов пришел к выводу: смена средств передвижения радиста была заранее предусмотрена. Майор установил: велосипед был брошен не потому, что, шины спустили, — они были проколоты радистом. Лишь в нескольких метрах от того места, где найден велосипед, на проселочной дороге, обнаружили следы накачанных велосипедных шин. Это был след найденного велосипеда. Никаких колющих предметов не обнаружили. Следовательно, вражеский лазутчик пытался ввести этим ходом в заблуждение контрразведку.
«Итак, допустим, радист пересел в лодку, — вновь начало в голове прокручиваться, как испорченная пластинка. — Вряд ли он пошел вверх по Волге к Светловолжску. Во-первых, на веслах против течения далеко не уйдешь. Утром, 29 мая, как свидетельствуют рыбаки, моторную лодку в этом районе не замечали. Прошли две баржи и пароход „Казань“. Последнее было подтверждено справкой пароходства.
А что же во-вторых?.. — задумался Стеклов. — Ба! Да, мы ведь могли послать в этот район из Светловолжска патрульные милицейские катера. Ошибка наша, конечно, что мы их не послали. Но радист-то рассчитывал, очевидно, их встретить. Поэтому, какой же резон ехать им навстречу в лодке с рацией? Правда, он в любой момент мог сбросить рацию за борт. Нет, опытный шпион на этот шаг не пойдет — не виден смысл риска. Остаться в разведке без рации, хотя бы на короткое время, это все равно что потерять руки. Ведь не всегда удается использовать почтовую и иную связь».
Стеклов вытащил блокнот и карандаш, начал прикидывать: где быстроходный катер мог настичь лодку, если радист направил ее по течению. Он учел расстояние, время возможной отправки катера, его скорость и скорость лодки с радистом. По его расчетам получалось: катер настигал лодку в черте Святовского поселка. «Стало быть, он должен был выйти из лодки раньше, до Святовска примерно за километр — полтора. Именно на этом участке и надо сконцентрировать поиски». И он заторопился.
Из телефонной будки позвонил в наркомат, попросил срочно прислать машину и одного-двух сотрудников.
Через четверть часа он и лейтенант Тагир Матыгулин уже мчались по направлению к Святовскому поселку.
Тусклые, красноватые лучи солнца еще виднелись на макушках деревьев. Падающие на дорогу тени кое-где уже начали сливаться с густеющими сумерками и легкой дымкой тумана. К вечеру стало холодать. Через приспущенное стекло на крутых поворотах хлестали по лицу прохладные струи воздуха, настоянные на аромате хвойного леса.
Все молчали.
«В молодости, — думал Стеклов, — как-то не замечаешь, не очень ценишь прелесть природы. Ее воспринимаешь как должное...»
Его мысли перебил возглас Матыгулина:
— Смотрите, смотрите — косой бежит!
Ему, коренному горожанину живой заяц был в диковину.
Заяц, немного пробежав по дороге, нырнул в придорожные заросли крапивы.
— Вот ведь черт! И крапива его не жжет, — благодушно улыбнулся шофер. — А если б потемнее было да фары горели — бежал бы зайчишка по освещенной дороге добрую версту.
Снова воцарилась тишина.
Матыгулин высунул руку из кабины. Воздушный поток приятно обтекал и холодил ладонь. Показалась развилка дорог.
Стеклов нагнулся к шоферу:
— Муса, останови машину, не доезжая до Святовска за километр.
Тот кивнул.
После поворота дорога оказалась разбитой. Машину сильно подбрасывало на ухабах. Рослый Матыгулин схватился на всякий случай за сиденье и время от времени пригибал голову.
Казалось, только Стеклов не замечал тряски. «Если бы попытались организовать специальную контору по разгадке различного рода шарад, головоломок и тайн, — думал он, — то я бы сказал: она уже существует, только вывеску надо сменить. Действительно, чем только не приходится заниматься нашему брату — от дверных замков до современных самолетов. Диапазон немалый. И так во всем».
Справа, где-то за лесом, сверкнуло.
— Зарница, — тихо, как будто себе, сказал майор.
«Все-таки загадки разгадывать труднее, чем придумывать их, — продолжал размышлять Стеклов. — Не потому ли в сказках цари предпочитали загадывать загадки, а не отгадывать. Ну, а если загадка сложная да очень важная для кого-то — ее уже принято называть тайной. Н-да... На раскрытие иной тайны не хватает порой целой жизни». И мысль его, как луч выхватила из памяти Волжский монастырь, не дававший ему покоя, как зубная боль.
— Товарищ майор, до Святовска — километр с небольшим. Где остановиться? — спросил шофер.
— Давай, Муса, влево. Чтоб машины не было видно с дороги.
— Понял.
В лесу царил сумрак. Начали подавать нудный голос комары. Матыгулин прошелся, старательно снимая с лица невидимую паутину.
— Муса, ты ждешь нас здесь!
— Есть, товарищ майор.
— Пошли, — майор махнул рукой Матыгулину.
Они продирались через кустарники и заросли папоротника вперемежку с крапивой. Матыгулин, чтобы не обжечь руки, держал их на уровне плеч. Майор шел чуть впереди, иногда дотрагивался рукой до шершавых толстых стволов елей и время от времени подносил руку к лицу. Прошли с километр.
— Знаешь, Тагир, — повернул Петр Прохорович голову, — с детства люблю запах смолы. Вот и сейчас нюхаю, как некоторые табак...
Он что-то хотел еще сказать, но впереди всполошилась сорока. Майор остановился и зашептал:
— У тебя глаз острый, присмотрись-ка, что там.
Оба замерли.
— Там виднеется вода.
— Это я и так знаю. Сорока ведет себя так, когда человека заметит близ своего гнезда... Никого не видно?
— Нет.
Стеклов осторожно двинулся, забирая чуть вправо. Часто останавливался и прислушивался, прижимаясь к деревьям. Его действия копировал и лейтенант. Он уже не отмахивался от наседавших комаров. Майор остановился. Это встревожило Матыгулина, появилось внутреннее напряжение.
«Почему же он взял крен вправо, почти параллельно реке? — машинально подумал лейтенант. И тут он догадался: — Сорока, судя по трескотне полетела влево, вдоль берега. Значит, человек в противоположной стороне. А вдруг это рыбак? Да мало ли кто здесь может околачиваться? Ведь не фронтовая нейтральная полоса, где почти каждый встречный — враг. Неясно, чего это он так насторожился».
Лейтенант хотел было высказать свое предположение, как вдруг справа, метрах в сорока, ему показалось: качнулись кусты. Лейтенант затаил дыхание, крепко прижался к дереву. Он осторожно дотронулся до руки Стеклова.
— Справа, в кустах, есть кто-то...
Майор повернул голову туда, присел на корточки и с видом охотника, почуявшего дичь, замер.
Ждали долго.
«Может, мне показалось? — засомневался уже Тагир. — Вот будет стыдоба, если никого там не обнаружится. Хоть бы какой зверек выбежал, и то легче было бы».
Чем дольше шло время, тем больше ругал себя Матыгулин: «Дернул же шайтан меня за язык. Понапрасну отвлек внимание Стеклова».
Вдруг от темного пятна кустов, очертания которых уже почти слились с густым мраком вечернего леса, отделилась сгорбленная человеческая фигура. Издалека казалось, что это движется тень.
Радость охватила лейтенанта. Напряжение сменилось облегчением.
Незнакомец немного постоял, поднял с земли большую бельевую корзину и, прихрамывая, направился в сторону поселка.
— Да это, кажется, хромой старикан, — немного разочарованно прошептал лейтенант. Но тут же усомнился: «Что же он так долго делал в кустах?»
Майор, пригнувшись, бесшумно двинулся к тому кусту, откуда вылез старик.
А вот и кусты. Оба присели. Майор немного подождал, озираясь по сторонам, включил фонарик. Сноп света вырвал у темноты густые ветви осинника и лопухи чертополоха. Стеклов пошарил рукой по земле, затем начал продираться через зеленую стену. От земли несло сыростью и прошлогодней прелой листвой. К этому примешивался запах молодой листвы и еще чего-то.
Лейтенант потянул носом воздух. «Так и есть, превратил кустарник в отхожее место. Может, поэтому он здесь прохлаждался? Бог его знает».
Майор выключил фонарик.
— Тагир, ты оставайся здесь. Чуть что — действуй по обстановке. А я за ним. — И он растворился между деревьями.
Матыгулин вытащил пистолет и привалился к дереву, прислушиваясь к темноте.
Шума воды не было слышно, хотя река текла рядом. Но запах воды ощущался, когда небольшой ветерок, словно очнувшись от дремоты, набегал на лес. Сквозь деревья чернотой нефти поблескивала вода.
Откуда-то издалека донесся пароходный гудок. И снова все замерло.
...Майор тем временем настиг хромого старика и шел за ним в нескольких десятках метров позади. Тот не останавливался — изредка только поворачивал голову, глядя по сторонам.
«Видимо, у старика развито боковое зрение — видит, что творится сзади, — подумал Стеклов. — Неужели это он работал на рации?»
Старик шел спокойно, даже слишком спокойно. И это вызывало двойственное чувство: внешне было трудно поверить, что он враг, но что-то в нем настораживало.
Судя по тому, как легко нес старик корзину, майор был уверен — рации там нет.
Под ногой Стеклова треснул сучок — старик внешне никак не прореагировал. «Что, он еще и глухой? Возможно. А может, это тонкая игра. Пожалуй! Надо сейчас же его проверить».
Майор ускорил шаг. Ему показалось, что старик тоже заковылял быстрее. Дальше начиналось кладбище.
— Стойте! — крикнул Стеклов, приближаясь к старику.
Но тот продолжал идти и встал только у глубокого рва. Старик медленно повернул голову. Теперь, метров за пять, майор мог рассмотреть этого ночного странника. Горбоносый профиль и сутулая фигура показались ему очень знакомыми.
И прежде чем он сообразил, где с ним встречался, тот, повернувшись с необычайной легкостью, швырнул в него корзинку и прыгнул в ров.
Майор, откачнувшись от корзины, сделал «нырок», как боксер, уклоняющийся от прямого удара противника. Рванулся вперед, но запнулся о толстый корень сосны, выпиравший из земли. Это спасло ему жизнь. Полыхнул выстрел, и как ветром сдуло фуражку.
Уже падая, майор вырвал из кобуры пистолет и, когда распластался на земле, дважды выстрелил. Стеклов чувствовал: неизвестный уходит по дну глубокого рва к реке.
Он встал, но дикая боль пронзила ногу. Стеклов упал. Внизу по откосу высокого берега затрещал кустарник. Это, как бык, напролом шел вооруженный преступник.
Майор оперся рукой о дерево, встал и, превозмогая боль, запрыгал на одной ноге к крутому, обрывистому спуску. Стоило ему появиться в пределах видимости старика, как тут же хлопнул выстрел — пуля цвикнула у самого уха. Майор сел и несколько раз пальнул в убегавшего в сторону поселка врага. Промахнулся! Тот юркнул в кустарник. Стеклов понял: теперь он спокойно уйдет, никак не остановишь.
В первую минуту майор подивился быстроте и ловкости хромого старика, а главное — меткости стрельбы. Но тут же на него навалились со всей силой обида и досада за свой глупейший, как он считал, промах. Такой досады он не испытывал никогда. За всю свою жизнь и работу в ЧК. «Позорище. Какое позорище! Ведь все это в рапорте придется написать! Как мальчика провели. Скажут: „Шел за хромым, немощным стариком, а тот чуть не зашиб его корзинкой. Стеклов со страху упал, а бандит невредимым спокойно ушел“.
А все же не зря несколько дней ломал голову — уразумел-таки, где эта рация припрятана. Додумался и до того, что первые дни не рискнут прийти за ней. Конечно же, радист или кто-то там другой знал о наших прочесываниях, во всяком случае — предполагал. Небось соображал: пусть себе ищут днем — вечером спокойно можно будет ее забрать. А мы тут-то и нагрянули! — Майор тяжело вздохнул. — Теперь хоть бы уж рацию найти. Не то будет пшик».
Стеклов в эти минуты переживал, пожалуй, такое же состояние, как крестьянин, который в голодную годину запахал свое поле, посадил и вырастил тяжелым трудом хлеб, но по своей неосторожности сжег его. Он ощущал такую же безысходность и смертельную горечь. Они парализовали его волю и мысль. И эта горечь усиливалась со все большей силой по мере того, как память медленно, но неотвратимо воскрешала события почти десятилетней давности.
«Теперь, кажется, вспомнил, кого я упустил... Это сам Варев Вячеслав — матерый шпион и головорез, на совести которого не одна человеческая жизнь, — прошептал пораженный своим открытием Стеклов. И почувствовал, как стала выступать холодная испарина на лбу. — Из-за него погиб мой лучший друг Вася Быков, с которым прошли всю гражданскую войну».
Тогда, на похоронах его, Стеклов дал себе клятву — найти этого мерзавца. А теперь вот он здесь был, рядом был — и ушел! Ушел из-под носа, чуть самого не отправив на тот свет.
Снова безграничная обида и бессилие охватили его. То была обида на самого себя, а она ранит вдвойне.
Майору не было знакомо ощущение беспомощности. Но сегодня он познал ее в полной мере. К этому стало примешиваться еще и чувство собственной никчемности.
И теперь здесь, в лесу, Стеклову казалось мелочью то, как оценят его действия товарищи, начальство. Через все эти мысли и ощущения в сознании у него пробивались, как растения через асфальт, лишь две суровые реальности: побег врага и плохой пример для молодежи.
Его охватила ярость, вернувшая ему силы. Нужно оцепить немедленно весь район, перекрыть дороги! Но где люди? Поздно! Уже через час это ничего не даст. Сейчас прибежит Матыгулин. Но пускать его в погоню за Варевым бесполезно — в темноте без собаки не найти.
Эта мразь теперь затаится, ляжет на дно, отыскать будет нелегко. Вряд ли он живет в Святовске. Для него — столь приметного — это что лодке в дождевой луже торчать — сразу бросится в глаза. Не иначе, толчется в Светловолжске — народу там полно, легко затеряться. Но в Светловолжск прибыл, наверное, недавно. Ну ничего — найдется. А рации в корзине не оказалось. Видимо, заметил нас раньше, чем мы его. Хитрая и коварная бестия.
...Десять лет назад Стеклов впервые услышал о Вареве. Тогда он работал в конторе одного завода, где произошла авария. В ОГПУ было возбуждено дело о диверсии. Расследование затянулось — сдвигов не было. В конце концов, почти через полгода, удалось очертить круг более или менее подозреваемых лиц — четыре человека. Среди них оказался и бухгалтер Варев Вячеслав Мефодьевич.
Вася Быков работал на этом заводе инженером. Он активно помогал следствию. С его помощью многое было выяснено и разоблачен один из вредителей. Но тот при аресте оказал вооруженное сопротивление и был убит.
В ОГПУ некоторые считали: акт саботажа был организован убитым преступником, то есть без соучастников. Иначе считал инженер Быков, полагая, что саботаж — дело рук не одного лица. Он заподозрил Варева, своего соседа по лестничной площадке. Однажды ночью он видел, как к нему приходил разоблаченный саботажник. Варева начали проверять. А Быков решил ускорить дело и самолично разоблачить затаившегося врага.
Его действия санкционировал следователь, у которого было это дело в производстве. Но он не подсказал Быкову одной мелочи, которая стоила ему жизни.
Быков по долгу службы соприкасался с секретными документами — это и попытался он использовать. Василий обратился к бухгалтеру Вареву с просьбой: одолжить на три недели две тысячи рублей. Цель этого хода сводилась к следующему: не потребует ли Варев расписки с Быкова и не станет ли ею как-то шантажировать должника. Если же бухгалтер не возьмет с него расписки, то не будет ли проверять мотив займа, заподозрив, что ему расставили ловушку?
Быков пришел к Вареву за деньгами и объяснил, что у сестры его, заведующей в Бугульме промтоварным складом, обнаружилась крупная недостача. Если он не добудет денег — ей тюрьма.
Бухгалтер согласился дать ему в долг, но сказал, что вынужден снять деньги со сберкнижки, и предложил после работы вместе сходить в сберкассу. Так и сделали. Варев получил деньги и, прежде чем отдать их сидевшему в стороне Быкову, подменил, как выяснилось позже, другими, номера которых были записаны.
За Варевым установили тщательное наблюдение. Но тот, казалось, не проявил ни малейшего интереса к родственникам Быкова. Через три недели Вася вернул ему деньги, а вечером был найден убитым у себя во дворе. Варев после этого исчез. Задержали убийцу — некоего Николаева. Он и поведал, в чем ошибся Быков, как сам угодил в ловушку.
Следствием было установлено: Варев, бывший царский жандарм, присвоил документы убитого им красноармейца. В гражданскую служил в контрразведке у адмирала Колчака. После разгрома белых армий сколотил банду и разбойничал на Волге. Позже было сообщение из Москвы о розыске крупного шпиона Варева — Поленского. Как оказалось, он — агент германской разведки, неоднократно переходил государственную границу. Еще в те годы Варев был обложен, как волк, красными флажками, но снова выскользнул.
Сила матерого преступника Варева заключалась в том, что, обладая опытом, интуицией и умом, он быстро сходился с нужными людьми и время от времени устраивал окружающим своеобразные экзамены. Причем эти проверки для многих оставались незамеченными.
И в последнем случае, о котором стало известно Стеклову, была знакомая история. Варев познакомился с Дочковым, инженером одного из наркоматов, завел с ним дружбу на почве выпивки, женщин и осторожно выведывал нужную информацию. А когда почуял внешне незаметные новые штрихи в поведении Дочкова, решил проверить того.
Действительно, в это время инженер сообщил в ОГПУ о своих подозрениях в отношении Поленского (новая фамилия Варева), заверив, что его приятель ничего не узнает об этом.
Варев, задумав несложную комбинацию, предложил Дочкову помочь устроить их общую любовницу на работу в наркомат. Пояснив при этом, что красотка Нелька быстро будет замечена начальниками, которые приблизят ее. Скажем, возьмут секретарем. Появится, таким образом, рычаг, который можно будет использовать для служебного роста.
Нельку приняли в наркомат, как обычно принимают в этих случаях рядовых сотрудников. Этот этап не вызвал особых подозрений у Варева.
Сотрудник ОГПУ, который занимался этим делом, расценил так: Варев хочет внедрить своего человека и использовать как источник информации. Стало быть, во-первых, Варев ничего не подозревает о сообщении инженера Дочкова, иначе бы он свертывал, а не разворачивал свою деятельность. И, во-вторых, Варев рассчитывает использовать оба канала для сопоставления и оценки получаемой информация. Следовательно, все это он предполагает использовать продолжительное время, по крайней мере — несколько месяцев.
Незримо помогая устроиться на работу Нелли Чудиновой, следователь пытался через нее доказать шпионскую деятельность Варева, а самое главное — выйти на его сообщников.
Запустив Чудинову в наркомат как наживку, Варев стал с напряжением ждать, что дальше будет. Любой перевод на верхнюю «ступеньку» должен был стать сигналом об опасности. В этом и крылась проверка. Преступник хорошо знал возможности Дочкова. Тот действительно мог помочь устроиться на работу в свое управление техническим работником, но проталкивать Нельку выше ему было не по зубам. Такой перевод могли устроить ей, скажем, органы безопасности. Это дало бы основание предполагать, что Дочков сообщил о нем в ОГПУ. Для Варева особенно важно было знать, в какой срок будет осуществлен перевод на новую работу и к кому именно.
Уже через полтора месяца Нелька оказалась техническим секретарем у одного из заместителей наркома. Варев, не теряя больше ни дня, скрылся, использовав канализационный колодец. Наблюдение за домом не помогло.
Стеклов, собиравший в свое время сведения о Вареве, знакомился с бумагами, проливавшими свет на всю эту историю. Он тогда, как ему помнится, отметил две ошибки: в переводе Чудиновой встревожил матерого шпиона не только срок. Главное: ее определили к руководителю, ведавшему промышленным производством особого назначения.
Вся эта история, связанная с деятельностью Варева, промелькнула перед мысленным взором майора Стеклова как трагическая картина, нарисованная одной только черной краской.
От усталости майор лег на землю. «Да, вот какого зверя я упустил сегодня! — казнил он себя. — Выходит, я переплюнул в своей глупости всех. А еще копаюсь в чужих ошибках».
Появился запыхавшийся лейтенант Матыгулин. Он остановился у рва, граничившего с кладбищем, и начал озираться.
— Это ты, Тагир? — спокойно окликнул его Стеклов.
— Что с вами, товарищ майор? — Матыгулин испуганно кинулся к нему. — Вы не ранены?
— Я ничего. А ты вот чего? Почему ушел от кустарника? Быстрее назад! И смотри в оба.
Матыгулин опешил. Он видел: с майором творится что-то неладное — тот лежал в неестественной позе с пистолетом в руке.
— Может, вам помочь? — растерянно предложил Тагир.
— Знаешь... дерни-ка посильнее за стопу левой ноги... Кажется, подвихнул. А потом — бегом туда.
Лейтенант потянул ногу Стеклова, и тот потерял сознание. Пришел в себя, когда Матыгулин, сбегав вниз, к воде, сделал ему примочку.
— Тагир, — произнес он негромко, — немедленно беги туда... к тем кустам. Возможно, там кто-нибудь сейчас появится. Действуй!
— Товарищ майор, как же вы...
— Немедленно иди. Если я не появлюсь до утра, пошли ко мне Мусу.
— Понял. Бегу, товарищ майор.
Лейтенант Матыгулин просидел в кустах несколько часов, но никто за это время не появился. Ноги задеревенели. Ночная свежесть леса медленно подбиралась к нему, и под утро стало неприятно холодить тело. Вконец одолели комары, но укусов он не чувствовал. С востока заструился матовый свет. Начали просыпаться птицы, включаясь в нестройный хор.
Было четыре утра, когда Тагир отправился к машине. Шофер, закрыв окна в кабине, спал сном праведника.
«Хорошо устроился, — поежившись от холода, отметил про себя Тагир, — но придется будить».
Шофер очень быстро пришел в себя и, выслушав Матыгулина, погнал машину в Святовск.
Лейтенант тем временем вернулся назад, было около пяти утра. Рассвело. Лес был еще окутан легкой дымкой. Матыгулин начал внимательно осматривать местность. Обошел кусты. И тут он оцепенел: там, где они вечером осматривали при свете фонарика заросли, увидел выкопанный куст чертополоха. Тагир осторожно схватился за основание толстого стебля и потянул на себя. Его взору открылась полуметровой глубины пустая яма. На дне ее были видны сохранившиеся отпечатки квадратного предмета. Матыгулин смерил площадь отпечатка и пришел к выводу: в яме хранилась рация! У него перехватило дух, как когда-то в детстве при падении с крыши сарая. Во рту пересохло.
«Когда же ее успели утащить? — растерялся лейтенант. — Неужели, пока я бегал к Стеклову?»
Слабой надеждой пронеслась в голове мысль: «А может, рации уже вчера здесь не было? К тому же чуть сдвинутый от ямы пласт земли, оплетенный корнями растения, майор мог не заметить — все это закрывают лопухи и ветви кустарника». Матыгулин покрутился вокруг этого
места еще минуту и решил, что оставаться здесь больше не имеет смысла.
Глава VII
Закиров застал Светлану Древцову на работе. Она аккомпанировала на фортепьяно высокой черноглазой девочке, старательно выводившей слова из песенки «Сурок».
Ильдар нетерпеливо прохаживался в коридоре, поминутно посматривая на часы. Росло внутреннее напряжение. «Если сейчас не подтвердится версия о действиях преступника, позволивших ему снять слепки с ключей квартиры Древцова, значит, надо все начинать сначала». Закиров от нетерпения снова открыл дверь аудитории, откуда доносилась нежно-грустная мелодия. На этот раз Древцова заметила Ильдара и, извинившись перед юной вокалисткой, поспешно вышла.
— Светлана Петровна, извините, кажется, оторвал вас... но дело срочное, — как-то неуверенно начал Закиров. — Я вас постараюсь не задержать.
— Да-да... Я слушаю, пожалуйста...
— Скажите, зимой или весной вашего отца никуда не приглашали?
— В смысле? Куда? Кто?
— Ну... например, в военкомат, в домоуправление на собрание, на встречу ветеранов или куда-нибудь в этом роде...
Она задумалась. Закиров замер, на его лице застыло выражение, похожее на мольбу: пожалуйста, очень прошу вас, выручите меня, вспомните, это чрезвычайно важно.
Древцова хотела уже отрицательно покачать головой, но, взглянув на него, помолчала, уставившись отсутствующим взглядом в невидимую точку.
«Все ясно, — оборвалось у него внутри, — судя по всему, моя догадка имеет право на жизнь не больше, чем мыльный пузырь». И когда она тихо произнесла: «Не помню», — внутреннее напряжение совсем спало, уступив место зыбкому равнодушию.
Оба молчали.
Закиров пальцами водил по широкому крашеному подоконнику, глядя на улицу. «Я, видимо, снова разбередил ее душевную рану, — подумал он, — и это, несомненно, мешает сразу вспомнить детали из жизни дорогого ей человека». Как бывает на экзаменах: вытащишь билет, тут же у стола преподавателя прочтешь его — и почти всегда от нервного напряжения напрочь отключается память, кажется: этих вопросов ты не знаешь. А стоит успокоиться — все становится на свое место. У него вновь появилась надежда.
— Светлана Петровна, вы еще разочек в спокойной обстановке подумайте. Пожалуйста. А я, с вашего позволения, зайду сегодня вечером. Может, ваш супруг что-нибудь прояснит.
Древцова посмотрела на часы:
— Вы знаете, он сейчас дома. Так что, пожалуйста, можете прямо сейчас. А я скоро заканчиваю — и прямо домой.
Закиров согласился с ее предложением.
Муж Древцовой, Николай Петрович, открыл дверь тотчас же, словно только и ждал его звонка. Узнав Закирова, зачастил скороговоркой:
— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ следователь, проходите. Я тут чай соорудил, так что прошу прямо к столу.
Поблагодарив за гостеприимство, Ильдар удобно расположился на кожаном с валиками диване. Оглянул взглядом комнату и отметил: все осталось без изменения.
На его вопросы Николай Петрович отвечал быстро, почти не задумываясь, как отличник-второклассник таблицу умножения.
Собственно, Закиров не очень-то надеялся услышать что-нибудь утешительное. Он знал: у них с тестем были прохладные отношения и каждый жил своими интересами. Вскоре пришла Древцова. Уже с порога заявила:
— К сожалению, ничего не припомнила. Видимо, ничего такого и не было.
Закиров встал, чтобы уйти, и на всякий случай спросил:
— Светлана Петровна, где у вас лежат письма, открытки?
— А мы их того... — ответил за нее муж, выразительно жестикулируя руками.
— Но рвете и выбрасываете, очевидно, вы свою корреспонденцию. А хозяин-то, может, ее хранил?
— А впрочем, может... — неуверенно согласился тот.
— Знаешь, Коля, посмотри-ка папин ящик в комоде, — вмешалась Светлана Петровна. — Там он поздравительные открытки от своих друзей хранил.
— Я не хочу в его вещах копаться. Посмотри сама, — недовольно ответил ее супруг. И тут же высказал предложение: — А лучше, если сам следователь ознакомится с содержанием этого ящика.
Закиров тут же поддержал эту идею.
В комодном ящике лежали давнишние фотокарточки Древцова, грамоты, открытки и письма друзей. Ильдар перебирал их осторожно, хотя в ящике царил хаос. «Копалось в этих бумагах в последнее время немало народу, — подумал он, аккуратно складывая их в стопку, — каждый чего-то ведь искал». Но он-то был уверен, что ищет самое главное — ключ к раскрытию тяжкого преступления.
Через полчаса он устал читать содержание грамот, писем и открыток и, взяв очередной конверт с напечатанным на машинке обратным адресом, вдруг встрепенулся. Лихорадочно посмотрел на почтовый штемпель, и сердце бешено заколотилось. Быстро вытащил из конверта четверть листочка и громко, повернувшись к домочадцам, зачитал:
Дорогой Петр Львович!
Коллектив средней школы 32 убедительно просит Вас выступить на вечере встречи выпускников с воспоминаниями о гражданской войне.
Вечер состоится 15, марта, в субботу сего года. В 19 часов.
Заранее сердечно благодарим Вас.
С огромным уважением, коллектив учителей школы. Очень ждем Вас.
Закиров подошел к Древцовой.
— Вам это приглашение ни о чем не говорит?
Та уставилась в бумагу и зашептала:
— Постойте-ка, кажется, его действительно приглашали. Да-да, верно.
— И он, конечно же, ходил? — больше утверждая, чем спрашивая, произнес следователь.
— Да. Сейчас вспомнила — он был на вечере. Но быстро вернулся.
— Что он вам после этого вечера сказал?
— Ничего. А может, и говорил. Память у меня стала дырявой после случившегося.
Закиров с разрешения хозяев оставил у себя письмо и немедля поехал в школу.
Ему повезло: в школе шли консультации у выпускников и он выяснил — организатором вечера была учительница истории Валентина Геннадьевна Зайцева. Через несколько минут уже разговаривал с ней. Выяснилось: приглашений в письменном виде никому не посылали.
«Фу... появилась хоть реальная зацепка, — с облегчением вздохнул Ильдар. — Теперь надо ее как следует раскрутить».
Он вышел на улицу. Было семь вечера. В больницу опоздал. Решил позвонить, наконец, Эле Бабаниной. Вошел в телефонную будку. Вновь появилось волнение. Ответил отец. Оказалось, что она уехала в командировку.
На следующий день с утра Закиров занялся жильцами дома, где проживал Древцов. А Тренькову поручил поработать с найденным накануне письмом-приглашением. И снова ему повезло: один из жильцов соседнего подъезда показал, что около двух недель назад видел во дворе незнакомого бородатого мужчину. Приметы, которые он описал, были весьма сходны, с приметами Фролова — Космача. Свидетель при этом подчеркнул, что бородатый мужчина, похожий на попа, вошел в первый подъезд. Именно там и находилась квартира, подвергшаяся ограблению.
Правда, у Космача в «послужном списке» не было до сих пор убийств. Видимо, преступник заранее и не помышлял об этом. Потерпевший явно пришел для него неожиданно и, очевидно, хотел задержать преступника. В завязавшейся схватке Космач схватил первый попавшийся предмет — мраморную пепельницу — и нанес Древцову смертельный удар. Так, по крайней мере, считал Жуков. Теперь эту версию подкреплял свидетель.
Из уголовного дела Фролова вытекало, что тот последние годы действовал в одиночку. Это предопределило его тактику: поселяться рядом с объектом предстоящего преступного посягательства, изучать тщательно обстановку — затем действовать.
Он старался не поддерживать связей с остальным уголовным миром и не доверялся случайным наводчикам. Не любил и добычу делить. Жил, как рак-отшельник, в одиночестве и не посещал шумных мест. Иногда поступал на работу, но и то чтобы подобраться поближе к намеченному объекту да чтоб не привлекли к ответственности за тунеядство.
Именно эти обстоятельства укрепили решение Ильдара срочно проверить ряд близлежащих организаций, где мог работать Космач.
Чем внимательней вчитывался Закиров в протокол осмотра места происшествия и воссоздавал в памяти план квартиры потерпевшего, тем больше ему казалось, что преступник ранее побывал там. Уж слишком быстро прибрал к рукам самое ценное. При этом бросалось в глаза — в квартире не было следов слепого поиска: в основном вещи находились на своих местах. «Может быть, преступник подслушивал телефонные разговоры и кое-что сумел выудить? Ведь Древцовым можно звонить лишь через коммутатор». И он начал поиск с телефонной станции.
Но надежды его не оправдались: на станции Фролов не работал.
В разговоре с одной из телефонисток выяснилось другое: несколько дней тому назад звонил какой-то мужчина и интересовался неким Фроловым Валерием Марковичем. «Я почему запомнила, — пояснила она, — сначала этот голос спросил бородача. А когда я пошутила: „Кого из бородачей? Их тут у нас двое околачивается?“ — назвал фамилию Фролова».
Закиров сначала подумал: звонок — дело рук Тренькова. Тот имел моду, как говорили товарищи, опережать при случае события, не поставив никого в известность. Но тут же засомневался: за это время он обязательно сказал бы о своей догадке и соответствующих действиях. И все же надо будет у него спросить.
Весь оставшийся день Ильдар ходил по небольшим организациям. В мастерской «Металлоремонт» его ждал тот же сюрприз, как на телефонной станции. Но здесь спрашивали его просто по фамилии. Закиров обратил внимание: в помещении мастерской, похожем на сарай, не было видно телефонного аппарата. Он обратился к приемщику:
— Позвольте, а как вас спрашивали, ведь, кажется, вы работаете без телефона?
— Видите ли, он приходил сюда — такой представительный, с черной бородой и в кепке, надвинутой на глаза.
Ильдар спросил еще одного работника мастерской о деталях внешности незнакомца, его голосе, одежде. Но тот мало что добавил к сказанному.
Теперь уже не оставалось никаких сомнений — опережает его в поисках Космача не Треньков, а кто-то другой. Но кто? Кому еще понадобился «домушник» Фролов? Кто-то идет на известный риск быть схваченным. Значит, цель его в конечном счете выше, чем этот риск.
«Для кого-то Фролов, как и для нас, представляет большой интерес. А может, разыскивает его шпана, для того чтобы содрать мзду? Но тогда откуда они знают об ограблении квартиры Древцова? Нет. Вряд ли в основе их поиска шкурные денежные дела. Тут что-то другое».
Ильдар поспешил в больницу к Жукову. Погруженный в размышления, не заметил, как внесла его спешащая, напористая толпа в трамвай, как втиснула в угол.
«Зачем же он понадобился? — снова и снова задавали себе вопрос. — Может, хотят взять в долю и тем самым использовать его квалификацию? Пожалуй, это всего верней». Фролов — опытный преступник. В последние годы ушел на дно: не появлялся в поле зрения ни у милиции, ни у субъектов, промышляющих темными делами. Надо полагать, затевается какое-то большое дело. Но Фролов, как видно, скрывается не только от милиции, но и от собратьев-уголовников.
И все же, как пришла им идея искать Космача именно в этом районе? Для этого, по крайней мере, нужно знать, во-первых, о совершенном преступлении, во-вторых, повадки Космача. И, пожалуй, кто-то из компании темных личностей должен был видеть, случайно, разумеется, в этом районе Фролова. Это в-третьих. «А ими заправляет не дурак, далеко не глупый субъект, — размышлял Закиров. — Постой, — вдруг встрепенулся он, — а почему я до сих пор считал, что ищут Космача? Ведь тот, кто ищет, сам смахивает на Фролова! Точно... Получается: Фролов ищет самого себя?! Ложный ход, дабы запугать следствие?»
— Черт-те что! — недовольно проговорил Закиров, обескураженный новой догадкой.
Стоявшая рядом пожилая женщина с подозрением взглянула на него и энергично начала проталкиваться в другой угол трамвая.
«Принимают уже за чокнутого», — усмехнулся Закиров.
«Парк культуры», — объявила кондуктор. Ильдар пробрался к выходу. Осмотрел пуговицы — как будто целы.
Накрапывал дождь. Через низкие серые клубящиеся облака просачивался скудный свет. Казалось, обрывки облаков задевали макушки высоких тополей. Ветер дул в лицо, поднимая еще не прибитую дождем пыль.
Закиров пересек улицу и торопливо зашагал вдоль железной ограды к воротам больницы. Здесь его уже знали, и сидящие на скамеечке больные показали, в каком конце сада находится Жуков. Сегодня третий день, как ему разрешили выходить на воздух. Нашел друга сразу, Александр уж собирался в палату.
— Привет, Сашок! — уже издалека крикнул Ильдар. — Как ты тут? Надеюсь, все нормально?
— Нормально, — пожимая его руку, улыбнулся Жуков.
— Ты, дорогой, извини, вчера закрутился и...
— Да брось ты. И так почти каждый раз теряешь у меня уйму времени. Ты лучше порадуй меня чем-нибудь.
Дождь усилился. Они поспешили в помещение. В коридоре сели в глубокие кресла.
— Знаешь, утешительного мало, Сашок. Но кое-что поведаю тебе. Кстати, когда, хотя бы приблизительно, тебя выпишут? Швы вчера сняли?
— Да, сняли. Выйду, наверное, дней через десять.
— Ну и прекрасно, — обрадовался Закиров. — Совсем уже скоро.
— Слушай, не тяни резину — рассказывай.
Закиров начал подробно освещать события двух последних дней. Изредка Александр что-то уточнял, переспрашивал. Когда Ильдар кончил свое повествование, Жуков положил ему на плечо руку:
— Тебя можно, старина, поздравить — молодец. Ей богу, молодец!
— Так-то оно так, — задумчиво начал Закиров. — А тебя не смущает, что некий бородач, похожий на Фролова Валерия — Космача, разыскивает свою тень?
— Ты допускаешь — настоящий Фролов будет искать самого себя, чтобы запутать следы? Так я тебя понял?
— Совершенно верно.
— А ты сам, на месте преступника, сделал бы такой ход?
— Видишь ли, об этом я уже думал. Лично я не стал бы этого делать, если бы наверняка знал, что следствие не выходит на меня.
— А если бы знал, что напали на след?
— Пожалуй, не стал бы и тогда. Ведь тут другой конец палки — надо мозолить глаза кому-то, а это лишние люди, которые в любую минуту могут оказаться нежелательными свидетелями. Во всяком случае, этим поиском доказываешь некую связь между преступником и собой. В этом случае следственные органы обязательно начнут искать и это лицо, появившееся в поле зрения.
— Я, Ильдар, думаю так: Фролов не пойдет на этот ложный ход. Ну, хотя бы по той простой причине: он до конца не уверен, что мы связываем убийство Древцова с его персоной.
— Но тогда кто же так с нами играется? К чему этот маскарад?
— Если исходить из твоего же предположения, дорогой мой следователь, — устало улыбнулся Александр, — о поиске Фролова уголовничками на важное дельце, то выходит: они устраивают тебе маскарад.
Ильдар задумался, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
— Возможно и так. — Ильдар вскочил. — Действительна так! Почему бы им по ходу не пустить дымовую завесу, чтобы на определенное время прикрыть его — он же им нужен. Пока следователь протрет глаза после дыма да разберется что к чему — время будет упущено.
— Вот именно. Тут надо еще подумать, почему неизвестный в поисках Космача обратился в мастерскую, где изготовляют ключи по индивидуальным заказам? Ясно: они думают так же, как и мы, поэтому и шарят в этом районе. Но мне кажется, что преследуется и другая цель: узнать, разыскивается ли Космач, а заодно прощупать, нельзя ли использовать мастерскую для своей цели.
— Пожалуй, вряд ли, Сашок, они будут обращаться за услугами в мастерскую. Это мякина, на которой хотят нас провести. Создают видимость — дескать, им нечего бояться, они честные люди и собираются воспользоваться мастерской для бытовых нужд. Я, конечно, понимаю — им нужны инструменты. Но второй раз в эти конторы они все-таки не придут.
Закиров взглянул на Александра, спохватился:
— Ох, остолоп же я — совсем утомил тебя. Заболтался.
Александр улыбнулся. Осунувшееся его лицо имело уже розовый оттенок. Но большие глаза выражали усталость. Он взглянул в окно.
— Кажется, дождик прошел? Может, подышим свежим воздухом?
— Пошли, пошли, Саша.
Уже в саду Жуков вытащил из кармана больничного халата небольшую книжку.
— Вот начал читать Державина — родоначальника русской поэзии. Сосед по палате дал. Производит довольно сильное впечатление.
— Не зря же восхищалась им в свое время Россия, — заметил Ильдар. — И Пушкин о нем писал. Н-да... Жили же такие люди! И время их прошло. Их время останется навсегда с ними. Наверное, им тоже, как и нам, простым смертным, казалось, что они не состарятся, и жизнь воспринималась как некая вечность. Но в чем они оба не ошиблись, так это в том, что дела их никогда не умрут. Им было легче.
— Это неизвестно, легче ли им было. Может быть, наоборот... Живи они дольше — принесли бы народу еще большую пользу. Неизмеримо большую, чем кто-либо другой. А может быть, каждый из них, особенно Пушкин, считал, что лучшие произведения — впереди. Поэтому великим людям уходить из жизни по-своему тяжело... Вот так-то, Ильдарчик.
Жуков сел на влажную скамейку. С шумом втянул в себя пьянящий воздух сада.
— А ты, кстати, читал стихи Гавриила Романовича?
— Кого? — переспросил Закиров.
— Значит, нет. Признаюсь — я тоже до этого не читал. Но ты все же, Ильдарчик, почитай, тем более что Державин — выходец из татар; впрочем, как и российский историк и писатель Карамзин.
— Иди ты!
— Вот и «иди ты». Прочти подстрочный текст на этой странице. — Александр передал Закирову раскрытую книгу. — Здесь написано: «Державин считал, что род его начинается от татарского мурзы Багрима».
— Точно... — опять удивился Ильдар. Он сел рядом с Жуковым и почесал затылок. — Уличил ты меня в невежестве.
Неожиданно где-то рядом сверкнула молния, и почти сразу же раздался оглушающий гром.
— Бежим, старик, — вскочил Жуков, — Сейчас ливень сыпанет!
Оба поспешили в палату.
Глава VIII
Всю ночь лил дождь. Время от времени раскаты грома сотрясали оконные рамы, и Стеклов просыпался. Ныла нога. Часто вставая, ковылял на кухню. Курил. От скрипа половиц просыпалась Анастасия Федоровна, жена его.
Она чувствовала: с мужем творится что-то неладное. Тот никогда ей не рассказывал о своих служебных делах, но за многие годы совместной жизни она научилась определять, ладится у него на работе или нет.
— Поспал бы хоть маленько, Петя, все мечешься да мечешься, — полусонным тихим голосом промолвила она. — При таком вывихе покой нужен.
К утру сон совсем пропал. Петр Прохорович пытался не думать о своих служебных заботах. Сначала это удавалось, но потом горькие мысли о недавнем промахе вконец одолели, вытеснив из головы все остальное. Сегодня решил выйти на работу. Ему было невмоготу: два дня сидел дома.
В шесть утра он уже был на ногах. Встала и Анастасии Федоровна. Приготовила завтрак. Петр Прохорович включил радио: передавали сведения о военных действиях германских войск во Франции.
— Петя, а немец-то потом на нас не пойдет с войной?.. — спросила жена с тревогой в голосе. Стеклов, немного помолчав, мрачно буркнул:
— Кто его знает...
В восемь утра, опираясь на трость, отправился на службу. Нервное напряжение, не покидавшее его, притупляло ощущение усталости. Обычно если он не высыпался, то чувствовал себя скверно.
В отделе майор узнал: на велосипеде найдено несколько отпечатков пальцев. За это время были также изучены заявления граждан в отделы милиции о пропаже велосипедов. Но владелец велосипеда, найденного близ развилки дорог, не объявлялся.
Послали запрос на завод-изготовитель, чтобы узнать, в какую местность отправили партию велосипедов, в котором был и этот с соответствующим шестизначным номером.
Около полудня позвонил оперативник Хусаин Зарипов, который сообщил Стеклову о любопытном заявлении, поступившем в четвертое отделение милиции Советского района.
В заявлении гражданина Смирнова содержалась просьба о принятии строгих мер к его соседу — тунеядцу Чемизову, занимавшемуся спекуляцией велосипедами.
Вечером Чемизов уже давал объяснения по поводу этого заявления. Он подтвердил продажу велосипеда марки ПВЗ, который, по его словам, собрал сам по болтику. Чемизов заявил: велосипед продал на толкучке в Светловолжске примерно месяц назад неизвестному мужчине среднего роста, чернявому. Других примет не помнит, поскольку тот не торговался.
Предъявленный для опознания велосипед Чемизов сразу же узнал. При этом назвал такие технические особенности, что не было сомнений: велосипед собран им.
Выяснилось и другое: некоторые отпечатки пальцев на велосипеде принадлежали ему.
«Ну и что дальше? — задал себе вопрос майор. — Что надо делать, чтобы заполучить радиста».
В рапорте майор указал: Варев слишком крупная фигура, чтобы довольствоваться ролью радиста.
Факты не подтверждали его вывода. Напротив, они опровергали его предположение. Ведь он и сам не отрицал — Варев приходил за рацией. А будет ли крупный, матерый шпион подвергать себя риску, когда вот уже несколько дней подряд идут поиски по побережью Волги от развилки дорог до Святовского поселка? Вряд ли.
«Пожалуй, Варев годится и на роль резидента, — прикинул Стеклов. — Годится-то годится, а кто он на самом деле? Но ясно одно — здесь он действует не один, и, надо полагать, Варев — далеко не пешка».
Мысли его прервали: вызвали к Нурбанову. Стеклов шел с тяжелым чувством вины.
Полковник встретил его приветливо. Поинтересовался самочувствием. Упрекнул за то, что Стеклов как следует не подлечился.
— Петр Прохорович, я тут кое-что предпринял, — сказал Нурбанов, стараясь не замечать подавленного состояния майора. — Съездил позавчера утром к тайнику, покуда тебя в больнице охаживали врачи.
«Ишь ты, чертяга, и туда уже успел», — удовлетворенно отметил про себя Стеклов.
— Так вот. Вначале мне показалось: там у вас в лесу разыгрались события, близкие к картинке в детской книжке, когда один ворон клюнул собачку в хвост, а другой, воспользовавшись тем, что собачка бросилась на обидчика, утащил у нее жирную косточку...
Стеклов подался вперед. Мысль, что его перехитрили именно таким образом, взволновала его.
Нурбанов продолжал:
— Но затем засомневался: уж слишком рискованные и тонкие ходы. За то время, пока ты, Петр Прохорович, с Матыгулиным отлучался от кустов, надо было в темноте отыскать и унести рацию. Слишком мало времени. К тому же район мог быть оцеплен. Ходить в темноте вокруг капкана да еще вдвоем — слишком опасно и вряд ли оправданно.
Нурбанов полез в сейф, взял там несколько бумажек, подошел к Стеклову.
— Но, с другой стороны, следы рации в тайнике, появление Варева — он ходил, конечно же, не на прогулку — все это вместе взятое создает противоречивую картину. Это вынудило привлечь биологов-почвоведов из университета. Вот их заключение. — Он подал документы майору.
Полковник сел на стул, налил в стакан воды и запил таблетку аспирина: со вчерашнего дня его нещадно знобило, он боялся окончательно разболеться. Нурбанов не представлял, как можно в такие горячие дни болеть; боялся не за себя — за дело.
Майор оторвался от чтения:
— Судя по этому документу, пласт земли, служивший своеобразной крышкой тайника, оставлен не менее трех-четырех дней до проведения исследования. — Он посмотрели на дату. — Семнадцатого июня... «При этом определялись влажность пласта, осыпание грунта... — выборочно читал он, не спеша, — изучена корневая система растений...», — Стеклов отложил бумаги в сторону и уже от себя сказал: — И так далее и тому подобное. Выходит, пласт земли трогали тринадцатого или четырнадцатого числа. А Варев появился шестнадцатого... Стало быть, в тот злосчастный день — шестнадцатого июня — они не уносили рации... Но если унесли ее раньше, то зачем было ему там околачиваться? Нет, Варев попусту крутиться не будет. Тут какая-то собака зарыта. Но несомненно одно — это чрезвычайно важная бумага, — кивнул Стеклов на заключение биологов. — Она, во всяком случае...
— Не даст нам раньше времени запутаться, — с улыбкой договорил за него Нурбанов.
Стеклов выжидательно смотрел на начальника, лихорадочно прокручивая в голове варианты своих предложений. Документ, составленный биологами-почвоведами, в корне менял дальнейшие оперативные мероприятия.
— О значении документа, — продолжал подполковник, — мы поговорим немного позднее... Я еще хотел сказать вот что: для большей достоверности ученые выкопали аналогичную яму рядом, в тех же кустах. Она находилась так же в приоткрытом состоянии сутки. Так вот, в сравнении с ней...
— Выходит, и они, Михаил Иванович, вроде как следственный эксперимент провели.
— Выходит. Я хочу тебе доказать степень достоверности этого заключения, Петр Прохорович. А то я тебя знаю: всю дорогу потом будешь сомневаться.
Нурбанов потрогал лоб рукой, измерил пульс:
— Что, Михаил Иванович? Или заболел? — с беспокойством спросил его Стеклов.
Полковник замахал руками:
— Нет-нет, ничего.
Только сейчас Стеклов заметил, что у Нурбанова неестественно красное лицо с черными подглазьями.
— Михаил Иванович, дорогой, тебе надо отлежаться, — с отеческой теплотой проговорил Петр Прохорович. И в самом деле, Нурбанов по годам годился ему в сыновья.
— А ты сам, Петр Прохорович, чего не лечишься? Врачи, кажется, велят тебе полежать дней десять, не так ли?
Тот промолчал.
— Давай теперь, Петр Прохорович, немного о деле поговорим.
Нурбанов провел руками по лицу, словно пытался снять с него следы болезненной усталости, и облокотился о стол.
— Итак, если бы рация была в тайнике, агент оставил бы вскрытым тайник, который можно заметить невооруженным взглядом?
— Нет.
— Совершенно верно. Не стал бы. Значит, рацию унесли из тайника раньше на несколько дней, чем ты вычислил ее местонахождение и нагрянул туда. Так?
— Пожалуй, так.
— Поехали дальше. Почему все-таки не закрыли как следует яму, где хранилась рация?
— Я думаю, Михаил Иванович, это не случайно.
— Я тоже. Оставили с целью — чтобы обнаружили. Так?
Стеклов задумался.
Нурбанов, не ожидая его ответа:
— Так. После обнаружения пустого тайника мы, по их расчетам, должны потерять интерес к этой местности. Вероятно, так и было бы, если бы не встретился Варев, и не привлекли ученых-биологов. Этого как раз и не предвидели наши противники. В раскладке они ставили, себя вместо нас — и пришли к выводу: эту местность мы оставляем без наблюдения. Ибо какой же дурак сюда снова попрется?
— Стало быть, Михаил Иванович, по твоей теории, тайник в кустарнике использовался лишь как ширма, чтобы поиск в данной местности прекратили вообще? И, видимо, ты склонен считать, что в этой яме рацией и не пахло?
— Правильно ты меня понял.
— А отпечаток рации на дне ямы? — И, не давая Нурбанову сказать, ответил на свой вопрос: — Видимо, специально оставили след. — И тут же усомнился: — А чем эта деталь может быть подтверждена?
— Видишь ли, дорогой Петр Прохорович, на месте радиста ты рацию возил бы или носил?
— Наверное, старался, чтоб как можно меньше глаз на эту штуковину щурилось.
— Ну и...
— Ну и какой-нибудь рюкзак или мешок для этого дела приспособил, набил бы туда тряпья или чего-нибудь другого. Постарался, одним словом, форму изменить.
— Во! Дорогой мой Петр Прохорович, ты ответил. В тайник ты бы этот аппарат тоже в мешке сунул.
— Конечно. Какой же смысл вытряхивать? К тому же нервное напряжение, спешка, повышенная влажность бывают ведь и дожди... Тут без брезента или какого-нибудь его заменителя трудно обойтись.
— А они, Петр Прохорович, сунули рацию в яму голенькой. Отпечаток изучен специалистами. Вот еще одна бумага на эту, как ты выразился, деталь.
Стеклов повертел в руках листок бумаги и вернул ее Нурбанову. Тот собрал со стола бумаги, положил их в сейф. Повернувшись к майору, он предложил:
— Давай теперь с тобой сделаем отсюда вывод. — Полковник тяжело опустился на стул. — Лично я, Петр Прохорович, пришел к такому заключению: рация где-то еще находится поблизости.
Майор резко поднял голову и взглянул на Нурбанова.
— Да-да, майор, она где-то там, родимая. Именно за ней тогда приходил твой старый знакомый Варев. Но ты со своим помощником спугнул его. И тогда он попытался спрятаться в кустах, пересидеть. Вместе с тем преследовалась и более дальняя цель: если его засекут в этих кустах, направить следствие по ложному следу. Для этого заранее подготовили тайник.
Стеклов задумчиво кивнул головой:
— Так что ж, ты взял ту зону под усиленный надзор?
— Взял. Еще позавчера утром. Но сам понимаешь: в лесу очень трудно устанавливать наблюдение. Что-то надо придумать. Само собой разумеется, не сегодня, так завтра они должны пожаловать. Надо полагать, в маскарадной форме: будут рядиться под какого-нибудь грибника или туриста. В общем, в этом духе. И если заметят что-то подозрительное, исчезнут навсегда. Поймут, что их ход разгадали. Надо как можно быстрей удалить из леса лишних людей — бросается в глаза.
— Михаил Иванович, ответь, почему все же наши противники цепляются за эту местность?
— Видишь ли, — начал Нурбанов, — намного лучше действовать на непроверяемом участке, а не там, где в любую минуту могут нагрянуть искатели. Это одно. Второй момент — удобное место: рядом населенный пункт, близко от Волги и от дороги. Ты, кажется, прав, Петр Прохорович, в твоем родном поселке кое-кто окопался. Уж слишком много наверчено вокруг него в последнее время.
Стеклов тотчас оживился. Его обрадовало, что Нурбанов всерьез заинтересовался поселком. А это значило многое: пока не докопается до сути — он не отступится. В поле его зрения попадет и Волжский монастырь, а это для него, Стеклова, главное. Петр Прохорович давно лелеял мечту распознать до конца тайны монастыря.
После гражданской войны и разгула бандитизма в двадцатые годы поселок не вызывал интереса у органов госбезопасности: там было спокойно. В те далекие годы некогда было заниматься разными легендами и слухами, ходившими вокруг монастыря, к тому же не все верили в них. В тот исторический период надо было бить зримого врага, восстанавливать народное хозяйство. Да и ощущалась нехватка квалифицированных сотрудников в ЧК.
И вот после столь продолжительного времени — практически после разгрома банды Мефодия — поселок вновь начал привлекать внимание.
Нурбанов поручил Стеклову провести тщательный поиск рации на прилегающей к кустам местности.
На следующий день — уже в семь утра — группа поиска начала действовать. Очертили круг примерно в сотню метров и с длинными металлическими щупами и миноискателями шаг за шагом кололи и слушали землю. Когда поиски на этой площади не дали результатов, Стеклов решил сместить группу поиска ближе к реке.
Солнце стояло уже высоко в небе. Было жарко и сильно парило. К полудню люди изрядно устали.
Майор тяжело опустился у сосны, под которую только что подкапывались солдаты. Уныло наблюдал за всей этой картиной.
В голове вертелись вопросы: «Где же рация? Неужели здесь нет ее? В чем мы с Нурбановым ошиблись?» И поскольку эта операция имела для него еще сугубо личный характер — ведь он упустил шпиона — присущие ему хладнокровность и трезвость неожиданно покинули его. Он нервничал и чувствовал: в поиске есть бессистемность, которая мешает найти рацию. Но в чем должна была проявиться эта «системность», логичность действий, Стеклову не удавалось понять.
Стоит только не пошевелить мозгами несколько дней — и теряешь остроту мысли. «А может, это просто возраст?» — переживал майор, глядя на солдата, который возился у толстого обгорелого пня.
Несколько человек во главе с лейтенантом Матыгулиным копались у берега. Лейтенант снял сапоги, засучил галифе, вошел в воду и медленно пошел вдоль берега, напряженно всматриваясь в песчаное дно.
Солдаты недоуменно посматривали на него. Кто-то не выдержал, спросил:
— Рыбу, что ли, товарищ лейтенант, высматриваете?
— Смотрю, какие камни здесь водятся.
И он действительно поднял со дна несколько пластин светло-коричневого известняка, начал их внимательно рассматривать. Немного еще походив по воде, лейтенант обулся, взял длинный металлический пруток, заостренный на конце, и направился к кустарнику, где отсиживался недавно матерый враг.
Матыгулин остановился, вонзил пруток до отказа в землю, вытащил его, замерил часть прутка, которая уходила в землю. Проделал это несколько раз вокруг кустарника. Металлический стержень уходил каждый раз в землю на глубину до шестидесяти — семидесяти сантиметров и упирался в твердый слой окаменевшего известняка. Такой же слой плодородной почвы оказался в середине кустарника, который возвышался над прилегающей местностью.
«Холмик, конечно, удобен для тайника: грунтовых вод нечего опасаться, — размышлял лейтенант, — рация могла бы лежать неделями. А главное, в середине кустарника можно было копать, пока не надоест, — случайные прохожие не заметят. Кто же полезет в заросли чертополоха?» Он с берега смотрел, прикидывал, где бы сам стал делать тайник, и поймал себя на мысли: «Здесь нет подходящего места, кроме кустарника». Любые земляные работы могли быть замечены случайными лицами как с суши, так и с реки.
Ему пришла и другая мысль: «Если рацию прятали под землю, то, видимо, копали яму до слоя извести». Не было сомнения, что всю выкопанную землю и плиты спресованной извести толщиной в три пальца выбрасывали в воду. Вот он и искал их в воде. А когда нашел, убедился в своем предположении. Значит, выдалбливали и твердые породы. А раз так, щуп должен уйти больше чем на шестьдесят — семьдесят сантиметров.
Каждый раз, проделав одну и ту же операцию и замерив пруток, повторял про себя: «В норме».
Матыгулин остановился над обнаруженным лжетайником, где на дне как насмешка виден был отпечаток рации. И, двинувшись дальше, на ходу сунул туда щуп, измерил — семьдесят пять сантиметров. Он снова повторил — до твердой породы в этом месте было чуть больше, чем в других местах. «Видимо, вынули немного известняка, а сверху насыпали земельки, чтоб лучше отпечатывался след рации. Но позвольте, позвольте господа шпионы. Для чего же вынимать лишний грунт, а потом снова насыпать? Не легче ли просто?..» И внутренний голос осекся — горячая волна крови ударила в голову от неожиданно дерзкой догадки. Он опустился на колени и начал лихорадочно выгребать землю из тайника. Добрался до твердого грунта и, ломая ногти, пытался снять слой известняка. Когда ему удалось это сделать при помощи стрежня, под плитой оказался большой камень. Подняв его, Матыгулин увидел сбоку ямы нишу, в которой лежал вещевой мешок. Он поспешно пощупал его: рация была здесь!
— Нашел! — радостно закричал он, как мальчишка. — Нашел, товарищ майор!
Майор вскочил, забыв про больную ногу, и, прихрамывая, побежал к кустарнику. Развязал мешок, вытащил рацию, завернутую в клеенку. У рации отсутствовала крышка.
— Так вот чем делали отпечаток — крышкой! Стеклов взглянул на окаменелый слой породы, на металлический прут, линейку — и все понял.
— На сколько сантиметров они ошиблись? — тихо спросил он Матыгулина.
— Недоучли около пяти сантиметров, товарищ майор.
Окружавшие не понимали, о чем они говорят.
Взволнованный майор шагнул к лейтенанту и обнял его.
— Спасибо тебе мой мальчик. Спасибо. Сегодня ты лучше думал, чем я.
Глава IX
— Будьте любезны, позовите Элеонору, — попросил Закиров, придерживая рукой незакрывающуюся дверь будки телефона.
— Минуточку. Сейчас, — ответил женский голос.
«Кажется, ее сестра, — подумал он. — А голос ее можно спутать с Элиным».
— Я вас слушаю, — послышалось в трубке.
— Эля, здравствуй, — чувствуя какую-то внутреннюю скованность, произнес Закиров. — Это тебя беспокоит Ильдар.
— А-а-а... Ильдарчик, привет. Рада слышать своих недавних однокашников.
— Эля, я тебе как-то звонил. Сказали... в командировке.
— Да. Вот приехала вчера. Масса впечатлений. Это моя первая командировка.
— Значит, понравилось?
— Интересная поездка, — будничным голосом ответила она. — Но дома — лучше.
Закиров понимал: Эля Бабанина воспринимала его лишь как одноклассника. И боялся перевести разговор в желаемое русло.
Возникла пауза.
— А вы... А ты... — начал он, чуть заикаясь, — что делаешь в субботу? — И, не дав ей ответить, выпалил: — Пойдем, Эля, в театр.
— А кто еще из одноклассников пойдет?..
— Мы вдвоем...
Эля немного помолчала.
— Знаешь, Ильдар, это как-то неожиданно... Потом в субботу и воскресенье я занята.
— Очень жаль... Тебе еще можно позвонить?
— Ну, конечно, Ильдар. Мы же одноклассники... Знаешь, позвони на той неделе.
— Спасибо, Эля. Обязательно позвоню.
На этом разговор закончился.
«Проклятая робость! Если я был бы посмелей, наверное, мог бы с ней подружиться еще в девятом классе. Ведь она однажды на школьном вечере сама меня пригласила танцевать. Почему же я так оробел? Не пригласил в ответ... Почему? Можно не сомневаться: робость лишила меня счастья», — сокрушался он.
Ему казалось: подружись он тогда с Элеонорой в школе, эта дружба переросла бы непременно в любовь. Ильдар был в том состоянии, когда желаемое воспринималось как действительное — так велика была потребность в ответной любви. А поскольку неразделенное чувство существовало, оно беспощадно цеплялось за любой повод.
Закиров, терзаемый тоскливыми мыслями, направился на службу, точнее, в одно из домоуправлений.
С утра было пасмурно. Но к середине дня облака рассеялись и показалось солнце. Стало сильно припекать.
В первой половине дня Закиров побывал в нескольких небольших организациях района. Усилия его оказались бесплодными.
Войдя в темное полуподвальное помещение, отдаленно напоминавшее коридор учреждения, он толкнулся в первую попавшуюся дверь.
У пожилой интеллигентной женщины в пенсне, точно сошедшей со страниц произведений Чехова, узнал, где находится начальник конторы. В глаза бросался контраст между этой женщиной и маленькой неуютной комнатушкой с зарешеченными окнами, где давно не проветривалось.
Его появление не произвело на начальника конторы никакого впечатления, словно прием работников НКВД было каждодневным занятием.
Ильдар давно заметил: так реагируют люди, уставшие или неудовлетворенные работой, безразличные к ней. К этому начальнику, пожалуй, больше подходило последнее. Всюду в кабинете виднелись следы запустения: пыль на подоконниках и на столе, грязные окна, пропускавшие днем скудный, сумеречный свет, разбросанные повсюду окурки, сваленные в углу папки, обшарпанные стены.
Закиров представился и сказал о цели своего прихода.
— Фролов Валерий у нас не работал, — ответил начальник. — Во всяком случае, в последние три года.
— Скажите, а бородатый брюнет среднего роста у вас в штате не состоял? Ну, скажем, последний год.
— Бородатый брюнет, говорите? — задумался он. — Кажется, был такой. Да, определенно. Работал техником-смотрителем. Уволился недавно.
Скрывая волнение, Закиров попросил разрешение посмотреть личное дело бывшего техника-смотрителя.
Тот снял трубку телефона:
— Лидия Павловна, к нам пришел товарищ из НКВД, ознакомьте его с личными делами работников. — Он взглянул на посетителя и ровным бесстрастным голосом произнес: — Вторая дверь направо.
Лидия Павловна, женщина средних лет, сразу же назвала фамилию и имя техника-смотрителя: Фроловский Валериан.
Она открыла дверцу массивного деревянного шкафа и начала искать его личное дело. Личного дела бывшего техника-смотрителя не оказалось на месте. Оно исчезло.
Лидия Павловна растерянно развела руками:
— Но оно было здесь. Я точно помню.
Закирову было ясно: техник-смотритель, уходя, прихватил дело с собой. К чему лишние следы?
Среди нескольких фотографий, показанных ей, Лидия Павловна взяла со стола фотографию Космача:
— Это он. Фроловский Валериан.
— Ясно, — облегченно вздохнул Ильдар.
Оказалось: Космач уволился с работы месяц назад — незадолго до убийства Древцова, проработав в конторе около года.
Закиров попросил отпечатать на машинке текст письма, найденного им в квартире потерпевшего. Когда письмо было готово, он сам сел за машинку: «Фролов — не профессионал, — решил он, — и удары его пальцев по клавишам пишущей машинки иные, чем у Лидии Павловны». А для проведения экспертизы, идентификации шрифта машинок это имеет важное значение. В домоуправлении была одна машинка.
Отпечатав текст, он попросил никому не рассказывать об их разговоре.
Лидия Павловна улыбнулась:
— Вы, то есть ваши работники, так все скрываете друг от друга, что не знаете, кто что делает.
Закиров насторожился:
— В каком смысле?
— Да в таком: был тут один до вас и тоже просил никому не говорить. Тоже из НКВД.
— Когда был?
— Наверное, недели две. А может, и три. Только Фроловский уволился — он и заявился.
— Показывал вам свое удостоверение?
— Нет. Мне как-то ни к чему. Особого-то секрета нет: работает или не работает человек.
Закиров долго расспрашивал, как тот выглядел. Сравнивая приметы, о которых говорили Лидия Павловна и приемщик из мастерской «Металлоизделий», Закиров не находил между разыскивавшими Космача ничего общего, кроме, пожалуй, роста.
Следователь после некоторого раздумья спросил:
— А карточка сотрудника сохранилась?
— Ну, конечно. Про нее-то я и забыла.
Она просмотрела картотеку. Но и карточки не нашлось.
— Все понятно... — задумчиво произнес Закиров. — А вы не помните местожительства бывшего вашего работника?
Расстроенная неожиданно обнаружившейся пропажей документов, Лидия Павловна не могла сразу сосредоточиться:
— Сейчас, сейчас... я подумаю... Кажется, он жил где-то в районе автовокзала... Во всяком случае, я несколько раз видела его там... А вот улицу, простите, что-то не припомню...
— Кто может знать, где живет Фроловский?
— Вот этого я не могу сказать.
— Он с кем-нибудь дружил здесь?
— Что-то не припомню. Он всегда был один. Бывало, слесаря соберутся отметить какой-нибудь праздник, а они часто собираются, так Фроловский не участвовал, спешил домой.
Закиров решил переговорить со всеми сотрудниками жилищной конторы. Их оказалось более двух десятков.
Лишь к вечеру кое-что прояснилось. Один из работников заявил, что техника-смотрителя Фроловского видел на улице Нариманова, когда тот выходил из углового двухэтажного дома, что находится в конце улицы.
Вместе с этим работником Закиров поехал
на улицу Нариманова.
Отыскали дом. Оказалось: Космач проживал около года в качестве квартиранта у пенсионерки Минкиной. Затем переехал, по словам Минкиной, в общежитие компрессорного завода. Туда он устроился на работу.
Закиров усомнился в этом — Космач слишком осторожный преступник, чтобы оставлять визитные карточки.
Допрос свидетельницы Минкиной показал: Космач — она узнала своего недавнего квартиранта по фотографии — часто ездил с субботы на воскресенье куда-то за город. Куда? Этого он ей не говорил. Ездил на автобусе. Она несколько раз видела, как квартирант выбрасывал длинные ленты автобусных билетов в мусорное ведро.
На вопрос следователя, какую сумму денег составляла одна такая лента билетов, Минкина довольно определенно ответила: «В ленте было не более семи пятнадцатикопеечных билетов. Я тогда еще подумала: на целковый я живу почти день, а Валериан легко выбрасывает эти деньги на автобусные бумажки в один конец».
На автовокзале Закиров узнал: за рубль пять копеек можно добраться до четырех близлежащих к Светловолжску населенных пунктов, в числе которых был и Святовск.
Закиров проверил сведения, полученные от Минкиной о местонахождении Космача, но того среди работников компрессорного завода, как он и ожидал, не оказалось.
Безрезультатно закончились и поездки сотрудников НКВД в близлежащие села. Среди населенных пунктов, куда, очевидно, ездил преступник на автобусе, поселок Святовск был самым крупным. Там теперь постоянно находился сотрудник, знакомившийся с личными делами работников местных организаций.
На следующий день эксперты дали свой ответ на вопрос: на какой машинке отпечатали приглашение в школу Древцову. Текст был отпечатан на машинке «Континенталь» домоуправления, где ранее работал Фролов Валерий.
Таким образом, причастность Космача к совершенному преступлению не вызывала сомнения.
Теперь нужно было сделать главное: задержать Космача. Фотографию его разослали по всем райотделам НКВД.
Поздно вечером Закиров докладывал результаты расследования по делу об убийстве Древцова Нурбанову и Галямову. Свой доклад он заключил предложением:
— Я считаю опровергнутой версию о террористическом акте в отношении Древцова. Это видно из собранных материалов. Расследование этого дела должны завершить органы милиции и прокуратуры, поэтому необходимо передать дело по подведомственности.
— Так. Как я понимаю, это ваше личное мнение? — спросил майор Галямов, — Какая точка зрения на этот счет у Тренькова?
— Он сейчас болен, товарищ майор. Но я с ним накануне разговаривал. Он остается на своей позиции: считает — здесь террористический акт против ответственного советского работника.
Закиров опустился на стул.
— Мне кажется, Михаил Иванович, — обратился Галямов к Нурбанову, — надо подождать с передачей дела. Собранные материалы, конечно, подтверждают вывод следователя Закирова. Но в расследовании имеются белые пятна, которые бросают тень на версию Жукова — Закирова.
Он привел несколько доводов, сводившихся в основном следующему. Преступник, намеревавшийся осуществить террористический акт, решил воспользоваться услугами Космача. Космач, разнюхав подходы к квартире Древцова, ждал сигнала террориста. А тот, узнав о телеграмме и рассчитав время прихода Древцова, вместе с Космачом проник в квартиру потерпевшего. Один занялся ценностями, другой поджидал хозяина. Преступники опытные — инсценировали драку, пустив в ход пепельницу.
— Во всяком случае, до сих пор не доказано, был ли Космач один, — подчеркнул Галямов. — Я не утверждаю, что действовало два преступника, но такую возможность следует допускать. Это прояснится после ареста Космача.
Начальник отдела Нурбанов решил повременить с передачей дела.
Через несколько минут после доклада, едва Закиров вошел в свой кабинет, его вызвал Галямов.
— Товарищ старший лейтенант, — обычным сухим, официальным тоном обратился он, — сегодня мы получили одну анонимку. Ознакомьтесь. Может, она что-нибудь вам говорит?
Закиров взял четвертушку бумаги с наклеенными на нее печатными буквами, вырезанными из газет.
Начальнику ЧК — НКВД республики.
Начальник! Не пускай своих козлов-агентов в мой агаруд[68] — Каримово. Анда[69] моя жены (гарем) пасется. Туды ходить вредно для здоровья — зарезать могут.
Друг.
— Странное письмо, — задумчиво произнес Закиров. — Мне кажется, анонимщик преследует цель — привлечь наше внимание к Каримову. Для чего? Пока трудно сказать.
— Вот именно. Но вы правы...
В кабинет вошел Нурбанов.
— Что, разгадываете ребус?
Оба встали.
— Сидите, сидите, — махнул рукой полковник, присаживаясь на стул.
— Михаил Иванович, мы тут с Закировым приходим к одному выводу. — Он изложил суть дела и добавил: — А не пытаются ли они отвлечь наше внимание от других населенных пунктов?
Майор Галямов подошел к карте республики.
— Посмотрим на карту. Рядом с Каримовым находятся Макфирово, Ключищи, Святовск. Все на более или менее одинаковом удалении. Так? — Нурбанов и Закиров молча смотрели на карту. — Если исходить из того, что в последнее время немаловажные события произошли вблизи Святовска, — продолжал Галямов, — то наше внимание, естественно, сконцентрировано именно на нем.
— И что же вы предлагаете? — спросил Нурбанов, откинувшись на спинку стула. — Вообще не реагировать на анонимку?
— Село Каримово насчитывает около трех тысяч жителей. Появление каждого нового человека не останется незамеченным. Следует проверить, кто появлялся там из приезжих, ну хотя бы за последнюю неделю...
— Марс Ахметович, вы считаете, как я понял, что письмо написано не жителем Каримова?
— Да. Полагаю, что коренной житель вряд ли будет писать, вызывать, так сказать, огонь на себя. Он бы, пожалуй, указал другой населенный пункт, скажем, Макфирово.
— Вполне возможно, — поддержал его полковник. Он встал, посмотрел на карту. — Значит, автор специально приезжал в Каримово, чтобы бросить там свое сочинение?
— Во всяком случае, почтовый штемпель свидетельствует об этом, — ответил Галямов.
Нурбанов вернулся на место. Прикрыл ладонью глаза. На какое-то мгновение замер. Потом стремительно встал, подошел к телефону, набрал номер заместителя наркома внутренних дел, ведавшего милицейской службой в сельских районах республики.
— Николай Иванович? Здравия желаю. Беспокоит вас Нурбанов. Мне хотелось бы узнать об обстановке в селе Каримово.
Трубка замолкла. Яшенков, замнаркома, обменялся репликами с кем-то.
«Оторвал, кажется, его от важного разговора», — отметил про себя полковник.
— Извини, Михаил Иванович... Спрашиваешь, все ли спокойно в Каримово?.. Знаешь, до вчерашнего вечера несколько лет не было ничего серьезного. Все было тихо...
Нурбанов напрягся. Лицо застыло. Кажется, предчувствия не обманули его.
— ...а вчера совершено убийство нашего работника... Ножом...
— Участкового?
— Нет. Старшего лейтенанта Севчука из Советского райотдела.
— Преступник задержан?
— Скрылся. Всех подняли на ноги. Пока ничего... — Яшенков закашлялся. Потом спросил: — Что? И до твоей конторы донеслось?
— Нам анонимку прислали. Грозятся убийством.
Оба решили: им есть о чем поговорить. Нурбанов со своим заместителем Галямовым направились к полковнику Яшенкову.
Вернувшись в свой кабинет, Закиров задумался. Как ускорить поимку Космача? В душе он был рад, что дело оставили в отделе — ведь многое уже сделано. Да и расследование этого преступления по-настоящему увлекло его, Закирову представлялось: в ближайшее время дело может быть закончено.
Мысль перенеслась к Элеоноре. Сегодня понедельник — настала новая неделя. «Может быть, сегодня позвонить ей? Пожалуй, неудобно. Лучше уж в середине недели».
Позвонили из домоуправления, где на днях побывал Закиров. Сначала Ильдар не понял, о чем говорит домоуправ. Да и мысли у него были далеки от дел. Но тут же встрепенулся:
— Алло, алло! Что вы сказали? Повторите, пожалуйста! Какое удостоверение?
— Как? Разве это не вы звонили с полчаса назад?!
— Куда? Кто звонил? — переспросил Закиров, вставая со стула.
— Мне позвонил мужской голос и сказал: «Извините, это звонят из НКВД. Я на днях был у вас и забыл свое служебное удостоверение». А я сказал ему, что вернул его вам. И пообещал спросить у Лидии Павловны. У ней тоже никто ничего не оставлял, кроме номера вашего телефона.
Закиров плюхнулся на стул. Мысли роем, как из потревоженного улья, неслись в разные стороны. «Ловко, однако ж, узнали, напали мы на след преступника или нет. Кто-то сильно подстраховывает Космача. А может, это его проделки? Раньше за ним вообще-то такое не водилось. В любом случае — факт неоспоримый — его искал свой, из уголовного мира».
Он сидел растерянный.
Позвонили из секретариата наркома — просили срочно к Рахматуллину.
«Час от часу не легче, — думал Закиров, шагая по длинному коридору. — Зачем это так срочно понадобился самому наркому? Во всяком случае, не за благодарностью. Чего-чего, а срочности в поощрениях не бывает».
В кабинете у наркома сидели Нурбанов, Галямов и Яшенков.
Закирову предложили присесть.
— Как у вас обстоит дело с расследованием убийства Древцова? — спросил нарком, внимательно глядя на Закирова. — Когда думаете его закончить?
Закиров кратко изложил основные этапы расследования. Известил присутствующих о звонке начальника жилищной конторы.
— Долго вы возитесь с этим делом, — сухо проговорил Рахматуллин. — Бандиты совсем распоясались, уже начали контролировать наши действия. Очевидно, почувствовали вашу беззубость.
Нарком встал, прошелся по кабинету и остановился у окна. Он кивнул Яшенкову:
— Пожалуйста, Николай Иванович, проинформируйте товарищей.
Тот взял листок и начал читать: «Вчера, в воскресенье, около 19 часов старший лейтенант Севчук, находясь в селе Каримово у родственников, заметил гражданина, разыскиваемого органами НКВД. Выйдя из клуба после просмотра кинофильма, этот гражданин со своим знакомым спешно направился к лесу. Севчук, подозвав Галимзяна Гареева, 13 лет, попросил сбегать за участковым Зотовым. При этом просил передать ему: „Дядя Геннадий признал Космача и решил проследить, куда он пойдет. Космач со своим приятелем направился в сторону Чистопольского тракта, к лесу. Пусть возьмет оружие и догоняет“.
В 19-25 сержант Зотов увидел на дне оврага, недалеко от леса, неподвижно лежащего человека. В нем признал Севчука. Он был мертв. Убит ударом ножа в спину».
Закиров был поражен. Он знал Геннадия Севчука. Случившееся казалось невероятным. И опять — Космач!
— Вот что такое медлительность в нашем деле. Чем она оборачивается, — проронил нарком.
Все молчали.
Закиров поднял голову, перед ним сидел Галямов. Весь его вид говорил: «Вот видишь. Я же говорил, нельзя исключать того, что Космач действует не один. И версия твоя дает, кажется, трещину». Закиров не сомневался: окажись они с Галямовым не здесь, он бы сказал это вслух.
Рахматуллин горестно, по-стариковски вздохнул:
— Жалость-то какая. В такие годы — и на тебе. Паренек-то какой!
Опять воцарилась тишина.
— Что думаете предпринимать в ближайшее время? — тихо, усталым голосом обратился нарком к Нурбанову. — И вообще, усматриваете ли в случившемся какую-то закономерность, внутреннюю логическую связь с известными недавними событиями?
— Зариф Рахматуллович (нарком не любил, когда в подобных ситуациях к нему обращались по званию), вы имеете в виду связь между убийством Древцова и гибелью Севчука?
— Это внешняя, зримая связь, Михаил Иванович. Я спрашиваю о внутренней, невидимой связи. Кстати, то, что лежит на поверхности, в нашем деле меньше всего подтверждает закономерность тех или иных событий, их связь между собой. Вы это не хуже меня понимаете.
— Зариф Рахматуллович, если говорить в этом смысле, то мой вывод может показаться нереальным, пустым плодом нервного возбуждения, фантазией.
— Это кому же? — быстро спросил Рахматуллин. — Вы что ж, думаете, если теперь не работаем вместе в одном отделе, так и разучились одинаково соображать? Ну-ка, давайте, Михаил Иванович, вашу фантазию, — улыбнулся он. — Так ли она оторвана от грешной земли?
— Мысль эта окончательно еще не созрела, — начал Нурбанов, — преждевременно я не хотел об этом говорить. — Он повернул лицо к окну. Бледность не сходила с его лица. Видно было: он еще не здоров. — Убийство Севчука — это одно звено в цепи событий, — продолжил Нурбанов. — А именно: действие неизвестного радиста, события у Святовского поселка, то есть случай со Стекловым, обнаружение рации.
И прежде чем продолжить свою мысль, Нурбанов посмотрел на наркома. Он хотел узнать по его лицу, как тот воспринял сказанное. Заметив веселый всплеск в глазах Рахматуллина, Нурбанов понял: их мысли, как и прежде, совпали. «А Рахматуллыч молодец, в форме, в мыслях не закостенел», — пронеслось у него в голове. И обрадовался — версия верна! Теперь получится цельная картина событий, в которой можно будет разобраться.
— Первое: думаю, что связь между убийством Древцова и Севчука случайная, то есть, здесь нет общей цели. Их объединяет лишь одно лицо — Фролов по кличке Космач. Этот тип — чистый уголовник. Полагаю: в первом случае убийство заранее не предусматривалось. — Тут Закиров взглянул на майора Галямова. Тот сидел с непроницаемым лицом. — Это во многом подтверждается материалами дела.
Нурбанов мельком взглянул на присутствующих — все напряженно слушали.
— Второе: Космача усиленно искали темные личности...
— Со светлыми головами, — вставил, усмехнувшись, Яшенков.
— ...которые, пожалуй, связаны как с уголовниками, так и с иностранной разведкой. Бесспорно, руководит ими какой-то прожженный и очень неглупый человек, хорошо знающий обстановку. Таким образом, Космача, по всей вероятности, использовали как приманку в комбинации. Заодно, естественно, стремились привязать его к мокрому делу — убийству Севчука.
Нурбанов выпил стакан воды, вытер платком влажный лоб и продолжил:
— Кто-то всеми силами хочет отвлечь наше внимание от других населенных пунктов, и в первую очередь, конечно, от Святовского поселка. Именно рядом с этим поселком разыгрались неожиданные события как для нас, так и для наших противников. Они никак не ожидали, что мы так быстро нападем на их след. Другое дело, что мы в полной мере не воспользовались этим. Во всяком случае, сами того не подозревая, мы после стычки с Варевым, вынудили их сделать отвлекающий наше внимание ход. Поэтому они пишут анонимку нам, в органы госбезопасности, а не в милицию. А затем идут на крайний шаг — убийство.
Нурбанов взял из папки конверт.
— Почтовый штемпель на этом конверте свидетельствует об отправке анонимки в субботу. Убийство совершено в воскресенье. Мы получаем их сочинение в понедельник. Следовательно, мы могли предпринять соответствующие действия лишь в понедельник. Они, конечно же, знали, сколько времени идет письмо. Значит, действовали без особой опаски, ведь на селе был один участковый милиционер. Им было все равно, кого убивать. Лишь бы привлечь внимание к этому селению. Это я подчеркиваю еще раз.
Нурбанов немного помолчал, оперся обеими руками на спинку стула и продолжил ровным голосом:
— Вот, так сказать, эскизный набросок картины. — Затем Нурбанов перешел к деталям, подробно обосновывая каждый штрих.
Когда он кончил говорить, нарком оживленно подтвердил:
— Ваша точка зрения предельно ясна, Михаил Иванович.
Нурбанов тяжело опустился на стул. Ему не нравилось свое выступление. Показалось — мало аргументировал, да и последовательность речи могла быть лучше.
— Какие будут вопросы? Кто хочет еще высказаться? — спросил нарком.
Все молчали. Почти для всех высказанное Нурбановым предположение явилось неожиданным — и никто не был готов выступить «за» или «против». И поскольку своей концепции никто не имел, а по мелочам настолько высоком уровне спорить не хотели, дабы не выглядеть несолидными, выступающих не нашлось.
— Ну что ж, товарищи, — произнес нарком, — раз никто не желает выступать, придется сказать мне.
Он вытащил исписанный листок из ящика стола, взглянул на него.
— Я знакомился с материалами и сделал некоторые пометки для себя. Грешным делом, у меня тоже витали мысли, которые здесь высказал Михаил Иванович, правда, не в столь рельефном виде. У меня тут есть такая запись. «Подумать о взаимосвязи убийства Севчука с действиями радиста и осуществить проверку этой версии».
Нарком отложил листок в сторону, протер очки и продолжил:
— Правда, выдвинутая Нурбановым, версия почти ничем не подтверждается. Но она, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Лично я поддерживаю ее. Вывод, надо прямо сказать, неожиданный. Хотел бы высказать некоторые соображения.
Нурбанов и Закиров приготовились записывать.
— Мне кажется, используя Космача в Каримово, преследовали двоякую цель. Во-первых, хотели узнать: засвечен он или нет. Это подтверждается сегодняшним звонком преступников в домоуправление. И, второе, как здесь было, уже сказано, использовать Космача в качестве приманки. А заодно связать его кровавым узлом. Но отсюда напрашивается другое. Если Космач попал в сферу влияния иностранной разведки, его будут использовать в своих интересах. Значит, он выйдет из разряда обычных уголовников. При этом возникает вопрос: с чего это так носятся с Космачом? Это настораживает. По всей вероятности, замышляется какое-то новое крупное дело, где без этого «домушника» не обойтись. Надо полагать: иностранную разведку не интересуют квартирные кражи. Их волнует секретная информация или диверсионные акции. Исходя из этого, нужно нам в самое ближайшее время провести ряд мер.
Выступления Нурбанова и Рахматулнна Закиров слушал затаив дыхание, словно периферийный студент столичных профессоров.
На совещании, однако, было признано нецелесообразным пока объединять в одно производство дела об убийстве Древцова и Севчука.
Совещание еще долго продолжалось после того, как Закирова отпустили с него.
Глава X
Без малого три недели бились шифровальщики над перехваченной шифровкой. Обратились с просьбой в Москву. Питали небольшую надежду, что такой шифр уже встречался. Там действительно был записан на пленку очень сходный по характеру шифр, состоящий из пятизначных цифр, чередующийся в определенной последовательности с комбинацией из трехзначных цифр. Но тексты шифровок еще не были прочитаны.
Стеклов ежедневно наведывался в отдел. Он допускал, что противнику удалось, меняя время и диапазоны волн, передать одну-две шифровки и оказаться незапеленгованным. Видимо, так и было.
Разгадке шифра помог случай. А точнее, один ученый-историк, который в тот памятный день пришел к своему приятелю — сотруднику шифровального отдела Николаю Старовойтову.
Не замечая, что Николай о чем-то мучительно думает, историк Тимофей Денисов принялся рассказывать о своей недавней поездке вверх по Волге.
Он для себя сделал открытие, что представители Булгарского государства — предки поволжских татар — в двенадцатом веке уходили вверх по Волге и создавали небольшие поселения — слободы. И жили в мире и дружбе с коренным населением — русскими. Такая слобода существует и в Костроме. И тут историк назвал цифру: время основания татарского кладбища в Костроме — 1151 год.
Старовойтов, уловив цифру, машинально стал примеряться с ней к шифровке. Затем, переспросив, вдруг кинулся к книжному шкафу за Библией, которая осталась от бабушки. Вытащив толстый фолиант издания священного Синода православной церкви 1896 года, он с невероятной поспешностью начал раскрывать ее страницы, поглядывая на шифровку.
Его приятель, не понимая, что творится с Николаем, перестал говорить и с удивлением смотрел на него.
Круглое лицо Старовойтова вдруг совершенно изменилось: как будто он надел веселую маскарадную маску. Подскочил к Тимофею и обнял его.
— Ты не можешь себе представить, как помог мне! — взволнованно проговорил он и, извинившись, помчался на службу.
Вот такая случайность помогла прочесть шифровки, до недавнего времени лежавшие бесполезными бумажками.
Стеклова он нашел у начальника отдела Нурбанова, доложил им о своей разгадке и пообещал через час принести расшифрованные радиограммы.
Стеклов вытащил пачку «Казбека», затянувшись, облегченно вздохнул:
— Ну, теперь кое-что прояснится.
— Должно, должно, — выразил надежду Нурбанов. — И так начальство жмет. А вчера из обкома партии звонили... Очень надеются на нас, Петр Прохорович... А партийный долг отличается от профессионального долга неизмеримо большей моральной ответственностью и полной самоотдачей, до последнего дыхания. А мы, по-моему, еще далеки от этих требований — мало работаем.
— Ну, это уж к тебе, во всяком случае, не относится, — возразил Стеклов. — Пашешь, как ломовая лошадь. До сих пор не можешь оклематься. Куда это годится? Отлежаться тебе надобно. А то, не дай бог, осложнение какое-нибудь прицепится.
Нурбанов махнул рукой:
— Полно тебе, Прохорыч, опять начал увещевать меня. Работа, она...
— Болезнь работы не боится, — перебил его Стеклов и тихим, добрым голосом, от которого веяло чем-то домашним, произнес: — Не нужно, Миша, испытывать здоровье, не нужно. Оно еще тебе, ох как, пригодится! Жизнь еще впереди.
Нурбанов усмехнулся:
— Ты словно сговорился с лечащим врачом. Тот грозится позвонить наркому. Обещаю: как разрубим этот гордиев узел, так подлечусь, вернее, в отпуск куда-нибудь махну. — Он посмотрел на часы. — Скоро увидим, что там, понаписали противники.
— Расчет у них был определенный: чекисты не читают Библии, ее Ветхий и Новый заветы. К тому же ключ необычный, не вяжется с Библией. Одним словом: контраст!
— И действия их не вяжутся с Библией, — заметил Нурбанов. — Если верить Ветхому завету, где говорится о бытии, бог выслал Адама из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. А что же получается? Что делают современные разновидности Адамов? Они возделывают зло. Убивают людей. Мешают спокойно жить нам.
В комнату торопливо вошел шифровальщик. Нурбанов взял радиограммы, потряс ими в воздухе:
— Вот они, не оплаченные нами векселя. — И начал читать.
Штольцу.
Нашел двух нужных людей. Их клички Бугай и Чмо. Разыскиваю с их помощью третьего. Через него должен выйти на объект.
Мефодий.
Нурбанов отложил в сторону прочитанный листок в, бросив взгляд на майора, продолжил:
Мефодию.
Привлеките к розыску тринадцатого. Попытайтесь выйти на главный объект через Розу.
Штольц.
— А вот и последняя, — проронил Нурбанов неудовлетворенным голосом.
Штольцу.
Подготовку завершаю. Убит Бугай. Место обитания третьего установил. Должен появиться скоро. Роза плакала. Дела потекли.
Мефодий.
Нурбанов положил на стол последний листок.
— Как это вам удалось? — спросил он шифровальщика, кивнув головой на радиограммы. Хотя чувствовалось: мысли его уже целиком были заняты содержанием шифровок.
Шифровальщик пожал плечами:
— Просто пришла неожиданная мысль... основанная на крайней противоположности от исходной посылки — от ключа.
— Да-да, — торопливо согласился полковник. — Спасибо вам большое. Будете представлены к поощрению.
Когда шифровальщик ушел, Стеклов, перечитав радиограммы, произнес:
— Тут теперь кое-что проясняется, но новых вопросов — ого-го! — на две тележки наберется.
— Что ж, на то мы тут и грузчики, чтобы эти тележки возить да разгружать. Ты лучше скажи: не твой ли Мефодий воскрес, как птица Феникс из пепла? Или это случайное совпадение?
— Если бы он был жив, то вряд ли упоминалось бы имя. Я, например, Михаил Иванович, на это не пошел бы. Тут уж не до тщеславия.
— Может, оно и так, Петр Прохорович. Я так же считаю. А вдруг они на это и рассчитывали?
— Какой же резон? Что, имен разве не хватает? А впрочем, возможно, они хотят тем самым увести нас в сторону. Чтобы начали проверять события почти двадцатилетней давности. Пока мы тут будем возиться, время терять, они тем временем свои дела обтяпают.
Нурбанов, немного подумав, заметил:
— Очень может быть даже и так. Пустить нас по ложному следу в случае разгадок шифровок — неплохая для них мысль. Не имея определенности и ясности на сегодняшний день, мы должны, Петр Прохорович, предусмотреть проверку наших сомнений. Но об этом после.
Они еще долго анализировали содержание шифровок, сопоставляли их с различными датами, событиями. Оба пришли к выводу: речь в радиограммах шла о том преступнике под кличкой Бугай, который был убит в перестрелке с Закировым. И второй вывод, который не вызывал у них особых сомнений, сводился к тому, что радиограммы были переданы до того, как рация была запеленгована и начат ее поиск.
Сделали предположение: третьим, кого искал шпион, судя по шифровке, мог оказаться Космач.
Нурбанов и Стеклов также допускали: рацией могли воспользоваться в период ее поиска. Отсутствие шифровки не опровергало эту мысль: она могла оказаться по каким-либо причинам не перехваченной.
Кто такая Роза? Почему она «плакала»? Что означает «дела потекли»? Где находится «главный объект»? Существует ли тогда, наряду с главным, другой объект? Все это оставалось неизвестным.
От шифровок Нурбанов и Стеклов перешли к организации засады около тайника с рацией.
Накануне, на совещании у наркома НКВД, было решено: убрать палатки «туристов» в районе местонахождения тайника. Предлагали взамен им подогнать поближе к берегу баржу и вести наблюдение оттуда.
Однако в этом варианте нашли изъяны: преступник мог скрыться прежде, чем от баржи доплывут до берега. К тому же в ночное время вести наблюдение с баржи не приставлялось возможным.
Решили обратиться к помощи цыган, кочевавших в лесу, недалеко от Каримова. Нашли работника милиции происхождением из цыган. Через него и организовали переход табора на берег Волги. Это не должно было вызвать подозрения, тем более что раньше цыгане останавливались там.
Вплотную к цыганским приткнулся схожий шатер оперативников. Ни внешностью, ни одеждой шестеро сотрудников НКВД не отличались от обитателей табора.
Нурбанов старался максимально представить, как все произойдет. Прикидывал варианты. Кажется, все было предусмотрено, но он вновь и вновь возвращался к этой операции, обсуждал ее детали со Стендовым и Галямовым.
На следующий день болезнь свалила Нурбанова. Вместо него остался Галямов.
...Прошло четыре дня, как тайник был взят под круглосуточное наблюдение, но никто не появлялся.
Табор жил своей размеренной жизнью. С утра женщины отправлялись в Светловолжск и близлежащие населенные пункты. Мужчины пасли лошадей, заготовляли дрова, спали, играли в карты.
Вечером табор оживал: возвращались женщины, а вместе с ними шаловливые детишки, раздавались веселые голоса, смех. А когда чернота ночи окутывала табор, шатры, стоящих неподалеку полусонных лошадей, мелодичные, зажигательные песни неслись над водной гладью вместе с искрами цыганских костров. Песни сменялись стремительными плясками. Потом снова слышались песни в сопровождении грустно-нежных скрипок и гитар.
Вечера проходили быстро. Хуже было оперативникам в дневную духоту, когда палатка нагревалась так, что напоминала натопленную русскую баню. В ней находились постоянно два-три человека, а ночью все сотрудники.
Утром трое из них отправлялись пасти лошадей вместе с обитателями табора. Полагали: неизвестный мог выведать незаметно у цыган интересующие его сведения. Опытному агенту достаточно было узнать: вырос ли табор за последние две-три недели и за счет кого, чтобы сделать соответствующий вывод.
Чекисты ждали хозяина рации в разных обличиях, Стеклов, например, считал: неизвестный обязательно сначала побывает в таборе, дабы убедиться, что там нет лжецыган. Всего скорее, как он говорил, может появиться рыбак, чтобы продать свой улов, а заодно разнюхать обстановку. Галямов полагал, что шпион или его подручный попытаются выудить сведения у цыган, отлучающихся днем из табора. И на этот случай были приняты кое-какие меры.
Развязка наступила на шестой день после того, как табор перебрался к Волге. В тот день Наталья Волшанинова и Рада Биленко добрались на попутной машине до Светловолжска без всяких оказий. Целый день ходили по магазинам и городскому базару. После полудня, скрываясь от солнцепека, остановились в привокзальном саду и начали предлагать прохожим определить предначертания их судьбы на ближайшее будущее. Желающих узнать, какое счастье скоро им привалит и кому они будут обязаны этим, было немного.
Волшанинова, не надеясь на успех, предложила свои услуги неторопливо проходившему мужчине плотного телосложения. Тот окинул ее взглядом, улыбнулся и встал у дерева недалеко от скамейки.
В руках у нее замелькали карты. Мужчина вытащил из кармана пятерку.
— Издалека, наверное, приезжаете сюда на заработки? — спросил весело мужчина.
— А что делать, красавец? Семья, вон детишки, — кивнула она на двух девочек, лузгавших на скамейке семечки. — Вот в такую жару из Святовска, мой яхонтовый, пришла. Позолоти за это ручку как следует, мой бриллиантовый.
Волшанинова рассказала своему клиенту, какие счастливые минуты тот должен пережить в самое недалекое время. Мужчина кивнул, отдал ей деньги и собрался уходить. Но гадальщица была цепкой, преградила ему путь и предложила прояснить теперь судьбу его жены и детей.
Незнакомец пожал плечами:
— Что ты можешь сказать о моей семье, если, наверное, и про свою-то большую семью, про табор толком ничего не знаешь?
— Кто не знает? Я не знаю?!
Мужчина тем временем полез в карман и начал копаться, всем видом показывая, что достает деньги. Но руку из кармана не торопился вытаскивать.
— Ну, сколько сейчас у вас в этой семье народу? — тихо, с безразличным видом проговорил он, доставая десять рублей.
— Семьдесят два.
— А если я приду в табор, в гости? Значит, будет семьдесят третьим, что ли?
— Нет, зачем же? Будешь просто дорогим гостем, — проговорила она, поглядывая на деньги.
— Что ж, у вас сейчас и гостей никого нет?
— Да есть. Шестеро. Приехали из Горьковской области.
— Хороший гость не более трех дней живет. А эти небось зажрались у вас там на дармовщине? Поди, и песен не поют, мужички-то? А уж о пляске и не спрашиваю. Беспробудно только дрыхнут. Так ведь?
— Все правильно говоришь, дорогой. Спят только. Пользы мало от них, от мужчин-то.
— На своем языке они хоть говорят-то? Или совсем позабыли?
— Позабыли, дорогой мой. Только один и говорит, — протягивая руку за деньгами, проговорила она.
— А может, они и не цыгане?
— Кто их знает? Может, и не цыгане.
— Так сколько они уже гостят?
— Неделю завтра справят, мой драгоценный.
Мужчина передал ей десятку:
— Давай раскинь карту на мою семью в на меня еще разок. Уж больно хорошо говоришь.
Та снова начала без умолку тараторить, обещая море счастья и несметные богатства.
Незнакомец посмотрел на часы, заторопился:
— Ох ты, черт. На поезд опаздываю. — И чуть ли не бегом пошел прочь.
Дальше события развернулись для Волшаниновой совершенно непонятно. Не успела она присесть на скамейку, как подошел к ней какой-то мужчина в черном костюме и начал расспрашивать, о чем они разговаривали с незнакомцем, который был так щедр с ней.
Вначале она попыталась отмахнуться, но тот сказал, что он из милиции, и показал удостоверение. Работник милиции нервничал, то и дело посматривал вслед удалявшемуся мужчине.
И когда она на его вопрос, спрашивал ли тот что-нибудь про табор и его гостей, ответила утвердительно — милиционер побежал за незнакомым мужчиной в коричневой тужурке.
Тот шел в противоположную от вокзала сторону. Переходя улицу, он оглянулся: видимо, почувствовал что-то неладное. И, увидев бегущего к нему мужчину, поспешно свернул в переулок.
На этой тесной улочке народу было мало. Мужчина в тужурке снова оглянулся. Милиционер в штатском настигал его: оставалось каких-нибудь тридцать метров. И тут, работник милиции скорее почувствовал это, чем заметил, мужчина хотел было рвануться, но из ближайшего двора неожиданно для них обоих появился сержант милиции.
Тогда преследовавший крикнул:
— Одну минутку, гражданин! Задержитесь!
Тот нехотя остановился, повернулся вполоборота. Когда с ним поравнялся сержант, он молниеносно сделал отмашку правой рукой — нанес удар милиционеру в живот и кинулся по переулку.
— Стой! Стрелять буду! — закричал милиционер в штатском, вынимая из кармана пистолет.
Незнакомец, не обращая внимания на предупреждение, со всех ног несся к перекрестку. Он понимал: преследователь вряд ли будет стрелять в людном месте.
Прохожие с недоумением смотрели на происходящее.
Грохнул выстрел. И снова:
— Стой!
Остановившиеся поглазеть любопытные шарахнулись по сторонам.
Какой-то мужчина попытался было преградить беглецу дорогу, но тот, не останавливаясь, выбросил ногу вперед и опрокинул его. Заметив, что преследователь не отстает, преступник выдернул из-под ремня револьвер и, не целясь, выстрелил в настигавшего его работника милиции. Но промахнулся.
Сотрудник милиции отпрянул в сторону, к стене кирпичного дома, нижние окна которого чуть возвышались над тротуаром. Зазвенели стекла.
Преступник, прежде чем скрыться за углом, еще дважды шарахнул из нагана. Грянули ответные выстрелы.
Послышались крики, женский визг. Кто-то из мужчин истошно завопил:
— Помогите! Бандиты! Убивают! Ка-ра-у-ул!
Преступник перебежал улицу и помчался к ближайшему дому, чтобы нырнуть во двор.
— Держите бандита! — крикнул милиционер, увидев впереди парочку.
То был Треньков с какой-то девушкой. Он обернулся, глянул на вооруженных мужчин, стремительно приближавшихся к нему, и страх, как жесткий холод, сковал его. Кровь отхлынула от головы, и, побледнев как мел, он прижался к стене.
Находясь от Тренькова в двух шагах, преступник снова вскинул оружие. Бежавший за ним мужчина, опережая очередной выстрел, кинулся на землю, как волейболист, достающий безнадежный мяч, и выстрел не повредил ему.
Стрелявший пронесся мимо Тренькова, пахнув на него запахом пота, и свернул во двор.
Эдуард, стараясь побыстрее убраться с этого места, ничего не видя от испуга, шагнул было к своей спутнице, но столкнулся с бежавшим, прихрамывая, работником милиции. Тот, скользнув взглядом по лицу Тренькова, чертыхнулся и побежал во двор.
Треньков был вконец обескуражен: ведь это был Юрка Герасимов, оперативный уполномоченный городского управления милиции. Лейтенант Герасимов значился у них в резерве как перспективный работник и привлекался иногда к подобным операциям.
И тут другой страх обуял его: «А что, если на работе узнают о моем бездействии?» Этот страх погнал его вслед за Герасимовым во двор.
Двор оказался непроходным, И когда там захлопали выстрелы, страх быть убитым взял у него верх над страхом прослыть трусом, запятнать свою честь; он повернул назад.
В душе теплилась надежда: «Вряд ли Герасимов узнал меня в этой обстановке. Ну конечно же нет», — успокаивал себя Треньков, все дальше уходя от злосчастного места.
«И надо же так угораздить. Какого черта я поперся сюда? — сокрушался Треньков. — Могли ни за понюх табака прихлопнуть как муху. И все эта проклятая Людка: „Пойдем гулять, милый“, — и он зло посмотрел на нее. — Надо с ней побыстрей расстаться. Есть же на свете люди, которые приносят одни неприятности и осложнения! Такая несовместимость, пожалуй, похлеще психологической или биологической. Это жизненная несовместимость».
Треньков, очнувшись от своих невеселых мыслей, заторопился. Объяснил своей спутнице, что сейчас должна прийти домой жена. И, махнув на прощание рукой, затерялся в толпе.
А в это время преступник, как загнанный волк, метался по двору. Вот он исчез в подъезде двухэтажного дома, израсходовал, последние патроны. Забрался на чердак, затем на железную крышу и загромыхал по ней к пожарной лестнице.
Герасимов не стрелял — хотел задержать того целым и невредимым. Выбравшись на крышу, он понял, что настигнет преступника на краю крыши, на лестнице, пока тот будет делать первые шаги по ее ступенькам.
Это понял и преступник. Перспектива оказаться в невыгодном положении не устраивала его. Он остановился на середине крыши. Как только Герасимов приблизился, бандит кинулся на него, как разъяренный пес. Работник милиции увернулся от удара, но не позволить тому приблизиться к себе вплотную не смог. Мужчина оказался недюжинной силы, сгреб оперативника в железные объятия. Герасимов все же успел нанести сильный удар локтем в челюсть, и тот на миг ослабил свой натиск. Тут же он попытался достать его еще кулаком, но ответный тяжелый удар по голове помутил сознание Герасимова. И чтобы не упасть, он бросился на своего противника, пытаясь схватить того за горло.
Оба, сцепившись, покатились по крыше и упали вниз с высоты двухэтажного дома.
Глава XI
В последующие дни Закиров метался из одного населенного пункта в другой, побывал в Каримове, Макфирове, Святовске. Преступники петляли.
Было установлено: поздно вечером в субботу их видел пастух недалеко от Макфирова. В самом селе их никто из опрошенных не приметил. Около 22 часов одного из преступников заметил сторож склада лесоматериалов Святовского поселка.
Он пояснил, что упитанный мужчина невысокого роста с бородой и длинными, как у попа, волосами черного цвета соскочил с грузовой автомашины «ЗИС-5», следовавшей со стороны Макфирова.
Закирову удалось отыскать грузовик, принадлежавший местному колхозу «Кызыл Яр». Шофер ничего определенного не смог сказать. Лишь выразил предположение, что неизвестный мог сесть к нему в кузов с дровами, скорее всего, на повороте, у густых кустарников, где он сбавлял скорость. Это примерно в полукилометре от Макфирова.
Следы Космача, таким образом, затерялись в Святовском поселке.
От Святовска до Светловолжска можно было добраться двумя путями: на автобусе и на трамвайчике по Волге.
Но ни на автобусной станции, ни на пристани Фролова — Космача не видели.
«Если, как полагает Стеклов, в Святовске свила гнездо важная птица, которая во многом влияет на происходящие события, — размышлял Закиров, — значит, Космач не станет окапываться в этом поселке. Во всяком случае шеф вряд ли разрешил бы ему здесь околачиваться». Такой вывод перекликается и с мнением полковника Нурбанова. Следовательно, Фролова искать нужно не в этом поселке.
«А может, он ослушался своего хозяина и остался здесь?» — предположил Закиров.
И тут он вспомнил: ведь Космач ездил куда-то за город на автобусе по билету, стоимостью около рубля. За такую сумму на автобусе можно было добраться до четырех населенных пунктов, в том числе и до Святовска. Если же учесть, что Космач был раньше «чистым домушником» и не якшался с иностранной разведкой, то он мог позволить себе проживать там, где ему хотелось. Сейчас же у него, видимо, ситуация изменилась: есть шеф, который регламентирует его действия. Надо полагать, и местожительство. Если исходить из того, что раньше он приезжал в Святовск, то сюда Фролов может ездить по старой памяти, без разрешения своего хозяина.
«Видимо, в этом и кроется противоречие: между убийством Севчука, цель которого отвлечь внимание от Святовского поселка, и появлением Космача в этом населенном пункте», — подумал Закиров.
Эта догадка укрепила его решимость искать преступника именно в Святовске.
«С завтрашнего дня перееду в поселок», — решил Закиров.
Вечером, приехав из Святовска, он позвонил Бабаниной.
Ильдар был порядком измотан беготней. И, видимо, усталость притупила обычное волнение. «Кажется, уже сил на волнение не осталось», — подумал он, слушая ее голос.
— Знаешь что, Ильдар, — долетел по проводам ее голос из другого конца города, — у меня есть предложение.
Ильдар насторожился. Приятное предчувствие чего-то неожиданного и необычного, что должно было произойти в их отношениях, вмиг вытолкнуло усталость.
— Сейчас 19-40. Так?
— Верно, — подтвердил Закиров, взглянув на часы.
— Моя подруга отмечает сегодня окончание института. Есть приглашение. Одна я не хотела идти. Если хочешь, пойдем.
— Да мне неудобно, наверное. Меня-то не приглашали, — стушевался Ильдар, но, поняв, что говорит не то, торопливо согласился: — Я, вообще-то, с удовольствием...
Они договорились о месте и времени встречи. Ильдар с трудом разыскал букет цветов. Купил коробку конфет.
Бабанина пришла без опоздания. Она была в красивом длинном платье из черного панбархата. Небольшое декольте четко обрамляло бледно-матовую шею, на которой висел золотой кулон с изображением гордого профиля царицы Клеопатры.
Ильдар вручил ей цветы, и они направились к стоящему неподалеку четырехэтажному кирпичному дому — там жила ее подруга.
Дверь открыла сама виновница торжества — белокурая розовощекая девушка с длинными ресницами.
— Наконец-то! — обрадованно воскликнула она, с любопытством взглянув на Закирова. — А я уже думала — не придете.
В прихожую из полуоткрытой двери соседней комнаты доносились голоса, смех.
Хозяйка протянула Закирову руку.
— Фарида.
— Очень приятно, — ответил он. И, чуть наклонив голову, произнес: — Ильдар.
Бросался в глаза интерьер большой прихожей, украшенной мраморными каннелированными пилястрами и скульптурным панно.
— Прошу вас, — хозяйка открыла дверь, приглашая пройти в гостиную.
Большая комната была освещена лишь свечами в настенных бронзовых подсвечниках, обрамленных хрустальными подвесками. Подвески чуть раскачивались, и по стене двигались световые «зайчики».
За длинным столом сидело около двух десятков гостей почти всех возрастов.
Ильдара и Элеонору усадили рядышком, придвинул к столу два мягких старинных стула. Такие стулья Закиров видел на сцене театра в пьесе о жизни дворянства прошлого века.
Все в этой квартире говорило о горячей приверженности хозяев к старине: и лепные потолки, и золотисто-розовый гобелен на
стенах, и декоративный беломраморный камин, и холсты картин в паутине чуть заметных трещин, обрамленных массивными темно-золотистыми рамами.
Вся эта обстановка вначале действовала как-то сковывающе. И на память почему-то пришло первое в жизни посещение Эрмитажа в Ленинграде. Тогда увиденное поразило его: он сам себе показался букашкой. Великолепие творений рук человеческих подавляло. И привыкнуть к этому было нельзя, невозможно.
И тут, к своему удивлению, Ильдар увидел Эдика Тренькова, сидевшего в конце стола. Тот уже насмешливо поглядывал на Закирова: дескать, попал впервые в приличную квартиру и рот разинул, не замечает людей.
Закиров кивнул ему, но Треньков уже бесцеремонно рассматривал Элеонору.
— Что это за красавец-повеса так нагло, с ухмылочкой, уставился на меня? — тихо спросила Эля, — Вы, кажется, знакомы?
— Знакомы. Работаем в одной конторе. Зовут его Эдуардом.
Гости потребовали Фариду. Ее встретили шутливо-укоризненными замечаниями: почему она покидает гостей, без нее всем скучно и пропадает аппетит. Потом посыпались разнообразные тосты.
Закиров дважды поймал взгляд Фариды на себе. Это не осталось незамеченным и Элей:
— А ты, кажется, приглянулся моей подруге.
— Да что ты, Элечка, это тебе показалось.
— Ну, не скажи, не скажи. Уж я ее хорошо знаю. Я и не замечала, чтобы она так на кого-то смотрела. Между прочим, у нее нет никого, — улыбнулась Эля.
Чтобы перевести разговор на другое, Закиров спросил:
— Что за дедуля сидит рядом с именинницей?
— Ой, извини меня, Ильдар. Забыла сказать, что мы находимся в гостях у профессора Хабибуллина, вернее, у его дочери.
Гости пили мало, но за столом царила непринужденная обстановка. Сидевший напротив толстяк сыпал остротами, все смеялись. Постепенно скованность прошла и у Ильдара.
Начали крутить пластинки. Появились танцующие пары. Эля танцевать не хотела, и Ильдар старался занять ее веселыми историями.
Тот же толстяк от имени собравшихся гостей попросил Фариду что-нибудь исполнить на скрипке.
Фарида не заставила себя уговаривать. Ей подали скрипку. Она проверила настройку инструмента, встала и коснулась смычком струн — нежные звуки заполнили комнату.
— Этот вальс из балета «Шурале» Яруллина меня всегда волнует, — прошептал Ильдар, обращаясь к Эле. — А она играет очень хорошо.
— Ты молодец, Ильдар. Оказывается, и в классической музыке разбираешься, не только в боксе...
Закиров промолчал. Ему не понравилась эта похвала: «Невысокого, однако ж, мнения обо мне Эля. Надо, пожалуй, постараться изменить его сегодня же».
— ...Она училась со мной в музыкальной школе. Там мы и подружились. Затем она музфак пединститута закончила.
Когда Фарида кончила играть, все встали и дружно зааплодировали. Ее просили сыграть еще что-нибудь. Но Марк Егорович — так звали толстяка — громко заявил:
— Дорогие гости, не забывайте, что не Фаридочка нас, а мы ее должны развлекать сегодня. Позволим же имениннице немного отдохнуть.
Начали выходить из-за стола. Треньков и какой-то мужчина громко говорили о музыке.
— Даже настоящая современная музыка, — рассуждал Треньков, — сегодня еще не может считаться классической. Она, в лучшем случае, будет таковой через много лет, когда автора уже не будет в живых. Иначе говоря, чтобы стать великим, надо умереть. Особенно это видно в другом виде искусства — живописи.
— Ты пока не трогай живопись, — просил Тренькова его собеседник, — мы говорим о музыке и о времени.
Эдуард продолжил:
— Люди к прошлому снисходительны, к настоящему суровы. Пример в музыке? Пожалуйста. Оперу всемирно известного ныне Жоржа Бизе современники освистали! А сейчас «Кармен» считается вершиной французского музыкального искусства девятнадцатого века. Так что, дорогой Прокофий Никанорович, время — всему судья. Оно заставляет по-другому взглянуть на одни и те же вещи.
— А я с этим не спорю. Но ты же, Эдуард, заявил, что железная метла времени «сметет к чертовой материи» все на земле. С этим я не согласен. А теперь ты уже говоришь, что время выявляет истинно ценные произведения. Стало быть, время не сметает, а, наоборот, выявляет и утверждает подлинно великие дела людей. Так что, сам противоречишь себе. И потом, ты смешиваешь две вещи — психологию людей, их отношение к прошлому и настоящему, и время.
— Ну ты, как всегда, в своем репертуаре, — раздраженно махнул рукой Треньков, привлекая к спору внимание гостей, — разрываешь в своем анализе на части вещи, которые должны рассматриваться в органическом единстве. Как же можно рассматривать время в отрыве от людей и их психологии? Ума не приложу! Ведь речь идет о людских делах, а не о камнях. Дела отживших поколений растворяются, постепенно забываются, наконец, заслоняются другими, более крупными однородными делами здравствующих поколений. И таким образом время безвозвратно стирает, сметает, закрывает все...
В разговор вмешался отец Фариды — Мирза Хайдарович:
— Я позволю себе заметить, что действительно в топке времени сгорают люди, их чувства и мысли. Иначе говоря, все, что только может сгореть. Остаются лишь великие идеи и имена их авторов — лишь они не сгорают и не плавятся. Они тверже и крепче любой стали, долговечнее любого материала, который только существует на земле.
Мирза Хайдарович повернул голову к Ильдару и Элеоноре и проговорил:
— Если же говорить обобщенно, что является вечным в этой жизни, то здесь следует исходить из следующего. Поскольку дела людей совершаются для народа, ради народа, то можно твердо сказать: на земле вечно то, что необходимо человеку.
Хабибуллин обвел глазами присутствующих и продолжил:
— Мертворожденные же идеи и основанные на них дела, не приносящие людям пользы, незамедлительно отвергаются народом, они исчезают так же быстро, с точки зрения истории человечества, как мерцание падающих метеоритов на ночном небосводе.
Профессора позвали к телефону и он, извинившись, ушел в другую комнату.
— А твои идеи, дорогой коллега Закиров, простираются не далее уголовного дела, — развязно произнес захмелевший Треньков. И тут же добавил: — А время летит. Ох как летит! Мы занимаемся с тобой черт знает чем, вместо того чтобы сочинять великие идеи, творить большие дела.
Закиров пожал плечами:
— Кто ж тебе мешает? Сочиняй. Твори. А вообще о времени не только говорят, но и поют. Иная музыка заставляет почувствовать стремительный бег времени сильнее всяких слов.
— Говори конкретнее, — набычившись, произнес Треньков.
— К примеру, взять «Элегию» Массне в исполнении Шаляпина. Это же крик души об безвозвратно ушедшем бесконечно дорогом времени, апофеоз страданий о прошлом, которое для некоторых во много раз дороже, чем все их будущее.
— Между прочим, приятнее слушать музыку, чем-то, что о ней говорят, — заметил Треньков. — Ты бы лучше нам здесь исполнил эту «Элегию». Ведь болтать с видом всезнающего специалиста каждый может.
Закиров понимал: Треньков старается посадить его в лужу. Он вначале хотел в том же тоне парировать реплику Эдуарда, но затем решил, что в создавшейся ситуации лучше всего действительно сыграть, чтобы не оконфузиться. И тут он, уже в который раз, с благодарностью вспомнил мать, которая за руку водила его в музыкальную школу, хотя он и упирался.
Рядом стояло великолепное красного, дерева пианино «Клингман» с барельефом Бетховена и с бронзовыми канделябрами.
— Видимо, к советам коллеги иногда нужно прислушиваться, — улыбнулся Ильдар. И, обращаясь к Фариде: — Вы не возражаете?..
— Что вы! Напротив. Просим вас...
Инструмент издавал необычно густой красивый звук. «Лишь бы не сбиться», — с волнением подумал Ильдар, стараясь расслабить кисти рук. Он без ошибок исполнил вступление и запел негромко грустно-задумчивым баритоном. Ильдар чувствовал мелодию «Элегии». Правда, он еще не воспринимал слова и мелодию так остро, как воспринимают ее люди пожилого возраста, потому что они живут не только будущим, но и прошлым. А молодые о прошлом не грустят.
Пел и играл Закиров с настроением, а когда окончил, то все повторилось, как и с Фаридой.
— Вот ведь где таланты скрываются! — с неподдельным восхищением сказала Фарида, глядя на него.
— Ильдар, как это тебе удалось на протяжении многих лет так ловко скрывать свои достоинства от нас, одноклассников? — спросила Элеонора с улыбкой.
— Скрывающий достоинства — мудрый человек: не будит зависти у недругов своих, — лукаво произнес Марк Егорович.
— Скрывающий свои достоинства однажды посрамит любого, — заметил вернувшийся в комнату профессор. — Такой человек не может быть нескромным.
Элеонора захлопала в ладоши, вспомнив, как несколько минут назад снисходительно похвалила Закирова, будто учительница посредственного школьника, неожиданно хорошо ответившего урок.
Ильдара заставили снова петь и играть. Исполняя романс «Я встретил вас», он украдкой бросал взгляды на Элю, стоявшую чуть впереди, прислонившись к стене. Эти взгляды она замечала.
Потом Фарида снова играла на скрипке. Затем начали танцевать модные танго и фокстроты.
Когда Ильдар и Элеонора присели отдохнуть после очередного танца, к ним подошел Треньков и пригласил Элеонору танцевать.
К Ильдару подсели Фарида и незнакомая худая девушка в очках, похожая на тех, кого принято относить к «синим чулкам». Она поправила очки и, неприязненно глядя на танцующих, заявила:
— Еще в Древней Греции, в начальный период развития античной эстетики, Еврипид писал, что музыка не только не ведет к добродетели, но, наоборот, склоняет к распутству и похоти. Он близок к истине.
Сидевший рядом и жевавший со скучным видом Марк Егорович оживился:
— Вот как? Это очень интересно. Я где-то читал: Платон и Эпикур на всех перекрестках бранили музыку. Но таких решительных выводов, кажется, не делали. Как я понял, вы разделяете точку зрения Еврипида?
— Несомненно.
— Вы что ж, любую музыку отрицаете? — не вытерпел Закиров.
— Нет, почему же? Классическую допускаю. А вот эту, — она кивнула в сторону танцующих, — эту музыку — под хороший амбарный замок!
Закиров подумал, что сказанная глупость, как афоризм, они живучи одинаково. А вслух сказал:
— Но это уже из области вкуса и, как говорят: De gustibus non disputandum
[70]. В общем, кому что нравится. — Закиров обратился к Фариде: — А вы как считаете?
— Tempora mutantur
[71]. Сейчас права на жизнь имеет любая музыка, если она кому-то нравится, — ответила она. И весь ее вид говорил: «Хоть мы и не изучали латынь в институте, в отличие от вас, но и мы кое-что знаем. И не зазнавайтесь, пожалуйста».
«Ишь ты какая, — подумал Ильдар, глядя на нее с уважением. — Эта не похожа на простушку, может постоять за себя». И тут он вспомнил, что собирался позвонить.
— Фарида, можно я от вас позвоню на службу?
— Конечно. Пожалуйста.
Она встала и проводила его к телефону. Трубку взял Галямов.
— Где вы там пропадаете? — вместо приветствия недовольно буркнул он. — Мы уж тут с ног сбились, разыскивая вас и Тренькова. Немедленно явитесь сюда.
— Товарищ майор, случилось что-нибудь непредвиденное? — спросил Закиров. чувствуя, как кровь приливает к голове. Тревога разом навалилась на него, и от хорошего настроения не осталось следа.
— Случилось. Куда прислать машину?
Он назвал адрес.
— Машина сейчас выезжает. Случайно, вы не знаете, где Треньков?
— Он тоже здесь.
— Вот как?! Передайте ему, чтобы выехал с вами.
«Если посылают за рядовым следователем машину к месту его отдыха, то дело серьезное», — невесело отметил про себя Ильдар, подходя к Тренькову.
Узнав в чем дело, Эдуард взорвался, наговорил Закирову кучу неприятностей.
— Езжай один, я не поеду! — отрезал он, поглядывая на Бабанину. И, нагнувшись, зашептал ему на ухо: — Я болен. Понятно тебе? Так и передай майору.
Элеоноре Закиров сказал, что его срочно вызывают на службу и, если она желает, он может ее подбросить до дома. Она без раздумий согласилась.
Узнав, что Элеонора решила ехать домой, Эдуард изменил свое решение и поехал вместе с ними.
Уже в машине Эля прошептала:
— О чем ты думал, когда смотрел на меня во время игры на пианино?
Ильдар посмотрел на сидящего на переднем сиденье Тренькова, как бы примеряясь: слышит он разговор их или нет, и так же тихо ответил:
— О тебе, Эля. Я давно думаю о тебе, с тех пор как увидел. Но не мог... не решался тебе сказать об этом... я не могу без тебя, Эля...
Она остановила на Закирове долгий, незнакомый ему серьезно-грустный взгляд и ничего не сказала.
Элеонору подвезли к ее дому, и машина стремительно понеслась дальше, в наркомат. Треньков спросил у Закирова:
— Какие у тебя отношения с ней, если, конечно, не секрет?
— Слушай, если нажрался — молчи! — вспылил Закиров. — И не лезь в наши отношения!
Эдуард медленно повернул голову и остановил рассеянный взгляд на Закирове:
— Она мне понравилась. Так что не обессудь. Что я могу с собой поделать?
Наконец машина остановилась у подъезда наркомата.
Ильдар с волнением открыл дверь кабинета майора Галямова. Тот копался в бумагах. Вот он поднял голову, его вечно недовольное лицо выражало крайнюю усталость.
«Тяжело ему приходится без Нурбанова, — подумал Закиров. — Отдел — тяжелый воз, и тащить одному явно не под силу».
Галямов предложил им присесть.
— Сегодня около 18-30, — сразу же начал он, — неизвестные лица проникли в квартиру заместителя главного конструктора важного предприятия Ахматова и вскрыли его домашний сейф, о существовании которого знали только члены его семьи. Конструктор имеет склонность работать поздним вечером и ночью, поэтому у него в квартире и был оборудован сейф-тайник. За десять минут, как теперь установлено, преступники открыли дверь квартиры без взлома, отыскали ключ от сейфа и вскрыли его. Есть основание полагать, с бумагами, хранившимися в сейфе, вражеская агентура ознакомилась. Но об этом позднее, после соответствующей экспертизы.
Галямов, глядя то на одного, то на другого следователя, бесстрастно и быстро говорил, словно читал по бумажке:
— Мать конструктора Ахматова найдена в коридоре квартиры мертвой, без видимых признаков телесных повреждений. Врачи пока затрудняются что-либо говорить конкретно по этому поводу. Но это еще не все.
Майор остановил свой взгляд на Закирове:
— А вам, старший лейтенант, другой сюрприз: все это произошло опять-таки в том доме, где жил убитый Древцов, только в другом подъезде. Короче, некоторые элементы данного преступления чем-то сходны с делом, которое вы до сих пор не можете закончить.
«Укоры, как шишки из мешка, сыплются от начальства, — тоскливо отметил про себя Ильдар. — Надо действительно кончать с делом Древцова. Все уперлось в этого проклятого Космача. Ничего не попишешь, — такова горемычная доля следователя».
— Так вот, товарищ Закиров, вы закопались со своим делом, поэтому возьмите в свое производство и это. А сейчас езжайте с Треньковым на место происшествия — там наши товарищи. Отпечатки пальцев по всей квартире ищут. В общем, производят опыление всего и вся, как в колхозном саду.
Ребята собрались уходить. Уже с порога Закиров попросил у майора разрешения поехать завтра в командировку дня на три, на четыре в Святовск. Он выразил уверенность, что Фролов ушел на дно именно в этом поселке.
Галямов махнул рукой:
— Это потом, старший лейтенант, — завтра решим. Но я вам не советую отлынивать от поручаемого дела. В свое время, когда я работал следователем, у каждого из нас в производстве было почти по целой дюжине самых разнообразных дел. И ничего — справлялись.
— Да я не уклоняюсь...
— Ладно, — перебил его Галямов, — мигом оба сейчас туда... Хотя минутку, — остановил их майор. — Мне кажется: ключ к разгадке преступного посягательства на конструктора Ахматова кроется во времени, которое злоумышленники потратили на поиски сейфа, ключа от него и вскрытие сейфа. Иначе говоря, в этом деле участвовала личность, которая все это точно знала. Ключ от сейфа был сделан таким образом, что он являлся частью ноги чучела филина. — Догадаться об этом очень трудно. Сами увидите. В общем — действуйте!
Глава XII
— Ваши фамилия и имя? — спросил Галямов, уставив тяжелый взгляд на чернявого мужчину плотного телосложения с забинтованной ключицей.
Тот лежал с отрешенным взглядом и никак не прореагировал, словно вопрос относился не к нему.
— Вы что, глухой? — ровным голосом задал ему вопрос майор. Допрашиваемый нехотя скосил глаза на Галямова, процедил:
— Начальник, я больной. Дай отдохнуть.
— Отдыхать некогда.
— А мне торопиться некуда. Впереди капитальные нары. Лежи — не хочу.
— Нет, дорогой гражданин... Как вас?..
— Не кныжься, начальник. Я никто.
— Ну, напрасно, гражданин. Заговорите вы, заговорите, некуда деваться.
Мужчина здоровый рукой сделал широкий жест, покрутил головой и недобро ухмыльнулся:
— Да, хаза кирпично-железная — деваться некуда. — И, чуть подавшись вперед, сказал: — Дубово допрашиваешь, гражданин начальник: без психологии, без обходного, так сказать, маневра. Напролом лезешь. На уроках криминалистики, небось, трекали по-другому. Вот когда меня первый раз поволокли на нары за фарцовку, начальник один толковище вел со мной. Ох и вел! Во выкобенивался так выкобенивался! То, как лисица, завиляет хвостом, то котиком ласковым замурлыкает, то ослом заорет...
Галямов не перебивал задержанного преступника, оказавшего яростное сопротивление оперуполномоченному милиции Герасимову, который сейчас лежал в больнице со сломанными ногами и сотрясением мозга после падения с крыши. Майор хотел разобраться, что за птица попалась в расставленные силки: уголовник-рецидивист или вражеский агент.
Дождавшись, когда тот смолкнет, Галямов строго произнес:
— Вот что, гражданин. Вы здесь находитесь не за продажу ворованных штанов, а за шпионаж. О нарах, о решетке вам только мечтать. Слышите? Только мечтать! А так — стенка!
— Какая стенка?! За то, что попросил погадать цыганку?! Ну, имел наган... стрелял из него нарочно, чтобы хвост отстал: ведь в него я не целился, а то бы каюк! Тяну я на две статьи: незаконное хранение оружия и стрельба на улице — хулиганство.
— Нет. Легкую жизнь себе рисуешь, гражданин никто. Пасьянс раскладывается иначе: попытка получения и передачи жизненно важной информации для иностранной разведки, а именно: существует засада в расположении цыганского табора, около тайника с рацией, или нет. Это одно. Покушение на жизнь сотрудника милиции — это другое. Обе статьи в уголовном кодексе предусматривают в качестве меры наказания расстрел. Иначе говоря, стенка. Вот так-то.
Майор, не отрывая глаз от лица преступника, сел на табурет.
— А теперь давай серьезный разговор вести. Кому должен был передать информацию после опроса цыганки?
Больной, откинувшись на подушку, молчал. Лоб его покрылся испариной.
— Я устал, я болен, начальник. Не могу больше.
— Можешь, можешь. Здоров как бык. Даже после падения с крыши чуть не исчез. Если бы не сознательные прохожие, убежал бы.
— Смысла нет говорить, начальник. Ты же говоришь, припаяют мне две расстрельные статьи. Один конец.
— Одно дело, гражданин, когда ты вообще ничего не будешь говорить. Другое — когда выложишь все начистоту. Это суд обязательно учтет. Ведь одни и те же действия иногда имеют разные окраски. Мне кажется, что здесь именно тот случай. Сам пойми: то ли тебя использовали на подхвате, то ли ты сам иностранный агент. Ведь твои действия подтверждают и то, и другое. Как видишь, в твоих же интересах пояснить нам что к чему.
— Ишь как загнул! Нехорошо говоришь, начальник. Шпионаж ты мне не клей. Ты же видишь, что я блатной.
— Наколки и терминология в данном случае не главное для квалификации. Главное здесь — твои действия, только действия, гражданин. По ним судят. Ты это не хуже меня знаешь.
Галямов вытащил из папки листы чистой бумаги.
— Сам будешь писать или помочь? — произнес он будничным тоном как о деле, давно решенном и предельно ясном.
— Пишите сами, — переходя на «вы», ответил преступник.
Майор уселся у тумбочки.
— Горошкин Василий Сафоныч, по кличке Косолапый. Отмотал семилетний срок два месяца назад. Вернулся из солнечной Колымы. Взяли мы семь лет назад здесь одну лавчонку. Осужден Приволжским районным нарсудом...
— Кого брали в дело?
— Тогда был шестеркой. Не я был закоперщиком.
[72]
— Дальше, Горошкин.
— На Колыме познался с Бугаем. Он из здешних краев.
— Фамилия его? — насторожившись, коротко спросил Галямов.
— Ивеев Бугуруслан. Жил на улице Ямашева, 23...
— Так, дальше, — торопил майор, опасаясь, как бы тот не отключился: лицо допрашиваемого стало напоминать меловую маску.
— ...через него снюхался с Чмо. Он предложил мне за кусок — тысчонка мне позарез нужна была — достать велик на ходу. На барыге в Светловолжске купил его. У кого? Не знаю. Толкач смахивал, в общем, на мелюзгу.
— Когда это было?
— Вроде в конце мая, а вроде в начале июня. Не помню, начальник.
— Дальше, дальше, Горошкин.
— Отдал его Чмо.
— Кто такой Чмо? Адрес его?
— Не знаю. Он мне не говорил. Чмо меня сам находил — знал, где я живу. Два дня тому назад предложил вот это дело. За пять тысчонок. Три куска авансом отвалил, а остальные два, сказал, после того, как узнаю что к чему. Но я, ей-богу, не знал, для чего это им надо. Ей-богу, не знал. Матерью клянусь. Ни о какой рации он мне не говорил. Он просто мне сказал: «Узнай у цыганок, есть ли там у них в таборе или рядом с ними энкеведисты... И когда они пожаловали в гости». Чмо научил меня, как лучше с ними говорить. Я только повторил цыганке его слова, его вопросы.
Горошкин, из последних сил напрягая зрение, впился в лицо майора, силясь узнать, верит тот сказанному или нет. Видимо, это стоило ему больших сил — преступник начал обливаться потом и часто, тяжело дышать, как загнанная лошадь. Он закрыл глаза.
Майор решил его как-то подбодрить:
— Ну, допустим, что вы не знали о рации и для чего эти сведения нужны. Вполне возможно.
Майор подал ему алюминиевую кружку с водой. Горошкин судорожно сделал несколько глотков. Сейчас это был жалкий, раздавленный человек. От первоначальной наглости не осталось и следа. Преступник решил полностью раскрыться, понимая, что это единственный шанс на спасение. Это состояние уловил майор.
— Кому и где вы должны были передать добытые сведения?
— Я должен был поехать в речной порт. Там, на второй пристани от 19-00 до 19-30, ко мне должен был подойти Чмо.
— Когда должны были встретиться с ним? Какого числа?
— В тот же день, позавчера, — поспешно ответил Горошкин. — Других дней он не назначал.
— А почему же вы пошли сразу не на трамвайную остановку, откуда можно податься к пристани?
— Мне Чмо сказал: «Зайди по дороге в промтоварный магазин на Серова и прихвати пару калош сорок третьего размера».
— Для чего?
— Не знаю, начальник, Чмо не говорил, В магазин велел идти проходными дворами — заодно нужно было проверить, не прицепился ли хвост.
Горошкин подробно рассказал майору, какими дворами должен был он следовать к магазину.
«Видимо, в одном из этих дворов поджидали Горошкина, — прикинул майор. — Для чего тогда Чмо определил Косолапому столь точный маршрут движения к магазину? Ведь есть и другая, более короткая дорога».
Горошкин, всего скорее, выполнял роль наживки: исчезнет он по пути к магазину или пристани — значит, на него клюнули. А отсюда вывод: все обитатели табора под наблюдением, дабы не просочилась информация о засаде. А отсюда совсем уже нетрудно догадаться, что рация найдена. Если бы они обнаружили наблюдение за Косолапым после разговора с цыганкой, вывод был бы тот же. Чмо, по-видимому, шел по пятам.
Галямов, очнувшись от размышлений, спросил:
— Где вы, Горошкин, взяли наган?
— Чмо дал перед тем, как пошел на дело.
— Кого вы знаете из его дружков?
— Не знаю никого. Он о себе ничего не рассказывал.
— А откуда его знал Бугай?
— Тоже не знаю. У нас лишних вопросов не задают. А сам он мне не рассказывал. Говорил: «Чмо вор в законе и очень хитер и опасен. Чуть что — перо в бок, и панихиду не успеешь заказать».
— А вы его не боялись?
Косолапый криво усмехнулся:
— Да я любую шпану заделаю. Монеты могу гнуть руками. Пасть порву и ему, ежели нужда появится.
— Дело не всегда в физической силе, Горошкин. Пока что он сделал тебя шестеркой: бегал у него на подхвате. Чмо тебя вместо себя подставил под гибельные статьи.
— Когда выйду на волю, верну ему должок. За мной не пропадет.
— А ты не дожидайся — то время далекое. Верни сейчас.
— Подскажи, начальник, как?
— Куда делся Бугай? — вопросом ответил Галямов.
— Мне Чмо говорил, будто его ваши кокнули в мае месяце. Сам я видел его в числах двадцатых. Бугай и Чмо, кажется, брали вдвоем сельмаг в Ключищах. Потом они захаживали в одну малину в Ивановском переулке. Мне как-то Бугай об этом проговорился. Обещал и меня туда взять.
— Куда он, этот Ивеев, еще ходил?
— Вроде хаза у него была на Вахитовской. Там он пасся у Наталки-хваталки. О ней я слышал от Гнутого, пока тот не загремел в начале мая. Она и его там согревала. Баба, говорят, фартовая, но жутко жадная: под грабительские проценты сдает угол и себя. Мне там было делать нечего: копья нема — в клифах карманы худые. А в долю ни к кому не хотел идти. Думал на работу устроиться.
Майор улыбнулся про себя, услышав, с каким недовольством произнес преступник слова: «грабительские проценты».
— Бедные воры и грабители, бедные уголовнички! Оказывается, находятся ж такие бессовестные люди, которые их самих грабят, — вслух произнес Галямов. — Плохие это люди, правда, Горошкин?
Тот молчал.
— Эх, Горошкин, Горошкин. Понимаешь, что ты и подобные тебе жутко мешаете простым людям спокойно жить и работать? Вот представь, что твоя мать, сестра или брат заработали честным трудом деньги, строили, исходя из них, какие-то планы. И вдруг приходит субъект, который отнимает это кровно заработанное, еще бьет их за то, что отнимает, а иногда и убивает. А за что? Ты мне скажи, за что, Горошкин? За что он им рушит их личные планы, рушит счастье, ломает судьбу? Мы, Горошкин, не можем мириться с такой вопиющей несправедливостью. Не для этого отцы и братья делали революцию двадцать три года назад.
Галямов встал, нервно заходил по камере. Потом, немного успокоившись, снова сел и продолжил допрос.
Горошкин не знал, где находится Космач. Хотя и слышал, что тот «работает» в том же стиле: один, без помощников. А вот о Дюде Хлебном Косолапый кое-что поведал.
— Дюдя Хлебный, говоря производственным языком, многостаночник. Он — верткий фармазонщик, облапошит, глазом не моргнет; средней руки «домушник», да и с мокрушниками корешится. Видел я его один раз с Гнутым. Они кореши. Этот Дюдя Хлебный, как мне трекал Гнутый, был лютый до бабцов. Его принимают в малинах города. Сорит деньгой — бабы и любят.
— А он знает Чмо?
— Не могу ничего прояснить на сей счет, начальник. Вроде знал. Наверно, знал: Чмо ведь тоже не евнух при гареме персидского шаха. Любитель шикануть по высшему разряду. Я сейчас вспомнил: Бугай как-то об этом толковал, когда звал меня в кабак.
— Значит, он сказал, что с ним будет Чмо?
— Вроде так.
— А почему ты не пошел?
— Я ж толкую тебе, начальник, копья не было, на мели вертелся. А в долг — не люблю. Потом как шавку на веревочке поволокут на мокрое дело: будешь дуба давать на стреме. А навару — котлов не купишь. Вишь, начальник, без них хожу, — Косолапый потряс в воздухе здоровой рукой. — Время не засекаю.
— Горошкин, ты хочешь сказать, что не совершал убийства?
— Начальник, я тебя на понт не беру. Мокрыми делами — ни-ни. Матерью клянусь. Ни один фрайер об этом не скажет. Даже стукачам нечего о Косолапом сбрехнуть.
Позднее показания Горошкина во многом подтвердятся. При опознании Чемизов покажет на Косолапого, что именно ему продал велосипед. Этого не отрицал и преступник. Таким образом, история с велосипедом, который был использован неизвестным радистом, отчасти прояснилась.
По показаниям того же Косолапого разыскали в колонии строгого режима Гнутого. Тот назвал адреса злачный мест — в Ивановском переулке, на Ярославской улице, а также где проживает Наталка-хваталка, к которой частенько залетала разная блатная шушера.
Гнутый сказал, что Абдулова Ленариса по кличке Дюдя Хлебный в дело брал сам Чмо. Из его показаний следовало, Дюдя Хлебный не имеет, как перекати-поле, постоянного пристанища. Живет с разными женщинами, в основном крутится у Наталки-хваталки. Часто ошивается в малинах.
О Космаче толком ничего не знал.
Установили наблюдение за злачными местами и за Наталкой-хваталкой — Натальей Хватовой.
В райотделе милиции узнали, что притон в Ивановском переулке прикрыли две недели назад. Арестовали лишь хозяйку дома.
Наблюдение в течение недели не дало результатов: ни Чмо, ни Дюдя Хлебный на горизонте не появились. Где-то на исходе второй недели поступил сигнал с Ярославской улицы от участкового уполномоченного: в деревянном доме барачного типа, стоящем на отшибе в конце улицы — за ним велось наблюдение, — поселилась большая группа туристов из района. Несколько комнат барака с отдельным входом использовались одним из местных предприятий в качестве гостиницы для приезжих. Часто это заведение пустовало.
Лейтенант Зарипов, дежуривший в тот день, решил проверить приезжих. Сквозь закрытые ставни барака темноту прорезали лишь тонкие, как лезвие сабли, полоски света, отражавшиеся в небольших лужах. Через щели ставен ничего нельзя было рассмотреть. Из помещения доносились отдельные неясные звуки.
В коридор, который вел в комнаты для приезжих, было не попасть: дверь оказалась запертой. Тогда лейтенант через другой подъезд проник в коридор коммунальной квартиры, оттуда поднялся по деревянной лестнице на чердак барака. Включил электрический фонарик и, осторожно ступая, двинулся к люку, через который можно было проникнуть в коридор общежития.
Люк оказался запертым изнутри на металлическую задвижку. Деревянная крышка сильно рассохлась, и в образовавшийся зазор между крышкой и потолком можно было просунуть пальцы.
«Пожалуй, задвижку можно будет отодвинуть обычными ножницами», — подумал Зарипов.
Лейтенант приложился ухом к щели. Откуда-то справа доносились пьяные мужские и женские голоса.
Из ближайшей комнаты отчетливо слышались слова какой-то хулиганской песенки.
Заглушая все голоса, могучий пропитой бас зарычал:
— Ох, тяжело на свете без нагана...
Внизу, как раз напротив люка, в полутемном коридоре два субъекта, пересыпая речь жаргоном отпетых уголовников и нецензурной бранью, выясняли отношения, хватая друг, друга за грудки. Появившаяся женщина тщетно пыталась их разнять. Звук ее шагов растворился в шуме, который донесся из распахнутой двери комнаты. Почти тотчас свирепо загрохотал пьяный бас:
— Ша, падлы! Раздухарились фрайера! За глотку надо мусоров брать, а не корешей из кодлы!
«Что-то не похожи эти отдыхающие на подшефных колхозников, приехавших знакомиться с памятниками культуры города, — подумал лейтенант Зарипов. — Нужно немедленно вызывать оперативную группу».
Через полчаса барак был окружен. Фонари не горели, и фигуры сотрудников милиции и госбезопасности сливались с чернотой ночи. Облавой руководил майор Галямов.
В коридор проникли через люк в чердаке, открыли наружную дверь, и часть сотрудников устремилась к комнатам.
Из угловой комнаты, дверь которой была приоткрыта, простуженный тенор изливался козлетоном под аккомпанемент гитары.
Чья-то кудлатая голова высунулась из двери и сразу же:
— Легавые! Легавые, братцы! Спасайся!!! — провизжал кудлатый, как недорезанный поросенок.
Вмиг полусонный коридор и комнаты наполнились топотом и криками заметавшихся людей.
Неожиданно во всех помещениях погас свет. Загремели выстрелы. В одной из комнат оглушительно загрохотал упавший шкаф. Послышались звуки выбиваемых стекол. К дверям угловой комнаты было трудно подступиться: оттуда беспрестанно палили из пистолетов.
Выстрелы захлопали и на улице.
Чтобы никто не скрылся, пользуясь темнотой, было решено по сигналу подогнать к бараку автомашины и осветить прилегающую местность фарами. Когда ставни распахнулись и из окон начали выпрыгивать бандиты, — включили фары.
— Стой! — скомандовал бандитам майор Галямов. — Бросайте оружие! Будем стрелять!
Те вначале опешили от неожиданного света, но тут же не обращая внимания на предложение сдаться, кинулись врассыпную, как тараканы к спасительной темноте. Двое оказали отчаянное сопротивление и были убиты. Троих задержали. Среди них был и Дюдя Хлебный.
Ни Чмо, ни Космача среди убитых и задержанных не оказалось.
Абдулова Ленариса, Дюдю Хлебного, допрашивали, как говорится, по горячим следам. Допрос длился до четырех утра.
Он показал, что Чмо (фамилии не знает) в первых числах мая организовал хищение в специализированном комиссионном магазине мехов и взял его в долю. В конце мая Чмо поручил ему поиск Космача, который, по его словам, лег на дно после ограбления квартиры художника (имелась в виду квартира Древцова).
Абдулов не без гордости заявил, что он все-таки нашел место последней работы Космача. Правда, ранее Чмо схематично нарисовал пути поиска. Из домоуправления Фролов успел, по его словам, уволиться несколько раньше, чем он напал на его след. Абдулов подтвердил предположение чекистов о том, что в поиске принимал участие и сам Чмо. В частности, он посещал телефонный узел и мастерскую «Металлоизделия». При этом рядился под самого Космача, приклеивал черную бороду и усы.
Чмо таким образом хотел ввести в заблуждение оперативников и запутать следы. Ему, Абдулову, он как-то сказал, что Космач — прирожденный специалист по замкам и что он нужен для одного очень тонкого, деликатного дела. Но какого именно, Абдулову не было сказано. За поиск Космача тот отвалил ему семь тысяч. И обещал особое вознаграждение, если Дюдя Хлебный укажет местонахождение разыскиваемого. После того он, Абдулов, побывал в жилконторе, под видом работника милиции, и разговаривал с одной уволившейся оттуда работницей, через которую узнал о любовнице Космача. Он сказал об этом Чмо, тот с тех пор словно в воду канул. Как понял Абдулов, Чмо нашел через эту бабу Космача, иначе бы он с живого не слез: все время требовал бы искать Фролова.
Присутствовавший на допросе Закиров понял, что при поиске Фролова допустил ошибку: не говорил с людьми, уволившимися из жилконторы. А на лице Галямова он прочел: «Преступники оказались сообразительнее, чем вы, следователь».
Абдулов заявил, что Чмо после ограбления комиссионки решил на год залечь, как медведь в спячку. Чем вызвано это решение, Абдулов не знал. Тот стал чрезвычайно осторожным: встречи назначал редко, большей частью Чмо появлялся неожиданно. Иногда звонил по телефону домой. Естественно, Абдулов не знал, где тот обитает.
— Скажите, Абдулов, как Чмо узнал, что ограбление квартиры художника — дело рук Космача? — спросил Галямов.
— А это нетрудно определить. Космач работает только по квартирам и в одиночку, без помощников. И если где-то взяли хорошую квартиру, а об этом из нашей братвы никто не знает, значит, сработал Космач. Тем более что у него заметный почерк — не ломает замки.
— Космач убийствами занимается?
— Нет. Разве что если кто-то хочет его задержать из граждан, но не из уголовки. Он терпеть не может тюрягу.
Галямов усмехнулся:
— А кто ее любит? Вы, может быть?
— Ну, все-таки другие как-то спокойнее к ней относятся. А я не очень переживаю, умею настроиться. Там хоть ни о чем не думаешь.
Абдулов рассказал про подружку Фролова — некую Косовскую, работающую в продовольственном магазине на Зеленодольской улице.
— Значит, вы, Абдулов, лично не знаете Космача? — внимательно глядя на него, спросил Галямов. — Тогда, может быть, вы знаете его родственников?
— Я его, гражданин начальник, несколько раз видел: угрюмая, неприятная личность, как поп толоконный лоб, только без рясы. А вот насчет его сестры мне кто-то говорил, что она — просто цветок. Может, поэтому и назвали ее Розой.
Галямов тут же вспомнил шифровку, в которой упоминалась некая Роза. «Может, Фролова и разыскивают из-за нее?» — мелькнула у него мысль.
Стараясь скрыть появившееся волнение, майор ровным голосом задал другой вопрос:
— Сестра у него родная?
— Родная.
— Замужем?
— Что, начальник, хочешь намылиться к ней?
— Так замужем она? — спокойно переспросил Галямов, словно не слышал подковырки.
— Замужем, вроде.
— Откуда вы это знаете?
Абдулов рассказал, как однажды — было это года два назад — Космач завалился к Наталке-хваталке пьяными. Это удивило Абдулова: Фролов был трезвенником. Тогда-то он и сказал, что пропил на свадьбе родную сестричку.
Абдулов не вспомнил, кто ему рассказывал про сестру Фролова, но предположил, что это мог быть Чмо: раньше у него с Фроловым были какие-то общие дела, но потом между ними пробежала черная кошка.
Больше из Абдулова выжать ничего полезного не удалось.
В 9-00 к открытию магазина на Зеленодольскую прибыл сам майор Галямов и участковый милиционер.
Продавца Косовской на работе не оказалось: уехала на днях в отпуск. Куда — никто не знал.
Допрошенная Наталья Хватова ничем не дополнила показаний Абдулова.
«Нет теперь никаких сомнений, — размышлял Галямов, — что Чмо действует по указке иностранной разведки. И насколько быстро мы его задержим, настолько ускорим выход на радиста. Значит, Фролов ими отыскан, следовательно, он тоже в этой же орбите крутится. Итак, Чмо или Фролов для нас сейчас важнее? Пожалуй, все же Фролов. Ведь ради него преступники пошли на риск, организовав столь настойчивый поиск. Он-то теперь, надо полагать, в курсе намерений вражеской агентуры. К тому же его фигура приобретаем некую новую значимость: у него объявилась сестра. Не через нее ли агенты хотят выйти на какой-то главный объект? Возможно, так. Это может нам прояснить сам Фролов. Итак, Фролов — Космач может во многом открыть нам глаза. Пожалуй, надо удовлетворить просьбу Закирова, хотя он очень здесь нужен, и командировать его в Святовский поселок. Не исключено, что преступник действительно окопался там».
Галямов отдал необходимые распоряжения по поиску молодой женщины по имени Роза на всех предприятиях (у него не было уверенности, что она сохраняла свою прежнюю фамилию).
Глава XIII
Квартира конструктора Ахматова находилась на втором этаже. Густые кроны тополей, образуя сплошную зеленую стену, загораживали окна от проезжей части дороги и от стоявших по другую сторону широкой улицы пятиэтажных кирпичных домов. Стоя у окна, Закиров силился рассмотреть через листву происходящее на улице. «Каким же образом преступники сумели увидеть через окно сейф? — снова и снова задавал себе вопрос Закиров. — Через такую пышную листву ничего не видно».
Мысль, что преступники наблюдали откуда-то с улицы, не давала ему покоя, как только он осмотрел квартиру Ахматовых. В самом деле, о существовании сейфа, кроме домочадцев, никто из посторонних не знал. Люди, монтировавшие сейф, абсолютно проверенные. Утечка информации от членов семьи? Как утверждал сам глава семьи Ахматов, его мать общалась только с одинокой соседкой, которая почти не выходила из дома. К тому же мать была не из болтливых женщин.
Что касается его жены, Нины Васильевны, то она сама работала с засекреченной информацией и умела держать язык за зубами. Ну, а маленький трехлетний Альбертик не в счет.
При посторонних конструктор, по его словам, никогда сейфа не открывал.
Сейф находился напротив окна. Дверца сейфа была оклеена обоями и ничем не отличалась от стены. К тому же сейф прикрывала солидная картина. Ну, а найти ключ от сейфа было совсем уж нелегким делом.
Закиров был спокоен. Это какое-то глубинное, внутреннее спокойствие придавало уверенность в разгадке тайны. Хотя никаких оснований, как он сам мысленно отмечал, для спокойствия не было. Напротив, совершено тяжкое преступление, сходное с делом Древцова, которое до сих пор оставалось нераскрытым. Предшествующее дело печально предвещало, что и данное преступление может повиснуть в воздухе. Почерк преступления был схож: преступники проникли в квартиру без взлома замков, в квартире никого не было. Около 18-00 мать Ахматова отправилась в детский сад за внуком вместе со своей подругой-соседкой. По дороге зашли в магазин, но у Ахматовой не оказалось денег. Вернувшись в квартиру (магазин располагался на первом этаже), застала там посторонних мужчин. От испуга у нее произошел разрыв сердца. К такому заключению пришли медики после вскрытия трупа.
Обеспокоенная долгим отсутствием Ахматовой, вернулась соседка. Дверь квартиры оказалась незапертой. В прихожей она увидела неподвижно лежащую подругу. В передней было натоптано обувью большого размера (в подъезде шел ремонт). Она позвонила в «Скорую помощь» и в милицию.
Вначале это происшествие расценили как попытку ограбления квартиры. Но, когда домой прибыл Ахматов и проверил сейф, оказалось, что его вскрывали: бумаги в нем лежали в ином порядке. И это дело получило совсем иную окраску. На место преступления вызвали чекистов.
Измерили отпечатки обуви — они оказались сорок третьего размера. «Странное совпадение, — задумался Закиров. — Горошкину Василию Чмо наказывал купить калоши такого же размера. Может, именно для этого случая? Но где доказательства, что здесь побывал этот матерый преступник?» Таких доказательств не было.
Криминалисты обратили внимание, что кожаные домашние тапочки хозяина квартиры внутри выпачканы известью, словно кто-то надевал их, не снимая обуви. Так оно и оказалось: их надевали, чтобы не оставалось следов на полу. Тапочки тщательно обследовали с точки зрения дактилоскопии. Уже через несколько часов при идентификации отпечатков пальцев на них обнаружили кроме пальцев хозяина квартиры, отпечаток указательного пальца... Фролова Валерия. Это была большая и неожиданная удача. Этот отпечаток пальца во многом прояснил не только конкретную обстановку, но и позволял построить целое теоретическое здание, в которое можно было в качестве ее кирпичиков уложить и содержание перехваченных шифровок.
Закиров решил, что одна из
причин поиска преступниками Фролова — использовать его для проникновения в квартиру конструктора Ахматова и вскрытия сейфа. А почему нужно считать, что они воспользовались ключом?
Он подошел к Ахматову:
— Вагиз Ахмерович, а где вы нашли ключ от сейфа?
Тот поднял голову:
— Как где? На месте, в лапке филина.
Закиров подошел к шкафу, начал рассматривать чучело филина. Филин с расправленными крыльями, словно собиравшийся взлететь, смотрел на него большими желто-зелеными глазами.
Лапы филина ничем не отличались друг от друга. «Если не знаешь, что ключ прячется здесь, не догадаешься, — решил он. — Видимо, о месте хранения ключа не знала и иностранная агентура. Не поэтому ли, главным образом, они искали Космача как специалиста по замкам».
И тут ему показалось, что он совсем близок к разгадке тайны: каким образом узнали преступники о существовании сейфа? Он пытался сосредоточиться, но желанного озарения, догадки не было.
Взгляд его упал на Ахматова. Тот сидел на диване, закрыв лицо руками, плечи его вздрагивали. «Видимо, жалеет мать, — подумал Закиров. — Интересно, при жизни он так же ее жалел?» В памяти всплыл недавний эпизод на похоронах Геннадия Севчука. Когда жена покойного, рыдая, положила на могилу мужа охапку цветов, Рафкат Измайлов, хорошо знавший, как она относилась к Геннадию, сказал о ней: «Людей при жизни надо чтить, не после смерти».
Закиров перевел взгляд с Ахматова на окно. «Позволь, — сказал он себе, — ключ от сейфа хранится в спальне, а сам сейф находится в кабинете. Так. Если допустить, что преступники наблюдали в окно кабинета, они, естественно, не могли знать, куда прячут ключ. Со стороны двора, видимо, нельзя было организовать наблюдения. Предположим. Далее. Если бы здесь орудовал человек, вхожий в эту семью, он знал бы не только о сейфе, но и где хранится ключ от него. Но коль человек знает о месте нахождения ключа, ему не нужен специалист по замкам. К чему тогда Космач? Ведь дверь в квартиру могли осилить и другие „домушники“. Следовательно, здесь действовал посторонний человек, который тщательно вел наблюдение за этой квартирой снаружи».
Закиров вернулся в кабинет конструктора, и взгляд его снова уперся в густую листву за окном — непреодолимое препятствие, о которое вдребезги разбивались его мысли.
Не на дереве же они сидели?! Их тут же заметили бы. Тем более, что внизу магазин, всегда много народу.
«Хотя, стой! — напрягал он изо всех сил память. — Они ведь следили не день и не два, надо полагать, а месяцы... Точно! Они начали наблюдать, когда на деревьях не было листвы! Как же я об этом пустяке сразу не догадался?!»
Сейчас начало июля. Значит, следить за Ахматовыми и его квартирой начали в апреле — мае. А может, и раньше.
«А откуда следили? — задал он себе вопрос. — С противоположной стороны улицы? Но оттуда не видно, что делается в квартире. Можно рассматривать лишь с расстояния пятнадцати — двадцати метров, причем через тюль. — Радость ему показалась преждевременной. — Значит, все-таки надо взобраться на дерево? Но это невозможно. Тогда как же?»
И снова догадка, как луч, осветила сознание. «Применялся бинокль! Ну, конечно же! Или труба! А учитывая, что использовать оптику на улице при народе для подобных целей нельзя, стало быть, наблюдение велось из окна какой-нибудь квартиры или с чердака дома напротив».
Он отступил к стене, встал рядом с сейфом и пытался таким образом определить сектор видимости из противоположного дома, но мешали деревья.
В комнату вошел Треньков, недоуменно посмотрев на Закирова:
— Ты чего это принял позу стрелка, прицелившегося в десятку?
— Ты, Эдик, отгадал: хочу попасть в десятку. Только вот деревья мешают взглянуть на мишень — дом напротив.
— А-а, — понимающе протянул тот. — Я уже обмозговывал эту идею. Но она, как горох, отскакивает вон от той зеленой стены, — кивнул Треньков на деревья.
— Вот и надо им верхушки обкорнать, чтобы не мешали прицеливаться в тот дом.
— Ты думаешь, это делали и шпионы? — ухмыльнулся Треньков.
— Им незачем это было делать.
— Не понял.
— Наблюдение они вели весной, а может, и зимой. Кто их знает.
— А это, слушай, идея! — встрепенулся Треньков. — Ну, конечно же, они вели длительную подготовительную работу. А раз так, не исключена возможность, что они в эту фатерку заглядывали не впервой. Или собирались заглянуть еще разок. Для чего тогда им было запирать снова сейф, время тратить? Опять-таки лишний риск.
Ход мыслей Тренькова был несколько неожиданным для Закирова. И он задумчиво произнес:
— Пожалуй, ты прав, Эдик. Надо это проверить. Займись.
По просьбе Закирова из райотдела НКВД позвонили в домоуправление, в ведении которого находился этот дом, и вскоре верхушки деревьев перед домом были срезаны.
На глаз определили: из противоположного дома можно было обнаружить сейф, пользуясь оптическими приборами, со второго по четвертый этажи, примем из крайних шести окон.
Закиров позвонил майору Галямову, изложил свое предположение и попросил поручить кому-нибудь из сотрудников проверить квартиры, к которым относятся эти восемнадцать окон.
Майор, немного помолчав, ответил, что людей сейчас нет, поэтому поручит заняться этим делом лейтенанту Тренькову.
По голосу майора Закиров понял: тот с трудом воспринял его идею о том, что наблюдение за квартирой Ахматова велось из противоположного дома и что оттуда надо разматывать клубок.
Обследование чертежей, выполненных конструктором Ахматовым дома, которые в момент проникновения преступников в его квартиру находились в конструкторском бюро, показало: на уголках нескольких чертежей остались почти невидимые для невооруженного глаза чернильные следы. Эксперты высказали предположение: на уголки чертежей ставился пузырек с чернилами или чернильница.
Конструктор пояснил, что дома у него на столе стоит пузырек с чернилами, но он никогда не использовал его в качестве грузика при работе над чертежом. К тому же сам пузырек был испачкан чернилами — их разлил сын.
Возникло предположение: пузырек с чернилами использовался в спешке агентом при фотографировании чертежей, хранившихся в домашнем сейфе конструктора Ахматова.
Догадка Тренькова, таким образом, приобретала реальные очертания: преступники знакомились с содержимым сейфа не первый раз. Но сколько раз? Когда сейф Ахматова стал для них доступным?
Треньков силился установить это с помощью Ахматова.
— Вагиз Ахмерович, вы не припомните, когда работали над этими чертежами и расчетами? — спросил он, передавая Ахматову свернутые в рулон листы, на которых обнаружили следы от пузырька.
Тот внимательно перебрал их, отложил некоторые сторону и тяжело вздохнул:
— Вообще, должен пояснить вам: выполненные работы я не держу дома больше двух-трех дней. Вот эти, — он показал на ватманы, — я завершил двадцать восьмого июня, в пятницу, и на следующий день собирался прихватить на работу. Но потом захотелось еще разок их проверить, да к тому же и поработать в воскресенье. Вот остались в домашнем сейфе. А в понедельник я их отвез на работу.
— Значит, вы точно помните, что закончили работу с этим чертежам двадцать восьмого числа?
— Да, конечно. Это нетрудно установить: расчеты мы ведем по каждому отдельному узлу изделия. А изготовление изделий осуществляется в определенной последовательности и по временному графику.
— А эти расчеты когда закончили? — показал рукой Треньков на лежавшие в сторонке несколько листов бумаги, испещренных математическими формулами.
— Два дня тому назад.
— Второго июля, во вторник?
— Да.
— Когда их отвезли на работу?
— Вчера.
— А когда начали работать над ними?
— Параллельно вот с этими чертежами, — кивнул конструктор на рулоны.
— Когда?
Ахматов наморщил лоб.
— Видите ли, идея создания узла у меня появилась недавно, недели две назад. Пока ее вынашивал, еще дня два-три прошло. В общем, начал работать дней десять назад, не больше. — И, как бы прочтя мысль следователя, Ахматов добавил: — Дома я сделал лишь наброски чертежей и отнес их на работу несколько раньше, чем свои расчеты. Там должны были подготовить чертежи...
— Скажите, Вагиз Ахмерович, по вашим наброскам и расчетам вражеская агентура может определить, над чем работает конструкторское бюро завода?
— Ну, что выпускает завод, видимо, в городе знают. Завод ведь по выпуску этой продукции специализируется около десятка лет. Другое дело — какие тактико-технические данные имеет это изделие. Я заявляю, что по отдельному узлу, который мною разработан, не определить качества изделия в целом. Но в этом узле содержится новое техническое решение, иначе говоря, есть элементы изобретения.
— Вот как?! — Треньков подался вперед. — Час от часу не легче.
Галямов, узнав результаты экспертизы, проведенной по чертежам и расчетам Ахматова, срочно собрал совещание отдела.
На совещании не было майора Стеклова, уехавшего в командировку в Астраханскую область для выяснения обстоятельств смерти атамана Мефодия.
Майор окинул взглядом собравшихся, нервно прошелся несколько раз от стола к окну, потом, посмотрев на часы, кивнул лейтенанту Тренькову:
— Прошу вас, лейтенант, известить нас о ходе расследования. Пять минут вам.
Треньков рассказал об экспертизе, о сообщении конструктора Ахматова и заключил:
— По моему мнению, вражеская агентура с помощью уголовника Космача стала проникать в квартиру Ахматова и знакомиться с содержимым его сейфа с прошлого воскресенья, то есть 30 июня, — не раньше. Экспертиза, во всяком случае, не обнаружила следов, подтверждающих, что документация, над которой Ахматов работал дома, побывала в руках у агентов. Это во-первых. А во-вторых, реальная возможность проникнуть в квартиру Ахматова появилась лишь 30 июня — после обеда вся семья уехала к родственникам в гости и вернулась около десяти вечера. Именно за это время Космач разобрался с механизмом сейфа. А следующий заход их в квартиру конструктора — 2 июля, во вторник. Двадцати минут, на которые они рассчитывали, преступникам хватило бы, но вышла накладка со старушенцией...
— Скажите, товарищ Треньков, вы тоже, как Закиров, полагаете, что за квартирой Ахматова велось наблюдение через окно? — спросил майор, вкладывая в свой вопрос сомнение.
Треньков заколебался:
— Это маловероятная идея. Конечно, можно проверить...
«С Треньковым все ясно, — подумал Закиров. — Не хочет вызывать неудовлетворения у начальства».
— В таком случае, как иностранная разведка пронюхала о сейфе в квартире Ахматова? — задал вопрос Галямов докладчику.
Отказавшись от идеи Закирова, Треньков еще не совсем был готов к ответу на этот вопрос.
— Я думаю... тут женщины виноваты... все они болтливы... через них произошла утечка информации... их окружение надо прощупать...
Галямов кивнул и сделал рукой жест, означавший: садитесь.
— У кого-нибудь есть вопросы к Тренькову? — строго спросил Галямов. И немного помолчав: — А может, какие соображения?
— Можно мне, товарищ майор? — откликнулся Закиров, сидевший в углу, у входа.
— Прошу.
— В основе своей мысль лейтенанта Тренькова верна... — начал Закиров.
Майор повернул к нему голову и вскинул свои рыжеватые брови, кожа на лбу сложилась гармошкой, что означало — об этом знали все сотрудники — удивление или крайнее неудовлетворение.
Закирова это не смутило, и он продолжал:
— ...эту мысль можно подкрепить и тем, что преступники Чмо и Дюдя Хлебный отыскали специалиста по замкам Фролова приблизительно две недели назад. Это подтверждается и нашими поисками, и показаниями Дюди Хлебного. Следовательно, иностранная агентура раньше не могла добраться до сейфа Ахматова. После того, как был найден Фролов, агентура выжидала, выискивая возможность скрытного проникновения в квартиру Ахматова. Напролом преступники не хотели идти, по-видимому, желая пользоваться источником информации длительное время. Это дало бы им возможность узнать о важных качествах изделий, выпускаемых заводом. И вот такой день представился: воскресенье 30 июня, после обеда, когда семья Ахматовых уехала в гости...
— Это мы уже слышали, — прервал раздраженно Галямов. — Что нового вы можете сказать?
Закиров изложил свои предположения, что сейчас иностранная разведка постарается замести свои следы.
— Если некая Роза, о которой говорилось в шифровке, — не сестра Фролова, то он теперь для них — балласт, они постараются от Космача избавиться. Вообще, он слишком заметная и примелькавшаяся фигура — это они понимают. Нужно во что бы то ни стало срочно найти Фролова. А искать его нужно в Святовском поселке.
— Что ж, попробуйте отыскать его. Разрешаю вам поехать в Святовск завтра же. — Галямов полистал перекидной календарь: — Сегодня у нас четверг, а в понедельник утром жду вас здесь. Ясно?
— Так точно, товарищ майор.
— Но с вами еще я разговор не закончил, товарищ Закиров. — Майор откинулся на спинку кресла. — В вашем суждении есть неувязка с тем, что вы раньше доказывали. Точнее говоря, противоречие: вы утверждаете, что уголовник Фролов предопределил успех иностранной агентуры в истории с домашним сейфом конструктора Ахматова, так?
— Да, я в этом уверен.
— Тогда почему Фролов так упорно гонялся за ключами от квартиры Древцова? Что, разве дверные замки сложнее, чем замок сейфа? Это же совершенно не так. Если же Фролов не смог вскрыть те входные двери, то с сейфом ему тем более не справиться.
— Тут есть, конечно, над чем подумать. Но мне кажется, здесь загвоздка в следующем: дверной замок у Древцовых сделан по индивидуальному заказу, и ключи здесь не подобрать. Короче: без отмычки не обойтись. А орудовать отмычкой в подъезде, где постоянно ходят, трудно и нужно время. В этой ситуации мало шансов забраться в чужую квартиру незамеченным. Ломать замки фомкой тоже не могли: в соседних квартирах почти всегда находятся жильцы. При этом нельзя не учитывать такого важного момента: напротив, в двери соседней квартиры врезан глазок, и где гарантия, что в него не смотрят. Поэтому у двери в квартиру нельзя было задерживаться дольше минуты, а для этого нужны ключи.
Закиров взглянул на майора, который что-то записывал, и, повернув лицо к большому окну с французской шторой, заторопился:
— В квартире Ахматова замки стандартные, то есть магазинные, и подобрать к ним ключи для такого матерого преступника, как Фролов, все равно, что семечки разгрызть. Ну, а сейф для Фролова — не препятствие, и семи часов вполне достаточно. Разгадав секрет замка, Фролов без труда мог бы при необходимости вскрывать сейф за короткое время...
Галямов махнул рукой:
— Уголовно-правовая наука — не исключение из всех наук, старший лейтенант, в ней можно выдумать любую теорию и объяснить противоречивые явления, в том числе и несуразицу. И в нелепице есть своя логика.
Хозяин кабинета включил вентилятор, пытаясь разогнать летнюю духоту, спустил белоснежную штору до подоконника.
— Вот вам второй вопрос: если за квартирой Ахматова наблюдали, скажем, с биноклем из противоположного дома в зимнее или осеннее время, то есть когда окна квартиры не заслонялись зеленью, то как они вели наблюдение летом? А они его вели. Пример тому: преступники точно узнали, что семья Ахматовых уехала в гости воскресенье. Не могли же они постоянно торчать в подъезде или во дворе в течение нескольких месяцев? Я считаю, агент находится где-то рядом, возможно, проживает в этом доме, и связан с членами семьи Ахматова или с людьми, которые вхожи в эту семью.
Закиров промолчал, затем тихо проговорил:
— Это уже, товарищ майор, другая ария, которая имеет право на самостоятельное существование...
Майор, не терпевший в деловых разговорах цветисто-витиеватых фраз, незаметно для себя пошел на поводу у Закирова:
— Говоря языком музыковеда, арии здесь действительно разные, но все они связаны одной, так сказать, музыкальной канвой. В отличие от законченного музыкального произведения, здесь еще не ясно, какая из них главная.
— А я бы не стал их противопоставлять: обе они могут оказаться главными. Несомненно сейчас одно — ту и другую версии необходимо срочно проверить.
Майор усмехнулся:
— По-вашему, тут окопалась целая шайка шпионов. От этого несет душком шпиономании... Но, безусловно, обе эти версии будут проверены самым тщательным образом.
— Товарищ майор, у меня к вам просьба — позволить опрос жильцов дома напротив, я имею в виду квартиры, из окон которых, возможно, вели наблюдение.
— За какой срок нужно проверить?
— Хотя бы за последний месяц.
Майор повернулся к Тренькову:
— Слышали, лейтенант? Это вас касается.
Треньков, вставая:
— Будет выполнено, товарищ майор.
Майор поручил Тренькову обратить особое внимание на лица, которые хоть как-то соприкасались с женщинами из семьи Ахматовых.
На следующий день Закиров на семичасовом трамвайчике отправился в Святовск, так и не успев позвонить Элеоноре.
А Треньков с утра выполнял поручение майора Галямова. Имел часовую беседу с соседкой Ахматовых, которая первой обнаружила происшествие. Не почерпнув у нее ничего существенного, он познакомился с уборщицами подъездов дома. Те за последнее время ничего подозрительного не замечали. То же примерно сказал и дворник.
После обеда, когда солнце стояло в зените и сильная жара размягчила тело, Треньков с удовольствием ощутил прохладу подъезда кирпичного дома, где должен был побывать в шести квартирах. В домоуправлении он выяснил, кто проживает в квартирах со второго по четвертый этажи. Почти все были давнишними жильцами. За последние два года прописался лишь один новичок — горный инженер. Сведений о квартирантах в домоуправлении не было; там сказали, что случаев проживания посторонних лиц без временной прописки в доме не наблюдалось.
«Знаем мы, как не проживают без временной прописки, — думал Треньков, поднимаясь на второй этаж. — Частенько живут всякие ханурики, нарушая паспортный режим». Он остановился у квартиры номер 17, позвонил. Вскоре за дверь послышалось шарканье ног. Загремела цепочка, дверь приоткрылась, и недовольный женский голос сказал:
— К Маньке, што ли? Пес-то дери, в душу вас всех!..
Треньков, не ожидавший такого приема, опешил.
— Не пущу, — проскрипел тот же голос, и дверь захлопнулась.
Треньков снова позвонил.
— Я ведь сказала! — крикнула женщина из-за двери. — Али милицию позвать?!
Треньков, вплотную подойдя к двери, громко сказал, что он сам из НКВД и хочет поговорить с ней.
Наконец дверь открылась. Он предъявил удостоверение. Пожилая женщина окинула его цепким взглядом с головы до ног, словно приценивалась к его одежде, и нехотя отступила в сторону, пропуская следователя в коридор коммунальной квартиры.
Под потолком горела запыленная, тусклая лампочка. Из общей кухни несло керосином, квашеной капустой и еще каким-то кислым запахом.
— Чаво нужно? — без излишних церемоний приступила старуха к выяснению цели его визита.
«С такой соседкой не соскучишься в общей квартире», — подумал Треньков, присаживаясь на ящик где, по-видимому, хранилась картошка.
— У вас в квартире проживают временные жильцы?
— Все, чай, под небом божьим временные жильцы. Ты о ком толкуешь-то? О постояльцах, што ли?
— Да, о них.
— Так бы и говорил русским языком, — недовольно пробрюзжала та. — Таковых здеся не имеется.
— А вы не торопитесь, гражданка. Вот в жилищной конторе сообщили, что жил два года по этому адресочку некто Матюгов. Так?
— Вроде.
— Он когда и куда уехал?
— Почитай, милок, енто месяц прошел, как выписался. А куды направился — бог яво знает. Мне не сказывал.
— А как же с квартирой?
— Тута яво баба осталась. Ето яе второй мужик. С первым-то развелась давно... развратник и пьяница был. После разводу-то поехала она тогда в Воркуту... А там, знамо дело, — шахты. Вот и выкопала там какого-то горного енженера. Привезла его сюды. А он-то и впрямь оказался кладом: не пьет, не курит, не дерется и не гуляет. Ведь в нонешнее-то время неуж такого сыщешь — кругом одни кобели да пьянчужки бродят...
Треньков ухмыльнулся:
— Что ж, по-вашему, все кругом развратники? — И, как бы не замечая, что она собирается что-то сказать, подавив улыбку, нарочито строго произнес: — Есть и честные кобели, так сказать, совестливые: знают только своих подружек.
Путаясь в догадках — шутит следователь или говорит серьезно — хозяйка на всякий случай поспешила согласиться с ним.
— И что же дальше? Что теперь... и этот, как его...
— Петр Петрович, — подсказала хозяйка квартиры.
— ...Да, Петр Петрович — ангел с крылышками — упорхал от вашей соседки?
— Да хто их разберет-то? Вроде он завербовался куды-то. А она не хотит туды ехать, говорит, там холодно.
— А может, он не завербовался, а посадили его?
— Не знаю, милок, ужо вечером вернется Клашка, вот и спросишь об жизни ее да про еённого Петруху.
Треньков уточнил, чьи окна выходят на улицу. Одно находилось в угловой комнате, где проживала, судя по домовой книге, гражданка Сыркина.
— А гражданка Сыркина постояльцев не держала?
— Манька-то? — уточнила старуха, но ничего не ответила, только неопределенно пожала плечами.
— Кстати, где она сейчас?
— Не хотела греха на душу-то брать. Напраслину-то, ей-ей, не говорю, а вот прямо всякому скажу, об чем думаю, не постесняюсь...
— Короче давай, — перебил ее Треньков.
Она кивнула головой в сторону угловой комнаты и вполголоса начала:
— Шибко любила в сладкие игрища играть, не боясь, — вот теперь в роддоме... Крутились туточки всякие да разные... Сказывала я ей тогда, што до добра...
— Ясно, ясно. Скажите-ка мне: а жили у нее ухажеры без прописки и как долго?
— Да нет. Боле недели не задерживались. А потом сама я не дозволяла тута бардаки разводить. Говорила ей: «Али расписывайся да живи по-человечьи, али пусть не топчут здеся полы, грязь не разводят». Грозила ей пойти в участок, в милицию. Не пущала некоторых сюды-то в квартеру. И милицию вызывала, энто когда здесь разодрались еённые мужики.
Треньков начал расспрашивать ее о соседях. Женщина оказалась хорошо осведомленной и рассказала ему, кто к кому приезжал и на какое время. По ее рассказу выходило, что длительное время проживает какой-то командированный на третьем этаже, в квартире, расположенной над ними. Тот появился здесь еще зимой.
— Ентот мужик-то и к нам постояльцем набивался, — пояснила она, — да я отшугнула, харя у яво блудистой показалась: как бы чаво не спер.
Треньков направился на третий этаж к Метелевой, у которой, по словам собеседницы, проживал квартирант. Самой домохозяйки дома не было — лежала в больнице. В квартире оказалась ее сестра, приехавшая из другого города, чтобы поухаживать за больной, о квартиранте она ничего не знала.
Окна двух комнат, которые занимала Метелева, выходили на проезжую часть улицы, и из них хорошо просматривалось окно квартиры Ахматова.
Узнав, в какой больнице находится Метелева, Треньков отправился к ней.
Метелева лежала в урологическом отделении, страдала почками. Треньков, представившись ей, начал расспрашивать о квартиранте.
По словам ее, Постнов Анатолий Сергеевич, квартирант, исключительно интеллигентный и порядочный человек. Комнату она сдала ему в феврале месяце до лета. Деньги отдал вперед за шесть месяцев. Приехал в командировку из Магнитогорска, с металлургического завода. Проживал у нее не постоянно, иногда подолгу отсутствовал: говорил, что он снабженец — вот и приходится разъезжать по долгу службы туда и обратно. Такой квартирант вполне устраивал, к тому же он был очень аккуратным. О временной прописке как-то не подумала. Комната, в которой поселился Постнов, принадлежала ее сыну, погибшему в финскую войну.
— Мой сосед-то по квартире, Нигматуллин Шамиль Искандерович — геолог. Он предпочитает жить круглый год в палатке. Появляется в нашей коммуналке раза два в год, и то на короткое время. Вот, чтоб не чувствовать одиночества, и пустила этого квартиранта.
— А где сейчас ваш квартирант? — спросил Треньков.
Метелева вдруг поджала губы, лицо ее приняло горестное выражение:
— Да помер он.
— Как помер?!
— Недели две или три назад поехал домой, в Магнитогорск.
— Значит, в середине июня съехал из вашей квартиры?
— Кажется. Вот числа не припомню.
— А откуда вы знаете, что он умер?
— Письмо я получила, товарищ следователь. — Метелева полезла в тумбочку. — Вот оно.
Треньков повертел конверт, взглянул на почтовый штемпель.
— Та-ак... отправлено двадцать восьмого июня... а пришло первого июля. — Он вытащил письмо и начал читать.
Дорогая Мария Петровна! Сообщаем вам, что многоуважаемый Постнов Анатолий Сергеевич, наш сосед по квартире, скончался 26 июня сего года. Все мы глубоко скорбим о безвременной кончине нашего дорогого товарища.
Семья Буровых.
— А я собиралась ехать туда и остановиться у Анатолия Сергеевича, — произнесла слабым голосом больная. — Там мой муж похоронен, умер от тифа в гражданскую... Вот видите, какой это человек. Даже перед смертью не забыл позаботиться обо мне, чтоб, приехав туда, не оказалась в трудном положений с жильем — там у меня никого нет...
Треньков тем временем размышлял так: «Письмо отправлено двадцать восьмого, в квартиру Ахматовых агенты иностранной разведки проникли тридцатого. Значит, естественно, отправителя письма в это время не было здесь. Если даже он был жив, не успел бы сюда добраться за одни сутки. Скорее всего, Постнов жив и послал письмо, чтобы Метелева не приезжала. Кому хочется возиться с больной, почти незнакомой старой женщиной?»
Эдуард немного поколебался: взять письмо или оставить. Решил на всякий случай взять, хотя был уверен, что оно не имеет отношений ко всей этой истории с ахматовскими чертежами.
«Вот у Закирова рожа вытянется, — подумал он, — когда узнает, что его версия лопнула как мыльный пузырь. Мужика явно тащит на умозрительные абстрактно-схоластические версии, высосанные из мизинца левой ноги».
Треньков посмотрел на часы: рабочий день окончился час назад. «Ого! А я еще вкалываю, вот дурак», — проговорил он про себя.
И снова вспомнил Закирова. «Интересно, как он поведет себя, когда узнает, что я уже названиваю его Элечке? А что будет, если отобью? — заулыбался Треньков. — Припадок хватит».
Мысль об Элеоноре взбодривала его, и вялость в теле, вызванная дневной духотой, неожиданно исчезла. Ему стало легко и весело. От предвкушения встречи с ней приятно защемило сердце.
Почему-то вдруг вспомнилось, как Юрка Герасимов недавно гнался за преступником, а он, как сторонний наблюдатель, глядел ему вслед. И тоскливая мысль о том, что узнают о его трусливой бездеятельности, разлилась в сознании. Прекрасное настроение вмиг исчезло. «До чего же гадко устроен человек, — подумал Эдуард. — Не успеешь подумать о прекрасном, ощутить прекрасное в полной мере, а уж пакостная мысль тут как тут: выскакивает из закоулка в памяти и чернит грязной метлой все светлое в душе, отравляет сознание. И ничего почти не остается». Он вздохнул и пошел прочь из палаты.
На следующий день поздно вечером из четвертой городской больницы, где лечилась Метелева, поступило сообщение: отравилась колбасным ядом больная урологического отделения Тараткина. Неизвестное лицо передало пакет с продуктами в приемный пункт больницы, адресовав его Метелевой. В палате Тараткина попросила Метелеву угостить ее колбасой. Сама Метелева в тот момент есть не хотела. Вскоре Тараткина скончалась.
Глава XIV
В Гурьеве майор Стеклов разыскал своего старого товарища по чоновскому отряду Бажанова Сергея. Тот работал в горпищеторге. За шестнадцать лет, с тех пор как они не виделись, Сергей изрядно изменился: располнел, от некогда густой шевелюры остались одни воспоминания, стал очень степенным и важным. Но его великолепная память осталась неизменной. В спокойной домашней обстановке он рассказал о событиях давно минувших дней, которые произошли в прикаспийских краях.
Осенью 1924 года, после возвращения со службы, Бажанов работал уполномоченным ОГПУ Астраханской области по городу Гурьеву. Время было неспокойное: в окрестностях города иногда появлялись банды, по ночам вспыхивали перестрелки.
В город забредали кутеповские эмиссары: бывшие царские офицеры, мечтавшие восстановить монархию. При проведении одной операции в руки чекистов попал бывший поручик царской армии Шергин, связанный с монархистскими элементами в Поволжье. Он-то и поведал об атамане Мефодии — Волковском Александре Викентьевиче. Бывший атаман, как оказалось, перебрался в относительно тихую гавань — в Астрахань и иногда зачем-то наведывался в Гурьев.
Поручик Шергин, происходивший из знатного дворянского рода, когда-то учился в гимназии вместе с Волковским и был дружен с ним. Они продолжали давнишнюю дружбу своих родителей. В доме Шергиных говорили, что отец Викентий по богатству может потягаться с самыми состоятельными людьми России, что только в Волжско-Камском банке вклад у него составляет более миллиона золотом.
— Поручик Шергин говорил нам тогда, — вспоминал Бажанов, разливая по чашкам крепко заваренный ароматный чай, — что видел на руке у атамана Мефодия изумительной красоты золотой перстень с бриллиантом, каратов эдак на пятьдесят, необычной конфигурации. А под бриллиантом кроваво-красный крест. Атаман Мефодий хвастался, что перстень — ключ к раскрытию тайны, за которой гонялось множество людей и не одно столетие. Будто сам по себе перстень стоит ничтожно мало в сравнении с теми ценностями, к которым можно добраться с его помощью. Волковский собирался прихватить ценности и махнуть за границу. Обещал привлечь к этому делу Шергина, разумеется, за большое вознаграждение. Поручик заявил, что его приятель в то время больше думал не о реставрации монархического строя, а о том, как живым унести ноги за рубеж; он в последнее время не принимал участия в каких-либо преступных акциях.
Бажанов придвинул к майору чашку, взял свою и, подув на чай, неторопливо отхлебнул. Посмотрев на утомленного Стеклова, предложил:
— Знаешь, Петро, давай допьем чай и немного поспим. Сегодня воскресенье — сам бог велел. А потом я тебе дорасскажу про этого атамана, идет?
Стеклов согласился. Но спать он не мог. Дневной зной сильно донимал его.
Горячий ветер, суховей, после полудня начал слабеть, и уже часам к пяти подул прохладный влажный ветерок со стороны Каспия. Стеклов пришел в себя лишь вечером, когда в доме стало совсем прохладно.
— Слушай, Серега, как ты ежедневно переносишь такую баню? Я здесь второй день — и уже чуть концы не отдаю.
Тот лишь улыбнулся.
После ужина хозяин дома продолжил свой рассказ:
— Благодаря показаниям поручика Шергина, мы напали на след нашего старого знакомого атамана Мефодия. В этих краях он бегал уже под другим именем. На одной из явок в Астрахани, наконец, удалось его накрыть. Сдаваться атаман не пожелал и был убит в перестрелке. Его опознал Шергин. И хозяйка явочной квартиры подтвердила личность убитого — Волковского, атамана Мефодия. Вот, кажется, и все, что я знал об интересующей тебя истории.
— А этот загадочный перстень у атамана обнаружили?
— Ах да! Забыл сказать: перстня у убитого не нашли; обыскали его одежду, как говорится, до последней строчки, перевернули кверху дном явочную квартиру — и ничего.
— Может, хозяйка квартиры припрятала?
— Она категорически заявила, что такого перстня никогда не видела у атамана.
Оба помолчали. Бажанов включил свет и закрыл окна.
— Мошкара налетит, — пояснил он, — спать не даст.
Стеклов, немного подумав, спросил:
— А не удалось выяснить связи атамана, его ближайшее окружение?
— Ничего существенного в этом роде не узнали тогда... Только вот хозяйка той квартиры, где мы застукали атамана, сказала, что к нему приходил какой-то красивый молодой человек с женскими чертами лица, чем-то похожим на самого атамана. К этому молодому человеку атаман относился очень тепло.
— А этот тип не был пойман?
— Нет. И личность его так и не была установлена.
— Где учились Волковский с Шергиным?
— Подожди, подожди... — наморщил лоб бывший чекист, — не то в Костроме, не то в Ярославле. Помню, что где-то в Верхнем Поволжье... Он еще рассказывал про Ипатьевский монастырь... От Шергина узнал я тогда, что первый русский царь из династии Романовых был провозглашен в том самом монастыре... К своему стыду, не знаю, в каком из городов он находится...
— В Костроме, — о чем-то думая, подсказал Петр Прохорович. — Там был провозглашен боярин Михаил Романов царем Российского государства.
— Ну, выходит, учились они в Костроме, — заключил Бажанов.
— Этот молодой красавец не братом ли приходился атаману Мефодию?
— Не могу, Петя, тебе на сей счет ничего сказать. Упустил я тогда этот вопрос, — Бажанов пожал плечами, — а почему не выяснил его у Шергина, сам сейчас не пойму.
«Ну, если дети учились в гимназии, значит, и родители там же, в Костроме, находились. А поскольку родитель атамана был священником, то концы надо искать в церковных архивах города. Видимо, отец Викентий заправлял там каким-то приходом, — размышлял Стеклов. — Если этот молодой человек — брат атамана Мефодия, тогда в какой-то мере можно понять, почему ожила тень атамана и кто под этим именем скрывается сейчас. Придется покопаться в архивах и выяснить родословную отца Викентия».
До поздней ночи говорили друзья, вспоминая боевых товарищей и события, которые волновали обоих.
На следующий день Стеклов выехал в Светловолжск. По прибытии доложил руководству отдела о результатах командировки.
Галямов заявил, что эта командировка мало прибавила к тому, что было уже известно, и предложения откомандировать сотрудника в Кострому не поддержал.
— Эти сведения мы можем получить и в порядке отдельного поручения, — заявил он. — К тому же я очень сомневаюсь, что есть некая родственная преемственность между атаманом Мефодием и тем Мефодием, который фигурирует в шифровках иностранной разведки. В разведке не принято соблюдать подобную, если так можно выразиться, семейную традицию. Она чревата последствиями. А если враг идет на такое, то с единственной целью: запутать, пустить контрразведку по ложному следу.
— Все это так, Марс Ахметович, но нельзя не учесть пересечения событий и фактов: ключ от шифра связан с историей Костромы и там же, оказывается, жила семья Волковских. А внешнее сходство с атаманом одного из его подручных? По-видимому, это был брат, а раз так, нужно учесть психологический момент: желание продолжить «жизнь» брата, хотя бы символически...
— Но это уже из области домыслов, — перебил Галямов. — Хотя ваши доводы заставляют призадуматься. Я сейчас не берусь, Петр Прохорович, утверждать что-либо определенное. Пожалуй, действительно нужно сначала проверить, — начал сдавать позиции Галямов. — На днях должен выйти на работу Жуков, я его вчера навестил — вот его и пошлем. А пока отправьте отдельное поручение в Кострому с пометкой: «Весьма срочно».
Галямов посетовал на то, что отдел буквально задыхается от работы: не хватает сотрудников. Да еще, кажется, ЧП назревает. Стало известно, что при задержании работником милиции Герасимовым преступника там находился лейтенант Треньков, который, судя по всему, проявил трусость и исчез, не оказав соответствующей помощи.
Стеклов угрюмо покачал головой:
— Если подтвердится, ляжет темное пятно на отдел.
Доставили перехваченную радиограмму.
Мефодию.
Почему молчите? Используйте второй вариант связи. Место встречи: 3 — М, под куполом трех парашютов, по четвергам в 11-00, Дашкова.
Штольц.
— Полюбопытствуйте, Петр Прохорович. — Галямов передал шифровку майору.
Подождав, когда тот прочел, Галямов сказал:
— Сплошные загадки. Но, видимо, «3 — М» — это не что иное, как условное место встречи. А вот что обозначает «под куполом трех парашютов»?
Стеклов пожал плечами.
— Не думаю, что речь идет о прыжках с парашютом. Но тогда что это означает, ума не приложу.
— Этот текст уже некому передать на расшифровку. Главные специалисты — мы. — Галямов еще раз прочел шифровку. — Фамилия «Дашкова» может означать пароль. Неясно только, устно должны произнести это слово или... постой, — приложил ладонь ко лбу майор. — Кажется, была книжка, автор которой Дашкова. Она, если мне память не изменяет, была президентом Российской Академии наук при императрице Екатерине Второй. А вот названия книги не помню.
— А может, речь идет о другой Дашковой? — усомнился Стеклов. — Мало ли у нас в стране ученых и писателей Дашковых? Хотя это можно выяснить — надо покопаться в картотеке республиканской библиотеки.
— Верная мысль, — одобрил Галямов без особого, однако, энтузиазма, понимая, что при неизвестности места встречи агентов это почти ничего не дает.
Так, не придя ни к чему определенному, они разошлись.
Стеклов следующие дни посвятил розыску приходно-расходной книги по вкладу Волковского Викентия в архивах бывшего Волжско-Камского банка. Кингу удалось найти. Пожелтевшие листки бесстрастно свидетельствовали, что к августу 1914 г. вклад Волковского составлял два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч рублей золотом.
Майора удивила эта огромная сумма, и он вспомнил рассказ Бажанова. «Не зря, значит, родитель поручика Шергина говорил о колоссальных богатствах отца Викентия. Но куда исчезли эти деньги? В графе расходов книги значилось, что вся сумма снята первого августа 1914 года, то есть в первый же день начала первой мировой войны. Отец Викентий не без оснований решил снять деньги; он понимал, что война с ее неожиданными поворотами могла лишить его состояния. Он боялся колоссальной инфляции и в связи с этим возможного решения правительства „заморозить“ вклад либо запретить производить расчеты золотом. А замена золота бумажными купюрами в военное время, он понимал, равносильна разорению».
«Да, хитрая была бестия, — подумал Стеклов. — Но куда такую сумму спрячешь? Только по весу золотые монеты потянут на несколько сот килограммов. Тайник нужен огромный. Одному ему не под силу было перенести такую ношу и спрятать где-то. Но кому он мог доверить тайну? Пожалуй, только детям. Не эти ли ценности имел в виду атаман Мефодий, когда рассказывал Шергину о тайне перстня? Но каким образом перстень связан с тайником? А может, отец Викентий успел переправить золото за границу?
Обирал безбожно прихожан этот поп Викентий, а то откуда ж такие громадные деньги? — размышлял Стеклов. — Это золото, что припрятано им, омыто слезами тысяч обманутых простых людей и принадлежит народу».
Тут он вспомнил, как дед его рассказывал о неслыханной жадности настоятеля монастыря, в то время еще молодого отца Викентия. Он обирал даже монахов, экономил на их питании. «А ворованную деньгу, — говорил дед, — прячет в божьем храме и греха не боится. Вот ведь окаянный какой».
«А не там ли спрятал этот поп присвоенные миллионы? — подумал Стеклов. — Вообще-то, более надежного места не придумаешь».
И снова на пути его мыслей, как непреодолимый горный перевал, встал Волжский монастырь. «Не монастырь, а гордиев узел. В конце-концов должен же быть найден путь к монастырю. Неужели мне не хватит жизни для этого? Взять бы экскаватор и перекопать там все. Ан нет, нельзя: памятник архитектуры. Стало быть, дорогой Петр Прохорович, — сказал он сам себе, — надо искать другой путь. Но какой?»
Глава XV
По прибытии в Святовск Закиров направился в поселковый Совет — там должен был встретиться с оперуполномоченными Денисовым и Измайловым, недавно перешедшим из милиции. Оба сотрудника НКВД несколько дней работали в поселке: просмотрели личные дела работников кирпичного завода, посетили местное пошивочное ателье, магазины, а также лиц, отбывавших наказание. Установили дежурство в магазинах — полагали: Фролов должен заявиться за продуктами, но тот упорно не появлялся.
Похоже было, что Фролов, как сурок, впал в дрему и на свет появляется крайне редко, только по необходимости. Возможно, продукты ему кто-то носит на дом. Но кто? Не сомневались в одном — он живет у какой-то женщины. По справке паспортного стола, в поселке проживало около двухсот одиноких женщин; из них в возрасте до сорока лет и имеющие свои комнаты или дома — около трех десятков человек.
В тот же день сотрудники НКВД под видом пожарных инспекторов вместе с председателем поссовета обошли интересующие дома. Но это ничего не дало.
— А может, — засомневался Измайлов, — он живет где-нибудь в другом месте и поплевывает в потолок?
Его поддержал и Денисов.
— Здесь он, ребята, здесь, — уверял их Закиров. — Автобусные билеты об этом говорят. Да и после убийства Севчука нырнул сюда. Не сомневаюсь, он вернулся в Святовск и после наскока на жилище Ахматова. И запомните оба: будем караулить этого мерзавца здесь до тех пор, пока не поймаем! — И уже раздраженно: — Думайте, думайте, шайтан задери!
На следующий день контрразведчики снова установили наблюдение за магазинами. Закиров курсировал между автобусной остановкой и пристанью.
К полудню небо заволокло тучами. Подул прохладный северный ветер, и волны чаще начали набегать на крутой, обрывистый берег, издавая почти непрерывный шум. Пристань чуть покачивало, словно люльку. Пошел мелкий дождик.
В пустом зале ожидания пристани Закиров остановился у окна. «С какого же конца искать теперь этого Фролова? — постоянно преследовала его мысль. — Остается один активный ход: показать фотографию преступника работникам магазинов и ателье». Но следователь понимал: шансов мало — на фотографии семилетней давности преступник изображен без волос, что сильно меняет внешность. Если же и это не поможет — остается только ждать, надеяться на случай.
«Неужели он живет один? Нет, это, пожалуй, исключается: иначе бы уже появился у магазина... Значит, замешана все-таки женщина... Одиноких вроде „просмотрели“. Неужели пригрелся у какой-нибудь замужней, муж которой длительно отсутствует? А что, идея! — встрепенулся Закиров, глядевший отсутствующим взглядом на поверхность воды, покрытую бесчисленными ровными дождевыми кругами. — Такие случаи редкость, но бывают».
Он торопливо зашагал в отделение милиции, решил выяснить: у кого из женщин муж отбывает наказание. По дороге завернул к магазину. Подошел к лейтенанту Денисову. Судя по его лицу,
ничего нового.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился он к Закирову, — а Космач курит?
— Курил. Сейчас не знаю.
— Вряд ли он бросил. У меня одна мыслишка возникла.
— Давай, Коля, — торопливо сказал Ильдар.
— Нужно у продавца выяснить: кто из женщин покупает папиросы.
— Так, — думая о чем-то своем, проговорил Закиров. — Что дальше?
— Ведь курящих женщин в таких маленьких населенных пунктах мало, в отличие от городов...
— Это верно, но зато курящих мужей, которым покупают курево любящие жены, предостаточно. А вообще-то... — Закиров очнулся от своих мыслей, полностью владевших им, — вообще-то, верная идея! Ведь местные жители хорошо знают друг друга. И если кто-то вдруг начинает регулярно покупать табак или водку — это не остается незамеченным. Тем более, когда речь идет о женщине одинокой или оставшейся на время без мужа.
Лейтенант обрадовался, что нашел единомышленника:
— Я об этом как раз и думал.
— В общем — действуйте с Измайловым, а я сейчас сбегаю в отделение, справочку одну надо навести.
Денисов торопливо направился было к магазину, но Закиров остановил его:
— Вот что еще. Если произойдет осечка, покажи продавцу фотографию Фролова. Понял?
— Да.
— Ну, давай.
Отделение милиции, насчитывающее четыре человека, находилось неподалеку от магазина. У пожилого седоусого сержанта, на котором форма висела как на палке, узнал, что год назад были осуждены за хулиганство двое с кирпичного завода. Один из них — Васька Топтыгин — женился за несколько месяцев до приключившейся с ним оказии. И сейчас пребывает в воркутинских краях. Брак их не расторгнут. Жена его проживает по Гражданской, 7. По словам сержанта, ей было не более двадцати пяти, а по внешнему виду очень хороша. Зовут ее Зинаидой.
Закирова заинтересовало: откуда он так хорошо ее знает.
— Она что, вам знакома?
— Ну, кто же ее не знает? Она продавцом в магазине работает.
— Вот как? — привстал со стула контрразведчик. — В каком?
— А вот он, магазин-то, — махнул сержант рукой в сторону окна, рядом с прудом.
Закиров стремглав бросился к выходу. Сержант с удивлением смотрел ему вслед, ничего не понимая.
Было ровно час дня. Закиров боялся опоздать: магазин закрывался на обед. Надо было во что бы то ни стало не упустить из поля зрения продавщицу Топтыгину. В том, что Денисов и Измайлов ушли от нее ни с чем, он не сомневался. По его расчету, Топтыгина сейчас же поспешит домой, если, конечно, Фролов прячется у нее. Фролов — прожженный преступник, сообразит что к чему, и тогда — ищи ветра в поле.
Закиров примчался к магазину. На двери висел замок. Он суетливо покрутился: не было ни продавца, ни ребят. Побежал к ближайшему переулку. «Где же эта чертова улица?» Рядом — ни души. Не у кого спросить, попрятались от дождя. Закиров постучал в окно ближайшего дома, выглянула рыжеволосая девочка. У нее узнал, где находится Гражданская улица.
Он побежал во весь опор, не разбирая луж, разгоняя уток и кур. Когда, наконец, свернул на узкую, утопающую в зелени садов улочку, Ильдар посмотрел на покосившуюся фанерную дощечку. «Улица Гражданская», — прочел он.
Впереди, метрах в двухстах, увидел торопливо шагавшую дородную женщину. У большой березы, что стояла наклонившись к дому с драночной крышей, женщина встала, оглянулась и торопливо вошла в палисадник. Она была очень хороша собой.
«Кажется, это она, — подумал Закиров. — Заметила! Но это уже неважно. Фролов поздно получит сигнал тревоги, если он, конечно, там. На этот раз он не уйдет от меня».
Закиров прошел мимо дома с березой. Дом значился под номером «7».
«Надо срочно предупредить ребят, — решил Ильдар. — Но как это сделать? Ведь отсюда уходить нельзя!»
Чтобы Фролов не ушел через двор, Закиров перелез через забор и обошел дом Топтыгиной. Встал за углом бани так, чтобы был виден выход из сеней. Правда, это позиция имела один недостаток — Фролов мог уйти через окно, выходящее прямо на улицу. Закиров полагал, что днем преступник не полезет в окно. К тому же он не знал, где находится Закиров и есть ли вообще наблюдение за домом.
Контрразведчик решил: если хозяйка выйдет и будет проверять, не крутится ли тут рядом незнакомец, значит Фролов здесь.
Дождь перестал. С крыши бани еще капало. Воздух был необычайно чист и ароматен.
Прошло с полчаса, когда в сенях раздались негромкие и неторопливые шаги. Закиров плотнее прижался к стенке, вытащил оружие. На ступеньках появилась знакомая особа.
Женщина, даже не посмотрев во двор, заперла дверь и спокойно вышла на улицу, на мгновение остановилась у калитки, поправила платок, пошла в сторону центра поселка.
Ситуация стала казаться Закирову совершенно непонятной. От былой уверенности не осталось и следа. «Неужели Космача здесь нет и вообще не было?» Видимо, от большого желания найти преступника он начал выдавать желаемое за действительность.
— Помогите-е!.. Убивает!.. — донесся истошный женский вопль откуда-то с улицы. Закиров рванулся было, но тут же опомнился и остановился у сеней. Душераздирающий вопль повторился.
Из соседнего двора какая-то женщина сказала кому-то:
— Это Федька снова колошматит Таньку свою... Пережрал самогонки... Иди, помоги...
Причитания и проклятия стали стихать. Послышались глухие удары, возня, хрип. Кто-то громко взывал к совести.
Осторожно ступая, Закиров обошел дом и посмотрел через щель забора на улицу. Двое мужчин связывали третьего, распластавшегося на земле. Тут же стояла разлохмаченная женщина. К ним подошел знакомый сержант. Радость всколыхнула Ильдара. «Надо сказать, чтобы Денисов и Измайлов немедленно подошли сюда».
Загородили щель: кто-то стоял у забора. Закиров осторожно подтянулся на руках и выглянул через забор. Взгляд его встретился со взглядом Измайлова.
Пауза.
— Как вы здесь оказались? — зашептал тот.
— После, лейтенант. Позови сержанта.
И, обращаясь к Денисову:
— Перелезай сюда. Скорее!
Закиров объяснил его задачу: тот должен был блокировать окно с улицы. Измайлова он послал за Топтыгиной. Сам встал на углу, у сеней.
Подошел Денисов, зашептал:
— Нам позвонил Галямов. Допросили Косовскую... Она объявилась неожиданно... От нее узнали, что Фролов Валерий снимает угол у какой-то Зинки в этом поселке... Сержант нам и сказал, что вы очень заинтересовались Зинаидой Топтыгиной... И мы сразу сюда...
Появилась встревоженная Топтыгина. Когда она открыла дверь в сенях, Измайлов шмыгнул через палисадник за ней.
Закиров немного подождал и тоже зашагал по ступенькам. И тут, как из-под земли, предстал перед ним Космач. Преступник, не останавливаясь, мгновенно нанес удар и устремился к соседскому забору.
Закиров покатился с лестницы.
Денисов бросился наперерез ему и настиг Фролова у забора, когда тот был готов уже перемахнуть преграду.
Завязалась схватка. Фролову удалось подмять Денисова. Потом, как ошалелый, он рванулся к забору, но тут пришел на помощь Закиров. Вдвоем они одолели Космача.
Фролов сидел в доме Топтыгиной со связанными руками. На вопросы отвечать не желал.
При обыске нашли часть ценностей, которые им были украдены в квартире Древцова. В слесарном ящике обнаружили причудливой конфигурации ключ, со свежими заточками — судя по всему, от сейфа со сложным замком. Там же валялся кусок пластилина.
Денисов положил на стол перед Фроловым ключ и кусок пластилина:
— Для кого вы точили ключ по слепку, гражданин Фролов?
Тот, как глухонемой, и бровью не пошевелил.
— Черт с ним, пусть молчит, — подал голос из-за печки Закиров. — Когда возьмем Чмо, он все нам расскажет. К тому же, мы и так почти все знаем.
При упоминании Чмо Фролов заерзал.
Измайлов спросил у понятых:
— Вы как соседи не замечали, кто к ним заходил?
Бабуля в выцветшем платке прошамкала:
— Родимай мой, дак енто за всеми разе углядишь? Дома-то токо-токо управишься с чугунками, подоишь козу — глянь, а уже и потемки пришли. Некогда в окошко-то зыркать.
Сидевший рядом старик поддакнул ей:
— Только бездельники все видят да замечают, а работящему человеку недочего. А работы у нас хватает.
Закиров, пошарив за печкой, подошел к Топтыгиной.
— Скажите, Зинаида Семеновна, при вас точил ваш... квартирант этот ключ? — он взял со стула ключ.
Та покраснела, опустила голову.
— Да, точил.
— А его приятели сюда заходили?
— Какой-то мужчина раза три-четыре приходил.
— Обрисуйте его внешность.
Хозяйка квартиры рассказала, что из себя тот незнакомец представляет.
Фролов впился глазами в Зинаиду, но та не смотрела в его сторону. Особо не задумываясь, она отвечала на все вопросы.
— Судя по всему, — Закиров повернулся к Фролову, — сюда залетает Чмо. Жирный гусь! Мы не поленимся, подождем его.
Топтыгина села на стул и нервно затеребила платок.
— Вы знали, чем занимается ваш возлюбленный? — спросил у нее Закиров.
— Не знала. Он мне говорил, что работает геологом и сейчас находится в длительном отпуске.
У нее же узнали: 30 июня, то есть в воскресенье, Фролова не было дома — приехал только в понедельник. А потом снова исчез...
— А исчез ваш Валерочка во вторничек, второго июля, — подсказал ей Закиров. — Так?
— Кажется. Да, так.
— Он как геолог исследовал в те дни недра чужой квартиры — конструктора Ахматова, — произнес следователь, внимательно глядя на преступника.
Тот безнадежно махнул рукой:
— Ладно, гражданин следователь, хватит выкамариваться с бабой-дурой. Скажу сам... Только учтите — что я это сам...
— Договорились, — согласился Закиров. И он заспешил с давно мучившими вопросами: — Как фамилия Чмо?
— Муратов Марат Минаевич. Это я для него ключ со слепка, который он мне принес вчера... обещал прийти завтра.
— Сестра у вас есть?
Фролов, немного помолчав, сказал:
— Да. Есть.
— Как зовут ее и где она работает?
— Зовут Розой... Роза Полыханова... Она на заводе трудится инженером...
— В квартире Древцова вы одни были?
Фролов отвернулся к окну: под левым глазом у него появился тик. Он промолчал.
— А кто в Каримове работника милиции убил? Вы?
— Нет. Я не убивал его, — дернулся всем телом преступник, поворачивая голову. — Это Чмо... Муратов...
— А кто старуху прикончил на квартире у Ахматова?
Фролов съежился. Его сильное тело обмякло.
— Она от страха... сама, — выдавил он с трудом.
— Сейф у конструктора в квартире вы сработали?
— Я.
— Когда?
— Тридцатого числа, в воскресенье.
— Кто там был еще?
— Я его не знаю. Он старик, немного прихрамывает, но проворный, как молодой барбос. Свел меня с ним Чмо. А сам Муратов был на стреме.
— Старик горбоносый?
— Горбоносый.
Закиров сглотнул слюну: «Неужели сам Варев — матерый шпион и убийца — вынырнул на поверхность?»
— Кто наводчиком был?
— Похоже, этот старик.
— А что ему надо было в квартире у конструктора?
Фролов рассказал, что старик фотографировал чертежи. А он сам лишь занимался дверными замками и сейфом. За этот визит ему отвалили десять кусков.
Закиров снова вернулся к квартире Древцова. Но преступник никак не хотел брать на себя этот эпизод. Позднее под тяжестью неопровержимых улик Фролов сознался, что убил Древцова, когда тот пытался задержать его в своей квартире.
...Потом Закиров бегал докладывать майору Галямову, что Фролова поймали. Тот поздравил с успехом и выслал за ними машину.
В квартире Топтыгиной оставили засаду.
Установили, что Полыханова, сестра Фролова, общается с чертежницей конструкторского бюро Розой Зеленской, надменной особой, одевающейся с большим шиком. Муж Зеленской работал зубным техником, имел большой «левый» приработок и фигурировал уже в бумагах местного отделения милиции и финотдела.
«Вот, кажется, задача с двумя неизвестными, — подумал Закиров. — Интересно, про какую Розу говорилось в шифровке вражеской агентуры? А может, эти женщины здесь и ни при чем?»
Полковник Нурбанов, появившийся на работе после болезни, в срочном порядке поручил проверить, подходит ли изготовленный Космачом ключ к одному из сейфов на том заводе, где работали Полыханова и Зеленская.
На завод отправился Закиров. Начальник отдела, тучный лысеющий мужчина с орденом боевого Красного Знамени на лацкане темно-синего пиджака, после тщательной проверки удостоверения личности вытащил из опечатанного объемистого сейфа связку ключей и положил их на стол перед Закировым.
Следователь вытащил свой ключ и они вдвоем начали сопоставлять его с ключами из связки.
— Максун Назмутдинович, — обратился Закиров к начальнику отдела, — случаи утери ключей у вас были?
Тот молча поднялся, вытащил из сейфа журнал и зачитал:
— «19 октября 1938 года был утерян ключ от сейфа № 27 заместителем начальника цеха Гареевым. Найден в цехе 20 октября, то есть через сутки». — И уже от себя добавил: — Других случаев не было. А сейф тот мы поменяли.
— Почти два года назад, значит... А где этот ключ, он в связке?
Тот быстро нашел нужный ключ. Закиров примерил свой ключ. Не подошел.
Когда Закиров перебирал четвертый десяток ключей, ему показалось, что ключ от сейфа № 19 очень схож сего ключом.
Начальник отдела, до этого спокойно и невозмутимо записывавший номера просмотренных ключей, встал и нервно, с дрожащими пальцами, взял оба ключа. Повертел их в руках и глухо произнес:
— Что-то вроде похожи, но мне просто не верится, чтоб у нас на заводе...
— Где этот сейф?..
— Приписан к сборочному цеху... там, где все чертежи скапливаются... — растерянно пробормотал начальник отдела.
В обеденный перерыв оба направились в сборочный. Там в специальном помещении и находился сейф № 19. В присутствии начальника цеха вскрыли сейф запасным ключом, хранившимся в отделе. Когда же Закиров вставил в замочную скважину «свой» ключ, щелкнул замком и дверца мощного сейфа медленно открылась, у начальника отдела проступили на лбу капельки пота, а начальник цеха на происходившее смотрел как на некое чудо.
Закиров установил: в сборочном цехе работала Роза Полыханова и имела отношение к рабочим чертежам изделий.
Доступ к сейфам имели, кроме начальника цеха, его заместитель и начальники смен. Не было сомнений, что слепок с ключа снял кто-то из работников завода: ключи сдавались под расписку и хранились в специальном опечатанном сейфе. Практически невозможно было постороннему человеку проникнуть в помещение сборочного цеха и тем более воспользоваться ключом. Все это давало Закирову основание полагать: во-первых, слепок с ключа снят человеком, который непосредственно общается с одним из четырех должностных лиц, имеющих доступ к сейфу, и, во-вторых, ключом хотел воспользоваться работник данного цеха либо тот, кто имеет право доступа в цех.
Закирову представили список лиц, которые посещали сборочный цех. Среди них оказалась и подруга Полыхановой — Роза Зеленская. Они учились вместе в средней школе.
Следователь начал проверять ближайшее окружение работников, имеющих доступ к сейфу, при этом стал брать во внимание лишь работников сборочного цеха и тех, кто имел право доступа в цех.
Закиров обратил внимание на заявление гражданка Федорук, адресованное в парторганизацию цеха, с просьбой воздействовать на ее мужа за аморальное поведение в быту: он встречался с Розой Зеленской. Федорук работал начальником смены и имел доступ к сейфу.
Секретарь партбюро пояснил, что заявление имеет, очевидно, под собой почву — Зеленская частенько без всяких поводов забегает в кабинет Федорука.
Докладывая полковнику Нурбанову результаты проведенной проверки, Закиров подчеркнул:
— За Зеленской нужно установить тщательное наблюдение.
Допрос Федорука он считал преждевременным.
Нурбанов, слушая его, раскладывал перед собой, как карты, листки со старыми шифровками. Полковник посмотрел на докладчика.
— Насчет Федорука... считаете — допрос его будет известен тому лицу, кто снял слепки с ключа? — И не давая ответить Закирову: — Да, такая опасность существует...
По всему было видно, что мысли Нурбанова были заняты еще чем-то.
— Товарищ полковник, если Зеленская — та самая Роза, ее не будут хозяева держать без дела...
— И возможно, именно для нее предназначался найденный у Космача ключ, — уточнил полковник.
— Совершенно верно, — согласился Закиров. — Так вот, она будет таскать им информацию, к которой имеет доступ сейчас. Конечно, то, что она может взять у себя, — это крохи в сравнении с информацией, хранящейся в сейфе № 19. Вражеская агентура хотела добыть информацию о новом изделии, как говорится, одним махом. Сейчас главное: передает ли Зеленская информацию? Если да, то кому и как?
Закиров взглянул на Нурбанова — тот отодвинул от себя бумажки, собираясь что-то ему сказать.
— Ильдар Махмудович, вот о чем я сейчас подумал. Не насторожит ли того человека, который ждет ключ, то обстоятельство, что Фролов взят? И не притихнет ли он, пока не прояснятся что к чему?
— Мне кажется, что это может случиться. Но, с другой стороны, это зависит от связующей цепи, которая тянется от Космача до «потребителя» ключа.
— То есть?
— Мы ведь пока не знаем, выходит ли Муратов непосредственно на агента, работающего на заводе, или между ними вертится еще кто-то. Вот этот самый «кто-то» может определять характер деятельности агента — предположим, Розы.
— Вы допускаете, что звеном между Муратовым и, скажем, Розой является Варев?
— Вполне, товарищ полковник.
Нурбанов заметил, что Варев — старый, хитрый лис и, пока не убедится, что агент, орудующий на заводе, на крючке у контрразведки, не будет его убирать. А, следовательно, до этих пор будет черпать от него нужную информацию.
— А какие у него опасения, что на его след напали? — продолжал полковник. — Арест Фролова и даже Муратова, если, конечно, нам удастся его взять, еще не выводит, с его точки зрения, на Розу. Варев полагает, что шифровки для нас — неразгаданные загадки. Значит, о Розе мы ничего не знаем. Так?.. Дальше. Заметьте, Фролов не знает, где притаился Муратов. Когда же Фролов нужен, его тотчас находят. Как видно, связь односторонняя. Убежден: аналогичная связь и между Муратовым и его хозяином. Это, конечно, имеет известный недостаток: затрудняет контакты, но зато уменьшает опасность провала вышестоящих звеньев. Так ли это, узнаем, надеюсь, у Муратова.
Дальнейшие события в Сватовском поселке, однако, произошли не по задуманному сценарию.
На следующий день после ареста Фролова поздно вечером к Топтыгиной постучались. Она открыла дверь — перед ней стоял какой-то мальчишка. Тот попросил вызвать дядю Валю.
— А, ты... Заходи, мальчик... — растерянно произнесла Топтыгина, не зная, как поступить дальше. Но тот сказал, что лучше подождет на улице.
Она скрылась в сенях, пообещав вызвать дядю Валю. Вскоре в дверях появился лейтенант Денисов.
— Что скажешь, мальчик?
— Там, у колодца, — махнул рукой мальчишка, — ждет тебя дядя Марат. Он просил меня передать.
Для оперативников это был неожиданный ход Муратова. Денисов в нерешительности застыл. «Что делать? — пронеслось у него в голове. — Идти — значит обнаружить засаду. Наверняка, он сейчас притаился где-то на полпути к колодцу и ждет. Нет, мне идти нельзя. Надо послать Топтыгину, а нам следом, но чтоб не видел».
Лейтенант придержал мальчонку, понимая, что его втянули в эту опасную игру случайно.
— Сейчас с тобой пойдет тетя. А я не могу — вывихнул ногу, — сказал он и, сильно хромая, ушел в дом.
Топтыгина и мальчишка не торопясь пошли к колодцу. Она должна была сказать Муратову, что Фролов вывихнул ногу.
У колодца никого не было. Женщина, немного подождав, пошла обратно. Когда она прошла второй дом от угла, где находился колодец, кто-то тихонько окликнул ее. Топтыгина остановилась.
Из ворот показался Муратов.
— А где Валерка? — озираясь, спросил тот.
— Он ногу вывихнул, — за нее ответил мальчик.
— А может, он и бороду потерял? — повернулся к нему преступник. — Что молчишь? Дядя был с бородой?
— Темно было... но бороды-то вроде нету...
Муратов резко повернулся к женщине.
— А ты что скажешь? — угрожающе прошипел он, выхватывая из кармана финский нож.
Топтыгина от страха онемела, взгляд ее приковал тускло поблескивавший в темноте нож. Она неопределенно покачала головой и шагнула назад.
Муратов схватил ее за волосы и приставил нож к горлу.
— Шлюха продажная, энкеведистов пригрела?! Ну, говори, обманешь — прирежу... — преступник похабно выругался.
От страха мальчишка сначала попятился, потом бросился бежать к топтыгинскому дому.
— Куда?! — грозно рыкнул Чмо. — А ну, падла, стой!
Из соседнего двора вышел мужчина, прикрыл калитку и спокойно направился по тротуару к ним.
Муратов вытащил пятерню из волос Зинаиды, схватил за руку, приставил нож к боку.
— Пикнешь — убью, — предупредил он.
Со стороны могло показаться, что стоит влюбленная парочка. Дальше произошло все неожиданно.
Мужчина, мгновенно повернувшись, нанес преступнику сильный удар кулаком в голову. Тот стукнулся затылком о дощатые ворота и выронил нож.
Зинаида инстинктивно рванулась и оказалась между преступником и мужчиной. Это не дало возможности мужчине, в котором она узнала Денисова, нанести серию сокрушающих ударов. Муратов опомнился, рванулся к калитке, попытался выхватить из кармана пистолет.
Денисов кинулся к преступнику, перехватил его руку, но в ночной тишине ухнул выстрел: Чмо пытался стрелять, не вынимая оружия из кармана.
В разных концах поселка разом залились собаки, Топтыгина дико закричала.
— Убили-и!.. Ой, убили-и-и!!!
Денисову не удалось обезоружить противника. Когда он прижал преступника к забору и отвел его руку с пистолетом в сторону, из темноты вынырнул Измайлов.
Увидев его, Муратов сообразил: «Засада!» С бешеной силой он подался всем телом к калитке, а локтем левой руки нанес Денисову удар в челюсть. Натиск Денисова ослаб. Высвободив теперь и правую руку, преступник уже намеревался было выстрелить в упор в наседавшего на него второго сотрудника НКВД. Но в последний момент, уже падая, Денисов дотянулся кулаком до его правой руки, и выстрел не причинил вреда Измайлову.
Муратов проскользнул в ворота. Измайлов кинулся на землю, ближе к подворотне, понимая, что Чмо будет сейчас нещадно жарить из пистолета.
Измайлов бросил напряженный взгляд из-под ворот во двор: преступник уже достиг середины двора и, не оборачиваясь, стрелял в ворота. Оперативник понимал, что Чмо сейчас мог уйти или затаиться — поди потом найди его в темноте!
И когда силуэт преступника готов был исчезнуть за углом, Измайлов дважды выстрелил. Фигура дернулась. Сделав несколько неровных шагов, Муратов остановился у самого угла дома, привалился к стене и медленно осел на землю.
Потом Измайлов будет оправдываться, что целился тому в ноги, а попал в позвоночник... Муратова не удалось спасти. И ниточка, которая тянулась к Вареву, оборвалась.
Глава XVI
В 9-00 Эдуард Треньков приехал в больницу, где лежала Метелева. Он намеревался проверить обстоятельства отравления колбасным ядом.
Заведующую отделением он застал за утренним обходом больных. Она пояснила, что была в передаче записка, но ее кто-то затерял. В ней адресатом значилась больная Метелева, а подпись неразборчива. Принес продукты мужчина.
— И поэтому вы подняли хай на всю республику? — с раздражением проговорил Треньков. — Делать вам нечего.
Он подошел к столику, набрал номер телефона квартиры Метелевой.
— Алло! — крикнул он в трубку. — Это кто?.. Надежда Петровна?.. Вот как раз вы-то мне и нужны! — Треньков сел на стол. — Сосед ваш вчера приезжал?.. Да-да, сосед! Говорите громче, не слышно! — гаркнул Эдуард.
— Молодой человек, пожалуйста, потише — здесь больные, — выразила недовольство врач.
— ...Вроде приезжал, говорите?! А почему так считаете? — продолжал кричать Треньков, словно не слышал сделанного ему замечания. — Рюкзак и шляпа в коридоре на вешалке... Понятно... Все ясно... — И он положил трубку.
— Вот видите! — напустился он на завотделением. — Пока вы тут бездельем мучились, приехал ее сосед по квартире. Нетрудно догадаться, кто принес продукты. Вам бы взять трубочку да позвонить. А вы сразу — в колокола. Ну, а колбасный яд — естественное явление, порча продуктов; никто от этого не застрахован...
Треньков, не попрощавшись, ушел.
Через какой-нибудь час он уже докладывал о проведенной проверке по этому факту Нурбанову. Тот, выслушав его, спросил:
— Вы сами-то в квартире у Метелевой сегодня были?
— Ну как же не быть, — соврал Эдуард. — Видел эти вещички геолога.
— А его самого?
— Нет. Но эта бабуся... сестра Метелевой, подтверждает, что тот приехал... и с продуктами... в общем, носился...
— Куда носился? Говорите ясней.
Вошел в комнату Галямов. Присел на стул и мрачно взглянул на Тренькова. Тот почувствовал что-то недоброе.
— Она сказала, то есть сестра Метелевой, что ее сосед — Нигматуллин — ходил с продуктами в больницу.
— Значит, вы этого Нигматуллина совсем не видели?
Треньков, взглянув на Галямова, пожал плечами:
— Но, по-моему, это уже совсем не решающий момент...
Тем временем Галямов раскрыл свою папку, вытащил несколько листочков и положил их на стол перед Нурбановым.
— А вдруг никакого Нигматуллина нет? — выразил сомнение полковник.
— Как это?.. — растерялся Треньков. — Ведь он там прописан и живет.
— Это ясно. Я имею в виду: Нигматуллина, может, сейчас и в городе-то нет. Может, он вообще и не приезжал? Вы не допустили такую возможность?
— Но как же вещи? Они ведь не от сырости взялись...
— Понимаете, — продолжал убеждать его Нурбанов, — их могли просто подбросить. Да-да. Подбросить. Я смотрю, вас ни капельки не настораживают такие факты: проживание какого-то командированного в доме, откуда можно вести наблюдение за квартирой конструктора Ахматова; исчезновение квартиранта, его неожиданная смерть; отравление продуктами, предназначавшимися для Метелевой, у которой проживал этот таинственный квартирант. Разве все это не может настораживать? И разве нельзя усмотреть связь между всем этим? Я почти убежден, лейтенант, что здесь не просто нагромождение случайностей вокруг Метелевой. И очень сожалею, что вы по-настоящему во все детали этих событий не вникли.
Но на этом неприятности у Тренькова не кончились — они, как оказалось, только начинались. Нурбанов, пробежав глазами бумаги, которые принес майор Галямов, незнакомым голосом предложил рассказать о случае, где он, Треньков, при задержании работником милиции лейтенантом Герасимовым опасного преступника по кличка Косолапый был посторонним наблюдателем.
Внутри у Тренькова все оборвалось. Он понял — это конец; за трусость в подобных случаях с треском вышибают из органов НКВД. Трусость и подлость здесь выжигают каленым железом.
Он не помнил, как оправдывался, пытался предъявить происшедшее иначе, изворачивался, юлил. Но это не помогло. Его прижали фактами, и он сдался. А в заключение полковник Нурбанов с волнением сказал:
— У вас, лейтенант, не хватило смелости даже для признания своей ошибки. У вас нет элементарной самокритичности и порядочности человека советского общества.
После этого разговора руководство отдела поставило вопрос об увольнении Тренькова из органов НКВД. Но чья-то рука притормозила выполнение требования отдела. В отделе кадров заявили, дескать, молод, исправится и надо вести с молодежью воспитательную работу.
Полковник Нурбанов, принципиальный и требовательный, настаивал на своем. И чаша весов — оставить или уволить Тренькова — заколебалась.
Тем временем после длительного лечения приступил к работе Александр Жуков. И сам того не зная, он помог перетянуть эту чашу в сторону Нурбанова. Расследуя события, происшедшие вокруг Метелевой Марии Петровны, Жуков установил, что Нигматуллин, сосед ее, не приезжал из командировки и, естественно, передачи Метелевой в больницу не носил. Кто принес продукты, никто не знал. А сестра Метелевой категорически отрицала, что она якобы говорила Тренькову о продуктах, которые носил в больницу Нигматуллин. Она и в глаза не видела в тот день следователя. И Нигматуллина не видела. Ложь Тренькова обнаружилась.
Вскоре приказом наркома он был уволен из органов НКВД.
При очередном допросе Фролова спросили, каким образом он так хорошо ориентировался в квартире Древцова? Тот, криво усмехнувшись, сказал, что при современной оптической аппаратуре вовсе не обязательно бывать в квартире. Это можно компенсировать, без вреда для собственного здоровья, биноклем или трубой. Он без колебаний заявил, что в этом смысле они независимо друг от друга пришли к одному «открытию» с горбоносым стариканом.
— Я рассматривал свою фатерку со двора, вернее, с чердака крыши, а он — квартиру Ахматова — с другой стороны улицы. Так что шейте, начальник, поплотнее шторы, — посоветовал Космач, — и не пренебрегайте техникой безопасности. А то, взгромоздившись на верхние этажи, как петухи на насест, думаете, что там вас не узреют, не положат глаз на ваши шмотки? Ошибаетесь. Такие, как я...
— Такие, как вы, — перебил его Жуков, — у нас единицы. И то, судя по вашей биографии, вы бывший беспризорник. Жертва войн. К тому же вы на определенном этапе жизни не раскинули умом, поддались соблазну легкой наживы. Бежав из детдома, где была и ваша сестра, вы начали промышлять на железной дороге. В конце концов попали сюда. Теперь вас ожидает суровое наказание за тяжкие перед народом преступления.
Фролов безразлично махнул рукой:
— То, что меня шлепнут, я и без тебя знаю. Какая разница: раньше, позже — все равно умирать. А мертвому все равно.
Затем Фролов начал сокрушаться, что вовремя не скрылся.
— Говорил Чмо тогда, когда разыскал меня, что НКВД на хвосте висит, я не поверил. — Он схватился обеими руками за голову. — Мне казалось, что это он с понту, чтобы я кому-то в этом поселке не мозолил глаза или нечаянно не навел ваших охотников на след какого-то зверя.
— Почему вы так подумали? — насторожился полковник Нурбанов.
Фролов поднял голову, прислонился к стенке, произнес с тоской:
— Однажды я случайно увидел Муратова — тот чего-то, как шакал, поджав хвост, шнырял у монастыря, а потом кинулся на кладбище. В тот день он ко мне вообще не приходил. Потом... на следующий день, он мне предлагал стыриться в Светловолжске. Это была не просьба, а скорее требование. Вряд ли он тогда думал обо мне... Тут что-то другое было. Вот тогда я и подумал, что кому-то, видно, мешаю. Это и притупило мою осторожность.
— Не боялись, что Чмо и его хозяин, использовав ваши руки, могли прихлопнуть вас? — спросил Нурбанов.
— Не надо, начальник, не считай меня придурком. Я все-таки этим местом кумекаю. — Фролов постучал пальцем по лбу. — Я знал: им пока без меня, как телеге без колеса, далеко не уехать. А через недельку хотел смотаться отсюда совсем.
Нурбанов вытащил из папки листок и показал его Фролову:
— Эту анонимку с угрозой прислали из Каримова. Вы там были. Ваша рука?
— Чего нет, того нет, гражданин начальник. Лишнего не хочу на себя брать. И вообще не имею моды такие трактаты сочинять.
Когда Фролова уводили, он в дверях остановился и спросил Жукова:
— Где-то я тебя видел, начальник. А вот где — никак не припомню. Сидел вот и гадал.
Ответил Нурбанов:
— Что-то вы забывчивы стали. Вашими стараниями старший лейтенант чуть на тот свет не угодил.
Фролов удивленно уставился на Жукова.
— Не ломайте голову, Фролов, — заметил Жуков. — Вы, видимо, забыли майский вечер, ресторан, проходной двор и... полено.
Преступник сделал жест рукой, означавший: «Не надо — вспомнил».
— Этот эпизод вам тоже вменят в вину, — спокойно пояснил Нурбанов.
Фролов, не сказав ни слова, повернулся и устало шагнул через порог.
Нурбанов тотчас же распорядился, чтобы работающие в Святовском поселке два сотрудника уделили теперь внимание монастырю. В бывшем доме настоятеля монастыря и в монастырских кельях проживало несколько сот человек. В основном это были приезжие, поселившиеся там после гражданской войны.
Потом он заявил, что, поскольку Закиров, кажется, верно угадал, каким образом преступники обнаружили сейф в квартире конструктора Ахматова, подозрительные события в доме, откуда могли наблюдать за квартирой Ахматова, необходимо досконально изучить. Нужно просеять как через решето всех, кто живет и кто жил со второго по четвертый этажи. И, уже обращаясь к своему заместителю майору Галямову, Нурбанов отдал приказ:
— Марс Ахметович, выделите двух-трех человек для этого. Нужно срочно выяснить, что за человек этот геолог Нигматуллин. Проверьте, чем дышал бывший квартирант Метелевой снабженец Постнов. Сплошной туман и с отравлением гражданки Тараткиной продуктами, предназначенными для Метелевой. Словом, дел хоть лопатой разгребай.
Жуков решил сам съездить в Магнитогорск: нужно было разузнать все об умершем Постнове. Туда он намеревался выехать через три дня, а до этого нужно было завершить срочные дела. Сегодня, в субботу, Александр хотел заглянуть в городскую библиотеку, просмотреть литературу о пищевых ядах, в частности, о биологических процессах образования колбасных ядов. Он полагал, что эти сведения могут помочь в какой-то степени понять случай с пищевым отравлением в больнице.
Когда, наконец, вечером он оказался в библиотеке, выяснилось: нужная книга была на руках.
Огорченный и погруженный в размышления, не замечая никого, Жуков направился к выходу. Он не обратил внимания на белокурую девушку, которая, кажется, поздоровалась с ним и остановилась, очевидно, в надежде, что и он остановится.
— Извините, пожалуйста... — донеслось до него сзади.
Александр медленно обернулся.
— Извините еще раз... — пролепетала блондинка. — Я, кажется, не ошибаюсь... ведь это вы были тогда... на лыжах?
И оттого, что на сумрачном лице молодого человека появилась улыбка, сомнение ее исчезло.
— Я тогда не сумела вас поблагодарить за помощь... Я очень вам признательна...
Он уже не вникал в ее слова, а тонул в ее больших голубых глазах, обрамленных длинными темными ресницами, которые излучали проникающее в душу тепло.
Когда она кончила говорить, Александр не нашелся, что ей сказать.
— А катаетесь вы на лыжах великолепно. Я всегда мечтала научиться, но, видимо, бестолковая...
Девушка сказала, что ей частенько приходится бывать в библиотеке и она предпочитает ходить по субботам...
«Приду тоже как-нибудь в субботу», — решил Жуков и посмотрел на часы.
— Я вас задерживаю, да? О, извините...
— Ничего, ничего, — махнул рукой он. — Всего вам доброго. — И Жуков решительно направился к выходу.
В воскресенье Жуков и Закиров решили отдохнуть за городом.
— Ты бы пригласил Элеонору, — предложил Александр другу. — Подходящий случай...
Ильдар позвонил ей.
— Это Эдик? — спросил женский голос на другом конце провода.
Ильдар насторожился. Пауза. Он понял — ответила ему Элина сестра.
— Позовите, пожалуйста, Элю.
Трубка замолчала.
— Да, Эдуард, я слушаю, — донесся ласковый голом Эли.
Поначалу Ильдар хотел было повесить трубку, но том передумал.
— Добрый день, Эля, — глухо отозвался Закиров.
Молчание.
— А-а, это ты. Ильдар! — как-то растерянно проговорила она. — Как твои дела?
Он ответил неопределенно и тут же предложил съездить за город.
Она отказалась, сославшись на чрезмерную занятость.
Закиров медленно положил трубку. В голове закружился вопрос: «Кто такой Эдик?» Где-то в закоулках мозга мелькнула, как искра, мысль: «А может, это Треньков?» Но тут же она и погасла: «Этого не может быть. Разве она будет с таким охламоном общаться? Исключается».
На душе было противно — словно червь, шевелилась тревога. Ноги подкашивались, как после изнурительной болезни. Ехать за город расхотелось. Он повернулся и посмотрел на Александра.
— Кажется, терплю крушение. Какой-то Эдуард появился...
— А может, у нее просто какие-то деловые, или, как их называют, служебные отношения?
Ильдар пожал плечами.
— Скорее всего, деловые, — пытался успокоить его Александр. — Эля девушка серьезная.
Они поехали на Лебяжье озеро около полудни. Солнце, казалось, стояло без движения и старалось за один день отдать все свое накопленное за год тепло. От жары не спасало и легкое дуновение ветерка.
Загорали молча.
Наконец Закиров нарушил молчание:
— Саш, как ты думаешь, любовь — это психическая болезнь?
Тот немного помолчал и, не поворачивая головы, сказал:
— Глядя на тебя — определенно. Правда, эта болезнь действует больше на твое физическое состояние — становишься тряпкой. Ну, а вообще, — добавил он, поворачиваясь к нему, — неразделенная любовь — это, несомненно, тяжкое страдание: человек мучается, не спит, проклинает себя и другого, плачет, ненавидит и ничего не может сделать. И так каждый день. А сказанное, между прочим, из области психики. Как, не возражаешь?
— Н-да... Нарисовал ты мне, однако ж, радужную перспективу...
— Все будет у тебя нормально, старина, — сказал Александр без особой уверенности. — Успокойся. Возьми, наконец, себя в руки, — решительно велел он своему приятелю и улегся на спину, закрыв глаза.
Домой отправились вечером.
Глава XVII
В понедельник Закирова и Жукова ждали две новости. Была перехвачена шифровка. Зачитал ее сам Нурбанов.
Мефодию.
Переданные сведения разрознены, и нельзя определить технические данные изделия. Активизируйте Розу. После создания букета роз Космача убрать. Рация выслана. Связь прежняя.
Штольц.
— Принимают обычным радиоприемником. Работают на коротких волнах в диапазоне 41 метр, — пояснил полковник. — А обратная связь здешней агентуры известна вам по предыдущей шифровке. Вот так-то. Мы с вами, пока что, выполняем роль статистов.
Нурбанов нервно заходил по комнате.
— Космачу мы показали эту бумажку, — он еще раз взглянул на радиограмму. — Она ему не понравилась. — Полковник устало улыбнулся. — Точнее, его прежние друзья. И он выдал на-гора одну любопытную деталь. Вернее, две. Во-первых, он скрыл, что его уговаривали воздействовать на свою сестру, дабы она начала взаимовыгодный обмен: информация — деньги. Он пообещал. Именно на это обстоятельство он и надеялся, что его пока не уберут. А отсюда следует: Роза, о которой упоминалось в ранее перехваченной шифровке, это не его сестра. А другая. Это подтверждается и текстом радиограммы, а именно словами: «После создания букета роз». Значит, привлекая вторую Розу, они рассчитывали составить своеобразный букет. Тогда Космач становится ненужным. К его сестре уже будет проторена дорожка.
Полковник внимательно взглянул на присутствующих.
— Ну, и вторая деталь: Космач сказал, что смастерил два ключа. Первый он передал за два дня до нашего к нему визита.
Закиров удивленно посмотрел на своего начальника.
— Преступник, как оказалось, обладает незаурядной памятью: он в деталях изобразил на бумаге изготовленный им ключ. Потом ему предъявили связку ключей — те самые, которые старший лейтенант Закиров уже держал в руках, будучи на заводе. И Фролов, представьте себе, и тут же отыскал тот ключ, копию которого он изготовил для Муратова. Чтобы убедиться, не ошибается ли он, поставили ключ и эскиз, нарисованный им, — совпадение полное.
— И от какого же сейфа оказался этот ключ? — не выдержал Закиров.
Полковник сказал, что это ключ от одного из сейфов конструкторского бюро, где работает Роза Зеленская.
И, уже обращаясь к Закирову и Жукову, сказал шутливо:
— Вот, товарищи, я вам доложил, какую мы работу выполнили за воскресенье, пока вы изволили сладко почивать да телеса на солнышке греть. Мы вас хотели вызвать, а вы — как ветер в мае...
Жуков поставил Нурбанова в известность, что сегодня выходит из больницы Метелева. До выяснения всей ситуации он предлагал кого-то поселить в ее квартире.
Полковник, немного подумав, ответил:
— Не нравится мне вся эта история. Пожалуй, вы правы — надо поставить охрану. Правда, с людьми очень трудно: разрываемся на части. — Но тут же отдал необходимые распоряжения.
Жуков в тот день занялся жильцами дома, где проживала Метелева. Начал с ее допроса, но ничего нового не установил. Вернулся к себе в отдел в конце рабочего дня: нужно было получить командировочные документы — завтра, во вторник, выезжал в Магнитогорск.
Поглощенный своими бумагами, Жуков на стук в дверь привычно, не поднимая головы, подал голос:
— Да-да. Входите.
— Можно? — послышался знакомый женский голос. — Вы не скажете, где сейчас капи...
Жуков поднял голову и замер от удивления. А заглянувшая девушка осеклась и замолчала.
— Вы?! — удивилась она. — Как вы здесь оказались?.. Разве вы?..
Александр опомнился:
— Пожалуйста, проходите, присаживайтесь.
— Спасибо, — ответила девушка. — Но мне нужен капитан Назмутдинов. Кабинет его закрыт, а мне сказали, что он где-то здесь...
— Вы подождите... он придет...
Незнакомка присела.
— Странно как-то все... — сказала она, о чем-то думая.
Александр смотрел на нее и как-то по-детски улыбался.
Она повернула лицо к раскрытому окну, к которому тянулись чуть тронутые пылью ветки ясеня.
— Значит, вы здесь работаете?.. Следователем?..
Александр утвердительно кивнул головой.
— А я судмедэксперт. Вот принесла свое заключение капитану Назмутдинову. — Она кокетливо повернулась к нему. — А ваша фамилия, товарищ Жуков, между прочим, мне известна.
— Вот как? Не знал... Откуда ж?
— А разве вы не получали судебно-медицинских заключений, которые проводила Галахова Галина Ивановна?
— Ах, да!.. А разве вы и есть та самая Галахова?
— Та самая! — улыбнулась очаровательная блондинка.
— А меня зовут Александр. Ну, а все остальное знаете.
— Не знаю, таинственный молодой человек. Встречаемся с вами в третий раз, а вот знаю только, что вы следователь Александр Жуков. И все.
Жуков смотрел в ее красивые голубые глаза и не мог оторваться. На ее щеках неожиданно выступил румянец. И Галина заторопилась:
— Наверное, уже Назмутдинов пришел? — Она поднялась и в нерешительности остановилась. — А вы, Александр, смелый человек и с достоинством. Такие... — Она хотела сказать: «нравятся женщинам», но вместо этого выдавила из себя: — Такие запоминаются...
— Куда же вы? — подался вперед Жуков. — Пожалуйста, я очень вас прошу, еще минуточку побудьте здесь, — прорвало
его. И, видя, что девушка заколебалась, добавил: — Ну, пожалуйста. Я... мне хочется с вами поговорить...
— Что вы обо мне подумаете? Ведь я к вам ворвалась... Можно подумать все что угодно.
Он подошел к ней и тихо спросил:
— Вы сейчас не спешите?.. Вернее, когда закончите здесь дела?..
— Нет, не спешу.
— Позвольте, я вас подожду на улице, у входа? Я провожу вас.
Девушка пожала плечами и вышла. Из коридора донесся звук закрываемой двери. «Назмутдинов пришел», — отметил про себя Александр и поспешно начал собираться. Позвонил Закирову, но того не было на месте.
Ему не пришлось ее ждать долго. Она осторожно прикрыла за собой дверь и легко спорхнула с лестницы. Чувствовалось: настроение у нее было приподнятое.
— И куда же мы идем? — непринужденно поинтересовалась она.
— Пойдемте на Волгу, — предложил Александр. — Люблю смотреть на пароходы и баржи.
— Надо же, какое совпадение! — она взглянула на него, точно видела первый раз. — Я тоже к этому занятию неравнодушна. Во время летних сессий в институте бегала учить на бережок...
— А вы, Галя, здесь учились?
Она покачала головой:
— В Ярославле.
— То-то я вас раньше не видал, — улыбнулся Александр. — Иначе бы уже давно был с вами знаком. Непременно встретились бы на берегу Волги.
Незаметно для себя они добрались до волжских причалов и присели на скамеечку в тенистой аллее.
Было тепло и безветренно. Красноватое солнце, словно перегревшееся и уставшее от дневной работы, клонилось к горизонту. Окна стоявших на причале пароходов, отражая солнечные лучи, горели ярко-оранжевыми фонарями.
— Я вот, когда смотрю на пароходы, — задумчиво начала Галина, — всегда думаю: каких только людей не перевозили эти трудяги за свой долгий век! Какие только города не повидали! И все берега — их изгибы и крутизна — им, наверное, хорошо знакомы на всем протяжении великой реки. А ведь берега после весенних половодий и паводков очень изменяются: вода подмывает и проглатывает их растительность. Нависающие над рекой леса безропотно платят частицей своей жизни установленную суровой природой дань: отдают реке сосны, ели, березы, кустарники... Деревья, которые лес отдает в жертву, тихо умирают, без обиды — воспринимают гибель как должное, как рок судьбы. И перед тем, как умереть, высохнуть навсегда, они кланяются реке и просят, чтобы вода приняла их ставшие почти бесчувственными тела, чтобы в воде еще немножко продлить свою жизнь. И все это, наверное, видят пароходы. И этот пароход «Писемский», — она кивнула на стоявшее у причала судно, — тоже на своем веку немало повидал. — Она посмотрела на внимательно слушавшего Александра: — Правда?
Он улыбнулся:
— Правда.
— Я что-нибудь не то говорю? — засомневалась она, глядя ему в глаза.
— Да нет. Наоборот. Очень интересно. Мне даже показалось, что вы и стихи пишете.
— В юности кто не пишет? — уклонилась она от ответа.
Помолчали.
— А у меня ассоциации, когда я вижу деревья на косогорах, немножко иные. В молодости...
Он не заметил, как его собеседница улыбнулась.
— ...мне казалось, что эти деревья ночью бегали к воде, чтобы поблаженствовать, но слишком увлеклись и не заметили, как пришел рассвет. Выскочили из воды и замерли тут же, у берега, чтобы никто не заметил их ночных шалостей.
— Простите, а сколько вам лет, раз о молодости вы говорите, как о далеком прошлом?
— Прожил больше четверти века.
— Подумать только! — покачивая головой, усмехнулась девушка. — Предпенсионный возраст.
— А что? Как только человек начал работать, он уже в предпенсионном возрасте! — весело подхватил Александр. — Другое дело: сколько лет заключено в этом «пред».
— А мне двадцать три, — сказала она просто. — Раньше казалось, что это очень много.
— Верно-верно! — поддержал ее Александр. — Когда мне было семнадцать, то двадцатипятилетние казались взрослыми мужчинами. А тридцатилетние вроде как уж доживали век. Теперь вот двадцать шесть, а кажется: только что начал жить и все впереди. А что изменится через четыре года? Ничего. То же самое и через десять лет. Короче говоря, с возрастом свой возраст молодеет. Такова человеческая психология.
Скованность прошла, заговорили о театре и кино. Потом спорили о роли женщины и мужчины в обществе. Свое суждение о роли мужчины в обществе Жуков свел к его долгу перед государством и семьей.
— Есть у меня друг детства, — сказал он, — Закиров Ильдар. Так вот, мы как-то с ним тоже дискутировали на этот счет. В конце концов мы пришли к одному знаменателю.
— Это очень интересно! — весело произнесла Галина, повернувшись к нему вполоборота. — Так что же в ней, в этой формуле, значится?
Александр устремил взгляд куда-то вдаль, насупил брови и сказал:
— Только прошу вас не смеяться, ладно?
— Нет-нет. Зачем же?
— Мужчина рождается в долгах: два из которых вечны — перед отчизной и матерью. И только смерть снимает их с мужчин. Два других долга — продлить свой род и достичь в труде успехов — мужчины погашать должны всегда.
Жуков посмотрел на нее, она сидела с серьезным видом. И он с веселыми нотками в голосе продолжил:
— Ну, два последних долга — это кому как повезет... — И выразительно посмотрел на девушку. — Я имею в виду продолжение рода...
— Почему ж, это мужчине сделать намного легче, чем женщине.
— Не знаю... жениться по любви — трудная штука... Мужчина ведь тоже не жердь с глазами... А с возрастом и у него избираемость уменьшается по геометрической прогрессии... Чем выше интеллект, тем труднее жениться, и наоборот.
— Вы хотите сказать, что вам очень трудно жениться? — Галина лукаво посмотрела на него.
Александр понял ее подковырку и с оживлением в голосе произнес:
— Я вовсе, Галя, не хочу сказать, что я страдаю от интеллектуального избытка. И не напрашиваюсь на комплимент, не хочу себя расхваливать...
— Любят, любят мужчины похвастаться — хлебом их не корми! — подзадоривала она. — Понимают они, что женщина многое может простить мужчине, только не тупость.
Жуков не стал оправдываться и постарался перевести разговор в прежнее русло:
— Я ведь говорил о семье и о любви...
Пароход «Писемский» тем временем начал отшвартовываться от пристани, послышался скрежет, тяжелое шлепанье колес, напутственные крики провожавших. На мачте зажегся огонек. Отплыв от берега, пароход дал короткий густой прощальный гудок.
Галина задумчиво сказала:
— Счастливые. Едут отдыхать куда-то. — Она вздохнула. — Так вы, Александр, говорили что-то о любви...
Он промолчал. Казалось, все его внимание было занято пароходом, который оставлял за собой расходящиеся волны.
— Говорить о любви нелегко... — замялся он. — Особенно с вами...
— Это почему же? — усмехнулась она. — Вы думаете, я не в состоянии понять?
«Что это: приглашение к откровенному разговору или она просто смеется? Нужно, пожалуй, не торопиться, а то попадешь еще впросак. Кавалерийская атака здесь не годится», — сказал он себе и неожиданно взял ее руку. Рука была прохладная.
— Вы не замерзли? — Он, словно проснувшись, огляделся по сторонам и посмотрел на небо.
— Нет, — тихо ответила девушка.
Солнце уже село. Наступали сумерки. От воды веяло прохладой. Он снял пиджак и, несмотря на протест Галины, накинул ей на плечи.
— Признаюсь вам, я еще никого не любил и силу, степень воздействия любви на человека знаю, в основном, по книгам.
— Неужели? — с любопытством взглянула она на него. — А вы вполне сгодились бы на роль искусителя: в вас много достоинств. — Она мягко улыбнулась. — А вообще, — начала Галина серьезно, — свои чувства к мужчине я соизмеряю так: мысленно прикидываю, хотела бы закрыть его телом от пули или нет. — Она бросила на него короткий взгляд и задумчиво добавила: — Тогда уж знаешь, любишь или нет.
Александр улыбнулся и, посматривая на девушку, проговорил:
— Однако ж суровым испытаниям вы себя подвергаете! И часто вы себя ставили под пули?
Она не обиделась и в тон ему шутливо произнесла:
— Был такой случай, да все прошло...
«Она свободна!» Дыхание сдавило. Кровь прилила к голове. Он выпалил:
— А я вот сейчас бы за вас встал к стенке!
— Это вы серьезно? — привстала девушка.
— Правда-правда! — проникновенно проговорил он.
— Как же так? Мы ведь по существу встречаемся первый раз.
Он отрицательно покачал головой:
— Третий. Тогда, при первой встрече, — хрипло заговорил Александр, — вы поразили меня. С тех пор я не могу вас забыть.
— А может, вам кажется? Я ведь обыкновенная.
— Нет. Вы для меня не обыкновенная. Мне даже не верится, Галя, что вы сейчас со мной. Это, наверное, прекрасный сон. Я и мечтать об этом не мог. Не мог, слышите, Галя, милая! — Он прижал ее к груди.
На темном небе крупными светлячками высыпали звезды. Но луна запаздывала, затерялась где-то в тучах, медленно наплывавших с левой стороны неба. Подул слабый ветерок — донесся запах воды.
— Ой! — слабо воскликнула Галина, — уже ночь. Надо идти.
Они встали.
Так прошел понедельник — день тяжелый, но столь счастливый для Александра Жукова.
Наступил вторник. Жуков уезжал в командировку. Поезд уходил в семь утра, но Галина Галахова пришла провожать. Когда объявили, что поезд отправляется, он привлек ее к себе и крепко поцеловал.
— Я люблю вас, Галя! — с дрожью в голосе сказал Александр.
— Идите, Саша, идите. Уже пора. Я буду ждать вас, — проговорила она проникающей в сердце скороговоркой.
Он долго стоял у раскрытого окна и смотрел, пока она не слилась с разноцветной толпой и не скрылись из виду привокзальные строения. А губы шептали слова любимого поэта:
А я не все тебе сказал,
А я не так с тобой простился.
Не так. Не то. Я был не тот,
Не так я губ твоих коснулся.
И я б назад еще вернулся,
Но поезд движется вперед.
Глава XVIII
Воскресный июльский день для лейтенанта Матыгулина оказался обычным рабочим — дежурил на улице Чехова у дома, где проживала чертежница конструкторского бюро завода Роза Зеленская.
Страстная охотница до больших и малых «сабантуев», она вдруг охладела к ним, повела размеренный образ жизни: работа — дом — работа. Контрразведчикам было не ясно, чем вызвана такая перемена. Может, ее поведением кто-то руководит? Если бы за ее спиной стоял Варев, он действовал бы осмотрительней. Это очень опытный агент. Кто же тогда? И стоит ли вообще? Может быть, Зеленская здесь ни при чём?
Ответ на эти вопросы должно было дать наблюдение. И вот теперь Тагир Матыгулин парился в засаде. Правда, его спасали деревья школьного сада: оттуда, через щель в заборе, присматривал он за подъездом дома. Высокая пахучая трава скрывала его от любопытных глаз. Надсадно гудели пчелы — недалеко виднелся улей школьных юннатов. Стрекотали кузнечики. Лейтенант, лениво отмахиваясь от надоедливых мух, беспокойно посматривал на темный квадрат двери — там в любое время могла появиться Зеленская.
Она появилась около 17-00. Быстро, не глядя по сторонам, направилась в сторону рынка. Села в трамвай и, доехав до центра, вошла в ресторан.
«Вот те на! — усмехнулся Матыгулин. — Пост у ней, однако, недолго длился». Минут через пять, примкнув к веселой ватаге, появился в зале и он.
Зеленская сидела в самом углу спиной к входу. Лейтенант осмотрелся. Народу было еще немного. Косые лучи солнца, легко проникая через тюлевые занавески, неприятно слепили глаза. Дежурный по залу аккуратно зашторил окна, и сразу же в помещении наступил вечер. Зажглись неяркие светильники. Стала лучше восприниматься скрипка, исполнявшая «Цыганские напевы» Сарасате.
Матыгулин не видел лица Зеленской. «Неужели пришла просто отдохнуть? А может, это отвлекающий ход?» — гадал он.
Он сидел и медленно жевал бутерброд. «А что, если...». — Лейтенант поспешно встал. Расплатился с официантом и зашагал к выходу. Позвонил в отдел, сообщил, где находится Роза, попросил прислать кого-нибудь вместо себя. Сказал, что много народу, и все он объяснит потом.
Лейтенант побежал назад, к трамваю. Через четверть часа был у знакомого дома на Чехова, вошел в подъезд. Медленно поднимаясь, осматривал подъезд и лестницу, прикидывая, где можно спрятать вещь, размером со швейную катушку. Причем так спрятать, чтобы никто об этой тайнике не мог догадаться, но вместе с тем легко было бы изъять спрятанную вещь.
Тагир поднялся до пятого этажа, хотя Роза жила на втором, но ничего подозрительного не заметил.
Снизу послышались неторопливые шаги. Матыгулин решил еще разок обследовать лестницу, но при постороннем этого не хотел делать и стал ждать, пока человек пройдет.
Внизу, по всему чувствовалось, не спешили. Лейтенант посмотрел в лестничный проем, то был почтальон, разносил вечернюю почту. Старик часто останавливался, переводил дыхание и, посматривая наверх, двигался дальше.
«Ни к чему лишний раз мозолить глаза», — решил Матыгулин и отошел к стене.
Почтальон допыхтел до четвертого этажа и повернул назад.
«Чего это он?», — не понял лейтенант, на всякий случай решив присмотреть за стариком.
Тагир снова глянул вниз. Старик, не останавливаясь, спускался по лестнице. Осторожно ступая, лейтенант двинулся следом, не выпуская его из виду. На третьем этаже почтальон бросил в почтовый ящик, прикрепленный к двери, письмо и, не оглядываясь, начал спускаться дальше. «Видимо, действительно лишний этаж прихватил», — подумал Матыгулин, уже по инерции двигаясь за стариком.
Но вот почтальон остановился у квартиры Зеленской, не торопясь, достал открытку, посмотрел по сторонам, потом левой рукой быстро вытащил из бокового кармана тонкую металлическую линейку и сунул ее между дверью и почтовым ящиком. Оттуда вылез наполовину конверт. Почтальон с быстротой фокусника спрятал линейку, бросил свою открытку в почтовый ящик, сунул коричневый конверт в сумку, зыркнул вниз-вверх глазами — контрразведчик успел отпрянуть к стене — и зашлепал по каменным ступенькам вниз.
«Вот, товарищ лейтенант, и разгадка! — с удивлением сказал себе Тагир, на мгновение оторопев. — А конверт-то под цвет двери. Старик, выходит, проверял, а вовсе не по ошибке заполз на этаж выше», — мелькали у него обрывки мыслей.
Велико было желание догнать почтальона, отобрать коричневый конверт, а самого арестовать. Но он понимал — этого нельзя делать: снова оборвется конец нитки, с таким трудом найденный в этом проклятом запутанном клубке.
Почтальон направился к соседнему дому. Не выпуская его из виду, Матыгулин зашел в телефонную будку и, пока старик разносил почту в соседнем доме, доложил дежурному офицеру ситуацию.
Уже через час кое-что прояснилось. Не далее, как три недели назад почтальон Шугаев уволился из ЖЭКа № 14, где работал дворником. К участку его уборки относился и двор дома, где проживал конструктор Ахматов.
«Так вот где собака зарыта! — сделал открытие майор Галямов, приехавший в почтовое отделение, чтобы познакомиться с личным делом новоиспеченного почтальона. — Дворник — фигура неприметная, потому были уверены: интересоваться очень-то им не будем. А ведь он, именно он, сообщил о том, где находятся члены семьи конструктора Ахматова. Иначе Варев с Космачом так шустро не смогли бы орудовать, — размышлял майор, читая автобиографию почтальона Шугаева Шавката. — Потом решили перебросить его сюда, пользуясь нехваткой почтальонов. Все верно».
А еще через час телеграф отстучал запрос на Шугаева.
Весьма срочно.
Начальнику НКВД г. Оренбурга.
Прошу Вас сообщить данные о Шугаеве Шавкате, уроженце Г. Оренбурга, 1881 года рождения, работавшего с 1902 года по 1916 год путевым обходчиком на железнодорожной станции Оренбурга.
Нарком НКВД З. Рахматуллин
...В конструкторском отделе предприятия царила непривычная тишина — был выходной день. Но время от времени тишину большой светлой комнаты прерывало хлопанье ящиков, шаги, шелест бумаги. Закиров со своими помощниками осматривал рабочие места чертежницы Зеленской и одного из сотрудников конструкторского бюро инженера Чревова. Работали молча.
Закиров выехал на завод, как только контрразведчики вышли на связника Зеленской. На работу вызвали начальники конструкторского бюро, секретаря партбюро и начальника отдела.
Начальник КБ Шугуров, сухощавый моложавый мужчина, сумрачно и непонимающе смотрел на происходящее. Он никак не мог поверить, что Зеленская подозревается в самом страшном, на что способен человек, — шпионаже, измене Родине. Шугуров, конечно же, читал в книгах о таких людях, но они ничем не напоминали безобидную на вид сотрудницу, которая работала рядом в течение нескольких лет.
Шугуров рассказал, когда поинтересовались, с кем Зеленская дружит, о странной общности интересов Розы и инженера Чревова Валентина, человека болезненно мнительного, неуживчивого в коллективе. Эту дружбу начали замечать с весны.
— Инженеру Чревову поручались сложные производственные задания, и он знает очень многое. Как источник информации — ценный кадр, — заключил Шугуров.
Закиров вытащил из ящика стола общую тетрадь, на обложке которой было написано: «Дневник Валентина Чревова за 1940 год».
Закиров полистал странички и нахмурил брови: автор ежедневно писал плаксивым тоном, что некоторые личности откровенно хотят его покусать и что терпение его вот-вот лопнет — он начнет огрызаться.
Шестнадцатое апреля.
Душа моя уже кричит: «Караул! Помоги, Яков Михайлович, заклевали! Шушера заклевала. Тут, в КБ, сгруппировались и распоясались завистники, бездельники, интриганы-наушники, склочники-анонимщики и прочая сволота. Видимо, надо организовать свою команду и сделать все, чтобы насолить этим людишкам. Посоветуй, Яков Михайлович, как быть».
Семнадцатое апрели.
Отослал письмо Якову Михайловичу. В письме развил вчерашние мысли из дневника. На душе просветлело.
Все внимательно смотрели на следователи и ждали, что же еще он огласит из дневника.
Закиров перевернул страничку, пробежал по ней взглядом и продолжил чтение:
Двадцать третье апреля.
Получил письмо от Якова Михайловича. Он написал мне: «Дурак ты, Валька! Два года просидел в КБ и не разнюхал атмосферу в коллективе. Ты должен был, словно опытный синоптик перед ураганом, определить, откуда и куда дует ветер, чтобы не оказаться на его пути и при необходимости с быстротой и проворностью таракана юркнуть в ближайшую щель. И сидя там, нужно шевелить сначала только усами и то лишь в такт общего хора коллектива, а точнее, заправляющей там группировки. А если не успеешь разнюхать климат в коллективе в первые же недели и не успеешь сориентироваться, — наделаешь опрометчивых шагов. А потом потребуются годы, чтобы вписаться в этот коллектив. Для некоторых, вроде тебя, не хватит и их. Каждый будет норовить вытереть о тебя ноги, как о половик. Уметь построить нужные взаимоотношения в коллективе — целая наука, Ты, как видно, в ней ни бельмеса не соображаешь. Запомни: ориентироваться в сложном коллективе не легче, чем в тайге. Опирайся на женщин — часто они являются пружинами всего интеллектуально-производственного механизма — и умей быть полезным. Гонор выбрось в помойное ведро». Пожалуй, восприму совет родственничка — деваться некуда. Навострю-ка я свои лыжи на Розу Зеленскую. С ее помощью можно будет кой-кому дать по мозгам, а некоторых растопят ее лучистые глаза. Через это и мне полегчает.
Закиров положил на стол дневник Чревова и задумчиво произнес:
— Вот, кажется, и разгадка этой дружбы. Только неизвестна пока цена ее.
— Вы считаете, что благосклонность Зеленской этот прохиндей завоевал своей осведомленностью о наших разработках в КБ? — спросил Шугуров.
— Вполне возможно. Чтобы кому-то насолить, Чревов передавал, видимо, соответствующую информацию Зеленской. Ведь он ослеплен в своей обиде на коллектив.
— Вот мерзавец! — не выдержал Шугуров. — Как ведь клевещет на коллектив!
— А мы-то с ним возились сколько! — подхватил секретарь партбюро Смирнов. — Воспитывали, уговаривали, путевочку в санаторий лечить нервную систему... А он нам за все хорошее чем отплатил?! Ну и ну... — покачал он головой.
С завода Закиров ушел, когда солнце клонилось к горизонту. Длинные тени, падавшие от строений и деревьев, уже предвещали близкие сумерки. Низко над землей метались с щебетанием ласточки.
«Домой чего-то неохота, — подумал Закиров. — Надо поговорить с Элей». Позвонить или поехать прямо к ней? Решил ехать. Будь что будет.
Когда громыхающий, запыленный трамвай остановился недалеко от Элиного дома, Закиров заколебался: сойти или нет? И тут он увидел на остановке Элеонору. Ильдар заспешил к выходу.
Она удивилась, увидев его. Ильдару показалось, что она как-то даже растерялась.
Они поздоровались.
— Какими судьбами в наши края? — поинтересовалась Бабанина. — Надеюсь, не служба?..
— Да нет, не служба... — неторопливо ответил он, не решаясь сказать, что ехал к ней.
И вдруг она спросила:
— Скажи, как ты относишься к Эдуарду?
— К Тренькову, что ли?
— Да, к нему.
Он пожал плечами, а про себя подумал: «Причем тут Треньков?.. Так, значит, это он названивает ей...» — похолодело у него внутри.
— Правда, ведь, он необычный? — спросила Элеонора.
Ильдар ничего не ответил, только бездумно кивнул головой.
— На нем, говорят, весь отдел держится?
Он все понял. И то, кого она здесь ждет. Но ему не хотелось верить.
— Уже не держится, — еле разжал он губы. — Он больше не работает у нас.
— Как не работает? — удивилась Элеонора. И уже с беспокойством: — Его ранили? Убили? Ты об этом приехал мне сказать?
— Жив-здоров он. Треньков сам, надеюсь, все расскажет тебе.
Вдали послышался шум — приближался трамвай. Бабанина взглянула в ту сторону и нервно заговорила:
— Понимаешь, Ильдар. Я любила одного человека. И эти чувства еще крепко сидят во мне. Чтобы забыть все, что было, нужно время или необходим другой необычный человек. Я не знаю, каким он должен быть. Но, видимо, умным, красивым. Чтобы он смог заполнить образовавшуюся пустоту, чтобы я испытала... чтобы ко мне снова пришло счастье...
Она не успела договорить — последние слова утонули в скрежете тормозов трамвая.
Закиров выжидательно смотрел на нее.
— И вот встретился Эдуард. Мне показалось — это он. Мне хочется верить в это! Ты понимаешь?! И не обижайся на меня. В общем, извини... — Она виновато улыбнулась. — А знаешь, от тебя без ума моя подруга Фарида...
Кто-то грубо подтолкнул в спину, над ухом раздался громкий голос Тренькова:
— Кончилось твое время, Закиров! Гуляй давай, гуляй! — подвинул его плечом Треньков, стараясь встать между ними.
Он повернулся к Ильдару и дохнул на него спиртным перегаром:
— Слушай, не путайся больше под ногами у нас...
— Ну зачем же так, Эдуард? — слабо запротестовала Эля.
При виде наглого, самодовольного Тренькова Закирову нестерпимо захотелось ударить его. Но усилием воли он подавил это желание.
Треньков тут же попытался все свести к грубой шутке:
— Во, народ пошел горячий! Плюнь в морду — шипит. А где выдержанность, товарищ коллега?!
— Бывший коллега! — отрезал Ильдар.
Треньков замялся, но тут же попытался перевести разговор на другое:
— Тебя твои дети ждут, а ты тут прохлаждаешься. — И повернулся к Эле, чтобы уйти.
— Они не мои. Они подшефные. Сейчас они на каникулах. А вот твой сын — это уж наверняка — ждет тебя дома.
Треньков на миг замер, медленно повернулся к Закирову с перекошенным от злобы лицом и чуть слышно процедил сквозь зубы:
— Скотина!
— Твое счастье, что мы здесь не одни, — ответил Закиров, еле сдерживая нахлынувшую ярость. А где-то в глубине сознания пронеслось: «Значит, скрывал, что женат, и я оказался чем-то вроде ябедника. Ну и черт с ним! Я же люблю Элю, и судьба ее мне небезразлична».
Видя, что мужчины готовы сцепиться, обескураженная Элеонора шагнула к ним:
— Вы что?! С ума сошли?! — Повернувшись к Тренькову, она спросила сдавленным упавшим голосом: — Значит, вы, Эдуард, женаты? И у вас ребенок?..
— Но... я... мы... сейчас в суде бракоразводный процесс начинаем... — не нашел ничего другого сказать Треньков.
— Зачем же нужно было лгать?! — Эля закрыла лицо руками. — Господи! Какая грязь! — И она пошла прочь.
Эдуард бросился за ней:
— Эля! Я объясню вам! Вы все поймете! Вы мне очень дороги. Я до вас никогда никого...
Она замедлила шаг и бросила:
— Оставьте меня! Я не желаю вас больше знать!
Ильдар смотрел ей вслед, и ему не верилось, что все, о чем мечтал многие годы, рухнуло так неожиданно. Он понимал: она уходит навсегда не только от Эдуарда, но и от него...
Глава XIX
С тех пор, как Мария Петровна Метелева выписалась из больницы, у нее поселился другой квартирант — лейтенант Измайлов. Обосновался он в той самой комнате, где до недавнего времени проживал скоропостижно умерший снабженец. Мария Петровна тепло вспоминала о нем. Говорила, что с хорошими людьми эдак чаще всего случается.
Хозяйка редко выходила из своей комнаты, на улице почти не бывала: чувствовала себя еще плохо. За больной ухаживала ее сестра.
В последнее время Марию Петровну начала беспокоить бессонница. Сегодня с необычайной силой нахлынули воспоминания о погибшем сыне. Горестные думы так поглотили старушку, что она не слышала, как выходил в коридор из соседней комнаты Измайлов, чтобы проверить дверные запоры, его приглушенного покашливания. Не слышала, как хлопотала на кухне ее сестра.
Наконец все угомонились. В коридоре поселилась вкрадчивая тишина.
За стеной, у соседа, часы пробили два ночи. Мария Петровна закрыла глаза, но сон не шел. Правда, настольную лампу она не выключила. В комнате царил полумрак. Она спала при свете. Сон, в конце концов, начал притуплять душевную боль. Сколько прошло времени, как заснула, она не знала. Проснулась от короткого звука. Ей показалось, что кто-то хотел постучать в дверь (дверь она запирала с внутренней стороны, по совету Измайлова), но передумал.
Послышался шорох. Она взглянула на дверь и оцепенела: белая рука, извиваясь как змея, медленно втягивалась в щель между дверью и косяком. Метелева изумилась: каким же образом открыли дверь, если в замочной скважине она оставила ключ? Когда чья-то рука, украшенная большим бриллиантовым перстнем, нащупала дверную цепочку, страх, как лютый холод, сковал ее тело и мозг. Она не могла ни крикнуть, ни постучать в стенку, как ей наказывал лейтенант Измайлов.
Метелева смотрела на эту руку, как загипнотизированная, и ждала: вот-вот цепочка, не позволяющая полностью открыть дверь, будет снята. Вывел ее из этого жуткого состояния зловещий кровавый отблеск, упавший от перстня. Затуманенное сознание молнией прорезало мысль: «Это ж перстень умершего квартиранта Постнова! И рука его!»
Дикий вопль разорвал густую тишину:
— А-а-а!!! Помогите-е!!!
Обезумевшая от страха, с растрепанными волосами женщина кинулась к окну, рванула створку рамы, но шпингалеты крепко ее держали. Она ударила руками по окну: посыпались стекла.
Тут Метелева вспомнила об Измайлове.
В тот миг, когда она метнулась от окна к стене, в коридоре гулко ухнули выстрелы. Мария Петровна не знала, что через дверь стреляли в нее. Она из последних сил забарабанила окровавленными руками о стену, за которой находился Измайлов.
Услышав крик, Измайлов кинулся к двери, откинул крючок, но дверь не открылась! Кто-то замкнул ее с той стороны. Изо всех сил рванул дверь на себя — безрезультатно. Выхватил из кармана «ТТ» и выстрелил в петлю двери. В коридоре начали стрелять — контрразведчик отпрянул к стене. Сквозь грохот пальбы послышался стук в стенку.
Измайлов выстрелил в другую дверную петлю, просунул пальцы в щель поверх двери и с силой потянул на себя. Дверь отошла от косяка, посыпались шурупы: пули с «мясом» вырвали из тонкой филенчатой двери половинки петель.
И тут до лейтенанта донеслось, как хлопнула коридорная дверь. Он выскочил в коридор, вмиг очутился у двери, пулей вылетел на лестничную площадку, огляделся и понесся вниз, как расшалившийся не в меру школьник, не разбирая ступенек.
Измайлов нырнул в уличную темень. Встал, переводя дыхание. Слышны были лишь слабые порывы ветра да шелест листьев выстроившихся в ряд берез. Черная ширма ночи надежно скрывали от глаз все окружающее. Он бросился к ближайшему углу дома, выбежал на дорогу. Однако пустынная улица заставила его тотчас же вернуться назад.
Прибывшая оперативная группа с собакой многое проясняла. Установили: неизвестный проник в квартиру, используя дубликаты ключей. А дверная цепочка оказалась каким-то образом снятой. Контрразведчики гадали: откуда же враг узнал, что в квартире находится посторонний человек.
Лейтенант Зарипов высказал догадку: «Когда я вошел в эту квартиру — почувствовал, что кто-то из жильцов — курильщик. Табачный дым стоек — некурящий может учуять его и через сутки. Ну, а поскольку здесь живут женщины, вывод сделать нетрудно».
Собака взяла след. К изумлению Измайлова, проводник с собакой направился вверх по лестнице.
«Выходит, когда я, как ошалелый, несся вниз, преступник с усмешкой смотрел мне в затылок?» — с горечью подумал Измайлов.
Следы вели к люку на чердак. Он оказался открытым, хотя накануне — Измайлов проверял — там висел увесистый замок. На пыльном чердаке обнаружили следы. Майор Стеклов присел на корточки, смерил след линейкой и недоверчиво присвистнул:
— Тридцать седьмой размер. Похоже, женщина!.. Что-то не то. Может, это старый след? — Он посмотрел на проводника.
Тот решительно покачал головой:
— Свежий, товарищ майор. Иначе бы Тобик не взял его.
След привел к слуховому окну. Выбрались на крышу. По ней перешли на другой дом. Следы привели к пожарной лестнице. Собака уверенно взяла след, вывела в переулок и закрутилась на месте. На песке виднелись четкие отпечатки тех же женских ног, которые были обнаружены на чердаке соседнего дома.
— На машине, видно, отъехала, — высказал предположение проводник, показывая на след автомобиля.
Теперь уже ни у кого не было сомнений: ночью в гости к Метелевой приходила женщина.
— Почему же она хотела убить Метелеву? — спросил Галямов, сидя напротив полковника Нурбанова.
— Не будем гадать, Марс Ахметович, — ответил тот. — Допросим вот Метелеву — многое прояснится. Но одно, по-моему, сейчас ясно: отравление в больнице отнюдь не случайно. Кто-то упорно, с большим риском для себя пытается убрать эту бедную женщину. Видимо, она знает нечто такое, что кого-то страшит.
— Всего скорее, этим неизвестным является ее бывший квартирант, — предположил Галямов.
— Пожалуй, что так... Поездка Жукова в Магнитогорск тоже кое-что прояснит.
Около девяти утра прибыл Стеклов. И уже с порога:
— Любопытные вещи творятся на этом свете! — Он поочередно за руку поздоровался с Нурбановым, Галямовым и присел на краешек стула. Достал из папки исписанные листки и продолжил: — Вот протокол допроса потерпевшей.
— Как ее самочувствие? Не нужно ли чем-нибудь помочь? — спросил Нурбанов.
— Чувствует сносно. Поранила руки изрядно. Устроили мы ее в отдельную палату...
Майор положил на стол перед Нурбановым бумаги и кратко пояснил, что перстень, который Метелева видела нынешней ночью на таинственной руке, принадлежит ее бывшему постояльцу Постнову. Она как-то без стука вошла в комнату квартиранта, а он в это время переодевался. Постнов схватил лежавшие на стуле брюки и прижал их к груди. Из брюк выпал перстень с большим камнем с красными прожилками. Метелева поспешно вышла из комнаты. А раньше она видела у Постнова большое родимое пятно на левой руке. Вот по этим приметам она и признала — вроде как ожил покойник-то.
— Она раньше не замечала, какую обувь носит Постнов? — оторвался от бумаг подполковник.
— Нет, не замечала. Это отражено в протоколе допроса.
— Я вот о чем думаю, — заметил Стеклов, — не тот ли это перстень, что носил атаман Мефодий? Ведь в Гурьеве мой старший товарищ рассказывал о неком большом бриллиантовом перстне с огненно-красным отблеском, в котором якобы заключена большая тайна.
— Такие перстни — редкость, — подчеркнул Галямов. — Будучи следователем, мне много приходилось заниматься делами, связанными с драгоценностями, но я никогда не видел подобных ювелирных изделий. На этот счет я переговорю со специалистами.
— Такая справка нам не будет излишней, — поддержал его Нурбанов. — Что касается связи между атаманом Мефодием и этим перстнем, который видела Метелева, то определенности здесь пока не видно. Но исключать подобную возможность нельзя. — И обращаясь к Галямову: — Кстати, как обстоят дела с отдельным поручением по отцу Викентию?
Галямов сказал, что из Костромы пришел ответ, из которого явствует: Волковский Викентий Александрович заправлял приходами Галического уезда Костромской губернии с 1892 по 1894 год. Последующие два года служил в костромском Ипатьевском монастыре. Имел двоих детей: сына и дочь. В конце 1896 года по решению святейшего Синода направлен настоятелем Волжского монастыря в Святовск.
— А место и год рождения детей Волковского неизвестны?
— Нет, Михаил Иванович.
— Маловато. Но все-таки они жили в Костроме, Может быть, отсюда и взят ключ к шифру, который связан с историей этого города? Теперь вот перстень выплыл на поверхность... — размышлял Нурбанов.
Старейшина местных ювелиров Касиев заявил, что вкрапление в бриллиантовые камни красок или цветной эмали обычно не практикуется в ювелирном искусстве. Оправы подобных драгоценных камней изготовляются из золота и специально цветовой фон под бриллиантовые камни в перстнях не делают. Считают — и справедливо — что бриллиант в красках не нуждается.
— Подобных перстней с бриллиантовыми камнями, о коих вы, Марс Ахметович, говорите, — резюмировал ювелир, — я не видел. Правда, я читал в одной старинной книге, посвященной ювелирному искусству, что в средние века одному епископу римско-католической церкви был изготовлен перстень с граненым бриллиантом — гробом, под которым в виде фона красовался черный крест. Так что перстень с крестом красного цвета — это, надо полагать, уникальный случай.
Когда ювелир ушел, Галямов сказал Стеклову:
— Нельзя, видимо, действительно исключать того, что перстень атамана Мефодия каким-то неведомым образом перекочевал к Постнову.
— Да... Этот перстень мне не дает покоя с самого Гурьева, — ответил Стеклов. — Подождем сообщения Жукова. Ведь оно покажет: обозналась от страха Метелева или нет.
В обед пришла телеграмма от Жукова.
Товарищу Нурбанову.
Заболевший наш знакомый жив. Нуждается в уходе.
Жуков.
Прочитав ее, Нурбанов отдал распоряжение: немедленно составить словесный портрет Постнова, бывшего квартиранта Метелевой, и срочно ознакомить с ним всех сотрудников, работавших по этому делу. В числе особых примет разыскиваемого значилось: родимое пятно величиной с копеечную монету чуть выше запястья левой руки.
К вечеру неожиданно налетел ветер, закрутил в спирали пыль, загудел в проводах. И сразу стало темно, как ночью. Доносились далекие раскаты грома. Вспышек молнии еще не было видно. Посвежевший ветер врывался в раскрытое окно, надувал шторы, как паруса. Полковник Нурбанов закрыл окна. Посмотрел на часы: к 17-30 вызвал Закирова для доклада.
Тот явился вовремя, но с покрасневшим лицом и запыхавшись.
— Чем порадуете, Ильдар Махмудович? — спросил Нурбанов. — Теперь вы у нас как свет в окошке.
Закиров слегка сконфузился и начал докладывать. После того как почтальон Шугаев сунул в свою сумку коричневый конверт, его не выпускали из виду. Полагали, что он передает информацию обычным, так сказать, естественным для него путем — как почтальон. Правда, трудно верить в то, что в одном маленьком микрорайоне, который по долгу службы обходит почтальон, оказались и источник информации, и ее потребитель. Этот потребитель мог, конечно, объявиться там, но не раньше, как была завербована Зеленская, то есть приблизительно весной. Вот и проверили, кто в это время поселился в этом районе. Шли и по другому пути: кто со второго квартала выписал корреспонденцию — ведь, скажем, в газете легче передавать информацию. Они выходят регулярно, не то, что письма. И, наконец, вынуждены были уточнить, какие именно дома обслуживает Шугаев. Не забредает ли он, как блудливый козел, в чужой огород.
— В общем, наши потуги во всех этих направлениях оказались тщетными. Однако в поведении Шугаева насторожил один момент. Зачем, спрашивается, старому человеку, который за день набегается до упаду, совершать длительные утомительные прогулки? Он устает и с десяток раз присаживается на скамейки. На прогулки неизменно выходит с тростью.
— А как разносит корреспонденцию?
— Ходит без трости. Да, по-моему, она ему и не нужна.
Нурбанов поинтересовался, как часто и где Шугаев устраивает прогулки. Спрашивал подробно о трости. Посоветовал особенно быть бдительным в местах отдыха почтальона. Может, в какой-нибудь скамейке устроен тайник? Рассказал, какие бывают трости: трости-ружья, трости-тайники, трости-ножи.
Потом подполковник достал из ящика стола телеграмму и подал ее Захарову:
— Ознакомьтесь.
Старший лейтенант прочел:
Наркому НКВД автономной республики тов. Рахматуллину.
Шугаев Шавкат, 1881 г. рождения, уроженец г. Оренбурга, работал в депо железнодорожной станции обходчиком с 1902 по 1916 год. В июле 1916 г. призван в действующую армию. Согласно данным архива бывшего военного ведомства, погиб 11 декабря 1916 г.
Начальник НКВД г. Оренбурга А. Григорьев.
— Значит, в декабре шестнадцатого появилась живая тень погибшего Шугаева? — произнес Закиров, не отрываясь от телеграммы.
— Не обязательно с декабря. Документами убитого могли воспользоваться значительно позже.
Закиров почесал затылок.
— Н-да... Что за субъект этот почтальон? Может, это «тринадцатый»? Ведь в шифровке, адресованной Мефодию, предлагали использовать некоего агента под этим номером.
— Может быть... — задумчиво ответил полковник. — Но не нужно забывать о воскресшем Постнове. Это весьма активная фигура, с повадками матерого волка.
— Товарищ полковник, а чья это агентура действует здесь?
— По всей вероятности, германская.
— Многие сейчас обеспокоены, товарищ полковник, что немцы после выхода к Ла-Маншу повернут оглобли на Восток, на нашу страну, — неожиданно сказал Закиров.
— Продвижение фашизма теперь можно остановить только силой, — мрачно ответил Нурбанов. — Реальная сила в Европе, которая может противостоять фашизму — это наша страна.
— Значит, вопрос времени... — нахмурился Закиров.
— Да. Война — вопрос времени... Но тут у нас уже идет, Ильдар Махмудович, своя война. А она, как мне кажется, движется к развязке. И поэтому прошу вас приложить максимум усилий. — Нурбанов убрал телеграмму в стол и добавил: — Хотя можно было вам этого и не говорить.
За окном ярко сверкнуло, и тотчас ударил гром.
— И вот еще что, Ильдар Махмудович. Обо всех мелочах информировать меня лично.
Глава XX
Мефодию.
Форсируйте операцию. Контрразведка может выйти через провалившихся уголовников на тринадцатого или на женщину. Возможно, их нащупали. Проверьте.
Штольц.
Шифровка была неожиданной для всех и для Нурбанова тоже. И без того натянутые, как электрические провода, нервы у него испытывали в этот день большое напряжение. Невидимый Штольц чувствовал ситуацию.
Нурбанов метался по кабинету. В голове роились мысли.
В 18-45 доложили: «Зеленская сунула конверт за почтовый ящик на двери ее квартиры».
19-07. «Конверт изъят почтальоном Шугаевым. Взамен его Шугаев бросил в ящик толстый конверт, похоже — пачку денег, и газету».
19-35. «Почту вытащила из ящика Зеленская».
В 20-10 позвонил Закиров, который сообщил, что конверт, полученный от Зеленской, почтальон на этот раз сунул в карман и при разноске корреспонденции из кармана не вытаскивал. Значит, адресат, которому предназначен этот конверт, проживает не в этом микрорайоне, и, стало быть, информацию Шугаев передает не при исполнении обязанностей, а всего скорее на досуге.
В 21-40 сотрудник технического отдела Хайретдинов сообщил, что почтальону Шугаеву позвонили неопределенным голосом (как пояснил он, то ли мужчина женским голосом, то ли женщина мужским голосом). Интересовались здоровьем почтальона и предложили сходить завтра в кинотеатр «Родина», который находится рядом с четвертой сапожной мастерской на восемнадцатичасовой сеанс. Звонили из автомата с автовокзала.
Спокойно слушавший это сообщение полковник Нурбанов вдруг устремился к телефону:
— Справочная автовокзала?! Скажите, пожалуйста, есть ли автобус до Святовска с 21-30 до 22-00 часов?
Пауза.
— В 21-45.
Нурбанов посмотрел на часы: «Уже отправился. Послать погоню? Поздно. Агент успеет доехать до поселка».
В 23-10 позвонил нарком НКВД республики генерал Рахматуллин. Нурбанов доложил ему обстановку. Нарком посоветовал послать в Святовский поселок машину с двумя оперативниками: организовать ночное дежурство в самом монастыре. Днем в числе рабочих-реставраторов в монастыре работал лейтенант Денисов.
На следующий день Шугаев позвонил на работу и сообщил, что заболел. Около двух часов дня он появился на улице и, опираясь на трость, направился в поликлинику. Оттуда поехал на автовокзал. Приобрел билет за один рубль десять копеек и пошел в ближайший продовольственный магазин: купил поллитровку водки и закуски.
«Для кого это он купил билет?» — мысленно задал себе вопрос Закиров.
Около 16-30 Шугаев занял место в автобусе, следовавшем до Святовского поселка.
«Вот это да! — удивился Закиров. — Значит, он сам едет. А как же встреча в кинотеатре? Видимо, в восемнадцать часов он встречается с кем-то, но в другом месте. Потом... когда неизвестное лицо звонило Шугаеву, в разговоре упомянули четвертую мастерскую. Цифра четыре, наверное, обозначает условное место встречи... Ну, посмотрим...»
Закиров вместе с пассажирами направился к автобусу.
Шугаев сошел в Святовском поселке. Расположился на лужайке, недалеко от Волжского монастыря. Залпом осушил стакан водки, пожевал и тихонько потащился к монастырю. Присел на скамейку прямо напротив жилого здания, находящегося за высокой и толстой стеной крепости-монастыря. Просидев битый час, ровно в 18-00, Шугаев зашагал во
двор монастыря, изредка оглядываясь.
На огромном дворе монументально высились многочисленные белокаменные соборы и звонницы. Недалеко от главной звонницы, почти примыкавшей к братскому корпусу, сиротливо прижалась к земле скамейка. Ее-то и облюбовал Шугаев. Он снял пиджак, вытащил недопитую бутылку, взглянул на двойные Екатерининские ворота, откуда только что сам появился, выпил. Мутным взглядом окинул Зеленую башню, архиерейский корпус и уставился на вагончик реставраторов-ремонтников, который приткнулся к монастырской стене. Почтальон подошел к вагончику, обошел его, внимательно посмотрел на висячий замок и остановился. Осмотрелся. Вытащил сверток и сунул его под толстые, пахнущие смолой доски. Вернулся к скамейке. Посидев еще немного, Шугаев двинулся к пристани и восьмичасовым трамвайчиком вернулся в Светловолжск.
Ремонт монастыря как памятника культуры начали в 1939 году и предполагалось закончить работы на следующий год летом. В ходе ремонта сооружений монастыря жильцов из монашеских келий братского корпуса переселили в новый дом. Архиерейский корпус оставался заселенным: в поселке не хватало жилья.
С тех пор, как вражеская агентура начала шнырять вокруг поселка и Волжского монастыря, контрразведчики стали уделять внимание бывшим офицерам царской армия и чиновникам, проживавшим в архиерейском корпусе. Некоторые из них вызывали подозрения в связях с иностранной разведкой. Вот тогда-то и было решено: включать состав рабочих-реставраторов, работавших непосредственно в монастыре, оперативника. Нужно было выяснить: не появляется ли здесь Варев? Приметы его были известны.
После того как «ожил» Постнов, не исключали возможности встретить его в поселке или в монастыре. А со вчерашнего дня, кроме того, ввели ночное дежурство: для этого было удобное место — вагончик реставраторов, где хранились инструменты и ценные строительные материалы. Два маленьких окна размером чуть больше кирпича выходили в разные стороны. Можно было вести наблюдение и через щель в двери.
Дежурившие в этот день контрразведчики Матытулин и Вильданов видели, как Шугаев прятал сверток. Вильданову показалось, что в тот момент, когда Шугаев вставал со скамьи, ручка трости стала намного тоньше.
— С чего бы это? — зашептал он на ухо Матыгулину.
Тот пожал плечами.
— Может, то, что здесь прятал под досками, — просто финт ушами? — не унимался Вильданов. — А на самом деле собака зарыта под скамейкой?
— Посмотрим, — неопределенно отозвался в темноте Матыгулин. — Ясно одно: надо смотреть в оба туда и сюда.
Темнота во двор монастыря опускалась поначалу нехотя: небо к вечеру начало очищаться от облаков. Лучи скрывшегося за горизонтом солнца цеплялись за жидкие перистые облака. Но вскоре и они растворились в темной бездне неба. Выступили слабые звезды. Где-то к полуночи на небо выкатилась почти круглая луна. Монастырский двор, пересекаемый причудливыми тенями соборов и сторожевых башен, застыл. Лишь изредка тишину прогоняли ночные сверчки.
Контрразведчики по очереди наблюдали за монастырским двором. Но пока никто не появлялся ни у скамейки, ни у досок.
Лейтенант Матыгулин уже было задремал, когда Вильданов толкнул его в бок:
— Тагир, ты слышишь, какой-то странный звук доносится от главной звонницы.
Тот встрепенулся. Прислушался и прошептал:
— Кажется, никого...
— Да ты проснись! — горячо зашептал Вильданов. — Приложи ухо к щели.
Матыгулин вновь прислушался:
— Скрежет железа, что ли?
— Вот именно. Кажется, кто-то пилой орудует. Звук доносится со стороны главной монастырской звонницы.
Вскоре все стихло. Вильданов взглянул на боковое зарешеченное окошечко звонницы и застыл в удивлении: там были видны сполохи огня.
— Смотри на звонницу, — произнес он. — Откуда там огонь? Вход ведь заперт.
Вильданов на ощупь двинулся к двери.
— Ты куда? — удивился Матыгулин.
— Как куда? — тихо отозвался тот. — Надо проверить. Не черти ж это... Кто-то туда пробрался...
— Выходить нельзя! Может, это нарочно делают: проверяют, нет ли наблюдения.
Тем временем свет в оконце померк и через некоторое время совсем исчез. Оба до боли в глазах всматривались в темноту: не выйдет ли кто из звонницы, хотя на толстых кованых дверях ее висел замок.
Оба контрразведчика гадали: каким же образом неизвестный, словно призрак, оказался внутри звонницы, ведь они обязательно увидели бы появление человека. И что ночью нужно кому-то в этом сооружении монастыря?
Луна, пройдя по небу полукруг, исчезла. Вскоре стало светать. Утром пришли рабочие. Среди них был и лейтенант Денисов.
В обед в вагончике остался Вильданов, а Матыгулин вместе с рабочим ушел в поселковую столовую. Там он доложил результаты ночного наблюдения прибывшему в Святовск майору Галямову.
— А вам не показалось? — усомнился майор. И улыбнувшись: — Может, со страха?..
— Да что вы, товарищ майор, — обеспокоился Матыгулин, — собственными глазами видели. И слышали...
— Ну, хорошо. Будем так и считать, как вы доложили. А теперь езжайте отдыхать: все-таки сутки не спали.
— Товарищ майор, — взмолился Матыгулин, — разрешите мне и сегодня на ночь остаться?
Но майор, сославшись на график дежурства, отказал ему. Увидев, как тот расстроился, суховатый Галямов неожиданно напомнил ему, как маленькому, историю про конька-горбунка:
— Даже в сказках сторожат по очереди, товарищ лейтенант, а вы хотите за всех... — Но, немного подумав, добавил: — Хорошо. Сейчас идите отдыхать. На ночь заступите вместе с Жуковым дежурить с внешней стороны монастыря в районе кладбища.
К ним подошел Стеклов. Поздоровавшись, он пригласил их пойти к дочери, проживавшей здесь в Святовске, в бывшем родительском доме.
Матыгулин отправился спать в соседнюю комнату.
Усевшись у окна, Стеклов сказал:
— Есть кое-какие данные, Марс Ахметович. По поручению Михаила Ивановича — вы, конечно, в курсе, — мы изрядно потрудились в светловолжских и местном архивах. Наводили справки о некоторых жильцах архиерейского корпуса. На четвертом этаже в квартире № 24 поселился некто Григорин, приехавший из Сибири в прошлом году. Возникает вопрос, каким образом только что приехавший человек получает квартиру? Ведь люди стоят в очереди по нескольку лет. Работает он в Светловолжске, часто меняет работу и разъезжает по разным городам. Одним словом, сомнительная личность.
Потом он вытащил из папки план архиерейского корпуса, датированный 1764 годом. Архиерейский корпус, по его словам, перестраивался. Перестройка коснулась внутреннего интерьера, были кое-где переделаны перегородки. Короче: до перестройки и после архиерейские покои оставались неизменными. А жил сам архимандрит на втором этаже. Стеклов ткнул пальцем в план.
— Вот она, опочивальня отца Викентия. Она сейчас занята жильцами квартиры № 5 Шарафетдиновой и Розовой.
Майор отложил бумаги в сторону и произнес:
— Решили на всякий случай проверить и их. Оказалось: Розова проживает в этой квартире с двадцать пятого года. А вот Шарафетдинова — с конца тридцать восьмого. Она обменяла двухкомнатную московскую квартиру на две комнаты в коммуналке. С чего бы это? Ведь она могла выменять на свою квартиру целые хоромы в Светловолжске или, тем более, здесь.
— А где она родилась? — спросил вдруг оживившийся Галямов.
— На Урале, в Нижнем Тагиле.
— Стало быть, нельзя объяснить этот шаг любовью к родным местам?
— Выходят, что нет. К тому же зачем женщине не христианской веры рваться в монастырь, вернее, поселяться на его территории?
— Да... — задумчиво произнес Галямов, посматривая на башни монастыря. — ...К этой Шарафетдиновой надо срочно присмотреться.
Оба замолчали. Каждый, о чем-то думая, смотрел в окно, где перед взором высилась громада монастыря.
Волжский монастырь и примыкавший к нему Святовский поселок возвышались над широкой гладью реки. Золотые купола монастыря горели на солнце, как маяки, и виднелись на многие версты. До революции в престольные праздники, особенно в пасху, причаливали сюда пароходы с гостями из соседних губерний. Наезжали и представители духовенства из Петербурга. Окрестности монастыря и улицы поселка — тогда уездного городка — заполняла праздничная пестрая толпа. Двухсотпудовый колокол, ровесник монастыря, издавал густой, тягучий, как мед, звук, который далеко разносился по полям и волжским просторам, проникал в лесные чащи. Звук его заглушал на время молитвы и смех, песни и кабацкую ругань.
После праздников Святовск снова превращался в захолустье, каких было великое множество на окраинах Российской империи — с кривыми улочками, покосившимися домами, грязью, пылью, беспробудным пьянством.
Многое из всего этого видел Стеклов. И всякий раз, когда он смотрел на монастырь, вспоминал разные эпизода из далекого детства и юности, годы гражданской войны. Незаметно для себя мысли его возвращались к сегодняшним дням. Он тяжело вздохнул и сказал Галямову:
— Этот монастырь у меня вызывает двойственное чувство: с одной стороны, дорог как памятник прошлого, тесно связанный с моими предками, с другой — как заноза в сердце. — Майор досадливо махнул рукой: — Ну ее к лешему, эту занозу! И говорить о ней не хочется. Давайте-ка лучше обмозгуем, где людей расставим. Монастырь-то вон ведь какой...
К вечеру все уже были на местах. В вагончике остались Денисов и Измайлов. Рафкат Измайлов долго не мог привыкнуть к запаху краски, которая тут хранилась. Жаловался на головную боль. Но, в конце концов, появившееся невесть откуда нервное напряжение заставило забыть обо всем.
После того как стемнело и из-за туч выглянула луна, в вагончике стало прохладно. Измайлов прошептал: «Вот теперь благодать, вместе с жарой и запах улетучился». Он еще о чем-то шептал, но Денисов уже не слышал: до него донесся со стороны звонницы звук упавшего предмета. Оба смотрели в ту сторону. Луна, как назло, нырнула в тучу.
Сгорбленная черная фигура, словно тень, оторвалась от стены и бесшумно поплыла к скамейке. Измайлов сжал рукоятку пистолета. Денисов коснулся плеча Измайлова:
— Пошли.
Поочередно быстро вылезли из вагончика через люк, сделанный в полу.
Тем временем еле заметный силуэт уже находился у скамейки.
Денисов, пригнувшись, двинулся вдоль монастырской стены к звоннице. Он должен был опередить этот ночной призрак и задержать его.
Задача Измайлова была отрезать путь возможного ухода шпиона через Екатерининские ворота или к архиерейскому корпусу.
Выглянула луна, и ровный свет бесстрастно обнажил монастырские сооружения и двор. Черная фигура метнулась со скамейки к архиерейскому дому.
Денисов понял: его заметили. И он бросился за мужчиной, вытаскивая оружие.
— Стой! — крикнул он звонким голосом. — Стреляю!
Наперерез врагу рванулся Измайлов. В сложившейся ситуации шпиону деваться было некуда: бежать можно было лишь вправо, а там церковь да высокая монастырская стена.
Черная фигура в кепке с лицом, завязанным темным платком, метнулась к церкви Преображения.
Сухо треснул выстрел — это, не поворачиваясь, на звук выстрелил враг. Денисов, словно споткнулся, покатился по земле.
Измайлов дважды полыхнул в темноте из своего «ТТ», стараясь попасть в ноги противнику. Но тот добежал до церкви и юркнул в дверь.
Контрразведчик, ожидая выстрела, начал петлять. Но преследуемый не стрелял, и Измайлов благополучно добрался до входа. Как только открыл дверь — пуля цвикнула у самого уха.
Измайлов растянулся на каменном полу, больно ударившись коленками. Под внушительными сводами церкви торжествовала густая чернота. Лишь в маленькие зарешеченные церковные окошки скудно проникал лунный свет, расплывавшийся на полу чуть заметными желтыми пятнами, и что-либо различить было трудно. Когда он попытался ползти, грянул выстрел, гулко отдаваясь под каменными сводами. Пуля, выбив сноп искр, шлепнулась о кирпичную стену.
«Никуда ты теперь не уйдешь, — подумал Измайлов, лежа на полу. — Дверь-то одна».
Из дальнего конца зала вдруг послышался какой-то странный звук, очень сходный с тем, какой исходит при вращении мельничных жерновов.
«Что за чертовщина! — удивился Измайлов. — Уж не слуховые ли галлюцинации от напряжения? А, может, здесь есть еще какой-то выход, никому неизвестный?» При этой мысли он пополз по-пластунски в направлении звуков.
В голове снова заметалась мысль: «Чем же это он может издавать такие звуки? В помещении ничего нет».
Тут Измайлов вспомнил о фонарике. Поднял его над собой — яркий луч выхватил на противоположной стене потускневшие образы святых апостолов. И тут от неожиданности он замер: один из святых — самый крайний — медленно двигался!
Раздались выстрелы.
Лейтенант выключил фонарик и покатился по полу, — решил сменить позицию.
Измайлов сразу не мог толком понять происходящее. В памяти всплыли рассказы о таинственности монастыря, о появлении гроба на колокольне в ночное время, о привидениях на кладбище, о чудесах исчезновения атамана Мефодия и гибели красного разведчика в этом храме.
«Ерунда все это», — мысленно сказал себе Рафкат, скорее взбадривая себя, чем опровергая услышанное.
Измайлов был уже близок к разгадке увиденного, когда хлопнула сзади дверь. Он оглянулся, направив туда луч фонаря.
Это было его ошибкой: он невольно осветил себя и дал возможность противнику прицельно выстрелить.
Звук выстрела слился с пронзительной болью в теле. В помутившемся сознании пронеслась горькая мысль: «Неужели снова прошляпил? Неужели проиграл? — И, страх совсем улетучился, оставив место равнодушию. — Так глупо все получилось, а главное — бесполезно. Бесполезно, говоришь? — Измайлов встрепенулся. — Ну нет! Эту сволочь я должен достать. Должен». Он собрал все свои силы. Поднялся и, покачиваясь, сделал несколько шагов.
Вдруг в глаза ударил пучок света. Свет струился почему-то из-за стены, точнее, из невесть откуда образовавшегося проема в стене, на которой были изображены печальные лики двенадцати апостолов.
«Значит, один из апостолов скрывает вход в тайное убежище, — мелькнула в затуманенном сознании догадка. — Вот как исчезал атаман Мефодий!»
Измайлов не слышал голоса Денисова, который крикнул ему: «Ложись!» Он не стал прятаться — знал: тогда не хватит сил подняться и дойти до цели. А он очень хотел дойти. Предчувствуя, что в него будут стрелять, Рафкат поднял слабеющей рукой оружие и выстрелил в проем.
Грянул ответный выстрел — его толкнуло в грудь.
«Вот и все, — почему-то отчетливо пронеслось в сознании лейтенанта. — Убит. А как же мать?! Ведь она не переживет! Ой, мама! Прости меня. Я не подумал о тебе. Но я иначе не мог. Мама...»
Он дошел до стены и упал в зияющий проем. До гаснувшего сознания донесся женский визг: «Женщина?.. Откуда она здесь?.. Ах, это мама... Мама моя... Не плачь, родная...»
Измайлов уже не почувствовал, как упавшая сверху толстая решетка, похожая на большие вилы, пронзила его тело — он был мертв. Не слышал он и того, как где-то далеко под землей протяжно загудел колокол.
Глава XXI
По небу плыли тучи, заволакивая и снова открывая луну. На некоторое время слабый лунный свет выхватывал из темноты деревья, кусты, мощные монастырские стены, которые сплошным кольцом окружали внутренние постройки. Сторожевые башни, словно былинные богатыри, накрепко подпирали каменные стены монастыря-крепости.
На возвышенности, чуть поодаль от монастырской стены, время от времени появлялись в лунном пятне могильные холмы и черные кресты. Судя по размерам этого старинного кладбища, можно было предположить, какое огромное множество божьих послушников обитало в монастыре за прошедшие века.
Жуков и Матыгулин залегли в кустарнике ольхи между стеной и кладбищем. Давно миновала полночь. От неподвижности потихоньку затекали руки и ноги. Ночная прохлада и сырость с запахом прелой листвы медленно пробирались внутрь.
Чтобы легче было переносить неудобства, Жуков думал о Галине. Перебирал в памяти все события, ее слова, улыбку и поцелуи на вокзале, когда она встречала его...
С монастырского двора донесся слабый звук выстрела. Оба переглянулись и замерли в ожидании. Хлесткие выстрелы разорвали ночную тишину. Матыгулин привстал:
— Может, надо там помочь?
Обеспокоенный Жуков отрицательно покачал головой:
— Наше место здесь. Смотри по сторонам.
Потом послышался приглушенный звук колокола. Оба когда-то слышали рассказ майора Стеклова о таинственном подземном колоколе, неожиданно оживавшем при гибели человека.
— Неужели это тот самый колокол? — испуганно проговорил Матыгулин. — Кто? Денисов или Измайлов?
— Да нет. Не должно, — растерянно произнес Жуков, понимая, что в монастыре происходят серьезные события. Но все-таки он не мог поверить, что колокол извещал о смерти кого-то из товарищей.
Они ловили малейшие звуки, глядя на высокие стены монастыря. Прислушивались ко всем ночным шорохам. Но все было тихо.
К двум часам ночи стало совсем зябко. Луна переместилась в правую часть неба. Крупные звезды проглядывали через промоины облаков. На душе у обоих было тревожно, мучила неизвестность в монастыре.
Жукову показалось, что один из могильных холмов вздрогнул. В первое мгновение подумал: «Уже мерещится». Он продолжал пристально всматриваться в темноту. Холмик, казалось, чуть покачивается, точнее, колебалась его тень. Александр тронул за плечо Матыгулина:
— Смотри!..
Матыгулин не успел толком вглядеться, как туча причудливой формы, напоминавшая гигантскую королевскую корону, накрыла луну. Очертания окружающих предметов расплылись в черноте ночи. Набежавший ветерок монотонно зашумел, на короткое время заглушив шорохи, и снова исчез.
— Кажется, что-то двигается там, — прошептал Тагир.
Оба предельно напрягли слух и зрение. Наконец лунный свет начал заливать местность. Черное пятно двигалось по направлению к ним, затем слилось с тенью толстой многовековой сосны и замерло.
— Выжидает, — шепнул Александр.
Когда вновь все потонуло в темноте, пятно поплыло снова. Но вот уже можно было различать среди ночных шорохов еле уловимые звуки шагов. Наконец черное пятно приняло очертания старушечьей фигуры.
«Батюшки светы! — разочаровался Матыгулин, опуская оружие. — Женщина!»
Сильно ссутулившаяся женщина, пригнувшись, прошла от них в нескольких шагах, свернула налево и по тропинке вдоль монастырской стены двинулась в сторону поселка.
— Ты здесь останешься, а я за ней, — сказал Александр, поднимаясь из кустов. — Смотри в оба. — И он растворился в темноте.
В поселке женщина остановилась у почтового ящика (Жуков не видел, сколько писем опустила она) и повернула обратно.
Прошло более получаса, когда Матыгулин вновь увидел ту же ссутулившуюся женщину. Поминутно оглядываясь, она торопливо прошла мимо. Лейтенанту показалось, что это еще не старая женщина.
«Странно, зачем она идет обратно на кладбище? — удивился он. — Ведь глухая ночь».
Вскоре, как из-под земли, появился Жуков. Он, пригнувшись, то и дело приседая, проследовал за ней, словно привязанный невидимыми нитями.
Матыгулин вопросительно смотрел на Жукова: «А что делать мне?» Но тот лишь махнул рукой что означало: «Оставайся на месте».
Предполагая, что женщина пойдет снова по той же тропинке, Жуков решил двигаться сбоку чуть позади нее. В центре кладбища та остановилась, огляделась по сторонам и присела, скрывшись за могильным холмиком. Александр подобрался поближе. Ему показалось, что один из крестов, каких было здесь великое множество, двигается, вернее, медленно поворачивается вокруг своей оси. Это было немного левее — через два могильных холмика от того места, где пряталась женщина.
«Что за наваждение? — терялся в догадках контрразведчик, приподнимаясь. Он осторожно двинулся туда, но, к его удивлению, там никого не оказалось. — Куда же она запропастилась?»
Подошел вплотную к таинственному кресту. Могильный холм венчала массивная мраморная плита, на которой было начертано: «Здесь покоится раб божий Онуфрий».
Огляделся. Никого. Вернулся к Матытулину и они вдвоем пошли осматривать то место, где исчезла женщина.
Обошли несколько похожих, покрытых мраморными плитами могил. Жуков подошел к могиле со знакомой надписью, уперся ногой о плиту и попробовал повернуть крест. Крест подался, и когда он повернул его на пол борота вокруг оси, то едва не упал, потеряв под собой опору: могильная плита ушла из-под ноги. Один конец плиты провалился, а другой, как у качелей, приподнялся. Пахнуло плесенью.
Матыгулин от удивления тихонько свистнул:
— Что за чертовщина?
— Сейчас посмотрим, — с деловым видом ответил Александр, вытаскивая из кармана фонарик.
Он посветил в образовавшуюся черную пустоту. Взору предстала глубокая, как колодец, выложенная тяжелым булыжником яма. Почти от самой поверхности земли вниз шли каменные ступеньки. Жуков спустился по ним и начал внимательно осматривать стены. Не было никаких признаков, что эта странная яма имела куда-то выход.
Пока Жуков находился внизу, Матыгулин вел наблюдение за прилегающей местностью.
Из ямы, из-под могильной плиты, просачивался свет, освещая черный крест. Матыгулин невольно подумал, что если б он увидел такую картину, эдак лет пятнадцать назад, мальчишкой, то сильно испугался бы.
Прошло изрядно времени, когда Жуков высунулся из ямы.
— Ну что? — подошел к нему Матыгулин. — Нашел?
— Нашел. Спускайся сюда.
Матыгулин спустился в яму и плитой прикрыл за собой вход. Александр нагнулся и вытащил булыжник из пола рядом со стеной. Запустил туда руку по локоть и поднял металлический штырь, служивший засовом, а другой рукой нажал на стену, она стала медленно отходить назад. Образовался проем величиной с пивную бочку.
Жуков направил туда электрический луч и, наклонившись, шагнул в проем.
— Осторожно! — прошептал Тагир. — Не торопись. Подожди, я пролезу.
Держа оружие наготове, они медленно двинулись. Небольшой коридор высотой с человеческий рост привел в просторное помещение с каменными сводами, где на невысоком кирпичном постаменте стояло три почерневших гроба.
На запыленном полу виднелись следы женской обуви, как установили, тридцать седьмого размера.
— Между прочим, на крыше дома, где живет Метелева, тоже обнаружены следы тридцать седьмого размера, — сказал Матыгулин, открывая крышку гроба. — Ого! — воскликнул он. — Посмотри-ка сюда!
В гробу с человеческими костями находилась рация с антенной. Александр вытащил ее и произнес:
— Улов неплохой. А вот женщину все-таки упустил.
— Придет, никуда не денется. Тут мы ее и возьмем.
— Так-то оно так, А вот каким образом она отсюда испарилась? — вслух размышлял Александр, осматривая стены помещения. — Тут, брат, надо сутки, не меньше, искать продолжение подземного хода.
В 1-35 ночи была перехвачена шифровка.
Штольцу.
«Купец» под наблюдением. Предполагаю, на него вышли через Розу. Жду указаний.
Мефодий.
В 2-10 ночи полковнику Нурбанову по телефону сообщили о событиях, происшедших во дворе монастыря.
В 2-50 Жуков доложил Галямову об обнаружении тайного склепа и рации.
В 4-00 утра в Святовский поселок прибыл из Светловолжска Нурбанов, которому доложили подробно обо всех событиях ночи.
Он сразу же направился в церковь Преображения. Тело Измайлова вытащили из проема ранее прибывшие на подмогу Закиров и Вильданов; они дежурили недалеко от Екатерининских ворот.
Полковник Нурбанов подошел к накрытому шинелью Измайлову, присел на корточки, взял его холодную руку в ладони и молча смотрел на него.
— Прости всех нас, Рафкат... что мы не уберегли тебя... — проговорил он. — Мы клянемся всегда помнить о тебе, наш дорогой друг...
Когда санитарная машина увезла погибшего чекиста, Галямов горестно произнес:
— Вот ведь как бывает! Жили два друга Севчук и Измайлов и оба погибли в один год. Погибли в мирное время... Уму непостижимо...
Раненный в ногу Денисов был помещен пока в местную больницу. Он-то и рассказал полковнику об услышанном женском визге, когда Измайлов дошел до роковой черты — проема, и что из тайника никто не выходил. Куда исчез шпион, было загадкой.
Около пяти утра Нурбанов собрал всех свободных от дежурства сотрудников в поселковом отделении милиции.
Первым делом он распорядился о засаде в склепе. Жукова с Матыгулиным подменили, и сейчас они находились здесь. Жукову поручалось изъять корреспонденцию таинственной ночной странницы (санкция прокурора была только что получена). Матыгулин должен срочно раздобыть фотографию бухгалтера кирпичного завода Шарафетдиновой. Он поехал будить начальника отдела кадров.
Полковник отправил свою машину за Метелевой Марией Петровной.
Отдав все необходимые указания, Нурбанов заметил:
— В нашем распоряжении два часа. В семь народ отправится на работу. Некоторые — и того раньше. А из монастыря нельзя никого выпускать. Я уверен — шпион, убивший Измайлова, там.
В 5-25 из Светловолжска доставили расшифрованную радиограмму.
Нурбанов прочел ее вслух.
Мефодию.
Используйте перстень.
Штольц.
Воцарилась тишина. Каждый силился понять, что означает «используйте перстень». Начали высказывать свои соображения. Пришли к общему выводу: «перстень» — условная операция, которая предусматривает, по всей вероятности, срочное свертывание деятельности отдельного агента, составляющего звено между Шугаевым и резидентом, либо всей агентурной сети. Так или иначе, нужно было спешить, опередить противника.
Нурбанов посмотрел на часы:
— Сейчас 5-50, товарищи. Мы должны попытаться через тайный ход из церкви Преображения выйти на иностранного агента. Во всяком случае, подземный ход, а он, видимо, существует — прольет свет на возможные действия агента в сложившейся ситуации. — И обращаясь к Галямову: — Марс Ахметович, берите людей и действуйте.
Находившиеся в церкви сотрудники НКВД ощупывали буквально каждый сантиметр кирпичной стены в обнаруженном тайнике, но к приходу группы Галямова вход в подземелье еще не был найден.
Начали осмотр с механизма движения потайной двери, на которой был изображен один из двенадцати апостолов. Чтобы апостол пришел в движение и образовался проем в стене, — нужно было вытащить один из кирпичей в двух метрах от него, сунуть туда руку и нажать на рычаг. Дверь с изображением апостола под воздействием этого рычага начинала медленно двигаться, издавая звук, напоминавший скрежет мельничных жерновов. Тот, кто входил в эту потайную дверь, обязательно наступал на порог-ловушку. Под тяжестью тела порог приходил в движение и приводил в действие несложный механизм. В результате — с крюка слетала толстая просмоленная веревка, удерживавшая над дверью тяжелую чугунную решетку с острыми копьями внизу. Решетка падала и насквозь прошивала человека. Так раскрывший тайну расплачивался за нее жизнью.
Контрразведчики обнаружили, что другая веревка, привязанная к решетке, тянется в подземелье, к пятнадцатипудовому колоколу. Он и издавал тот страшный звук, извещавший о смерти человека.
Майор Стеклов, обследовавший всю эту механику, заметил:
— Колокол должен был извещать властителей монастыря о каждом, кто осмеливался посягнуть на его тайны.
Если бы кому-нибудь случайно и удалось миновать смерть и проникнуть в тайное убежище, тот оказался бы в каменном мешке без окон и дверей. Вот уже несколько часов чекисты бились в поисках выхода из этого тесного помещения.
Галямов заинтересовался большими чугунными подсвечниками, торчавшими из стены, на которых виднелись крохотные, почерневшие от пыли огарки свечей. Внимательно осмотрев их, майор обнаружил, что на одном подсвечнике пыли почти не было.
— Кто-нибудь трогал эту штуковину? — спросил Галямов, показывая на подсвечник. Оказалось, что никто из сотрудников не прикасался к нему.
Он потрогал массивный фигурный подсвечник, потом потянул его на себя — тот немного вылез из стены, словно головка наручных часов при переводе стрелок. Майор, немного подумав, принялся крутить его.
— Смотрите! — с удивлением воскликнул Закиров. — Стена начала двигаться.
Часть стены в виде неровной глыбы отступала вглубь. Все бросились к майору.
Между полом и стеной начал образовываться зазор. Когда щель оказалась такой, что в нее можно было протиснуться, туда посветили фонариком.
Закиров наклонился и хотел шагнуть в потайную дверь.
— Стой! — схватил его за руку Стеклов. — Рисковать нельзя. Надо сначала обследовать. А то, может, и здесь смерть караулит. На алтарь этой тайны и без того положены человеческие жизни. Слишком дорого она стоит. — Все молча слушали майора Стеклова. — Эх, жаль Измайлова! — горестно вздохнул он, наклоняясь к зияющему проему. — Лучше бы мне, старику...
Майор, внимательно осмотрев каменную лестницу, уходящую далеко вниз, медленно наступил на ее первую ступеньку, потом на вторую. Остановился и огляделся. Кругом свисала почерневшая паутина, пахло сыростью плесенью. На толстом слое пыли, бесцветным ковром лежавшей на лестнице, отчетливо были видны свежие следы.
Галямов послал сотрудника доложить обо всем полковнику Нурбанову.
Стеклов начал спускаться. За ним последовали Закиров, Галямов и Герасимов. Остановились внизу.
Закиров взглянул вверх:
— Ого! Вот это лестница! Метров пятнадцать будет.
— Не меньше, — подтвердил Стеклов, направляя луч фонаря в черный зев длинного коридора.
Подземный ход был выложен валунами и крупным булыжником. Высота коридора позволяла идти, почти не пригибаясь.
Дошли до поворота. Майор остановился, присел и что-то внимательно начал рассматривать под ногами.
Закиров посветил фонариком в конец коридора и оторопел: там кто-то стоял в черной мантии и шляпе. Выдернул из кармана пистолет и, не спуская глаз с человеческой фигуры, шагнул вперед, но тут же под ногами исчезла опора. Закиров каким-то чудом, уже падая, сумел повернуться на пол-оборота и уцепиться из последних сил за край каменного пола. Снизу донесся звук разбившегося фонарика.
На помощь бросились Герасимов и Галямов. Схватили за руки. Подоспел и Стеклов; втроем вытащили Закирова из ямы. С пола подняли его пистолет.
— Куда ж ты, мил человек, так помчался? — заметил Стеклов, посветив в яму. — Видишь, что тебя ждало?
Закиров глянул вниз и замер — прошиб холодный пот: дно каменной шестиметровой ямы было сплошь утыкано длинными, в человеческий рост, металлическими пиками. На дне виднелись кости скелета.
— Во гады! — не вытерпел Герасимов, глядя вниз. — И здесь ловушку устроили.
Крышка ямы тем временем снова стала на свое место. Она мало отличалась внешне от пола: толстые просмоленные доски, покрытые гравием и плоскими камнями.
— Вишь, — произнес Герасимов, — а камни-то с досок не падают.
— Налеплены на горячую смолу при обработке досок, — спокойно пояснил Стеклов.
— Ловко придумано, — сказал Галямов. — А чтобы отвлечь от ловушки внимание случайно попавшего в подземелье, установлено чучело в мантии и шляпе.
Стеклов, изучив устройство этой ловушки, чуть приподнял крышку, вытащил из стены замаскированный толстый брусок-фиксатор и опустил на нее крышку.
— Вот теперь можно идти, — сказал он. — Но нет гарантий, что такая бяка не встретится еще. Поэтому давайте-ка идти буквально ощупью.
Без приключений добрались до чучела.
— Это пугало отстало от моды, — пытался шутить Закиров, — не производит сильного впечатления. Лучше б его нарядить в черта или жандарма.
Шок у Закирова прошел. Он испытывал неприятное, гнетущее чувство и старался от него избавиться.
Подземный ход привел в тупик. Начали искать потайную дверь. Ее вскоре обнаружили при помощи зажженных спичек. Спички подносили к самой стене, и когда пламя потянуло в сторону, все начали ощупывать стену в этом месте. Секрет замаскированной двери разгадали, и Стеклов пролез в образовавшееся отверстие в стене. Его взору предстала длиннющая винтовая лестница. Штопор лестницы, казалось, ввинчивался в само поднебесье. Медленно поднялись по ней.
Стеклов тяжело дышал:
— Ну и ну! Куда это мы интересно вскарабкались? Уж не предбанник ли самого господа бога!
Лестница уперлась в потолок. Открыли люк, и все выбрались в небольшое помещение с кирпичными стенами без окон и дверей. В углу стоял гроб, рядом медный чан со смолой. Тут же, на полу, валялись длинные палки с намотанной на концах смолистой паклей.
— Да тут жгли факелы! — воскликнул Закиров. — Странно. Зачем это?
— Ба! — удивился Герасимов. — Тут какие-то лебедки.
К нему подошел майор Стеклов. Взялся за почерневшую железную рукоятку и начал ее со скрежетом крутить.
С шумом движущейся театральной сцены начал раздвигаться потолок. Пахнуло свежим воздухом. Образовался продолговатый четырехугольный проем. Точно огромный гриб, над чекистами навис медный колокол.
— Вот это да! — поразился невозмутимый Стеклов. — Это ж колокольня! Мы оказались на главной звоннице монастыря!
Герасимов хотел подняться наверх — его удержал Галямов:
— Могут увидеть из архиерейского дома. Не нужно раньше времени раскрывать наши карты.
Закиров вспомнил рассказ Стеклова об истории своего деда-пономаря.
— Товарищ майор, а старик, видно, правду рассказал вам о колокольне.
— Да, выходит. Но я тогда рассказал не все легенды. Судя до одной из них, в прошлые века на звоннице ночью частенько появлялся таинственным образом гроб, освещаемый неведомым огнем. Издали казалось — гроб парит в воздухе. И появлялся он накануне чьей-то смерти в Святовском поселке. В общем, был печальным предвестником. В поселке обитали темные элементы, связанные с церковниками. Они-то и убивали неугодных монастырскому начальству людей. Нетрудно представить, какой страх вселяло жителям поселка появление летающего гроба. А чтобы привлечь внимание к появлению гроба, в полночь раздавался колокольный звон.
Майор перевернул легкий, сколоченный из очень тонких досок гроб, и все увидели отверстие размером с кулак, которое чернело посредине гроба. Он поднял рядом лежавшую жердь, сунул ее в отверстие и поднял гроб.
— Вот таким образом и появлялся на колокольне этот ящик, а снизу освещали факелами. Для этого представления достаточно двух действующих лиц.
— А каким образом неизвестное лицо проникали внутрь звонницы? — спросил Герасимов. — Вчера ночью там видели свет в окошке.
Стеклов поставил все на место, стряхнул с брюк пыль и решительно направился к люку.
— Это сейчас нетрудно будет установить. Думаю, туда надо искать потайной ход с лестницы.
Он оказался прав: небольшая, почти незаметная дверь располагалась в самом углу, куда вплотную подходила лестница. Когда через нее проникли в помещение звонницы и спустились вниз по широкой кирпичной лестнице, увидели следы ночных похождений неизвестной личности: замок с перепиленной дужкой.
Закирову показалось, что уже много часов идут они по тайному ходу. Взглянул на часы и удивился: прошло чуть больше получаса.
— Неужели из церкви Преображения враг вернулся сюда и уже здесь исчез? — вслух подумал Закиров.
Майор Стеклов отверг эту мысль:
— Двор монастыря все время был под наблюдением. Это одно. А другое — обследованный нами подземный ход здесь не единственный. Подтверждение тому — кладбищенский склеп, обнаруженный ребятами. А он уж точно соединен с подземным ходом. Ведь женщина растворилась именно в этом месте.
Галямов поддержал мнение Стеклова и сделал для многих неожиданный вывод:
— Женщина, которую ночью засекли на кладбище, и тот, кто появлялся около часа ночи у тайника, — одно и то же лицо. Сами подумайте: в церкви Преображения при перестрелке обнаруживается присутствие женщины. Потом она где-то около двух ночи объявляется на кладбище. Идет в поселок, чтобы по почте предупредить кого-то о провале связника.
Когда он доложил о своих догадках полковнику Нурбанову, тот сразу же одобрил их и подал Галямову исписанный карандашом тетрадный листок.
Пробежав его глазами, майор выразил удовлетворение:
— Михаил Иванович, оказывается, мы одновременно пришли к одинаковому выводу.
Нурбанов улыбнулся:
— Когда люди думают одинаково, легче работать.
Где-то в восьмом часу прибыла Метелева. Нурбанов, подавляя волнение, предъявил ей несколько фотографий, среди которых была и фотокарточка работницы кирпичного завода Шарафетдиновой.
— Мария Петровна, к вам большая просьба внимательно посмотреть на эти лица. Нет ли среди них знакомых?..
Когда Метелева взглянула на фотографию Шарафетдиновой, она напряглась, поднесла изображение ближе к глазам.
— Кажется, где-то видела эту женщину. А вот где, не помню.
Нурбанов внутренне ликовал. Его догадка подтвердилась! Полковника не смущало, что Метелева не назвала имени этой женщины и не вспомнила, где ее видела.
— Петр Прохорович, — обратился он к Стеклову, — срочно задержите Шарафетдинову. Возьми несколько человек. А мы скоро будем.
Бухгалтер Шарафетдинова начинала работу в восемь утра — выходила из дома за полчаса. Ждали ее у ворот монастыря. Но ее не было. Около восьми Стеклов и его помощники направились к ней на квартиру.
Оцепили дом. На втором этаже, напротив квартиры номер «5», остановились.
— Звоните соседке — два звонка, — шепнул Стеклов.
Закиров, глядя на дверь, подумал: «Вот где пригодилась бы помощь Космача».
Закиров уже протянул было руку, чтобы позвонить, но в это время кто-то начал внутри отпирать дверь.
Стеклов махнул рукой: «Расходись». У дверей остался он один.
Дверь открылась. На пороге появилась старуха с ведром.
— Я из пожарного надзора, — представился майор. — Велено посмотреть печные трубы и электропроводку.
Старуха растерянно отступила в сторону.
— А соседка-то дома?
— Да, кажись, здеся. Сказывала — захворала.
Стеклов достал из папки бумажку и сказал:
— Передайте соседке это извещение. А я пока посмотрю печку.
Старуха поставила ведро и, шаркая ногами, пошла к соседской двери.
Стеклов подал знак рукой: «Сюда».
Дверь комнаты Шарафетдиновой оказалась запертой.
Розова постучала:
— Наиля Габдуловна! Бомашку пожарник ужо оставил. Прочла б...
— А где пожарник-то? — донесся голос из-за двери.
— Тута. Печку смотрит.
— Потом возьму, — ответила Шарафетдинова. — Я сплю.
Старуха увидела мужчин, растерянно заморгала. Подошел Стеклов и шепнул ей на ухо:
— Это помощники мои. Вы не беспокойтесь.
Та кивнула, взяла ведро с мусором и вышла. Стеклов посмотрел в замочную скважину. Перед ним предстала странная картина: на стуле стояла женщина и крутила тяжелую почерневшую люстру.
«Зачем она это делает?» — удивился майор.
— Бегом за ломом! — шепнул он лейтенанту Вильданову.
Тот исчез за дверью.
Шарафетдинова продолжала медленно поворачивать люстру вокруг оси. Беспокойно посмотрела на дверь. Прислушалась.
Запыхавшись, с ломом влетел Раис Вильданов.
Стеклов постучал.
Женщина не ответила, а заспешила к окну.
— Открывайте, НКВД! — крикнул майор.
Молчание.
— Скорее лом! — почуял недоброе Стеклов.
Вильданов сунул лом между косяком и дверью — начал отжимать дверь. В образовавшуюся щель майор увидел, как Шарафетдинова забралась на подоконник.
«Неужели хочет выпрыгнуть из окна?» — мелькнула у Стеклова мысль.
Вильданов и Герасимов дружно навалились на дверь — посыпалась многочисленные замки. Открыть дверь полностью помешала толстая колодезная цепь.
На глазах у контрразведчиков женщина, стоявшая на широченном метровом подоконнике, юркнула в черный проем, образовавшийся в боковой стене окна. Вход за ней тотчас закрылся.
— Срывайте цепь! — крикнул майор.
Рванули — цепь слетела. Бросились к окну. Попытались вскрыть потайной ход, но дверь не поддалась, не помог и лом.
— Она же уйдет! — растерялся Герасимов.
Стеклов огляделся, быстро отдал распоряжение:
— Герасимов остается здесь. Остальные — за мной.
В дверях столкнулись с Галямовым:
— Что случилось?
— Шарафетдинова скрылась. Воспользовалась тайным ходом.
— Когда?!
— Только что.
— Что намерены предпринять? — быстро спросил Галямов.
— Окружить монастырь.
— Вот что, — решительно начал Галямов, — двоих пошлите блокировать подземный ход церкви Преображения. Одного — в главную звонницу. Двор держать под неусыпным наблюдением. Всем остальным — блокировать монастырь снаружи: особое внимание кладбищу и поверхности воды.
— Какой поверхности? — не понял Стеклов.
— Не исключено, что один из подземных ходов выходит прямо в воду. Бегом по местам! — скомандовал Галямов.
Глава XXII
Узнав, что Шарафетдинова бежала через тайный ход, Нурбанов решил привлечь для ее задержания местных работников милиции. Их ознакомили с фотокарточкой преступницы. Полковник понимал: подземный ход, который пока не обнаружен чекистами, мог тянуться от монастыря на несколько сот метров. В этом радиусе он и ожидал появления исчезнувшей преступницы. Но полковник сомневался, что она вынырнет на поверхность днем, а не ночью.
Потом он начал размышлять о перехваченных письмах, брошенных в почтовый ящик ночью. На них не было обнаружено никаких отпечатков пальцев. По этой корреспонденции и начали работать.
Одно письмо было направлено на имя некоего Рассохина Никиты Лукича, проживающего по Сенной, 20. А другое — до востребования Колеганову Серафиму Трифоновичу.
В 8-05 полковнику Нурбанову сообщили, что некто Григорин, недавно поселившийся в архиерейском корпусе, вернулся домой под утро. Установили: приехал из Светловолжска.
В 8-30 полковнику Нурбанову стало известно, что Стеклов и Герасимов вскрыли потайную дверь, которое воспользовалась шпионка, покрутив вокруг оси, как это делала хозяйка квартиры, тяжелую чугунную люстру. Сначала тайный ход шел посредине стены на уровне подоконника, затем лесенкой сбегал далеко вниз. Узкий, как гроб, ход заканчивался глубоко под землей обширной комнатой. И там контрразведчики застряли: дальше хода не было. Вернее, не нашли.
В 10-00 прибыл лейтенант Зарипов, доложил:
— В подземном ходе, который идет к главной звоннице, неожиданно появилась человеческая фигура. Различить — мужчина или женщина — не удалось. Неизвестный проник в подземелье из потайного, пока что не
рассекреченного хода. Обнаружив засаду, враг сделал несколько выстрелов и исчез.
В 12-15 Жуков сообщил из Светловолжска: «Рассохин — семидесятипятилетний старик, активный участник гражданской войны. Живет бобылем. Приятель его, сосед Фирсов Семен Абрамович, с которым часто видится, — пенсионер».
В 12-50 доложили, что связник Шугаев звонил Рассохину. Этот разговор можно подразделить на две части, то есть он как бы адресован двум лицам. Первая часть содержания разговора ничего не значила, а вторая — после слов «так сказать», — изобиловала цифрами.
В 13-05 звонок Жукова: «Колеганов, на имя которого отправлено письмо до востребования, среди жителей Светловолжска не значится. Взял под наблюдение Фирсова».
В 18-40 сообщение Жукова: «Фирсов на главпочтамте получил корреспонденцию на имя Колеганова».
Взвесив все «за» и «против», Нурбанов отдал приказ: немедленно задержать Фирсова. Содержание писем, посланных шпионкой, внушало опасение: они предупреждали условным текстом о провале связника Шугаева. А раз Шугаев выходит, правда, не прямо, на Фирсова, он мог скрыться.
В 18-55 полковник Нурбанов вместе со Стекловым выехали в Светловолжск, поручив проведение операции в монастыре майору Галямову.
В 19-45 Нурбанов доложил наркому Рахматуллину обстановку. Тот одобрил решение Нурбанова арестовать Фирсова. Предложил задержать и остальных — Шугаева и Зеленскую.
В 20-20 задержали Фирсова. Оказал отчаянное сопротивление: ранил сотрудника НКВД. При обыске его квартиры нашли оружие и крупные суммы денег. Под плинтусом обнаружили провод, который был тайком подсоединен к телефону соседа — Рассохина, о чем тот не подозревал. Стало ясно: разговаривая с хозяином телефона, Шугаев передавал условными цифрами короткие донесения Фирсову.
Около 20 часов арестовали Шугаева и Зеленскую.
Кличка Шугаева — Купец. До революции был купцом второй гильдии. Присвоил документы убитого. Это стало известно кайзеровской разведке, которая шантажом заставила его работать на немцев. По указанию разведцентра, как пояснил Купец, был подчинен Мефодию в 1939 году. Шугаев видел Мефодия всего три раза и только ночью; лица его не разглядел. Для связи пользовались тайниками — почтовыми ящиками, которые были под условными номерами. С Рассохиным познакомился по указанию Мефодия «на шахматной ниве», по выражению Купца, для того, чтобы названивать ему по телефону. Этим телефоном Шугаев пользовался крайне редко. Чаще звонил ему сам шеф. Точного адреса проживания Мефодия Шугаев не знал. При аресте у Шугаева отобрали трость с секретом: при сжатии рукоятки из трости выпадал миниатюрный водонепроницаемый контейнер землистого цвета с микропленкой. В условленном месте эта информация оставлялась совершенно незаметно для постороннего глаза. А чтобы отвлечь внимание в случае слежки, Шугаев открыто выбрасывал или прятал ненужные предметы. Так поступил он и в монастыре: спрятал под доски остатки пищи.
На допросе Зеленская призналась, что все началось в январские дни сорокового года с одной из попоек, устроенной в ресторане. Зеленскую пригласил с соседнего столика импозантно одетый мужчина лет пятидесяти. Тогда она была одна: муж поехал подработать в райцентр. После ресторана он проводил ее до дома. Напросился на чай, подарил золотой перстень с драгоценным камнем. Потом остался ночевать. Альфред, новый поклонник, сорил деньгами, не скупился на подарки. Сначала она, ничего не подозревая, охотно рассказывала ему о производственных делах, а потом он предложил добывать секретную информацию за большие деньги. Зеленская поначалу, испугавшись, отказалась. Но деваться было некуда — она вконец запуталась в расставленных сетях и, в конце концов, согласилась. Слепок ключа от сейфа сборочного цеха она сняла, пользуясь ротозейством Федорука, ее давнишнего воздыхателя. Черпала информацию и от конструктора Чревова, разобиженного на весь белый свет. Тот, не задумываясь, в слепой ярости рассказывал ей обо всем, лишь бы навредить, как он думал, своим недругам. Чревов был убежден, что все эти сведения о новых важных разработках, в которых он участвовал, идут «наверх», к начальнику. А там должны были оценить его способности и выполняемую при этом роль. Вот он и старался...
Что касается Альфреда, он вскоре исчез, передав Зеленскую в подчинение Шугаеву. Как выяснилось позже, Альфред был убит при попытке перехода государственной границы.
В 21-00 доставили на допрос Фирсова. Когда майор Стеклов увидел его, не поверил своим глазам: перед ним стоял Варев. «Ай да Жуков! — пронеслось у него в голове. — Какого матерого кровожадного зверя поймал!» Он не мог сдержать своих эмоций:
— Вот это встреча! — Стеклов встал со стула. — Никак сам Вячеслав Мефодьевич к нам пожаловал! Какая птица попалась!
Тот холодно парировал:
— Вы ошибаетесь, гражданин следователь. Впервые слышу эту фамилию. Я — Фирсов.
— Ну, конечно-конечно, Варев. Было б странно, если бы признались, кто вы такой. Но ничего, не расстраивайтесь: мы освежим вашу память.
Молча смотревший на эту встречу Нурбанов спокойно спросил:
— Ваша кличка как агента?
— Какого агента?! Я вор! Вор в законе. Чего вы меня сюда приволокли! Со мной должна иметь дело уголовка.
— Агента по кличке Мефодий знаете? — снова задал вопрос полковник.
Шпион, не задумываясь, ответил:
— Понятия не имею.
— Эту кличку вам дали, учитывая ваше отчество, или в память об атамане бандитской шайки, действовавшей когда-то в этих краях?
— Не понимаю, о чем идет речь.
— Речь идет о том, — невозмутимо продолжал Нурбанов, — что вы представились Купцу, то есть Шугаеву, как Мефодий. — Полковник подошел к Вареву. — Вы проиграли, Вячеслав Мефодьевич. И надо иметь мужество признать это. Если вы тогда, в лесу под Святовском, сумели скрыться, оставив на память корзинку с еловыми шишками — мы признаем свой промах.
Варев изменился в лице, устало опустился на стул.
— Я Шугаеву представился по отчеству — Мефодьевич, а не Мефодием. Это, видимо, ему от страха послышалось.
Полковник подал ему листок бумаги.
— Вот заключение экспертизы. Отпечатки пальцев, обнаруженные на рации, которую вы спрятали в лесу, идентичны вашим.
Кинув короткий взгляд на документ, Варев сказал:
— Моя фамилия Фирсов. Клички не имею. Да, я радист. Но не больше. Никого не убивал, ничего не взрывал, никакой секретной информации не воровал. Я лишь исполнитель.
— В таком случае вы — Тринадцатый...
Варев вздрогнул.
— Несчастливую цифру вы себе подобрали.
Полковник положил перед ним одну из расшифрованных радиограмм.
— Видите, здесь упоминается Тринадцатый. А центральная фигура — Мефодий. Так кто же вы, Варев, в действительности — Мефодий или Тринадцатый?
— Я же вам сказал, что не имею клички. Меня в это дело втянули три месяца назад. А остальное вам и так известно. К тому же, можно сказать, я анкету заполнил. Читайте. Там изложил все, как на духу.
Полковник спросил агента: знает ли тот Фролова по кличке Космач.
Варев пожал плечами:
— Не слыхивал.
Доставили Фролова. Космач заявил, что с этим человеком он в конце июня проник в квартиру конструктора Ахматова и там вскрыл по его указанию сейф. Потом этот мужчина фотографировал чертежи.
— А вы говорите: секретную информацию не воровали, — произнес Нурбанов, внимательно глядя на шпиона.
Варев молчал.
Допрос Варева ничего нового не дал. Осталось неясным, кем на самом деле был Варев — резидентом или радистом-контролером.
Майор Стеклов решительно заявил, что Варев — резидент этой агентурной сети.
Тоскливый шум ветра на кладбище застревал в низкорослых кустарниках. Старший лейтенант Закиров, находясь недалеко от тайного склепа, чутко прислушивался ко всем шорохам. Он видел, как накренилась плита и над могильным холмиком появилась голова Вильданова, который махнул ему рукой. Закиров подошел к нему.
— Ты давай туда, а я здесь побуду, — зашептал он. — Майор велел.
Закиров спустился вниз, на ощупь по стенке коридора добрался до подземной комнаты.
Кто-то дотронулся до его плеча.
— Вы тут оставайтесь за старшего, — зашептал Галямов, — а я узнаю, что творится в монастыре.
Майор ушел.
В подземелье царили кромешная темнота и тишина. Казалось, в комнате пусто. Разговаривать и курить запрещалось. Закиров посмотрел на свои часы: фосфорический циферблат высвечивал 23-00.
Прошло не менее часа, когда Галямов вернулся и тихо сказал:
— Там все по-прежнему. Ход в подземелье из бывшей опочивальни настоятеля монастыря пока не нашли. Так что надо ждать эту особу здесь.
Закиров был почему-то уверен, что враг появится из какой-нибудь потайной двери в стене. А вот с какой стороны — не знал.
Вдруг ему показалось: кто-то еле слышно шагает. «Проявляют ребятки нетерпение», — подумал он.
Шаги смолкли. Минут пять царила звенящая тишина.
Теперь отчетливо донесся шорох откуда-то снизу, из-под земли. Внутри возвышения, где стояли гробы, что-то заскрипело, словно открывалась дверца допотопного шкафа. Потом будто выдвинулся ящик стола.
Закиров, ступая на носки, приблизился к подозрительному месту и присел на корточки.
Все стихло. Минуту или две все сидели, затаив дыхание.
Неожиданно крышка среднего гроба чуть приподнялась, и оттуда, в образовавшуюся узкую щель, пробился свет электрического фонарика.
«Так вот где замаскирован тайный ход!» — пронеслось в голове у Закирова.
Тем временем крышка гроба и находящийся там скелет начали медленно подниматься; свет разливался по склепу, прогоняя темноту.
Закиров увидел руку, поднимавшую скелет и крышку гроба. Показалась голова.
«Сейчас разглядит засаду, — подумал он. — Нырнет обратно и поминай как звали! Надо немедленно брать».
Контрразведчик резко, как пружина, прыгнул к гробу и в мгновение ока схватил за руку таинственного пришельца. Рука инстинктивно рванулась вниз. Крышка гроба со скелетом уперлись в плечо чекиста. Подлетел Матыгулин, схватил неизвестного за подбородок. Подоспели Галямов и Зарипов.
Майор откинул, чтобы не мешала, крышку гроба со скелетом; Зарипов подхватил ночного странника под руку. Незнакомец остервенело вырывался. Вчетвером, изо всех сил напрягаясь, контрразведчики начали медленно вытягивать из щели шпиона, точно глубоко забитый большой ржавый гвоздь. И когда это извивающееся тело вытащили, подземелье огласилось диким, полным отчаяния и ужаса женским воплем:
— А-а-а!
Галямов, глядя на женщину в мужской одежде, мрачно спросил:
— Оружие есть?
Шпионка молчала.
— Что у вас в кармане брюк? — И, не ожидая ответа, Галямов кивнул Матыгулину: — Проверьте.
Лейтенант вытащил из ее кармана маленький, с ладонь, бельгийский браунинг.
— Гадина! — задыхаясь от ярости, проговорил он. — Это она, сволочь, угробила Измайлова и ранила Денисова. Найденные гильзы — от браунинга этого калибра.
— Ничего, лейтенант. Она получит свое. А сейчас осторожненько спуститесь туда, вниз, и осмотритесь повнимательнее. — Майор посветил в щель, откуда появилась шпионка. — Тут каменная лестница, но дальше нее — ни шагу! Ясно?
Матыгулин быстро спустился в подземный ход. Но тут же показалась его голова:
— Лестница как будто к самому шайтану!
— Дальше не ходить! — повторил приказ Галямов. — Нарветесь на ловушку — голову потеряете!
— Товарищ майор, тут какая-то сумка.
Галямов принял тяжелый дорожный баул. Раскрыл его — в пучке света тускло блеснули золотые червонцы с изображением Николая Второго. Он что-то поискал там и взглянул на задержанную.
— Где перстень?
Та пожала плечами и отвела взгляд.
Снова из щели высунулся лейтенант:
— Вот еще что нашел! — подал Галямову массивный золотой перстень с огромным бриллиантом. — Валялся прямо на лестнице.
— Так и знал, что успела выбросить, — проронил майор, внимательно рассматривая находку. — Думаю, эта вещица поможет нам кое-что понять.
Женщина побледнела, как мел, и закрыла лицо руками.
— Товарищ майор, — взмолился Матыгулин, — разрешите обследовать хоть начало подземного хода. Там длиннющий коридор на большой глубине с какими-то боковыми дверями...
— Это потом, лейтенант. Обследуем в ближайшее время. А сейчас — в Светловолжск.
Уже наверху Галямов приказал Вильданову оставаться на месте.
В Светловолжск прибыли в два ночи. Полковник Нурбанов ждал их в своем кабинете.
Шпионка отвечать отказалась. Решили допрос отложить до утра. Обследовали содержимое изъятой сумки: там были иностранная валюта и золото.
Особое внимание присутствовавших привлек перстень. Нурбанов разглядывал его через большую лупу. Под огромным бриллиантом огненно горел крест. Вскоре он нашел к нему ключ — снял бриллиант и под ним на золотой пластинке обнаружил цифры и миниатюрные рисунки, располагавшиеся вокруг ярко-красного инкрустированного эмалью креста.
— Тонко сработано! — наконец произнес полковник. — Трудился ювелир высочайшего класса. Схема подземных ходов в монастыре, судя по этому перстню, выполнена в виде креста. — Он снова взял лупу. — Вот здесь изображены окно и люстра. То есть обозначен тайный ход из покоев владыки монастыря. И тут же значится цифра «66» на ступеньке лестницы. Вот где, оказывается, надо было искать ход — на шестьдесят шестой ступеньке. А Герасимов, говорите, искал его в стенах подземной комнаты?..
На золотой пластинке значился и тайный склеп на кладбище.
Нурбанов передал перстень Галямову и сказал:
— А за поверхностью реки мы присматривали не напрасно: один из тайных выходов — прямо в Волгу. Под каменной лестницей, спускающейся от монастыря к реке...
— Кстати, ловушки здесь обозначены черепами — их наберется с чертову дюжину! — произнес Галямов. — И множество цифр...
— Их надо будет расшифровать на месте, — сказал Нурбанов. — Большинство этих цифр указывает на местонахождение замаскированных дверей и тайных комнат, находящихся глубоко под землей. Тут целый подземный замок с изолированными для непосвященных коридорами. Одним словом, этот перстень — ключ к подземельям Волжского монастыря, к его тайнам.
— Не случайно о загадочности перстня говорил и атаман Мефодий, — напомнил Стеклов. — Надо полагать, и сокровища отца Викентия где-то упрятаны в подземных тайниках. Часть золота прихватила с собой эта особа...
Утром возобновили допрос шпионки.
Нурбанов поинтересовался ее фамилией. Задержанная назвалась Шарафетдиновой — бухгалтером кирпичного завода.
Устроили ей очную ставку с Метелевой. Когда Метелева увидела Шарафетдинову, она поразилась:
— Господи, святая богородица!.. — Мария Петровна опустилась на стул. — Да никак... квартирант мой ожил... Как же это?..
— Это провокация! — вскочила с места шпионка. — Я ее и в глаза никогда не видела. Я женщина, а не мужчина.
Метелева, ничего не понимая, смотрела на происходящее.
— Да неужто это не Анатолий Сергеевич Постнов? — растерялась она. — А ведь так похожи...
Нурбанов попросил ее назвать особые приметы бывшего квартиранта. Метелева вспомнила о существовании родимого пятна на левой руке.
Женщина махнула рукой:
— Уведите старуху. Я расскажу...
Она призналась, что жила на квартире у Метелевой под именем Постнова, снабженца из Магнитогорска, но пыталась отрицать свою шпионскую деятельность. Выдавала себя за воровку, которой случайно достался перстень. Стреляла из браунинга в целях самообороны. Убивать никого не хотела. Это случайно...
Спокойно слушавший этот рассказ Нурбанов неожиданно прервал ее:
— Хватит врать, Волковская...
Она замерла, не в силах произнести ни слова. Лицо покрылось желтоватыми пятнами, как у мертвеца.
Полковник будничным голосом тихо спросил:
— Наталья Викентьевна, где был убит ваш брат, атаман Мефодий?
— В Астрахани, — не задумываясь, ответила та.
— Значит, это вы бывали у него на конспиративной квартире?
Волковская отрешенно кивнула головой.
— Поручика Шергина знали?
Шпионка вдруг вся подобралась, глаза ожили:
— Так вот кому мой брат обязан своим провалом. Мразь! Я так и чувствовала... Тогда вы все знаете, — упавшим голосом произнесла она. — Это немыслимо: Шергина нашли! — Она обхватила голову руками. — Единственный человек, кто знал...
Волковская рассказала, что перстень перешел ей от брата накануне его гибели. До революции она была актрисой Императорского Казанского театра. Отсюда и искусство перевоплощения.
— Кличку Мефодий вы в память брата взяли? — спросил Нурбанов.
Шпионка дернулась всем телом и отрицательно закачала головой.
— Стало быть, вы — Тринадцатая, и в склепе ваша рация?
— Да. Я радистка.
— Тогда поясните, что означает в радиограмме: «Используйте перстень».
— Это команда радисту свертывать свою деятельность. Иначе говоря: исчезнуть.
— Как и кому вы передавали расшифрованные донесения? Кто вам их приносил?
Волковская немного подумала и начала:
— Я получала сведения через тайник, находящийся под лавкой во дворе монастыря. А зашифрованные радиограммы оставляла в тайнике на кладбище, недалеко от склепа.
Она подробно рассказала о местонахождении его.
— А если срочное донесение для резидента, то есть для Мефодия? — Полковник встал и снял трубку телефона. — Ведь бывают в разведке срочные приказы резиденту из центра.
Все ждали, что скажет Волковская.
Она мучительно думала: дошло ли ее предупреждение об опасности до Варева? Сумел ли он скрыться?
Тем временем Нурбанов распорядился по телефону привести к нему арестованного из камеры № 6.
— Ну, так как? — повторил свой вопрос полковник, усаживаясь на стул.
— Я звонила Рассохину в Светловолжск...
— Значит, он и есть резидент?
Волковская кивнула головой.
Нурбанов понял ее ход. Если Варев не получил сигнала, то он поймет, что к чему, пока контрразведка будет заниматься его соседом. Волковская не теряла надежды, что Варев еще не раскрыт. А если он скроется, значит, можно будет о многом умолчать, иначе преподнести события и факты и все свалить на Варева.
— Куда ваш отец девал золото? — спросил Стеклов.
Волковская заявила, что он не был богатым человеком. И ни о каком золоте она ничего не знает. Что касается золотых монет найденных при ней, — это все, что досталось от отца.
Дверь открылась — на пороге появился Варев. И снова Волковская окаменела, как при очной ставке с Метелевой.
— Нервы сдают, Наталья Викентьевна, — произнес Галямов. — Очень вредную профессию избрали.
Поняв, что дело проиграно, Варев сразу же заявил:
— Шарафетдинова — она же Постнов, резидент по кличке Мефодий. Я был подчинен ей в тридцать девятом году.
— Клевета! — вскричала Волковская. — Это я ему была подчинена! Это он резидент! Кличку ему дали исходя из его отчества. Варев — матерый шпион и убийца.
Оба агента топили друг друга, стараясь во что бы то ни стало спастись.
Варев заявил, что по ее приказу ездил в Москву и встречался с агентом в метро Маяковская под куполом, где изображены три парашюта.
Волковская кричала, что это она ездила в Москву и встречалась с человеком, который держал в руках книгу Дашковой. Он передал ей рацию.
«Значит, 3 — М, как значилось в одной из шифровок, — это Москва, метро Маяковская, — подумал Нурбанов. — Ну что ж, примем по этим сведениям необходимые меры. Задержим и того агента, передавшего рацию».
Стеклов непонимающе смотрел на препирательства агентов.
Нурбанов нажал кнопку — вошел дежурный офицер.
— Тринадцатого увести.
Варев и Волковская встали.
— А вы, резидент, останьтесь, — обратился Нурбанов к женщине.
— Это ошибка! Не я Мефодий. Это же мужское имя. Как вы этого не поймете?!
Когда Варева увели, Нурбанов сказал:
— Мне было не совсем ясно до вчерашнего вечера, гражданка Волковская. Дело в том, что резидент обязательно должен был находиться в монастыре. Судите сами. О том, что за агентом Шугаевым ведется наблюдение, стало известно вам позавчера ночью, то есть после того, как вы нарвались на засаду во дворе монастыря. И буквально через час с небольшим, точнее — в 1-20 ночи, в центр полетела шифровка о том, что Купец провален. За час-полтора вы не смогли бы связаться с резидентом, если бы он находился вне монастыря. Ведь нужно было еще составить шифровку, добраться до рации, развернуть ее на кладбище и передать. Для этого нужно около одного часа.
Полковник встал и начал медленно ходить.
— Шифровка подписана Мефодием. Вы прекрасно знаете, что в разведке радист не может подписываться за резидента. А раз так — резидентом могли быть вы или некто Григорин. Но Григорина в эту ночь в монастыре не было. Он оказался спекулянтом средней руки. К тому же ваши письма, отправленные ночью из поселка, тоже подтверждают эту мысль. Вот так-то!
Женщина вскочила и забилась в истерике:
— Я ненавижу всех вас, гадов! Вас надо давить! Слышите, давить! Я жалею об одном — мало убивала вас! — Волковская дико захохотала. — А золото вам не найти! Тайну эту я унесу в могилу, но вам не скажу!
Ее увели.
Полковник Нурбанов устало взглянул на сотрудников и сказал:
— Ну вот, можно считать, что операция завершена. Тайны Волжского монастыря больше не существует. За нее мы заплатили самым дорогим — жизнью наших товарищей Измайлова и Севчука. Но это не напрасные жертвы. Погибшие помогли раскрыть зло, которое мешало жить нашему народу. А за это стоит отдать жизнь.
— Товарищ полковник, — обратился Матыгулин, — а что же сокровища отца Викентия?
— Вот завтра начнем обследовать подземелья монастыря.
Но на этот раз полковник Нурбанов ошибся. Огромные богатства настоятеля Волжского монастыря отца Викентия не были найдены ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Все условные обозначения, обнаруженные в перстне на золотой пластинке, чекисты расшифровали. Но ни в одном коридоре, ни в одном помещении, ни в ямах-ловушках, зловеще ощетинившихся металлическими пиками, не нашли ни одной золотой монеты. Не нашли даже то место, где ранее хранилось золото, которое изъято у Волковской. Это сразу же натолкнуло чекистов на мысль: в Волжском монастыре имеется загадочное, хранилище, которое неизвестно никому, кроме, конечно же, арестованного резидента. Но она молчала, точно закаменела. В конце концов, чекисты пришли к выводу: Волжский монастырь, подобно Киево-Печерской лавре, имеет двойную систему подземных ходов и сооружений, но засекреченную. И они пока что раскрыли только одну из них.
1978-1979
«Тайна стоит жизни»: путеводитель по книге

В Казани живет писатель, которого я про себя называю «казанским Дэном Брауном». Он, как и его американский коллега, перед тем как сесть за новую книгу, долгое время проводит в библиотеках и исследует исторические места. Лишь потом, основываясь на реальных фактах создает приключенческий роман.
Одна из книг — «Тайна стоит жизни» — в свое время взбудоражила весь Советский Союз. Еще бы — речь в ней шла о тайных подземных ходах монастыря на Волге. Сегодня мы предлагаем вам туристический маршрут, который 40 лет назад был засекречен… КГБ!
— Сейчас мало кто знает, что в советское время все книги проходили проверку в Комитете Государственной безопасности и мой роман «Тайна стоит жизни» не стал исключением, — признался порталу «Кошк@Казань» Зуфар Фаткудинов
(на фото — прим. автора). — Меня вызвали в Москву и сказали: «Вы же понимаете, что рассказывая о подземных ходах под монастырскими стенами, вы привлекаете к ним очень много любопытных!»
Книгу запрещали к печати трижды, но казанский писатель воспользовался своими связями и роман все же вышел в свет. Забегая вперед скажем, что реакция «кэгебешнииков» на это была суровой: практически все подземные ходы, упоминаемые в романе, были замурованы.
Город Светловолжск и поселок Святовск
Отрывок из книги:
На автовокзале Закиров узнал: за рубль пять копеек можно добраться до четырех близлежащих к Светловолжску населенных пунктов, в числе которых был и Святовск.
Как вы уже поняли, действие книги разворачивается в Казани, однако в романе фигурирует другое название города — Светловолжск.
— Мне в КГБ сказали: нужно менять название, иначе начнется настоящее паломничество любителей приключений, — объясняет Зуфар Фаткудинов. — А когда туристы начнут общаться со священниками, то есть шанс, что им понравятся рассуждения о Боге, и они свернут с пути к светлому коммунистическому будущему. Передо мной поставили ультиматум: или меняйте название города, в котором происходят главные события, или мы не пропустим ее. Так Казань стала Светловолжском, а Свияжск — Святовском. Реальные названия улиц в романе разрешили оставить.
Исторический факт:
Действие романа происходит в начале ХХ века, тогда добраться до Свияжска можно было на автомобильном транспорте. Затем, при создании Куйбышевского водохранилища, поселок стал островом.
Ресторан «Центральный»
Отрывок из книги:
Друзья заспешили к ресторану «Центральный». Их кто-то окликнул. Оба оглянулись. Цокая по асфальту коваными сапогами, приближался запыхавшийся военный.

«Центральным» писатель назвал ресторан при гостинице «Казань», что на улице Баумана. Как вы уже поняли, его название пришлось менять по той же причине, что и название города. Сам Зуфар Максумович признается, что просил сотрудников КГБ оставить ресторан «Казань» в книге, но те были непреклонны и ему с болью в сердце пришлось его переименовать.
Любопытный факт:
При реконструкции гостиницы «Казань» были обнаружены подземные ходы, которые шли под улицей Баумана. Сотрудники организации «Казань-Космопоиск», исследовавшие подземелья, смогли пройти по ним метров сто — дальше все было замуровано. Сейчас нет и этого участка подземного хода — он был уничтожен во время строительных работ.
Левобулачная и Правобулачная улицы
Отрывок из книги:
— Равкат, — сказал он Измайлову, — на Правобулачной около дома номер пятьдесят, совершен грабеж. Потерпевшая будет ждать. Бери машину и — мигом.
Улица Право-Булачная, действительно, есть в Казани. Вот только дома на ней идут под нечетными номерами, поэтому дом 50 следует искать на другой стороне протоки Булак — на Лево-Булачной улице. Сейчас это трехэтажный жилой дом с кафетерием на первом этаже.
Здание НКВД
Здание Народного комиссариата внутренних дел находилось на улице Черноозерской Правой
(ныне улица Дзержинского — прим. автора). Позднее в нем расположилось КГБ Татарстана, а чуть позже МВД республики. Словосочетание «Чёрное озеро», возле которого находилось НКВД, для казанцев приобрело тот же смысл, что и «Лубянка» для москвичей. Поскольку в советское время здесь располагалось главное здание отделения КГБ в Татарской АССР, а ныне учреждения МВД России по Республике Татарстан, горожане грустно шутили, что за нарушение закона можно и «на Чёрное озеро попасть».

Волжский монастырь
Отрывок из книги:
...Он, как уроженец Святовска, считал, что Волжский монастырь, который находится на территории этого поселка,— обитель с неразгаданным мрачным прошлым.
Ну вот, наконец, мы добрались и до главной тайны романа — к монастырю, по подземным ходам которого прятались шпионы. Многие читатели ошибочно решили, что Волжский монастырь находится в городе... Волжский (Волгоградская область). На самом деле никакого Волжского монастыря не существует. Дело в том, что это собирательный образ сразу трех российских святынь — Свияжского, Раифского и Ипатьевского
(находится в Костроме — прим.автора) монастырей.

— Все эти монастыри, за исключением Раифского, находятся на берегу Волги, отсюда и название, — объяснил Зуфар Фаткудинов нашему сайту. — И в каждом из них существуют подземные ходы — в своем романе я ничего не выдумывал, просто описал то, что видел в трех монастырях. К примеру, мне показывали подземный ход в Раифе, который выходит из-под главного храма за стену монастыря прямиком к озеру. Этот тайный ход обнаружили случайно, когда сносили светелку на берегу озера, чтобы поставить там киоск для туристов.
Отрывок из книги:
В образовавшуюся щель майор увидел, как Шарафетдинова забралась на подоконник. На глазах у контрразведчиков женщина, стоявшая на широченном метровом подоконнике, юркнула в черный проем, образовавшийся в боковой стене окна. Вход за ней тотчас закрылся.
— Помню, как в детстве бегал мальчишкой по крышам и чердакам церквей в Ипатьевском монастыре
(он находится в Костроме — прим. автора), — вспоминает Зуфар Максумович. — И именно там я впервые увидел между стен, а они там по 2-3 метра в толщину, вход в секретную комнату прямо с подоконника.
По словам писателя, остров Свияжск был практически весь изрыт подземными ходами. Как и в романе, один из тайных ходов выходил прямо к Волге. Зуфар Фаткудинов лично исследовал эти ходы в конце 70-х годов. В то время церкви и храмы были брошены на произвол судьбы и никем не охранялись.
— Считается, что один из подземных ходов вел из монастыря в Свияжске на берег Волги, — подтверждает слова писателя руководитель казанского отделения «Космопоиск» Мария Петрова. — То есть можно было по нему пройти под водой, если не затопило, конечно.
Из первых рук:
Один из российских телеканалов ведет переговоры с писателем об экранизации романа «Тайна стоит жизни». Несколько лет назад кинофильм должен был снимать Сергей Говорухин, но он скоропостижно скончался. Съемки должны были пройти на территории Свияжского монастыря.
Хайнц Фивег
Пожар в лаборатории №1

На государственном радиозаводе загудела сирена. Перерыв на обед. В цехах остановились машины, захлопали двери, заводской двор ожил: загомонили человеческие голоса, послышался веселый смех. Рабочие и служащие спешили в столовую.
Инженер Фред Хансен стоял у окна лаборатории №2 исследовательского цеха и смотрел на улицу. Над заводом и дальше над полем – серая тяжелая простыня неба. Тяжелые, набухшие облака плыли так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки высоких тополей у ворот завода. За окном суетились два воробья. Они, нахально чирикая, дрались, словно боевые петухи. Хансен не обращал на них внимания. Всеми мыслями он был в лаборатории №1. Как работает недавно сконструированный ультразвуковой передатчик? Насколько удалось повысить мощность звука?
Хансен закусил губу, глаза его хищно сощурились.
Уже третью неделю продолжаются испытания. Результаты их хранятся в строжайшей тайне. Месяц назад доктору Гартунгу удалось сконструировать полностью оригинальный звукогенератор. Теперь доктор мог получать ультразвуковые волны в сто раз мощнее тех, которые удавалось получить до сих пор.
Хансен потер рукой высокий лоб и глубоко вздохнул от сильного волнения. Энергия звука во сто крат сильнее! Губы его сомкнулись так крепко, что аж побелели. Инженер медленно отошел от окна. Его сухое, худощавое тело подтянулось, напряглось. Только теперь он вспомнил, что сирена, возвещавшая время обеда, уже прозвучала. Хансен внимательно оглядел лабораторию. Уже несколько дней он замещал руководителя, который тяжело заболел. Инженер вышел из комнаты, запер дверь и шагнул во двор завода.
Большой светлый зал столовой был полон людей. Запах жареного мяса приятно защекотал ноздри. Хансен втянул носом воздух и заглянул в тарелку какого-то ученика.
– Жареная колбаса, – пробормотал он и отошел от окошка выдачи.
Долго рассматривал меню.
– Вы никак не можете что-нибудь выбрать? – приветливо улыбаясь, спросила кухарка. – Рубленые котлеты сегодня просто чудесные. Или, может быть, хотите фасоль с копченым мясом и подливкой?
Хансен покачал головой.
– Я бы сейчас съел вкусный овощной салат. Зеленый горошек, морковь, спаржа и... Да вы сами знаете лучше меня.
– Свежие овощи... – что-то прикидывая для себя, сказала кухарка. – Подождите минуточку, господин Хансен.
Кухарка, небольшая, полная женщина, побежала в кладовую, взяла с полки банку консервов и быстро открыла ее электрическим ножом. Затем зашла в большую облицованную белым кафелем кухню и поставила консервы в высокочастотную электрическую печь.
Через минуту кухарка щелкнула маленьким красным выключателем у дверцы печи, и монотонный зуммер умолк. Женщина выложила еду из банки на тарелку и вернулась к окошку выдачи.
– Вот ваш заказ, господин Хансен, – сказала она с приветливой улыбкой.
Инженер поблагодарил и сел на свое место. Шум в зале столовой становился всё громче. В людской гомон и смех вплеталась ласковая музыка из громкоговорителей. За соседним столиком сидели заводские ученики и говорили про ультразвук.
– В пятницу доктор Гартунг делает доклад об ультразвуке, – сказал невысокий крепкий юноша. – Я обязательно послушаю, – сразу же добавил он. – Вон, кажется, он сидит, доктор Гартунг? За маленьким столиком, у второго окна. Он всегда носит роговые очки.
– Ты что-то путаешь, – перебил его второй ученик. – В очках – это профессор Веге. А справа от него, вон тот лысый, и есть доктор Гартунг. Слева сидит инженер Тале. Я их уже хорошо знаю. Все трое работают в исследовательском цехе. Когда я стану инженером, тоже попрошусь туда.
Трое ученых вместе поднялись из-за стола. Инженер Хансен смотрел им вслед, пока они, возбужденно о чем-то переговариваясь, шли по двору завода. Руки профессора Веге были засунуты глубоко в карманы белого лабораторного халата, он был на целую голову выше обоих своих коллег. Доктор Гартунг, очевидно чем-то очень взволнованный, все время резко размахивал правой рукой. Инженер Тале сложил ладони своих коротеньких рук на груди и озабоченно покачивал головой. Наконец все трое скрылись за железной дверью исследовательского цеха.
Голоса трех мужчин звонко звучали в большом зале. Солнечный луч играл на белых металлических частях аппаратов. Большая доска управления с многочисленными измерителями и контрольными приборами закрывала широкую стену лаборатории. Посреди помещения стоял недавно смонтированный ультразвуковой генератор – большая, выше человеческого роста, клетка, в которой разместились причудливо переплетенные провода, катушки и трансформаторы. Вперед выдавалась, как тонкий хобот, эластичная штанга, на конце которой висел рефлектор звукогенератора. На верхней части аппарата были расположены кнопки управления, измерительные приборы и квадратный экран трубки Брауна – на нем во время работы аппарата можно было видеть отображение ультразвуковых волн.
Инженер Тале надел халат и сразу же принялся подсоединять кабели, связывающие звукогенератор и пульт управления.
Доктор Гартунг открыл небольшой сейф, достал чертежи звукоусилителя и начал объяснять профессору Веге некоторые усовершенствования. Седой ученый нахмурился, но одобрительно кивнул головой.
– Хорошо, коллега Гартунг, я согласен. – Профессор посмотрел на часы. – К сожалению, сейчас мне нужно идти на лекцию. Но я думаю, что через два часа вернусь. Начинайте, пожалуйста, испытания аппарата и усилителя, а затем исследуйте пластины из искусственного материала, те, что прислала азотная фабрика. Это новый материал для изготовления зубчатых колес. Обычные ультразвуковые испытания их промышленным аппаратом дали отрицательный результат. Надо попробовать еще нашим генератором.
Профессор Веге попрощался с обоими учеными и вышел из лаборатории.
Доктор Гартунг подошел к столу, где лежали две толстые темно-желтые пластины. Взял их и постучал кончиками ногтей по ровной поверхности.
– Материал, кажется, крепкий, – сказал он негромко.
Между тем инженер Тале уже соединил новый усилитель с ультразвуковым передатчиком. К передатчику он прикрепил шарнир рефлектора и проверил, легко ли он ходит. Рефлектор, похожий на автомобильную фару без стекла, при малейшем прикосновении поворачивался в нужном направлении. Инженер остался доволен.
Подошел Гартунг и проверил соединения кабелей.
– Все ясно? Ну, можно начинать испытания. Включайте!
Почти полчаса ученые проводили опыт.
– Все в порядке, – удовлетворенно произнес Гартунг. – По сравнению со старым аппаратом мы увеличили мощность звука в восемьдесят раз. А теперь, коллега Тале, давайте займемся пластинами из искусственного материала, посмотрим, что у них внутри. Теперь, при такой высокой мощности звука, нам не страшно сопротивление воздуха.
И он положил одну из пластин под рефлектор, на специально оборудованный столик, тоже изготовленный из искусственного материала. Инженер Тале взялся рукой за рычаг главного выключателя и повернул его вверх.
В помещении раздалось низкое гудение. Стрелка измерительного прибора медленно поползла вверх и, слегка подрагивая, остановилась у красной черты.
Гартунг внимательно смотрел на экран трубки Брауна, который начал светиться зеленоватым светом. Он немного ослабил регулирующий винт и сдвинул рефлектор на несколько миллиметров в сторону. Инженер стоял рядом и следил за измерителем силы звука.
– Ну вот, это нам и надо, – сказал он, указывая на экран. – Две линии почти слились.
Он повернул маленький рычаг вниз. Рефлектор плавно двинулся вверх, и пучок звуковых лучей, собранный в его фокусе, на несколько секунд упал на обоих исследователей.
Доктор Гартунг положил на столик вторую пластинку искусственного материала и направил на нее луч рефлектора.
Вдруг инженер Тале начал ощупывать свой пояс. Что это? его штаны спадают. Он хотел покрепче затянуть ремень, но пряжка куда-то исчезла.
– Что случилось? – спросил доктор Гартунг.
– Мой пояс... звуковые волны... я ничего не понимаю...
– Поскорее подвяжитесь куском электрического провода. Только быстро, нельзя, чтобы аппарат работал вхолостую.
Гартунг извлек из кармана блокнот. Не отрывая глаз от измерителя, он потянулся рукой к кармашку на груди за своим автоматическим карандашом и подумал:
«Надо немедленно записать напряжение. Мы должны...»
Но кармашек оказался пустым. Это сбило его с мысли, и доктор недовольно нахмурился.
«Куда я подевал свой карандаш?» Он еще раз поискал в кармане, потом подошел к столу, отодвинул в сторону бумаги. Автоматического карандаша не было и там.
Тале еще раз, но снова безуспешно, поискал на полу пряжку от своего ремня. Гартунг в третий раз пощупал карман халата и ищущим взглядом обвел помещение лаборатории.
– Пожалуйста, возьмите мой, – предложил инженер и подал ему свой пластмассовый карандаш.
Доктор Гартунг начал было писать, но на его лице опять появилось недовольное выражение. Он раздраженно посмотрел на кончик карандаша.
– Черт знает что! – пробормотал Гартунг. – Здесь нет металлического наконечника, который удерживает грифель.
Тале растерялся. Его лоб покрылся морщинами.
– Наконечника?.. Да что происходит?!
Гартунг рассердился не на шутку.
– Действительно, какой-то несчастливый день! Сначала вы чуть было не потеряли штаны, потом куда-то подевался мой замечательный серебряный карандаш, и, наконец, вы мне даете карандаш, которым невозможно писать, потому что на нем нет металлического наконечника.
Он сердито покачал головой и снова пробормотал:
– И куда я его задевал? Выключите аппарат! – крикнул он наконец и нервным движением потянулся за сигаретами.
Пачка была пустой.
– Будьте так добры, коллега Тале, возьмите у секретарши карандаш и заодно принесите две сигареты. – Доктор Гартунг достал из портмоне деньги и передал инженеру. Тале потуже завязал электрический провод, который теперь служил ему поясом, и вышел из лаборатории. Через несколько минут он вернулся.
Доктор Гартунг уселся на низенький стул и задумчиво следил за прядями сигаретного дыма, которые, плавно колеблясь, тянулись к открытой форточке и исчезали, растворяясь в воздухе за окном.
Тале снова начал возиться с ультразвуковым передатчиком.
– Я пока включу, – обратился он к Гартунгу.
Тот молча кивнул головой.
Лабораторию наполнило низкое гудение трансформатора высокого напряжения. Трубки передатчика нагрелись, и Тале начал пристально следить за экраном. Вдруг он вспомнил, что не вернул Гартунгу сдачу за сигареты. Чтобы не забыть, он вынул из кармана брюк мелкие монеты и положил их на край исследовательского столика.
Экран снова осветился. Подошел доктор Гартунг. Широко раскрытыми от удивления глазами он смотрел на монеты, лежащие на краю стола. Сигарета выскользнула из его пальцев.
– Коллега Тале, – с трудом выдавил он из себя, – монеты...
Гартунг бросился к генератору. На его глазах монеты превращались в кучку порошка с металлическим отблеском.
Гартунг потер пальцами виск
и, на миг закрыл глаза и снова открыл их.
– Не сошел ли я, часом, с ума?.. Этого не может быть! Монеты... они рассыпались!
Инженер стоял, открыв рот, и не мог произнести ни слова.
– Выключите! – приказал доктор Гартунг. – Нет, постойте, оставьте всё так! – сразу же отменил он свой приказ. – Кусок металла!
Гартунг впопыхах открыл ящик с инструментами и схватил плоскогубцы. Дрожащей рукой он отодвинул в сторону пластины из искусственного материала и положил плоскогубцы под луч ультразвука. Через несколько секунд они превратились в серый порошок.
– Выключите! – тихо приказал Гартунг и тяжело опустился на стул. – Это первая ступень холодного плавления металлов! Вы только представьте себе, Тале! Плавить сталь, алюминий, медь, не повышая температуры! Без тепла делать их жидкими! Боже мой, я не могу поверить своим глазам! Это моя давняя мечта!
Вдруг он вспомнил о серебряном карандаше. Гартунг вывернул карман халата и высыпал на ладонь блестящий порошок.
– Вот, посмотрите, этот порошок только что был моим любимым карандашом. Металлический наконечник вашего пластмассового карандаша сейчас в таком же состоянии. Пряжка вашего пояса тоже рассыпалась в прах где-то здесь, на полу.
Гартунг вскочил со стула.
– Коллега Тале, прошу вас, включите снова аппарат, надо повторить опыт.
* * *
Поезд
«Летучий гамбуржец» остановился с едва ощутимым толчком. Главный вокзал Гамбурга. Открылась дверь. Поток пассажиров затопил перрон и быстро поплыл к выходу. У газетного киоска остановился молодой человек в светлом плаще и низко надвинутой на глаза шляпе. Он незаметно оглянулся. Немного постояв, молодой человек направился на привокзальную улицу. Сделал несколько шагов в одном направлении, затем, будто изменив решение, кивнул водителю такси, негромко назвал улицу и сел на заднее сиденье. Перед первым кафе, которое встретилось на пути, приказал остановиться, рассчитался и зашел в него. Но как только такси уехало, вышел из кафе и направился по улице. Ему бросилась в глаза вывеска английского бюро путешествий. Молодой человек остановился недалеко от нее, у большой витрины магазина, и начал рассматривать выставленные там разноцветные товары. Он стал так, чтобы стекло витрины, как зеркало, отражало все вокруг. Несколько минут, не оборачиваясь, следил за потоком прохожих. Затем подошел к входу в бюро, нажал медную ручку широких дверей и вошел внутрь.
Из мягкого кожаного кресла поднялся высокий худощавый мужчина и, приветливо улыбаясь, пошел навстречу гостю.
– Я хотел бы увидеть мистера Диксона, – сказал молодой человек в светлом плаще. – Моя фамилия Паркер.
Худощавый погладил пальцем узкие усики, украшавшие его верхнюю губу:
– Простите, господин, мистер Диксон сейчас занят очень важной беседой и...
– Я подожду, – перебил его молодой человек.
Худощавый слегка поклонился.
– Минутку, прошу вас.
Он снял телефонную трубку и нажал кнопку.
– Мистер Диксон? Вас хочет видеть господин Паркер. Сказал, что подождет. Хорошо. Слушаюсь. – Он повесил трубку.
– Господин Паркер, мистер Диксон просит вас, – вежливо указал он на темные двери. Паркер коротко постучал и вошел.
– А, главный инженер Хансен... простите... Паркер. – Широкоплечий человек, сидевший за письменным столом, не вставая, подал ему мясистую руку. – Я очень рад вас видеть.
Услышав слово – «главный инженер», Хансен заметно оживился. Довольная улыбка промелькнула на его устах. Вскинув голову чуть выше, чем обычно, он поклонился мистеру Диксону. Потом поставил портфель на пол, положил на мягкий стул плащ и шляпу и сел в одно из кресел у стола.
Диксон вышел из-за стола и сел во второе кресло, напротив Хансена. Он открыл небольшую коробку с темными сигарами, стоявшую на столе, взял одну, и, удобно устроившись в мягком кресле, предложил Хансену. Тот поблагодарил и закурил сигарету. Затем вынул из кармана маленький коричневый сверток и протянул его Диксону.
– Слепок, – тихонько пояснил Хансен.
В глазах Диксона вспыхнули огоньки. Он разорвал пакетик, взял со стола лупу и начал внимательно рассматривать сквозь нее восковой слепок секретного ключа.
– Гм, очень удачно, блестяще. А как дела с информацией о последних изобретениях, имеющих отношение к аппарату?
На дряблом лице Диксона появилось выражение нетерпения. Его двойной подбородок почти закрывал шею, и казалось, что голова сидит прямо на плечах.
Хансен развел руками.
– Мне еще не удалось разузнать подробности. Я знаю только, что с помощью недавно сконструированного прибора можно превращать твердые металлы в порошок. Думаю, что в ближайшие дни смогу сообщить вам точные сведения.
Диксон громко засопел, нижняя губа его отвисла и вытянулась вперед, лоб покрылся мелкими морщинками. Он вытащил бумажник и передал Хансену письмо.
– От исследовательского отдела «Электрик компани», – подчеркнул с легкой улыбкой. – Прошу ознакомиться.
«...Мы приветствуем вас, мистер Паркер, по случаю вашего назначения на должность главного инженера...»
У Хансена едва заметно задрожали руки. Он почувствовал, что сердце вдруг начало биться сильнее и горячая кровь быстрее побежала по жилам. Как удачно, что он познакомился с Эдит! Англичанам он нужен. Без ученых им не обойтись. Да, колониальная держава неотвратимо распадается. Никуда уже не денутся. Теперь они должны развивать промышленность, а это требует сверхбыстрых темпов. Широкое поле деятельности для него! Главный инженер! Ну что ж, для начала... Но потом...
Да, потом... Сначала нужно самому сделать какое-нибудь изобретение, основать компанию... «Генеральный директор...» Эти слова как-то сразу всплыли в его голове. Губы сложились в довольную улыбку. Генеральный директор! Власть, богатство, роскошь – все, все содержали в себе эти два слова. Хансен ясно представил себе не существующую еще собственную виллу посреди прекрасного парка. К воротам парка подъезжает большой спортивный автомобиль...
Голос Диксона оборвал его мечты.
– Я с удовольствием передаю вам привет от моей дочери. Она будет очень рада, если вскоре сможет увидеть вас в Лондоне.
Хансен вежливо поблагодарил, сложил письмо и положил его на стол.
Диксон смотрел на кончик своей сигары.
– Теперь перейдем к нашему плану, мистер Хансен. Вы считаете, что проникнуть ночью в исследовательскую лабораторию совершенно невозможно?
Хансен вздохнул, скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Острый, слегка выдающийся вперед подбородок, опущенные вниз уголки рта придавали его лицу холодный, решительный вид.
– Да, – твердо ответил он, – это самоубийство. Охрана настолько бдительна, что даже мышь не сможет пролезть туда незамеченной. Нет, так мы не доберемся до чертежей. Есть только один путь. Для этого мне нужен секретный ключ и – газ. Сильный отравляющий газ, который вызывает глубокий обморок.
Диксон подпер голову левой рукой и вопросительно посмотрел на него. Хансен коротко обрисовал свой план действий.
– Это единственный путь, – подчеркнул он еще раз. – Автоматические выключатели для ультразвукового генератора изготовлены в нашем отделе, и я позаботился о том, чтобы они имели небольшой дефект. Аппарат будет работать с перебоями. Мне придется перебрать выключатели, и тогда...
Инженер Хансен подался немного вперед.
– Когда чертежи будут в моих руках, я исчезну дня на два, прежде чем прийти к вам, потому что, уверен, все исследования, которые ведутся на заводе, находятся под контролем органов государственной безопасности. Прошу вас, мистер Диксон, приготовить для меня загранпаспорт и билет на самолет на следующей неделе. Я приду к вам, как обычно, в двенадцать часов.
– Все будет сделано, мистер Хансен. Если вам нужна будет какая-то помощь, сообщите мне. Баллончик с газом и секретный ключ я пришлю вам через два дня.
Диксон встал, подошел к столу и выдвинул ящик. Затем передал Хансену маленький черный пистолет.

– Для вашей личной безопасности, – негромко добавил он. – Осторожно! Он заряжен.
Хансен покрутил оружие в руках. Но эмблемы фирмы-производителя нигде не было видно. Он вытащил магазин. Семь стальных пуль заблестели перед его глазами. Инженер проверил предохранитель и вставил магазин обратно. Кивнув головой, спрятал пистолет в карман.
* * *
Большие электрические часы на проходной показывали восемь часов, когда у ворот радиозавода остановились четыре мощных автомобили. Из них вышли несколько женщин и мужчин. Собравшись группками, они быстро прошли через заводской двор и скрылись за дверью клуба. В зале уже ждали ведущие ученые и инженеры исследовательского отдела. Они тепло приветствовали вновь прибывших представителей правительства и ученых. Профессор Веге крепко пожал руку двум своим бывшим сокурсникам, один из которых приехал из Ганновера, а второй – из Мюнхена. Журналисты начали делать первые заметки.
Когда все заняли свои места, слово взял руководитель исследовательского отдела профессор Веге.
Инженер Хансен крепко вжался в спинку кресла, выжидая. Его взгляд быстро скользнул по собравшимся и остановился на лице Веге. Редкие волосы профессора на висках уже совсем поседели, глубокая морщина прорезала высокий лоб, а очень бледное лицо говорило о том, что в последнее время он мало бывал на свежем воздухе и не видел солнца. Профессор стоял неподвижно и сквозь блестящие стекла очков рассматривал присутствующих. Наконец он раскрыл папку и начал говорить спокойным, слегка глуховатым голосом. Профессор коротко рассказал об усовершенствовании ультразвукового генератора.
– ...И, наконец, нам общими усилиями удалось сконструировать генератор звука совершенно нового типа, – проговорил профессор Веге, слегка повысив голос. – Возбуждаемые им звуковые волны разрушают структуру металла. Железо, алюминий, даже самая твердая сталь рассыпаются в мелкий порошок. Мечта ученых о холодном плавления металлов завтра станет явью. Нечего и говорить – смелая мечта! Но она превращается в реальность.
Доктор Гартунг, после некоторых усовершенствований звукогенератора, уже расплавил холодным способом алюминий. Итак, в ближайшее время мы сможем плавить с помощью ультразвука почти все металлы. Сейчас мы не можем еще предугадать всех последствий этого изобретения, однако хорошо понимаем одно – оно представляет собой новый большой шаг вперед в технике.
При плавлении металлов ультразвуком затрачивается лишь незначительная часть той энергии, которую приходится тратить при высокотемпературном плавлении. Мы сэкономим миллионы тонн драгоценного угля, сотни тысяч киловатт электроэнергии. Вся металлургическая промышленность будет коренным образом перестроена. Ни один кусок металла не попадет на прокатные станы раскаленным. Под вальцы пойдет холодная болванка, обработанная ультразвуком. Под вальцами и гидравлическими прессами она превратится в трубы, прокат различных сортов, рельсы. Работать на сталелитейных заводах станет гораздо легче. Сейчас рабочие этих заводов работают в тяжелых асбестовых костюмах и темных очках. Завтра они будут работать в легкой, удобной одежде. Отливка деталей будет осуществляться непосредственно в соответствующих литейных формах, изготовленных из искусственного материала. То есть плавиться металл будет прямо в этих формах. Таким образом мы сможем получать исключительно гладкие поверхности, а точный вес полученных деталей сделает ненужным дополнительную обработку их на станках.
Ультразвуковая сварка металлов также принесет огромную выгоду. При таком способе сварки не потребуется создавать высокую температуру на свариваемом месте, оно будет свободным от вредного воздействия высокой температуры. Трещин и надломов в районе сварного шва не будет совсем. Для металлообрабатывающих станков не нужны станут дорогие металлы и минералы, с помощью которых обрабатываются детали сейчас. Для примера скажу, что фрезы и резцы мы сможем тогда изготавливать из нашего нового искусственного материала, твердого, как стекло. Так же и прокатные станы, на их изготовлении мы сэкономим много высококачественной стали. На каждом станке будет установлен ультразвуковой излучатель, который будет размягчать место, которое надо обработать...
Завершение речи профессора Веге потонуло в бурных аплодисментах присутствующих. До сегодняшнего дня только небольшое количество ученых знало о достижениях в области холодного плавления металлов. Последним выступал доктор Гартунг. После своего выступления он пригласил присутствующих в лабораторию, чтобы продемонстрировать им несколько опытов.
* * *
Крайне заинтересованные представители правительства и другие гости вошли в ярко освещенную лабораторию. В помещении было светло, как днем, несмотря на то, что широкие окна плотно закрывали стальные ставни. Люди удивленно осматривались вокруг, ища источник света.
Профессор Веге объяснил, что здесь искусственное, так называемое «холодное» освещение. Потолок и стены фосфоресцирующие.
Один из журналистов коснулся похожей на стекло поверхности стены.
– А из чего состоит это светящееся вещество? – поинтересовался он. – Оно что, аккумулирует дневной свет?
Инженер Тале, стоявший рядом, отрицательно покачал головой.
– Нет, здесь вы имеете дело со сложным химическим соединением. Оно делает видимым инфракрасное тепловое излучение – в обычных условиях, как вам известно, его видеть нельзя. Трубы отопления проложены не под штукатуркой на стенах, а проведены вдоль пола у стен. Как известно, теплый воздух поднимается вверх. Химическое соединение впитывает определенное количество тепла и превращает его в свет.
Доктор Гартунг начал что-то делать у ультразвукового генератора. Аппарат стоял на четырех толстых белых изоляторах и был весь закрыт футляром. Из футляра торчал эластичный шланг, на конце которого висел диск величиной с тарелку.
Профессор Веге придвинул пластмассовый столик с круглым углублением посередине и положил туда кусок стальной пружины. Гости расположились у генератора полукругом, чтобы всем было хорошо видно, как будет проходить опыт.
– Включайте! – крикнул доктор Гартунг.
Инженер Тале повернул вверх рычаг на пульте управления. Засветились сигнальные лампы, включились измерители, показывая высокое напряжение тока. Высокий вибрирующий звук заполнил комнату. За защитными решетками засветились трубки. Громко щелкнув, включились два реле. Тридцать пар глаз, не отрываясь ни на миг, смотрели на кусок стали в круглом углублении стола. Через несколько секунд засветился воздух вокруг звукоизлучателя. Большой диск стал похож на маленькое солнце, сияющее зеленоватым светом. Свет периодически вспыхивал ярче, и в нем трепетали, словно молнии, бледно-красные полоски. По комнате распространился сильный запах озона. Кусок стали постепенно плавился, превращался в жидкость, которая наконец начала кипеть.
Доктор Гартунг передал одному из представителей правительства длинную пластмассовую палочку.
– Прошу проверить, что масса, которая только что образовалась, действительно расплавленная сталь.
Представитель взял палочку и помешал ею кипящую жидкость. В этот момент доктор Гартунг подал знак. Аппарат выключили. За какую-то долю секунды жидкая сталь затвердела, крепко прихватив палочку.
Профессор Веге вытянул слиток из литейной формы за палочку и покачал им, как маятником. Он предложил всем присутствующим убедиться, что слиток совсем холодный.
– Сталь расплавлена холодным способом! – воскликнул высокий седой профессор из Эссена. – Невероятно.
– Но это реальность, уважаемые господа! – отреагировал на это восклицание профессор Веге. – Это был опыт номер один. Второй опыт вы своими глазами увидите через час.
Он повернулся к Гартунгу:
– Вы дали распоряжения?
– Уже всё готовят, господин профессор.
– Хорошо. А пока прошу всех снова в клуб.
Профессор Веге жестом пригласил подойти к себе заместителя заведующего вторым исследовательским отделом. Напряженной и от этого слегка неестественной походкой Хансен приблизился к профессору. Веге внимательно смотрел на маленькую худую фигуру в сером костюме. На брюках была наглажена острая, как лезвие ножа, складка. Хансен подошел поближе к Веге.
– К вашим услугам, господин профессор, – произнес он звонко и вопросительно посмотрел в лицо ученого.
– Не заметили ли вы, что во время опыта главное реле как-то странно щелкнуло?
Хансен удивленно поднял вверх брови.
– Странно щелкнуло? – повторил он скорее для себя. – Нет, господин профессор, я этого не заметил.
– Реле неисправно, – еще раз повторил Веге и озабоченно покачал головой. – Там что-то не в порядке. Прошу вас после обеда разобрать главный узел автоматического управления и внимательно все проверить. Мы не можем допустить, чтобы лампы генератора сгорели ко всем чертям.
– Хорошо, я сейчас проверю реле, – пообещал Хансен, – а потом снова поставлю их на несколько часов для проверки.
Профессор Веге отрицательно качнул головой.
– Нет, Хансен, этого нельзя делать. Хватит и одного часа. Самое позднее в три генератор должен быть готов к работе.
В глазах инженера Хансена вспыхнули недобрые огоньки. Он старался не смотреть на профессора.
* * *
В клубе ученые и представители правительства расселись группками и возбужденно обменивались впечатлениями о только что проведенном эксперименте. Журналисты набросились на инженера Тале, как на сотрудника профессора Веге и доктора Гартунга. На него посыпалось множество вопросов. Инженер Тале поднял руку, словно защищаясь от них, и сказал:
– Прежде чем ответить на ваши вопросы, я думаю, надо объяснить, что именно представляет собой ультразвук. Вы только что сказали, – он обратился к представителю иностранной газеты, – что это колебания. Правильно. Однако нельзя назвать ультразвуком любые колебания. Ультразвук – это такой звук, которого мы не слышим. Парадоксально, но это так. Как вам известно, звуковые тона состоят из колебаний. Все они имеют определенную частоту, то есть количество колебаний в секунду. Частота выражается в единицах, которые называются «герцами»... Звук распространяется в воздухе со скоростью триста тридцать метров в секунду. Ухо человека воспринимает колебания от шестнадцати до. Звук, частота которого выше двух тысяч герц, мы слышать не можем. Это и есть ультразвук. Собаки и некоторые другие животные способны воспринимать звук с еще большей частотой колебаний.
С помощью так называемого свистка Гальтона можно получить звук в четыре тысячи герц. Такой звук применяют для бесшумной подачи команды собакам. Маленький камертон также может излучать ультразвук. Но все эти способы возбуждения ультразвука невозможно применить в технике. Нам нужна огромная энергия звука. В 1880 году братья Кюри обнаружили, что тонкая кварцевая пластинка, если подвести к ней переменный ток с высоким напряжением, начинает колебаться и излучать ультразвуковые волны. Нужный для технического применения ультразвуковой излучатель был найден. Это устройство непрерывно совершенствовали, и сегодня мы имеем возможность получать ультразвук частотой около миллиона килогерц. Область применения ультразвука настолько широка, что без него трудно представить себе нашу жизнь. Ультразвук играет очень важную роль в металлургии. Тончайшие щели, даже тоньше волоса человека, которые не обнаружит ни один рентгеновский аппарат, можно «увидеть» с помощью ультразвука. Ультразвуковые волны пронизывают металлическую деталь, и там, где есть малейшее повреждение, крохотная щелка, а значит, и сопротивление воздуха, они отражаются. На экране катодной лампы мы видим их в виде линии или серии линий. Ультразвук разрушает бактерии. С помощью ультразвуковых волн можно вызывать осадки. Можно смешивать между собой жидкости, которые, как до сих пор считалось, смешивать нельзя – например, воду и масло, воду и ртуть – и получать так называемые эмульсии, очень нужные в химической промышленности. Новый промышленный ультразвуковой генератор крайне необходим для науки и техники. С помощью ультразвука удается также паять алюминий. Ультразвук разрушает на алюминии твердую оксидную пленку, которая препятствует спайке. С помощью ультразвуковых волн можно искать косяки рыбы в море, обнаруживать в тумане крупные айсберги, а также можно производить точные измерения глубины моря. В данном случае замерять время, за которое ультразвуковые волны достигнут дна, отразятся от его поверхности и вернутся назад. Вам уже известно, что летучие мыши не только слышат ультразвук, но и излучают его. Прежде чем полететь в темноте, летучая мышь излучает во всех направлениях ультразвуковые волны. Отраженные волны она воспринимает слуховым аппаратом и направляет свой полет так, чтобы не столкнуться с каким-либо препятствием. Итак, летучая мышь находит для себя свободный путь с помощью своеобразного облучения пространства. Во время полета она также излучает ультразвук, который имеет примерно пятьдесят тысяч колебаний в секунду. Эти звуки не слышит человек. Опыты показали, что летучая мышь огибает в темноте даже проволоку диаметром 0,2 миллиметра.
Инженер Тале закурил сигарету и сел в кресло. Журналисты задали еще много вопросов.
– Вы интересуетесь, как влияют ультразвуковые волны на человеческий организм? Это зависит от силы звука и его частоты. При холодном плавлении сила звука чрезвычайно велика, и поэтому длительное воздействие его на человека опасно для жизни. Но от этого влияния очень просто защититься. Ультразвуковые волны, как и обычное световое излучение, можно собрать в пучок и, таким образом, сконцентрировать в нужном месте.
– А что произошло во время вашего первого эксперимента, когда исчезла пряжка от вашего пояса и серебряный карандаш доктора Гартунга? Тогда вы еще не знали, что ультразвуковой генератор, сконструированный вами, разрушает металлы? Не было ли здесь опасности повредить металлические балки, поддерживающие потолок лаборатории, до такой степени, что помещение могло обвалиться?
– Нет, это невозможно. Сила звука была большой, но она действовала на расстоянии не более двух метров. Далее ультразвуковые волны теряли свою разрушительную силу. Чтобы передать ультразвук на большое расстояние, нужна колоссальная энергия. В этом вы сейчас убедитесь.
– Пожалуйста, еще один вопрос, господин Тале. На чем построен принцип холодного плавления металлов? Какие силы превращают твердый металл в жидкость?
– На этот вопрос очень легко ответить. Известно ли вам, что такое кавитация? Нет? Тогда я попробую это объяснить. Всюду, куда попадают ультразвуковые волны, происходит периодическое сжатие и расширение материи. Под влиянием сильных ультразвуковых волн образуются микроскопические щели и отверстия, которые сразу же заполняются газами, возникающими внутри материи. Эти скопления газов резко расширяются под воздействием ультразвука и высвобождают необходимую энергию. Молекулы сталкиваются между собой, и металл переходит из твердого состояния в жидкое.
* * *
В это время во дворе завода загружали две большие автомашины. На первую машину автокраном подняли дизель-агрегат, затем рабочие с помощью электропогрузчика подняли в кузов несколько больших ящиков и толстый моток кабеля. На второй грузовик поставили старый гусеничный трактор. Когда представители правительства, ученые и гости вышли из клуба и сели в легковые автомобили, грузовики выехали через широко раскрытые заводские ворота. Через полчаса машины остановились на широком ровном поле – бывшем аэродроме. Начали работать две телевизионные камеры. Трактор спустили с грузовика. Затем открыли большой ящик, и все увидели ультразвуковой генератор, почти в три раза больший, чем аппарат в лаборатории. Диаметр звукоизлучателя был не меньше метра. Два инженера проверили дизель-агрегат и измерительные приборы и толстым электрическим кабелем соединили генератор с звукоизлучателем.
– Все в порядке, – сообщил один из инженеров.
Всех удивил пулемет, установленный на старом тракторе. Профессор Веге попросил всех присутствующих подойти ближе.
– Вас удивляет наш доисторический броненосец? – улыбаясь обратился он к гостям. – Это ничего. Старый трактор очень хорошо сыграет свою роль в нашем опыте. Дайте волю вашей фантазии и представьте, что перед вами танк новейшей конструкции. Для нас имеют значение только гусеницы, потому что это главная деталь каждой бронированной боевой машины. Когда трактор отойдет на большое расстояние, эти гусеницы будут разбиты прямо отсюда. То же самое касается и пулемета. Могу вам сказать, что в его магазине нет ни одного боевого патрона. Так вот, господа, сейчас наш «танк» отъедет примерно на пятьсот метров от нас, и тогда мы нанесем по нему всего лишь два ультразвуковых удара. Каждый из них будет длиться только одну секунду.
Профессор Веге дал знак начинать. Взревел мотор, и трактор двинулся. Одновременно на грузовой машине заработал дизель-агрегат.
– Надо было прихватить с собой бинокль, – отметил один из представителей правительства.
– Он вам не нужен, – ответил доктор Гартунг и пригласил всех к машине с радарной установкой. Рядом с аппаратом сидел инженер, с помощью специального радиоаппарата на расстоянии управлявший трактором. На большом экране четко был виден трактор, который полз по далекому полю. Профессор Веге следил за электрическим измерителем расстояния.
– Пятьсот метров, – сказал он громко, – этого достаточно. Разверните трактор на сто восемьдесят градусов.
Инженер дернул вверх рычаг на радиоаппарате, и все увидели на экране, как трактор послушно развернулся в нужном направлении.
– Огонь! – приказал профессор Веге.
Застрочил установленный на тракторе пулемет. Тишину нарушили короткие пулеметные очереди. Трактор шел полным ходом. Наконец мелко задрожал грузовик, на котором был установлен ультразвуковой генератор. Дважды подряд дизель-мотор взревел так сильно, что, казалось, вот-вот взорвется. Ультразвуковые волны прорезали воздух и обрушились на гусеничный трактор. Трактор вздрогнул и стал, пулемет замолк.
– Прошу всех в машины – поедем глянем на «танк» вблизи, – сказал профессор Веге.
Представители правительства молча стояли перед трактором. Вся машина расплавилась, сплющилась, как от удара гигантского молота. Траки гусениц потеряли свою форму. Особенно жалко выглядел пулемет. Ствол изогнулся так, что отверстие его смотрело прямо в землю.
Профессор Веге первым нарушил молчание:
– Так же будет выглядеть танк новейшей конструкции, если он попадет под луч ультразвукового гиперболоида. Дело в том, что ультразвуковые волны размягчают металл только на какую-то долю секунды. Остальное делает сила земного притяжения. Посмотрите на пулемет. Как только металл стал мягким, ствол согнулся под собственной тяжестью. Что произошло с мотором, вы можете легко догадаться сами. Ни поршня, ни подшипника, даже мелкого винтика не осталось целым.
– А как действуют ультразвуковые волны на человека? – спросил один из представителей правительства.
– Два и даже три удара в течение секунды не причинят здоровому человеку особого вреда. Может, немного подскочит температура, воспалится горло. Но эти симптомы исчезают через четыре-пять часов. Ультразвуковой удар, который длится одну минуту, безусловно смертелен для человека. Но я хочу сказать вам одно: мы будем и дальше совершенствовать ультразвуковой гиперболоид, повышать дальность его действия. Это изобретение будет иметь большое значение для дела защиты мира.
Когда колонна автомашин вернулась на заводской двор, загудела сирена. Перерыв на обед. Сразу же после обеда инженер Хансен пошел в лабораторию №1. Хотя нервы его были напряжены до предела, держался он великолепно. Постучал в запертую дверь. Открыл ему инженер Тале. Профессор Веге и доктор Гартунг стояли у стола, на котором лежала длинная стеклянная трубка ультразвукового генератора, и о чем-то совещались.
Хансен начал снимать главное реле с аппарата, украдкой перебегая глазами от сейфа к выходной двери. Не торопясь он отсоединял толстый медный кабель от автоматического выключателя. Подошел профессор Веге.
– Обязательно хорошенько проверьте выключатель анодного тока, коллега Хансен. Если ток поступит в лампу на десятую долю секунды раньше, напряжение накаливания резко подскочит и пробьет конденсаторы.
Хансен снял реле и повернулся, чтобы уйти.
– Я все внимательно проверю, господин профессор.
Хансен отнес главное реле в лабораторию №2. Не прошло и получаса, как он наладил выключатель и проверил по электронным часам точность включения. Хансен удовлетворенно кивнул головой. От безупречной работы ультразвукового генератора зависел весь его план. Двадцать минут он проверял работу автоматического выключателя на коротких отрезках времени.
– Все в порядке, – пробормотал себе под нос и пощупал мягкий сверток, который держал в кармане пиджака под халатом. Сжал зубы и подумал: сейчас или никогда! Взял реле и вышел из лаборатории.
Кровь горячо стучала в висках, рука снова пощупала пакетик. Перед дверью лаборатории №1 Хансен нерешительно остановился, постоял мгновение, затем уверенно постучал.
– Нашли неисправность? – спросил профессор Веге.
Хансен объяснил, почему происходил сбой в работе выключателя. Он говорил спокойно, и никто не заметил, как сильно он волнуется. Затем он подошел к ультразвуковому генератору и начал устанавливать автоматический выключатель на место.
Оба ученых снова подошли к столу и продолжали разговор об усовершенствовании передающей лампы. Инженер Тале что-то монтировал на пульте управления, заменяя вольтметр.
Хансен наклонился к ультразвуковому генератору и крепко прикрутил реле. После этого он начал соединять кабель с кабелем. Его руки слегка, едва заметно дрожали. Он уже закончил работу, но не выходил из-за генератора – не оборачиваясь, краем глаза поглядывая на трех мужчин, осматривал лабораторию. Незаметно вытащил мягкий серый сверток, закрепил его между двумя резиновыми прокладками под генератором и дернул за конец веревочки на упаковке.
Это было делом одной секунды. Хансен продолжал пристально следить за тремя учеными. Никто из них не взглянул в его сторону.
– Реле готово, господин профессор, – сказал Хансен и сделал жест рукой, словно включая его.
– Хорошо, тогда можно начинать, – ответил профессор Веге. – Коллега Тале, вы ближе всех, включите, пожалуйста, генератор.
Хансен вышел из лаборатории №1 и, когда услышал, что за ним заперли дверь, почти бегом направился в лабораторию №2. Открывая дверь, он глянул на часы. Два часа тридцать минут. «За полчаса все будет сделано», – подумал он. И сильнее, чем обычно, хлопнул дверью.
Ассистентка стояла у небольшого рентгеновского аппарата, с помощью которого изучали структуру металлов.
– Снимки седьмой и восьмой уже проявлены? – с порога спросил Хансен.
Женщина удивленно посмотрела на своего шефа.
– Нет, вы говорили, что...
Хансен нахмурился.
– Вы меня неправильно поняли. Я не могу вести работу дальше, пока не проверю снимков. Где кассеты?
– Вот они. Их надо немедленно проявить?
Хансен сделал вид, что о чем-то размышляет.
– Нет, спасибо, я проявлю их сам.
Он вошел в фотолабораторию и запер за собой дверь.
«До сих пор все шло хорошо», – подумал он. Конечно, он знал, что снимки не проявлены. Это было предусмотрено его планом. Он должен выиграть время и, кроме того, обеспечить себе алиби. Такие же снимки он сам перед этим тайно сделал и проявил. Хансен положил кассеты на стол, достал из кармана и надел тонкие черные перчатки.
В это время профессор Веге и доктор Гартунг проводили опыт по изготовлению электродов из медного порошка. Ультразвуковой генератор работал хорошо. Вдруг инженер Тале схватился за голову. Лабораторная комната поплыла у него перед глазами. Ноги подломились в коленях, и он начал падать. Доктор Гартунг увидел, что Тале шатается, бросился, чтобы помочь, но в этот момент у него самого закружилась голова. Профессор Веге тяжело дышал, ему не хватало воздуха. Он ничего не мог понять. Ультразвуковые волны ударили в голову. Напрягая последние силы, ученый пытался дойти до дверей, сделал, шатаясь, два-три шага, затем тело его обмякло, и он потерял сознание.
Хансен осторожно открыл запасной выход из фотолаборатории – маленькие стальные двери, которые изнутри можно было открыть, нажав на них рукой. Снаружи они отпирались специальным ключом. Каждая лаборатория имела такой запасной выход, и все они вели в общий коридор, по которому можно было попасть в подземное убежище, построенное для защиты людей в случае пожара или взрыва.
Держа в руке карманный фонарик, Хансен осторожно продвигался вперед. У дверей запасного выхода лаборатории №1 он притаился, замер. Затем приник ухом к стальным дверям – послышалось отчетливое низкое гудение. Значит, ультразвуковой генератор работает. Хансен взглянул на часы, извлек поддельный ключ и осторожно вставил его в замок. Легонько-легонько, миллиметр за миллиметром поворачивал он ключ в замке. Приоткрыл немного дверь, так, что образовалась маленькая щелка, и заглянул внутрь.
Трое мужчин лежали на полу в глубоком обмороке. Хансен зажал нос зажимом, а в рот взял фильтр. Одним прыжком подскочил к ультразвуковому генератора и направил звукоизлучатель на стальной сейф. Пока вытаскивал из-под генератора опустевший пакетик, в котором недавно был газ, и пока прятал его, не сводил глаз с людей на полу. Дверцы стального сейфа очень медленно поддавались воздействию ультразвуковых волн, но спустя некоторое время они рассыпались серым порошком. Чертежи и папки с бумагами выпали из сейфа.
Хансен отвел в сторону звукоизлучатель и начал лихорадочно просматривать отдельные заметки. Наконец он нашел то, что искал. Несколько бумаг, заполненных формулами и чертежами, свернул и спрятал у себя под пиджаком. Затем вытащил из спичечного коробка бумажный цилиндрик, чиркнул им о коробок и бросил в кучу бумаг и чертежей. Взвилось и начало расползаться по куче бумаг пламя. Хансен снова направил рефлектор ультразвукового генератора на стальной сейф.
Заперев дверь запасного выхода из лаборатории №1, он пошел по коридору, посыпая за собой пол коричневым порошком. «Ни одна собака-ищейка не сможет взять мой след», – подумал он.
Прошло около получаса с тех пор, как Хансен вошел в фотокабину. Теперь он вышел из нее в помещение лаборатории №2, держа в руке два проявленных рентгеновских снимка. Положил негативы на матовое стекло, включил под ними свет и начал внимательно рассматривать. Лицо Хансена было совершенно спокойным, ни одно нервное движение не выдавало его внутреннего напряжения.
Подошла ассистентка и через плечо Хансена посмотрела на рентгеновские снимки.
– Заметили какую-то ошибку?
Хансен не ответил. Он убрал большую лупу, через которую изучал снимки, и только после этого медленно покачал головой.
– Нет, ничего важного. Я бы сказал: безупречно, – произнес он громко. – Теперь можно приступать к монтажу аппаратов.
Хансен выключил свет и положил рентгеновские снимки в папку. В этот момент тревожно загудела сирена радиозавода. В коридоре послышались взволнованные голоса.
– Пожар в лаборатории №1, – передало заводское радио.
Поднялась легкая паника. Хансен, казалось, первый овладел собой. Как ответственный за противопожарную безопасность в лаборатории №2, он открыл небольшой стальной сейф и вытащил бумаги с чертежами и расчетами. Затем громко приказал:
– Всем работникам немедленно пройти через запасной выход в убежище!
Сильным рывком он открыл толстые стальные двери лаборатории и остановился у порога. Сотрудники без паники двинулись за ним. В коридоре собиралось все больше и больше людей. Через запертые двери лаборатории №1 пробивался тяжелый дым. Два человека пытались длинным ломом взломать дверь. Наконец это им удалось.
Помещение лаборатории было полно дыма. В углу под грудой серого порошка горели бумаги. Через запасной выход в противодымных масках вбежали пожарные. Они быстро прошли в глубь помещения и вынесли в безопасное место трех мужчин, которые не подавали признаков жизни. Хансен пробился сквозь толпу у дверей, быстро подскочил к доске управления и дернул рычаг главного выключателя вниз. Гудение трансформатора прекратилось. Огнетушители пожарных быстро сбили пламя. После этого всех попросили выйти из лаборатории. У дверей стала охрана, и больше уже никто не имел права заходить в лабораторную комнату.
* * *
Трое ученых все еще лежали без сознания в помещении медицинского пункта завода. Врач немедленно осмотрел их.
– Слава богу, все трое живы! – сказал он, обращаясь к начальнику охраны. – От чего они потеряли сознание, сказать очень трудно. Возможно, в легкие попало много углекислого газа, но от этого не может быть такого глубокого обморока. Пульс очень слаб, можно подумать, что они находятся под наркозом.
Начальник охраны с нескрываемым удивлением посмотрел на врача.
– Под наркозом... – повторил он. – Вы хотите сказать, что...
Он не закончил фразы, потому что в этот момент доктор Гартунг открыл глаза и недоуменно посмотрел на врача. Затем попытался встать. Начальник охраны наклонился к нему. Гартунг пошевелил губами.
– Что такое... что случилось?.. Я...
Доктор Гартунг резко вскочил и сел. Он вспомнил последние минуты в лаборатории и протянул вперед руки, словно хотел поддержать Тале, поскольку до сих пор видел, как он качается, теряя сознание. Врач снова уложил доктора Гартунга на носилки.
Чуть позже пришел в себя сначала профессор Веге, а затем и инженер Тале. Прошло некоторое время, прежде чем они осознали, что с ними произошло. Сильный кашель заставил Веге снова прилечь. Все трое чувствовали нестерпимую головную боль.
Через четверть часа ученые, начальник охраны, начальник пожарной команды и еще несколько ответственных работников завода вошли в помещение лаборатории №1.
Доктор Гартунг стал белым как стена, когда увидел кучку серого порошка в углу комнаты. Профессор Веге сгорбился еще больше, словно на него навалился какой-то невидимый груз. Он стоял, бессильно опустив руки.
– Чертежи! – только и прошептал ученый.
Вдруг он оживился и наклонился над кучей полусгоревших, вымазанных пеной из огнетушителя папок. Руки его сильно дрожали, когда он вытащил большую зеленую папку.
– Это основные чертежи... папка пуста! – с болью воскликнул он. Быстрыми нервными движениями копался профессор в груде стального порошка, собирая бумаги. Он нашел все папки. Ни одна из них не сгорела до конца. И только зеленая папка была пустой.
– Основные чертежи похищены, – сказал профессор Веге так тихо, будто голос отказывался ему служить. Капли пота обильно выступили у него на лбу. Веге протянул пустую папку доктору Гартунгу. – Украдены, – повторил он и на мгновение закрыл глаза рукой.
Доктор Гартунг нервно вздохнул. Он смотрел на пустую папку, не в состоянии понять, что произошло. Одно было ясно – главного конструкторского чертежа вместе с расчетами не было. Тревожная тишина воцарилась в лаборатории.
Профессор Веге, который стоял на коленях, медленно поднялся.
– Сообщите органам государственной безопасности, – обратился он к начальнику охраны завода.
* * *
Через час трое ученых вместе с сотрудниками криминальной полиции и отдела противопожарной охраны сидели в клубе завода и пытались как можно подробнее восстановить произошедшее.
Ответственный за расследование комиссар уголовной полиции Бергер еще раз взял слово.
– Не возникает никакого сомнения, что в данном случае мы имеем дело с заранее продуманным преступлением. Преступник был хорошо знаком с техникой и местной обстановкой. Как он проник в лабораторию и почему потеряли сознание ученые, остается пока загадкой, которую надо разгадать как можно быстрее. Преступник должен быть схвачен.
Профессор Веге вскочил со своего места.
– Да, его обязательно надо задержать! – сказал он взволнованно. – Представьте себе, что это изобретение попадет в руки враждебного государства! Это ужасно! Монополисты в капиталистических странах и не подумают о тех выгодах, которые дает холодный способ плавления металлов. Их нефтяные и угольные концерны работают только для сверхприбыли. Монополисты заранее знают, что такое изобретение отнимет у них сверхприбыли. Ультразвуковой гиперболоид они превратят в машину смерти. Это изобретение используют для войны! Мы уже знаем подобные примеры. Так случилось с атомной энергией – огромным благом для человечества, – которая в руках преступников превратилась в опасность для всего мира!
* * *
Прошло несколько дней. Комиссар уголовной полиции Бергер задумчиво ходил по кабинету и курил трубку. Остановился около двух своих коллег, стоявших у окна.
– Черт возьми! – выругался комиссар, сунув руку в карман галифе. – Ухватиться бы хоть за маленькую ниточку, от которой можно начать следствие! А то ну ничего важного. Переворачивать завод вверх дном нет никакого смысла. Конструкторский чертеж и расчеты наверняка уже далеко за его пределами. Мы твердо убеждены, что преступник мог пройти в лабораторию №1 только через запасной выход. На замке двери нет ни повреждений, ни каких-либо следов. Значит, его открывали поддельным ключом. Загадкой остается обморок трех мужчин. Этот тип, очевидно, использовал очень сильный газ, потому что, как показывает профессор Веге, они все трое почти одновременно лишились сознания. Итак, коллеги, мы до сих пор ни на шаг не продвинулись вперед.
Восемь ученых, которые имеют какое-то отношение к этому делу, доказывают свое алиби фактами. Инженер Хансен последним покинул лабораторию перед тем, как все произошло. Его показания также не дают нам ничего нового. Только то, что он лично мне несимпатичен как человек, не может быть отправной точкой. Инженер Хансен слишком тщеславен и очень любит власть. Но это, в конечном счете, не юридический аргумент. Профессор Веге характеризует его как знающего инженера. Этот Хансен доказывает, что во время пожара в лаборатории №1 он был в фотокомнате своей лаборатории и проявлял там рентгеновские снимки. Его ассистентка и два инженера подтверждают это. Согласно показаниям все события, в том числе и пожар, произошли на протяжении пятнадцати минут. Таким образом, вряд ли Хансен смог бы за это время выйти из фотокомнаты и вернуться обратно. После этого он опять находился в своей лаборатории.
Комиссар Бергер продолжал слегка неуверенно:
– Алиби доктора Штегемана из пятого отдела мне кажется немного подозрительным. Сильные боли в желудке, которые мучили его в то время, мне совсем не нравятся. Но известно, что он был в медпункте. Сестра также подтверждает, что давала ему желудочные капли. А вот когда он вернулся, не знает и не может подтвердить. Я предлагаю еще раз допросить доктора Штегемана.
* * *
Прошла неделя. В лабораториях завода исследования шли своим обычным порядком. Но возбуждение, вызванное последними событиями, в которых, очевидно, был замешан и шпионаж, не спадало. В столовой за обедом разворачивались ожесточенные дискуссии, мнения резко расходились. В лабораториях царило слегка подавленное настроение. Никто не знал, кому верить, пока преступление не раскрыто. Органы государственной безопасности напряженно работали. Все сотрудники исследовательских отделов, даже уборщицы, дали показания.
Хансен размышлял о двух перекрестных допросах, на которые его вызывали. Он спокойно и уверенно отвечал на один
вопрос за другим и при этом смотрел комиссару прямо в глаза.
Тысячу раз он продумывал свои показания. Нет, его ни в чем нельзя заподозрить. Отпечатки пальцев его не выдадут. От этого уберегли перчатки. Собаку собьет со следа специальный порошок, который он рассыпал за собой. Пустой пакет от газа и непроявленные рентгеновские снимки уже уничтожены. Только на секунду он вышел из равновесия. Это когда комиссар спросил про заранее открытую дверь запасного выхода из фотокомнаты. Но и здесь Хансен молниеносно сориентировался и нашел ответ. Он вспомнил свои слова:
– ...Как только прозвучало: «Пожар в лаборатории №1», я, как ответственный за противопожарную безопасность в нашем отделе, бросился к двери запасного выхода, открыл ее и приказал всем своим коллегам немедленно покинуть лабораторию и перейти в убежище. Я закрыл дверь за последним человеком и побежал в фотокомнату, где лежало много фотоматериалов. Что-то заставило меня посмотреть направо. Может, крик «Огонь!» заставил меня обернуться, не знаю. Но все равно, я проверил фотокомнату и только тогда, уже немного успокоившись, пошел в убежище.
«Если бы они знали, что я вышел в коридор не через запасной выход фотокомнаты, а через помещение лаборатории – мне был бы конец, не успел бы даже сказать «ой!». Но они никогда не узнают об этом. Никто не мог меня видеть, потому что там не было ни одной живой души. Люди были уже в убежище».
И все-таки Хансен ощущал какую-то тревогу.
Вдруг ему показалось, что кто-то стоит за его спиной. В последние дни инженер Хансен стал очень подозрительным. Ему казалось, что товарищи тайно следят за ним. Их взгляды, жесты казались ему подозрительными, необычными. Но он сразу же брал себя в руки: глупости! Это все только нервы, болезненное воображение! Каждый человек имеет право смотреть на другого. Он медленно повернул голову и взглянул в лицо своей ассистентки.
– Я не хотела мешать вам, коллега Хансен. Вы уже просмотрели эти расчеты? – и она указала на лист бумаги, лежащий перед ним.
– Нет, еще не все. Но я сейчас заканчиваю.
Женщина наклонилась к нему и сказала приглушенно:
– Вы, наверное, как и я, все время думаете о шпионе. Вы верите, что доктор Штегеман... – Ассистентка не договорила.
Хансен проглотил слюну, его сердце начало биться быстрее. Он покрутил карандаш между пальцами и пожал плечами.
– Верить... – ответил он задумано, – верить – это уже слишком. Лучше сказать – подозревать. Еще ничего не доказано. Или вы что-то слышали?
– Нет, об этом очень мало говорят. Знаете, что я думаю? Шпион вошел в лабораторию №1 через убежище. Преступники всегда так изобретательны. Хотя полиция и ищет преступника среди нас, но я думаю, что это бесполезно. Разве вы, например, можете подумать такое о ком-то из наших коллег? Я – нет. Я с этим не согласна.
Хансен принужденно улыбнулся.
– Вы верите в честность? Конечно, я такого же мнения, как и вы. Однако ручаться головой за тридцать человек, которых, откровенно говоря, знаешь поверхностно, тоже нельзя. Вы считаете, что доктора Штегемана задержали безосновательно?
Взволнованная ассистентка вздохнула и замолчала.
* * *
Была суббота. После окончания рабочего дня рабочие и инженеры шумной толпой выходили через широко открытые ворота радиозавода. Трещали моторы мотоциклов, звенели велосипеды. Большие пестрые автобусы один за другим останавливались недалеко от ворот. Мужчины и женщины плотной толпой окружали их, заходили внутрь, и машины отходили.
Инженер Хансен быстро перешел через дорогу, чтобы успеть на автобус, но кондуктор уже отправила машину. Он с досадой глянул вслед и пробормотал что-то себе под нос. Затем закурил сигарету, подошел к самому краю тротуара и посмотрел вдоль улицы. Очередного автобуса пока не было видно. На остановке собиралось все больше и больше людей. Хансен нетерпеливо ходил туда и обратно по тротуару. Раздраженно взглянул на часы, и, когда поднял голову, случайно посмотрел в лицо мужчине, который, не таясь, пристально рассматривал его. У Хансена пересохло во рту. «Криминальная полиция! – мелькнула мысль. – Один из тех, кто следит за мной!» И он с деланным равнодушием отвел взгляд в сторону и спокойно поднес сигарету ко рту.
«Проклятье! Этого еще не хватало!» – подумал он. Хансен повернулся и как бы невзначай еще раз взглянул на незнакомца сбоку. Вдруг Хансену показалось, что этот резко очерченный профиль ему знаком. Или, может, он ошибается? А может, уже видел где-то этого человека? К остановке приближался автобус, и это прервало мысли Хансена. Он первым ступил на подножку. Случайно или нет незнакомец оказался рядом с ним и в автобусе? Хансен притворно-равнодушно разглядывал улицу.
– Рыбацкая! – объявила кондукторша.
Хансен вышел из автобуса и облегченно вздохнул, когда увидел, что незнакомец поехал дальше. Хансен глянул вслед автобусу и завернул за угол.
Улица тянулась по окраине города. Издалека слабо, будто сквозь вату, слышался городской шум, гудки автомобилей. На этой улице Хансен снимал квартиру из двух комнат. Скоро уже год, как он перебрался сюда. Хансен прошел через сад, разбитый перед нарядным домиком, открыл тяжелые дубовые двери и не торопясь поднялся по лестнице. Пушистая дорожка смягчала его шаги. Молодой человек вынул из кармана ключ, открыл дверь, вошел, потом запер дверь изнутри на засов. После этого быстро перешел в другую комнату, служившую спальней. Открыл широкие дверцы стенного шкафа для одежды. На толстой медной перекладине висели на плечиках костюмы и пальто. Хансен быстро сбросил одежду на кровать, снял медную перекладину, раскрутил ее и вытащил из полой трубки тщательно свернутые чертежи и бумаги, покрытые цифрами. Медленными шагами вернулся в первую комнату.
На маленьком столике лежали книги. Хансен много читал. Часто после работы он ложился на топчан и читал до поздней ночи. Но сегодня и не взглянул на книги. Снял пиджак, вынул из шкафа небольшой чемодан и начал складывать в него одежду и белье. Окинул взглядом комнату, проверяя, не забыл ли чего из того, что надо было взять. Взгляд его скользнул по топчану, глубокому, уютному креслу и остановился на большом экране телевизора.
«Я часто завидовал тем, кто имеет это, – подумал он, – а теперь вот оставляю всё. Да что там! Не две – двадцать две комнаты буду я иметь. Целую виллу для себя и Эдит».
Хансен с удовольствием произнес это женское имя. Радостное чувство охватило его. Он лег на топчан и подложил левую руку под голову.
«Последние часы в Германии. Завтра я уже буду в Англии», – мелькнула мысль.
Победная улыбка тронула его губы. Хансен сомкнул веки, пытаясь представить себе свою новую роль: он ходит в белом халате по оборудованной по последнему слову техники лаборатории «Электрик компани». Главный инженер мистер Хансен! Полными восторга глазами смотрят на него новые сотрудники. Эх, жаль, что он не имеет докторской степени! Главный инженер доктор Фред Хансен! Губы с наслаждением прошептали эти слова. В воображении возникло красивое лицо Эдит Диксон.
Уже прошел целый год с того дня, когда он познакомился с ней в берлинском парке. Как сейчас, он видит себя рядом с ней за маленьким столиком открытого ресторана. После небольшой паузы девушка позволила ему сесть напротив себя. Сначала он думал, что она берлинка. Они разговорились, пили вино, и ему улыбались ее привлекательные алые губы. Через несколько минут Хансен был уже очарован и всё сильнее чувствовал желание обнять эту женщину, потанцевать с ней.
Сейчас по лицу Хансена блуждала мечтательная улыбка. Это был замечательный вечер! Жаль, что он так быстро пролетел. По дороге домой они разговаривали о разных вещах. Желая показать себя влиятельным человеком, Хансен перевел разговор на свою профессию и рассказал девушке, что он главный инженер исследовательского отдела одного из государственных радиозаводов. Хансен не заметил, какие яркие огоньки вспыхнули в глазах Эдит. Он совершенно недвусмысленно намекнул, над каким выдающимся изобретением работает. Она, казалось, слушала с удивлением и большим увлечением, и это поощряло его все больше болтать языком. Они провели большую часть недели в Гамбурге. Однажды, когда Хансен, как всегда, встретился с Эдит, она познакомила его со своим отцом, мистером Диксоном. Между ними состоялась очень интересная беседа, и Хансен самодовольно заключил, что мистер Диксон ничего не имеет против знакомства своей дочери с ним. Напротив, мистер Диксон, казалось, поощрял их в этом. Хансен стал частым гостем на маленькой вилле Диксонов. Эдит очень осторожно и искусно плела свою паутину, и Хансен не замечал, как она медленно опутывала его все теснее и теснее.
Иногда молодой человек настораживался, когда мистер Диксон становился чрезмерно, подозрительно любопытным. Тогда от одной только мысли о шпионаже становилось жутко. Много, очень много трепал языком инженер Хансен. Не раз принимал он твердое решение не рассказывать больше ничего о своей работе. Но Эдит снова намекала, что восхищается его работой и гордится им.
Как-то в субботу Эдит огорошила его сообщением о своем отъезде обратно в Англию. Фред Хансен молча смотрел на нее. На его лице появилось разочарованное выражение. Эдит стояла вплотную к нему, пытаясь угадать, какое впечатление произвела на Хансена эта новость. Заметив его растерянность, она шепотом произнесла:
– Поедем вместе? Я уже говорила с отцом... место главного инженера... генеральный директор «Электрик компани» – друг отца.
Главный инженер! Это слово прозвучало для него как музыка. Он, Фред Хансен – главный инженер, и будет обладать такой очаровательной женщиной! Он долго боролся с собой. Кто знает, не станет ли он когда-нибудь главным инженером здесь, на радиозаводе? Когда Хансен в следующий раз посетил Диксонов, Эдит уже уехала. Теперь его решение было твердым. Он хочет отказаться от места на радиозаводе. Но мистер Диксон не советовал этого делать.
– Ни в коем случае не отказываться, – слегка повысив тон, сказал он. – Не сейчас. Вы рассказывали об опытах в области холодного плавления металлов. Сначала вам надо...
И мистер Диксон предложил добыть сначала сведения о конструкции аппарата, частоте звука и его мощности. Хансен побелел, как стена. Он решительно поднялся, чтобы навсегда покинуть этот дом. Но мистер Диксон не слишком вежливо положил руку ему на плечо и усадил обратно в кресло. Сухо, холодно напомнил он Хансену о его желании стать главным инженером и предложил: или добыть основной чертеж и расчеты ультразвукового аппарата и занять место главного инженера в Англии, или...
Мистер Диксон помолчал и добавил негромко:
– Я очень сожалел бы о таком интеллигентном человеке, как вы. Думаю, что органы государственной безопасности Германии...
Перед глазами Хансена проходили события последних месяцев. От волнения было трудно дышать. Сколько раз ему хотелось, чтобы знакомства с Диксоном не произошло вообще. Но он не нашел в себе сил порвать с ним, отказаться от предложения похитить конструкторский чертеж ультразвукового генератора, который представлял собой государственную тайну.
Часы на башне пробили пять раз.
Хансен вскочил с топчана, привел себя в порядок, закурил сигарету. Расстегнул рубашку, свернул бумаги с расчетами и чертежами и бережно спрятал их у себя на груди. После этого надел пиджак и застегнулся на все пуговицы.
* * *
Комиссар Бергер сидел за столом у себя в кабинете, опустив голову на руки, и неподвижно смотрел перед собой. Вдруг вскочил, начал быстро ходить по кабинету от стола к окну и обратно. При этом тихо и очень медленно обдумывал события:
– Преступник мог незаметно подойти ко входу в лабораторию №1 только через запасной выход фотокомнаты. Через двери других лабораторий нельзя выйти незаметно. Итак, речь идет только об этом запасном выходе. В том, что двери фотокомнаты открывались, я абсолютно уверен. Кроме того, Хансен подтверждает это. Таким образом, мог еще кто-то третий... или...
Комиссар Бергер оборвал мысль на полуслове, схватил телефонную трубку, набрал нужный номер:
– Говорит Бергер. Коллега Вендлер, надо немедленно снять отпечатки пальцев и сфотографировать их. Да, да, на металле. Возьмите, пожалуйста, с собой все необходимое.
Через несколько минут полицейская машина промчалась по городу и остановилась у ворот радиозавода. Комиссар Бергер и доктор Вендлер прошли на завод. В просторных цехах уже останавливались станки. Последние рабочие выходили из ворот – сегодня была суббота, и рабочий день заканчивался в двенадцать часов дня. Бергер и дактилоскопист доктор Вендлер направились в лабораторию №1, где всё еще работали профессор Веге и доктор Гартунг. Все остальные отделы были уже закрыты.
Комиссар Бергер объяснил, что они хотят еще раз проверить запасной выход из фотокомнаты. Профессор Веге дал им ключи от второго отдела. В фотокомнате Бергер начал внимательно изучать ручку двери запасного выхода.
– Вот здесь надо снять все отпечатки пальцев.
Доктор Вендлер, не теряя времени, приступил к работе. Он опрыскал ручку из пульверизатора специальной жидкостью, подождал несколько минут, чтобы закончился процесс проявки, затем тем же способом нанес другой раствор. Медленно проявлялись папиллярные линии. После этого Вендлер два-три раза сфотографировал отпечатки пальцев электронным фотоаппаратом.
Работники уголовного розыска попрощались с обоими учеными и поехали в комиссариат.
Когда доктор Вендлер принес проявленные снимки, комиссар Бергер начал внимательно рассматривать их через сильную лупу.
– Я так и думал! – воскликнул он. – Отпечатки моих пальцев. Я осматривал дверь – значит, отпечатки моих пальцев должны быть. Хансен утверждает, что он также выходил через эту дверь. Но его отпечатков не видно. Думаю, что птичка в клетке! Мы привыкли искать преступника по отпечаткам его пальцев, а в данном случае всё как раз наоборот, доктор! Именно отсутствие отпечатков помогает нам изобличить преступника. Хансен открывал дверь, но не тогда, когда был пожар и он собирался идти в убежище, а раньше, причем он был в перчатках.
Опять понеслась по улицам полицейская машина.
* * *
Хансен уже собирался поднять чемодан, чтобы навсегда покинуть свой дом, когда услышал скрип автомобильных тормозов возле дома. Осторожно подошел к окну и посмотрел сквозь тюлевые занавески на улицу. В тот же миг отскочил в сторону, как будто его хлестнули кнутом. Лицо сразу налилось кровью.
Из машины вышли четверо полицейских и двое в штатском. Хансен смотрел вниз, не в силах сдвинуться с места. Комиссар Бергер с двумя полицейскими вошел в палисадник. Тогда к Хансену вернулись силы. Он бросился к двери, осторожно отодвинул засов, бесшумно повернул ключ в замке и что есть духу побежал по лестнице к черному ходу. На бегу услышал, как открылась входная дверь. Хансен лихорадочно нажал на ручку двери. Заперто! Обильные капли пота усеяли лоб. Куда бежать? На мгновение застыл, вытащил из кармана пистолет, щелкнул предохранителем. И вдруг услышал, как кто-то стучит в дверь его комнаты, дергает дверную ручку.
– Птичка уже вылетела, – услышал Хансен голос комиссара Бергера. – Надо ломать дверь.
В ответ на эти слова загремел металл. Комиссар Бергер первым вбежал в комнату. Увидев на столе чемодан с вещами, понял все. Бергер заметил в пепельнице не погасший еще сигаретный окурок.
– Минуту назад Хансен был здесь, – сказал комиссар с досадой. – Он видел, как мы подъехали. Немедленно обыскать дом. Преступник не мог далеко уйти!
Хансен слышал, как по его комнате ходят люди. Его мозг работал лихорадочно, ища выхода. «Окно в прихожей!» – молнией мелькнула мысль. Хансен сбежал по лестнице еще ниже.

Окно выходило в сад за домом. Оно было открыто. Хансен легко вспрыгнул на подоконник, схватился обеими руками за водосточный желоб, скатился вниз. Большими скачками перебежал сад. Высокая проволочная изгородь преградила ему путь.
Полицейские обыскивали дом. Хозяин и хозяйка, люди уже пожилые, растерянно стояли в прихожей. Комиссар Бергер быстро сбежал по лестнице и бросился к открытому окну. На белом подоконнике был ясно виден четкий след резинового каблука. Комиссар хотел позвать своих коллег, но в этот момент увидел человека, который перелезал через проволочную ограду сада.
– Стой! Ни с места! – крикнул комиссар. Он узнал Хансена. – Стой! – крикнул еще раз Бергер и выхватил из кармана пистолет.
Хансен не оборачивался. Он уже бежал через соседний двор. Один за другим прозвучали четыре выстрела. Пули просвистели над головой Хансена и впились в стену соседнего дома. Комиссар Бергер вместе с полицейскими выскочил на улицу.
– Собаку-ищейку! – крикнул он своему помощнику.
Через секунду из полицейской машины по радио передали приказ комиссара прислать собаку-ищейку. Когда полицейские подбежали к проволочной ограде, Хансена уже нигде не было. Он как сквозь землю провалился. Привезли собаку Гассо. Проводник отпустил поводок. Собака взяла след. Приникнув мордой к земле, настороженно подняв хвост, она бежала по следам Хансена. Собака провела преследователей через два огорода, затем перескочила через невысокую каменную ограду и остановилась возле узенького ручья.
– Черт возьми! – выругался комиссар Бергер и добавил громче: – Дальше, очевидно, побежал по воде. Но он не уйдет от нас!
Обыскали оба берега ручья, и собака снова взяла след. Теперь она бежала узкой тропинкой, которая вела в лес. Пробежав метров пятьсот, собака вдруг легла на землю и принялась чихать и тереть лапами морду. Строгие команды не помогали. Собака не хотела брать след.
– Здесь что-то не так...
Проводник не договорил до конца. Сумерки сгущались, и чтобы хорошенько осмотреть тропу, ему пришлось зажечь карманный фонарик. Наконец проводник поднял небольшой плоский камень и понюхал его.
– Я так и знал. Вот, смотрите, – обратился он к комиссару Бергеру и показал ему камень.
– Этот молодчик... – и он чихнул несколько раз, – посыпал свои следы каким-то порошком. Пахнет, как перец, причем очень сильно.
Комиссар Бергер ничего не ответил и побежал к полицейской машине, которая ехала немного позади.
– Немедленно вызвать машину «V», – приказал он водителю.
Драгоценные минуты утекали впустую. Комиссар, не отрываясь, смотрел потемневшими от нервного напряжения глазами на постепенно исчезающий в темноте лес. Густой туман поднимался из соседних лугов и серыми прядями обвивал высокие ели.
– Туман – это хорошо, – повернулся Бергер к своему помощнику. – Он помешает ему быстро бежать.
В это время подошла, наконец, специальная машина «V». Желтый свет двух противотуманных фар прорезал густой мрак. Большая закрытая машина остановилась неподалеку от группы ожидавших ее людей. Мотор тихо гудел.
Комиссар Бергер открыл задние дверцы и поднялся в кузов. Поздоровавшись с коллегой Вальнером, который сидел на небольшом металлическом стуле возле радиопередатчика, смонтированного вместе с инфракрасным телевизором, коротко объяснил суть дела. Вальнер кивнул головой в знак того, что все понял, и включил инфракрасный телевизор. Этот аппарат позволял видеть местность в полной темноте и при густом тумане на расстоянии около трех километров так же ясно, как и днем. Загудел трансформатор, подавая на телевизор ток высокого напряжения. Наверху, на крытом кузове машины, были смонтированы приемно-передающие антенны, которые вращались вокруг своей оси, посылая во все направления инфракрасные лучи. Машина была оборудована также ультракоротковолновой радиостанцией.
Бергер пристально вглядывался в большой экран, который находился в верхней части аппарата и светился сейчас бледно-розовым светом. На нем можно было различить смутные, расплывчатые очертания стволов больших деревьев. Вальнер навел резкость. Экран посветлел, и на нем появились четкие изображения деревьев и кустов. С помощью этого аппарата можно было просматривать лес в глубину лучше, чем невооруженным глазом в ясный день. Невидимое инфракрасное излучение проникало сквозь любые преграды, туман ему тоже не мешал. На кузове машины медленно вращались приемо-передающие антенны. На экране проплыли кусты можжевельника, затем появилась далекая лесная поляна, на ней спокойно паслись две косули. Комиссар Бергер учащенно дышал. Его нервы были напряжены до предела. Найдут ли они беглеца? Он не мог уйти далеко. Вдруг Бергер вздрогнул и подался вперед, к аппарату. На экране появился силуэт человека, который бежал по лужайке между деревьями.
– Это он, – вырвалось у Бергера. – Это он там бежит, – и комиссар постучал пальцами по стеклу экрана, словно хотел схватить Хансена рукой.
Вальнер взглянул на электрический измеритель расстояния.
– Расстояние пятьсот метров, – сказал он. – Теперь мы его перехватим. Куда он собрался? Он бежит прямо... Бергер, он бежит по направлению к железнодорожному мосту. На мосту сейчас что-то ремонтируют, поэтому поезда проходят там медленно. Без труда можно вскочить на подножку. Все железнодорожные станции блокированы, но он может спрыгнуть, не дожидаясь остановки поезда.
– Все ясно! Нашли! – воскликнул он.
Его помощник и три мотоциклиста подъехали ближе. Бергер приказал им сойти с мотоциклов, чтобы не вспугнуть беглеца шумом моторов. У него, кстати, могло быть оружие, а в лесу нетрудно отыскать хорошее укрытие.
У всех четверых имелись портативные инфракрасные телевизоры. У помощника и мотоциклиста на головах были кожаные шлемы с овальными коробочками на глазах. Два резиновых кабеля соединяли инфракрасный телевизор с батареями в карманах пальто. Помощник Бергера подал своему шефу такой же аппарат. Комиссар надел шлем, надвинул на уши наушники и хорошенько затянул ленту, которая прижимала к горлу маленькие микрофоны. Потом быстро подпоясался широким кожаным ремнем, к которому были прикреплены батареи коротковолнового передатчика, и включил аппарат.
– Раз, два, три, – проверил Бергер аппарат, медленно произнося слова. – Все понятно? Слышно хорошо? Дайте направляющий луч! – приказал комиссар и пошел вперед.
В густой темноте леса быстро шли пять человек. Инфракрасные телевизоры позволяли им видеть вокруг себя на расстоянии сто метров. Группа продвигалась по лесу так легко, как будто сейчас была не ночь, а солнечный день.
Комиссар Бергер все время поддерживал связь с спецмашиной. Из машины «руководили» ими, давая верное направление. Коротковолновая радиостанция, установленная на машине, непрерывно посылала направляющий луч, продолжительный низкий сигнал, нацеленный на убегающего инженера Хансена. Комиссар Бергер шел в зоне радиолуча, шириной три метра. Достаточно было только немного свернуть в сторону, как зуммер в наушниках ослабевал. В это время Хансен переходил через поле напротив железной дороги.
Вальнер закусил губу.
– Проклятье! Я так и знал. Алло, Бергер! – крикнул он в микрофон. – Он подходит к мосту! Расстояние до него от вас двести метров. Сразу за лесом поле. Он как раз пересекает его.
Преследователи прибавили ходу. Туман растаял, на небе заблестели звезды. Издалека донесся гудок поезда.
– Он уже совсем близко от железнодорожного полотна! – услышал Бергер в наушниках.
Полицейские выбежали в поле. Из-за поворота появились прожекторы электровоза. Хансен заметил погоню. Сто метров... пятьдесят метров разделяли их. С перекошенным от страха лицом он взобрался на высокую железнодорожную насыпь. Товарный поезд сбавил скорость – мост был рядом. Хансен подпрыгнул и побежал рядом с поездом. Одной рукой он держался за железный поручень, другой – лихорадочно искал опоры. Ноги едва касались земли, тело висело, болезненно оттягивая руку. Вдруг хлестнули два выстрела. Хансен почувствовал легкий удар в спину. Тело напряглось, он пытался ногами отыскать опору. И тогда понял, что силы покидают его. Один за другим разогнулись пальцы, которые до сих пор крепко держались за железный поручень, и Хансен тяжело рухнул на острый щебень железнодорожной насыпи.

Послесловие
Ультразвук! Многие читатели уже знают это слово. Звуковые волны с частотой более двадцати тысяч колебаний в секунду играют сегодня важную роль в медицине, технике, химии и биологии. Этим рассказом я стараюсь помочь читателю заглянуть в будущее ультразвуковой техники. Однако читатель может спросить: где в этом рассказе граница между реальностью и фантазией? Холодное плавления металлов и передача ультразвукового луча на большое расстояние – это пока еще дело будущего.
Но ученые неустанно работают над усовершенствованием приборов, и область применения ультразвука постоянно расширяется. Разве ультразвуковые микроскопы, с помощью которых возможна микроскопия материалов, не пропускающих света, – это утопия? Нет, это реальность! Советские ученые уже сделали такой микроскоп. Возможности ультразвука исследованы далеко не полностью.
Так же и инфракрасные лучи. Поле их применения расширяется с каждым днем. Как без инфракрасных лучей, так и без ультразвука мы уже не можем представить себе нашу жизнь. Разве очки, через которые можно видеть на большое расстояние в темноте и тумане, это фантазия или детская шутка? Нет, это реальность! Чехословацкие ученые уже изобрели инфракрасные очки.
Наука постоянно идет вперед, и, несомненно, наступит день, когда ученым удастся решить проблему холодного плавления металлов и передачи ультразвука на большое расстояние. И сделано это будет к пользе и во славу всего человечества.
Хайнц Фивег.

Флоренцев В.
Незримый поединок

РАССКАЗЫ
НЕПОЙМАННЫЙ

В переулке было так темно, хоть проявляй фотопленку. Старычев злился. Он споткнулся о корягу, едва не вывихнув ногу.
— На левую споткнулись, Сергей Петрович? К счастью! — донесся голос из темноты.
Это Гриша Шибаев. Черт бы побрал этого практиканта! Юнец…
В довершение всего откуда-то со двора донеслось:
…Полная задора и огня.
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.
За забором послышался визг и ликующие крики. Так, наверно, кричали индейцы, бросавшиеся с томагавками в руках на противника.
— Чарльстон танцуют ребятки, — заметил Шибаев.
«Нет, этот парень мне явно не в помощь. Нашли кого прислать», — подумал Старычев.
Он попытался представить тех, кто пляшет за забором. Лица у них, вероятно, красные, как свекла.
— Во-первых, под «Мишку» нельзя танцевать чарльстон, — сказал Старычев. — А, во-вторых, знаешь, в чем самая нелепая ошибка? В том, что вообще записали эту песню на пластинку, а потом еще и танцевать стали.
Практикант не отозвался на реплику. Ему, конечно, нравились ребятки и не нравилась работа в ОБХСС. Это видно с первого дня. Никаких тебе погонь и схваток. А что пришлось делать практиканту? Познакомиться с тем, что такое книга инвентарного учета, как оформляются накладные, и еще заниматься «делом» о похищении бочки соленых помидоров. Сгнили эти помидоры, испортились. Так и в акте записано. Ну, разве все это практика? Скукота.
Гриша Шибаев представлял работу по-другому. Он ловит валютчиков, этих самых, как их? Ну, фарцовщиков. Таких, как Ян Рокотов, о котором в газетах писали. Он, Гриша Шибаев, тонко разоблачает их. Начальник отдела награждает его именными часами. Его ставят в пример другим практикантам. Пишут благодарственное письмо ректору.
Ничего похожего не было и нет. Вот и сегодня битых два часа торчит он в этом проклятом переулке. Он должен не проморгать Русишвили. То есть не самого Русишвили, а его «волгу» ТНФ 12-47. Но прошло еще полчаса, а никто не появлялся. В этом переулке, пожалуй, никто и не живет. От нечего делать Гриша уже успел просвистеть мотивы всех песен, которые помнил. От «Каховки» до «Прощайте, голуби». Никто не появлялся.
Будь проклят этот Русишвили. Он должен приехать тут в один дом. Ему «лапу» дадут за одно дело. И его надо взять на месте преступления.
Этот Русишвили жук тот еще! Один дом на дочь записал, другой — на мать, а сам участок купил в центре. На участке — домишко. Потом написал заявление в райисполком — дом в аварийном состоянии. Пришла комиссия — в самом деле, в аварийном. Составили акт. Разрешили строить новый дом. Ну, Русишвили отмахал домину! Там весь отдел милиции поместился бы — и ОБХСС, и угрозыск, и дознание. Но сейчас они поймают этого проходимца.
Наконец-то пришел Старычев. Он такой высокий, худой и нескладный. Вид у него растерянный.
— Что-то непонятно, — пробормотал он. — Я видел машину Русишвили совсем недавно. Она ушла по шоссе. Ну, пойдем быстрее. Он вернется.
Однако Русишвили не вернулся. Напрасно Старычев и Гриша ожидали его. Русишвили, видно, передумал. Он решил, что больше рисковать не стоит. А может быть, это вообще была ложная тревога? Он хотел удостовериться, в самом ли деле за ним следят. И подослал человека. Своего. И все это было «уткой»?
В полтретьего ночи, когда уже никакой транспорт не ходил и город погрузился в сонную тишину, Старычев и Шибаев побрели домой. Пешком.
Работы было по горло. Мучила текучка. Старычев уходил домой часов в шесть, снова возвращался к девяти и потом уже сидел допоздна. Когда, наконец, шел домой, улицы пустовали. И только в подъезде четырехэтажного дома, в котором он жил, вздыхала парочка. Они целовались и приближающихся шагов его, как правило, не слышали, и он всякий раз придумывал что-нибудь новое: то кашлял, то шаркал ногой, то нарочито медленно скрипел дверью, а однажды даже запел песню «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо…». Петь он не умел и на четвертой строке дал петуха. Ему стало неловко перед этой парочкой. Он рванул дверь на себя. В подъезде было пусто. Это впервые. Что случилось?
Черт возьми, зря надрывал голосовые связки. Да и вообще все это ему надоело. Почему они целуются в подъезде? Нашли место. И когда они, в конце концов, пойдут в ЗАГС?
Но сегодня Старычев приближался к дому спокойно. Он пригласил Гришу Шибаева к себе ночевать. Не надо шаркать ногой, не надо кашлять. Но парочки опять не было. Старычев даже обиделся.
— Гриша, — спросил он, когда они устало поднимались по лестнице, — у тебя девушка есть?
— Чувиха? У нас на юрфаке слабовато с ними…
— Почему «чувиха»? Я говорю о девушке. И вообще, что это у тебя за выражения — «ребятки», «чувиха»?
Шибаев молчаливо отстукивал ногами ступеньки. Разговора не получилось…
Утром они пошли в кафе, пили кофе стоя, возле высокого круглого столика. Гриша Шибаев назвал кафе — «стояк». Довольно точное определение. В кафе было душно, кофе обжигал. Отличный кофе. Шибаев даже губы облизывал от удовольствия.
— Мой любимый напиток, — сказал Старычев. — Недаром Талейран говорил: «Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел, и сладок, как любовь».
Гриша улыбнулся. Он уже знал, что когда-то Старычев учился на филологическом факультете и хранил в своей памяти огромное количество афоризмов. На любые случаи жизни…
Старычев вдруг разволновался. Так волнуются, распечатывая письмо, которое ждут долгие месяцы.
— Ты видишь эту женщину? — тихо спросил он.
Гриша оглянулся. Женщина как женщина. Около пятидесяти лет. Только уж очень усталое лицо. И бледное.
— Она работает медсестрой. Уже двадцать лет, — зашептал Старычев. — Делала мне уколы, когда я лежал в стационаре. Муж у нее погиб под Севастополем. Сынишка есть. Учится в институте. Часто болеет. Она делает все, чтобы сын выучился на врача. Живет недалеко от Русишвили. Каждое утро приходит в кафе — покупает свежие булочки сыну. И вот, когда я вижу ее, не могу… Сам понимаешь, им нелегко. А этот Русишвили разъезжает на «волге». У него жена не работает — такая здоровая, наглая баба… — Он встретился с удивленными глазами Шибаева и помрачнел. — Ты, Гриша, учти, в нашем деле не может быть равнодушных. Этот непойманный Русишвили — наш враг. Ночами буду сидеть, в отпуск не пойду, но я его…
Старычев замолчал и принялся за кофе.
— Ну, все, Шибаев, — сказал он. — Это я так, извини. Я сейчас в отдел, а ты — к Русишвили. Надо проверить, за сколько он купил дом. И побывай у нотариуса, который подписывал документ.
Они расстались. Целый день Гриша колесил по городу. Был у нотариуса, беседовал с соседями Русишвили, побывал на лакокрасочном заводе, где раньше работал Русишвили.
На завод Шибаев ходил не один, а с экспертом из торговой инспекции. Там как раз ревизия была. Ревизоры интересовались бухгалтерскими делами, эксперт же проверял качество эмульсионного разбавителя. Шибаеву было тоскливо и от ревизоров и от эксперта.
— До лампочки мне вся эта краска, — задыхался Гриша.
Он думал о Борьке Птицыне, своем сокурснике. Птицын проходит практику в уголовном розыске. Может быть, сидит он сейчас где-нибудь в засаде. На окраине города. У заброшенного домика, заросшего бурьяном. И ожидает, когда сюда главарь шайки заявится. В этом доме у них «маслина». А тут возись с каким-то эмульсионным разбавителем… Шибаев равнодушно оглядывал тучного лысого заведующего складом и эксперта, копошившихся среди бидонов и банок.
У заведующего складом было серое лицо, будто на него сел слой пыли. Грише так и хотелось провести по нему пальцем. А глаза у завскладом совсем навыкате. И когда он начинал говорить, глаза розовели и еще сильней расширялись. Казалось, сейчас они лопнут и растекутся по пыльным щекам.
Но не за это Гриша невзлюбил завскладом, а за то, что он сказал, обращаясь к эксперту:
— А это что за экскурсант?
— Не экскурсант, а практикант…
— Откуда?
— Из ОБХСС.
— А-а-а… — равнодушно зевнул завскладом и сделал толстой рукой резкое движение, будто пытался поймать муху.
А эксперт проверял качество эмульсионного разбавителя. Он погрузил в большой бидон длинную стеклянную трубку. Так он брал пробу. 1000 граммов пробы. Он определял однородность разбавителя — принес кусок стекла, вытер его насухо тряпочкой, нанес разбавитель на стекло.
— Гм… вроде бы все нормально, — пробормотал эксперт.
А потом он проверял качество олифы «оксоль» и густотертых красок.
Гриша не знал, куда себя деть. Он думал об уголовном розыске. И завидовал Борьке Птицыну. Смертельно завидовал.
К концу дня Шибаев устал от безделья. А эксперт, мрачный, перепачканный в краске, начал ему объяснять:
— Ты понимаешь, содержание олифы «оксоль» в эмульсии должно быть 60 на 40. У них же, по сведениям, чуть ли не наоборот. А ведь от этого водостойкость и эластичность снижается. Суррогат, а не масляная краска.
— Ну, и как содержание олифы? — каменным голосом произнес Шибаев.
— Понимаешь, — снова замахал руками эксперт, снимая с себя перепачканный краской халат, — у них все в норме. Но так и следовало предполагать. Во-первых, кто-то предупредил… У мошенников особое чутье на ОБХСС… Потому они так спокойны… Вот увидишь, и с «бухгалтерией» все в порядке будет. Но ничего. Сколько веревочке не виться…
Уставший Гриша вечером возвратился в отдел.
Старычева в кабинете не было. На старом тяжелом столе, покрытом выцветшим сукном неопределенной окраски, валялась тощая брошюрка. Гриша плюхнулся на стул и мельком взглянул на брошюрку. От названия книжицы ему стало плохо. Аж перед глазами замельтешило.
«Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству «Вниистройнефть». Так было написано наверху. А чуть пониже светлым курсивом — «Информационное сообщение». А еще ниже строка — «Указание по приготовлению малярных эмульсий — заменителей олифы».
Поморщившись, Гриша полистал страницы.
«Все водомасляные эмульсии обладают повышенной вязкостью и перед применением в дело их необходимо разбавлять скипидаром, уайт-спиртом или керосином…» — начал он читать, чувствуя, что заболевает.
— Малокровным тут станешь, — грустно заключил Гриша, но читать все же продолжал.
«…разбавлять до вязкости олифы, применяемой для приготовления эмульсий. Количество вводимого в эмульсию разбавителя не должно превышать 30 процентов от объема олифы «оксоль» и 38 процентов от объема натуральной олифы».
Гриша проголодался, во рту было горько, но ему казалось, что плохо не от голода, а от этой проклятой брошюрки, от рассуждений эксперта и, вообще, от посещения этого лакокрасочного завода. И когда Гриша вспомнил о Борьке Птицыне, ему стало так тошно, будто он наглотался этой самой олифы «оксоль».
Вскоре пришел Старычев. А с ним какой-то высокий человек в очках, в модном лавсановом костюме. Увидев у стола Гришу, человек почему-то улыбнулся, показал редкие зубы, желтые, как кукурузный початок.
— Все, что ты говоришь, очень даже похоже на правду, — сказал Старычев, усаживаясь за стол.
«Видимо, Сергей Петрович уже разговаривал с этим человеком у начальника отдела», — подумал Гриша.
Человек отвечал на вопросы Старычева очень вежливо, с улыбочкой. Но в его словах Гриша улавливал тень какого-то поучительного превосходства. Речь шла опять о той же олифе «оксоль», о каменноугольном лаке и о замазке.
«С лакокрасочного, наверное», — сообразил Шибаев. Он слушал, как незнакомец разъяснял Старычеву, что известковую воду не брали из гасильных ям, а приготовляли в колерной мастерской, перемешивая известковое тесто с водой. Сияя выпуклыми очками, словно фарами, он говорил о каких-то кольцах из малоустойчивой резины, которые служат сальником и которые позволяют легко поворачивать наружную трубу эмульгатора. Он, видимо, хотел поразить Старычева своими знаниями, засыпать его малопонятными терминами. А Шибаева он совсем игнорировал. И Гриша даже чуть-чуть растерялся. Он взглянул на Старычева. Сергей Петрович сидел хмурый и, казалось, не слушал собеседника. Гриша знал, что в споре Старычев не уступит, ко противник тоже силен. Ему палец в рот не клади. И потом он так и обволакивает терминами. Разве разберешься в этой проклятой олифе?
Шибаев вдруг испугался — он взглянул на незнакомца, на его тонкие синие губы, подрагивающие в самодовольной усмешке, и понял — из такого много не вытянешь.
— Лекцию об эмульгаторе ты мне зря читал, — хмуро сказал Старычев. — Куда канифоль сплавляли?
— То есть как сплавляли? — смешался человек.
Старычев приподнялся из-за стола, подошел к сейфу, вытащил оттуда отпечатанный бланк протокола допроса и снова уселся за стол.
— По рецепту в замазку что входит? — тихо спросил он, обмакивая перо в чернильницу. — Три десятых части извести-пушонки, девять десятых части минерального масла и еще… А вы по сколько частей клали?
Нагловатая улыбка слетела с лица незнакомца. Он совсем загрустил, когда Старычев сказал ему, сколько граммов расходуется каменноугольного лака при окраске в один слой.
Старычев наседал. Он говорил о канифольно-казеиновых эмульсиях, о каменноугольном лаке, о нитрокраске, о безолифной шпаклевке под масляную краску.
Высокий заметался на стуле, широко раскрыв рот. А Старычев, «проанализировав» состав безолифной шпаклевки, начал разъяснять, сколько в нее входит жидкого клея, сколько мыла, скипидара и мела.
— Заметь, Гриша, — обратился Старычев к Шибаеву, — у них все тонко было сработано. — Они…
Старычев кивнул в сторону высокого.
— …они для повышения стабильности эмульсии к воде добавляли эмульгатор. Ты понимаешь, в чем тут хитрость? Но самое главное, что сейчас у них с качеством все отлично. Первый сорт. И они думают…
— Может, и были у нас какие-то недоделки. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Ладно, товарищ Старычев, — наконец, проговорил высокий.
Шибаев смотрел, как Старычев записывал что-то в протокол, как снова задавал высокому вопросы. Он загонял его в тупик, прижимал к невидимой стенке. Накалывал на иголку, как букашку. И человек забыл о терминах. Делая над собой усилие, он вынужденно улыбался и старался отвечать односложно. И то, о чем они говорили, было настолько замысловато, что Гриша смутно понимал их разговор. Но теперь он уже не скучал. И его не мутило…
Только сейчас, глядя на усталое лицо Старычева, Гриша понял свою непричастность ко всему, что происходит в отделе. Он не смог бы допрашивать этого высокого человека. Он, Гриша Шибаев, лишний человек для Старычева. Он — как аппендицит. И Борька Птицын тоже не нужен. Тут надо просто знать эту проклятую олифу «оксоль», густотертые краски и все такое прочее.
— Кто это был? — тихо спросил Шибаев, когда ушел высокий человек.
— Русишвили.
— Русишвили?! — удивился Гриша.
— Ты чего кричишь? — в свою очередь удивился Старычев. — Да, Русишвили, собственной персоной. Ну, ты на заводе был, Гриша? Что нового? Разобрался в этой истории?
Старычев глядел на Шибаева, прищурив глаза, и Гриша с ужасом ждал, что сейчас он задаст какой-нибудь вопрос об олифе и тогда…
— Ничего я не понимаю в этих красках, Сергей Петрович, — застонал Гриша.
— А что тут понимать? У них было много списанного животного клея и цинковых белил. Ясно?
— Пока нет.
— Клей замачивают в тройном количестве воды, — сказал Старычев. — Потом варят, а потом при смеси с олифой получается клеемасляная эмульсия. Другая продукция шла налево.
— А разве отличить эти эмульсии друг от друга нельзя?
— Гм… можно. Если применялась клеемасляная эмульсия, получается глянцевая пленка, на известковой воде — матовая. Ну, и так далее. Только не в этом дело.
— А в чем?
— А в том, что они успели спрятать концы в воду. Сейчас качество у них отличное.
— А качество старой эмульсии нельзя проверить?
— Наши эксперты — умные ребята. И кое-что доказать еще можно. Знаешь, если на окрашенной поверхности сделать надрезы в виде решеток, то при хорошем качестве такая решетка не осыпется…
Старычев долго еще говорил что-то, а Гриша думал о Русишвили. Он пытался представить себе его лицо и не мог — оно расплывалось, расслаивалось… Вместо него появлялись какие-то другие лица и предметы. Шибаев видел синюю «волгу» Русишвили, видел его жену, похожую на кадушку, видел его огромный дом. Все это ворованное. Но дело-то, в конце концов, не в
этом. Гриша представил себе мир без красок — нет, это было бы так скучно и серо. До отчаяния скучно. Краски сияют повсюду. Сверкают красками витрины. И целые жилые массивы. И автомашины, сошедшие с конвейера. И если краски поблекли — виноват Русишвили и его компания. Они — похитители красоты. И не только красоты. Взять, например, этот самый лак. Он устойчив при действии пресной и морской воды. Его и применяют для окраски металлических и деревянных предметов, находящихся под водой. Чтобы предохранить их от коррозии. А если лак некачественный, то медленно, но верно коррозия погубит металл. И тогда…
Гриша представил, что будет тогда, и растерянно посмотрел на Старычева.
— Сергей Петрович, когда олифу принимают на хранение, ее проверяют на качество?
— Конечно, Гриша. Все проверяют. И химический состав. И состояние упаковки и маркировки. Вес брутто и нетто. Вернее — должны проверять. Но тут мы подошли к вопросу о «связи» поставщика в лице Русишвили с предприятием-хранителем. В нашу с тобой задачу и входит сейчас установить, как осуществлялась эта «связь».
— То есть, проще говоря, узнать — что и от кого Русишвили получал взамен.
— Да, Гриша.
Шибаев начинал злиться. Нет, все здесь не так просто, как казалось. Этого Русишвили голыми руками не возьмешь. Он — преступник, это ясно, но Старычев не может его арестовать. Еще много работы предстоит. А пока приходится смириться и ждать. Но Гриша совсем не умел ждать, и от этого у него внутри все так и кипело от негодования.
Гриша почувствовал нечто странное — он разглядывал синюю брошюрку о заменителях олифы, лежавшую на столе, и ему захотелось прочитать ее, разобраться в ней так, чтобы завтра же припереть этого паразита к стене.
Старычев заметил его взгляд:
— Возьми, если хочешь, почитай. Знаешь, почему заменитель искали — ведь олифа из растительных масел приготовляется. А это же ценный питательный продукт. Чтобы найти ей заменитель, целые научно-исследовательские институты работали, производственные лаборатории, строительные организации… А ведь Русишвили тоже трудится. В поте лица. Своими махинациями всю эту работу сводит на нет… Ну, ладно, заболтались мы, Гриша, — сказал Старычев. — А мне еще шофера допросить надо. Идем в другую комнату.
Было душно, и Старычев примостился у окна. В комнате валялось два мешка, набитых каким-то зерном, и четыре больших чемодана.
«Успели у кого-то конфисковать», — подумал Шибаев.
В прогулочном дворе расшумелись. Наверное, выпустили из КПЗ этих, которым по пятнадцать суток дали. Нет, там и те, что по делу об «огурцах» проходят.
— Зря мне дело клеите! — раздался голос сзади.
Шибаев повернулся, с удивлением рассматривая небритого человека неопределенного возраста. Видимо, тот самый шофер, которого вызвали по делу Русишвили.
— Вот, Гриша, слышишь — «клеите»? Товарищ шофер выражается на том же жаргоне, что и ты, — «чувиха», «ребятки», «клеите», — заметил Старычев. — Ну, так, значит, не знаешь? — обратился он к шоферу.
Видимо, фразу эту он повторял уже не раз.
Шофер чмокнул губами.
— Что ты? Мое дело маленькое. Сказали вези, я отвез. А остальное меня не касается.
— А левачить тебя касается? — тихо спросил Старычев.
— Цыпленок тоже хочет жить…
— Ты цыпленок или человек?
— Человек, конечно. А человек — он грешен.
Против ожидания Старычев в дискуссию не пустился. Он только пробурчал:
— Советую тебе бросить это дело. А то следующая встреча будет совсем неприятной.
Старычев закончил протокол опроса. Гриша недоуменно кивнул на мешки и чемоданы — почему это Старычев отпускает шофера?
— Это не его, — сказал Сергей Петрович, — Из ОУРа ребята положили. У них некуда. Совещание идет, Альханов проводит.
— А-а-а… Этот кощей?
Старычев перестал писать. Он задел рукой за чернильницу, и синяя лужица потекла по бумаге.
Но Сергей Петрович будто не видел.
— Юнцы любят судить о человеке по внешности. Ты не вздрагивай, Шибаев, — сказал он, — это не о тебе.
— Извините, Сергей Петрович. Это я так, сгоряча. Вы правы. Но я уже кое-что понял. Ведь, вот, в угрозыске как? Кто-то украл, надо найти человека. Преступление налицо — а преступник неизвестен. У нас наоборот. Преступник зачастую известен, но не пойман. Видим, что вор, живет не по средствам, а доказать, что ворует, порой трудно. И тут-то вся загвоздка. А какой месяц тянется дело Русишвили?
Старычев взглянул на Гришу с интересом.
— Третий, — заметил он. — А для того чтобы доказать, надо много знать. Универсалом надо быть.
Старычев взял Шибаева за рукав и потащил в другую комнату. Он открыл ящик стола, заполненный карточками. Пожелтевшими, замусоленными, с загнутыми концами.
— Вот! — Старычев перебирал карточки, выкладывал их на стол.
Гриша взглянул на одну из них. Прочитал: М. Калантарова «Расход рыбы-сырца и размер отходов и потерь при производстве сардин и шпрот».
— Что это? — удивился Шибаев.
— Это? «Дело о рыбе». Когда мы дельцов с рыбохолодильника разоблачили. Сложно было. Вот пришлось читать всякую литературу. Когда берешься за дело, надо знать всю подноготную не хуже преступников, иначе ничего не выйдет. Чего только читать не приходится! Вот еще — «Укладка кильки в тару без взвешивания».
— Ну и брошюры! На грани фантастики, — покачал головой Шибаев.
— Это еще что! А вот — «Факторы, влияющие на обезжиривание молока в сепараторах», или «Паркетные доски из отходов лесопиления и деревообработки», или «Пути повышения равномерности влажности табака в мешках». Черт знает чем приходится заниматься! Почитаешь таких книжек — свихнуться можно.
— Да-а-а… — задумчиво протянул Шибаев. Теперь он вспомнил: когда в отделе у кого были затруднения, всегда говорили — «Спроси у Старычева», «Ну, это только Старычев может знать». Старычев знал парфюмерию, мыловарение, фотодело, кирпичное производстве, технологию изготовления стекла. Он знал крахмал. Гипс. Лаки. Клей. Олифу, эфирное масло, цемент….
Русишвили ведал краской. И Старычев взялся за краски. Но Русишвили разве дурак? Он ушел с лакокрасочного завода. Уже пять месяцев там не работает. Теперь он заведует районным клубом. Культпросветработник. Где он взял «волгу» и этот дом в центре города на ста пяти квадратных метрах? Ах, деньги? Его бабушка, умершая в Одессе, — вот вам «похоронная»! — оставила ему восемь тысяч. Да, в новых деньгах, разумеется. Номер сберегательной книжки? Нет, старушка хранила деньги дома. Ей нравились наличные. А еще ему дали взаймы. Друзья дали. Вот копии его расписок. У него на любые случаи жизни квитанции есть. Железо кровельное? Пожалуйста. Шифер, доски, кирпич? Пожалуйста.
— Кто эти друзья Русишвили? — вдруг спросил Гриша.
— Мы уже взялись за них. Знаешь, есть выражение — товарищи по перу. А эти товарищи «по беру».
— Сергей Петрович, а мне удалось кое-что выяснить сегодня — Русишвили купил участок в полтора раза дешевле, чем та цена, которую предлагали владельцу другие. По-моему, это значит одно — Русишвили нотариально оформил уменьшенную сумму, а заплатил в два раза больше. Чтобы не смогли придраться.
«Молодец, Шибаев», — подумал Старычев и взглянул в лицо Грише, затем добавил вслух:
— У тебя уже есть чутье. Только бы сбросить тебе эту спесь и лексикон почистить. А так ничего, кажется, толк будет.
Старычев посмотрел на часы и устало потер глаза.
— Гриша, совсем завертелся я. Ты сегодня ел что-нибудь? Вот, возьми, у меня тут рыба копченая, булка. А лучше пойдем ко мне, сварим кофе. На сегодня хватит заниматься Русишвили.
Шибаев согласился и сказал:
— Он-то, небось, о нас не думает. Отдыхает себе на даче, музыку слушает…
— Не думает? — Старычев резко повернулся. — Это только кажется. Думает, Гриша. Всю жизнь думает. И ночью, и днем. И на работе. И на отдыхе. Как бы не разоблачили. А сейчас — особенно. Чувствует — петля затягивается. Страх преследует таких людей всю жизнь. Не потому ли среди них много неврастеников? Ну, ладно. Завтра поедем за город — на дачу Русишвили. Туда должны шифер завезти. Проверим, что за шифер.
Гриша уселся на подоконник. Он глядел на звезды.
— Сергей Петрович, откуда берутся такие, как Русишвили, а? Откуда?
— От равнодушия.
— Как это?
— Я уже тебе говорил. Самое страшное в человеке — равнодушие. Ведь жил Русишвили не на необитаемом острове — жил он среди людей. Люди видели, как он обогащался, и молчали. Как рыбы. А ведь лучше сорняк вырвать в зародыше.
Старычев собрал со стола бумаги, открыл дверцу сейфа и положил документы на верхнюю полку.
— А я ненавижу сейфы, Сергей Петрович, — обронил Шибаев.
— Это почему?
— Ну, вот этот сколько весит? Килограммов двести. Юрий Власов и тот не выжал бы. Сколько моторов можно было бы сделать из всех этих сейфов. Ведь в каждом учреждении не меньше двух-трех. А то и больше… Думаю, придет время, когда все это — на переплавку. И магазины на ночь будут оставлять открытыми — исчезнут замки, щеколды, решетки, задвижки, ставни…
Старычев хрустнул ключом. Вытащил маленькую медную печать и нажал ею на пластилиновую бляшку. Критически оглядел сейф. Кивнул ему головой, как живому:
— Ну, недолго тебе осталось жить, старина. Шибаев приготовил для тебя похоронную.
На следующий день Грише снова пришлось посетить лакокрасочный завод. И все же он выкроил часа полтора, чтобы побывать в публичной библиотеке. Он ходил мимо длинных высоких каталожных шкафов и разглядывал надписи на выдвижных ящиках. Каких тут только не было книг! Одежда. Парикмахерское дело. Галантерея. Оборудование театральной сцены. Старычев, наверное, знал и это. Ага, вот и олифа. Гриша заказал несколько брошюрок. Вечером он начитался до головной боли.
А ночью ему приснился страшный сон. Будто сидит он, Гриша Шибаев, у реки и ловит рыбу. В реке непросто вода течет, а олифа. И не просто олифа, а олифа «оксоль». Шибаев берет в реке пробу на вязкость. И тут приходит Старычев. Он улыбается и протягивает Грише акваланг. «На, ныряй», — говорит он. Тихо, но настойчиво. «А зачем?» — робко спрашивает Гриша. «Там, на дне, Русишвили сидит», — Сергей Петрович кивает головой на реку. Гриша одевает акваланг и хочет прыгать. Он ясно видит — на дне сидит Русишвили, улыбается и что-то шепчет. «Видит око, да зуб неймет». Вот что он шепчет. Грише стало не по себе.
Проснувшись, он застыл, глядя в окно. Стекло золотилось, радужно искрилось по краям — солнце уже давно взошло. «Сколько же сейчас времени?» — забеспокоился Шибаев. Не позавтракав, он убежал в отдел.
В узком сумрачном коридоре отдела милиции он наткнулся на какого-то человека. Тот сделал шаг назад и протянул руку:
— Гришка, ты чего мчишься, как угорелый?
— Это ты, Борис? — недовольно буркнул Шибаев. — Тоже друг — не мог разбудить!
— А ты так сладко дремал, — зевнул Птицын. — Сон, наверное, видел? Но это ерунда. Знаешь, мы сегодня Кота взяли. Да, того самого. У него три ограбления. С пистолетом был, сволочь. Дамский пистолетик, такой малюсенький. В упор бьет.
— Страшно было?
Птицын зарделся.
— Привыкаем… — рассеянно произнес он. — А ты что делал?
— Когда?
— Ну, хотя бы вчера.
— Изучал содержание неомыленных веществ в натуральной олифе.
— Ну и сколько?
— Одна целая и восемь десятых. А удельный вес при 20 градусах тебя интересует? А вязкость по Энглеру?
— Ты что, шизофреник? — выпучил глаза Птицын. — Смотри, не попади в психиатрическую после этой практики!
— Постараюсь, — весело кивнул головой Гриша и побежал но коридору.
Через неделю он уже чувствовал себя специалистом по краскам. Он пошел на базар. Заходил во все хозяйственные магазины. Требовал показать ему олифу или замазку. Надоедал продавцам каверзными вопросами и открыто хвалился перед ними своими знаниями. Гриша Шибаев уже не представлял, как это есть люди, которые живут на свете и не подозревают, что натуральная олифа изготовляется из льняного или конопляного масла.
Но сегодня ему не удалось похвалиться перед продавцами. Сегодня они едут за город. Вместе со Старычевым.
Тихо. Так тихо, что слышно, как стучит секундная стрелка ручных часов, вычерчивая невидимый круг. За рекой сверчок верещит.
И еще звуки. Серебряные всплески над водой. Рыба выскакивает. На хлипком берегу сидят трое. Взгляды у них, как у лунатиков. Это рыбаки. Поплавки своими глазами гипнотизируют.
Старычев и Шибаев смотрят на них сверху. С обрыва.
— Пойдем, — сказал Старычев. — Скоро дождь. Может застать в пути. А нам еще долго шагать.
Шибаев задрал голову кверху. Так смотрят на спутник. «На небе ни облачка. Какой может быть дождь?» — подумал он.
Из кустов послышалось шипение, словно кто-то зажигал спички.
— Это удод, — пояснил Старычев. — Местные мальчишки так его и называют: «Удод-пш-пш».
Они углубились в рощу. Потемнело, потянуло сыростью.
— Сергей Петрович, о каком дожде вы говорили? — спросил Шибаев. — Небо чистое.
— Сразу видно, что ревматизмом ты не страдаешь. Ну, это и хорошо. Во время войны я был летчиком-истребителем. Подбили. Выбросился с парашютом. Три года в партизанах — полесские леса, болота. Постелью нам там матушка-земля служила. Вот…
— Я вас о дожде спрашиваю…
— А я и отвечаю. Ведь ревматик — почище всякого барометра. Да и рыба еще.
— Какая рыба?
— Ну, да ты еще к тому же не рыболов. Ты думаешь, почему рыба из воды выскакивает? Когда крылья у насекомых влажнеют, они высоко летать не могут. Низко над водой стелются. А рыба выскакивает и ловит их. Природу знать надо. Ты фильм Образцова «Удивительное рядом» видел? Советую посмотреть.
Старычев был в своем репертуаре. Он сыпал приметами: «роса на траве — дождя не будет», «кольцо тумана вокруг солнца — к дождю», «пчелы при облачной погоде летят из улья — к хорошей погоде».
Раньше Шибаев от этих народных примет и изречений морщился, как от кислого яблока. Но потом понял — это не рисовка. Просто Старычев по натуре такой. Его рассказы Гриша слушал теперь как музыку. Всю дорогу они рассуждали о погоде, забыв, казалось, ради чего забрались в такую даль от города. Они идут смотреть «надстройку». Так Старычев назвал дачу Русишвили. Русишвили расширяется, ему все мало. Русишвили не боится. Он уверен в себе. У него все шито-крыто, его бабушка, которая умерла в Одессе, оставила восемь тысяч.
— Ничего, Гриша, — сказал Старычев. — Узнаем, откуда шифер. Надо спешить. Мы пойдем наискосок через луг. Только бы не застал дождь.
Дождь начался внезапно — словно кто-то взмахнул огромной огненной плетью, и небо раскололось надвое. Гроза стихла, когда они, насквозь промокшие, добрались до небольшого пруда.
Совсем стемнело. Гром укатывал на юг. И словно прохудился в небе какой-то мешок — на ровную поверхность пруда посыпались звезды.
— Красота-то какая! — Шибаев с наслаждением втягивал влажный воздух.
— Дорога прямо за прудом, и дача рядом, — откликнулся Старычев.
Шибаев прислушался — издали нарастал все усиливающийся гул. Машина. Они заспешили. Ого! Ну и дачу отгрохал Русишвили. Дворец пионеров бы здесь разместился.
Из-за поворота появилась машина и, поблескивая фарами, запыхтела на подъеме.
Старычев схватил Шибаева за рукав, метнулся в кусты. Машина, недовольно проурчав мимо, засигналила у ворот. Но из дома никто не выходил. Видимо, дача пустовала.
Шофер вышел из кабины и распахнул ворота настежь. Он въехал во двор и, оглянувшись по сторонам, стал складывать шифер на землю. Старычев тихо подошел сзади.
— Помочь?
Шофер приподнялся:
— Товарищ начальник? Какими судьбами?
Старычев нахмурился:
— А… Это ты, Долгов? Давно освободился? Тебе же за баранкой запрещено работать…
Старычев был спокоен, хотя встреча с бывшим преступником, видимо, была неожиданностью. Оба молчали. Это молчание становилось угрожающим.
Шибаев ничего сообразить не успел. Шофер резко откинул руку назад, и удар страшной силы обрушился в… пустоту. Не удержав равновесия, шофер полетел на землю. В руках у него блеснул нож. Старычев не успел прижаться к дереву, как шофер вскочил на ноги. Нож вспыхнул в слабом свете луны. Все это произошло В какие-то секунды. Шибаев рванулся вперед. Он видел, как из-за дерева бежали еще двое. «Наши, — мелькнула мысль. — Я их видел в отделе». А Старычев падал. Его худое тело скользнуло по мокрому от дождя дереву на холодную землю. На мокрую траву.
Падал Старычев. Он был летчиком-истребителем. Три года партизанил. Знал столько мудрых афоризмов. В милиции он был самый лучший работник. Он был…
— Сергей Петрович!
Крика не получилось. Гриша захлебнулся.
А шофер метнулся в темноту. Он заметался в чаще.
Гриша подбежал к Старычеву.
— Плечо… — слабо вздохнул Сергей Петрович и закрыл глаза.
Гриша разорвал на нем рубаху. Слезы душили его. Подоспели оперативники. Один взялся перевязывать.
Гриша приподнялся. Где шофер? Он может убежать. Сволочь.
Шибаев привык гонять баскет. Он входил в состав сборной института. У него второй разряд на 400 метров. Он вмиг догонит этого ублюдка.
Гриша побежал. Пот застилал глаза. Дышалось трудно, как рыбе, выброшенной на берег. Над обрывом он остановился. Метров пять высоты. Далеко внизу шофер отвязывал лодку. Уйдет! Мысли взлетали и падали, как чайки над пенной волной. «Не успею! Уйдет! А там у мокрого карагача Старычев…»
…Гриша прыгнул. Упал рядом с шофером. Боли он сразу не почувствовал. Совсем рядом увидел чужое лицо. И глаза, холодные, как лед, — дотронешься — руки отморозишь. Гриша сжался, словно пружина, и даже не почувствовал, как ударил. Только слышал, как плюхнулось тело в воду. А потом все завертелось — и песок, и роща, и небо. Как на центрифуге. Словно тебя испытывают. Для полетов в космос!
Их кровати стояли напротив. В одной палате. Старычев, с перевязанным плечом, мог ходить, хотя ему не разрешали. Шибаев ходить не мог. Ноги у него были в гипсе. Намертво. Треснули кости от прыжка с большой высоты.
Шофера задержали. Он сидит в КПЗ. А Русишвили опять вышел сухим из воды. Он — непойманный. Он купил шифер. Понимаете? Купил. За сбои денежки.
Документы? Пожалуйста. Вот вам квитанция, вот накладная. А шофера Русишвили не знает. Если у шофера со Старычевым старые счеты — при чем тут он, Русишвили? Да, при чем, товарищ следователь? Шофера Русишвили первый раз в глаза видит. Нанял перевезти шифер. Вот так, товарищ следователь.
Гриша Шибаев не может смотреть в окно. Оно сзади.
«Ну, вот, прощайте, милые кеды. Прощай, баскет», — грустит Гриша. Взгляд его уперся в желтые обои. Глаза унылые, как после проигрыша решающего матча.
Старычев притворяется спящим. Гриша знает об этом.
— Сергей Петрович, вы же не спите. Я вот о чем. Помните, как мы не спали по ночам? Сколько сил положили. В глазах рябит. И все же мы не взяли Русишвили. Он — непойманный. Так что же — он, значит, сильнее?
Старычев молчал.
— Сергей Петрович! — вскричал Гриша. — Я спрашиваю: Русишвили сильнее нас или нет? Он ездит на «волге», он отдыхает на даче, а мы…
Старычев шевельнулся. Словно кто-то дотронулся до больного плеча. Он приподнялся на здоровой руке, и лицо его исказилось от боли.
— Слушай, Шибаев, — прохрипел он. — Помнишь чеховского Ионыча? Так. А ты знаешь, откуда Ионычи берутся? Это люди, которым не хватило заряда на задуманное. Они задохнулись на середине дороги… Мы возьмем его! Слышишь? Возьмем! Но для этого нужны твердые доказательства. И ты не все еще знаешь. Сейф у меня не напрасно стоит. В нем кое-что есть.
Сергей Петрович откинулся на подушку. Гриша разволновался, ему захотелось искупить свою вину перед Старычевым.
— Сергей Петрович, — начал он, — у меня к вам просьба. Я хочу, когда встану, ну, когда заживет нога, поработать до конца с вами. Пока не возьмем этого… Я вас очень прошу…
Старычев вздохнул. От практиканта из ОУРа он знал: Шибаев три года мечтал поехать на Иссык-Куль. Накопил денег. После практики хотел поехать. И вот вместо отпуска…
Спасибо, Шибаев! Но тебе надо отдыхать. Ты поедешь на высокогорное озеро. Я сам справлюсь. Мне не привыкать.
— Сергей Петрович! — снова позвал Гриша.
Старычев закрыл глаза. Он улыбался.
«Молодчина, — подумал Старычев. — А нога заживет. Обязательно. И ты будешь играть еще в сборной института. Железно будешь играть, Гриша Шибаев».
ЛИДКА

Дом был старый, построенный неизвестно в какие времена. Он стоял на окраине Заркента и так же, как другие дома этого квартала, ожидал своего бульдозера.
В доме два этажа. Верхний жильцы именовали «пенсионеркой» — из восьми квартир, расположенных там, семь занимали пенсионеры.
Жизнь в старом доме текла размеренно-однообразно, соседи рассуждали о том, что недавно сказал У Тан и как это повлияло на международную обстановку, а потом вдруг начинали ругаться из-за того, что чей-то мальчишка, бросая камень в кошку, попал в окно.
Иногда разгорались дебаты. Люди собирались в кружок, дискутировали о том, помогает ли иглоукалывание, и что это за штука вообще, и есть ли прок от утренней гимнастики. Потом кружок распадался — кто-то сообщал, что в «центре» есть кукурузное масло, а оно помогает от гипертонии. А еще пенсионеры ездили на охоту и на рыбалку, ворчали на «москвича» старой марки, который постоянно надо ремонтировать. И еще три раза в день они разжигали и тушили примусы и, конечно, беспрестанно говорили о пище, а в оставшееся время с таким увлечением рассказывали друг другу о своих болезнях, что можно было подумать: без этих болезней жизнь их была бы неполной.
Лидка жила в восьмой, угловой квартире. Она была высокая, худая, белесая. Ей надо бы перекрасить волосы — они были цвета пересохшей соломы и еще больше портили ее некрасивое лицо. Но Лидка мало следила за своей внешностью.
Их двое во дворе, незамужних. Она и Галка Резникова. Галке тоже за тридцать. Она в вагоне-ресторане работает…
Галка жила во дворе богаче всех — комнаты сверкали полированной мебелью, а платья она меняла на день по два раза. Мужчин Галка тоже меняла часто. Она считала, что во дворе жить никто не умеет, кроме нее.
Если Лидка или кто-нибудь другой проходил по двору, никто на это внимания не обращал, но когда по узенькой кирпичной тропинке тонко цокали Галкины каблучки, начинали хлопать двери. А те, кто не выходил на балкон, прилипали к окнам, как мухи к липучке, и пялили на нее глаза. И Лидка тоже глядела из окна. А Галка, лакированная с ног до головы, катилась и блестела, как кристалл.
Мнения о Галке были самые различные, но каждый держал их при себе, и только один старик Петрович говорил вслух, что думал.
Петрович был совсем худой. Худее Лидки. Лицо у него обветренное и такое же потрескавшееся, как пальцы на руках. Двадцать пять лет провел он за баранкой, почти все машины водил — от «эмки» до МАЗа. По израненным фронтовым дорогам, по блестящему городскому асфальту, по пескам и бездорожью. Водил в жару. В дождь. В метель. И он привык говорить то, что думает. Это вошло в привычку.
— Ей, думаете, нужна красота? — вопрошал он. — Да на кой леший нужна была бы ей красота, если б не давала выгоду? Ну, правильно я говорю, чего молчите? — обращался он к собравшимся вокруг него.
Обычно его никто не поддерживал.
Лидка, когда видела лакированную Галку, чувствовала, что сердце стучит, как дятел, выдалбливая в груди невидимое дупло. Никогда не видела она такого внимания к себе, даже когда была совсем молоденькой. После детдома Лидка воспитывалась у чужих людей. Правда, тогда все было совсем иначе — небо казалось голубее, земля теплее и богаче, деревья красивей и таинственней, и каждый день душу переполняла радость новизны. В ней жило смутное ожидание счастья. Потом была война и трудные послевоенные годы. Лидка работала кондуктором, каменщицей, проводником на железной дороге.
А сейчас она — маляр. На работу ездит совсем в другую сторону Заркента, тоже на окраину. На трамвае, а потом двумя автобусами. На окраине возводится новый жилой массив, заркентские «Черемушки». Черемушки начинаются сразу же, как только трамвайная линия вычерчивает восьмерку. Совсем рядом с этой восьмеркой — гигантский башенный кран. Он стоит, тяжелый и серьезный, вытянув над незаконченным домом жирафью шею, словно придирчиво оглядывая свои владения. Скоро конец стройке, осталось возвести несколько зданий, и тогда шагать крану на другой жилой массив.
Утром над Хактепа — так называется новый район — не висит дымка, но часам к десяти потухшие вулканы стройплощадок оживают. Даже по запаху определить можно, что работа в полном разгаре. Хотя, чем вообще пахнет стройка? Да ничем, скажет посторонний. А для Лидки стройка — родная стихия. Как сизые волны расшумевшегося моря для моряка, как неизмеримая голубень неба для астронавта, как золотые колосья пшеницы для хлебороба…
Лидка берет трафарет, проводит по нему кистью. И происходит маленькое чудо — стена была белая, а сейчас уже цветом походит на луговую траву. На траву, омытую косым весенним дождем. Смотришь на стену, и улыбка невольно появляется на губах.
Зеленая стена пахнет не травой, краской. Но для Лидки это родной, волнующий запах. И все на стройке источает свой особый аромат. Олифой пахнет и известкой. Отсыревшими за ночь досками. Жженым кирпичом. Остывающим асфальтом у подъезда.
Лидка на третьем этаже работает. Сегодня их бригада кончает с домом. Один этаж остался — четвертый. А выше четвертого на массиве домов не строят. По сейсмическим соображениям. Выше четвертого этажа начинается небо.
Лидка прощается с небом и вздыхает. Сейчас домой надо ехать. А дома… Дома ее ожидают книги. Дома она мечтает и чего-то ждет. Ожидание счастья — это тоже, наверное, счастье. Но Лидка слишком долго ожидает его. Жизненная тропинка, по которой она шла, была светлой, но мертвой, словно блеск луны. На тропинке никто не появился. Она никого не встретила и никто не встретился ей.
Дворовые мальчишки любили Лидку и каждый раз, когда она возвращалась с работы, голоса их звенели, как горсть рассыпавшихся монет. Она приносила им раскрашенные книжки, переводные картинки, а малышам «сладких петушков», которых покупала у торговки на «зеленом» базаре. Она собиралась с ребятами вечером на скамейке у колодца и рассказывала им разные истории. Рассказывала с чувством, но иногда почему-то не хватало слов, и тогда она разбавляла их мимикой. Мальчишки хохотали, радовались, сердились вместе с ней.
Мальчишки! Нетерпеливые, как солнечные зайчики, они становились серьезными и задумчивыми, когда она хмурилась, и взволнованно замирали, приколотые к месту ожиданием интересной развязки.
Особенно привязалась она к соседскому Ваське, и он хозяйничал в ее комнате, как в своей. Васька жил без родителей, у тетки. Мать и отец его погибли в ленинградскую блокаду. Лидка знала, что Ваську подобрали солдаты. В широких, испуганных глазах мальчишки, казалось, застыла снежная тишина ленинградских улиц. Васька изголодался по ласке, как Лидка по любви, и когда она ласково погладила его по белесой головке и вздохнула о чем-то своем, Васька вдруг взглянул на нее, как ей показалось, странно, не по-детски задумчиво и серьезно.
Но то были мальчишки, а взрослые… Лидка слышала, как у нее за спиной шушукались соседи, ожидая, когда же она выйдет, наконец, замуж: «Пора — двадцать шестой пошел, через год-два — старая дева». Но так они говорили и через два года, и через три, и через пять. Вначале это раздражало ее, а потом она с этими разговорами свыклась, и пришло время, когда они прекратились вовсе.
Поэтому, когда однажды вечером соседи увидели, как из ее комнаты выходил широкоплечий мужчина, дом был так поражен, что даже не обратил внимания на дефилировавшую Галку. Мужчина был в синей рубашке, в серых парусиновых брюках, лицо у него темное, загорелое, как хлебная корка. Он был без одной руки. Новость, словно цепная реакция, облетела двор, но Лидку никто спросить не решался. Правда, разговоры пошли:
— Может, замуж выскочит…
— Да где уж ей!
— А чем черт не шутит!
— Поживем — увидим…
— Он хоть без руки, а здоров.
Поздно вечером, когда люди рассосались по квартирам, Лидка вытащила стул на балкон, включила лампочку и, облокотившись о перила, зашелестела книгой. Ее во дворе книжницей звали. С легкой Галкиной руки.
Книги, после мальчишек, были второй любовью Лидки. Лидка читала запоем, все, что попадалось, а больше всего, о море. Там всегда было то, о чем она мечтала. Море стояло перед глазами. Море шуршало прибрежной галькой. Мокрый песок блестел, как рыбья чешуя. Было так волнующе-легко на душе, что хотелось плакать.
Лидка взглянула в небо — сквозь клочки разорванных облаков подмигивали редкие звезды. Облака двигались. Они были похожи на паруса. Паруса плывут в неизвестность.
Кто-то заскрипел ступеньками, вспугнув Лидкины мысли.
Лидка безучастно посмотрела на опустевший двор.
Это старик Петрович поднимался по упругой лестнице. Он произнес негромко:
— Ты на них, Лидуха, внимания не обращай…
Он очертил рукой большой круг над головой, давая тем самым понять, кого подразумевает под словом «них»,и добавил:
— Это же не грех — погулять.
Лидка посветлела, как будто на лицо ей упал свет луны.
— Ребенка бы мне… — глубоко вздохнула она.
Слабый румянец осветил ее худенькое некрасивое лицо, и в нем отразилось нечто невыразимо грустное.
— А ребеночка — тем более не грех, — ласково проговорил Петрович.
Лидка захлопнула книгу и вернулась в комнату. Щелкнула выключателем — вспыхнул свет. Спущенная штора слабо колыхалась на сквозняке, все предметы в Лидкиной комнате, казалось, неслышно шуршали и двигались.
Лидка придвинулась ближе к зеркалу, разглядывая свое лицо. Губы отчего-то посинели. Это Лидку испугало. Особенно, когда она прочитала заметку в журнале. Как это там написано: «Нередко губы отражают состояние организма человека: яркие свидетельствуют о здоровье, бледные — о малокровии, синеватый оттенок губ — признак кислородного голодания». У нее как раз синеватый оттенок. Шутка ли — кислородное голодание! У Галки совсем другие губы — цвета раздавленной вишни… И лицо у Галки — так и просится на обложку иллюстрированного журнала.
Лидка любила иллюстрированные журналы. С их страниц часто смотрели на тебя красивые женщины. Как Галка. Лидка подолгу рассматривала цветные портреты, а потом садилась к зеркалу и рассматривала себя.
Две нижних полки на этажерке Лидка специально отвела для таких журналов. Там у нее хранились и портреты артисток. Почти всех. От Орловой до Симоны Синьоре. И у всех такие ослепительные улыбки!
Но косметику Лидка не любила. Ни губную помаду. Ни басму. Ни лондатон. И туалетный столик ее пустовал. Только сиротливый флакон одеколона любовался своим отражением в зеркале. У Галки столик, конечно, весь заставлен. От него пахнет, как от цветочной клумбы. Вообще, Галке все идет, все ей к лицу. И все на ней сверкает. Жакет без застежки. Кофточка вязаная. Юбка шестиклинка. Спортивный джемпер. Панбархат. Есть у Галки одно платье. Лиловое. Вышла она в нем однажды во двор. Стоит у кладовки на тонких иглах-каблучках, покачивается. Словно фиалка на ветру.
И нет длинного ряда кладовок, нет старого дома, Покривившегося палисадника Петровича. Нет ничего этого. А есть песня. Казалось, знакомый мотив разлился в воздухе:
Купите фиалки, вот фиалки лесные,
Скромны и неярки, они словно живые.
Галка уходила, хлопнув дверью, и мотив угасал. Вот она какая. Как песня.
Те мужчины, что приходят к Галке, не взглянут на Лидку. Даже если она наденет бархатное платье с глубоким декольте. Лидка надевала его несколько раз, когда приходил Степан. Дома надевала. На улицу она в нем никогда не выходила, боялась соседских языков. А сейчас это платье снова висит в шкафу.
Лидка пристально глядела в зеркало, словно допрашивала его. «Вот тебе скоро сорок, и совсем ты одинока… А что ты сделала за свою жизнь? Для чего ты жила? Кто это сказал, что человек должен за свою жизнь посадить дерево или вырастить сына? Дерево она посадила и не одно, когда работала каменщицей в пустыне, они там весь городок озеленили. А вот сына… Такого, как Васька, белесого… Родного сына…»
Однорукого мужчину видели у Лидки еще несколько раз, а потом он совсем исчез, и по двору поползли слухи.
— Вернется он.
— Ищи ветра в поле…
— Хорошо, хоть один нашелся.
— Докрутилась!
— А я вам говорю, вернется.
К осени у Лидки родился ребенок. Вышла из больницы она сильно похудевшая, и, когда поднималась по лестнице, пацаны шугали в ее честь голубей, разноцветных, как почтовые марки.
Лидка долго плакала. От радости. Теперь, когда она выходила гулять с ребенком, видела: на нее глазели из окон, как из бойниц, словно брали на прицел.
Лидка знала — Степан не вернется. Ну, конечно. Он поехал в Абакан на заработки. Он так и сказал — на заработки. А такой не вернется.
Приходил Васька. Он подозрительно глядел на ребенка и трогал его пальцем, словно желая удостовериться, живой ли он. Васька задавал разные каверзные вопросы. Теперь тетя Лида все реже появлялась среди мальчишек, а сегодня не вышла совсем. Когда тетя Лида выходила гулять с малышом, пацаны бросали играть в пятнашки и глядели на малыша. Они ревновали. Еще бы! Такой маленький, а вот отбил у них тетю Лиду.
Малыша Лидке не с кем было оставить, а надо выходить на работу. Старик Петрович пробовал ходатайствовать насчет яслей в райисполкоме, а когда это не помогло, туда неожиданно пришел весь двор. Лидка сияла — это произвело впечатление. Она вышла на работу.
Через месяц она купила большую белоснежную коляску с козырьком от солнца и дождя, малышу было тепло и уютно в ней, как в гнезде. В желтой шапочке малыш поворачивал лицо вслед уходящему солнцу. Он был похож на цветущий подсолнух.
Мать катила коляску и улыбалась, а ее некрасивое лицо становилось пунцовым. Хлопали двери — двор провожал их на прогулку.
Лидка шла, остывающее солнце тускло било ей в глаза, и она прикрывала их ладонью. Потом, не отпуская коляску, она наклонилась, чтобы поправить туфель, и мельком скользнула взглядом по соседскому окну. За зеленой полутьмой стекла напряженно блестели глаза Галки. Секунду женщины смотрели друг на друга. Но только секунду. И сразу же тяжелая бархатная занавеска шевельнулась, скрыв за собой Галку.
Лидка никогда не была в тех комнатах, но из разговоров соседей знала, что за черной занавесью — гарнитур последнего выпуска, два больших бухарских ковра и еще неизвестно что.
Лидка не помнила, чтобы Галка когда-нибудь интересовалась ею или хотя бы посмотрела в ее сторону. А сейчас она украдкой выглядывает из-за занавески, и у нее такое жалкое лицо…
ВСТРЕЧА

Поезда уходят, а человек остается. Сколько раз сходил Николай Павлович Резванов на полустанках, на каких-то крохотных перронах, где его никто никогда не встречал. Служба в МВД бросала Резванова от Закавказья до Магадана. Но здесь, в пустыне, он еще не бывал.
На новое место Николай Павлович всегда прибывал один. С жильем обычно было туговато. Вначале Николай Павлович жил по-холостяцки, и только потом, много времени спустя, перевозил семью. Раньше жена проявляла недовольство, но наконец смирилась с переездами как с неизбежностью.
Новизна всегда пленяет — ждут тебя новые места, новые планы, друзья, но всякий раз, ступая с чемоданом в руках на незнакомый перрон, Резванов вдруг ощущал какое-то неодолимое чувство грусти, тоски и еще чего-то, что не выразишь никакими словами. Вот и сейчас это чувство нахлынуло, едва только последний вагон растаял в угрюмой вечерней полумгле.
На станции было безлюдно. Телеграмму Николай Павлович дать не успел, и никто из сотрудников колонии не пришел к поезду.
«Черт знает, где эта колония? Наверное, далеко», — решил он, пытаясь разглядеть что-либо в сгущающихся сумерках.
Песок был назойлив, как комары, — он скрипел на зубах, попадал в глаза, глухо шуршал по перрону. Прикрываясь рукой от ветра, Резванов выбрался на дорогу. Сквозь сизую песочную завесу пробивалось расплывчатое пятно света. Машина! Резванов снял с головы фуражку и принялся размахивать ею над головой. Кружок света приблизился и замер.
— До колонии не подвезешь?
— Залезай, — донеслось откуда-то сверху. — По пути…
Приподняв чемодан, Резванов взобрался на подножку МАЗа, залез в кабину. Машина медленно тронулась.
— Далеко? — спросил Резванов.
— В первый раз? — шофер повернулся вполоборота и встретился взглядом с пассажиром. Глаза у обоих вспыхнули. Руль резко крутнулся влево, и машина чуть не задела приземистое станционное строение. Скрипнули тормоза.
— Гражданин… товарищ начальник… — прошептал шофер. — Какими судьбами?.. Вы меня помните?
— Помню ли? Аверин Алексей Петрович…
Они обнялись, как старые друзья.
— Давно освободился? — спросил Резванов.
— Через полгода как вы уехали.
— Значит, семь лет прошло… Что ж забрался в такую даль?
Шофер помрачнел:
— Жена у меня здесь нефтяником. Да и сам я не люблю город…
— Жена — та самая женщина, что писала в колонию?
— Та самая…
— А почему это ты невзлюбил город?
— Дружки одолевали. Не хочу снова на кривую дорогу.
— Дорога зависит от человека.
— Вот и шоферю здесь, — улыбнулся в ответ Аверин.
Машина снова тронулась.
Резванов искоса разглядывал Аверина. Внешне он вроде бы совсем не изменился с тех пор, как они расстались. Не погас живой огонек в светло-синих глазах, аскетическая складка по-прежнему застыла в уголках губ. Только вот волосы Аверин зачесывает на пробор — этого Резванов не знал. В то отдаленное время Алексей Аверин всегда был стрижен наголо. Да и фамилию свою он вряд ли тогда помнил. А был он просто Лешка Тайга.
Начальника оперчасти Кошелева приступ скрутил внезапно. Он обессиленно лежал на кровати, прогибая жесткую сетку. Прибежал фельдшер, пощупал пульс, живот и покачал головой:
— Аппендицит. Острый… Оперировать немедленно. Не то перитонит, считай — крышка…
«Легко сказать оперировать, — подумал начальник подразделения Резванов. — Врач в больнице, до сангородка километров сорок. Правда, есть другая дорога, короче впятеро. Но кто возьмется провести по ней машину над обрывами да по таежной глухомани?»
Резванов взглянул в окно. Прямо перед зоной была большая расчищенная площадка. Дальше — болотистая местность. А еще дальше глухо и таинственно шумела верхушками темных елей вековая тайга. Ох, тайга, тайга, если бы умела ты рассказывать… О скольких историях поведала б ты людям. Общение с внешним миром начиналось только летом, когда тусклое солнце упрямо лезло вверх над тайгой и растапливало лед на реке. Тогда начинался лесосплав, а снизу приходили тяжелые длинные баржи, груженные сушеным картофелем и мороженой рыбой.
Резванов глядел сквозь запотевшее окно. Оранжевое солнце плавало в морозной дымке. В этом неярком свете мокрые от дождя ели сверкали, будто покрытые светлячками.
«Что же делать? — мучительно думал Резванов. — Что делать? Санитарная машина вернется из ремонтной мастерской только к утру. Но ждать до утра нельзя, не дотянет до утра Кошелев. А ведь сегодня воскресенье — все вольнонаемные шоферы поразъехались».
За окном легла серая длинная тень. Потом появился человек. Он тяжело ступал по мокрой земле. Шел уверенно и твердо, с таким видом, словно все вокруг — и тайга, и вся зона — принадлежали ему лично.
Это Аверин. Или Лешка Тайга, как его называли в колонии. «Неисправимый», — махнули рукой на него воспитатели. Да и в самом деле — сколько нервов попортил он им. Побег за ним числился. Много суток провел он в бараке усиленного режима. Одним словом, «пахан». Только держался он сейчас от всех в сторонке, воровского куска не брал. А недавно начал работать. Как стало известно, причиной тому было письмо, полученное недавно Авериным. Писала женщина — откуда-то из Средней Азии. Но кто она такая и почему задумался Лешка, получив ее письмо, было неизвестно.
Много раз и раньше пытался Резванов найти «ключ» к его душе. Но ничего не получалось. На вопросы Тайга отвечал односложно:
— Ваше дело мораль читать, мое — сидеть. Я не кролик, экспериментов не люблю. Работай не работай — срок не скинут.
А когда Резванов завел разговор о смысле и цели жизни, Лешка вдруг сказал:
— Счастье, гражданин начальник, — это быстроногий олень. А мы хромые охотники…
Эта фраза была поводом для того, чтобы начать убеждать Лешку, что счастье свое он растоптал сам, счастье — это не быстроногий олень, а борьба. Резванов уже обдумывал, как он скажет сейчас об этом Лешке. Но, взглянув ему в глаза, внезапно понял, что эффекта никакого не будет. Лешка привык к «морали» и принимает наставления, как горькую пилюлю. Он ожидал эту пилюлю сейчас. А Резванов ничего не сказал. И это поразило Аверина больше всего.
А однажды… ГАЗ-51 вышел из строя. На нем возили хлеб и продукты. Запас хлеба вышел. Если фургон не пойдет, останутся сегодня ребята без хлеба. А они лес валили, мозолили руки.
Двое механиков — вольнонаемные — копались в моторе. Перепачканные, они ругались на чем свет стоит.
— Может, кто поможет из заключенных? — спросил Резванов, наблюдавший за их работой.
— Чего? — выпучил глаза механик. — Эти, что ли? — Коротким взглядом он окинул зону. — Да они только по карманам лазить мастаки…
Механик не договорил. Откуда-то появился Лешка. Лицо у него сумрачное, губы поджаты.
— А ну-ка повтори… — Лешка говорил тихо, не вынимая рук из карманов.
— Да я так… — засуетился механик под пристальным Лешкиным взглядом.
— Отваливай! — Лешка положил руку на крыло. — Слышь?
Резванов меж тем стоял недвижимо. В строгих его глазах, в самых уголках, горели искорки любопытства.
Лешка скинул телогрейку и, выхватив у оторопевшего механика разводной ключ, полез под капот. Колдовал он там с полчаса, пока не собралась толпа.
Мотор завелся. Лешка вылез. Перекинул телогрейку через плечо и пошел к бараку. Ни разу не оглянулся.
Резванов встретил его через день. Лешка сидел на скамейке и курил. Гитарист бренчал на гитаре, Лешка пел:
Есть поЧуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов
И один был отчаянный шофер,
Звали Костя его Снегирев.
Песня была знакома Резванову. Как и многое из того, что поют эти люди, она была унылой и грустной.
— Вот ведь, сколько поешь, а все за душу берет. Так ведь, гражданин начальник? — прервал песню Лешка.
— Ты что, шофером работал? — спросил Резванов.
Тайга нахмурился:
— Было дело… А вы думали, я только песню о Чуйском тракте знаю?
— Какой класс?
— Чего?
— Шофер какого класса?
— Первый, — вздохнул Тайга. — «Скорую» водил когда-то…
Лешка закусил губу. Потом мигнул гитаристу. Тот дернул струны, и снова разлилось над зоной: «Он машину любимую АМО…»
Резванов поинтересовался, что за женщина написала Лешке письмо. Но тот отвечал, как всегда, односложно…
— Подельница моя. Освободилась. По одной статье проходили…
Замолчал. Потом, вздохнув, добавил:
— Эх, не понять вам души нашей. Разве поймет горе тот, кто не пережил его сам.
И хотя Резванов хлебнул на своем веку немало — голодные, засушливые годы, две войны, три ранения, гибель дочери под бомбежкой, но ничего не сказал. То ли потому, что не читал Резванов морали, а может, по какой другой причине, но на следующий вечер Лешка пришел к нему в кабинет и начал рассказывать свою жизнь от корки до корки. И рассказал о женщине, приславшей ему письмо, и о том, как он ее любит…
Резванов поднялся.
— Слушай, — проговорил он. — Хочешь вернуться за баранку?
Аверин не ответил, но Резванову показалось, будто вспомнилось Аверину что-то далекое, уже забытое.
Лешка попятился к двери, выскочил из комнаты и быстро направился к бараку.
Недоверие между Резвановым и Лешкой стало исчезать.
Заметил Резванов — Аверин украдкой наблюдает, как уезжает из зоны «санитарка», как уезжают лесовозы, и Тайга часто подсаживается к вольнонаемным шоферам, о чем-то толкует с ними. «Тоскует Леха по баранке», — говорили водители Резванову. Только не нравилось уркаганам, что «пахан» к воспитателю пошел. «Закон» предал. Ну, а за это… Правда, боятся они «пахана». Пуще зимней тайги боятся. Смотрят косо. А он идет сумрачный, задумался о чем-то своем. Вот прошел окно.
— Аверин! — донеслось вдруг из окна. — Алексей!
Он жил в мире кличек. Зверь, Колыма, Тайга — это все он. И вдруг — Алексей.
Он остановился. Скрипнула дверь, на пороге показался Резванов.
— Алексей, просьба к тебе есть. С Кошелевым приступ. Отвезти надо до сангородка.
— Кошелев — опер?
— Да, начальник оперчасти…
Глаза Аверина сверкнули.
«О чем он думает?» — размышлял Резванов.
— А при чем тут я? — спросил Аверин.
И Резванов заметил, как тот слегка побледнел.
— Ты же шоферил когда-то на воле…
Тайга молчал, вычерчивая ботинком на земле замысловатую фигуру.
— Шоферил… — выдохнул он.
— Так просьба к тебе. До сангородка…
Аверин вдруг хлопнул себя по бедрам и расхохотался:
— Да что вы, гражданин начальник! За мной же побег числится. А сейчас время как раз нашенское. Зек — он лето любит. Не боитесь — сбегу?
— Человек погибает, — очень тихо сказал, Резванов. — Надо трогаться, Алексей. Худо Кошелеву.
— Мне ехать? — задержав дыхание, спросил Аверин.
— Тебе. Только учти — дорога трудная. Солдат покажет дорогу. Справишься?
Больше Аверин вопросов не задавал. Вобрал голову в тяжелые плечи. Вся его большая фигура сжалась, словно попал он под холодный дождь.
— Где самосвал? — тихо спросил он.
…В конторе у Резванова произошел крупный разговор с начальником охраны.
— На голову свою отпускаете, — говорил тот. — Таких, как Тайга, только могила исправит.
— Человека исправляет жизнь, — сказал Резванов.
— Ну, что ж, посмотрим…
Самосвал засигналил у ворот. Резванов и начальник охраны наблюдали из конторы, как в кузов накидали соломы, опилок, а потом сверху бросили несколько одеял и носилки. Кошелева положили на матрац ближе к кабине. Рядом с ним сел солдат с автоматом. Машина выехала из колонии и растворилась в таежной глухомани. Резванов проводил ее долгим взглядом.
Уснуть в эту ночь он не мог. Думал об Аверине, вспоминал слова начальника охраны: «горбатого могила исправит». Нет, брат. В могилу кладут труп. А человек — даже самый плохой — это человек.
И все-таки на душе было тревожно.
Проснулся он рано. Пошел в зону. На вахте первым долгом спросил у солдат, пришли ли машины. Да, все машины вернулись. За исключением самосвала, на котором поехал Аверин.
«Может быть, задержался, вернется», — думал Резванов.
Но Тайга не вернулся ни через час, ни через три. И тогда над зоной прозвучал сигнал тревоги.
Дорога петляла мимо глухих завалов, скатывалась под откос, взбиралась на кручи, перепрыгивала через ручьи. Кошелеву становилось все хуже. Солдат-конвойник затарабанил прикладом о кабину. Аверин притормозил.
— Ну, что там? — недовольно выкрикнул он.
— Побыстрей давай. Через «медвежий угол» поедем, — крикнул солдат Аверину. — Это прямо, потом направо.
Машина дернулась вперед. У Талого ручья, там, где дорога выползала на пригорок, Аверин свернул в сторону.
«Медвежий угол». Недаром так прозвали эту «трассу». Медленно, задыхаясь, машина вползала на перевал, осторожно двигалась по осыпям над обрывом, а потом на бешеной скорости мчалась по корявой равнине. Буксовала у болота.
«Ничего, — думал Аверин. — Еще немного: два раза проскочить над обрывом, а потом останется километра три до сангородка. Дорога там сносная».
Когда впереди показалась одинокая грибовидная скала, Аверин дал газ. И машина проскочила опасное место.
Ну, теперь последний «чертов мост». Потом все. Однако еще издали Аверин увидел — поперек дороги, свалившись с обочины, лежит огромная ель. Не доезжая метров двадцать, Аверин притормозил. Хлопнув дверцей, выскочил из кабины. Черт побери, не одно, так другое. Подбежав к упавшему дереву, он оглядел дорогу — объехать нечего было и думать.
— Тьфу ты, — выругался Аверин и побежал звать на помощь солдата.
Он уже подбегал к машине, когда глухую тишину разорвала автоматная очередь, и в ту же секунду он увидел: какой-то человек напал на солдата сзади, ударил его ножом, подобрал автомат. Аверин юркнул под кузов. Когда человек с автоматом в руках двинулся в сторону леса, Аверин, как кошка, прыгнул на него сзади и, вырвав автомат, отскочил в сторону. И тогда из-за деревьев выскочил еще один.
— Свои же, Тайга! — крикнул он. — Ловкий ты, черт. Пошли. До реки километров пять еще. Двинули.
«Ах, вы, гады», — подумал Аверин. Он узнал обоих. Заключенные из соседнего отряда. С лесоповала сбежали.
— Двинули, — снова сказал тот, что ударил солдата.
— Может, опера добить? — спросил другой.
— Не стоит… Сам дуба даст. Еще «вышку» за него получишь. Пошли, Тайга. Втроем не пропадем. Автоматик очень кстати.
Аверин оглянулся — солдат лежал на земле, не двигаясь.
Он ощутил, что руки, державшие автомат, стали скользкими, словно намыленные. Перед глазами встало лицо Резванова. Вспомнилось, как он говорил: «Дорога трудная, Алексей. Справишься?»
Дрожащим пальцем Аверин нащупал спусковой крючок, и длинная автоматная очередь резанула по вершинам деревьев. Сверху посыпалась хвоя, затрещали сухие ветки. Тайга ответила на стрельбу ухающими звуками, словно кто-то заплясал на клавишах огромного рояля.
— Ложись! — истошно заорал Аверин.
От неожиданности двое распластались на земле.
Медленно, держа автомат наперевес, Аверин двинулся к ним:
— А ну, поднимайтесь.
Заключенные поднялись.
— Здорово напугал ты нас, Тайга, — рассмеялся один.
Другой поддержал его дрогнувшей улыбкой:
— Идем, Тайга. Скоро река. А за ней — воля!
— Поворачивай к машине! — угрожающе проговорил Аверин.
— Что ты? Воля же!
На их лицах появилась растерянность, смешанная со страхом.
— Ну! — крикнул Аверин. — Перестреляю, как собак.
И в глазах у него блеснула такая ярость, что оба, поеживаясь, гуськом пошли к машине. Взглянув в лицо Лешки, беглые поняли — не шутит. А они помнили, что было с теми, кто прекословил «пахану». Потому они шли молча.
Черным пятном застыл самосвал на дороге. Слышно было, как стонал Кошелев.
— Перевяжите солдата, — приказал Аверин.
Заключенные, то и дело оглядываясь, разорвали на солдате рубаху, начали перевязывать плечо. Тот застонал.
— Осторожней! — предупредил Аверин.
«Ранение вроде не тяжелое, в плечо, — лихорадочно думал он. — Потерпит немного солдат, а я мигом людей из сангородка пришлю».
— Потерпишь? — спросил Аверин конвойника. Тот кивнул головой и поморщился от сильной боли.
— В кузов! — приказал Аверин, когда заключенные перевязали солдату плечо. — Положите Кошелева на носилки. Машина все равно не пойдет — завал. Уложили? А теперь быстрее, в сангородок! — сказал Аверин, направляя дуло автомата на задержанных.
Двое подняли на носилки начальника оперчасти, спустили его с машины.
— Тронулись!
Аверин шел сзади. Миновали обрыв. Взобрались на пригорок. Отсюда до горизонта чернела тайга, а у самого окоема синяя лента — река! Это, считай, воля. Воля, которой Аверин не видел уже шесть лет и еще долго не увидит.
Он вздохнул всей грудью и потянул носом воздух. Четверо с носилками замерли, с волнением глядя на него.
Воля…
Аверин проглотил слюну, опустил автомат книзу и тут же вскинул его, держа палец на спусковом крючке.
— А ну, быстрей! Кто сделает шаг в сторону — смерть на месте.
Так спустились вниз. Дорога метнулась в тайгу, двое шли медленно, хрустя валежником, а сзади них с автоматом наперевес шагал Лешка Тайга, гроза уркаганов. Восемь раз они отдыхали, пока впереди, на склоне холма, не замаячили белые корпуса сангородка…
Машина мчалась прямо по песку, не разбирая дороги. Да и никакой дороги здесь не было — степь и песок без конца и края. Шофер затормозил:
— Вот и колония…
— Где? — спросил Резванов, протирая ветровое стекло.
— За бугром, отсюда не видать… Машина туда не взойдет. А может, ко мне, Николай Павлович? — спросил Аверин. — Семь лет ведь не виделись после того… Здесь километров десять до нефтепромыслов.
— Спасибо, Алексей. На днях обязательно заеду, — Резванов крепко пожал ему руку и, подхватив чемодан, вылез из машины.
Ветер хлестнул в лицо. Резванов зажмурился. А когда открыл глаза, увидел: машина уходила в пески, к нефтяным вышкам, где начиналась трасса. Над радиатором самосвала трепетал небольшой красный флажок. Резванов знал, что означает этот вымпел, кого им награждают.
ОТЕЦ

Виктор глядел в окно. Этот дом на окраине города совсем не похож на отдел милиции — за окном зеленеют картофельные грядки, радугой полыхает цветник, от кустов шиповника падает в арык густая тень.
А здесь, за дверью с табличкой «паспортный стол», словно кто-то размеренно режет капусту — хррм-хррм, хррм-хррм… нет, кто-то шагает взад-вперед.
Виктор знал: сюда людей приводит надежда — если кто-то пропал без вести, если людей разбросала по земле война, если…
Шаги в кабинете смолкли. Скрипнуло, распахнувшись, окно. Виктор уловил вздох. Это было таинственно, как неясные шорохи на ночной реке. Когда сидишь с удочкой. Один.
Дверь распахнулась. Из кабинета вышли двое — седоватый мужчина и парень лет восемнадцати. Они улыбались. Но Виктора поразили не они. Капитан милиции застыл за ними у порога. Он тоже улыбался. Тонкая сетка морщин избороздила лицо капитана. Есть такие лица, которые улыбка старит. У капитана именно такое лицо.
— Десять лет не виделись… И вот — встретились. Удалось разыскать, — сказал капитан, когда двое вышли на улицу.
— Кто они? — спросил Виктор.
— Отец и сын… — задумчиво сказал капитан и сразу же спохватился.
— Вы ко мне?
— Да.
— Проходите, — капитан пригласил Виктора в комнату.
Здесь был небольшой кожаный диван, а за барьером, у стен, стояли тяжелые серые шкафы с маленькими выдвижными ящичками.
— Расскажите, — попросил капитан, когда они сели на диван. — Кого вы разыскиваете?
Какой странный голос — хрипловатый, слова скользят плавно, словно на невидимых волнах, и внезапно гаснут, будто наткнувшись на плотный бархат.
— У меня такая же история, что и у тех, — Виктор кивнул головой в сторону двери. — Только я не потерял отца. Я от него сбежал. Это было давно. Тогда я поклялся, что никогда к нему не вернусь, но время шло, и каждый день я все острее ощущал утрату. Но найти его не могу. Помогите мне…
— Погодите, — сказал капитан. — Не торопитесь. Расскажите спокойно все как было.
— Ну, что ж, — произнес Виктор и тихо повторил: — Ну, что ж…
Виктор словно провалился. Он падал в колодец памяти, в прошлое. Пока не коснулся дна. События проступили резко и четко, словно это случилось вчера.
Вспомнил он и тот день, круто повернувший всю его жизнь.
В седьмом «б» шла контрольная по физике. В классе стояла настороженная тишина, и только слышно было, как скрипели перья по бумаге, да еще поскрипывали между рядами ботинки Василия Ивановича, учителя, которого за педантичность ребята прозвали «первый вопрос».
«Первый вопрос» подошел к доске и только занес мел, чтобы написать условие задачи на закон Ома, как дверь без стука распахнулась и Витька, сидевший за первой партой, прямо перед собой увидел соседского мальчишку Кольку. Тот был весь красный, взмокший и босой.
— Витька… — сказал он, захлебываясь. — Иди, там твоя мать умирает.
— Мне можно? Да? — приподнимаясь, спросил Витька. Он заметил: у «первого вопроса» вывалился из рук мел и разбился на кусочки. Но ни удара, ни того, что ответил учитель, Витька уже не слышал.
Потом ребята из его класса рассказывали, что «первый вопрос» весь урок угрюмо молчал и впервые ничего не задал им на дом.
Витькина мать умирала — тонкие струйки слез текли по ее щекам.
— Витюшку береги, — глухо говорила она отцу. — Витюшку…
Больше она ничего не сказала.
— Клянусь! — чужим и совсем далеким голосом проговорил отец и опустился перед кроватью на колени.
…Несколько дней промелькнули в непривычной тишине. Разговаривал отец с сыном мало — о чем бы ни заговорили, все как-то касалось матери, а это вызывало жгучую боль…
Минуло три года. Наступила осень, и листья на деревьях стали походить на желтые медяки. В один из вечеров отец появился дома не один. Последнее время он вообще приходил поздно. Витька видел, как он подолгу сидел перед зеркалом, тщательно брился и зализывал волосы на пробор.
Увидев чужую женщину в доме, Витька ничего не сказал, а отец посмотрел на него внимательно и тоже не обмолвился ни словом.
А женщина подошла ближе и протянула сильно надушенную белую руку. От нее пахло, как от акации в цвету. Но Витька убежал в другую комнату.
Теперь каждый день Витька видел, как эта женщина пудрилась из пудреницы его матери, мазала басмой волосы перед маминым зеркалом. Она только и делала, что пудрилась и красилась. Витька разбил зеркало, пудреницу спрятал в саду.
Однажды он случайно услышал разговор: «Хорош сынок… Твоя краля так его воспитала». Это сказала женщина, пахнувшая акацией. Так отзываться о маме!
Витька появился в дверях неожиданно. Он видел, как отец стоял возле Веры Семеновны, о чем-то ее упрашивая. Лицо у отца было совсем бледное, и Витьке стало жалко его. Отец так просит Веру Семеновну, а она даже не поворачивает головы. Она примеряет длинные желтые серьги. Витька решил, что сегодня ночью он утащит у нее эти серьги и запрячет в саду. Никто не найдет.
И снова она произнесла это слово — «краля».
— Моя мама не краля! — закричал Витька. — Она была хорошая, она лучше вас в сто раз… Это вы — краля!
Он увидел: глаза у Веры Семеновны пожелтели, потом стали коричневыми, как брюшко осы. Казалось, они сейчас расправят крылья, вылетят и ужалят.
И вдруг — он не успел опомниться — Вера Семеновна ударила его.
Витька прижался к отцу, ожидая защиты.
— Иди, проси прощенья, ну! — глухо сказал отец и подтолкнул Витьку в плечо.
Витька похолодел. Словно бросили за шиворот ледяшку, она растаяла, и тонкие холодные струйки растекаются по спине между лопатками.
— Ну, извинись! — прикрикнул отец и поднял руку.
Витька рванулся к двери. Выскочив на улицу, он бежал, бежал не останавливаясь, пока не очутился в автобусе.
Он выскочил на конечной остановке и зашагал по пыльной дороге. К реке. До нее было километров семь. Почему он шел к реке? А разве не все равно.
От синей реки тянуло прохладой. Витька упал в прибрежную осоку, больно поранил руку. Он плакал. Было тихо-тихо, стайки волн набрасывались на песчаную отмель и, подлизывая пожелтевшие водоросли, уносили их в поток. Пахло раздавленной ежевикой и головастиками.
Сквозь зеленые ливни трав Витька увидел — совсем далеко нависла в небе серая пелена пыли — там был город. Думать ни о чем не хотелось, но одно Витька знал наверняка — домой он не вернется. Никогда…
— Как фамилия вашего отца? — спросил капитан.
— Тихонов, Андрей Николаевич.
Виктор замолчал и, взглянув в лицо капитану, увидел: оно было белым и вялым, как промокашка.
— Что с вами? — испугался Виктор. — Вам плохо?
— Нет, нет… Ничего. А что было дальше?
— Дальше?
Сколько воды утекло с тех пор! Где только не побывал Витька — скитался по железнодорожным вагонам, сидел в детколонии, окончил ремесленное училище, работал в Братске, женился, и мальчишка растет у него такой славный…
— Но это вкратце, конечно…
Открыв ящик стола, капитан вытащил из горки бланков один лист и протянул его Виктору.
— Пишите заявление, — сказал он. — Впрочем…
Капитан помедлил.
— Знаете что… Есть у нас тут один майор. В ГУМе работает. Я думаю, он больше чем я поможет. Он уже многим помог… Идемте, я вас подвезу.
Машина подпрыгивала на буграх. Виктор взглянул в зеркальце, прикрепленное у ветрового стекла. В зеркале он увидел кусок дороги, уносящейся назад. Он видел, как четко пропечатывается след колес по размытой дороге, но потоки дождя, неистово хлещущего сверху, смывают этот след, и уже невозможно разобрать его, ничего не остается сзади.
— Так что это за человек, к которому мы едем? — спросил Виктор.
Он повторил этот вопрос уже второй раз. Первый раз он спрашивал об этом в милиции, но, вместо ответа, капитан надвинул на переносицу очки и начал искать что-то в картотеке. Он лихорадочно перебирал карточки тонкими пальцами, словно боялся о них обжечься, будто это был чай из термоса.
— Бывает, обида, нанесенная близким, жжет всю жизнь, — сказал капитан. — Но сила, красота человека и в том, чтобы уметь прощать.
И сейчас, когда Виктор снова задал ему тот же вопрос, какая-то виновато-растерянная улыбка осветила лицо капитана.
— Понимаете, — сказал он, — этот майор у нас недавно, приехал откуда-то издалека. Он совсем одинок, но многим людям помог разыскать родных. Он сам… Знаете, мне кажется, что он так ревностно относится к своей работе потому, что потерял кого-то сам… давно потерял… Он и в милицию-то пришел за тем, по-моему, чтобы, разыскивая людей, потерявших друг друга, доставлять им радость…
Капитан поглядел на Виктора из-под очков и замолчал. Больше они не разговаривали.
Дождь лил, не переставая, когда они вышли из машины. Виктор оглядел себя: одежда его имела жалкий вид — серый костюм был весь в волглых буграх, намокшие ботинки погрузнели.
Они прошли через проходную, миновали пропахший бензином и соляркой гараж, сокращая путь, двигались какими-то закоулками во внутренний двор, заглянули в фотолабораторию, где капитан передал заведующему фотопленку, поднялись на второй этаж и долго шли узким коридором, пока не остановились около двери, обитой потертым коричневым дерматином.
И тут, перед дверью, Виктора охватило странное волнение — вспомнив все, что рассказал ему капитан, он подумал: неспроста он говорил обо всем этом, и привел его сюда тоже неспроста, потому что ведь и сам он мог помочь Виктору. Когда же капитан постучался в дверь, Виктор увидел у него на лице ту самую виновато-растерянную улыбку.
Никто не ответил на стук, и капитан постучался снова.
Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился седой человек в милицейской форме. Поток света падал в комнату из окна, а из коридора лицо его освещалось слабым светом электрической лампы. Кожа на лице майора была потрескавшаяся, как на старых картинах, и отсвечивала тускло, как икона. Седой человек глядел на Виктора долго и пристально, словно вспоминая что-то, и вдруг ухватился рукой за дверной косяк. Рука стала желтой. На виске у майора наискосок, от уха к глазу, кралась сиреневая полоска.
Этот шрам — от уха до глаза, — который в минуты волнения всегда становился темнее, Виктор помнил с детства…
АРКАНСУ

— Тутек
[74], — уверенно сказал Вадим Стороженко. Он нагнулся, и его широченная фигура заслонила выход из палатки. Деревянные колышки, которые мы с таким трудом забили в сухую, твердую почву по краям палатки, жалобно пищали, словно живые, а брезентовый верх вздувался парусом, будто мы сидели в лодке и готовились отправиться в плавание.
— Колья, укрепите колья! — поморщился Вадим. — Я же говорил…
Последние слова уже относились ко мне. Да, он говорил! Еще в Оше, в базовом лагере, откуда мы двинулись в горы. Вадим не хотел меня брать в экспедицию, потому что я едва оправился от болезни, и к тому же врачи обнаружили, что у меня слабое сердце.
До Красного перевала, однако, я чувствовал себя ничего, но сейчас стало плохо — из носа пошла кровь, голова кружилась, а сердце колотилось, как после кросса.
— Пройдет… В Боливии на высоте четыре тысячи пятьсот шахтеры играют в футбол — и ничего. Врачи считают, что высотный футбол даже полезен, — обернувшись, Вадим взглянул на меня. — Дня через два пообвыкнешь. Я к тому времени вернусь. Ну, ребята, с богом.
Он снова откинул брезент и, пригнувшись, вышел из палатки. Ребята бросились его уговаривать. «Подожди, утихнет ветер, — говорили они. — А то поднимется песчаная буря, а на перевале и снежная заметет». Так говорили ребята. И кивали на лошадей, которые, собравшись в кучу, били копытами по каменистой почве и протяжно ржали. Лошади прекрасно чувствовали непогоду. Но разве можно уговорить Стороженко! Он только хмурил брови, кивал головой, поджимал губы, и обычно почти невидимые складки по краям губ проступали во всю глубину. Лицо у Вадима — цвета скал, что вздымаются по обоим бокам Красного перевала, и такое же оно обветренное и не по годам потрескавшееся. Его уважали в экспедиции — он облазил окрестные горы вдоль и поперек и никогда не брал с собой проводников, потому что не хуже их знал дорогу.
Вадим уедет назад в долину и вернется с грузом — он привезет порох, примусы, продукты и лекарства. И я знал, что остановить его не сможет никакая буря и никакая лавина. Потому что времени у нас было в обрез, а нам еще надо пройти два перевала и один из них Белоголовый, самый трудный и самый опасный. А дальше шла совершенно мертвая каменная долина — сплошной хаос изломанных скал, а за этой долиной была высокогорная метеостанция, и там была Гала… Вадим узнал, что у них на исходе продовольствие, а последняя снежная лавина похоронила под собой примусы, порох и лекарства. Именно поэтому его не могла удержать никакая буря. И еще потому, что Вадим любил Галину.
Я знал, что у разбитного геолога Вадима было много знакомых женщин, но я знал также, что с тех пор, со студенческих лет, когда мы вместе ездили на сбор табака, он любил Галину.
Ничего в ней не было особенного, в этой Галине. Веснушчатое лицо, курносый носик, только глаза странно неподвижные, цвета памирской бирюзы. Вадим был переросток на курсе — на геолфак он поступил, вернувшись из армии. Я учился с Галиной на биологическом, и мы с ней были одногодки. Тогда на курсе никто не мог понять, почему своим сокурсникам она предпочла этого неуклюжего увальня — геолога, который был порядком старше ее. Тогда я еще многого не понимал в жизни — не понимал я и того, что любовь не всегда можно объяснить и понять. А когда человек не понимает, он начинает выходить из себя и нередко делает, глупости. Я любил Галину. Только я никогда не говорил ей об этом. Даже никто из самых близких моих товарищей ничего не подозревал, ну, и она, конечно же, не догадывалась. Сотни раз я решался: вот сегодня заговорю с нею, но всякий раз ее бирюзовые глаза глядели на меня, как мне казалось, с усмешкой, и я не мог подойти к ней.
А однажды я увидел на вечеринке, как Вадим играл на гитаре. «Кто сгорел, того не подожжешь», — подпевал он себе приятным тенором. Он казался мне именно таким — усталым, перегоревшим. Я глядел на них в тот вечер и думал — ничего настоящего у них не будет, все это лишь игра, которая однажды оборвется так же, как началась. Только дети верят в игру, в которую они играют, а они были уже взрослые люди.
Когда мы кончали университет и получали направления, я тянул до самого последнего дня, пока не узнал, куда послали ее, чтобы поехать вместе с ней. Но место было одно — и оно принадлежало Гале.
Я до сих пор не могу понять, как сложились их отношения с Вадимом. И по-моему, никто в экспедиции не мог этого понять. Весной на целое лето они расставались друг с другом, чтобы осенью встретиться вновь — загорелые, обветренные и похудевшие.
Все это время после окончания университета я работал младшим научным сотрудником в НИИ, все это время я думал о ней. И мне часто казалось, что я видел ее на улице, в кино, в библиотеке, на реке. Я видел ее в каждой девушке. Но я знал — ее здесь нет, она далеко в горах. Два раза я приезжал в Ош, но так и не застал ее, потому что она была в экспедиции. А сейчас я сам уезжал в экспедицию в Сибирь. Может быть, уезжал навсегда, и поэтому я не мог не проститься с ней.
Вадим удивился, увидев меня в Оше. Я сказал ему, что мне надо попасть на Восточный Памир, чтобы собрать кое-какие материалы для своей будущей диссертации. Кажется, я покраснел, говоря это Вадиму, потому что никакую диссертацию я не писал, но Вадим, по-моему, этого не заметил. Однако, когда врачи запретили мне ехать в горы, он развел руками. Но я все же уговорил Вадима взять меня с собой, и он согласился.
И вот, надо же случиться — тутек… Однако через два дня я чувствовал себя уже сносно. Утром, выйдя из палатки, я встретил у дороги караванщика Узербая. С Узербаем я познакомился еще в Оше, он уехал на полмесяца раньше нас. Сейчас он возвращался в свой родной Суфи-Курган. Узербай сообщил мне новость — Галина вместе с двумя другими сотрудниками, после того как они едва не погибли под снежной лавиной, погрузили весь свой нехитрый скарб на кутасов
[75] и двинулись вниз через долину, чтобы присоединиться к экспедиции Тарновского, которая находится намного восточнее. Сегодня к концу дня они будут проходить, видимо, около Безымянного хребта — два дня пути, если ехать по трассе, а если идти по тропинке, то дня полтора.
Я понял, что мне представляется случай увидеть Галину. Мне ничего не надо было — только увидеть ее, поговорить с ней… Но для того чтобы встретить Галину у Безымянного хребта, я должен пройти Аркансу. А я знал, что на это не решались даже опытные альпинисты.
И поэтому я пошел просить совета у Узербая. Кто как не старый караванщик должен был помочь мне. Узербай ночевал на ледниках, перебирался через глубокие трещины, обвязавшись веревками из шерсти яка, длиннющими оврингами
[76] шел над бездонными пропастями, он проникал через недоступные ущелья, забирался в такие места, куда не доберешься даже на вертолете.
Смуглое лицо Узербая, казалось, выражало безразличие, а глаза сузились — тоненькие щелочки.
— Нет, — сказал Узербай. — Нет. Через Аркансу пройти нельзя.
Так сказал караванщик. А слова караванщика — это закон гор. И, кто нарушает закон гор, тот погибает.
Мы сидели с ним около юрты и глядели на яков, пасущихся недалеко. Мой взгляд невольно скользил вдоль вершин к ущелью — там Аркансу.
Узербай начал прощаться, мы выпили с ним по пиалушке айрана и закусили сухой лепешкой. После этого Узербай крепко пожал мне руку и, вскочив на коня, тронулся в путь. А я глядел ему вслед до тех пор, пока едва различимая крохотная точка не мелькнула на гребне перевала, чтобы совсем исчезнуть из глаз. Мне стало грустно. Я взобрался на пригорок — отсюда было видно, как далеко-далеко на востоке растрепанные тучи тащились по земле, выгребая пыль и щебень из расселин, смешивались с пылью и вдруг начинали вертеться, словно отплясывая дикий танец. Серые смерчи поднимались высоко вверх, растворяясь в облаках. И тогда видна была между отвесных скал узкая полоска ущелья, за которым начиналась долина с крутыми осыпающимися холмами по краям — Аркансу.
Вадим должен был вернуться только к вечеру, а к вечеру я уже миную Аркансу и успею встретить Галину. В палатке остались только два альпиниста, которые обязательно дождутся Вадима и поедут с ним догонять экспедицию. Она ушла далеко вперед, это ведь только я остался, потому что подхватил тутек и мне надо было акклиматизироваться. Альпинистов я не застал — они еще не вернулись из долины, куда спускались за эдельвейсами. В записке я написал, что отправляюсь назад в базовый лагерь, положил эту записку на свой спальный мешок, привалив ее камнем. Эта записка была моя вторая ложь перед Вадимом.
Собрался я быстро, меня словно лихорадило, и мне казалось, что с Галиной непременно может приключиться какая-то беда и я должен спешить. Я захватил с собой нож, бутылку воды и лепешку.
Наблюдая за входом в Аркансу, я заметил, что смерчи появляются через какие-то равные промежутки времени, словно в ущелье сидит огромный дракон, набирает в рот песок и систематически со страшной силой выплевывает его вверх. Я хотел проникнуть в ущелье, как только тучи песка рванутся вверх, но «расписание» почему-то нарушилось — страшные вихри со свистом выскочили из ущелья, завертели песок и мелкие камни. Я припал к скале и так лежал, задыхаясь и не двигаясь, пока оба смерча не рассеялись столь же внезапно, как и появились. Я поднялся и, отряхиваясь от пыли, забившей все складки одежды, двинулся вперед. Впереди, в желто-серой пелене, вздымавшейся над горами, утопало солнце.
По ущелью бродили сумерки. Черные, гигантские каменные глыбы, нависавшие слева и справа, заслонили небо. Я поднял голову, и мне показалось, будто гляжу я из горлышка бутылки. Узербай был прав — идти по дну ущелья совершенно невозможно — можно лишь карабкаться по террасе, тесно прижавшейся к отвесному боку ущелья. Но карабкаться было трудно из-за бешеного ветра. Он пронизывал насквозь, прижимал к скалам, и тогда острые зазубрины больно впивались в тело. С трудом я все же добрался до выветренной плоской скалы. Ноги скользили, тянули вниз отяжелевшее тело. Но мне удалось взобраться на скалу, и здесь я отлеживался, часто дыша, и глядел туда, где солнце. Скала подрагивала и осыпалась.
Я начал спускаться. Медленно. Оскальзываясь на валунах, обдирая локти о льдисто-холодный гранит, цепляясь вспотевшими пальцами за расщелины в скалах, утопая в пролежнях песка, осыпая за собой лавины щебня. Мускулы налились тупой усталостью, раскрасневшиеся ладони горели, во рту пересохло.
Кончилось ущелье, и началось Аркансу — извилистые подвижные скаты, состоявшие из наносов песка, гальки и крупных камней, скрепленных местами прослойками из глины. Тут-то я понял, что ущелье, через которое я пробрался, было просто детской игрой по сравнению с этими живыми холмами и стенами. Через Аркансу можно было пройти только одному, потому что за каждым твоим шагом рушились сзади огромные камни, возникали лавины. Но один через Аркансу никто пройти не решался.
Здесь не было этого ужасающего ветра, бесноватых смерчей — небо чистое, спокойное, странная тишина повисла над долиной. Но тишина ненадежная и ей нельзя было доверять. Камни-предатели вставали на пути. Любой камень, за который рука хватается с надеждой, любой валун, на который ступает нога, начинает ползти, тащит за собой соседние камни, вокруг водопадом шумит песок, и ты летишь вниз в хаосе желтой пыли.
Камни окружали меня со всех сторон. Они падали не только от прикосновения, но и от звука шагов, и лишь невероятные прыжки, которые я совершал, уже трижды спасали меня от верной смерти. Через полчаса я потерял синие альпинистские очки и нож, бутылка с водой давно разбилась, руки и лицо были все в царапинах и кровоподтеках. Иногда я останавливался, поднимал камень и, не целясь, бросал его впереди себя — немые скаты мгновенно отвечали диким грохотом, водопад камней, песка и обломков скал сыпался вниз. Неустойчивых камней от этого почему-то не убавлялось, и мне казалось, что их становилось даже больше.
После того как мимо меня со свистом пролетел обломок скалы, я стал опасаться звука собственных шагов, шуршания одежды и прежде чем сделать шаг, озирался по сторонам. Каждый раз, когда рушилась каменная лавина и потом медленно оседала пыль, наступала жуткая тишина. Тишина была еще более невыносимой, потому что солнце сияло вовсю в синем небе, а вокруг возвышались только горы песка и эти дьявольские камни. Ничего живого до самого горизонта, ни кустика, ни травинки… Только камни, камни, камни на моем пути… Я лежал у последнего, как мне казалось, живого ската и видел впереди, насколько хватал взгляд, такую же мертвую долину, с таким же неземным марсианским пейзажем. Губы ссохлись настолько, что, облизывая их шершавым языком, я чувствовал соленый привкус крови. И я вдруг понял, что никогда не выбраться мне из Аркансу, а ночью я замерзну — такой уж странный климат в горах — днем жарища нестерпимая, а ночью вода замерзает.
И все же я продолжал эту игру с камнями, пока часа через три, уже совсем измученный, грязный и оборванный, не вскарабкался на холм. И тут я вдруг увидел внизу неожиданное — ярко-зеленая речушка вспенивала волны о валуны, а совсем далеко в сиреневой дымке вздымались в небо белоглавые вершины. Из долины веяло прохладой — там была жизнь. Но вначале я не поверил увиденному и думал, что это мираж. Я тер глаза, но мираж не исчезал.
Внизу, подо мною, прижимаясь к стенкам ущелья, пролегала дорога. Я взглянул вниз, и словно холодным ледяным ветром прошило меня — слева за поворотом, там, где дорога круто устремлялась вниз, а потом резко поворачивала, ее рассекала огромная трещина. Когда я спустился вниз, то увидел далеко впереди четыре крохотных двигающихся точки. От усталости я не мог шевелиться, веки слипались, я решил подождать маленький караван здесь и предупредить людей об опасности. Кажется, я уснул, потому что когда открыл глаза, увидел над собой усталое лицо бородатого человека. Он тряс меня за плечи. Я глянул через его голову — бирюзовые неживые глаза Галины встретились с моими. Она мигом спрыгнула с кутаса.
— Что с Вадимом? — закричала она.
И я понял: все, что я собирался ей сказать, что обдумывал по дороге за время этого пути, мгновенно рухнуло. Она даже не удивилась, встретив меня здесь на горной тропе, впереди их каравана, не удивилась, увидев меня, еле живого, в лохмотьях здесь, на краю «Ойкумены». Она только закричала, потому что испугалась, что Вадим был вместе со мною, а сейчас его нет.
Я успокоил ее, сказал, что Вадим отправился в базовый лагерь за продовольствием и сейчас, наверное, возвращается назад. Я сказал также, что впереди обвалилась скала и за поворотом пропасть. Караван повернул назад. Меня усадили на яка, который и так, бедняга, тащил несколько мешков с инструментом и гербарием. Яки медленно брели назад. Я смотрел на Галю и понял, что она сейчас все равно повернула бы караван, даже если бы не было впереди никакой пропасти. И еще я понял, что она меня совсем не любила, даже капельку. А я так надеялся на эту капельку.
А ведь исполнилось то, о чем я мечтал давно, в студенческие годы — я спас ей жизнь. Не предупреди я их об опасности, весь маленький караван мог бы полететь в пропасть. Я спас жизнь любимой! Да, я по-прежнему любил ее, несмотря ни на что, я знал, что буду любить ее всегда, куда бы ни забросила меня судьба, я все равно буду шагать к ней всю жизнь и она будет рядом со мной. Я буду идти к ней, когда со мной будет беда или радость, когда мне будет улыбаться солнце и когда тучи закроют горизонт — всю жизнь я буду идти к ней. Только пройдя Аркансу, я уже стал другим. Потому что всегда становишься другим, преодолев преграду. И еще я знаю, что на пути каждого человека лежит его Аркансу. И пройдя Аркансу, он уже совсем другой. И я стал другим.
Я сидел на спине черно-бурого яка, медленно бредущего по дороге, меня укачивало — я засыпал. Когда дорога пересекла трассу, я начал с ними прощаться. Они остались здесь, чтобы подождать машину Вадима. А я на попутном газике уехал в Ош. Я сказал Галине, что обязательно предупрежу Вадима, если встречу его в долине или по пути. Но до самого Оша я так его и не встретил и подумал, что мы, наверное, с ним разминулись. И только два года спустя, в тайге, где я работал в экспедиции, я встретил знакомого ботаника, и он рассказал мне, что Вадим Стороженко погиб в долине Аркансу. И тут я наконец понял — то, что я прошел Аркансу, было просто чудом. Вадим вступал в ущелье смерчей как раз в тот момент, когда я уже преодолел Аркансу. Говорят, он узнал, что дорога обвалилась, и поспешил предупредить об опасности. Он пошел через Аркансу. Он не мог пойти другой дорогой. Потому что в характере таких, как он, — всегда выбирать самые короткие пути.
НЕЗРИМЫЙ ПОЕДИНОК
Повесть
1. ГЛУХАРЬ

Песчаная буря бесновалась третьи сутки. И когда улеглась, всю территорию словно обсосало гигантским пылесосом — тут и там обнажился из-под песка обветренный силикатный камень. Этого самого камня — полевого шпата, роговых обманок и слюды — целые горы внизу, у карьера, где работают заключенные из отряда Лариошина. Камень грузят в МАЗы, и потом тяжелые машины, натруженно урча на бесконечных подъемах и буксуя в песке, едут к железной дороге.
К железной дороге… Глухарь облизывает потрескавшиеся губы и глядит в сторону железнодорожной станции. Каждый день он глядит туда с карьера. «Только бы добраться, — думает Глухарь, — заскочить на ходу в товарный — и ищи ветра в поле». Буря вздыбила горы песика, из-за них не видно ни дороги, петляющей между каменных ухабов, ни далеких металлических конструкций большого завода. За карьером два холма намело, и кажется, прямо из них курится ржавый дымок. Но Глухарь-то прекрасно знал, что дымок посылают в атмосферу две заводские трубы. Чуть подальше — буровые вышки. Они шагают в глубь песков. Говорят, нефть нашли. И живут там геологи — бородатый, веселый народ. Здорово зарабатывают, говорят. Платят им за безводность, за отдаленность, за пустынность и вообще бог знает за что…
Глухарю плевать на геологов и на их деньги. За эти денежки ух как вкалывать надо. А Глухарь работать не привык. Его профессия — воровать. И менять это дело он не собирается. Добраться бы до железной дороги, до товарного поезда. А там, в первом же городе, у него будет столько грошей, сколько этим геологам вовек не снилось.
Только не пускают его к железной дороге. Четыре вышки маячат по бокам карьера. Зорки глаза у часовых. Ну, ничего, он, Глухарь, хитрее. Сегодня он уйдет. Как пить дать. Время не терпит: дружки ждут. И так он уже тут полтора годка отбухал. А до конца срока еще тринадцать с половиной лет. От звонка до звонка. Колония для особо опасных. Трешка в месяц — на махру, «свиданка» общая — раз в полгода, личного — нет, «передачки» — тю-тю… Даже письмо — раз в месяц. «А может, я больше писать хочу?» — осведомился Глухарь у Лариошина.
Он уже два раза писал на волю — жене своей, Елене Ольховской. И не получил ответа. Загуляла, небось, с кем. Эх, берегись, Ленушка! Не будет тебе пощады и прощения.
Глухарь тяжело втягивает воздух. Поджарое, но крепкое тело его напружинивается. Он размахивает киркой. Р-раз! Кто нашел здесь этот проклятый камень, который долбит их бригада? Те самые геологи, что понаставили буровых вышек? Глухарь глядит поверх барханов туда, где вьется ржавый дымок, и огоньки лютой злобы вспыхивают в его глазах.
Свисток! Кричат конвойные, и бригадир подает знак — уходить с карьера. Глухарь давно ожидал этой команды. Сейчас, когда заключенные спустятся вниз, бабахнет взрыв — аммонал поднимет в небо тучи песка, и посыплется над карьером каменный дождь, как при извержении вулкана.
После каждого взрыва образуются в скалах глубокие ямы. А сколько таких ям в карьере… Перерыто все, перепахано. Тонкими жилками наклонных шурфов испещрен карьер. Такими тонкими, что едва пролезет в них человек. Но Глухарь решил, что пролезет. Скоро будет сниматься конвой, Глухарь нырнет в этот самый шурф, а дружок его Колька прикроет нору большим камнем.
Ныла спина, тяжелели руки, а Глухарь все долбил и долбил камень. Он уже около месяца так работает. Сто сорок и даже сто шестьдесят процентов. Воспитатель его похвалил. «Запомни сам, скажи другому — лишь честный труд — дорога к дому». Глухарь вспомнил: такие плакаты висят у них в «зоне» — рядом с кабинетом замполита и в библиотеке. Черта с два! Это значит еще тринадцать с половиной годов долбить камешек! Нет уж, пусть кто-нибудь другой попарится.
Глухарь оглядывается, косые лучи солнца, уходящего за бархан, слепят глаза, и Глухарь подмигивает своему корешу Кольке. Колька понимает это как сигнал и заслоняет Глухаря своим грузным телом.
— Ну, покедова, Колян. Не поминай лихом. Жди весточки.
Глухарь машинально провел шершавой рукой по голове, на которой когда-то золотился кудрявый чуб. А сейчас голова, стриженная под нулевку, чуть-чуть щетинится.
— Отрастут, — он сплюнул на землю, глубоко вздохнул и, нырнув в шурф, услышал, как сзади громыхнул камень.
И сразу стало темно. Молодец, Колян. Закрыл нору. Теперь его никто не сыщет.
Глухарь прополз метров восемь. Проход расширился, можно было присесть на корточки. Он вытащил из-за пазухи пакет, а из кармана — мешочек, нож и бутылку. Чиркнул
спичкой. Нет, ничего не забыл. Краюха хлеба, вода, сахар, махорка и перец.
Он осмотрел все, потом снова порассовал по карманам и за пазуху и пополз дальше. Направо. Налево. Вниз. Вверх. Дышать становилось все труднее, пальцы кровоточили. Сколько он прополз?
Глухарь остановился, нащупал справа от себя большой камень и, вытащив нож, начал окапывать его. Почва была твердая, каждое движение причиняло боль. Но он копал и копал, пока, наконец, не сдвинул камень с места и не загородил им проход. А вокруг посыпал махорки и перцу. Это «подарочек» собаке, если ее пустят по следу.
Только бы просидеть здесь сегодняшнюю ночь, потом день и еще полночи. И тогда уж часа в три, когда над пустыней будет такая темень, хоть глаз выколи, он выберется из норы и двинется напрямик через барханы, туда, где тропинка пересекается с шоссе. И там у моста его будет ожидать машина. Там кореша.
На всякий случай Глухарь обвалил еще один камень и закрыл проход. Не-е-е… теперь ни один черт до него не доберется.
С этими мыслями он и уснул. А проснулся от гула, доносящегося сверху. Узкие каменные своды подрагивали, и казалось, что там наверху кто-то стучит в огромный бубен и сотни ног отплясывают танец. Глухарь догадался, что наступило утро и уже снова пришли на карьер бригады. И вдруг земля задрожала от гула, посыпалась галька, сзади обвалился камень. Аммонал! Глухарь съежился в комок. Обвались вон тот огромный камень впереди — и схоронил бы он за собой Глухаря в подземном мешке.
Вспотевшей рукой он нащупал бутылку и отпил глоток воды. И так сидел, скорчившись, ожидая, когда грохнет очередной взрыв. Но больше взрыва не было.
Когда совсем прекратились глухие удары наверху (значит, шесть часов — снимаются бригады), Глухарь начал пробираться к выходу. Отодвигал в сторону один камень, второй и полз, подтягиваясь на руках и кашляя.
Вот и последний камень. Отодвинуть его, а там — небо. Но отодвинуть камень Глухарь решился не сразу. Отодвинешь — а на тебя в упор глядит пистолетное дуло… И все же он приналег плечом. Слепящие лучи ударили в глаза, и он услышал, как зашуршали из-под камня песок и галька..
Прожекторы! Карьер освещался и охранялся ночью. Такого раньше не бывало. И еще услышал он голоса и собачий лай. Юркой ящерицей отпрянул он назад и пополз, пополз, захлебываясь, загребая обеими руками. Вниз. Направо. Налево…
И уже не вылезал Глухарь больше на поверхность, а забрался совсем глубоко, туда, где и камней не было, а пахло сырой землей. И он начал кашлять.
Сперва по легкому дрожанию стенок он пытался определить, сколько времени утекло — день, два, три? Но потом сбился со счета. И он знал наверняка, что опера ищут его совсем далеко. В других областях. Даже, наверно, всесоюзный розыск объявили. Пусть поищут его. А он тут вот рядом с колонией сидит. И ожидает, когда снимут прожекторы. Он уже ничего не боялся. Даже обвала. У него оставалось всего три сухаря и несколько глотков воды. А когда он уснул, его начали беспокоить крысы.
Большие, но худые крысы подползали к нему совсем близко, пищали и требовали пищи. Одну он убил, но от этого ему легче не стало. Крысы совсем не боялись его и подползали к нему снова. Он пытался отпугивать их криком, но они не уходили. А еще отсырели спички.
Тогда он пополз вверх и когда добрался до первого большого камня, заслонил им дорогу сзади себя. После этого он долго лежал на сырой земле, задыхался и гулко кашлял. Но теперь его последний сухарь, заслоненный камнем, был недоступен крысам.
Глухарь разделил сухарь на три части. И когда съел последнюю, пополз к выходу. Он потерял счет времени, не знал, сколько пробыл в этой норе, день сейчас или ночь.
Несколько раз он отдыхал, пока не показалась впереди узкая корявая щель. Сквозь эту щель он видел — далеко-далеко горела в небе яркая звезда.
Через полчаса ему удалось с трудом отодвинуть камень.
И тогда он выглянул в темноту ночи. Потом пополз, цепляясь за камни. Когда почувствовал, что кругом барханы, попытался идти. Он знал, идти надо прямо. Только прямо. Не сворачивая в сторону. Там у шоссе его будут ждать кореша.
Шел он шатаясь, как пьяный, и через десять шагов упал. И снова пополз вперед, задыхаясь в песчаной пыли. Плыли перед глазами разноцветные круги, а он упорно продвигался к шоссе, где его никто не ждал. Не знал Глухарь, что просидел он в каменной норе десять долгих дней.
2. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Елена вытащила из шкафчика чашку, расколола яйцо и слила белок. Потом взбила его, пока он не зашипел. Тогда она надрезала лимон и, зажмурив глаза, добавила в пену несколько капелек сока. Еще раз взглянула в зеркало, зачерпнула ладонью пенистой массы и намазала ею щеки, лоб — все лицо, отчего оно стало нежизненно белым, какое бывает у больных после операции.
Кожу свою она берегла и любила, и весь туалетный столик был заставлен склянками со всякими настоями, кремами — от солнца, от веснушек, от шелушения и неизвестно еще от чего.
Она снова взглянула в зеркало, поправила волосы и прилегла на кушетку. Когда крем высох, она умылась и одела синее платье. Оно нравилось Григорию, шоферу, с которым она познакомилась недавно. Скоро он придет, хороший такой парень. И Олежку он любит.
Скрипнула калитка, в сумерках Елена увидела фигуру человека, шагнувшего в палисадник. Он!
Елена торопливо подкрасила губы, закинув волосы назад, стянула их в тугой узел. Мельком взглянула еще раз в зеркало.
В дверь постучали. Осторожно, но настойчиво. Григорий никогда так не стучал.
— Лена! Лен!
Голос хриплый, простуженный.
Дверь отворилась. От неожиданности Лена вскрикнула, отпрянула назад. С туалетного столика упало зеркало.
— К счастью, не разбилось, — сказал вошедший. — Ты что? Испугалась?
Он улыбнулся, желтые зубы осветили худое лицо.
— Никого нет? — кивнул он на дверь в соседнюю комнату. — Как снег на голову, да? Ну, что молчишь? Думала, до звонка буду сидеть?
Женщина побледнела, отступила назад.
«Не хочет видеть, — подумал Глухарь, облизывая сухие губы. — Накрасилась. Хахаля ждет?»
Он продвинулся к ней ближе, пальцы его дрожали… Тяжело дыша, схватил ее за тонкую руку, потянул к себе. Он видел влажные широко раскрытые глаза, побледневшие и словно одеревеневшие губы, широкий вырез на платье, открывавший теплое плечо. И в голове у него помутилось… Его тяжелые и жилистые руки, привыкшие за последний год катать тачку и долбить камешек, шарили за спиной у женщины…
— Пусти! — Елена с силой оттолкнула Глухаря.
Он чуть отступил назад, а Елена, отклонившись, задела плечом дверь, ведущую в другую комнату, и она распахнулась. Глухарь увидел — на большой кровати поверх одеяла, съежившись калачиком, спал мальчишка. Он сладко всхрапывал. Сын!
Глухарь видел его впервые — когда Елена родила мальчика, он сидел на строгом и о рождении сына узнал от Квочкиной, давней любовницы своей. Это она написала ему письмо. А Елена никаких писем ему не писала и на «свиданку» не приходила ни разу, пока его не освободили по календарю. Срок тогда у него не так уж большой был, потому что Глухарь схитрил — чувствуя, что его могут поймать с поличным, он выбросил ворованное из окна вагона (поезд как раз проезжал около реки), завязал драку, и посадили его за хулиганство, за это небольшие срока́ дают. После освобождения Елену увидеть не удалось — переехала она в другой город, и пока он добирался к ней, его посадили снова.
И вот сейчас он стоял и глядел сквозь щель в двери на своего сына. Глухарь видел, как он повернулся на другой бок и опять пробормотал что-то. И тут непонятная продольная боль охватила левую сторону груди, ударила в живот и смолкла. «Что такое?» — Глухарь никак не мог совладать с волнением. Он шагнул к двери, Елена заслонила ему дорогу. И тогда боль опять появилась в груди, будто кто-то зажал пальцем какой-то клапан и не отпускал.
— Пусти, слышишь! — с трудом проговорил он. — Пусти.
— Нет, — тихо сказала она и побледнела еще больше. — Уходи.
Он замахнулся на нее обеими руками, она отшатнулась. Глухарь резко толкнул дверь, подошел к кровати.
— Как зову-ут? — спросил Глухарь, и голос его дрогнул.
— Уходи! — вместо ответа крикнула Елена.
Она кинулась к нему, хотела оттащить от кровати, но он поймал ее за руки, медленно, спокойно сжал их и заговорил. Сначала неуверенно, отрывисто, потом тверже и уверенней.
Олежка часто ворочался во сне, а Глухарь говорил о том, как они заживут. У него скоро будет много денег. Правда, жить здесь не придется, но зато он знает такие места, где вовек их никто не сыщет. Да и были б денежки… Верно ведь? И паспорт у него новый будет. Вот тогда они заживут…
Глухарь прислушивался — ветер скребется ветками в окно или это кто-то стоит и подслушивает? Нет, тихо. И тогда он снова начал вслух мечтать о том, как они заживут. А женщина ничего не говорила — она глядела куда-то мимо Глухаря, но взгляд ее все же нет-нет да застывал на его одежде — легком светлом костюме, синей дымчатой рубашке и на новеньких без пылинки чешских туфлях с узкими носочками, которые всегда носят на размер больше…
Да, одеваться Глухарь всегда был мастак. Она заметила это в тот самый вечер, когда познакомилась с ним на танцах. Это было через месяц после того, как умерла воспитательница Хлебушкина. Елена потеряла родителей в войну, во время бомбежки, и старая женщина, воспитательница детского дома Хлебушкина, заменила ей мать. Смерть воспитательницы Елена переживала очень тяжело — именно тогда в глазах ее появилось что-то такое, что поражало людей. В минуты веселья ли, в минуты печали — все равно — глаза были такие, какие бывают у человека, который только что вернулся с вокзала, проводив в далекий путь близкого человека.
Такие глаза были у нее и на танцах, куда затащили ее подружки по общежитию. В тот вечер она и познакомилась с Глухарем. Только не был он тогда для нее никаким Глухарем, звали его Семен. Семен Иванович Ведерников. На нем были вот такие же чешские ботинки с узкими носами. Был он загорелый, кудрявый, лихо танцевал и отлично играл на гитаре. Танцплощадка его уважала. «Сема пришел», — шептались парни и девушки, когда он появлялся у входа.
Елена жила далеко, и в тот вечер он пошел ее провожать. Он взял ее под руку, она не противилась. Впервые парень вел ее под руку, и она шла, затаив дыхание. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь из подруг увидел, как ее провожает домой такой красивый парень, любимец танцплощадки. Они шли пешком. Луны не было совсем. Они шли мимо хилых глинобитных домиков с плоскими крышами, лабиринтами узеньких переулков; мимо полуразрушенного древнего замка, который был давным-давно воздвигнут на ближних подступах к старому городу со стороны степи; мимо утихшей шашлычной; мимо мечети, сооруженной из мятой глины, необожженного кирпича и фигурных терракотовых плиток. Внезапно они вышли на широкую, ярко освещенную улицу. Слева, обозначенный красными огнями, высился скелет телевизионной вышки, они прошли вдоль стеклянного книжного пассажа, свернули в переулок, где было, однако, светло. Здесь находилось общежитие. Он проводил ее до общежития, и они договорились, что встретятся завтра.
Они встретились. Потом еще и еще раз. Елене, было восемнадцать лет, она считалась лучшей ученицей вечерней школы, была симпатична, даже красива. Многие парни пытались ухаживать за ней, но она ни с кем не встречалась. И вот Семен неожиданно ворвался в ее жизнь. Через месяц он подарил ей кольцо. «Обручальное», — сказал он.
А через две недели после свадьбы Семен внезапно уехал в командировку. В школе был выпускной вечер, она одела белое платье и ожерелье, которое он ей подарил в день свадьбы. Ночью для выпускников было устроено гуляние на центральной площади. Зарю они встречали на улице. Рано утром вернулась Елена домой, уставшая и проголодавшаяся, налила стакан молока и отломила кусок хлеба. Поесть, а потом спать, спать…
В калитку постучали. «Семен! Вернулся из командировки», — радостно бросилась она к порогу.
В дверях стоял незнакомый мужчина. Он взглянул на Елену, на ее голые плечи, сверкающее ожерелье. Легкий румянец залил его лицо.
Он протянул удостоверение:
— Моя фамилия Дубровин.
«Уголовный розыск», — прочитала Елена.
— Вы к нам? — спросила она удивленно.
— Ведерников Семен Иванович здесь живет?
— Это мой муж. Проходите.
— Когда это Глухарь жениться успел? — сказал второй, тот, что вошел следом.
— Глухарь? — Елена запнулась. — Какой Глухарь?
— Нет, это я так… — смутился мужчина.
Они прошли во двор. Дубровин внимательно разглядывал Елену. Ее спокойно-задумчивое, доверчивое лицо, слегка побледневшее. Он знал: такие лица бывают у девушек, которые полюбили впервые в жизни и готовы ради этого счастья на любую жертву. Легкий ветерок растрепал волосы, и на лице — на синих удивленных глазах, на маленьких влажных губах, на жемчужном ожерелье, обнимающем шею, испуганно колыхались легкие тени.
— Где ваш муж? — спросил Дубровин.
— В командировке.
«Что верно, то верно», — подумал он, потому что после ограбления ювелирторга Глухарь отправился на гастроли. Не мог же Дубровин ей объяснить, что Глухарь из «командировки» не вернулся. Он арестован, сидит в КПЗ.
— Кем он работал?
— Он… за городом где-то работал. Далеко… У них передвижной характер работ, — Елена вспомнила слова Семена, которые он не раз повторял. — Им за это тридцать процентов надбавки платят.
— Что еще вам известно? Что говорил он последнее время?
— Он говорил, что перетягивал мотор автомашины ГАЗ-АА. Вы знаете такую машину?
«ГАЗ-АА, — подумал Дубровин, — было такое. Это, когда они угнали «Победу», а потом сняли с нее все ценные детали и продали. Боже мой, что мне делать с этим наивным существом? Повезу-ка я ее в ГУМ, к Александру Ильичу Мартынову. Пусть старик потолкует с ней, он подход имеет, а то не дай бог… Кто его знает, что случится, если она в самом деле не знает правду. Ожерелье-то у нее на шее краденое — из ювелирторга…»
Но, к несчастью, начальника угрозыска Мартынова на месте не оказалось, а в приемной Дубровин столкнулся с Игорем Самохиным, который был любителем цифровой шумихи, в каждом незнакомом человеке видел потенциального преступника, а что касается самих преступников, то он считал, что «горбатого могила исправит».
— Это кто? — спросил он Дубровина, отводя его в сторону и то и дело поглядывая на девушку.
Дубровину не хотелось ему отвечать, но Самохин был старше по званию, да к тому же он был начальник отделения, и Дубровин сказал:
— Жена Ведерникова.
— Глухарь женился?! Что ж она передачку не принесла? Любовница и то таскала…
Разговаривали они тихо, и Дубровин думал, что Елена не услышит.
Он оглянулся — губы у Елены побелели. Дрожащая рука ее еще цеплялась за стенку, а тело медленно оседало и вдруг резко запрокинулось назад.
— Что вы наделали? — с укоризной взглянул Дубровин на Самохина.
Но Елена этого не видела, она уже ничего не помнила.
Через три дня Дубровин пришел на вокзал проводить Елену. Она решила уехать.
— Если будет трудно, пишите… Если что понадобится — тоже не стесняйтесь. Ну… — говорил Дубровин.
Елена молча кивнула — она не решилась сказать Дубровину, что ждет ребенка.
Капитан крепко пожал ей руку. И долго еще стоял на перроне, пока не растаял поезд в сумрачной вечерней мгле.
С Дубровиным Елена переписывалась. Из письма она узнала, что Глухарь освободился и, видимо, может приехать к ней. Она очень боялась этого, быстро собралась и уехала из маленького городка. Уезжала она с Олежкой, которому исполнилось уже три года. Но потом ей стало известно, что Глухаря снова осудили. Теперь уж на длительный срок, определив ему колонию особого режима. Она написала большое письмо в угрозыск, Дубровину. Спрашивала, как ей быть. Она думает подавать на развод, потому что хочет выйти замуж, и еще она спрашивала Дубровина, нельзя ли ей вернуться в город. Елена жила в шахтерском поселке, преподавала в начальных классах школы. Дубровин ответил, что пусть приезжает, сейчас как раз есть место в школе-интернате, он забронирует это место для нее и уж, конечно, похлопочет, чтобы Олежку устроили в детский сад.
Елена вернулась, и все вроде бы устроилось. Она стала оформлять документы на развод с Глухарем… И вот он вдруг снова появился перед ней…
… Глухарь нагнулся над спящим Олежкой, провел шершавой ладонью по его волосам. Олежка проснулся и, увидев прямо над собой незнакомого человека, заплакал.
— Смотри ты! На меня похож, Лен! — удивился Глухарь.
И вдруг затих. В калитку постучались. Елена метнулась к окну.
— Уходи, слышишь! — Елена пошла к двери.
«Милиция! Или, может, хахаль явился?» — гадал Глухарь, спеша за Еленой и вытаскивая на ходу из кармана пистолет.
Они выскочили во двор.
— Смотри, Ленка, лишнее слово… — с угрозой проговорил Глухарь.
— Уходи! Не хочу тебя видеть! Уходи!!!
— Хахаля ждешь! — чуть слышно сказал Глухарь, угрожающе надвигаясь на Елену.
И замолк. Из распахнутой двери вышел на крыльцо заплаканный Олежка. Он стоял, сонно щурясь, собираясь, видно, что-то спросить. Глухаря внезапно осенило: «Забрать пацана! С собой. Есть одно укромное местечко. Ленка тогда сама прибежит».
В два прыжка Глухарь очутился рядом с Олежкой, схватил его на руки и, крепко прижимая к груди, побежал в конец двора. Там забор низкий, Глухарь именно в том месте перелезал.
— А-а-а! — испуганно заголосил Олежка, отбиваясь руками и ногами.
Глухарь зажал мальчишке рот и крикнул, не оборачиваясь:
— Теперь сама явишься!
Елена кинулась за ним, пытаясь схватить его за руки, повисла на плечах.
Резкий, отчаянный крик женщины разорвал сонную вечернюю тишину. Где-то в соседском дворе залаяла собака. Ее сразу же поддержала вторая, третья.
Глухарь прислушался. Он никак не мог понять — стучат в калитку или нет, хотя инстинктивно чувствовал, что на улице кто-то стоит. Неровен час — соседи сбежаться могут. И только он подумал об этом — лай утих. Было слышно, как кто-то настойчиво барабанит в калитку.
Лицо Глухаря помрачнело. Он пытался оторвать от себя Елену, но она закричала снова, крепко вцепившись в плечо, и тогда он, отпустив Олежку, с силой ударил ее по лицу. Елена упала, стукнувшись головой о камень. И сразу затихла.
В калитку застучали сильнее. Глухарь метнулся в спасительную темноту между деревьями.
3. ЧП

Капитану Дубровину не повезло. Еще во вторник они договорились, что в воскресенье поедут отдыхать в Бурчмуллу. Долго рассуждали о снеговых вершинах, о ледяной воде бурливых горных речек, в которых, говорят, водится форель; кто-то даже предложил махнуть на голубые озера. («Пусть далеко, но зато полюбуемся красотой»). Дубровин сбегал в спортивный магазин, купил складную удочку и кучу разнообразных крючков. Не хватало только червей, но их можно накопать на месте…
И вот все сорвалось. На воскресенье Дубровина назначили в опергруппу к дежурному по городу. В субботу он пытался обменяться дежурством с кем-нибудь из отдела, но никто не внял его просьбе, и весь день капитан был мрачным.
Обычно воскресенье изобиловало ЧП, но сегодня выдался вечер спокойный, чему Дубровин был удивлен и в то же время рад.
Чай уже выпили, корреспондент городской газеты, решивший написать очерк о работниках милиции, уехал вместе с проводником розыскной собаки и экспертом НТО «на ограбление».
Сейчас все сгрудились вокруг шахматной доски — помощник прокурора Сергей Вениаминович Каширин и медицинский эксперт «резались» уже третью партию, счет был 1:1, и каждый с нетерпением ждал, чем же кончится эта партия.
Окончилась она… телефонным звонком. Говорили из «скорой помощи», и по тому, как капитан Дубровин забарабанил пальцами по столу, стало ясно — дело серьезное.
— Что? Что? — Дубровин внезапно приподнялся.
Лицо у него было такое, словно он вспомнил нечто далекое, что уже начинал забывать.
— В «неотложку», — сказал он, положив трубку.
Они вышли на крыльцо. Посвежело. Внезапный проливной дождь унесся в сторону, и гром грохотал где-то далеко в предгорьях. Прорезав обрывок тучи, выскользнула луна, похожая на кривой, до блеска отточенный турецкий нож.
— Погодка-то, красота… — зевнул помощник прокурора и потянулся. Он был явно недоволен, что его оторвали от шахмат. — А что там стряслось в «скорой»?
— Женщина без сознания. Может быть, и убийство, — сказал капитан, садясь в машину.
«Неужели Елена? — думал он. — А может, однофамилица? Глухарь давно бежал… И надо же — только вчера сняли наблюдателя…»
За ГУМом машина свернула в переулок, и ее затрясло на расхлябанной дороге.
Этот район был отлично знаком Дубровину, впрочем так же, как и другие районы города. Но приметы, по которым он знал город, не нравились ему самому.
Вот ювелирный магазин. Здесь в прошлом году взяли на месте преступления Монгола — крупного вора и мошенника, за которым угрозыск охотился в течение года.
Вот кинотеатр. Месяц назад, когда с последнего вечернего сеанса отсюда вышел высокий, средних лет человек в синем плаще, фетровой шляпе и уже садился в такси, к нему подошел капитан Дубровин.
Так наступил конец Савинкову — валютчику, торговцу самородками и своднику.
А там дальше, за кинотеатром, в запутанном лабиринте переулков, на берегу омелевшего Алара стоял роскошный особняк. Сейчас в нем разместились детские ясли, и отсюда, с центральной улицы их не видно. В особняке жил некто Боря Черныш. Он нигде не работал, занимался запрещенным промыслом. В следственной камере Боря Черныш делал круглые глаза и наивно удивлялся, когда ему предъявляли обвинение. Отлично зная, что Черныш все прекрасно понимает, Дубровин все же долго и терпеливо разъяснял ему, что занятие запрещенным промыслом наказывается лишением свободы.
А вот здесь, в летнем кафе, в Дубровина стрелял, легко ранив его в руку, Митька Харин, опасный рецидивист, бежавший из-под конвоя.
Синяя милицейская оперативка мчалась на красный свет. Мокрый асфальт сиял отраженными огнями, редкие прохожие, поеживаясь, спешили по домам. И Дубровину тоже захотелось домой. Прийти, посмотреть телевизор, «покрутить» джазовые пластинки, почитать «Неделю», поговорить с женой, а не трястись в холодной «оперативке», разыскивая по городу всяких подонков.
Резко затормозив, шофер свернул направо. Дубровин первым выскочил из машины и быстрым шагом направился в приемный покой. По дороге он здоровался с санитарами, с гардеробщицей — здесь его знали, по долгу службы он уже несколько раз бывал в «скорой».
Одевая халат, он расспрашивал о молодой светловолосой женщине, которую привезли час тому назад. Узнав, что состояние тяжелое, — помрачнел.
Он медленно шел по тускло освещенному коридору, в нос било резким запахом хлороформа, и казалось, бесшумно, словно призрачные тени, скользили из конца в конец люди в белых халатах. Дубровин узнал, что скоро кого-то начнут оперировать. Наступила та особая больничная тишина, что настраивает людей на тревожно-торжественный лад.
Елену Дубровин не узнал — вся голова была перебинтована, на лице жили только глаза.
— Как ты себя чувствуешь, Лена? — тихо спросил Дубровин, склонившись над постелью. Ему стало пронзительно жаль эту женщину. В горле сделалось сухо.
Так это было или Дубровину показалось — глаза женщины вспыхнули, охваченные огнем далеких воспоминаний, а потом начали медленно гаснуть.
— Сын… — слабо произнесла Елена. — Олежка дома остался.
— Сейчас мы поедем туда, — успокоил ее Дубровин. — Как все это случилось?
— Глухарь… — вяло сказала женщина. Она попыталась приподнять голову, но закусила губу, видимо, от боли и закрыла глаза.
— Опять, — заволновался хирург, стоявший рядом. — Ей нельзя волноваться. Прошу вас, товарищ Дубровин, — обратился он к капитану. — Отложите этот разговор. Завтра, если станет легче, зайдете.
— Да, да… — машинально проговорил Дубровин, направляясь к выходу. Потом он взглянул на хирурга и приглушенно спросил:
— Доктор, она поправится?
— Ей нельзя волноваться, — уклончиво ответил хирург.
— Что ей можно принести из еды?
— Пока ничего не надо.
Дубровин уходил из палаты с тяжелым чувством вины перед Еленой. Ведь ничего бы не случилось с ней, поймай они Глухаря раньше. Где он бродит-ходит сейчас, кто его очередная жертва? Он подумал о сыне Елены. Вдруг хозяев нет дома, и он сидит сейчас один в темной комнате, надрывается от плача?
Дубровин вошел в раздевалку, где уже не пахло лекарствами, снял с себя халат и, забыв попрощаться, вышел во двор. К горлу подкатывал комок. Капитан постоял несколько минут, глядя сквозь мокрые ветки на синее небо, запорошенное звездами, как инеем. Дождь кончился, приятная свежесть разливалась в воздухе, а Дубровину захотелось к теплу, к домашнему спокойствию и уюту, захотелось, чтобы не было вокруг печальных глаз, чьих-то слез, чьего-то горя… Он глубоко, до боли в легких вобрал в грудь свежий воздух и шагнул к машине.
— На Первомайскую, — сказал капитан шоферу, — к дому Ольховской. Я покажу, где это.
4. РАССКАЗ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ

Дубровин любил любопытных — натуралистов, археологов, путешественников. Дубровин ненавидел любопытных, тех, которые муравейником обрастали вокруг происшествия. Вот и сейчас, несмотря на позднее время, возле калитки дома, где жила Елена, собралась толпа. Цветные женские платья, пустые цинковые ведра, потертые портфели и светлые брюки… Толпа приглушенно гудела. Были тут и случайные зеваки, но, в основном — соседи, оторвавшиеся от керогазов, томатной пасты, картофельных оладий, овощной окрошки, от детективных романов и телевизоров. Кажется, целыми семьями они пришли сюда. И все, о чем говорили, было полно какого-то огромного, им одним понятного значения. Если они говорили «а-а-а», то это было совсем не обыкновенное «а-а-а». Так вы говорите «а-а-а», когда врач нажимает на язык, разглядывая ваши опухшие миндалины.
Через такую толпу пришлось им пробираться, когда приехали к дому Ольховской. «Боже мой, целая процессия», — оглянувшись, подумал Дубровин. За ним двигался маленький толстый помощник прокурора Каширин, эксперт НТО Саша Нестеров, проводник розыскной собаки Борис Игошин и еще участковый уполномоченный Алексей Воронов, худощавый, усатый, в очках. Участковый их встретил у калитки. Они шли, не замечая вокруг себя никого, привычные к этим любопытным взглядам, к бесконечным вопросам, советам, предположениям. По обрывкам фраз Дубровин понял, что толпа уже создала несколько своих версий и ждет, когда будут «вызывать» и допрашивать. Они до утра не уйдут, Дубровин знал это по опыту. Потому он попросил эксперта Сашу Нестерова закрыть калитку и никого не впускать.
Хозяев дома не оказалось — они уехали на дачу: на двери самого «хозяина» висел огромный амбарный замок.
«Шикарно, однако, живут, — подумал Дубровин. — Да еще с Елены за квартиру сдирали двадцатку».
Он осмотрелся вокруг. Во дворе было совсем тихо и пустынно. Над деревьями, рассекая ночную тишину, пищали ласточки и летучие мыши. За двором маячили неясные очертания холма. Там, за холмом, шоссе. Редкие автобусы гудели, как взлетающие самолеты. Пахло травой и свежей землей.
Дубровин рыскал по тротуару, освещая выщербленный кирпич и синие кусты по обочинам, но никаких пятен крови обнаружить не удалось. «Хотя ведь не так давно лил проливной дождь, и всякие следы могло смыть начисто», — подумал он. Что касается следов Глухаря, то их не только смыл дождь, но уже наверняка давно затоптала толпа любопытных, не желавшая расходиться до сих пор.
Собака вдруг залаяла, бросившись за кусты. Дубровин осветил небольшую лужайку — крохотная лужица крови замерцала под лучами фонаря.
— След, след, — начал свои заклинания Игошин, и собака, натянув ремень, потащила проводника к калитке.
— Вон в той комнате Елена живет, — сказал Дубровин, указывая на невысокий домик, примостившийся в левом углу двора.
Он вытащил пистолет из кобуры, висевшей сбоку на ремне, и вместе с помощником прокурора Кашириным и экспертом НТО Сашей Нестеровым они двинулись к дому.
Здесь было темно. Дубровин толкнул дверь рукой, она подалась, и, переступив порог, он провел лучом фонаря по стене в поисках выключателя. Вспыхнул свет. В комнатах — никого. Вещи не тронуты, на столе — плоская тарелка, в ней ветчина и сыр, нарезанный тонкими ломтиками. В буфете Дубровин увидел нераскупоренную бутылку шампанского. Впечатление было такое, что Елена ждала кого-то и вышла на минутку к соседям. «Где же Олежка? — с тревогой подумал Дубровин. — Надо будет вызвать свидетелей».
Он вытащил из папки несколько пустых бланков протокола опроса.
— Саша, осмотри место происшествия вместе с участковым и пригласи сюда двух свидетелей, — попросил Дубровин эксперта.
Каширин вышел во двор вслед за Нестеровым, а Дубровин заскрипел пером по бумаге:
«Я, старший оперуполномоченный ОУР Заркентского горисполкома капитан милиции Дубровин, явившись на место происшествия…».
— Можно? Здравствуйте.
У порога остановилась пожилая женщина. Дубровин мельком взглянул на нее — здоровое и румяное еще лицо, узкий лоб и густые чуть седоватые брови.
— Соседка я, — сказала женщина. — Пелагеей звать. Пелагея Антиповна. Как свидетельница я.
— Садитесь. Вы Елену Ольховскую хорошо знаете?
— А то как же? Хорошая женщина была, все тут у нас ее жалели. Когда Лену-то хоронить будут?
— А кто вам сказал, что она умерла?
— Да люди тут говорят.
Дубровин передернул плечами.
— Вы не знаете, где Олежка, сын ее?
Женщина вздохнула.
— Ну, как же! Тут, когда народ сбежался, я гляжу — он стоит у калитки и плачет. Я его к себе забрала.
«Слава богу, — подумал Дубровин, — с мальчишкой хоть все в порядке».
Он глядел на женщину — серые глаза ее, запрятанные в складках кожи, смотрели куда-то вдаль, словно давно уже что-то искали, но так ничего и не нашли.
— Я к Лене стучалась, хотела долг ей отдать, — объясняла Пелагея. — Слышу, кричит кто-то во дворе. Сильно так кричит. Тут еще сосед вышел. И мы вместе с ним застучали. Потом стихло все, только Олежка плачет. Так ревмя ревет. Я Лену зову — не откликается. Тут уж народ стал собираться. Мужчины поднаперли плечами — калитка и подалась. Как мы вошли во двор, я так и обмерла. Гляжу — у тропинки Ленка лежит, голова вся в крови. Ну, «скорую» мы вызвали. А Олежку я к себе забрала.
— Мальчика не расспрашивали? Ничего не рассказывал?
— Говорил, как же. Дядя, говорит, приходил и хотел его забрать.
— Та-а-к…
— Ну потом, когда Лену увезли, участковый пришел, попросил всех со двора. Сказал — сейчас милиция приедет…
Дубровин расспрашивал еще пятерых свидетелей, но ничего нового, кроме того, что Дубровин знал, они уже не могли сообщить. Вернулся Игошин. Он сказал, что собака пошла по следу — ясно, что Глухарь перелезал через забор, но на шоссе его след затерялся, видимо, он сел на такси или в автобус. К Пелагее Дубровин вернулся один — все разъехались по домам.
Тетка Пелагея жила через два дома от квартиры Ольховской. Дубровин постучался. Скрипнула дверь, загремела цепочка — хозяйка не спала.
— Проходите, проходите, — засуетилась она.
Во дворе у сарая сидел на цепи огромный дог и сумрачно глядел на капитана.
— Он не укусит, — сказала Пелагея и проводила гостя в комнату.
Половину комнаты занимал неуклюжий свежевыкрашенный буфет, из-за стекла на непрошеного гостя глядели целые горы тарелок, чашек, бокалов и рюмок.
«Как этот буфет внесли сюда, — подумал Дубровин, — ни через окно, ни через дверь он явно не пролезет».
Дверь во вторую комнату была открыта, и он увидел тяжелую, громоздкую никелированную кровать, покрытую грудой бархатных одеял. Похоже, что на кровати никто никогда не спал, потому что Олежка лежал на диване. С открытыми глазами.
Увидев Дубровина, он заплакал.
— Ма-а-ма! — закричал Олежка.
Дубровин подхватил его на руки.. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся. Два огромных глаза с надеждой смотрели на него.
— Мама скоро придет, — прошептал он на ухо Олежке.
— Можно вас на минутку, — тетка Пелагея кивнула Дубровину в другую комнату.
Капитан поставил Олежку на пол.
— Подожди, я сейчас, — сказал он.
Пелагея плотно закрыла двери.
— Может, он у меня пока поживет, а? — попросила она.
— У вас?
— Ну, да…
Дубровин увидел в углу икону, около которой горела свеча, и покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Мальчик поедет со мной…
Когда он вышел на крыльцо, держа за руку Олежку, над просыпающимся городом уже снова бушевал ливень. Тяжелые струи дождя сбивали с деревьев одинокие листья, и те беспомощно кружились, подхваченные потоками шалой воды.
5. ОЛЕЖКА

Когда женщина начинает мечтать о ребенке? Это как тоска дерева по влаге. Позавчера жене Дубровина Ольге стукнуло тридцать лет. Они женаты седьмой год, а детей у них не было, и надежды, кажется, тоже не оставалось. Зимой, на второй день после свадьбы, поехали кататься на санках. Оля провалилась под лед. Болела около месяца. Выздоровела. Но знакомый районный врач сказал тогда Дубровину: «Боюсь, Костя, детей у вас не будет».
Правду сказал…
«Ей позавчера стукнуло тридцать, — с грустью подумал Дубровин. — А я даже не поздравил ее. И позвонить не успел на работу».
Всю ночь пришлось просидеть в засаде у Куйлюкского моста, возле бетономешалки. Там в один дом Усач должен был прийти. И почему это преступники себе клички выдумывают? Человеческие имена им, что ли, не нравятся? Ведь это только у собак клички бывают да у бандитов. Усач — хитрюга еще тот: на него всесоюзный розыск объявлен. Ночь оперативники зря продрогли. Никто не появился.
Но наутро Дубровин все-таки взял его. На квартире в Рисовом переулке. Прямо с постели поднял. Усач никак не ожидал столь раннего «гостя». И не успел сунуть руку под подушку. А под подушкой у него пистолет. Тепленький. Нагретый за ночь.
Это позавчера. А вчера ночью Ольгу, которая работала медсестрой, назначили в ночную смену. Сегодня ночью Дубровин дежурил сам. Вот так они и живут… Но сейчас она дома — он знает, как она воспримет появление Олежки. Дубровин давно замечал, что в присутствии детей лицо Ольги становится жалким, кажется, сейчас заплачет…
— Принимай тезку, Оля! — крикнул с порога Дубровин. — И поздравляю тебя с днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Ну, иди, иди, — тронул он Олежку за плечо.
Когда они прошли в другую комнату, он коротко рассказал жене о случившемся.
— Поживет пока у нас Олежка? — Дубровин взглянул Ольге в глаза.
— Как же вы допустили, Костя? — спросила Ольга, с грустью глядя на мальчишку.
— За ее домом мы давно следили, — виновато сказал Дубровин. — Но вот сняли охрану на днях. Кто мог предвидеть…
— Ты проходи, проходи, — улыбнулась мальчику Ольга. Она дула на пальцы, обожженные горячим картофелем, — Ольга варила картошку в мундире. На глазах у нее появились слезы.
Дубровин вспомнил — сосед рассказывал ему, как однажды Ольга, сидевшая вечером после работы во дворе на скамейке, позвала к себе игравшего на песке мальчишку. О чем-то долго с ним разговаривала, а потом вдруг начала осыпать его голову поцелуями. Мальчишка испугался и заплакал. А Ольга медленно поднялась, оглянулась — не заметил ли кто из соседей. Лицо у нее было жалкое и растерянное.
— К маме хочу! — захныкал Олежка, когда Ольга ушла на кухню.
— Мама болеет, — сказал Дубровин. — Вот выздоровеет, и мы к ней сходим.
— Сейчас хочу-у-у, — заныл Олежка снова.
— Завтра пойдем, ладно? — успокоил его Дубровин. — Ты картошку любишь?
— Да. Дядя Гриша тоже любит.
— Какой дядя Гриша?
— Шофером он работает. Он меня на машине катал.
— А он часто приходил к маме?
— Да, каждый день.
— А еще никто к вам не приходил?
Олежка молчал. Вдруг он замотал головой, и в глазах его отразился испуг.
— Не-е-е… Только один дядя. Он меня целовал сильно…
— Ну, ну… — заволновался Дубровин. — Долго он был?
— Не-е… Они с мамой ругались. А мама сказала: «Иди, откуда пришел».
— Ну, а потом?
— Они во двор вышли. А потом я слышал, как мама закричала.
Олежка снова заплакал.
— Не плачь, мама скоро придет, — сказал Дубровин.
— А где она?
— В больнице. Поправится скоро и приедет.
Ольга появилась в дверях с полной тарелкой картошки. От тарелки шел густой пар.
— Вот, Костя, почисти пока, а я принесу термос, — сказала она. — Ты знаешь, я прочитала в календаре: если налить теплое молоко в термос, оно становится таким вкусным, словно из русской печки.
— А там у тебя чего? — спросил Олежка, поглядывая на желтую кобуру, которую Дубровин отстегнул и положил на этажерку.
— Там пистолет.
— У меня дома тоже есть. Мне мама купила в универмаге.
— У меня настоящий, — похвалился Дубровин.
— У меня тоже, — обиделся Олежка.
— Ты не обижайся, это я так. Давай — мир?
— Давай. А я на тебя не обижаюсь. Ты скажи, в кого ты стреляешь?
— Я не стреляю.
— Чего ж он, испортился у тебя, что ли? Ты зачем его носишь в кобуре?
— У меня работа такая.
Дубровин вытащил из заднего кармана маленькую прямоугольную фотографию Глухаря, где он был сфотографирован в профиль и в фас. Поглядел на фотографию, а потом на Олежку. Похож Олежка на Глухаря. Глаза в точности, и нос, и разлет бровей. Ничего тут особенного нет — сыновья почти всегда похожи на своих отцов…
— А я знаю, — воскликнул Олежка. — Ты в бандитов из пистолета стреляешь. Мой папка тоже такой носит. Только у него наган.
— А ты откуда знаешь?
— А мне мамка говорила. Она говорила, что мой папка моряком работает. У всех моряков наганы есть. Я знаю.
— Где ж работает твой папка?
— Он на пароходе плавает. Далеко. Где лед и снег. Только когда я мамку о нем спрашиваю, она мне много не рассказывает, а плачет…
— Та-ак… — вздохнул Дубровин. — Ты картошку любишь?
— Угу.
— Давай есть. Пойдем руки помоем.
Наскоро поев, они стали укладываться спать. Дубровин первый. Потом Ольга долго укладывала Олежку. Дубровин наблюдал, как она укрывала мальчика байковым одеялом, как сидела у его кровати, подперев голову руками, до тех пор, пока он не уснул.
Проснулся капитан к вечеру. Олежка все еще спал. Он не стал будить мальчика, быстро оделся и поехал в «скорую помощь». Состояние Ольховской не улучшалось, и дежурный врач сказал Дубровину, что завтра будет обход и они будут консультироваться с профессором.
Вернувшись домой, Дубровин долго не ложился спать, и только перед рассветом сомкнул глаза, но за окном засигналила машина. Он привык к неожиданным вызовам, как и жена.
— Оленька, предупреди маму, пусть займется с Олежкой, когда пойдешь на работу, — вскочил с постели Дубровин. — Я побежал.
— А мне отгул дали — я не иду… Перекуси хоть, ведь опять на сутки…
Он чмокнул жену в щеку. Взглянул через ее плечо на кровать. Мальчишка спал. Он улыбался. «Видит веселый сон», — подумал Дубровин. Ольга быстро сбегала на кухню, вынесла бутерброд с сыром, завернула его в газету, сунула пакетик в карман мужу.
Внизу призывно сигналила машина.
— Бегу, бегу! — крикнул в окно Дубровин.
«Дождя вроде нету, — он выглянул в окно. — Плащ не надо одевать». Он вынул пистолет из кобуры, положил его в карман и заспешил к двери.
— Доброе утро, Коля! Ну, что там случилось? — спросил капитан, подходя к машине и открывая дверцу.
— Здравствуйте. Александр Ильич вызывает, — сказал шофер, и едва Дубровин уселся на сиденье, машина сразу же тронулась.
«Сейчас начнет ругать», — подумал Дубровин о Мартынове.
Но ему нравилась в Александре Ильиче именно его прямолинейность и то, что он с возрастом не научился обходить острые углы, и то, что всегда рубил в глаза правду-матку. А еще любил Дубровин Александра Ильича за то, что он не боялся оказывать людям доверие, предоставляя тем, из которых, как он считал, выйдет толк, полную инициативу в работе.
Уже во дворе Управления милиции, шагая по мокрому асфальту, Дубровин увидел: крайние два окна на втором этаже были открыты и на подоконнике сидели голуби. «Значит, Александр Ильич у себя», — подумал Дубровин. Окна были распахнуты в кабинете Мартынова в любую погоду — даже в дождь и снег.
Дубровин быстро взбежал по ступеням, постучался в дверь.
— Да-да, — донеслось из кабинета.
Капитан вошел, и ветром сильно прихлопнуло дверь. Две горлинки, сидевшие на большой люстре, вспорхнули и вылетели в открытые окна. В первый раз, когда Дубровин увидел горляшек в кабинете не только на окне, но и на люстре, он как-то смутился: ну какой же это начальник уголовного розыска города! Но потом он сам полюбил этих голубей и подсыпал им крошки на подоконник.
Против обыкновения Мартынов его ругать не стал, он только позвонил в гараж и все же выразил недовольство, что у многих оперработников нет дома телефонов.
— Это никуда не годится, — сказал он. — Сейчас мы заедем за Сашей Нестеровым, а потом в неотложку.
— Зачем? — спросил Дубровин.
— Ольховская умерла, — хмуро сказал Мартынов.
6. ОЛЕНЬЯ НОГА
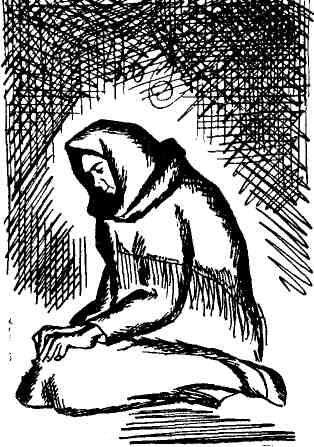
В больницу Дубровин не поехал. Ему тяжело было видеть Ольховскую мертвой, и он попросил Мартынова освободить его. Тот понял и не стал настаивать.
Считается, что в угрозыске у людей вырабатывается профессиональное хладнокровие. Дубровин знал милицейскую присказку: «Привыкать надо. Не быть бабой. А нет — мотай из милиции». Но капитан никак не мог привыкнуть к людскому горю, и из милиции он не уматывал.
— Ладно, — сказал Мартынов. — Я сам в больницу съезжу. А ты тогда забирай Сашу и поезжайте с ним на двадцать пятый километр — полчаса назад там сбило человека. Инспектор дорнадзора сообщил, что за рулем машины сидел человек, очень похожий на Глухаря.
И вот уже синей молнией сверкнула «победа» на повороте. Дубровина прижало к дверце.
— Еще быстрей! — крикнул он шоферу.
Они
уже давно выехали за город — по обе стороны зеленовато-желтая степь, кое-где по ней разбросаны небольшие шероховатые холмики. И вдруг сразу, из-за обрыва, открылся широкий вид на Аларскую долину. Дорога запетляла над обрывом, и шофер сбавил скорость. Было видно, как далеко-далеко, у расплывчатой линии горизонта, малый рукав Алара, отдав всю воду полям, утыкался в обрыв слепыми устьями; обессиленная и иссыхающая речушка дробилась на бесчисленные ручейки и лужицы. Дубровин знал, эти лужицы затянуты жирной, озерной глиной, прослаивающейся суглинками и песками. «Блюдца» и сейчас, наверное, облепили рыбаки. Туда они с Мартыновым на рыбалку ездили. Но отсюда из такой дали рыбаков не увидать. Отсюда «блюдца» сияют, словно ряды начищенных пуговиц.
Все это справа от дороги, а слева вздымались предгорья.
Когда Дубровин выезжал в эти места, всегда тревожно и радостно заносило сердце. Хотелось остановить машину и уйти в тростниковые заросли. Но сейчас о никак не воспринимал природу. Мысли его были заняты совсем другим, и все, что было вокруг, воспринималось как яркая цветная картинка из детской книжки.
— Туго придется Александру Ильичу сегодня на совещании, — заметил Саша Нестеров, сидевший в машине сзади. — Конец квартала, а тут нераскрытые дела.
Дубровин не ответил.
— Кажется, двадцать пятый километр, — сказал он.
— Да, — подтвердил шофер.
Впереди показался инспектор дорнадзора. Шофер затормозил. Дубровин и Нестеров вышли из машины.
— Вон у того карагача, — показал инспектор. Мальчишку перенесли в дом. Лет семнадцать парню, — вздохнул он, — десятиклассник. Мать убивается…
— Вы дежурили ночью? — спросил Дубровин.
— Нет, мой сменщик. Он уже все рассказал. Там в доме сотрудники райотдела.
— Ну что ж, пойдем, — сказал Дубровин.
Домик стоял недалеко у дороги, от него несло запахом соломы и известки, здесь уже собрались соседи, и в воздухе пахло дымом дешевого табака. Неторопливый тревожный говорок вился над толпой. До Дубровина донеслось: «Сукины дети». Это сказал о преступниках рыжий кряжистый мужчина, дымивший самокруткой. Розовощекий моложавый лейтенант с воспаленными глазами, примостившийся на расхлябанном табурете, писал протокол.
Дубровин уже хотел обратиться к нему, но слова застряли в горле, когда он взглянул на кровать. Мальчишка был накрыт простынью. А около него прямо на полу сидела сухонькая поседевшая женщина. Она уже не плакала, а только вздрагивала всем телом, будто раненая птица.
— Вот ведь… — тихо говорила мать, словно опасаясь собственного голоса. — Как же это? Скоро вечер выпускной… Костюмчик вчера погладила… Вон в углу висит. В медицинский институт собирался…
Сухими натруженными руками она поправила простыню, как делала, наверное, когда он был совсем маленьким.
Ветер рванул оконную занавеску, запутался в седых волосах женщины.
— Ну, как же это теперь? — повторяла она.
И хотя вопрос был обращен не к нему, Дубровин почувствовал свою виновность перед матерью.
«Вот во что могут обойтись наши промахи — горе чужих матерей, — в который раз подумал он. — Что я могу сказать ей? Чем утешить? Ну, скажу, что найдут преступников. Разве легче ей от этого станет?»
И оттого, что уже ничего нельзя поправить и изменить, Дубровину стало невмоготу. Он вышел. На улице разыскал инспектора.
— Ну, рассказывайте, — попросил капитан милиционера, когда они скрылись от любопытных глаз.
— Машина налетела на паренька, — сказал тот.
— Вы машину не видели?
— Видел. Номер не разглядел, он грязью был залеплен. На огромной скорости мчалась. Когда сбила парнишку, тот, что сидел за рулем, выскочил из машины. На Глухаря похож вроде. Я ж его карточку в кармане ношу.
— Так-так. Место происшествия хорошо осмотрели?
— Да, там железку нашли. У лейтенанта она, эксперту передайте.
— Где же Саша? — оглянулся Дубровин.
— Пошел батарейку искать. У него вспышка села.
Нестеров вернулся минут через пятнадцать. Он сиял — батарейку удалось подзарядить.
Дубровин тем временем забрал у лейтенанта и передал Саше единственную улику — осколок железки.
Этот осколок не выходил у него из головы и дома, когда Дубровин, сидя на стареньком, изрядно потертом диване, смотрел по телевизору спортивную передачу. Играли сборные баскетбольные команды СССР и Чехословакии. Игроки демонстрировали высший класс — молниеносные подачи, исключительно цепкая игра в защите. Атмосфера хорошего спортивного азарта перенесла Дубровина в полузабытое прошлое, когда он сам входил в первую пятерку сборной «Динамо» по баскетболу.
«Надо как-нибудь вырваться завтра на часок-другой, — решил он, вспомнив об афишах, расклеенных по городу. — Финальные встречи на первенство республики…»
— Как — нравится? — спросил Дубровин Олежку, который сидел рядом с ним на диване.
— Да. Очень, — улыбнулся тот, не отрывая глаз от телевизора.
— Пойдешь со мной настоящую игру смотреть? Не по телевизору?
— Пойду, — воскликнул Олежка и прыгнул с дивана.
— Не сейчас, не сейчас. Ишь прыткий какой.
— А когда, дядя Костя?
— Как будет игра, я тебе скажу. Хорошо?
— Хорошо, дядя Костя.
Спортивная передача закончилась, и Дубровин щелкнул выключателем. Экран погас. Капитан с детской непосредственностью наблюдал, как исчезает в центре крохотная яркая точка.
— Еще хочу, — протянул Олежка.
— Ну, смотри, смотри.
Дубровин повернул ручку телевизора. Экран еще не засветился, как он услышал голос диктора: «А теперь послушайте репортаж из медицинского института».
…И снова мысли вернулись к преступлению на двадцать пятом километре. Он вспомнил парнишку, накрытого простыней, худенькие плечи матери, и вдруг в сознании зазвучал, неизвестно откуда появившийся мотив: «Умираю, но скоро наше солнце взойдет. Шел парнишке в ту пору восемнадцатый год».
«В медицинский мечтал поступить», — с грустью подумал Дубровин.
Он ушел к Ольге на кухню, и они долго обсуждали с женой: как быть с Олежкой. Разумеется, ему сейчас не следует говорить о смерти матери. Может быть, пока отправить Олежку к родственникам, в Феодосию. Повезет его мать Ольги…
«Так все же Глухарь это был в машине или нет?» — думал Дубровин, спеша вечером в уголовный розыск.
Темнело. На улице зажглись неоновые светильники, в их странном мерцающем свете лица прохожих казались бледными, словно вылепленными из теста.
Эта улица считалась тихой — только однажды на перекрестке одиноким жуком прожужжал запоздалый грузовой мотороллер, и снова стало тихо. Дубровин вглядывался в лица редких прохожих. Белокурая девушка, поглядывая на часы, простучала по тротуару каблучками: боялась, наверное, опоздать на свидание; высокий худой мужчина в очках нес под мышкой тяжелый портфель, из которого выглядывали ученические тетрадки. Капитан улыбнулся ему, вспомнив свои школьные годы, и подумал, что он в ответе за всех учеников этого учителя, за эту девчонку, спешившую на свидание.
Только Дубровин вошел в свой кабинет, как зазвонил телефон.
— Слушай, Костя! — раздался усталый голос Саши. — До сих пор возился с этой проклятой железкой, но не зря. Теперь точка — это оленья нога.
— Перестань мне морочить голову, — недовольно бросил Дубровин. — Какая еще нога?
— А на капоте какой машины крепится вздыбленный олень?
— «Волга»! — воскликнул Дубровин. — Саша, подожди меня, я сейчас зайду.
А вскоре всем постам милиции было дано распоряжение — немедленно задержать «волгу», на капоте которой олень со сломанной передней ногой.
Но «волга» нигде не появлялась.
7. «…ЛЕЙТЕНАНТ НОЧАМИ СНИТСЯ МНЕ…»

Большая черная бабочка ударилась о стену, о шкаф, на бреющем полете прошла над столом, слепо стукнулась о стекло и загудела веретеном. Вокруг желтого абажура носилось целое облако насекомых — светло-коричневые, словно отполированные, жучки, пестрые мохнатые бабочки, отощавшие комарики и мухи. Облако пело какую-то нудную нестихающую песню. Дубровин безуспешно пытался разогнать все это скопище мокрым полотенцам. Наконец, выключил свет и закрыл окно. В духоте — да не в обиде.
Он лежал в темноте на диване, сцепив руки под головой. То ли ноющая боль в желудке, то ли усталость никак не давали сосредоточиться. Мысли разбегались, как ртуть из разбитого градусника. Ему виделось, как он ходил на базар покупать цветы в день похорон Ольховской, и тогда появлялось перед глазами ее тихое и светлое лицо; виделось — Александр Ильич Мартынов терзает пальцами сигарету, даже забыл открыть окно и покормить голубей, глядит на Дубровина и ни о чем не спрашивает. А где-то сейчас вот лежит на кровати Глухарь. Или, может, смотрит кинофильм? Сидит в забегаловке и потягивает вино? Знает ли он о смерти Ольховской?
Глухарь… Иногда в так называемых трудных уголовных делах нет ничего загадочного и весь вопрос упирается в то, удастся или не удастся выйти на прошлые связи преступника и как будет налажен розыск. Тут уж приходится не спать неделями, сидеть в трясучей «оперативке», рыскающей из конца в конец города… Тут уж не приходится особенно анализировать, вдумываться, сопоставлять, отвергать одну версию, прокладывать дорогу новой. «Время покажет», — уклончиво говорят в таких случаях оперативники. Но уж слишком медленно течет это время…
От кислого борща, который он съел в управленческой столовой, у Дубровина опять разболелся желудок. «Что-то последнее время болит все настойчивее», — вздохнул он, пытаясь думать о чем-нибудь другом, но глухая нудная боль не проходила.
Дубровин уже лежал как-то в стационаре. Хороший стационар, но капитан больше недели не выдержал. Когда палатный врач сказал при обходе: «А мы заодно и печень у вас проверим, молодой человек», Дубровин вечером позвонил в дивизион и попросил, чтобы за ним прислали мотоцикл.
День был неприемный, родственники не надоедали врачам, и, когда после ужина больные рассеялись — кто очередь в душ занимать, кто телевизор смотреть — Дубровин, сбивая белые цветы шиповника, прокрался к забору, подпрыгнул, выжался на руках и перемахнул через ограду. Мотоцикл, набирая скорость, скрылся за поворотом.
— Значит, так! — гремел утром у себя в кабинете Александр Ильич Мартынов. — Мальчишка! До Министерства шум дошел. Мне сам Семенов звонил. Начальник медотдела.
Александр Ильич гремел, но на его круглом полном лице проглядывала улыбка.
— Я сам эту музыку не выношу, — примирительно поглядел он на Дубровина. — Но убегать!.. Ну, ты чего загрустил?
— Валерка Сазанков… — начал Дубровин. — Вы же знаете, опять связался с дурной компанией.
Валерка Сазанков, трудный юноша, был подопечным Дубровина. Капитан постоянно возился с трудными ребятами и с «завязавшими» преступниками. Ходил с ними по райисполкомам, заводам и даже ездил в колхозы. Хитрые начальники отделов кадров не любили трудных, а от «завязавших» просто отмахивались, недолюбливали они и тех, кто за них ходатайствовал, придумывали всякие предлоги, чтобы отделаться от нежеланных гостей. Тогда Дубровин выходил из себя, кричал, что из-за таких вот бюрократов искусственно увеличивается преступность, шел в горком и, в конце концов, добивался своего.
Когда Константину Петровичу удавались все эти хождения по присутственным местам, никто не знал, потому что в угрозыске, случалось, не спали по нескольку суток. Бывший начальник отделения Светленко, ушедший на пенсию, пожилой грузный мужчина, любитель громких фраз и скороспелых выводов, был недоволен тем, что Дубровин занимается «не своим делом», однако препятствий ему не чинил, потому что их и так постоянно ругали за слабую «профилактику».
Александр Ильич Мартынов с первых же дней поощрял, как он называл, «педагогическую деятельность» старшего оперуполномоченного.
«…В гости ведь обещал прийти, — подумал о Мартынове Дубровин. — Но нет, видимо, уже не придет, поздновато».
Дубровин встал, включил свет, взглянул на часы. Нет, конечно, не придет. Он уселся на стул, раскрыл книгу на закладке.
«Да, это удивительно — возраст человека. Это определяет всю его жизнь. Она образуется медленно, собственная зрелость. Она создается из такого количества побежденных обстоятельств, из многих вылеченных тяжелых заболеваний, из такого количества напряженного труда, из подавленного отчаяния, из риска. Большинство всего этого ускользает из сознания. Возраст образуется из стольких желаний, из стольких надежд, из такого количества сожалений и забвений, из стольких любовей. Он представляет собой прекрасный груз опыта и воспоминаний, возраст человека. Несмотря на ловушки, на толчки, на выбоины, продолжаешь двигаться понемногу, кое-как, подобно доброму возу. И теперь благодаря благоприятному стечению обстоятельств находишься там. Вам тридцать семь. И добрый воз, если будет угодно богу, еще дальше потянет свой груз воспоминаний…»
Как верно сказал Антуан де Сент-Экзюпери! Вот это писатель! Дубровин оторвался от книги, подошел к двери в соседнюю комнату, осторожно приоткрыл ее. Олежка спал, рядом с ним, обняв мальчика, задремала Ольга. Дубровин вернулся к столу, зашелестел страницами.
«…Несмотря на ловушки, на толчки, на выбоины, продолжаешь двигаться… Вам тридцать семь лет…»
«Мне тоже тридцать семь», — подумал он. И нахлынули воспоминания. Жизнь бросала Константина Петровича Дубровина по своему бурному морю. Сын кадрового военного, он исколесил с отцом чуть ли не всю страну — Прибалтика, Сахалин, Урал, Кавказ, Поволжье… Здесь, на Волге, отец тяжело заболел и умер от мучительной болезни — рака пищевода. Мать Дубровина, бесконечно любившая мужа, переживала его смерть очень тяжело. Из тихого волжского городка, утопающего в белоцветье яблоневых садов, она переехала к родственникам в Янги-Наукат, высокогорный поселок, зажатый каменными тисками Тянь-Шаня.
О Тянь-Шань! Эти горы грозят недостижимостью, их вершины белеют, как шапки степных кочевников, а островерхие гряды словно огромные пики древнего войска. Синий колодец неба, сизые туманы, бродящие по предгорьям на рассвете, даль без конца и края… Север и юг — все смешалось в тебе: ярко-зеленая мурава, зной и холодное дыхание ледников. Кто хоть раз это видел, на всю жизнь оказывается твоим пленником…
Вечерами Костя Дубровин просиживал над потертой географической картой, бредил Пржевальским и Джемсом Куком, биографии которых буквально выучил наизусть. Он хотел поступить в мореходное училище… О любви Дубровина к морю в милиции знал каждый. Когда однажды его наградили именными часами, корреспондент милицейской газеты спросил: «Почему вы поступили в милицию?» Он уже вытащил блокнот, карандаш, но Дубровин огорошил его:
— Никогда я не думал о милиции. Мечтал о море. А в милицию из-за товарища поступил. Убили товарища, с которым вместе хотели поступить в мореходное училище. Собирались ехать экзамены сдавать, а за неделю до отъезда смертельно ранили его. Он служил в уголовном розыске. И я дал себе слово… Знаете «Поэму о ненависти» Георгия Граубина?
Лейтенант убит не на войне,
Лейтенант ночами снится мне.
Это моя рана ножевая,
Ей болеть во мне, не заживая.
Что сказать мне матери, жене?
Лейтенант убит не на войне…
Больше вопросов корреспондент не задавал.
Сколько воды с тех пор утекло, сколько лет с той поры пролетело?
Дубровин подошел к зеркалу — скосил глаза: много седых волос на затылке. Сначала он вырывал их, теперь уже перестал обращать внимание. Стареть не охота, однако.
Дубровин захлопнул книжку, разделся, выключил свет и тихо, стараясь не разбудить спящих, на цыпочках двинулся в спальню. Жена открыла глаза.
— Ты что — не спишь? — спросил Дубровин.
— Так… думаю…
— О чем?
Она подавила вздох:
— Как с Олежкой быть?
— Олюшка… — Дубровин обнял жену. — Пусть поживет пока у нас.
— Скажи, Костя, а может так быть…
Она замолчала.
— Ну?
— Глухарь… Где он?
— На него всесоюзный объявили, Оля. Но, по-моему, он где-то здесь. И, в конце концов, мы нападем на его след.
— Он знает, что Елена умерла?
— Наверное.
— А почему он не уезжает в другое место? Если ты говоришь, что он здесь, значит что-то его удерживает?
— Видимо…
Дубровин увидел — глаза у Ольги странно мерцали в темноте. Он поцеловал ее в щеку, потом в теплые длинные ресницы и почувствовал на губах соленый привкус.
8. НАПАЛИ НА СЛЕД?

Выскочив из машины, Дубровин почти бегом направился к подъезду. В полутемном коридоре он столкнулся с уборщицей. Загремело ведро.
— Опять вы, полуночники, сидеть задумали, — выжимая тряпку, заворчала уборщица. — Ты, Костя? Шел бы домой, отдохнул.
— Скоро, скоро, тетя Маша, — успокоил ее Дубровин и заспешил по коридору.
— Только вы одни и сидите по ночам из розыска. Иди, иди, там тебя Александр Ильич дожидается, только что приехал.
Дубровин заглянул в кабинет начальника угрозыска — там было темно. Он свернул в узкий проход направо — здесь было еще три кабинета. Самая крайняя дверь открыта. Он услышал громкие голоса: приглушенный шаляпинский бас Александра Ильича Мартынова и тенорок Саши Нестерова.
Дубровин взглянул на часы — четверть девятого. Он усмехнулся, заглянул в дверь.. На рабочем столе Мартынова стояла литровая бутылка молока и маленькая буханочка черного хлеба. Мартынов хрустел подгорелой коркой и разглядывал стакан. На стакане выгравированы цветы. Когда он наклонял стакан, тень от цветов колебалась на молоке. Мартынов пил эти цветы вместе с молоком, но они возникали снова, пока он не осушил стакан до дна.
— Ну, что? — спросил Мартынов.
— Всех владельцев частных «волг» перебрали, — усаживаясь на стул, сказал Дубровин. — Как в воду канула та машина.
— Да и с этим ограблением пока не лучше обстоит, — заметил Мартынов.
В самом деле, таких дерзких ограблений в области не было давно.
Дубровин перебирал в памяти всех известных ему уголовников, которые уже перебывали в местах не столь отдаленных, а также и тех, кто пока еще разгуливал на свободе. Нет, ни на чей почерк не было похоже. Так думали и остальные сотрудники.
— Послушай, — обратился Мартынов к Дубровину. — А не кажется ли тебе… Подожди… Когда было совершено первое ограбление?
— Пятнадцатого мая… — сказал Дубровин.
Начальник уголовного розыска нервно зашагал у окна.
— Ну, ну… конечно, — произнес он, отвечая, видимо, на какие-то свои мысли.
— Вы хотите сказать, что Глухарь появился тринадцатого, и между его появлением и этими ограблениями есть определенная связь…
— Точно, — Александр Ильич приложил руку к глазам, словно пытался рассмотреть нечто в сгущающейся вечерней темноте.
Всякий раз, когда затягивалось «дело» и никак не удавалось напасть на след преступников, Мартынова охватывала злость. Он никогда не восторгался изворотливостью, находчивостью преступников. Хотя эти качества у некоторых из них не отнять, в основном все же уголовники были серые, ничем не примечательные людишки, с низменными инстинктами и стремлениями. Он ненавидел себя за каждый свой промах, ибо это означало, что где-то снова грабили магазины, квартиры, а иногда это означало, что оборвалась чья-то жизнь. В такие минуты Александр Ильич ходил мрачный и неразговорчивый и всегда сам выезжал на место происшествия.
Сейчас он испытывал именно такое вот тяжелое чувство недовольства собой и всеми своими подчиненными. Определенных сдвигов в розыске Глухаря не произошло. Да еще эти дерзкие ограбления!
Начальник уголовного розыска взглянул на Дубровина:
— Ну, что скажешь, капитан?
— Да ничего, товарищ майор. Стихи вспомнились…
— Стихи?!
— Хотите прочту?
— Ну, давай, как раз кстати, — усмехнулся Мартынов.
Голос у Дубровина был неважный, но читал он с чувством. Это было стихотворение «Неизвестные», написанное милицейским поэтом.
У бандитов повадки совиные —
Их пугают солнца лучи,
Не явились они с повинною,
Безнаказанно скрылись в ночи.
Где-нибудь и теперь слоняются
По широкой нашей земле
И над новою жертвой склоняются
В полуночной туманной мгле.
Дубровин замолчал и взглянул на Мартынова. Тот присел у стола и нетерпеливо барабанил пальцами, словно в такт неслышимой песне.
— Ну? Что замолчал? — вскинул он голову.
Дубровин продолжал:
Кто от их руки окровавленной
Успокоился вечным сном?
Инженер, строитель прославленный,
Не успевший достроить дом?
Или мастер диковинной мебели
Перестал в это утро жить?
Иль они сталевару не дали
Плавку первую завершить?
— Да… читал… — хмуро произнес Александр Ильич. — Бандиты не смотрят в трудовую книжку жертвы. Но, знаешь, черви всегда набрасываются на лучшие яблоки. А мы вот сидим здесь, моргаем. Он ведь, наверняка, готовит сейчас новое дело.
— Да, наверное, — повторил Дубровин и вспомнил о недавнем ограблении.
Глубокой ночью преступники подъехали к дому правления колхоза. Здесь находились только сторож и пожарный. Сторожа связали, а когда пожарный поднял крик, его ударили чем-то тяжелым по голове. Ножовкой преступники спилили дужки замков и вскрыли четыре денежных ящика. Но в ящиках оказалось всего десять рублей. Грабители пришли в ярость. Скомканную десятирублевку оперработники потом нашли на полу. Перед тем, как выйти из комнаты, преступники сдернули штору, разорвали ее и, смочив водой, аккуратно обтерли все предметы, к которым прикасались. На бешеной скорости машина умчалась прочь.
Было совершено еще несколько подобных ограблений. Почерк был однообразный, преступники вскрывали только сейфы и объекты ограбления выбирали обязательно за городом. Чтобы уничтожить следы, все предметы обтирались влажными тряпками. Ночью грабители ослепляли охранников ярким светом электрических фонарей.
— Хитрые… сволочи, — со злостью сказал Александр Ильич и, подойдя к окну, повернул ручку приемника.
Комнату заполнила тихая музыка.
— Ты в театр-то ходишь? — спросил он вдруг Дубровина.
Капитан нахмурился.
— На рыбалку третье воскресенье собираемся Александр Ильич. Никак не вырвусь — то дежурство то задание. Дома почти не бываю. Какой там театр.
— Знаю, знаю… — улыбнулся Александр Ильич. — Я к чему веду разговор-то? Может, сходим сегодня в театр. Ну? «Гамлет»… понимаешь? Прямо сейчас и пойдем. За Ольгой заедем.
— Хорошо, уговорили, Александр Ильич. На сегодня, кажется, ничего не предвидится.
Резко, настойчиво зазвонил телефон.
Вечерние телефонные звонки Дубровин не любил — каждый из них таил в себе какую-то неприятность. Что-то где-то случилось. После таких звонков всегда «веселая» жизнь начинается.
Мартынов снял трубку.
— Что?! — вскричал он. — Сельсовет? Да, знаю… Сейчас выезжаем.
— Что случилось? — спросил Дубровин.
— Касса сельсовета. За городом — тридцать второй километр, потом поворот от шоссе направо… Почерк тот же. Ну, пошли!
«Вот тебе и «Гамлет», — подумал Дубровин.
Через полчаса оперативная машина примчалась к сельсовету. Здесь уже собралось много народу. Пробившись сквозь толпу любопытных, Александр Ильич и Дубровин вошли в комнаты. Эксперт тщательно осматривал запотевшие окна. Голубая — последней марки — электронная вспышка болталась у него на боку и мешала работать.
— Вспышку-то положи, Саша! — приветствовал его Александр Ильич. — Как дела?
Эксперт разогнулся, протирая глаза.
— Вот они дела, — кивнул он на два тяжелых денежных ящика, примостившихся в углу. — Три с половиной тысячи забрали…
— Отпечатки пальцев не обнаружены? — спросил Дубровин.
— Нет, все следы чисто вытерты тряпкой…
— Где председатель сельсовета?
— В город уехал.
— А проводник? — спросил Мартынов, осматривая перепиленные дужки замков.
— Собака след не берет, товарищ майор, — сказал эксперт. — Дошли до дороги и баста… Зато мы нашли кое-что интересное. Вот, посмотрите, — он вытащил из чемодана обломок ножовочного полотна. На конце его чернело тиснение — буква «М».
— Где ножовку нашли? — спросил Дубровин.
— У дороги. Видно, обронили — спешили очень.
— Так, значит… — озабоченно произнес Мартынов. — А где сторож?
— Тут он, на скамейке сидит, — Саша кивнул куда-то в окно.
Дубровин и Мартынов вышли во двор. Пахнуло прохладой, вода в арыке слабо мерцала, тонкий месяц, запутавшийся в густых ветвях карагача, пропечатывал на посветлевшей земле резкие черные тени.
На скамейке у арыка сидел полный бритоголовый человек лет пятидесяти. Это и был сторож.
— Ну, давай, рассказывай, — сказал Александр Ильич. — Только по порядку.
Сторож согнулся, подперев большую голову руками, недавние воспоминания, видимо, угнетали его.
— Услышал я, где-то у дороги заурчала машина. Потом подошли ко мне двое, — начал он.
— Вы запомнили их лица? — нетерпеливо спросил Дубровин.
— Они ослепили меня ярким лучом, — сторож угрюмо опустил глаза. — Пока я соображал, связали. В рот какую-то тряпку сунули, чтоб не орал. Тьфу ты, черт, до сих пор во рту бензином пахнет!
Сторож зло выругался, сплюнул на землю и замолчал.
— Ну, дальше! — торопил Мартынов.
— А чего дальше? — невесело усмехнулся сторож. — Другой там, значит, шуровал. Меня один караулил, велел не шевелиться. Я было хотел подняться, но тогда мне и ноги связали. Потом осветили фонарем и ушли.
— Сколько их было человек?
— Двое.
— А машину не видели?
— Нет. Она где-то у дороги остановилась.
Произвели тщательный осмотр места происшествия, но больше никаких «вещдоков» обнаружить не удалось.
— Жаль, — вздохнул Мартынов, — все-таки сорвали нам культпоход в театр. Вечер испортили…
— Ничего, ножовка — это уже хороший след, — сказал Дубровин.
— Вроде бы, — согласился Мартынов.
На следующий день Дубровин с дружинниками побывал чуть ли не во всех хозяйственных магазинах города. Ножовку с тиснением удалось обнаружить в магазине учебных пособий. Узнав, что инструмент изготовляют в мастерских при индустриальном техникуме, Дубровин немедленно отправился туда.
Ножовки делал круглолицый паренек в тельняшке. Начальник мастерских рассказал, что этот паренек полгода как вернулся из армии и после службы работает по своей старой профессии.
— А ну, показывай свое богатство, Вася, — попросил паренька начальник цеха. — Товарищ хочет пилки осмотреть.
— Но они сейчас закрыты, завскладом заболел.
Дубровин вытащил из кармана обломок ножовки, найденной у сельсовета.
— Твоя работа? — спросил он парня.
Тот разволновался:
— А откуда она у вас? Это я на заказ делал.
— На какой еще заказ? — насупил брови мастер.
Парень виновато заморгал, взял пилку в руки, повернул ее и даже зачем-то посмотрел на свет.
— Она самая, по-моему. Алмазной крепости… Попросил один знакомый: сделай, говорит, позарез нужна… Ну, я и сделал.
Глаза Дубровина засияли, ему захотелось петь. Вот она, наконец, та ниточка, потянув которую, может быть, удастся распутать весь клубок.
— Что за знакомый?
— Да зубной техник один. Он мне еще месяца четыре назад золотой зуб вставлял. Недорого взял. А потом попросил пилку сделать. Говорит — нужно…
— Как он выглядит?
— Ну, как… Высокий такой… На шее с левой стороны шрам.
— А где он живет, помнишь?
— Помню.
И он назвал адрес.
Попросив парня ни в коем случае не говорить о случившемся зубному технику и предупредив об этом начальника цеха, Дубровин заспешил в уголовный розыск.
9. НЕУДАЧА

— Бармашев! — воскликнул Александр Ильич. — Ты говоришь, зубной техник? Нет, он давно не работает. Я узнал сегодня. И постоянного места жительства у него нет. Есть сведения, что он скупает золото.
Дубровин удивленно взглянул на начальника уголовного розыска.
— Золото?
— Да, золото, — подтвердил Мартынов. — К сожалению, взять Бармашева мы сейчас не можем, спугнем остальных, а это нежелательно. Задача — узнать, откуда поступает золото и куда оно идет.
Мартынов прошелся по кабинету.
— Поедешь в аэропорт, — сказал он. — Сегодня прибывает Бармашев. Его в городе не было. И оставаться здесь он не собирается. Надо проследить, куда он поедет. Задача ясна?
— Ясна, — кивнул Дубровин. — Когда в аэропорт ехать?
Мартынов взглянул на расписание.
— В восемнадцать пятнадцать прибывает самолет. Ну что ты сияешь, Костя? — недовольно спросил Мартынов.
— Нападаем на след.
— Какой след?
— А ножовка!
— У американцев это называется фрэйм-ап, — задумчиво произнес Мартынов.
— Что?
— В русском изложении означает — слишком очевидные факты. А ты помнишь, конечно: «Ничто так не обманчиво, как слишком очевидные факты». С какой стати преступники будут оставлять на месте преступления ножовку?
— Да, но ведь все совпадает. Ножовку паренек Бармашеву делал. Мы паренька допросили.
Задребезжал телефон.
— Да, — поднял трубку Мартынов. — А, Саша, спасибо… Ну, я так и ожидал… Молодцы.
— Помнишь обломок спички, который нашли около сейфа? — обратился он к Дубровину.
— Тот, что эксперту отдали?
— Да. Один конец был сломан, другой заострен. Я еще тогда подумал, что кто-то употреблял спичку как зубочистку. А раз уж человек ковырял в зубах во время ограбления — значит, это устойчивая привычка. В НТО исследовали состав слюны, которая осталась на спичке. А ты прекрасно знаешь — по слюне можно группу крови определить. Не помнишь, у кого привычка ковырять в зубах?
— Помню. Глухарь.
— То-то и оно. Не забыл?
— Нет. Ведь нам тогда сколько возиться с ним пришлось.
— Я все звоню в Министерство, никто не отвечает. У них там «личное дело» Глухаря. Ты бы сходил, посмотрел его медицинскую карту — узнал, какая группа крови.
— Хорошо, Александр Ильич. Только вы мне разрешите сходить в следственный отдел?
— Иди. А что такое?
— Да насчет паренька, которого машина сбила на двадцать пятом километре… Так же мы никогда не раскроем преступления. Вместо того чтобы принять дело к своему производству и вести расследование, следователь Григорьев добыл справку в дорожно-эксплуатационном участке. Знаете какую? Что отрезок шоссе, где произошло происшествие, обслуживается другим райотделом милиции.
— Как отнеслись к этому в следственном отделе?
— Добыли другую справку из поселкового совета. И доказали, что дом, против которого сбили паренька, находится на территории Калининского района. И дело вернули Григорьеву.
— Утих Григорьев?
— По-своему утих. Видит, номер не проходит, он сделал еще один «заход». От того же поселкового совета получил справку, что этот дом находится на территории района. Но шоссе обслуживается городом.
Мартынов недовольно поморщился, развел руками и тут же опустил их беспомощно.
— Вот ведь, затешется один такой дурак в милицию, — покачал он головой и сделал пометку в календаре. — Гнать таких в три шеи надо…
— Ну, я пойду, — сказал Дубровин.
Он отправился в следственный, полчаса ругался там, потом читал в Министерстве «личное дело» Ведерникова.
Он листал пожелтевшие страницы, но не видел букв, не видел строчек. Он видел тусклые черные глаза бандита, мальчишку, сбитого машиной, худенькую фигурку матери у изголовья, видел забинтованное лицо Ольховской и слышал крик Олежки.
И еще он думал о том, что когда они поймают Глухаря, когда следователи по отдельным крупицам и кусочкам восстановят истину, помогая себе где силой воображения, а где неопровержимыми доказательствами, когда эксперты начнут припирать его к стенке, — как он станет изворачиваться, попытается спрятать концы в воду. И как начнется тогда эта железная игра на нервах, в которой не выдерживает слабый.
Обедать Дубровин поехал в старый город.
На базаре он обогнул высокую арку центрального входа, узким сырым переулком пробрался мимо длинных лотков, где торговали солеными помидорами и квашеной капустой — прямо к шашлычной.
Он любил эту шашлычную в центре базара. Здесь готовили отличный чай, замечательные лепешки, посыпанные маком. Сюда приходил Дубровин иногда в воскресенье с женою, а то и с Александром Ильичом. Ему нравилась эта обстановка — прокопченный потолок, вечный дымок, клубящийся вдоль стен, гортанные выкрики шашлычника, звон чайников, стаканов, рыночная сутолока. Он подолгу мог сидеть за чашкой чаю и так глядеть на бесконечное движение вдоль лотков, на торговцев, снующих с подносами и на все лады расхваливающих свой товар. Дубровин здесь отвлекался, отдыхал. Однако, пора в аэропорт спешить. «Встречать» Бармашева.
…Машина выехала к окраине города. Остались позади кольца трамвайных линий, лязганье тормозов на сжатом воздухе, светофоры, подмигивающие то красным, то зеленым. Не блестят дуги синих троллейбусов, не шумят оживлением перекрестки. Звуки здесь совсем другие, своеобразные. Иногда откуда-то из глубины аэродрома, оттуда, со стороны ангаров, поднимался и нарастал мощный гул. Он нарастал, накатывался, как прибой, и когда достигал высшей силы, когда начинали подрагивать стекла у стоящих на остановках автобусов, казалось, что сейчас что-то взорвется и взлетит на воздух. На аэродроме привыкли к таким звукам — это прогревают или испытывают моторы. Если на бетонированную площадку садится серебряная махина ТУ-104, рев стоит ничуть не меньше. Ураганный шум. И потом долго звенит в ушах. Будто сразу повысилось кровяное давление.
Константину Дубровину шум аэропорта нравится. Ему здесь все любо — и сизокрылые лайнеры, и веселые крепко сбитые летчики, и милые стюардессы, и толпы людей, охваченных ветром прощаний и встреч.
Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Дубровин тоже ждет. Но встреча не будет радостной. Хотя бы потому, что тот, кто прилетает, меньше всего хочет, чтобы его ждали.
…Открылась боковая дверца самолета. Пассажиры спускаются по лесенке. Один, второй, третий, четвертый… Все шагают одинаково, у всех усталые улыбки, в руках чемоданы. Дубровин оглядывает всю лестницу сразу, но видит только четвертого. Четвертому лет сорок. Он худощав, смуглолиц, высокого роста, хорошо одет. Только почему он один, где же его спутница?
Пассажир спускается спокойно, глаза его не ищут в толпе родственников или друзей. Внешне — вернулся человек из деловой поездки. И только Дубровин чувствует напряженную осторожность смуглолицего. Он чувствует в нем осторожность опытного канатоходца, в сотый раз ступающего на тонкую проволоку. У смуглолицего из багажа — лишь чемодан. Этот чемодан интересует Дубровина. Вернее, содержимое его. Там, по всем предположениям, золото. Надо узнать, куда же понесет его смуглолицый, кому отдаст?
Вот он поднялся по ступенькам, зашел в стеклянный холл, купил бутылку лимонада. Пьет медленно, и так же медленно, изучающе скользит его взгляд по залу. Взгляд описал круг и вернулся к исходной точке. Смуглолицый оглядел очередь за бутербродами. «Кто этот мужчина, в самом хвосте очереди? Под легкой парусиной тужурки угадываются стальные мышцы. От такого не уйдешь. Мертвая хватка у парня, наверное… А это кто, что у крайнего левого столика? Выпил «Ташкентскую» и стоит курит. Чего он курит? Здесь же нельзя курить…»
Снова заскользил взгляд, ощупывая каждый столик, и снова вернулся к началу. Кажется, все в порядке.
Но одного не заметил смуглолицый — у входа в закусочную, там, где стекло сливалось с глянцевитой облицовкой, стоял капитан Дубровин. Слабый ветер раздувал парусом его белую финку. Капитан исчез за вращающейся дверью. Вышел из здания аэропорта. Сел в светло-коричневую «волгу», стоявшую на остановке такси.
А вскоре на высоких ступенях появился смуглолицый. Он постоял с минуту, словно решая, в какую сторону идти, а потом решительно направился к стоянке такси.
— Поедешь за машиной, на которую сядет человек с красным чемоданом, — тихо сказал шоферу Дубровин и откинулся на сиденье.
Шофер понимающе кивнул.
А смуглолицый уже хлопнул дверцей зеленого такси, и машина тронулась. Она вычертила невидимую дугу на асфальте и замелькала между деревьями широкой аллеи. Дубровин был спокоен. Только одно волновало его — машина должна следовать за зеленым такси на приличном расстоянии. Чтобы не было никакого подозрения. Дорога сейчас повернет направо, потом выпрямится и пойдет в гору, через полотно железной дороги. А скоро поезд должен идти. Смуглолицый может проскочить. И тогда все сорвется.
— Быстрей, — торопит капитан шофера.
И тот молчаливо переключает скорость.
Белая стрелка спидометра пропускает одну цифру, вторую. Белая стрелка спидометра лезет вверх. Напрасно! Полосатая балка шлагбаума падает на дорогу. Замирают машины — длинная цепочка их растет и растет.
А зеленое такси уходит. Уходит смуглолицый. Уходит Бармашев. В красном чемодане у него рубины и золото. Надо проследить, кому он передаст их.
Дубровин нетерпеливо поглядывает. То налево, то направо. Поезда еще нет. Когда он будет? Капитан волнуется не на шутку. Слух и зрение обостряются, как всегда бывает в минуты опасности. Смуглолицый на той стороне шлагбаума. Уходит смуглолицый с красным чемоданом.
Ждать больше нельзя!
— Поезжай в гараж, Вася, когда поезд пройдет, — крикнул он шоферу, выскакивая из машины, и юркнул под шлагбаум. На секунду остановился, перескакивая взглядом с машины на машину. У обочины примостилась «победа». Капитан раскрыл дверцу и предъявил удостоверение.
— За зеленым такси, — выдохнул он. — Надо догнать.
Деревья неслись навстречу ураганом, скакали назад дома, промелькнули высокие корпуса института, вот осталась позади «Петровская дача». Но такси не было. Вообще, впереди не было ни одной машины.
«Победа» попалась заезженная. Она скрипела и задыхалась. Ей не хватало дыхания. У железнодорожного моста капитан чуть не закричал от радости: впереди маячила зеленая «волга». Номер тот же. Ну, вот и отлично. У Дубровина отлегло от сердца. Теперь главное — не упустить «волгу» из вида.
Вот и центр города. Ослепительными брызгами сверкает неугомонный фонтан, блестят полировкой ряды машин, выстроившиеся у гостиницы.
Зеленое такси подстроилось в ряд. Дубровин замер — смуглолицый не должен останавливаться в гостинице. Но что это? Человек вышел из такси и поднимается по ступенькам. Чемодана у него нет. А на глазах очки. Не темные, а прозрачные, роговые. Но при чем тут очки? Нелепица. У смуглолицего зрение, как у орла.
Да это и не смуглолицый совсем! У этого лицо бледно-желтое, конторское. Дубровин расспрашивает шофера такси. Да, смуглолицый сошел сразу же за «Петровской дачей», как только этот в очках сел. Куда пошел? Да, кажется, в сторону парка.
Ну и дела… В конце концов, насмешки товарищей по отделу не так уж страшны. Хуже другое — ушел. Да, конечно, капитан мог «взять» смуглолицего еще в аэропорту. Но ведь важно не это. Важно установить связи. Узнать, куда «идет» золото.
Весь день и вечер, носился Дубровин с дружинниками по городу. Но пользы это не дало. Смуглолицый как в воду канул. Дубровин представил: где-то холодные трясущиеся руки приняли золото, отсчитывают деньги. Только у смуглолицего руки не трясутся. Крепкие жилистые руки у него. А глаза черными угольками застыли под бровями. Разве ж для добрых дел нужно золото этим людям? Куда оно скользнет дальше? Дубровина охватывает злоба. Ну, ничего, все меры примем — не ускользнет. Последний свой рейс совершил зубной техник.
10. ВАЛЕРКУ НАДО СПАСАТЬ

«Дорогой товарищ Дубровин! Помните: два года назад я впервые появился у вас? Вы звонили на завод и просили устроить меня на работу. А ведь я бродяга. Да еще освободился из колонии.
На заводе я встретился с хорошими людьми. Мастер цеха, сам директор завода, Зина из заводской газеты, ребята из комитета комсомола, даже старенькая секретарша директора, все заботились обо мне. Они даже не верили тому, что я был вор, совершал преступления. Они думали: «Молодой, ошибался…».
Константин Петрович! Вам все это привычно. Но для меня в то время словно открылся новый мир. Подумайте только — люди, которым я до сих пор делал лишь зло, окружили меня доверием и заботой.
Токарь второго механического цеха Петя Филиппов, догадавшись, что мне трудно на первых порах работать на громоздком станке, предложил перейти на свой новенький. А ведь он на нем хорошо зарабатывал. Рядом со мной была жизнь, в сравнении с которой еще никчемнее выглядело мое прошлое. Как хорошо, что, кроме прошлого, есть еще будущее…»
Дубровин аккуратно сложил потертое письмо и открыл дверцу рыжего сейфа. В нижнем отделении, где лежало несколько самодельных пистолетов, кастетов и финок, отобранных у преступников, в самом дальнем углу виднелись две толстых тетради и целая гора конвертов. Это письма от тех, кто ушел из уголовного мира, «завязал». Благодарственные строки. Вот Валерка Сазанков… Сколько пришлось повозиться с ним — на завод устроили. Осознал парень: «И как хорошо, что, кроме прошлого, есть еще будущее…». Осознал, да, видно, не совсем. Контроль да контроль за такими нужен. Поди ты, пойми их душу.
Дубровин снял телефонную трубку и позвонил в больницу.
— Алло, скажите, пожалуйста, как там у вас Сазанков поживает? Как звать, спрашиваете? Валерий.
Трубка долго не отвечала. Сестра спросила номер палаты и сказала, что сейчас узнает. А когда она начала говорить, Дубровин нахмурился — больной Валерий Сазанков два дня как убежал из больницы в одном нательном белье.
«Так-так — а ведь они с Глухарем дружили когда-то», — подумал капитан и заспешил к Мартынову.
…Валерка Сазанков, светловолосый хиленький парень с худыми руками и бледно-зеленым лицом сидел на мокрой скамейке в парке у Аларского моста и дрожал от холода.
В своей больничной одежде, испачканной в пыли и в мусоре, Валерий побоялся утром выйти на дорогу, тем более, никаких документов у него не было. Впрочем, он знал, что его вряд ли будут разыскивать, но милиции боялся. Он появился в парке только с наступлением темноты. Выклянчил у чайханщика кусок лепешки и чайник зеленого чаю. Чайханщик долго осматривал странную одежду незнакомца. У Валерки дрожали руки и слезились глаза, он сказал, что только выписался из больницы и у него нет денег.
Он сидел на мокрой скамейке, давился сухой лепешкой и пил обжигающий чай. И думал о морфии, без которого он теперь не мог жить. Потому-то он и убежал из больницы.
Иногда у Валерки наступали просветления, и тогда он ненавидел себя изо всей мочи, ненавидел Глухаря, который когда-то пристрастил его к наркотикам, презирал себя за то, что обманул, так подло обманул Константина Петровича Дубровина. А ведь капитан его устроил на завод, началась совсем другая жизнь. И все было бы хорошо, если б не этот нелепый случай…
…Заканчивался первый месяц Валеркиной жизни на заводе. Он познакомился с девушкой, она работала и училась. Валерка и сам стал подумывать об учебе.
В начале второго месяца в общежитие, где жил Валерка, неожиданно пришла телеграмма из-под Киева. Кто-то неизвестный писал:
«Срочно выезжайте, трагически погиб брат Александр».
Брат у Валерки был один, а больше из родных никого — и этим все сказано. Лететь в Киев. Нужны были деньги.
Деньги были вокруг. Они лежали в карманах и в квартирах людей, быть может, не очень нужные им сегодня, но как воздух необходимые сейчас Валерке. Если бы ненадолго люди доверили ему свои деньги! Потом он вернул бы их им!
Раньше, до встречи с капитаном Дубровиным, он украл бы не задумываясь, но сейчас он знал твердо — не только на похороны, но и во имя спасения жизни не пойдет больше на преступление.
Валерка позвонил Дубровину в угрозыск. Ему поверили, и через два часа у него в кармане лежали деньги. Это были деньги из кассы взаимопомощи завода и угрозыска, личные деньги мастера цеха, Дубровина, директора завода и их знакомых. Когда давали Валерке эти деньги, он заглядывал людям в глаза, ему хотелось, чтобы они верили — он вернет эти деньги обратно.
Тогда Валерка еще не знал… Тогда он засмеялся бы над человеком, который бы сказал, что этих денег он не вернет ни через месяц, ни через год, ни через три года…
Он вернулся через месяц — не рассчитал. Денег на обратную дорогу не хватило. Пришлось три недели проработать на угольном складе. Хотел написать на завод, но стыдно было, еще подумают, что снова денег просит. Решил — заработаю сам на дорогу и сам вернусь, без чьей-либо помощи. И так слишком много помогали ему.
И вот он вернулся. Ликующе стучало сердце, когда переступил порог общежития. Небось думали, что сбежал. Его встретила хмурая комендантша Анастасия Кирилловна:
— Где шатался? Уж две недели как тебя с милицией ищут. Дубровин приходил из угрозыска. Обманул, значит, всех? Фальшивую телеграмму написал. Не-е-е, горбатого могила исправит.
— Анастасия Кирилловна!!!
— Что «Анастасия Кирилловна!» С завода уволен, койку твою заняли, иди откуда пришел!
Потом Валерка узнал: милиция его не искала, но Дубровин интересовался — это уж точно. И ругался, говорят, здорово. Когда узнал Валерка об этом, ему стало совсем плохо. Валерка позвонил Дубровину в угрозыск, ему ответили, что Константин Петрович уехал в отпуск и вернется месяца через полтора. И у Валерки невыносимо заныло сердце. Напиться, что ли? Ведь у него сегодня тройные похороны…
Он сидел на скамейке. В сумерках подошел какой-то человек, присел рядом.
Молчали. Валерка думал. Незнакомец глядел на него.
— Что загрустил? — наконец тихо спросил тот.
— Думаю, — сказал Валерка. — Знаю одного человека. Он много нашел и сразу все потерял.
— У тебя что, денег нет?
— Ни копейки…
— Тяжело… Идем со мной.
Это был Глухарь, вор-наркоман. В тот тоскливый вечер Валерка узнал, что такое смешанный с кокаином морфий.
Когда Глухаря посадили, у Валерки остался его шприц. Теперь Валерка проклинал Глухаря. Он ругал его самыми последними словами, какие только приходили ему на память, но от морфия уже не мог отказаться.
Шли недели… Он перестал следить за собой: не умывался, забывал есть, обтрепался. Ничто больше не интересовало его. Ежедневная доза морфия медленно, во катастрофически нарастала. В погоне за наркотиком проходили дни.
Но тогда он еще боролся с собой. Пытался уменьшить дозу, отказывался от нее совсем. По два, по три дня сидел у себя в конуре, водкой заливал тоску и боль. От водки тошнило, она не помогала.
В те дни еще раз, уже совсем по-новому, Валерка смог оценить и проклясть свое прошлое — оно не научило его бороться. Организм был бессилен. Теперь прошлые печали казались игрушечными. Игрушечные трудности, игрушечные слезы. А вот пришла настоящая беда. Плачь!
Но и тогда, на краю бездны, завод еще жил у него в памяти отдельно от всего остального, как островок, населенный добрыми и умными людьми. Но на завод он идти боялся. Оставался Дубровин. Он, наверное, вернулся из отпуска. «Пусть стыдно. Пусть будут смеяться и презирать. Но только пусть спасут».
Телефонную трубку взял сам Дубровин, и у Валерки перехватило дыхание. «Вернулся из отпуска». Дубровин слушал долго, внимательно, не задавал никаких вопросов. А потом сказал: «Приходи».
Когда Валерка появился в угрозыске, капитан был один в кабинете. Ему изменила его обычная выдержка, он закричал:
— Дур-рак! Почему не дал телеграмму из-под Киева?!
И странное дело — чем больше ругался Дубровин, тем легче становилось у Валерки на душе, в горле щипало от слез и он стискивал зубы, чтобы удержать готовый вырваться вопль.
Дубровин звонил в больницу, кричал в трубку: «Человек делает себе инъекцию, грамм морфия в день… Фамилия?.. Молодой еще… Занимается этим шесть месяцев… Да… Я так и знал…».
Посмотрел на Валерку:
— Врач сказал: будешь продолжать — умрешь через год. Будешь лечиться? Будешь или нет?!
— Буду.
Из больницы Валерка убежал. И Дубровин снова устраивал его на работу, давал денег.
«Подлец ты, — говорили глаза Дубровина. — Но не умирать же тебе. Попробуем еще раз».
…Валерка поежился на холодном ветру. Даже горячий чай никак не мог согреть его. Он думал о том, что же делать дальше. И вдруг глаза его загорелись лютой ненавистью, а слабые пальцы сжались в дрожащий кулак — он знал теперь, кто виноват во всех его бедах — Глухарь. Встретиться бы с ним один на один на кривой тропке. Но Глухарь далеко в пустыне. В колонии особого режима. И вернется не скоро.
«Позвоню Дубровину», — подумал Валерка и, выпросив у чайханщика две копейки, пошел искать телефон-автомат.
Он не знал, что Константин Петрович Дубровин сидел сейчас в кабинете у начальника уголовного розыска. Там собралась вся спецгруппа — сам Мартынов, Дубровин и еще двое оперуполномоченных из оперативного отдела исправительно-трудовых учреждений.
— Бежал из больницы, говоришь? — нахмурился Мартынов. — А может быть, хватит с ним возиться, а, Костя? Сколько ты можешь заниматься этими экспериментами с устройством на работу наркоманов? Слушай! — Мартынов резко повернулся. — А не может он с Глухарем встретиться?
— Может, — сказал Дубровин. — Валерку надо спасать.
11. ГЛУХАРЬ И ВАЛЕРКА

Глухарь привык действовать в одиночку. Но сейчас, после этого побега, с ним что-то случилось. Он, конечно, прекрасно понимал, что если выйдет на прежние связи, то его быстренько схватят. Да-да… И потому он познакомился с Бармашевым. К тому же у Бармашева своя «волга». Хлипкий, однако, оказался типчик. Не умеет работать, самоучка, — едва удалось выпутаться. А самою «волгу» надежно упрятать удалось в горах. У знакомого старичка. Надежный старичок. Бармашев сейчас далеко улетел, соколик, — испугался, что следят. Далеко улетел Бармашев — пусть поищут его теперь Мартынов с Дубровиным. Пусть поищут.
«Да и мне надо сматываться, — подумал Глухарь. — Пора». Он чувствовал, что круг смыкается. Ленки-то нету. Только вот Олежка… Где он сейчас — Глухарь не знал, а выяснять опасно: Ленкиных соседей наверняка предупредили о нем, да и милицейский пост там, небось, дежурит круглые сутки.
Еще немножко погодить, а потом — поминай как звали. Только одно дельце обмозговать надо. Но в одиночку тут не справиться. Нужен хотя бы еще один человек. Жаль, Бармашева нет.
Вечерело. Глухарь остановился около пивнушки и поглядывал сквозь очки на людей, сидящих за столиками. Пахло шашлыком. Было душно, он снял шляпу, вытер платком потный лоб и уже хотел спуститься к шашлычнику, но в желтом квадрате окна увидел фигуру милиционера. Тот сидел как раз за столиком у окна, потягивал пиво и разговаривал о чем-то с пожилой официанткой. Уходить он не собирался. Глухарь облизнул губы, поправил темные очки и, нахлобучив поглубже на лоб шляпу, отправился прочь. «Чего он торчит здесь? — подумал Глухарь. — Отправлюсь-ка я в кафе».
Кафе совсем недалеко, за мостиком. Там, конечно, ни пива нет, ни шашлыка. Но зато там, наверное, нет милиции и еще там есть два выхода — так что всегда улизнуть можно.
Кафе было крохотное и совсем неуютное, Сквозь стеклянную дверь Глухарь быстро оглядел зал, потом снял шляпу и вошел внутрь. Кончался базарный день и потому в кафе было полно народу, однако столик около двери, которая выходила на реку, пустовал. «Как раз то, что нужно». Глухарь медленно направился к свободному столику.
Последнее время он был более осторожен, похудел и от этого казался чуть выше, да еще то и дело его тянуло кашлять — долгое пребывание в каменной норе все-таки сказалось и на железном здоровье Глухаря, которого не могли пробрать даже наркотики.
Он устало опустился на стул, и пока молоденькая официантка убирала на поднос грязную посуду, разглядывал меню, которое ему совсем не нравилось. В карманах у Глухаря были деньги, но в ресторанах появляться он не решался.
Он заказал себе борщ, бифштекс, холодец, два стакана чаю. Из одного стакана чай выплеснул, достал из внутреннего кармана пиджака чекушку и быстро сунул горлышком в пустой стакан. Двести граммов он опрокинул зараз, пожевал губами и начал аппетитно уплетать борщ. Ел он быстро и много. Где-то под спудом жила в нем мысль, что, в конце концов, все равно накроют — поэтому надо есть, пока можно.
Другие зеки рассказывали о страхах, которых натерпелись, когда были в бегах, но Глухарь давно свыкся со своим страхом. Нельзя сказать, чтобы его не было. Но еще тогда, во время первого побега в тайге, с лесосплава, он приучил себя жить с этим страхом и даже веселиться назло ему. Теперь он лишь опасался поступить опрометчиво.
А какая она — плата за постоянные эти опасения? А никакая. Дома нет у него, Ленка… Мир ее праху. Сынишка…
Бифштекс начал остывать, и Глухарь быстро поддел мясо вилкой. Пережевывая жилистое мясо, он снова подумал об Олежке. Как ни пытался он запрятать эти мысли подальше, ничего не удавалось. Олежку он заберет с собой. Когда-нибудь он заберет его, когда излечится от наркотиков. Ведь не совсем же он безнадежен. Есть же, говорят, какие-то средства. Он в колонии знал одного наркомана, который излечился.
Но сейчас еще рано думать об этом. Сейчас ему нужны деньги, много денег. Наклевывается одно хорошенькое дельце. Как следует его обмозговать надо, а потом — «не вспоминайте меня, цыгане…».
Глухарь доел последний кусок мяса и вдруг замер. Официантка, начавшая было подсчитывать на маленьких игрушечных счетах, посмотрела туда, куда он смотрел.
К столику подходила молодая женщина, державшая за руку мальчика в матросской форме.
— Здесь не занято? — спросила она Глухаря.
— Садитесь, свободно, — ответила за него официантка. — У вас все? — спросила она Глухаря.
— Нет, принесите мне еще что-нибудь… яичницу, что ли, — тихо произнес он.
Официантка с недоумением посмотрела на странного посетителя. Женщина заказала себе сосиски, а мальчику — порцию сливочного мороженого.
— Я пойду в буфет, лимонаду принесу, — сказала женщина, когда официантка принесла заказанное.
Глухарь остался один с мальчиком. Он сидел, тыкая вилкой в яичницу, и ничего не видел перед собой, кроме этих пухлых щек, перемазанных мороженым. Это был Олежка.
«Хорошо одет, — отметил про себя Глухарь, — лучше чем у Ленки. Кем ему эта женщина приходится? Ленка про нее ничего не говорила».
Женщина принесла лимонад и два стакана, Олежка сразу потянулся к бутылке:
— Пить хочу, теть Оль.
— Сейчас, сейчас. Доешь мороженое….
«Тетя Оля», — повторил про себя Глухарь. Он хотел заговорить с женщиной, но сквозь стеклянную дверь увидел милиционера. Того самого, что сидел в шашлычной. «Чего ему здесь надо? Не за мной ли следит? А может, она зашла с Олежкой специально?» Глухарь сунул руку в карман и, нащупав шероховатую рукоятку пистолета, успокоился.
Быстро расплатившись, Глухарь вышел в боковую дверь. У реки никого не было. Он обогнул кафе слева и заглянул в окно. Женщина, доев сосиски, пила с Олежкой лимонад. Милиционер стоял около стойки, улыбался и о чем-то разговаривал с буфетчицей. Буфетчица тоже улыбалась, и Глухарь успокоился — они, конечно же, разговаривали не о нем.
От выпитой водки чуть кружилась голова. Он взялся за раму. Через стекло видел, как женщина рассмеялась: видимо, Олежка сказал что-то смешное. А потом женщина покраснела, виновато зашарила в кармашке, в сумке и развела руками — Глухарь понял, что Олежка попросил еще мороженого, но у женщины, наверное, не было денег. Глухарь машинально сунул руку в карман, где у него лежала мелочь, но пальцы натолкнулись на рукоятку пистолета, и он сразу помрачнел. Ему вдруг вспомнилось, как дня два назад он прочитал в газете заметку, что талантливый инженер Виталий Сажин вернулся с международного конгресса. Тогда Глухарю было особенно муторно, к тому же, он не мог достать наркотиков и метался весь вечер как угорелый, искал, с кем бы кейфануть, и совсем забыл об опасности. И все потому, что Виталий Сажин — это не кто иной, как Витька Сажа, с которым они когда-то отбывали срок в детской колонии. Но Сажа давно «завязал», еще тогда, после первого срока. Правда, таких денег, как у Глухаря, «талантливому инженеру Сажину» вовек не видать, несмотря на то, что он разъезжал по заграницам. Но какое-то непонятное, тоскливое чувство охватило Глухаря, он подумал, что его никто и нигде не ждет кроме милиционеров, и те ждут лишь только для того, чтобы сказать «гражданин, пройдемте». И сейчас, когда он глядел на Олежку и на женщину, ведущую его за руку, это едкое чувство появилось снова.
Стоя в тени, за деревом, Глухарь наблюдал, как женщина направилась к остановке автобуса, и до него донесся ее голос:
— Приедем домой, возьмем денег и еще купим.
Глухарь шевельнулся. «Приедем домой», — не выходили у него из головы слова женщины. «Что это за дом? Проследить надо, а потом видно будет».
Автобус тронулся, и Глухарь быстро двинулся к остановке такси. Шоферу он объяснил, что надо ехать медленней, не выпуская из вида красный автобус. «Там знакомый едет, но где сойдет — не знаю». Шофер кивнул головой.
Ольга вышла из автобуса около Главного управления милиции и вместе с Олежкой направилась прямо в ворота, где находилась комната дежурного по городу. От неожиданности Глухарь не успел даже попросить шофера остановить машину, к тому же выходить около ГУМа он не решился, и они свернули в переулок. Здесь Глухарь решил подождать выхода женщины с Олежкой. Он ждал до самой темноты. Но ждал он напрасно. Ольга заходила к мужу, он только что сменился после дежурства, и Мартынов подбросил их домой на своей «оперативке».
А Глухарь все стоял и стоял, глядя в закрытые ворота, чувствуя, что непонятная пустота заполняет его душу. Взошла луна, и ему захотелось завыть, как воет одинокая голодная собака.
Он зашагал по тротуару, и с каждым шагом чувство пустоты становилось все отчетливей, будто из-под ног ушла земля и он заваливается куда-то набок. Он подумал, что за ним могут следить, но теперь ему было все равно.
На следующий день Глухарь, придя на базар, выпил кружку пива и направился в сторону реки. К барахолке. Тут среди барыг можно было отыскать парня, готового на любое дело. У моста он остановился. С любопытством оглядел человека, похожего на огородное пугало: соломенная шляпа с продавленным верхом, порванные брюки, красная рубаха, лицо серое, небритое, опухшее. Человек бессмысленно глядел куда-то вдаль.
Глухарь кашлянул — человек обернулся. И Глухарь раскрыл рот от удивления.
— Вот те на! Гора с горой не сходится, — произнес он, ощупывая взглядом странное одеяние Валерки Сазанкова.
Валерка посмотрел на Глухаря бессмысленными глазами.
— Не найдешь ли копеек тридцать? — спросил он.
«Не узнает», — подумал Глухарь. Вот Олежка тоже не узнал. Это хорошо. Значит и опера́ не узнают. Они ж по карточке с «личного дела» ищут. Так? Ведь другой карточки у них нет. А там у меня ни усов нет, ни очков. Да и тем более такого черного костюма и белой накрахмаленной рубашки. «Не узнает, — с облегчением подумал Глухарь. — А он-то как раз мне и нужен для дела. Лучше и не придумать. Дня за три обделаем дельце. А потом — ту-ту…».
— Найдется не только тридцать копеек, а и больше, — ответил Глухарь и заметил, что Валерка внимательно вслушивается в его голос.
— У тебя какой размер костюма? — спросил Глухарь.
— Ч-чего? — не понял Валерка.
— Костюм какого размера?
— А зачем?
— Для интереса.
— Ну, сорок восьмой.
— А туфли?
— Слушай, пошел ты… Чего привязался?
— Подожди меня здесь, — сказал Глухарь. — Я тебе денег дам. Только в долг. Я сейчас…
Вернулся Глухарь с базарчика минут через пятнадцать. В руках он нес дешевый коричневый костюм и коробку с туфлями.
— Идем, — потащил он Валерку за рукав. — Идем под мост. Переоденешься. Не могу же я с тобой идти, когда ты в таком виде.
Валерка не упирался. Гремя за Глухарем по осыпающейся гальке, он только твердил: «Что-то мне твой голос знаком…».
— Конечно, знакомый, — сказал Глухарь. Он снял запылившиеся очки и начал их протирать.
— Глухарь! — от неожиданности Валерка выронил коробку с туфлями на песок.
— Тише, — предупредил Глухарь и поглядел наверх. — Тише ты. Дело есть.
— Что за дело?
— Быстрей переодевайся. Сбрасывай с себя все это барахло.
Валерка сдернул рубаху, обнажив изможденное, синеватое тело.
— Не женился еще? — спросил Глухарь.
— Ч-чего?!
— Не женился, говорю? Молодец, парень. Ошибки, значит, не совершил еще — алименты платить не будешь.
— А ты совершил, что ли?
Глухарь не ответил.
— Исхудал ты, — покачал он головой, оглядывая Валерку. — Ну на кого ты сейчас похож?! А хочешь — у нас будут деньги? Во-о сколько грошей.
— У тебя нет? — Валерка кивнул на шприц, выскочивший у него из кармана, и все тело его сжалось.
— Давай, — сказал Глухарь. — Давай…
Валерка обнажил руку, почувствовал укол, закрыл глаза. А через некоторое время он ощутил знакомое сладостное, безмятежное состояние. «Ну, вот, теперь ты, как огурчик. Джентельмен. Джентельмен удачи», — слышал он голос Глухаря.
— Дельце хорошенькое, — ворковал Глухарь. — Да… Есть тут один на примете. За ним обэхаэсовцы охотятся. Знаю я. А мы опередим их. Понимаешь? Придем раньше.
— Сколько? — сонно ворочая глазами, спросил Валерка.
— По две тысячи. Я тебя не обижу.
— Новыми?
— Дурак! Конечно, новыми.
— А ты откуда знаешь, что у него есть гроши?
— Если бы не знал, не говорил. Делец он, понимаешь? На сухофруктах наживается. Идет?
— Идет, — прошептал Валерка. — Только честно.
Они договорились встретиться назавтра в восемь вечера у моста. «В городе мне нельзя показываться», — сообщил Глухарь. Они расстались. Глухарь уехал на такси. А Валерка пошел звонить в угрозыск.
Когда он, постучавшись, вошел в кабинет, Дубровин стоял около сейфа. Он уже закрыл сейф и, видимо, намеревался положить ключ в карман, но, увидев Валерку, передумал и раскрыл тяжелую дверцу.
Сазанков увидел — в сейфе лежали пистолеты и ножи. Дубровин вытащил один — короткий с широкими краями, и положил на стол.
— Видишь? — вместо приветствия сказал он.
Взгляд у Дубровина был суровый, и Валерка опустил голову, не понимая, однако, почему капитан вытащил из сейфа нож.
— Сегодня я допрашивал Бориса Романенко, — сухо сказал Дубровин, не глядя на Валерку. — Романенко — вор-рецидивист, он убил этим ножом ученика девятого класса Анохина…
Дубровин замолчал на минуту.
— Ты понимаешь? Убил отличного парня, накурившись анаши…
— Но я уже не курю…. Последний раз… я… — Валерка попытался взглянуть на Дубровина, но понял, что не может этого сделать, и только искоса бросал взгляды на нож, мерцавший на столе.
— Садись, садись, чего стоишь.
Валерка подошел поближе.
— От чистого сердца… — начал он. — Константин Петрович…
Дубровин передернул плечами.
— О каком сердце ты говоришь?
— Честное слово… — начал было Валерка, но заикнулся и с сомнением посмотрел на Дубровина. — Вы не думайте, Константин Петрович, да я в рот не возьму теперь…
Он прикрыл глаза и сразу же перед глазами появилось тусклое лицо Глухаря и послышался тихий голос: «Тише ты. Дело есть».
Валерка открыл глаза и опять поглядел на нож.
— А что тому парню будет? — спросил он.
— Какому? — Дубровин положил нож в сейф и захлопнул дверцу.
— Который убил.
— А ты как думаешь — в Сочи его пошлют? — Дубровин оглядел Валерку. — Костюмчик новый? Где раздобыл?
— Дареный.
— От кого?
— От Глухаря…
— Так…
Валерка покраснел и заерзал на стуле.
— Он не украл, купил…
— Ну ладно, — Дубровин брезгливо поморщился. — Ты мне по телефону говорил, что Глухарь уехал на такси. Номер не запомнил?
— Нет. Завтра у нас с ним встреча. Дали бы вы мне тот нож… Я бы с ним сам рассчитался…
— Он о Бармашеве ничего не говорил?
— Это кто?
— Зубной техник. Золото скупает.
— Не знаю. Глухарь говорил, что есть у него один кореш. К нему махнем после «дела».
— Куда Глухарь уехал?
— Не знаю.
— А дом, где этот делец живет?
— Тоже не знаю. Глухарь завтра скажет.
— Пистолет у Глухаря есть?
— Видел.
— Та-ак, — вздохнул Дубровин. — А ты уверен, что за тобой не следили?
— Не знаю.
— И, наверное, не сам Глухарь, а кого-нибудь подослал.
— Нет. Если бы следил — то сам. Он сейчас один остался. Иначе б не втягивал меня.
— Да… Ну, мы все о Глухаре. А что я с тобой буду делать? Больница тебя отказывается принимать — сам виноват. С заводом ты тоже… Эх, придется звонить заместителю министра здравоохранения. Это уж не сам я — к комиссару пойду.
На глазах у Валерки появились слезы, и он смахнул их рукой.
— Вы мне не верите, да? — вскричал он. — Константин Петрович! Ну, испытайте меня. Ну…
— Испытание — завтра. Хочешь нам помочь?
Валерка кивнул головой.
— Завтра в восемь приходи туда, где условились встретиться с Глухарем. Знаешь карагач около шашлычной — увидишь там светло-коричневое такси. В этом такси буду сидеть я. Так что, если что заподозришь… Ну идем, идем в дежурку. Ты же с ног валишься — спать хочешь. На диване поспишь.
…Надежды Дубровина не оправдались. На следующий день вечером он докладывал своему начальнику:
— Алло? Александр Ильич? Дубровин звонит. Из оперпункта я.
— Да, слушаю, Костя.
— Как мы и предполагали, Глухарь на «свидание» не пришел.
— Проверяет Валерку? Да, его голыми руками не возьмешь. Кто пришел вместо него?
— Какой-то тип. Незнакомый, первый раз вижу.
— Значит, что-то пронюхал Глухарь. А ведь они могли убрать Валерку по дороге?
— Зачем? Если Глухарь подозревает его, то знает, что он все рассказал. А рассказывать-то нечего.
— Задержали незнакомца?
— Не удалось. Сбил Валерку с ног. Заскочил на ходу в какой-то грузовик. А когда мы догнали машину, в кузове никого не оказалось.
— Плохо. Очень плохо. Ты ребят там оставляй. А сам приезжай в Управление. Дело есть. Тут мы кое-что узнали. В аэропорт поедешь.
— Есть.
12. ГДЕ ЗОЛОТО РОЮТ В ГОРАХ…

Их было трое — внешностью очень похожих друг на друга людей. Низкорослый, кряжистый следователь районной прокуратуры Володя Заробян. Его черные глаза мерцали из-под бровей таинственно, словно видят и знают что-то необыкновенное. Оперуполномоченный уголовного розыска, Алексей Ломакин, был прямой противоположностью Заробяну — баскетбольного роста, белесый и жилистый, лицо у него простое, северно-русское. Капитан Дубровин — нечто среднее между ними.
Шли они долго. На порыжевших от знойного летнего солнца холмах, куда ни кинь взгляд, не было ни деревца, ни даже кусточка. А там в долине, где они оставили машину, буйно шелестела влажная трава и перезванивала голышами говорливая речка.
Солнце только-только взошло, и когда они достигли обрыва, впереди, насколько хватал взгляд, открылась несравненная красота. Верхняя часть неба была темно-синей, и чем ближе к горизонту, тем больше небо окрашивалось в светло-оранжевый цвет. А еще ниже, над чернеющим в бесконечном отдалении лесом, дрожали огненно-рыжие полосы, словно там полыхали гигантские горны. Расплавленным золотом сверкала в зеленой долине извилистая река, а в непроходимых коричневых болотных топях, будто пойманное в большую рыбачью сеть, дрожало розовое отражение солнца. Справа, на предгорьях, лежали холодные синие тени.
— Вот это да! — только и смог вымолвить Дубровин. Он стоял на краю обрыва, любуясь игрой красок, света и теней — такие ни с чем не сравнимые восходы и закаты можно наблюдать только здесь, в горах Забайкалья. Так вот оно, значит, какое Забайкалье — «где золото роют в горах…».
Он вспомнил запыленный, пропахший бензином и асфальтом город, уличную толчею, переполненные душные автобусы и трамваи — все это было где-то далеко-далеко, будто в нереальности…
«Где же скрывается этот старатель с Бармашевым? Долго еще идти?!» — думал Дубровин. Он вспомнил серые глаза майора Мартынова, его мохнатые брови, плотно сжатый рот.
— Вот видишь, куда потянулась нить, Костя, — говорил Александр Ильич. — В Забайкалье, к старателям. Бармашев сейчас там. Ну, что ж, действуй. Свяжешься с местной прокуратурой и угрозыском. Теперь-то Бармашева надо взять во что бы то ни стало. Так что вылетай немедленно.
Дубровин стоял задумчиво, молча, а потом спросил, словно очнувшись:
— А как же Глухарь? Валерка Сазанков?
— Не беспокойся.
Теперь они были почти уверены, что в машине, сбившей десятиклассника, сидел и Бармашев.
…— Ну, пошли, надо торопиться, — сказал Заробян.
Дубровин, оторвавшись от воспоминаний, зашагал по тропинке. Идти становилось все трудней и трудней — холмы окончились, начались горы. Трое продирались сквозь заросли полыни и красной смородины. И вдруг за одинокой, крохотной березовой рощицей появилась огромная темно-зеленая поляна. Два стога сена поднимались по ее бокам. Около одного из них ловко орудовал граблями вихрастый парнишка. Он был без рубахи, и бронзовое его тело плескалось в солнечных лучах. Дубровин залюбовался красотой гибкого, статного тела.
Следователь показал парнишке фотокарточку Бармашева и спросил, не видел ли он где такого человека.
— А-а… охотник, — хмуро промолвил парнишка, опираясь на грабли.
— Какой охотник? — трое переглянулись.
— Да ходит он с двустволкой тут, в шалаше живет. Километра полтора отсюда. Я его раза два видел.
И снова ершистая после покоса трава запружинила под ногами у троих. Метров через восемьсот, высоко на середине горы, они увидели шалаш. Было решено подойти к нему сразу с трех сторон.
Они полезли по серым потрескавшимся скалам, цепляясь за стебли ползучего кустарника.
— Пора, — решил Дубровин, когда до шалаша оставалось метров двадцать пять.
Он медленно пробирался сквозь колючие кусты, опасаясь, как бы не посыпалась, не зашуршала галька.
Когда они были совсем рядом с шалашом, прогремел выстрел и горное эхо разнесло грохот далеко по долине. Следователь Заробян, выронив пистолет, схватился за правую руку.
Стреляли не из шалаша. Дубровин резко оглянулся. На огромном валуне, метрах в сорока, стоял заросший густой щетиной человек и спокойно, словно в стрелковом тире, целился в него из двустволки.
— Разрывными бьет, сволочь! — выругался Заробян.
Дубровин едва успел упасть на землю, пуля просвистела мимо, а когда он приподнял голову, человек исчез.
— С этим зубным техником надо быть осторожней, — сквозь зубы проговорил Заробян.
— Сильно ранил? — торопливо спросил Дубровин.
— Пустяки…
Услышав стрельбу, прибежал мальчишка, работавший на сенокосе. Оказывается, он шел за ними следом. Оставив парнишку рядом с раненым, Дубровин и оперуполномоченный Ломакин бросились за Бармашевым.
— К водопаду он побежал, — донесся до них голос парнишки. — Здесь одна тропинка.
Поднявшись на пригорок, они заметили, как далеко внизу тень скользнула с тропинки в черный провал ущелья. Зашуршав по осыпающемуся гравию, спотыкаясь на скользкой траве, они понеслись к ущелью, откуда прогрохотало два выстрела, — Бармашев стрелял наугад.
Когда они достигли тяжело вздымающихся вверх сумрачных скал ущелья, Бармашев уже карабкался к водопаду. Над бездонным колодцем, на дне которого кипела белая пена, был перекинут хрупкий качающийся мостик. Видимо, человек на минуту испугался и замер, но страх, который настигал его сзади, был сильнее страха высоты — он ступил на зыбкую основу и, не глядя под ноги, зашагал вперед. Он был уже почти на той стороне, когда внезапный резкий звук заставил его на долю секунды остановиться.
Это был какой-то невероятный, многоголосый крик, качающийся, замирающий и вновь нарастающий.
— О-о-о-о!
Крик заплясал над водопадом, стремясь вырваться вверх, к свету.
Дубровин поразился странному резонансу, который вызвал его короткий окрик: «Стой!»
Он заметил — человек, переходивший мосточек, оглянулся, невольно скользнув взглядом себе под ноги, — там, в нескончаемом черном колодце гасло эхо, чернота притягивала к себе, кружила голову.
На мгновение тело его качнулось, и этого было достаточно, чтобы потерять равновесие. Он взмахнул руками, словно хотел ухватиться за какие-то невидимые поручни, и Дубровин не успел даже уловить момента, когда он исчез в провале.
Истертыми красными ладонями Дубровин зацепился за камни и, поднявшись к водопаду, заглянул вниз — из глубины пропасти тянуло холодом. Он приложил ухо к скале, и тогда показалось, что на него где-то совсем рядом несется тяжелый товарный состав.
Что значит для этой многотонной бушующей махины крохотная фигурка человека? Песчинка, не более… Напрасно Дубровин, рискуя сорваться вниз, щурил глаза, стремясь разглядеть нечто в черном провале, — клокочущая масса бесследно поглотила зубного техника.
Непонятное, щемящее чувство охватило Дубровина. Сквозь корявый просвет, образовавшийся между нависших скал, он увидел кусок долины — белые, словно игрушечные лучи берез, коричневая густота кустарника, а там, дальше, у шалаша лежал раненый следователь, а рядом с ним гибкий парнишка.
В бесконечной синеве плыли прозрачные облака. Дубровин подумал, что в Заркенте, южном городе, откуда он приехал, сейчас небо такое же синее. Только облаков нет совсем, и начальник уголовного розыска Александр Ильич Мартынов, тяжело дыша в духоте своего кабинета, согласовывает с оперативниками план поимки Глухаря. Он и не подозревает, что «передаточное звено» уже навсегда ушло от них…
13. ПОЕДИНОК

Вернувшись из командировки, Дубровин узнал, что дерзкие ограбления колхозных касс, вскрытие несгораемых ящиков прекратились. Валерку Сазанкова временно поместили в больницу. Но Глухарь как в воду канул, и напасть на его след никак не удавалось.
— Вот что, Костя, — сказал Александр Ильич. — За Глухарем и Бармашевым числится наезд на двадцать пятом километре, восемь вскрытых денежных ящиков, операция с золотом. И все это за короткий срок. Глухарь ушел в подполье. Может быть, его нет уже в наших краях…
— Опытный волк, — заметил Дубровин.
— Да, — продолжил Мартынов. — В ресторанах он теперь долго не появится, постоянного места жительства у него нет. Насколько известно, связи с дружками он не поддерживает, полагая, что подозрительные личности на примете у работников уголовного розыска. Хоть Валерка и не судим, но, как видишь, он проверял и его. Ладно. Делом Глухаря займется ОУР Министерства. А нам надо пойти по горячим следам.
Дубровин недовольно поморщился и с обидой взглянул на Мартынова. Почему это именно сейчас «дело» передали в Министерство?
— Ну, ну, не волнуйся, — поспешил успокоить его Александр Ильич. — Мы работаем с ними в контакте…
И хотя, сказав это, Мартынов пытался улыбнуться, Дубровин понял, что начальник уголовного розыска тоже был недоволен передачей «дела» и, видимо, выдержал нелегкую борьбу по этому поводу.
Взгляды начальника уголовного розыска и старшего оперуполномоченного встретились, и оба тут же отвели их в сторону.
— Как ты думаешь, искусственный шелк сейчас в моде? — спросил Александр Ильич.
— Шелк? — переспросил Дубровин. — Да вроде бы ходовой товар… Покупатели всегда найдутся.
— Вот то-то и оно… — негромко сказал Александр Ильич, и Дубровин понял, что разговор этот начальник уголовного розыска завел неспроста.
— Дело вот в чем. Уже второй раз из контейнеров товарных вагонов пропадают тюки искусственного шелка, — подтвердил его мысли Мартынов. — Транспортная милиция сбилась с ног в поисках преступников. Нас просят помочь. Знаешь, когда новый человек идет по следам, он может заметить то, чего не заметили другие.
— Где узнают о недостаче? — поинтересовался Дубровин.
— На конечной станции. Поэтому вся ответственность ложится на грузоотправителя. Их всех уже допрашивали. Выводы? Они ни при чем. А раз грузы исчезают не во время отправки и не во время приема, то только в… пути.
Так думали и сотрудники железнодорожной милиции, однако тщательный осмотр вагонов был не в пользу этой версии — пломбы и замки не тронуты.
Все же было решено — в очередном товарном составе поедут четверо: капитан Дубровин и трое оперативников из дорожного отдела. Один будет находиться вместе с машинистом, другой в одном из первых вагонов, Дубровин с третьим оперативником — в самом последнем вагоне, вместе с проводником.
На восьмидесятом километре, при подходе к реке, железная дорога круто поворачивала к северу. Когда состав, замедлив ход, двинулся по кривой, Дубровин заметил, что на подножку тринадцатого вагона, на котором стояла синяя хлопкоуборочная машина, вспрыгнули двое мужчин. Один был высокий, в белой рубашке, а другой, среднего роста — в красной. Лица Дубровин разобрать не мог.
Тот, что был пониже, встал на борт и, резко оттолкнувшись, повис на крыше соседнего вагона.
— Ух, ты… — восхитился молоденький оперативник Женя Прокофьев. — Акробат!
— Да… — неопределенно протянул Дубровин. «Подсунули какого-то непонятливого юнца», — подумал он о своем напарнике.
И мысли вновь вернулись к тем двоим в вагоне. Иначе, как в пути, их не возьмешь. Картина ясная — «вспарывают» они крышу, выбрасывают тюки на ходу.
Последний вагон, наконец, тоже вынесло из полукруга на прямую, и теперь совсем не было видно, что делает второй человек.
«От машиниста их тоже, наверное, увидели», — предположил Дубровин.
— А ну, подсадите меня, — попросил он проводника.
Подтянувшись на руках, он заметил, что на крыше одного из вагонов, где-то в середине состава склонились двое мужчин. Потом один исчез.
— Так, оторвали доски. Второй, конечно, останется наверху, — подумал капитан.
Но он ошибся — высокий тоже исчез в дыре. Время действовать.
Дубровин взобрался на крышу.
— Полезай за мной! — крикнул он Прокофьеву.
Отсюда горизонт отодвинулся, и впереди показались белые мазанки степного разъезда, а еще дальше — черная полоска — не то река, не то озеро. Но это уже совсем далеко. Свежий ветер хлынул на Дубровина. Закружилась голова. Капитан рванулся вперед, перепрыгивая с вагона на вагон, опасаясь, что не успеет добежать, что преступники уйдут. Он видел — впереди на помощь ему скачет другой человек — Колька Исидоров. Может, он успеет раньше.
Капитан бежал, задыхаясь, горячий ветер хлестал по щекам, жарким дыханием опалял слипшиеся волосы.
Когда до пролома осталось два вагона, капитан сообразил, что так разогнавшись, он не сможет остановиться, и по инерции пролетит вперед. Остановившись на самом краю вагона, перевел дух. Черный пролом был совсем рядом. Еще один прыжок!
Дубровин отступил назад, готовясь к прыжку, и первое, что он увидел, взглянув в сторону пролома, — это дрожащий пистолетный зрачок, мерцавший из темноты. И тогда же он увидел лицо человека, гладковыбритое, с отпущенными усиками — лицо Глухаря.
Дубровин не целясь нажал на курок. Выстрелы прогремели одновременно, и в ту же секунду Дубровин почувствовал, как ему обожгло левый бок.
Вагон тряхнуло на повороте, грабитель выстрелил еще три раза подряд и промахнулся. Но Дубровин упал на колено, судорожно сжимая рукоятку пистолета, и, охнув, повалился набок. Падая, он видел, как скрылась в проеме и потом снова показалась голова Глухаря. Потом Глухарь подтянулся на руках и выскочил на крышу. Дубровин лежал не двигаясь. Глухарь оглянулся и заметил, что со стороны паровоза бежит, перескакивая с вагона на вагон, человек.
В то же мгновение Дубровин вскочил и резко заломил руку Глухаря, державшую пистолет. Тот вскрикнул от резкой боли, выронил оружие и начал медленно оседать. Капитан навалился на него своим слабеющим телом. Силы покидали Дубровина, и когда он заметил, что рука Глухаря судорожно тянется к пистолету, валявшемуся неподалеку, он «поймал» эту руку особым приемом, отчего лежавший под ним Глухарь сразу стих.
Дубровин глядел, как, перескакивая с вагона на вагон, все приближался Колька из дорожного отдела. Вот он уже совсем близко… Что-то двоится в глазах. Дубровин попытался поднять отяжелевшую голову и вдруг увидел — белые мазанки, мелькавшие в степи у железнодорожного полотна, поползли вверх, за ними по кругу завертелась земля, заплясали вагоны. Разбившись на мириады ослепительных искр, полыхнуло солнце…
«Здравствуй, родной мой!
Как ты себя чувствуешь? Хирург мне сказал, что ничего страшного, все обойдется. Но к тебе почему-то не пустили. Завтра приемный день, и мы все будем у тебя. Я так переволновалась в тот день, до сих пор не могу успокоиться. Но сейчас опасность миновала. Какая у тебя температура? Пожалуйста, выполняй все предписания врачей, а то я знаю твою реакцию на всякие порошки и уколы. Но сейчас это тебе действительно нужно.
Ну, ты не волнуйся. Сегодня первое сентября. Олежку я отвела в школу. Он пошел в первый класс.
Целую тебя крепко.
Твоя Ольга».
Дубровин дернулся, будто пойманная на крючок рыба, и, облокотившись рукой о подушку, потер лоб: он никак не мог осмыслить последние строчки письма.
— В школу? Олежка! — вслух повторил он.
А внизу была приписка. Неразборчивый, корявый почерк, напоминающий колючую проволоку. Но этот почерк Дубровин мог бы отличить от сотни других. Мартынов писал:
«Крепись, Костя. Ничего страшного. Хирург говорит — все будет хорошо. Выздоравливай. Большущий тебе привет от всего розыска. Ты знаешь, конечно, в тебя Глухарь стрелял. Переменил профессию, сволочь. На шелк перекинулся — кто бы мог подумать!
Да, Валерку мы устроили в общежитие. На заводе ему аванс выписали. Плакал, когда узнал, что ты в больнице. Сегодня он заступил во вторую смену, а завтра мы тебя обязательно навестим…»
Дубровин аккуратно сложил записку и спрятал ее под подушку. У него полегчало на душе, и все же чувство глухой виновности перед людьми не покидало его. Он вспомнил сухонькую фигурку матери, склонившуюся над своим сыном, погибшим под колесами автомашины, вспомнил Елену Ольховскую. Лицо ее маячило у него перед глазами, будто живое, — большие удивленные глаза, чуть припухлые детские губы, тонкие брови вразлет, словно крылья ласточки, парящей в воздухе.
Через два месяца, ранним утром, во дворе Заркентского управления милиции появился худой, бледный человек. Новая отутюженная форма болталась на нам, как на вешалке. Тротуар поднимался в гору, и человек с трудом одолевал подъем.
Опираясь на палку, он гулко стучал ею по растрескавшемуся красному кирпичу и делал частые остановки. Останавливаясь, он вытаскивал платок и вытирал взмокший лоб.
За серым зданием криминалистического музея, где хранились всевозможные орудия преступлений, изъятые у уголовников, находилась спортивная площадка. Здесь на матах тренировались по самбо курсанты школы милиции. Молодые, пышущие здоровьем, они с удивлением разглядывали человека в милицейской форме, медленно бредущего по тротуару.
— Кто это? — спросил молоденький розовощекий курсант. В его тоне явно сквозила ирония: «И как это таких держат в милиции?»
— Это капитан Дубровин, — резко сказал преподаватель. — Тот, что Глухаря брал. Продолжать занятия! — крикнул он.
Это уже относилось к группе самбистов, сгрудившихся на краю площадки. Разгоряченные, во взмокших спортивных куртках, они с неподдельным восхищением глядели на человека, идущего по тротуару. Никто не хотел расходиться.
Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан милиции Дубровин не слышал этих разговоров. Он даже не оглянулся. Остановившись, он снова вытащил платок и, тяжело дыша, вытер взмокший лоб. Медленно продвигаясь вперед, он скрылся за углом здания. Курсанты уже не видели его, но никто не двигался. Было слышно, как гулко и тяжело стучит палка по растрескавшимся кирпичам тротуара.
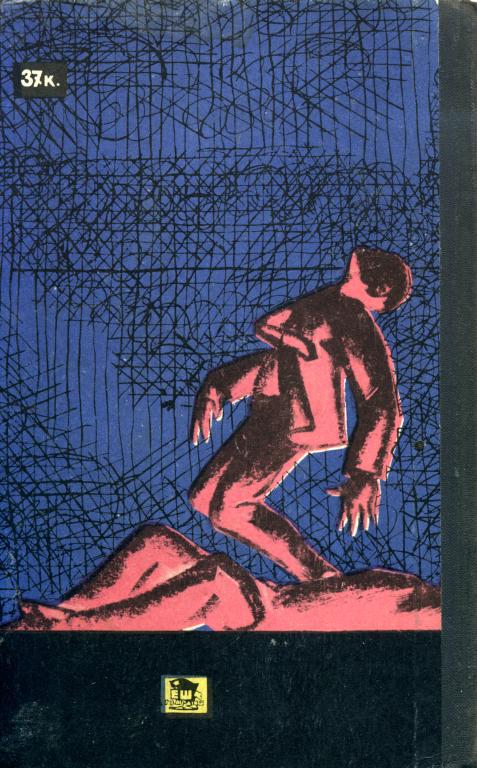
name=t405>
Фомин Фёдор
Записки старого чекиста
От автора
Приношу сердечную благодарность читателям, приславшим свои отзывы на первое издание «Записок старого чекиста». Я получил в общей сложности около 500 писем, в том числе немало от старых боевых товарищей, участников описываемых событий. В некоторых письмах содержатся уточнения и исправления фактического характера. Все они учтены при подготовке второго издания.
Жизнь солдатская
С чего начать свои воспоминания?
Наверное, этот мучительный вопрос задавал себе каждый, кто брался за перо, чтобы поделиться впечатлениями долгой и богатой событиями жизни.
Мне, пожалуй, лучше всего начать с того момента, когда я, деревенский паренек, сын крестьянина-бедняка, надел солдатскую шинель.
Было это почти полвека назад. Первая империалистическая война уже была в разгаре. Ненасытная утроба фронта требовала еще и еще человеческого мяса. На убой «за царя и за веру православную» гнали все новые и новые тысячи людей. Дошла очередь и до меня. В январе 1915 года я был досрочно призван в армию.
С первого же дня я на своей шкуре испытал и понял, какова она, жизнь солдата в царской армии. И до того мне, конечно, приходилось слышать о ней, да ведь рассказы рассказами, а тут все самому пришлось перенести…
Не успел я прийти в себя с дороги, как фельдфебель запасного батальона, располагавшегося в Туле, вызвал меня к себе: захотел поближе познакомиться. Был он явно «под мухой».
— Откуда прибыл-то?
— Из Москвы.
— Городской, говоришь, — усмехнулся фельдфебель. — А ну-ка, покажи свою городскую культуру. Гармониста сюда! — крикнул он.
Я оторопел. Что ему от меня надо?
— А ну, давай кадриль! — приказал он, когда подошел гармонист.
— Я не умею, господин фельдфебель, — отвечал я.
— Не умеешь кадриль?! Давай плясовую…
— И плясовую не умею.
— Врешь! Должен уметь. Все должен уметь, ежели стал солдатом. Солдат ты или кто?.. Отвечай! — неожиданно заорал он и стал наступать на меня.
— Так точно, солдат!
— Я тебя, сукина сына, выучу, коль не умеешь. За милую душу будешь кренделя выписывать… Играй камаринского, — приказал он гармонисту.
Тот испуганно моргнул и усердно заиграл плясовую.
— Ну!!! — фельдфебель опять пошел на меня.
Я стоял не шевелясь.
— Никогда не плясал, господин фельдфебель, — замирая, выдавил я из себя.
— А я приказываю тебе! Понял? Пляши, и все тут.
С горьким чувством обиды я стал семенить ногами, притопывать.
— Под музыку, под музыку давай, да веселей! — покрикивал фельдфебель и хохотал.
Недолго я пробыл в этом батальоне. В июле того же 1915 года я был включен в маршевую роту и направлен на фронт. Прибыли мы в район Острова-Остроленка, где в то время шли упорные бои. Не доведя до передовой позиции километров 20–30, нас расположили в корпусном резерве, в палатках, чтобы затем пополнить нами части — заменить убитых и раненых солдат.
В лагере этом мы пробыли с неделю. Но и здесь офицеры усиленно нас муштровали.
Как-то после занятий, во время обеденного перерыва, прилегли солдаты отдохнуть в палатках. Дежурный офицер по полку решил сделать обход наших палаток. Была подана команда: «Встать, смирно!» Я и другие солдаты заснули и не слыхали команды. Дежурный офицер вошел в палатку и пинком ноги стал поднимать заснувших солдат. Когда он ударил меня, я вскочил.
— Смотри, если еще повторится, не поднимешься по команде — морду набью! — сказал дежурный офицер и вышел.
Спустя два дня командир роты поручик Яковлев повел нас на учебные занятия в поле. Пошел проливной дождь. Вымокли мы до последней нитки. Когда возвращались с учения, то по проселочной дороге не только в ногу, вообще трудно было идти: грязь налипала на сапоги. Но офицер требовал «держать ногу».
Стали подходить к палаткам.
Поручик Яковлев начал еще грознее покрикивать:
— Ать, два! Ать, два! Ноги не слышу! Ставь тверже ногу! Ать, два! Дай ногу!
Но, кроме чавканья грязи, ничего не слышно было. Какая уж тут «нога»!
А офицер не унимался:
— Ногу давай! — кричал он.
Как ни старались солдаты угодить офицеру-самодуру, «ноги» по-прежнему не было слышно: дорога превратилась в сплошное месиво. Дождь не унимался. Усталые, мокрые, грязные, мы думали только об одном: поскорей бы под крышу, да за котелок каши приняться…
Вот и лагерь.
Вдруг слышим команду:
— Кругом, марш! Мы повернули обратно, и поручик Яковлев снова и снова стал гонять нас, требуя «ногу».
— Буду гонять до тех пор, пока ноги не услышу. И он гонял нас, гонял с каким-то радостным остервенением. Мы окончательно выбились из сил, и, когда Яковлев остановил нас, некоторые даже шатались.
— Устали? — неожиданно дружелюбно спросил он. — Сейчас отдохнете… Шагом марш!
И когда мы подошли к огромной луже, Яковлев скомандовал: «Ложись!»
Несколько минут, которые мы пролежали в луже, показались нам вечностью.
Вскоре в район расположения резервных частей, где находилась и наша рота, после длительных и ожесточенных боев прибыл для пополнения 130-й пехотный Херсонский полк. От четырех тысяч солдат и офицеров его осталось в живых лишь 120 человек.
Остатки разбитого полка были выстроены перед нами, еще не обстрелянными солдатами. Мы. смотрели на их изможденные, серые лица с воспаленными глазами, на грязные шинели и фуражки, пробитые и прожженные осколками снарядов и пулями.
Появились командир полка полковник Зайченко и священник. Началась панихида по «христолюбивым воинам, павшим на поле брани за веру, царя и отечество». Затем священник привел нас к присяге, после чего нами пополнили разбитый полк.
Мы почти с радостью встретили это известие. Уж очень зверствовал поручик Яковлев. Хоть к черту в пекло пойдешь, лишь бы от него подальше. Когда нас распределяли по ротам и командам, я обратил внимание на одного молодого поручика с георгиевским крестом. Внимательные и, как показалось мне, грустные глаза, открытое, приятное лицо.
— Кто добровольно желает идти в команду разведчиков? — предложил он.
Я первый выступил вперед. Изъявили желание еще несколько человек.
— Дело наше трудное, опасное, — сказал поручик. — Мы глаза и уши полка. Нам первым приходится с немцами дело иметь, первым и штык и пуля. Так что, братцы, подумайте, пока не поздно.
Он оглядел выступивших вперед, помолчал. А потом продолжал:
— Мне нужны настоящие солдаты: храбрые, выносливые, исполнительные. Кто боится, кто товарища подведет и бросит, да кто ныть будет — тот пусть лучше останется.
Но я твердо решил: буду разведчиком у этого офицера.
Видно было по всему, что он понимает солдатскую участь, сочувствует солдату. Потом, когда мы лучше узнали его, он еще больше полюбился нам. Поручик Николай Николаевич Якунников был настоящий фронтовой офицер, честный и мужественный, очень внимательный к солдатам. Он никогда не кричал, не щеголял, как иные офицеры полка, лихими ухватками, словечками. Наоборот, он был сдержан, скромен.
В отличие от других офицеров он часто бывал у нас в расположении команды разведчиков, беседовал с нами. Во фронтовой обстановке достать газету солдату было трудно. Якунников давал мне свои газеты, которые я читал вслух разведчикам нашей команды. Мои однополчане жадно интересовались положением на фронте, новостями из Петрограда и Москвы. И читку газет я вменил себе в постоянную обязанность.
Однажды Якунникова вызвал командир полка. После этого рядом с «Георгием» у него появился еще один незнакомый нам орден — большой крест темно-синего цвета. Таких орденов английский король прислал всего лишь несколько на всю армию. На, наш корпус пришелся один, и он достался самому храброму офицеру — нашему командиру.
Но от нашего мучителя поручика Яковлева избавиться нам не удалось. Сразу же после того, как нас распределили по ротам и командам, стало известно, что Яковлев назначен комендантом полка. За малейшую провинность солдата ожидало унизительное наказание. Случись, кто опоздает на вечерний привал, разговор был один: 25 розог. А опоздания были, и немудрено… Солдат во время отступления кормили порчеными продуктами, да и тех было недостаточно, и многие питались чем попало, сами добывали где что придется. Большинство солдат «болело животами». И командир полка, и комендант Яковлев, конечно, знали об этом, но ни о какой медицинской помощи не было и речи. А заболевание дизентерией принимало угрожающие размеры. Медицинское обслуживание было поставлено из рук вон плохо не только у нас, но и во всей действующей армии.
Экзекуциями в полку ведал Яковлев. Исполнял он эту свою обязанность необычайно рьяно и не без удовольствия. Порка поручалась трем солдатам из комендантской команды. Один должен был держать на своих коленях голову «провинившегося» солдата, покрытую шинелью, а двое других пороли розгами. Комендант полка поручик Яковлев сам следил за поркой и покрикивал:
— Драть так драть как полагается, а то сам ляжешь!
Все это было тяжело и унизительно не только для тех, кого наказывали, но и для тех, кого заставляли пороть. Очень часто солдаты, жалея своих товарищей, смягчали удары. В таких случаях Яковлев приходил в ярость и приказывал ложиться «сердобольному» солдату, которого и пороли под неусыпным наблюдением того же поручика Яковлева.
Больно было видеть, в каком состоянии наказанный возвращался в подразделение и как удручающе действовала на солдат такая расправа над их товарищем.
Я как-то спросил у начальника команды, кто же дал право пороть розгами солдат; телесные наказания, как я слышал, были отменены. Якунников, оглянувшись по сторонам, ответил:
— Видишь ли, братец, на то есть разрешение самого царя-батюшки.
Оказывается, царь Николай «высочайше соизволил повелеть» ввести в действующей армии телесные наказания для нижних чинов «властью командира полка и выше».
Зимой 1916 года на фронте было затишье. Наша часть расположилась под Ригой в армейском резерве. Но и здесь редкий день не встречали мы пьяным поручика Яковлева.
Заметив солдата, идущего навстречу, Яковлев останавливал его и обычно спрашивал: «Морда бита?» Если солдат отвечал: «Никак нет, ваше благородие», Яковлев со всего размаху ударял по щеке раз и другой и брезгливо бросал:
— А теперь проваливай, мерзавец, и чтоб больше не показывался мне на глаза!
Если же солдат отвечал: «Так точно, морда бита!» — Яковлев говорил: «Ну, проваливай!» И ограничивался одними ругательствами.
Солдаты очень скоро поняли это и приноровились. Бывало, когда попадались ему на улице, всегда живо отвечали:
— Так точно, морда бита, ваше благородие.
— Кем?
— Вами, ваше благородие!
— То-то, — самодовольно ухмылялся Яковлев и отпускал солдата, не тронув.
Командир полка полковник Зайченко, конечно, знал об этих развлечениях своего офицера, но сам-то он был не лучше его.
Как-то раз настала моя очередь идти на кухню. Я должен был принести ужин для своих товарищей. Взял два котелка, получил четыре порции борща, иду обратно. А навстречу полковник Зайченко. Я вытянулся, повернул к нему лицо — ем глазами, что называется. Но, должно быть, вид мой не понравился командиру полка. Впрочем, и немудрено: огромные валенки, бумазейная цветная телогрейка не придавали мне бравого вида. А тут еще полные котелки не дают возможности вытянуться во фронт. Полковник остановил меня:
— Ты какой роты?
Отвечаю, как положено по уставу:
— Я рядовой солдат команды разведчиков 130-го пехотного Херсонского его императорского высочества великого князя Андрея Владимировича полка.
— А кто я буду?
— Вы изволите быть командиром 130-го пехотного Херсонского его императорского высочества великого князя Андрея Владимировича полка — полковник Зайченко.
— Перед кем полагается во фронт становиться? Начиная от государя императора и государыни императрицы, я перечисляю, перед кем солдат должен становиться во фронт. У командира полка не хватило терпения выслушать до конца и он прервал меня:
— А как ты думаешь, передо мною положено становиться во фронт?
— Так точно, положено!
— Почему не стал?
— Руки заняты котелками, ваше высокоблагородие.
— Вот оно что, — иронически протянул полковник. И вдруг как закричит: — Службу не знаешь! Слушай мою команду! Направо! Шагом марш!
Обливаясь борщом, я пошел, стараясь как можно лучше отбить шаг. Но в огромных валенках это невозможно было. Прошел шагов 50, слышу команду: «Кругом, марш!» Повернулся я и пошел обратно. Поравнявшись с командиром полка, стал во фронт.
А руки по-прежнему заняты котелками, в которых борща осталось уже наполовину.
Командир полка опять дает команду:
— Направо, шагом марш!
Я точно выполняю команду, отошел метров за 60, иду дальше — не слышу команды. Ну, думаю, оставил меня мой мучитель. Прошел еще немного, поворачиваю голову. А он издали наблюдает. «Кругом! — кричит. — Бегом ко мне!» Добежал я до него, он как начал, как начал меня ругать, какое я, мол, имел право оглядываться. И устава-то я не знаю, и чинопочитания не понимаю. Стою, слушаю, молчу. Попробуй не то что возразить, а слово вымолвить в свое оправдание, еще хуже будет.
Когда устал ругаться, опять подает команду: «Шагом марш!» Потом снова: «Кругом, марш!» И так долго он еще, издеваясь, гонял меня туда и обратно.
Вернулся я в казарму с пустыми котелками. Товарищи накинулись на меня: где пропадал — люди в других отделениях давно отужинали. А я перевернул пустые котелки и рассказал, как полковник Зайченко оставил нас без ужина, учинив мне строевые занятия с котелками.
Такого рода издевательства не проходили бесследно. Они оставляли тяжелый осадок в душе у каждого солдата, человеческое достоинство которого так жестоко оскорблялось. Затаенная ненависть к офицерам-самодурам накапливалась и искала себе выхода. Постепенно под воздействием агитации большевиков, которых в армии становилось все больше и больше, мы начинали понимать, что дело тут не в отдельных офицерах, потерявших человеческий облик, а в том, что царская армия — это орудие классового господства эксплуататоров над трудящимися и что этим определяется и отношение офицеров к солдатам.
За время службы в царской армии я встречал всяких офицеров. Были среди них и честные, храбрые командиры, относившиеся к солдатам так же хорошо, как поручик Якунников, но больше было таких, как Яковлев и Зайченко, не считавших солдата человеком.
Пройдет немного времени, и таким офицерам отольются солдатские слезы. И не только им, но и их хозяевам, тем, кто посылал нас на убой… Недаром ведь солдатская масса сыграла такую выдающуюся роль в революции.
Однако же не будем забегать вперед, а вернемся к солдатскому житью-бытью.
Вечерами, когда солдаты отдыхали, наш начальник поручик Якунников часто оставался с нами, беседовал, расспрашивал, кто как жил до армии. Как-то подошел он ко мне, а я собрался писать письмо брату в Москву. Увидев на заготовленном конверте адрес, Якунников спросил:
— Вы москвич?
— Нет, я родился в деревне, в Рязанской губернии, там у меня отец и мать живут. А в Москве я работал несколько лет, там и школу окончил — фабричную, вечернюю.
— Нелегко тебе, видно, приходилось. Отец, поди, помогал?
— Нет, ваше благородие, нуждались мы, земли мало, а семья у отца большая — десять человек детей: семеро сыновей и три дочери.
— А это у тебя все книги? — указывая на мой набитый ранец, спросил командир. — Расскажи мне о себе, о семье.
Он внимательно слушал мой рассказ о нелегкой нашей жизни. Трудно было отцу с матерью прокормить такую ораву: земли не хватало, да и та никудышная, плохо родила. А уж учиться — и думать не могли. Только я да еще один брат ходили в сельскую школу, а остальные остались неграмотными. И как только исполнялось кому из нас лет 14–15, так отец отправлял в Москву на заработок — на фабрику или завод. Дошла очередь и до меня. Мне едва минуло 14 лет. Отец и мать пришли со мной на станцию. Мать по русскому обычаю перекрестила меня, надела на шею крестик и, глотая слезы, сказала:
— Прощай, сынок, работай честно. Трудно тебе будет, родной, но все же лучше, чем здесь пропадать… Родителей не забывай.
Старший брат мой, чтобы получить для меня работу, за полгода раньше записал меня на очередь на мануфактурную фабрику Цинделя, где сам работал уже несколько лет. Меня приняли и поселили в общежитие вместе с братом.
Вскоре я узнал, что при фабрике имеется вечерняя школа. Поступил. После 10-часового рабочего дня по два с половиной часа занимался в вечерней школе. Окончил я ее через два года, но уж очень хотелось учиться дальше. Поступил на вечерние курсы счетоводов. Их тоже окончил и начал работать конторщиком, но вскоре был призван в армию.
— Тебе бы дальше учиться, — сказал Якунников, выслушав мой рассказ.
— Есть у меня мечта, ваше благородие, — обрадовался я, что разговор коснулся этой темы. — Да не знаю, как быть…
И рассказал я ему о своем желании стать вольноопределяющимся[77].
Некоторое время Якунников сидел молча, с участием глядя на меня. Потом сказал:
— Ну что ж, пожалуй, месячный отпуск тебе можно будет выхлопотать. Но вот о разрешении держать экзамены на вольноопределяющегося тебе и мечтать нечего. Наше командование против того, чтобы солдаты становились офицерами. Оно считает, что звание офицера — привилегия дворян. Выходцы из рабочей или крестьянской семьи, да еще послужившие рядовыми в армии, по их мнению, будут ненадежными офицерами…
— Вот что мы сделаем, — подумав, продолжал поручик Якунников. — Разрешение на экзамены я дам тебе сам. У меня есть бланки и печать начальника команды разведчиков. Авось там, в Москве, не разберутся, кто имеет, а кто не имеет права давать такие разрешения.
Взволнованный, я не знал, как благодарить своего начальника.
— Я тебя, Фомин, прошу только не подводить меня… Во-первых, никто в нашем полку об этом не должен знать, ни один человек. Во-вторых, когда вернешься из отпуска, то, если выдержишь экзамен, не подавай рапорт об отдаче приказа, пока не переведешься в другой полк. Или, может быть, на наше счастье, куда-либо переведут командира полка. Кроме того, хочу тебя предупредить: обязательно возвращайся точно в указанный срок, потому что, сам знаешь, за опоздание адъютант полка направляет рапорт полковнику Зайченко. А тот за каждые сутки опоздания дает по 25 розог…
Получив нужные документы, я отправился в Москву, сдал экзамены и ровно через месяц вернулся в часть, как раз накануне нового, 1917 года.
Знал ли я, что этот год принесет столько перемен!
За время моего отсутствия в армии произошли изменения: количество полков увеличивалось за счет сокращения в них числа батальонов. Я был направлен во вновь формируемый полк.
О Февральской революции мы узнали только через два дня после того, как она свершилась. Первое, что мы почувствовали, — это какое-то смятение среди офицеров. Резко изменилось их отношение к солдатам: одни держали себя с плохо скрываемой неприязнью, другие начали заискивать, входить «в доверие». А кое-кто из офицеров, бросив полк, бежал. Исчезли, в частности, командир полка полковник Зайченко и наш мучитель — поручик Яковлев. Эти, как видно, ничего хорошего для себя не ожидали от революции.
Солдаты же ликовали. По нескольку раз в день возникали митинги. Выступавшие требовали немедленного прекращения войны. Ко мне товарищи часто обращались то с одним, то с другим вопросом. Конечно, многого я и сам не знал, но старался узнать как можно больше, чтобы уметь правильно ответить на вопросы, волновавшие моих товарищей.
Через несколько дней после революции в армии начали создаваться солдатские комитеты. Меня избрали председателем полкового комитета, в который входило десять солдат и два офицера. Никакого опыта мы, конечно, не имели и, понятно, не знали, с чего начать и как работать. Но тут подоспел армейский съезд солдатских депутатов. Я и еще несколько человек были посланы делегатами на этот съезд. Состоялся он в Риге. На съезде мы получили указания и разъяснения, как практически строить работу комитета.
Первое заседание полкового солдатского комитета созвали сразу же в день нашего возвращения из Риги. Солдаты не могли дождаться начала митинга, созванного в тот же день. На нем было зачитано решение комитета о правах солдата-гражданина. Составлено оно было на основе знаменитого «Приказа № 1» Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Возможно, современному читателю эти решения покажутся мало интересными, но в то время каждый их пункт был огромным событием для солдата. Коренным образом изменялась его жизнь. Солдаты уравнивались в правах со всеми гражданами. Телесные наказания отменялись. Отменялось и обращение к офицерам «ваше благородие» и т. п. Офицеры обязаны были обращаться к солдатам только на «вы» и взаимно отвечать на приветствия. Солдаты при встрече с офицерами, отдавая честь, не становились больше во фронт, как бывало раньше.
Офицерское собрание полка решено было упразднить и организовать полковой клуб, при нем открыть библиотеку, читальню, столовую. Пользоваться всем этим можно было офицерам и солдатам на равных правах.
Офицерам запрещалось держать бесплатно прислугу. Желающие могли пользоваться услугами солдат за плату. (Помню даже, что плата была установлена 14 рублей в месяц, причем из этих денег половина шла денщику, а половина — на культурно-просветительные нужды полка.)
Как и другим членам полкового комитета, мне приходилось вести большую работу. Мы разъясняли товарищам цели и задачи новых форм власти в армии.
Часть офицерства откровенно саботировала работу в полку, не выполняла решений комитета, уклонялась от своих обязанностей. Сплошь и рядом, когда к. офицеру обращались с каким-либо вопросом, можно было слышать раздраженный ответ:
— Что вы идете ко мне? Со всеми делами обращайтесь в полковой комитет. Мы, офицеры, теперь ничего не решаем!
Когда к командиру полка приходили командиры рот, чтобы получить, например, указания о занятиях подразделений или о несении гарнизонной службы, он заявлял:
— Идите к Фомину — я теперь полком не командую!
Многие офицеры никак не могли забыть свои дворянские привилегии при царизме. Они выжидали, когда кончится это «смутное» время и все повернется на старый лад. А некоторые, не стесняясь, вслух выражали свое сокровенное желание — вновь увидеть в стране самодержавно-полицейский режим.
Мне не раз приходилось выступать и на открытых собраниях и в небольшом кругу офицеров, говорить о требованиях, предъявляемых к ним в новых условиях. Я им доказывал, что нет ничего более наивного, чем вера в реставрацию самодержавия. Народ, говорил я, не допустит этого, народ — это огромная сила!
Офицеры слушали, молчали, иные усмехались. Иногда слышались злобные выпады в мой адрес: «Большевистская зараза!» Мне это было, по правде сказать, очень лестно. Хотя я еще тогда и не был в партии, но уже много слышал о Ленине и большевиках.
Были, конечно, и такие офицеры, которые сразу активно включились в борьбу за переустройство армии. Были, наконец, среди них и коммунисты, ведшие большую воспитательную работу среди солдат на фронте.
Большевиков я впервые увидел, когда в качестве делегата присутствовал на объединенном заседании Совета рабочих и солдатских депутатов в Риге в апреле 1917 года. Запомнились мне выступления большевиков Сиверса и Хаустова. Они произвели на меня очень сильное впечатление своей горячей убежденностью и глубокой искренностью. С этого времени я твердо решил связать свою жизнь с большевиками.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию я встретил, уже будучи членом Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).
Я становлюсь Советским разведчиком
Для того чтобы дальнейшее было понятно читателю, надо вспомнить, хотя бы в самых общих чертах, как развивались события на Украине в 1917–1919 годах. После Февральской революции здесь начинает действовать контрреволюционная буржуазно-националистическая Центральная рада. Октябрьскую революцию Центральная рада встретила враждебно, отказавшись признать Советскую власть и став на путь открытой борьбы против нее. Однако уже в декабре 1917 года в Харькове состоялся первый Всеукраинский съезд Советов, провозгласивший создание Украинской советской республики. По призыву этого правительства на Украине начались революционные выступления против Центральной рады.
Изгнанная трудящимися с территории Советской Украины Центральная рада вступила в союз с германскими империалистами. Под прикрытием немецких штыков вместе с оккупационными войсками Центральная рада в марте 1918 года вернулась в Киев. Но уже в конце этого месяца немцы разогнали марионеточное правительство, не оправдавшее их надежд на подавление революционного движения и поставки обещанного продовольствия. В конце апреля 1918 года немцы установили на Украине буржуазно-помещичью военную диктатуру в лице «верховного правителя Украины» гетмана Скоропадского — крупного помещика и бывшего царского генерала, флигель-адъютанта Николая II.
В результате навязанного Советской республике грабительского Брестского мира и разбойничьих захватнических действий германского империализма не только Украина, но и Белоруссия и Прибалтика были в 1918 году оккупированы германскими войсками. На занятой ими территории оккупанты установили режим насилия, грабежа и произвола. Первым делом они восстановили помещичью собственность на землю. Крестьяне должны были возместить все убытки, понесенные помещиками после Октябрьской революции. На фабриках и заводах был установлен 10—12-часовой рабочий день. За участие в забастовке или призыв к ней — тюрьма. Аресты не прекращались. Смертные приговоры выносились за любую «провинность».
В ответ на зверства оккупантов в городах и селах Украины разгорается освободительное народное движение. Активно действует большевистское подполье. Коммунистическая партия Украины направила все свои силы на подготовку вооруженного восстания. К лету 1918 года партизанское движение охватило ряд украинских губерний.
Революционные идеи постепенно проникают и в сознание германских и австрийских солдат. Оккупационная армия начинает разлагаться. Жестокое поражение Германии и ее союзников в войне ускорило революционный взрыв в самой Германии. В ноябре 1918 года монархия в этой стране была свергнута. Создались условия, при которых русские рабочие и крестьяне смогли прийти на помощь своим украинским братьям. Брестский договор был аннулирован.
Однако на этом борьба против буржуазно-националистической контрреволюции и иностранного нашествия на Украине не закончилась. На смену отказавшемуся от власти и бежавшему за границу гетману Скоропадскому пришло «правительство», возглавляемое лидерами украинских буржуазных националистов Петлюрой и Винниченко и опиравшееся на кулацко-бандитские войска (так называемая Директория). На смену немецким интервентам пришли англо-французские оккупанты, которым Директория так же продавала Украину, как и Скоропадский немцам. На Украине вновь был введен тот же кровавый режим террора и насилий, грабежа и угнетения.
Осенью 1918 года из украинских повстанческих и партизанских отрядов усиленно формируются части Красной Армии. В ноябре они вместе с русскими частями начали освобождение Украины от петлюровской нечисти.
5 февраля 1919 года советские войска вступили в Киев, а к концу марта военные силы Директории были в основном ликвидированы.
Позорно провалилась и англо-французская интервенция. В результате героической работы, проделанной коммунистами-подпольщиками в войсках интервентов, иностранные солдаты и моряки начали понимать, что они подло обмануты своими правительствами, что их руками хотят потопить в крови первую в мире рабоче-крестьянскую республику. В Одессе вспыхнуло восстание французских моряков. Начались революционные волнения и в других частях интервентов. В это же время стремительно продвигались вперед части Красной Армии. Вскоре правительства Антанты вынуждены были отозвать свои войска и корабли.
Летом 1919 года Украина вновь становится ареной ожесточенных сражений против войск Деникина, рвавшихся к Москве. В этих боях наряду с регулярными частями Красной Армии принимали участие и многие местные партизанские отряды. Среди них были такие, которые поначалу примыкали к петлюровцам. Когда же украинское крестьянство воочию убедилось, что и Петлюра и Деникин вводят порядки не лучше царских, некоторые из этих отрядов перешли на сторону Красной Армии. Во главе подобных отрядов часто стояли «батьки» и атаманы, не желавшие признавать над собой никакой власти. Иногда это были анархисты или эсеры. И тогда дело часто кончалось прямой изменой Советской власти и переходом на сторону противника, особенно если в отрядах еще сказывалось и влияние кулацких элементов. Именно так обстояло дело с бандами батьки Махно и атамана Григорьева, речь о которых пойдет дальше.
Теперь вернемся к 1918 году. В начале января этого года партия направляет группу большевиков, и меня в том числе, в распоряжение главкома В. А. Антонова-Овсеенко, штаб которого находился в Харькове.
Приехав в Харьков, я с трудом разыскал штаб главкома, помещавшийся в пассажирских вагонах. Раньше мне не приходилось встречаться с Владимиром Александровичем Антоновым-Овсеенко. Я увидел человека среднего роста, в очках, одетого в кожаную тужурку. Сбоку — наган. Обращала на себя внимание пышная шевелюра, высокий лоб.
Говорил он со мной не как командующий войсками Украины, а как старший товарищ. Его интересовало все в моей биографии: кто я по специальности, какой имел чин в царской армии, сколько времени служил в разведке, какую работу вел среди солдат после Февральской революции. Я подробно рассказал ему о себе.
Выслушав меня внимательно, Владимир Александрович предложил мне работать в разведке, ссылаясь на то, что у меня, дескать, уже есть некоторый опыт такой работы:
— Я сразу же дам вам и первое задание: срочно уточните силы противника…
И он указал на карте ту часть линии фронта, которая интересовала его в данное время больше всего.
Я выполнил задание. Тем временем положение на фронте резко ухудшилось. Началось вторжение немецких оккупантов, а вместе с ними вернулись и гайдамацкие банды. Наши части вынуждены были оставить Харьков, Донбасс, а затем всю Украину и Дон.
Осенью 1918 года создается Украинский фронт, главнокомандующим которого был вновь назначен В. А. Антонов-Овсеенко, отозванный с Восточного фронта. И тогда опять понадобились точные сведения о силах противника, в частности о том, какое сопротивление можно ожидать в Киеве, Харькове и других крупных городах. Мне поручено было пробраться на занятую противником территорию, узнать о дислокации воинских частей неприятеля, о количестве живой силы и вооружения его в городах Украины.
Тут же Владимир Александрович познакомил меня с моим будущим помощником.
— Аркадий Борисович Кушнарев, — отрекомендовал он молодого человека выше среднего роста, одетого в гражданский костюм. — Он будет вашим помощником. Товарищ Кушнарев родился на Украине, хорошо знает украинский язык, немного немецкий. Его помощь вам будет очень кстати.
С Аркадием Борисовичем Кушнаревым я был немного знаком и раньше. Впоследствии же мне с ним довелось работать рука об руку много лет.
Первым делом решили мы с Кушнаревым отправиться в Харьков. Там жил мой дальний родственник старый большевик Семен Яковлевич Тишков, на помощь которого я очень рассчитывал. Перейти линию фронта тогда можно было без особых трудностей.
И вот мы в Харькове. Разыскали Тишкова. Я с ним не виделся очень давно и от души был рад встрече. Да и он обрадовался, что представилась возможность помочь своим. От него мы узнали, что в Харькове существует подпольный ревком, одним из членов которого он является. Он обещал мне собрать необходимые сведения по Харькову и прилегающим районам.
А я тем временем отправился в Киев. Тишков дал мне письмо к одному надежному товарищу — члену подпольного Киевского ревкома.
Звали его Михаилом. От него я узнал, что делается в Киеве. Власть формально считалась гетманской, но фактически находилась в руках у немцев. Немало было в Киеве и всякого белогвардейского сброда. Михаил обещал узнать, какие войска находятся здесь. Договорились через некоторое время встретиться.
А пока мы с Кушнаревым объезжали другие города и крупные узловые станции Украины. На станции Ворожба решили задержаться, так как через нее проходили эшелоны из Киева в Харьков и обратно.
У меня уже имелось немало ценных сведений. В моем чемодане лежали белогвардейские газеты, приказы военных комендантов, зашифрованные данные о численности войск в отдельных пунктах. Особенно они пополнились благодаря С. Я. Тишкову, с которым я встретился уже вторично. Теперь не хватало только данных по Киеву. Я, конечно, понимал, что иметь такие сведения при себе рискованно. Но что поделаешь, запомнить все невозможно было.
Мы с Кушнаревым решили провести несколько дней на станции Ворожба и получить недостающие сведения. Кушнарев еще раньше познакомился здесь с одним рабочим-кочегаром. Отыскали его и спросили, не может ли он посоветовать нам, у кого остановиться на несколько дней.
— К кому тут посоветуешь? Время такое, что никому верить нельзя. Разве только самому себе. Если не брезгуете, пойдемте ко мне, в котельную. Там хоть и тесно и пыльно, но зато можно спокойно отдохнуть. Вы люди приезжие, а петлюровцы и белогвардейцы везде шныряют, того и жди, нарветесь.
Я спросил, как его имя и отчество.
— А зовите меня Грицко, — отвечал рабочий. Мы разговорились, он не скрывал своей симпатии к Советской власти, к большевикам.
Прожили мы у Грицко несколько дней, кое-что осторожно выведали у него и у местных жителей. Славным он оказался человеком. И хотя мы ничем не выдавали себя, но нутром парень чувствовал — свои, и не таился от нас.
Пришло время ехать в Киев. Мы решили остановиться в скромной гостинице недалеко от вокзала. Разговорились со швейцаром. Узнав, что он с Полтавщины, Кушнарев прикинулся его земляком и осторожно намекнул, что нам было бы желательно не прописываться в гостинице, так как возраст у нас призывной, а тут в Киеве проводится всеобщая мобилизация. За 25 рублей в сутки швейцар согласился устроить нас в гостинице, конечно без прописки и даже с «ручательством за неприкосновенность».
Оставив Кушнарева с чемоданом, я направился к Михаилу. Тот свое обещание выполнил как нельзя лучше. Я сердечно поблагодарил его. Обнялись мы на прощание, и я ушел ночевать в гостиницу. Среди ночи нас разбудил стук в дверь. Мы схватились за оружие. Потом слышим испуганный шепот швейцара:
— Скорее, скорее! Собирайтесь! Идите за мной! Проверка документов.
Открываем дверь, швейцар хватает нас за руки и куда-то тащит. Провел он нас через узкий коридор в один из номеров, где уже побывали проверяющие. Мы просидели там целый час, настороженно прислушиваясь к шуму в коридоре и соседних номерах.
Потом пришел швейцар и вполголоса объявил:
— Можете идти опять в свой номер. Спокойной ночи…
Утром отправились мы в обратный путь. Но на станции Ворожба, где мы провели несколько дней у кочегара Грицко, решили опять задержаться. Здесь скопились значительные силы петлюровцев и белогвардейцев. Шла перегруппировка частей противника. Мы решили уточнить обстановку.
Грицко радушно принял нас и предложил располагаться в его каморке как дома. Разговорились мы с ним и почувствовали, что это — свой человек и не только не выдаст, но еще и поможет, чем только сумеет. Мы дали ему несколько поручений, которые он охотно и быстро выполнил. А потом помог нам найти подводу, на которой мы должны были перебраться через линию фронта.
Благополучно миновав опасные места, мы сели на поезд и приехали в Курск, где находились в это время ЦК партии Украины, временное правительство республики и штаб Украинского фронта.
Я и Кушнарев сделали обстоятельный доклад командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко о том, что узнали в тылу противника, передали собранные сведения. Тот сразу же принялся знакомиться с материалами, задавая нам вопросы о положении дел на транспорте, о настроениях населения. Затем он предложил зайти к секретарю ЦК партии Украины товарищу Артему и рассказать ему о том, что видели и слышали в Харькове, Киеве и других городах и селах, захваченных немцами и белогвардейцами. Артем подробно расспрашивал нас, быстро записывая данные в книжечку, а потом в свою очередь посоветовал нам встретиться с представителем РОСТа и проинформировать его.
На следующий день Антонов-Овсеенко дал нам новое поручение. Слух о готовящемся наступлении Красной Армии донесся до вражеского лагеря. К пограничной линии стягивались крупные силы. Целые полки перебрасывались с других участков. Нужно было срочно проверить имеющиеся сведения о численности и расположении войск противника.
И вот мы с Кушнаревым снова в Харькове. Настроение в городе тревожное. Там уже вовсю орудуют петлюровцы.
В газете «Южный край» мы прочитали объявление о том, что завтра в здании городской управы в зале заседаний состоится экстренное совещание всех «социалистических» партий. «А ведь нужно попасть и нам на это совещание, — думаем мы с Кушнаревым, — но как? Никаких пропусков у нас нет. Пустят ли туда?»
Мы решили рискнуть.
В назначенное время идем по указанному в газете адресу — на Николаевскую площадь. Я обращаюсь к стоящему у дверей здания городской управы человеку, проверяющему документы и пропуска:
— А представителю Центра можно пройти?
Проверяющий распахивает дверь и говорит: «Пожалуйста, пожалуйста», не потребовав никаких документов. Я тут же заявляю:
— Со мной идет вот этот господин, вы пропустите и его.
В зале заседания уже собралось более двухсот человек. На повестке дня совещания — один вопрос: с кем идти меньшевикам, эсерам и другим партиям? С большевиками или против них?
Совещание проходило бурно, много было разных выступлений и предложений. Но в конце концов приняли решение: «Идти против большевиков».
Мы возвращаемся в гостиницу «Ривьера», где всегда останавливались. Там швейцар и одна из горничных, Лиза, были наши люди. Утром — мы только-только поднялись — прибегает к нам очень встревоженная Лиза и сообщает, что сейчас в гостиницу приходили два офицера, как видно из петлюровской контрразведки.
— Спрашивали о вас. Скорее уезжайте отсюда, иначе будете в их руках!
Мы с Кушнаревым сразу схватили пальто, чемоданы и на первом попавшемся извозчике — на вокзал. Сели на первый поезд. Уже в дороге узнали, что он пойдет через станцию Ворожба. Отъехали мы от Харькова километров 50. Сидим и думаем, как лучше выполнить задание — собрать по всей пограничной зоне нужные сведения о военных силах противника. Самим заняться этим делом было бы слишком неосторожно. Могут схватить.
Я предлагаю Аркадию Борисовичу:
— Давай поедем снова в Ворожбу, попросим Грицко, пусть возьмет себе на два-три дня отпуск и проедет по тем населенным пунктам, где имеются воинские части. На железнодорожных же станциях мы сами будем вести разведку. У крестьян и солдат получим нужные сведения.
Все удалось, как было задумано. И Грицко не подвел, разузнал все, что нужно было. Горячо благодарили мы молодого рабочего. А он стоял смущенный, растроганный — только крепко жал нам руки, то одному, то другому…
Добытые нами сведения оказались как нельзя более кстати. Антонов-Овсеенко вместе с начальником штаба Кассером разработали новый план действия наших частей. Была сделана перегруппировка, особенно большие силы были сосредоточены для наступления в районе станции Ворожба.
Это была наша последняя поездка за «кордон». Я был назначен начальником войсковой разведки при штабе фронта, а Кушнарев — моим помощником. Спустя некоторое время меня перевели начальником контрразведки фронта. (В то время армейская контрразведка выполняла те же функции, что позднее — особые отделы ВЧК.) Кушнарева же назначили вместо меня начальником войсковой разведки.
3 января 1919 года вечером мы прибыли в освобожденный нашими войсками Харьков. Сразу вспомнили верных друзей, которые, рискуя своей жизнью, оказали услугу Красной Армии в ее успешном наступлении. Где-то сейчас Семен Яковлевич Тишков? Утром решил пойти в Харьковский губревком разузнать о нем. Смотрю, а мне навстречу сам Семен Яковлевич шествует, он же — председатель Харьковского губревкома. Ну, конечно, обнялись, расцеловались, поговорили по душам. Рады были, что встретились в освобожденном советском Харькове.
Потом пошли мы с Кушнаревым в гостиницу «Ривьера» повидать швейцара и горничную Лизу, которые спасли нас от рук петлюровской контрразведки. Они нам рассказали, что, как только мы покинули гостиницу, нагрянул конный отряд атамана Балбачана. Оцепили здание. Офицеры контрразведки ринулись по номерам. Долго искали нас, все перерыли. Не могли понять, куда мы спрятались. Разъяренные, так и ушли ни с чем…
Мы горячо поблагодарили своих спасителей.
После занятия Харькова была создана специальная группа войск для наступления на Киев. 5 февраля 1919 года наши войска заняли Киев. Эта группа войск впоследствии была переименована в 1-ю Украинскую красную армию. Я был назначен начальником особого отдела ВЧК в этой армии.
В Киеве, как и в Харькове, меня ожидала большая радость. Пошел я в горком партии, чтобы стать на партийный учет. Спрашиваю, кто секретарь Киевского горкома. Мне говорят — товарищ Михаил Черный. Когда я вошел к нему в кабинет, то увидел за столом того самого Михаила, к которому приезжал несколько месяцев назад с письмом от Семена Яковлевича Тишкова.
Михаил смеется:
— Вот и свиделись!
Радостная это была встреча. Вспомнили о пережитом, говорили о той большой работе, которая ждала каждого из нас.
Опять поручик Яковлев
Это было в феврале 1919 года в Киеве. Как-то шли мы с сотрудником Анатольевым по Николаевской улице. У гостиницы «Континенталь» мое внимание привлек полный человек, лет сорока, в офицерской шинели. Стоял он около освещенной витрины и, видимо, кого-то ожидал.
«А ведь этого человека я знаю», — мелькнуло у меня в сознании. Но сразу не сообразил, кто он такой. Потом, когда уже отошли от него, я замедлил шаг, оглянулся. Еголицо, освещенное фонарями подъезда, было хорошо видно. Если бы не усы, то вылитый поручик Яковлев. «Впрочем, усы недолго и отпустить», — подумалось мне.
— Вернитесь, — говорю я Анатольеву, — и поинтересуйтесь, как фамилия этого человека. Если он назовет себя Яковлевым, спросите, не служил ли он в 130-м пехотном Херсонском полку. Если подтвердит, предъявите ему свое удостоверение и предложите на извозчике доехать с вами до городского военного комиссариата. А сами везите его в особый отдел ВЧК. Коменданту скажите, чтобы арестованного содержали под усиленной охраной.
Анатольев подошел к человеку в офицерской шинели:
— Прошу извинить меня, ваша фамилия не Яковлев?
Человек настороженно ответил:
— Да, я Яковлев. Что вам угодно?
— В каком полку служили?
— А почему это вас интересует? Откуда вы меня знаете? И, помолчав, добавил: — Впрочем, извольте, отвечу: я служил в 130-м Херсонском полку.
— В таком случае придется вам поехать со мной в городской военкомат.
— Это с какой же стати я должен поехать?! — надменно сказал Яковлев. — Я знать вас не знаю и разговаривать с вами не хочу. Убирайтесь ко всем чертям!
Анатольев предъявил свое удостоверение. Яковлеву пришлось подчиниться.
— Я понимаю, почему вы меня везете в военкомат. Потому что я не явился на регистрацию офицеров, проживающих в Киеве. Поэтому?
На другой день я предложил старшему следователю вызвать арестованного Яковлева и устроить мне с ним очную ставку.
Когда привели Яковлева, я спросил:
— Вы назвали себя Яковлевым, бывшим поручиком 130-го Херсонского полка?
— Ну, и что из этого следует?
— Знали ли вы в полку поручика Якунникова?
— Якунникова? Как не знать! С Николаем Николаевичем мы служили вместе. А откуда вы его знаете?
— Я служил в команде разведчиков.
— Как ваша фамилия?
— Фомин.
— Не помню такого.
— Конечно, меня, рядового солдата, вы могли и не знать. Нас в полку было более четырех тысяч. Но зато все солдаты полка хорошо запомнили вас, очень хорошо! Особенно те, которых вы пороли розгами, били по лицу. Вы ведь не станете этого отрицать?
Яковлев побледнел, однако держался нагло, вызывающе.
— Да, я это делал. Но такой был режим в царской армии, и от нас, офицеров, это требовалось.
— Почему же другие офицеры этого не делали? Почему о поручике Якунникове ни один солдат плохого слова не скажет? Вы были не человеком, а зверем в отношении солдат. Сколько вы солдатской крови пролили!.. Мы вас будем судить, Яковлев, за зверское обращение с солдатами. За все вам придется теперь ответить перед судом военного трибунала.
Дело поручика Яковлева было передано в военный трибунал 1-й Украинской красной армии. Следствием было установлено, что Яковлев в прошлом был околоточным надзирателем. Его отвратительный облик палача в достаточной степени определился, когда были оглашены дополнительные материалы, свидетельствующие о вопиющих беззакониях и кровавых расправах бывшего коменданта 130-го Херсонского полка. Через несколько дней состоялся суд, на котором я выступал в качестве свидетеля. Военный трибунал приговорил Яковлева к расстрелу.
Вражеский шпион в штабе Красной армии
Работа особого отдела строилась вначале главным образом на устных заявлениях да на письмах трудящихся. Каждое утро дежурный комендант особого отдела приносил по 20–30 писем, из которых я узнавал о вражеских действиях лиц, ведущих активную борьбу против Советской власти. Писали рабочие, крестьяне, красноармейцы, матросы. И почти всегда проверка подтверждала правильность сообщений.
Помощь народа всегда была самым верным средством в борьбе против врагов революции.
Еще на окраине Киева шли бои, а в особый отдел ВЧК Украинской армии уже стали приходить люди. Они сообщали о затаившихся в подполье контрреволюционерах и их пособниках.
Едва расположились мы в небольшом, когда-то очень красивом особняке на одной из центральных улиц Киева, как дежурный доложил:
— Товарищ начальник, тут одна гражданка просит принять ее.
— Пусть войдет.
Вошла молодая женщина. Я предложил ей сесть.
— Какое дело у вас ко мне?
Женщина, волнуясь, начала скороговоркой рассказывать:
— Работала я в прислугах у одного офицера. А он все вертелся при самом гетмане Скоропадском. Вроде бы его помощником, адъютантом себя называл. Теперь хозяин убежал куда-то за границу. Но от него осталось много всяких бумажек и фотоснимков. Вот я и подумала: может, они вам сгодятся.
Я сердечно поблагодарил женщину. А через несколько часов в моем кабинете оказалась большая корзина, полная бумаг. Вместе с А. Б. Кушнаревым мы принялись рассматривать ее содержимое. Среди документов было немало таких, которые имели прямое отношение к гетману Скоропадскому и представляли несомненный «исторический» интерес. В одной из бумаг подробно рассказывалось о том, как крупный украинский помещик, бывший царский флигель-адъютант Скоропадский был провозглашен «гетманом всея Украины» на кулацко-помещичьем съезде, созванном в Киеве немецкими оккупантами. Правда, держался он у власти всего несколько месяцев.
С любопытством прочли мы телеграмму новоиспеченного правителя Украины:
«Всем, всем, всем, по учреждениям Украины, всем войсковым частям и военным учреждениям!
Я, гетман всей Украины, в течение 7 ½ месяцев все силы положил на то, чтобы вывести страну из тяжелого положения, в котором она очутилась. Бог не дал мне сил справиться с задачей. Ныне, ввиду сложившихся обстоятельств, руководствуясь исключительно желанием видеть Украину счастливой, от власти отказываюсь. Киев, 14 декабря 1918 года. Павел Скоропадский».
Мы не могли не рассмеяться. Вот оно, дело какое! Сам признался, что никудышный из него гетман и не удержаться ему с его бандитами против Советов.
Кроме бумаг было в корзине еще с полсотни фотографий, все больше женские головки — видно, неравнодушен был к прекрасному полу владелец этих снимков.
— Здесь, кажется, для нас ничего интересного не найдется, — сказал А. Б. Кушнарев, бегло перебирая фотографии.
— Подожди, подожди! — я вытащил из пачки небольшую групповую фотографию. В центре стоял мужчина высокого роста. Рядом с ним — офицеры, все высоких званий.
— Ба! Да не сам ли это господин Скоропадскии со своим штабом?! — воскликнул Кушнарев.
— Он и есть! Вон он своей собственной персоной в середине, — подтвердил я. Фотографии «гетмана всея Украины» и раньше приходилось видеть.
По правую руку гетмана стоял полковник, удивительно напоминавший внешностью начальника оперативного отдела штаба 1-й Украинской красной армии Баскова.
— Посмотри, — сказал я Кушнареву, — никого не напоминает тебе этот человек?
— Уж не Басков ли?! — вырвалось у того, но он сразу осекся. — Вот ведь как бывают похожи люди друг на друга!
Мне и самому плохо верилось, чтобы Басков — начальник одного из ведущих отделов штаба армии, через руки которого проходят важнейшие документы, планы секретных боевых операций, чтобы Басков — доверенное лицо, ведавшее судьбами десятков тысяч людей, был в этой компании.
Большие стенные часы в комнате пробили час ночи. Кушнарев ушел. Мне было не до сна. Фотография с гетманом и полковником не давала мне покоя. Тут легко можно попасть впросак, думал я. Да это еще полбеды. Главное другое: навести тень на честного человека, бросить ему тягчайшее обвинение. Вот что терзало меня.
Рано утром я направился к члену РВС фронта Ефиму Афанасьевичу Щаденко, находившемуся в это время в Киеве. Рассказал ему все, показал снимок.
— Одного подозрения мало, — помолчав, сказал Ефим Афанасьевич… — Сходство, возможно, и случайное… Однако и не придавать этому значения тоже нельзя. Вот что мы сделаем, товарищ Фомин. Надо позвать начальника штаба Дубового. Он-то уж должен хорошо знать Баскова.
Щаденко пригласил Дубового и попросил его рассказать о начальнике оперативного отдела Баскове. Дубовой не сообщил нам ничего предосудительного. Напротив, Басков старателен, исполнителен, знает свое дело.
— Нам нужно увидеть его, — сказал Щаденко. — Только вы вызовите его сами, и не к нам, а к себе. У вас, вероятно, найдется какой-нибудь предлог для вызова?
— Мне действительно сейчас понадобится Басков, — сказал Дубовой. — Ему поручили разработать план предстоящего наступления.
Через несколько минут вошел Басков — видный, еще не старый мужчина с отличной выправкой. Он обстоятельно объяснил план задуманной операции, со знанием дела нарисовал обстановку…
Щаденко и я сидели за отдельным столом, не вмешиваясь в разговор, время от времени поглядывали на фотографию: похож или нет?
Басков вскоре ушел, а мы втроем обменялись впечатлениями. Ни у кого не оставалось сомнений: на фотографии рядом с гетманом был наш начальник оперативного отдела Басков.
Однако я считал, что для ареста Баскова еще нет достаточного основания. Решил сначала произвести обыск на его квартире и поручил это Кушнареву.
— Читай, — сказал я ему, подавая только что полученную инструкцию за подписью Ф. Э. Дзержинского, — и действуй соответственно…
В инструкции говорилось, что при обыске нужно быть вежливым, даже более вежливым, чем с близким человеком. Каждый производящий обыск должен помнить, что он представитель Советской власти. Всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость ляжет пятном на эту власть…
Начальника штаба Дубового я попросил, чтобы он задержал Баскова на работе, пока не закончится обыск.
Через два часа работники особого отдела привезли мне найденные при обыске документы: приказы по штабу гетмана Скоропадского и секретные документы нашей армии, с указанием дислокации отдельных частей, фамилий командиров, оперативные и разведывательные сводки штаба 1-й Украинской армии.
Среди приказов гетмана Скоропадского я обратил внимание на подчеркнутые красным карандашом места. Все они касались лично Баскова. Из них выяснилось, что Басков был полковником генерального штаба царской армии. При гетмане Скоропадском служил для особых поручений. Неоднократно командировался гетманом в качестве начальника карательных экспедиций на Полтавщину и Черниговщину для подавления крестьянских восстаний.
Басков был арестован. Следствие установило, что за несколько дней до бегства гетмана из Киева Басков уехал в Харьков, где у него были друзья, пробравшиеся на видные должности в Красную Армию. С их помощью Басков устроился начальником оперативного отдела. Вскоре он подобрал себе в помощники двух белых офицеров. Один из них работал в нашем разведывательном отделении.
Басков показал, что все они были связаны с белой контрразведкой, которую они снабжали сведениями о положении и действиях нашей армии. Его подручные тоже сознались в том, что вели шпионаж.
Так простая женщина помогла органам ВЧК раскрыть очень опасную шпионскую ячейку в штабе нашей армии.
В гостях у агентов Петлюры
5 февраля 1919 года Петлюра без боя покинул Киев. Все свои живые силы и технику он сосредоточил под Киевом на Коростеньском и Фастовском направлениях. Петлюра упорно сдерживал натиск наших частей. Он рассчитывал, что сумеет организовать вооруженное восстание в тылу Красной Армии и город снова будет в его руках.
Петлюровская контрразведка оставила в Киеве большое количество своих агентов, которые вели антисоветскую пропаганду среди населения. С этими шпионами Петлюра поддерживал связь, получая от них сведения о численности советских войск, о настроениях населения и т. п.
Март был уже на исходе, а положение на фронте оставалось прежним. Петлюра крепко держал занятые позиции, а наши части хотя и не подпускали его к Киеву, но опрокинуть и погнать не имели сил…
Однажды мне позвонил по телефону командир Богунского полка и сообщил, что красноармейцы задержали двух подозрительных людей.
— Говорят, перебежчики. Куда их, товарищ Фомин, направить?
Я предложил обыскать задержанных, а затем в сопровождении бойцов доставить в особый отдел.
Назавтра, рано утром, три красноармейца привели двух человек. Старший конвоир, совсем еще молоденький красноармеец, дельно и четко доложил, где и каким образом были задержаны эти люди. Перейдя линию фронта, они прямо пошли к нашим окопам. Когда их задержали, они заявили, что бежали от Петлюры.
— Один называет себя Василием Янцевичем, другой — Никанором Майбой. У Янцевича, — докладывал старший конвоир, — я обнаружил в куске хлеба маленький кусочек полотна, на котором что-то написано.
Я распорядился увести арестованных, дал записку в столовую, чтобы там накормили конвой и выдали хлеба на обратную дорогу. А старшего попросил зайти перед тем, как отправиться. Мне сразу понравился этот ладный, смышленый парень. Хотелось оставить его при особом отделе, тем более что работников у нас тогда было очень мало. Позднее договорился с командованием о его переводе к нам. Так у нас появился новый чекист — Митя Шультик. Это был исполнительный, смелый и верный боец, комсомолец. Несмотря на свои восемнадцать лет, он уже не раз побывал в сражениях.
Однако вернемся к перебежчикам.
Никанор Майба, плохо говоривший по-русски, назвал себя военнопленным галичанином. По всей вероятности, это так и было. А с Василием Янцевичем наш разговор начался с того, что он заявил о своем желании быть полезным Красной Армии. Он потерял веру в осуществление авантюрных замыслов Петлюры, да и вся политика белых теперь кажется ему преступной, враждебной народу. Народ с большевиками — в этом он убедился сам.
— Я не Янцевич, моя настоящая фамилия — Андриенко. Антон Николаевич Андриенко, уроженец Минской губернии, Бобруйского уезда. Я хочу честно признаться во всем. Никакой я не перебежчик, а послан петлюровской контрразведкой со специальным заданием. Кусочек полотна, который я запрятал в хлеб и который у меня обнаружили при обыске, должен был служить паролем для агентов Петлюры в Киеве. Мне дали адреса нескольких конспиративных квартир, куда время от времени являются находящиеся в Киеве и в окрестностях петлюровские агенты, приносят сведения, которые немедленно передаются в штаб Петлюры, получают новые задания.
По его словам, сам он был одним из тех, кого уполномочили установить связь со всеми контрреволюционными организациями, существовавшими на Украине и поддерживавшими Петлюру. Через них ему было поручено развернуть широкую антисоветскую агитацию, используя для этой цели главным образом зажиточных крестьян, чтобы подготовить восстание против Советской власти.
— Через меня вы можете получать сведения из главного штаба петлюровской контрразведки, — сказал в заключение Андриенко и снова заявил о своем желании служить советской разведке. — А свою преданность я готов доказать хоть сейчас: помогу раскрыть известные мне шпионские организации в Киеве.
— Сколько времени вы работали у Петлюры в контрразведке и на какой должности? — поинтересовался я.
— Был хорунжим, а работать в контрразведке начал два месяца назад.
— Ну так вот, Антон Николаевич. Я внимательно выслушал вас, теперь прошу выслушать меня. Мне и хочется верить в ваши добрые намерения, но у меня есть серьезные основания и сомневаться в них. Если вы действительно хотите, не на словах, а на деле, помочь Советской власти, мы предоставляем вам такую возможность. Прикрепим к вам своего сотрудника — опытного чекиста, разведчика Суярко. Вы с ним будете постоянно вместе. Дадим ему указание никуда от вас не отлучаться и поручим вместе с вами посетить конспиративные квартиры петлюровских агентов. При встрече с ними вы его представите как своего помощника, прибывшего вместе с вами. Все, что будете говорить вы и что будут рассказывать вам о работе шпионской организации, Суярко будет записывать, и каждый день вы оба должны будете по вечерам подробно докладывать мне о происшедшем. Жить вы оба будете в гостинице. Предупреждаю: скрыться не пытайтесь, Вряд ли это вам удастся. Суярко получит на этот счет специальные указания. А теперь идите в комнату, отведенную вам, пообедайте, отдохните. Вечером придет к вам Суярко, и вы переедете в гостиницу.
Когда Андриенко ушел, я вызвал к себе сотрудника Суярко, передал ему все, что узнал об Андриенко.
— Будете вместе с ним жить в одной комнате в гостинице, никуда его одного не отпускайте. Во время свиданий с участниками шпионских организаций старайтесь записывать самое главное: фамилии, имена, адреса и обязательно краткое содержание разговоров. И, главное, помните, где бы вы ни находились, всегда соблюдайте строжайшую конспирацию.
Суярко, внимательно выслушав меня, заверил, что задание он выполнит.
И вот они живут вместе — чекист и перебежчик.
Андриенко предложил для начала отправиться на квартиру некоей Ксении Сперанской. Идти пришлось долго.
— Скоро ли? — спрашивал Суярко. — Может быть, и адреса такого нет?
— Должен быть. Адрес у меня указан точно, — ответил Андриенко и прибавил шаг.
Когда начались окраины Киева, Суярко опять встревожился:
— Улицу-то вы хорошо запомнили?
— Арсенальная улица.
Суярко знал Киев не очень хорошо, и названный адрес ничего ему не говорил. Он шел, немного отстав, и сжимал браунинг в кармане на случай, если Андриенко решит бежать.
— Вы сами бывали здесь?
— Нет, в первый раз, — ответил Андриенко.
На улице пустынно. Но вот показались две женщины. Андриенко спросил их, где Арсенальная улица. Оказалось, они взяли много левее. Еще прошли около получаса, пока наконец не подошли к небольшому двухэтажному особняку, стоявшему за глухим забором в густом саду.
— А ведь тут легко наскочить на засаду, — подумал Суярко.
Он остановил Андриенко:
— Послушайте. Если вы замыслили побег, я буду стрелять. На засаду тоже не надейтесь, она вас не спасет.
— Вы мне не верите. Что ж, это и понятно. На вашем месте я тоже сомневался бы в намерениях человека, служившего во вражеской контрразведке. Но вам предоставляется возможность убедиться в моих истинных намерениях. Войдемте в дом.
Дверь открыла невысокая женщина, лет тридцати пяти.
— Что вам угодно? — спросила она.
— Ксению Сперанскую.
— Я Сперанская.
Андриенко протянул ей кусочек полотна.
— Пароль?! — спросила она.
Андриенко шепнул ей: «Коростень».
Женщина тщательно заперла дверь и ввела пришедших в большую, богато обставленную комнату. Суярко быстро окинул ее взглядом — комната угловая, три окна. Бросилось в глаза обилие ковров на стенах, на полу.
— Садитесь, — хозяйка указала на удобные кожаные кресла. — Вы с дороги? Хотите отдохнуть и поесть? — осведомилась она.
— Нет, спасибо. Мы еще вчера прибыли в Киев, — отвечает Андриенко, располагаясь в кресле.
Суярко сел сбоку, на диване.
— Это мой сопровождающий, — представил его Андриенко, — и, так сказать, телохранитель. Ему можно вполне и во всем доверять. Ко всем резидентам я хожу только с ним.
Затем Андриенко сказал, что он уполномочен штабом главной разведки собрать сведения о деятельности антисоветских подпольных организаций в Киеве. Для этой цели ему нужно свидеться с руководителями и некоторыми официальными лицами, чтобы лично передать распоряжение Петлюры, который ждет удобного случая вновь овладеть Киевом. Но для этого ему нужна поддержка в самом городе.
— Крайне необходимо узнать, какие силы большевики сосредоточили в городе. Сведения должны быть точными. Мне говорили, что такими сведениями располагаете вы, уважаемая Ксения Викторовна.
Сперанская, кивнув головой, вышла из комнаты. Через несколько минут она вошла с небольшими листками в руке и, глядя в них, начала подробно говорить о расположенных в Киеве войсковых частях Красной Армии, о настроениях населения.
Суярко все записывал в свою записную книжицу.
Когда Сперанская закончила, Андриенко поинтересовался: откуда сведения, можно ли им доверять? Сперанская заверила, что источники ее информации вне подозрений. Она назвала несколько имен, в частности Бийского и Павловского, которые, кстати, тоже были в списке лиц, с которыми предстояла встреча. Адреса их уже были у Андриенко.
На другой день Андриенко и Суярко встретились с доктором Бийским. Из разговора с ним выяснилось, что Бийский поддерживает личную связь с Петлюрой и должен от него получить большую сумму денег для работы среди населения Черниговской губернии. В его задачи входила организация диверсий на железной дороге и телеграфе.
— Скажите, — поинтересовался Андриенко, — кто обеспечивает вас деньгами? Дело в том, что мне нужно будет встретиться с этим человеком. Если финансовое положение у вас тяжелое, вам пришлют дополнительные средства для работы.
— Все денежные дела ведет у нас один бывший биржевой делец — Гольдштейн. Он же поддерживает печать: газету «Трибуна» и журнал «Гедзь», редакторы их — наши люди. Они составляют и печатают для нас антисоветские листовки, фальшивые документы.
— Мне нужно обязательно с ними увидеться, — сказал Андриенко.
В тот же день Андриенко и Суярко встретились с редакторами газеты «Трибуна» и сатирического журнала «Гедзь» и получили дополнительные ценные сведения. Затем они направились на квартиру Павловского. Он был делопроизводителем одного из наших военных учреждений и снабжал военными сведениями шпионские организации. В частности, это он информировал Ксению Сперанскую о численности киевского гарнизона.
На третий день Андриенко и Суярко имели встречу с бывшей заведующей информационным бюро Близнюк. Она была оставлена в Киеве петлюровской разведкой для нелегальной работы и собирала сведения военно-политического характера, которые передавала петлюровским агентам.
Близнюк приняла Андриенко и Суярко без каких-либо подозрений. Магическое действие оказывали кусочек полотна с шифром и пароль.
— Ну как? — спросил вечером третьего дня Андриенко у Суярко. — Может быть, на сегодня хватит?
— Мы еще не побывали у Гольдштейна, — возразил Суярко. — Зайдем к нему. Я думаю, что на этом можно будет и закончить наши визиты к резидентам Петлюры. Сведения мы собрали богатые. Надо спешить. Завтра же сделаем с вами общий доклад начальнику особого отдела армии.
Андриенко и Суярко направились к Гольдштейну, несмотря на то что был уже поздний вечер. Хозяин дома встретил их с тревогой: поздние гости смутили его. Но, услышав о Сперанской, Близнюк и Бийском, успокоился. Особенно ему польстили слова Андриенко:
— Вами, господин Гольдштейн, очень интересуется сам пан Петлюра. Он следит за вашей деятельностью и весьма доволен вами.
Пароль и кусочек полотна рассеяли подозрения осторожного старика, и он рассказал обо всем, что интересовало наших разведчиков, и даже предложил им «на обратную дорогу» солидную сумму. Но они, поблагодарив, отказались.
Через некоторое время я и Кушнарев заслушали отчет Андриенко и Суярко. Очень ценными оказались записи Суярко, который фиксировал все разговоры с петлюровскими резидентами.
Проверив полученные адреса, мы вскоре приступили к арестам членов петлюровской шпионской организации. Когда пришли к Сперанской, она, увидев чекистов, опрометью бросилась по коридору, скользнула в потайную дверь, но Митя Шультик схватил ее как раз в тот момент, когда она рвала какие-то бумаги. Чекисты собрали клочки и склеили их. Это были списки и адреса агентов петлюровской контрразведки. Здесь же оказалось письменное донесение Петлюре о численности советских войск в Киеве.
Арестованные участники петлюровской шпионской организации: Сперанская, Бийский, Павловский, Близнюк и другие — под тяжестью улик сознались в своей контрреволюционной деятельности. Во время следствия были установлены их связи с агентами других шпионских организаций, которые вели подрывную деятельность в Киевской и соседних губерниях.
О раскрытии и ликвидации широко разветвленной сети шпионско-повстанческих организаций 7 апреля 1919 года я доложил командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко и члену РВС Щаденко.
Петлюровские шпионские организации в Киеве были разгромлены, а вслед за этим был нанесен сокрушительный удар по петлюровским частям на фронте под Коростенем.
Петлюровцы понесли огромные потери в живой силе. Было захвачено много боевых припасов и продовольствия. Но самая большая победа заключалась в другом: под советские знамена удалось собрать десятки тысяч новых бойцов. Местное население, на себе испытавшее произвол белогвардейских и петлюровских насильников, большими группами записывалось в ряды Красной Армии.
Ночная схватка
В первой половине марта 1919 года в особый отдел ВЧК 1-й Украинской красной армии пришла молоденькая медицинская сестра Валя. Ей стало известно о существовании белогвардейской подпольной организации. Валя сообщила имена белых офицеров и медицинских сестер, завербованных контрреволюционерами, а также их адреса. Проверка, проведенная особым отделом, подтвердила все написанное Валей.
Я выписал ордера на арест семи человек: трех медсестер и четырех белых офицеров. При их аресте и обыске работники особого отдела ВЧК Васильев, Анатольев и Суярко обнаружили более пяти миллионов рублей украинскими карбованцами, золото и бриллианты. Во время следствия арестованные признались, для чего они были оставлены в Киеве и на какие цели предназначались изъятые у них ценности.
Правда, вначале они упорно утверждали, что деньги и ценности были оставлены для оказания помощи семьям белогвардейских офицеров, пострадавшим от большевиков. Но такое объяснение показалось малоубедительным.
Вскоре выяснилось, что эта контрреволюционная группа имела задание вести антисоветскую агитацию среди населения, осуществлять террористические акты.
Арест группы контрреволюционеров сорвал планы террористической организации и тяжело ударил по всему белому подполью, которое, однако, не сложило оружия, а стало вынашивать план мести.
Я тогда жил в гостинице «Франсуа». Как-то у меня в номере испортилась электропроводка, и, уходя на работу, я попросил швейцара поискать монтера. Вечером, когда я вернулся с работы, в дверь комнаты постучали. Вошел молодой человек, отрекомендовался монтером: пришел проверить освещение. Вскоре он ушел.
Через день, вечером, ко мне в номер зашли жившие в этой же гостинице А. Б. Кушнарев и комендант Васильев. За разговором просидели допоздна. В полночь товарищи ушли к себе, а я лег спать.
Часа в три ночи, услышав какой-то шорох, я проснулся. В мутной предрассветной дымке я увидел: из-за шкафа выскочил человек в гимнастерке. Все было как в страшном сне. Незнакомец пытался схватить меня за горло. В полумраке гостиничного номера мы боролись молча и жестоко. Привстав на постели, я отбросил бандита от себя, но, падая, он успел ткнуть меня ножом в грудь. Вскочив на ноги, он снова набросился на меня и снова пустил нож в дело. Однако, собрав силы, я так двинул бандита, что он отлетел к стене. Поняв, что я сильнее его, бандит метнулся к тумбочке, на которой лежала пустая кобура, а я выхватил из-под подушки свой револьвер и почти в упор выстрелил в него. Бандит рухнул на пол. Вся схватка продолжалась не более пяти минут.
С револьвером в руке я осмотрел комнаты. Шкаф, стоявший в углу, был отодвинут, а за ним валялись пальто и кепка. В кармане пальто я нашел самодельный ключ, с помощью которого бандит проник в мой номер.
Выстрел переполошил всю гостиницу. Мои товарищи по работе вызвали скорую помощь. Я был ранен в голову, грудь и руку. Перевязав меня, врачи уехали. Незнакомец, не приходя в сознание, умер. При свете я опознал его. Он оказался тем самым молодым человеком, который приходил ремонтировать электропроводку.
По документам, найденным у него в кармане, а также после опроса родственников удалось установить, что убитый был в прошлом белым офицером. После отступления белых он «переквалифицировался» в мастеровые, чтобы легче было выполнять задания шпионской организации. И одним из таких заданий было: проникнуть в мою комнату и без шума убрать меня, чтобы отомстить за арест семи контрреволюционеров.
На одной из фотографий, найденных в доме убитого, он был снят в офицерском мундире в кругу офицеров и сестер милосердия. Некоторые из этой компании находились уже под стражей. Фотография дала возможность напасть на след и других преступников, которые были вскоре арестованы.
Китайские бойцы-чекисты
На Украине с первых дней Советской власти было сформировано несколько интернациональных военных отрядов, которые вместе с частями Красной Армии бесстрашно сражались на фронтах за Советскую власть. Были и китайские отряды. Некоторые из них использовались в советской милиции. Один такой отряд я увидел в Киеве.
Как-то по одному делу мне нужно было повидать начальника киевской милиции Полякова. Караульную службу несла группа китайцев, одетых в милицейскую форму. Я поинтересовался у Полякова, какого он мнения о своих бойцах-китайцах. Отзыв получил самый высокий.
Меня заинтересовал этот отряд:
— Что скрывать, Поляков, нравятся мне твои ребята!
— Уж не хочешь ли переманить к себе?.. Знаю я тебя… И не думай! Мне самому нужны такие хлопцы. На них можно положиться во всем.
— Разреши поговорить с их командиром.
— Ну, подумать только, так и есть, — всплеснул руками начальник милиции. — Да захотят ли они сами-то перейти к тебе, ты их спроси.
— Думаешь, не пойдут?.. Так ты мне позови командира отряда, хочу с ним переговорить.
— Ну что с тобой поделаешь, — вздохнул Поляков. — А еще друг называется. Что приглянется — все к себе тянет.
Он вызвал командира китайского отряда.
Увидев его, я едва сдержал улыбку. Бравого вида молодой парень-китаец был одет уж очень живописно: френч-куртка из коричневого бархата, брюки галифе из сукна малинового цвета, фуражка такого же цвета, высокие кожаные сапоги, широкий пояс с двумя портупеями через плечо, сбоку наган, а к портупее еще свисток прикреплен.
— Давай знакомиться, — сказал я и представился.
— Ли Сю-лян меня зовут, а по-русски Миша, — отвечал с легким акцентом, но совершенно правильно молодой китаец и широко улыбнулся. — У нас многих зовут русскими именами; в моем отряде есть Коля, Вася, Ваня. Так что вы меня зовите Миша.
Доверительно и непринужденно он отвечал мне на вопросы и спрашивал сам, интересуясь службой в ВЧК. Мой друг Поляков не ошибся, сразу заподозрив в желании «переманить», как он выразился, в особый отдел весь отряд Ли Сю-ляна. Сам «Миша» произвел на меня исключительно хорошее впечатление. Несмотря на свои 28 лет (а выглядел он лет на 8 моложе), это был уже боевой командир, член партии.
— Как, Миша, ты на своих ребят можешь положиться?
— Конечно! Мои хлопцы за Советскую власть готовы сражаться до последней капли крови. Если нужно умереть — умрем за Советы! Ты слышал, как на фронте сражаются китайцы?
— Да, я знаю, молодцы ребята, ничего не скажешь. Отличные бойцы. Но твои-то ведь еще не все были в бою.
— Верно, некоторые не были, но не струсят. Ты пойди к нам в отряд, поговори с ними. Советы, Ленин — это для них все. Спроси, как они жили раньше. Никто за людей не считал бедных китайцев, на самую грязную, черную работу посылали… За себя, за свою свободу борется китаец вместе с русским братом.
В общем перешел отряд Ли Сю-ляна к нам, в особый отдел, и стали китайцы чекистами.
Как-то в начале апреля 1919 года у меня в кабинете раздался телефонный звонок, слышу тревожный голос:
— Говорит военный комендант Подола[78]. Товарищ Фомин, у нас появилась вооруженная банда.
— Какой численности?
— Трудно определить. Прошу помощи, и как можно скорее!
— Направляю к вам отряд особого назначения. Сам с сотрудниками также выеду к вам.
Что это за банда, думаю? Очень может быть, что это одна из банд атамана Зеленого. Как раз в конце марта 1919 года агентами Петлюры в ряде губерний Украины было организовано кулацко-повстанческое движение. Во главе его стояли бандиты. Один из них, Струк, орудовал в Киевской губернии: разбирал железнодорожные пути, останавливал поезда, грабил пассажиров, убивал советских работников. Его банда врывалась в селения, жгла, насиловала, бесчинствовала. Весьма возможно, что это и был тот самый Струк со своей бандой или частью ее. Сколько же их там, этих бандитов? Хватит ли у нас сил? Но выхода не было. Я собрал все, что мог, даже мобилизовал писаря и ординарца.
Выполняя приказание, отряд китайцев быстро построился и в полном боевом порядке был готов к выступлению. Командир отряда Ли Сю-лян докладывает мне:
— Товарищ капитан! (Всех начальников и командиров он называл капитанами.) Отряд китайцев готов к бою! Какие указания будут?
Я объяснил обстановку и приказал грузиться на автомашины.
— Патронов много взяли?
— Только в подсумках у красноармейцев, — отвечал Миша.
— Нет, этого мало, берите больше, прозапас.
На грузовиках мы прибыли на Подол. Мои предположения оправдались. Это была одна из групп банды Струка. Бандиты ворвались на винный завод, напились пьяными и начали грабить, насиловать, убивать. Жители Подола разбежались, попрятались.
Развернутым фронтом с винтовками наперевес китайцы-чекисты пошли в наступление.
А справа от нас уже шла ожесточенная схватка: это действовали матросы Днепровской флотилии во главе со своим командующим Полупановым.
Бандиты отступали, перебегая от одного дома к другому и завязывая перестрелку. Разделившись на небольшие группы, наши бойцы окружали засевших в подвалах или на чердаках струковцев. Миша появлялся то там, то здесь. Отдавал приказания, подбадривал товарищей и сам первым бросался в дома, где засели бандиты.
Наконец струковцев выбили из Подола и погнали на Куреневку. Но и там им не дали долго удержаться. Остатки банды разрозненными группами в беспорядке бежали в рощу «Пуща водица», которая прилегала к Куреневке. Они считали себя спасенными, думая, что бойцы не рискнут последовать за ними, тем более что стало темнеть. Но бандиты напрасно успокоились. Наши бойцы устремились в рощу и с боем продвигались вперед, часто переходя врукопашную. Многие бандиты были сражены штыками и пулями моряков и бойцов китайского отряда.
Настала ночь, а моряки и чекисты продолжали наступление, загоняя врага все дальше и дальше, не давая ему возможности сгруппироваться и перейти в наступление. Банда была ликвидирована.
Около суток продолжался этот бой. Бойцы-китайцы с честью выдержали испытание. Это было первым их боевым крещением.
Реввоенсовет 1-й Украинской армии объявил благодарность всем участникам этой боевой операции. Отряд китайцев и в дальнейшем принимал активное участие в борьбе с врагами революции.
Во время отступления с Украины, в конце августа 1919 года, отряд китайцев-чекистов был направлен в Москву, в войска Всероссийской чрезвычайной комиссии.
После оставления Украины Красной Армией меня тоже перевели на работу в Москву. Через несколько дней после приезда иду я на Лубянку, смотрю: около большого дома ходят с винтовками часовые-китайцы, охраняют здание ВЧК. Узнали меня и кричат: «Наш капитан, наш капитан! Здравствуйте, товарищ капитан!»
Я подошел, поздоровался и спросил:
— А где Миша?
— С нами, — ответили мне.
Через некоторое время появился Миша. Внешний вид его и одежда были уже совсем другими. Был он одет, как и все командиры-чекисты, в военную форму.
Встретились мы с ним как старые друзья. Миша рассказал мне, как им здесь живется, как служат. Бойцы, говорит, всем довольны.
— А не так давно видел я главного начальника ВЧК товарища Дзержинского. Однажды я проверял посты караула и вдруг вижу: к парадному подъезду подходит машина. Выходит оттуда начальник, увидел меня и спрашивает:
— Товарищ, а как вы сюда к нам попали?
Я рассказал ему, что со своим отрядом служил в особом отделе ВЧК в Киеве, а при отступлении с Украины мы были направлены сюда. Начальник мне сказал:
— Служите честно и помогайте нам бороться с контрреволюцией.
Я ответил:
— Рад стараться, товарищ начальник! Когда он ушел, я спросил у шофера:
— Кто это со мной разговаривал? Шофер удивился:
— А ты разве не знал? Это товарищ Дзержинский — председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии.
Борьба с контрреволюцией в Одессе
В середине апреля 1919 года я был переведен из 1-й Украинской армии в 3-ю Украинскую армию, в Одессу, на ту же должность начальника особого отдела ВЧК. Приехал я в Одессу с несколькими сотрудниками-чекистами. Первым делом представляюсь председателю губкома партии Яну Гамарнику, секретарю Одесского городского комитета партии Елене Соколовской. Затем иду к председателю Одесского губревкома Клименко, показываю ему свой мандат и прошу помочь получить помещение для особого отдела.
Клименко, выслушав мою просьбу, сказал:
— Берите, товарищ Фомин, мой автомобиль, поезжайте по городу. Как подберете что-либо подходящее, приезжайте, дам вам ордер, и размещайтесь, как сочтете нужным.
Поехал я со своими сотрудниками по Одессе. Направились по Приморскому бульвару — все, хорошие помещения уже заняты. Поехали по Екатерининской, Преображенской, Ришельевской улицам — ничего подходящего нет. Едем на Херсонскую улицу. Вижу двухэтажный серый дом, похожий на старинный замок. С левой стороны — немецкая кирка, с правой — двухэтажный большой дом, с улицы закрытый высокими, раскинувшимися деревьями.
Решили мы осмотреть этот особняк и соседний с ним дом. Входим во двор, внутри его — большая площадка, замкнутая по кругу двухэтажным зданием. Заходим в особняк. Нам открывает пожилая женщина, видимо прислуга. Спрашиваю: «Кто здесь проживает?»
Женщина молча приглашает в соседнюю комнату. Там сидит небольшого роста полный мужчина лет шестидесяти. Он повернул к нам свою седую голову, остриженную под ежик, и, как увидел рядом со мной матроса, побледнел.
Действительно, вид у сопровождавшего меня чекиста Васильева был устрашающий: поверх матросского бушлата — ремни, на одном из них — большая деревянная колодка с маузером. На бескозырке большими буквами выведено: «Гроза контрреволюции». Эта надпись сохранилась у Васильева еще с той поры, когда он командовал бронепоездом, который назывался «Гроза контрреволюции».
Но, посмотрев на другого моего спутника, стоявшего с правой стороны, толстенький господин несколько успокоился.
А. Б. Кушнарев, одетый в штатское платье, своим интеллигентным видом подействовал на него умиротворяюще. Тем временем в комнату вошло еще несколько человек, проживающих в этом доме.
— Вы хозяин этого дома? — спросил я. — Эти люди тоже живут здесь?
— Да. Это мой собственный дом, и все, кого вы видите здесь, проживают вместе со мной. Вот моя жена, артистка, — он указал на молодую особу, лет двадцати пяти, очень красивую. — А это мой повар и горничная.
Последней он представил уборщицу, бедно одетую женщину, которая открыла нам дверь.
— Вы всех представили, — сказал я, — но забыли представиться сами.
— Моя фамилия Крупенский.
— А вы, гражданин Крупенский, где-нибудь работаете?
— Пока не работаю, но взят на учет в Одесском губсовнархозе. Вот моя регистрационная карточка, — он вынимает бумажник и показывает документ. — Ожидаю назначения на работу.
— На какие же средства вы живете, позвольте вас спросить?
— Я до революции состоял на государственной службе в Петрограде и имею сбережения. На них я и живу с семьей.
Весь разговор происходил стоя: хозяин дома не предложил нам сесть. Так мы и стояли, переминаясь с ноги на ногу. Крупенский во время разговора стоял наклонив голову и сосредоточенно рассматривал паркет. А жена его бросала беспокойные взгляды на несгораемый шкаф, стоявший в углу кабинета. Она, видимо, очень боялась, как бы мы не заинтересовались этим шкафом, но своими настороженными взглядами сама же привлекла к нему наше внимание. Я предложил Крупенскому открыть несгораемый шкаф и показать, что там хранится. Нехотя он открывает дверцу и вынимает оттуда браунинг.
— А есть у вас разрешение коменданта города на хранение оружия?
— Нет.
— Тогда сдайте револьвер мне.
Крупенский протягивает браунинг и поднимает на меня глаза. Признаюсь, мне никогда не приходилось до этого видеть такой откровенно злобный взгляд.
— Жаль, что я не успел хотя бы одну большевистскую сволочь застрелить из него! — не утерпел Крупенский.
Я заявил Крупенскому, что он арестован.
Васильев отвел арестованного в другой угол кабинета и предложил сесть. Пригласив комиссара домкома (в то время были и такие комиссары), мы обыскали квартиру. В сейфе оказались валюта, ценности, документы.
— Валюта и драгоценности, — заявил Крупенский, — принадлежат моей жене — артистке Михайловой. Все это она заработала, снимаясь в кинематографе.
Как выяснилось из документов, Крупенский имел крупное имение в Бессарабии, состоял долгие годы в монархической организации «Союз русского народа».
Отправив его в следственную часть комендатуры города, я дал указание, чтобы его держали в отдельной камере под усиленной охраной.
На другой день губревком разрешил нам занять два дома (один из них — особняк Крупенского) под особый отдел ВЧК армии. А еще через несколько дней Крупенского из комендатуры перевели в здание особого отдела. Поместили его в подвале его же собственного дома. И тут же мне звонит комендант особого отдела Мельников.
— Товарищ начальник, пришла в комендатуру артистка Михайлова и просит передать вам букет цветов.
Понимая, чего добивается жена Крупенского, я довольно громко сказал коменданту:
— Гоните ее вместе с цветами из комендатуры, и чтобы она больше здесь не появлялась!
Мельников предложил ей покинуть комендатуру, но Михайлова не успокоилась. По вызову в качестве свидетельницы она получила пропуск в здание особого отдела и заприметила часового, охранявшего Крупенского. А когда чекист сменился с поста и вышел на улицу, Михайлова остановила его и снова атаковала своими просьбами.
— Я ничего не пожалею: ни денег, ни драгоценностей, — сказала она. — Устройте побег моему мужу.
Красноармеец, молодой парень из рабочих, сразу оборвал ее:
— Я чекист и честь свою не продаю!
Он вызвал караульного начальника. Тот задержал Михайлову и доложил мне о случившемся. Наведя справки об этой женщине, я решил не привлекать ее к ответственности и, строгопредупредив, дал распоряжение отпустить.
Следствие по делу Крупенского было закончено и передано в военный трибунал 3-й армии.
Прошло уже довольно много времени. Как-то иду я в выходной день вместе с Кушнаревым по Дерибасовской улице. Подходит к нам роскошно одетая дама.
— Здравствуйте, товарищ Фомин. Не узнаете? Я не сразу вспомнил, хотя лицо было знакомое.
— Я артистка Михайлова.
— Припоминаю. Что вам угодно? — сухо сказал я.
— Я к вам с жалобой.
— На кого же?
— На вас, товарищ Фомин, — кокетливо улыбаясь, сказала Михайлова.
— Не понимаю.
— Ну как же, товарищ Фомин. Не вы ли обидели беззащитную женщину?! И как не совестно!
— Вы что-то путаете. Я не помню такого случая.
— Не помните! Меня обидели… Я принесла букет цветов, хотела его вам преподнести. А вы, вместо того чтобы принять цветы и быть любезным с дамой, сказали своему коменданту: «Гоните ее из комендатуры, и чтобы она больше здесь не появлялась!» Я все слышала.
— Ах вот оно что. А помните, с каким предложением вы обратились к часовому? Напрасно вы думаете, что чекистов можно чем-либо подкупить. Я хотел было привлечь вас за это к ответственности, но навел справки и пожалел вас, узнав, что всю свою жизнь вы были в плену у этого паука Крупенского.
Летом 1919 года в Одессе квартировал штаб 3-й Украинской армии. Начальником его был мой хороший друг Сергей Кассер. Еще до революции он окончил академию генерального штаба и в первую мировую войну был капитаном. После Великой Октябрьской революции он сразу перешел на сторону народа и занимал ответственные посты в Красной Армии. Долгое время работал на Украине с Антоновым-Овсеенко, который его очень ценил.
В один из свободных дней Кассер пришел ко мне в особый отдел ВЧК. Я показал ему документы и литературу, изъятые во время обыска у арестованного монархиста Крупенского, и попросил его разобраться в них.
Вскоре Кассер сообщил мне, что, как явствует из документов Крупенского, в Одессе существует сильная монархическая организация «Союз русского народа». Председателем ее является профессор Яворский, секретарем — учитель гимназии Дусинский.
Я выписал ордера на арест, обыск и изъятие документов в квартирах Яворского и Дусинского.
Профессора Яворского Кушнарев доставил довольно быстро. Документов, относящихся к одесской монархической организации, при нем не оказалось. Правда, была монархическая литература.
Обыск, проведенный Кассером и чекистом Добрым у Дусинского, занял значительно больше времени — часов шесть. Вернулись они уже утром вместе с арестованным Дусинским. Кассер положил на стол два больших свертка с документами, изъятыми во время обыска на квартире секретаря организации. В них оказались списки членов «Союза русского народа», устав организации, чистые бланки членских билетов, краткая история деятельности одесского отделения «Союза русского народа» и другие документы.
На следствии Яворский и Дусинский сознались в том, что «Союз русского народа» имел связи с другими монархическими организациями Одессы. Своей целью он ставил объединение всех монархических сил для захвата власти в городе на случай высадки деникинского десанта с моря. Намечена была даже делегация для встречи с хлебом и солью командующего войсками Добровольческой армии. И конечно, уже заготовлены были списки для деникинской контрразведки. В них были занесены все коммунисты, их семьи и все, кто активно работал в Одессе при Советской власти.
После ликвидации этой монархической организации нам удалось выявить в Одессе еще две — «Союз двуглавого орла» и «Союз Михаила-архангела».
В мае 1919 года в особый отдел зашел пожилой человек и молча подал мне послужной список полковника белой армии по фамилии Сугодзь. Читаю я эту бумагу: ну, просто похвальная грамота! Сплошные благодарности, награды, повышения в чинах. Высоко ценила белая армия кровавые подвиги своего героя!
— Как попал вам в руки этот документ?
— Видите ли, я портной. Один красноармеец принес мне командирский френч — почистить и выутюжить. Я взял его, перед тем, как утюжить, осмотрел все карманы. И вот, пожалуйста, нахожу в боковом кармане этот список. Показал я его жене. Она и говорит: неси скорей в Чека, там быстро разберутся…
Я поблагодарил портного, а на прощание сказал:
— Если придут за френчем и будут спрашивать, куда делся из кармана послужной список, отвечайте, что никакого списка вы не видели.
Кто же такой Сугодзь? Как видно, он служит в Красной Армии. Может быть, занимает солидный командный пост? Нужно срочно навести справки. Человек, так высоко ценимый белым командованием, не мог честно служить народу.
Выяснилось, что Сугодзь является командиром советской Белорусской бригады. С послужным списком — единственным, но неопровержимым документом, обличающим его, отправился я в реввоенсовет армии. Командующий армией Худяков дал согласие на немедленный арест своего комбрига. Но когда сотрудники особого отдела приехали в бригаду, Сугодзь проводил занятия в одной из частей. Здесь же, на плацу, ему предъявили ордер на арест. Сугодзь вскипел:
— Не имеете права! Это клевета, это насилие! Я не позволю! Я комбриг Красной Армии!
И, обращаясь к бойцам и командирам, закричал:
— Братцы! Выручайте!
— Не отдадим командира! — начали волноваться красноармейцы.
Обо всем этом по телефону доложили мне. Захватив с собой послужной список белого полковника, я поехал в бригаду. По моей просьбе комиссар бригады выстроил полки. Перед всем строем я зачитал документ, свидетельствующий о прохождении Сугодзем службы в белой армии и о наградах, которыми отметило его белогвардейское командование. Это произвело на солдат сильное впечатление, и аресту его они уже не препятствовали.
На следствии Сугодзь откровенно признался, что ненавидит Советскую власть и что поклялся бороться с нею. Он подробно рассказал, как яростно сражался против красных, сколько и за что получил наград и как дослужился до полковника…
Дело Сугодзя было передано в военный трибунал армии.
«Король» одесских грабителей
После освобождения Красной Армией Одессы положение в городе было крайне тяжелым. Интервенты и петлюровцы оставили после себя печальное наследие. В городе хозяйничали бандиты. Они терроризировали весь город. Фронт был крайне обеспокоен положением Одессы. Этот вопрос рассматривался на специальном совместном заседании РВС армии и губ-кома партии. Решено было борьбу с бандитизмом и грабежами передать в руки Одесской губчека и особого отдела ВЧК армии.
На этом заседании не раз упоминалось имя Мишки Япончика — главаря одесского жулья.
Огромный, когда-то богатый, шумный и многолюдный город жил затаясь, тревожно, в постоянном страхе. Не только вечером или тем более ночью, но и днем население боялось выходить на улицы. Жизни каждого здесь постоянно угрожала опасность. Распоясавшиеся молодчики средь бела дня останавливали на улицах мужчин и женщин, срывали драгоценности, обшаривали карманы. Бандитские налеты на квартиры, рестораны, театры стали обычным делом.
Интервенты и городские власти не только не боролись, но прямо способствовали дикому произволу бандитов. Они сами подавали «пример». Массовые расстрелы мирного населения, погромы, грабежи — все это было в порядке вещей. Жителям города самим приходилось заботиться о сохранении своей жизни. Каждый защищался как умел. Возникали группы самообороны: мужчины одного или нескольких соседних домов объединялись и поочередно несли охрану вечером и ночью. Конечно, у них имелось и оружие — в Одессе в то время нетрудно было достать оружие. Такие группы самообороны от налетчиков продолжали существовать и после прихода Красной Армии.
В день своего приезда мы с командиром отряда ВЧК Васильевым, возвращаясь от председателя губкома Я. Б. Гамарника, увидели, как по улице беззаботно прогуливались люди, одетые по-кавказски. Здоровые, крупные, они казались еще выше в своих меховых шапках. Пересмеиваясь, они прошли мимо нас и неожиданно свернули в переулок. Мне они почему-то показались подозрительными, и я хотел было разузнать, кто они, но тут из соседней улицы вышла еще одна группа людей, одетых точно так же. Эти тащили мешки, корзины, чемоданы, узлы.
— Стойте! — приказал я. — Кто вы такие? Откуда у вас эти вещи?
Но они и не подумали остановиться, лишь небрежно покосились в мою сторону, А один из них, толстый и красный, повернувшись к нам с Васильевым, сверкнул белками и зловеще пригрозил: «Идите, пока целы!»
Я отлично понимал, что остановить этих людей нам двоим не удастся. Поэтому я шепнул Васильеву, чтобы он проследил, куда они пойдут, а сам поспешил к себе, на Херсонскую, 60, где расположился особый отдел ВЧК 3-й Украинской армии. Вскоре вернулся и Васильев. Он рассказал, что эти люди остановились в двух гостиницах; одна из них на Преображенской улице, другая — недалеко от нас, на Херсонской.
Первым моим шагом была встреча с комендантом города Домбровским.
— Это бандиты Мишки Япончика, — уверенно сказал Домбровский. — Они не только по-кавказски, они вам по-турецки оденутся. Кстати, у меня ведь отряд состоит из одних кавказцев. Так, наверное, эти бандиты под моих молодцов и вырядились…
Домбровский произвел на меня странное впечатление. Молодой, щеголеватый, подтянутый, с бравыми ухватками, он как-то уж очень беззаботно, я бы сказал, даже весело, без тени тревоги, стал говорить о положении в городе: да, бандиты Мишки Япончика терроризировали весь город, но он, комендант, со своим отрядом кавказцев делает все, что в его силах.
При белых у Мишки Япончика было около 10 тысяч человек. Он имел личную охрану. Появлялся, где и когда вздумается. Везде его боялись и потому оказывали почести прямо-таки королевские. Его и называли «королем» одесских воров и грабителей. Он занимал лучшие рестораны для своих кутежей, щедро расплачивался, жил на широкую ногу…
Бандиты Мишки Япончика совершали групповые и одиночные грабежи и налеты. Главарю этой шайки надавали множество всевозможных кличек: Мишка Япончик, Мишка Лимончик, Беня Крик и т. д. Его фотографии были вывешены во всех полицейских участках, в витринах магазинов, ресторанов, в казино и гостиницах.
Начальник гарнизона белой армии полковник Бискупский выделил специальные отряды с бронемашинами для охраны банков. Мишке Япончику с его шайкой не раз приходилось вступать в перестрелки, завязывались настоящие сражения.
Признаюсь, Домбровский меня удивил: он словно бы восхищался главарем бандитов.
— Это все было при белых, — говорю я ему. — А каково сейчас положение в городе? Как ведут себя налетчики Мишки Япончика?
— Сейчас в городе сравнительно тихо. Но отдельные случаи грабительских налетов все же имеют место.
— А какие вы принимаете меры против этого?
— Да что я могу поделать! Хоть и храбрый народ эти мои кавказцы, но ведь их не так много.
— Так дальше продолжаться не может, — прервал я его, — я получил специальное задание от РВС армии и губкома партии: ликвидировать банды, навести порядок в городе, обеспечить нормальную жизнь населению. Силы у нас невелики, но нам поможет население. И вы сами с вашим отрядом не должны сидеть сложа руки. Сегодня же вечером начнем действовать.
Теперь в отношении вашего отряда, Виталий Маркович. Хорошо ли вы знаете своих людей? Не могли ли в ваш отряд проникнуть налетчики из шайки Мишки Япончика?
Домбровский надменно вздернул голову и сказал обиженно:
— Не думаю.
— Надо тщательно проверить. Не исключена возможность, что налетчики вместе с вашими людьми ходят по квартирам и грабят население.
— Этого быть не может, — категорически заявил комендант города. — Если же такие случаи обнаружатся, я не буду давать пощады.
Для наведения порядка в городе я предложил организовать ночное патрулирование, конное и пешее. В тот же вечер группа чекистов совместно с милицией вышла на дежурство. Еще не успело как следует стемнеть, когда они услышали крики и стрельбу. Налетчики вышли на промысел. Крики доносились из углового дома. Чекисты, быстро оцепили его. Возле парадного лежали двое убитых: пожилой мужчина и рядом подросток — видимо, отец с сыном. Душераздирающие женские вопли взывали о помощи. Во втором этаже из окна в окно метались тени. Свет то погасал, то вспыхивал.
Пятеро чекистов кинулись в дом. Схватка была недолгой. Двое наших чекистов были ранены, но несерьезно. Через несколько минут из дома вывели обезоруженных бандитов. Их было восемь человек; они шли, пошатываясь, и, по-видимому, плохо понимали, что произошло, — настолько были пьяны, да и появление чекистов было для них, привыкших безнаказанно разбойничать, неожиданностью.
Борьба с бандитами с этого дня началась беспощадная. За неделю, не давая грабителям опомниться, мы очистили всю центральную часть города. Бандиты попрятались в катакомбы и затаились на окраине города.
Как-то сижу я в своем кабинете — раздается звонок. Докладывает комендант Мельников:
— Товарищ Фомин, в комендатуре особого отдела сейчас находится Мишка Япончик.
— Сам пришел?
— Да, сам. Пришел не один, со своим адъютантом. Просит разрешить ему повидаться для переговоров с вами.
— Выдайте пропуск. Но предварительно произведите у них личный обыск и, если будет обнаружено оружие, отберите.
Через несколько минут у меня в кабинете в сопровождении чекиста Доброго появляются два человека. Оба среднего роста, одеты одинаково, в хороших костюмах. Впереди скуластый, с узким, японским, разрезом глаз молодой мужчина. На вид ему лет 26–28.
— Я небезызвестный вам Мишка Япончик. Надеюсь, слышали о таком? — не без бахвальства начал он. — А это мой адъютант.
— Что ж! Садитесь, — я указал на мягкие кресла, стоявшие у моего стола.
— Вас, конечно, интересует цель моего прихода. Я буду говорить без стеснения, надеюсь, опасаться мне тут у вас нечего. Я пришел к вам добровольно, и вы должны гарантировать мне свободу.
Я ответил, что арестовывать его мы не собираемся, да, признаться, сам он нас интересует в гораздо меньшей степени, чем его шайка, бесчинствовавшая в городе. Заметно было, что эго задело несколько его самолюбие, но он ничего не ответил, только насупился.
— Вы видите, я с вами откровенен, — продолжал я. — И хочу, чтобы вы тоже с полной чистосердечностью рассказали мне не только о цели вашего посещения — а, видимо, вы сюда явились неспроста, — но и о себе, о своих художествах. Говорите не стесняясь и не бойтесь… Расскажите, что думаете делать теперь.
Мишка Япончик начал говорить о себе и своих приятелях, о том, как они орудовали. Рассказывал он о своих одесских похождениях довольно живописно. Грабили они, по его словам, только буржуазию, бежавшую в Одессу со всех концов Советской России. Кое-что «прихватывали» и у местных, одесских буржуев. Совершали налеты на банки, игорные дома, клубы, рестораны и другие заведения, где можно было поживиться.
— С приходом Советской власти это все должно прекратиться, — заверил он, — Я отдал приказ своим ребятам в городе никого не трогать.
— Учтите, — сказал я, — если бандитские налеты и грабежи возобновятся, если кто из вашей шайки будет продолжать заниматься тем же и при Советской власти, то мы примем самые строгие меры. Объявите всем, что губчека и особый отдел ВЧК армии будут расправляться с бандитами беспощадно. Будем расстреливать прямо на месте преступления и без всякого суда, так как Одесса находится на военном положении. Чтобы обеспечить революционный порядок в городе, мы с бандитами церемониться не будем.
— Заверяю вас своим честным словом, — сказал Мишка Япончик, — теперь не будет грабежей и налетов! А если кто попытается это делать — расстреливайте этих людей. Со старым мы решили покончить. Многие из моих ребят уже служат в Красной Армии, некоторые поступили на работу… Но я пришел не каяться. У меня есть предложение. Я хотел бы, чтобы мои ребята под моим командованием вступили в ряды Красной Армии. Мы хотим честно бороться за Советскую власть. Не могли бы вы дать мне мандат на формирование отряда Красной Армии? Люди у меня есть, оружие тоже, в деньгах я не нуждаюсь. Мне нужно только разрешение и помещение. Как получу и то и другое, сразу могу приступить к формированию отряда…
— Дать вам мандат никак не могу, не уполномочен. Могу только доложить о вашей просьбе реввоенсовету 3-й армии.
Тут же я позвонил командующему армии Худякову, вкратце изложил ему суть дела. Худяков попросил меня вместе с Мишкой Япончиком приехать к нему. Приехали мы в реввоенсовет. Я представил Мишку Япончика и его адъютанта командующему армией. Тот по телефону связался с членами РВС, и вскоре к нему в кабинет пришли Ян Гамарник, Николай Голубенко и Датько-Фельдман. В ходе беседы с Мишкой Япончиком кто-то из, членов реввоенсовета поинтересовался, что за люди у него, из каких социальных слоев. Он весьма обстоятельно разъяснил, что отряд состоит в основном из люмпенпролетариев, большинство осталось в детстве без отцов и матерей, стали беспризорниками.
— Я научил их воровать, грабить, и я же берусь научить их честно бороться и защищать Советскую власть!
Сказано это было очень горячо и даже, может быть, искренне. Во всяком случае, хотелось верить, что это настоящий порыв к новой жизни. Вот, думалось нам, попытка людей, искалеченных старым строем, тем строем, против которого мы сражались не на жизнь, а на смерть, попытка людей, брошенных на самое дно, подняться и смыть с себя, может быть и кровью своей, всю грязь и весь позор преступного прошлого.
Это уж позднее, когда Дзержинский начал создавать трудовые коммуны, стало ясно, что для перевоспитания преступников, а тем более таких закоренелых, как «воспитанники» Мишки Япончика, нужна кроме доверия к ним еще и длительная школа трудового воспитания. Только великий воспитатель — труд мог помочь им подавить в себе самую страшную силу — силу привычки. Но в то горячее время, о котором я рассказываю, когда враг брал нас за горло, сама обстановка была для глубоких размышлений на педагогические темы не очень благоприятной.
И все же члены РВС армии долго обдумывали это необычное предложение. Пришли к заключению: разрешить Винницкому — такова была настоящая фамилия Мишки Япончика — сформировать отряд, а политотделу армии прикрепить к отряду командиров и" членов партии для идейно-воспитательной работы.
Получив разрешение, Мишка Япончик сразу приступил к формированию отряда. Через несколько дней он уже насчитывал около двух тысяч человек. Отряд начал было заниматься учебой — военной и политической. Однако многие не являлись на занятия. Да и сам Мишка Япончик больше всего любил маршировать во главе своего отряда по улицам Одессы, явно желая обратить на себя внимание населения.
В дальнейшем Мишка Япончик всячески старался показать, что его отряд уже похож на регулярную часть Красной Армии. Но вот в июле 1919 года положение на фронте осложнилось. Восстали немцы-колонисты в районах Татарка, Люстдорф. В районе Вознесенск — Вапнярка — Винница стали проявлять активность петлюровские части. Мишке Япончику предложили отправиться со своим отрядом в район Вапнярка — Винница, против Петлюры.
Перед отъездом он попросил разрешение устроить прощальный «семейный» вечер для своего отряда. Ему разрешили. Для этого он избрал помещение консерватории. Некоторые наши командиры заинтересовались этим банкетом и пошли посмотреть. Среди гостей было много женщин, из тех, которые раньше помогали своим дружкам: прятали и сбывали краденые вещи и ценности. Разодеты они были в шелковые платья ярких цветов. На многих сверкали драгоценности.
На сцене и в зале стояли длинные столы. Все было сделано на широкую ногу, с шиком, с явным желанием поразить, блеснуть. Обилие вина, закусок, фруктов. Мишка Япончик восседал в середине, на самом почетном месте.
«Семейный» вечер длился до утра.
Получив распоряжение погрузиться и отправиться на фронт против Петлюры, Мишка Япончик не очень спешил выполнить приказание. А когда наконец его отряд прибыл на станцию и объявили посадку, то со всех сторон раздались крики, что в Одессе остается много контрреволюционеров и если они выедут из Одессы, то контрреволюция возьмет город в свои руки. Три раза собирался отряд грузиться в эшелон, и три раза люди разбегались. Наконец Мишка Япончик все же погрузил в эшелон около тысячи человек и привез их в район Вапнярки. Этому, говорят, благоприятствовал слух о том, что генерал Деникин собирается высадить в Одессе десант. Мишка Япончик и его люди сообразили, что им не поздоровится за сотрудничество с красными. Всех тревожило поведение Мишки Япончика и его отряда. Решено было поручить органам ВЧК установить за отрядом особое наблюдение.
По дороге дезертирство не прекращалось. На фронт прибыло не более 700 человек. Здесь отряд был переименован в полк. Командиром его оставили Винницкого. Военкомом полка назначили товарища Фельдмана.
Полк получил, первое боевое задание: сдержать натиск петлюровских частей. Но, как только появился противник, полк разбежался. Фронт был открыт. Этим не замедлили воспользоваться петлюровцы.
Вместе со всеми бежал и Мишка Япончик. Захватив паровоз с классным вагоном, он направился в Вознесенск. Но там его уже ожидали чекисты и начальник боевого участка уездвоенком Н. И. Урсулов. Последний по распоряжению чекистов расстрелял Мишку Япончика.
Предательство Мишки Япончика обошлось нам дорого: петлюровцы сумели проникнуть в глубь наших позиций. Командование вынуждено было срочно перебросить на этот участок полк, не успевший еще оправиться после кровопролитнейшего сражения, длившегося беспрерывно почти двое суток.
Разоблаченный враг
В Одессу Домбровский был назначен не сразу. До этого он был военным комендантом Екатеринослава, а еще раньше работал начальником охраны штаба фронта. Именно в этой должности он и сумел зарекомендовать себя как инициативный, находчивый работник. Командующий фронтом и другие руководящие работники доверяли ему.
Во время гражданской войны в прифронтовых районах военные коменданты городов были наделены исключительными правами. В своих руках они сосредоточивали и законодательную, и исполнительную власть.
Как я уже писал, наличие в Одессе преступных элементов вызывало сильное беспокойство губкома партии и реввоенсовета 3-й Украинской армии. Было созвано специальное совещание для того, чтобы наметить мероприятия по наведению порядка в городе. Совещание проводил председатель губкома партии Ян Борисович Гамарник. На нем присутствовали секретарь горкома Елена Соколовская, председатель губчека Реденс, комендант города Домбровский, начальник милиции Шахфаростов и я. Выступал Я. Б. Гамарник. Он говорил о бездеятельности коменданта города.
— У нас нет основания обвинять вас, товарищ Домбровский, в попустительстве, — сказал он, — но ваша самоуспокоенность, я бы сказал, какое-то благодушие всех нас очень тревожат. Ваш заместитель Матяж сообщал нам, что дисциплина в вашем отряде расшатана. Как же вы намерены навести порядок в городе, если ваши люди ведут себя недостойным образом? Кстати, нам стало известно, что вы, по существу, отстранили от участия в работе своего заместителя, человека, которого мы все знаем и ценим.
Домбровский вскочил, лицо его раскраснелось. Положение в Одессе, заявил он, совсем не такое, как это представляют себе «некоторые», слухи о налетах бандитских шаек и беспорядках в городе распространяются в провокационных целях.
— Нет, это не слухи, — вмешался Реденс — Мы располагаем самыми точными сведениями. И источники не вызывают ни малейшего сомнения. Несколько часов тому назад я разговаривал с командиром отряда особого назначения Одесской губчека. Если вам самим не под силу навести порядок в городе, я могу дать в помощь этот отряд.
— Как бы то ни было, — сказал в заключение Ян Борисович Гамарник, — совместными усилиями мы должны в ближайшую неделю навести в городе порядок. Ответственность за это возложить на Фомина и Реденса. Грабители, воры, хулиганы для нас такие же враги, как и деникинские лазутчики.
После совещания я направился к себе, в особый отдел. За чтением разного рода следственных материалов я не заметил, как наступил вечер. Только я собрался было домой, как меня остановил в дверях мой заместитель Кушнарев, заметно взволнованный.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— Полчаса назад убит товарищ Матяж. Эта весть меня ошеломила.
— Каким образом это произошло? — спросил я.
— Подробности скоро узнаем, на место происшествия уже посланы наши люди. Там же находятся и работники губчека.
Зазвонил телефон. Я сразу узнал голос Домбровского.
— Товарищ Фомин, вы слышали?! Убит Матяж! Это ужасно!
— Убийцы схвачены? — спросил я.
— Нет, их упустили. Свидетели утверждают, что одеты они были по-кавказски. Это вздор!
— Как так вздор?
— Я не знаю, как там все происходило. Но тень падает на мой отряд, который никакого отношения не имеет к этому происшествию, — горячо говорил Домбровский.
По предложению Я. Б. Гамарника и командующего 3-й армией Худякова реввоенсовет назначает заместителем Домбровского товарища Мизикевича. Это был стойкий большевик-ленинец, бывший рабочий-железнодорожник, получивший хорошую партийную закалку. Его высоко ценили как опытного военного командира.
Но кто же в конце концов Домбровский? И без того репутация у него была сомнительная, а после убийства Матяжа подозрения усилились. Кто же он? Враг, вкравшийся в доверие руководителей фронта, или просто доверчивый и легкомысленный человек, не справляющийся со своими трудными обязанностями и дающий себя обманывать?
Вскоре все прояснилось. В мае 1919 года атаман Григорьев, изменивший Советской власти, занял Елизаветград. Нам стало известно о телефонном разговоре Григорьева с Домбровский: атаман просил оказать ему помощь.
Мне было предложено немедленно выехать со своими работниками и отрядом особого назначения в Елизаветград для ликвидации банд Григорьева и восстановления Советской власти в городе.
Уезжая, я дал указание Кушнареву, чтобы он доложил Гамарнику и Худякову об измене Домбровского. Было срочно созвано заседание реввоенсовета армии. На этом заседании решено было немедленно арестовать Домбровского.
— Может быть, вызвать Домбровского прямо сюда? — предложил Кушнарев.
Худяков взял трубку:
— Виталий Маркович, срочно приезжайте ко мне. (Совещание проходило в кабинете командующего армией.)
Через четверть часа Домбровский явился в кабинет Худякова. Увидев у командующего весь состав реввоенсовета, Домбровский изменился в лице, но пытался овладеть собою:
— Явился по вашему вызову, — обратился он к Худякову.
— Именем революции по решению реввоенсовета 3-й армии вы арестованы! — сказал, поднявшись с места Кушнарев. — Предлагаю вам сдать оружие.
— Я ничего не понимаю, — начал было Домбровский, и принялся непослушными пальцами отстегивать кобуру…
Этой же ночью сотрудники и бойцы особого отдела разоружили отряд Домбровского. В номерах гостиницы, которые занимали эти грабители, были обнаружены каракулевые и котиковые манто, золотые часы, обручальные кольца, бриллиантовые колье, брошки и т. д.
Так бесславно закончил свою деятельность комендант Одессы.
Однако впоследствии судьба еще раз столкнула меня с Домбровским.
Арестованный, он был направлен в Киев. Здесь он притворился больным и попал в тюремную больницу. А вскоре в город ворвались белые, и тогда Домбровский сразу «выздоровел». Как выяснилось впоследствии, он явился в Киевскую государственную стражу (так по-новому величала себя полиция) и отрекомендовался поручиком царской армии, предъявив документ, который тщательно хранил еще с царских времен…
Через некоторое время бойцы-чекисты, патрулировавшие на Военно-грузинской дороге, остановили легковую машину и стали проверять у пассажиров документы. Один из них предъявил документ на имя Волкова. Однако поведение этого человека, одетого в штатское, настораживало. Держался он вызывающе. Бойцы-чекисты решили его обыскать, предполагая, что у него есть оружие. Волков, хотя и протестовал, вынужден был подчиниться. При обыске один из чекистов нащупал что-то в подкладке пиджака. Подкладку распороли и из потайного кармана извлекли бумагу на имя Виталия Марковича Домбровского.
Задержанный был арестован.
Волков-Домбровский давал такие путаные показания, что разобраться на месте было невозможно. Телеграфировали в Москву. Оттуда последовало распоряжение направить арестованного в ВЧК.
В сопровождении двух конвоиров он был направлен в Москву, но в Харькове ему удалось бежать. Перейдя линию фронта, он очутился в Севастополе, у Врангеля. Здесь Домбровского, как бывшего царского офицера, определяют в военно-полевой суд для особых поручений, но вскоре его арестовывает… врангелевская контрразведка. Дело в том, что в Севастополе находилось немало бежавших от Советской власти крупных буржуазных дельцов, некоторые из них были из Екатеринослава и Одессы. Они знали Домбровского в качестве коменданта этих городов «при большевиках». Появились письма и заявления на офицера Волкова, «который под именем Домбровского служил коммунистам, занимая при этом руководящие военные должности».
Домбровского заключили в севастопольскую тюрьму. Врангелевская контрразведка начинает следствие.
В начале ноября 1920 года Красная Армия перешла к активным действиям на Перекопском перешейке. 15 ноября легендарная конница под командованием Буденного врывается в Севастополь. Город в наших руках. И, конечно, первое, что было предпринято буденновцами, — это освобождение политзаключенных, томящихся во врангелевских застенках. Вместе с ними освобождают и Волкова-Домбровского. Мало того, его назначают… председателем комиссии по освобождению политических заключенных из тюрьмы. Опытный шпион, ловкий и хитрый, он и здесь остается верен себе: под видом политических он освобождает много уголовных преступников, получая с их родственников крупные вознаграждения.
Спустя некоторое время Волкова-Домбровского назначают военным комендантом Севастополя.
Проходит несколько недель. Начальнику особого отдела ВЧК 46-й дивизии поступает заявление о том, что комендант Севастополя вовсе не Волков, а Домбровский, в прошлом военный комендант Одессы и Екатеринослава, а в Севастополе при белых служивший под фамилией Волкова в военно-полевом суде.
Волкова арестовывают и начинается новое следствие. Но опытный преступник ловко опровергает улики ложными показаниями: да, он действительно служил у Врангеля… по заданию партийной организации. Его, говорил он, направили специально в полевой суд армии Врангеля, чтобы помогать коммунистам, схваченным белыми. Разумеется, о том, что он дважды был арестован органами ВЧК и оба раза бежал к белым, Волков-Домбровский умолчал, и на следствии этот материал не фигурировал. Молодой, не имеющий чекистского опыта начальник особого отдела ВЧК 46-й дивизии поверил показаниям подследственного и освободил его из-под ареста.
Теперь Волков-Домбровский назначается для особых поручений к коменданту Севастопольской крепости, бывшему члену РВС Балтфлота А. Баранову. Волков-Домбровский меняет свою тактику: живет тихо и незаметно, стремясь как можно скорее войти в доверие к своему начальнику. Он избегает людных мест, прежнее разгульное времяпрепровождение забыто.
В декабре 1920 года меня назначают на должность заместителя, а затем начальника особого отдела ВЧК морских сил Черного и Азовского морей. И вот в руки мне попадает интересный документ: письмо офицера, который был арестован врангелевской разведкой как агент большевиков. Письмо адресовано самому Врангелю. Автор его подробно рассказывает о себе, как он, царский офицер в чине поручика, служил в белой армии и был лично генералом Деникиным направлен к большевикам для шпионской и диверсионной деятельности. Ему дали специальное задание — постараться проникнуть в Красную Армию, войти в доверие командования, добиться ответственной должности и своими действиями восстанавливать население против Советской власти. «Прошу Вас направить мое прошение Его Высокопревосходительству генералу Деникину. Он лично сможет подтвердить Вам, что все изложенное мною — правда. И Вы, надеюсь, меня немедленно освободите из-под ареста», — пишет этот офицер в конце своего прошения.
Я смотрю на подпись: Домбровский.
Знакомая фамилия! Но где он сейчас?!
И тут как раз мои сотрудники докладывают мне, что, по имеющимся у них сведениям, у коменданта Севастопольской крепости для особых поручений есть некто Волков, который, как они предполагают, является не кем иным, как Домбровским, давно разыскиваемым ВЧК.
Я пошел к Баранову, но не открываю цели своего прихода. Мне нужно было прежде всего увидеть Волкова, причем так, чтобы он не заметил меня. Мне это удалось. Через стеклянную дверь кабинета я разглядел сотрудника для особых поручений Волкова. Да, это тот самый Домбровский, Виталий Маркович.
Я затребовал дело Домбровского из ВЧК. Через неделю фельдсвязью оно было доставлено в Севастополь. Два дня я сидел и читал о похождениях Домбровского. Затем еще раз проверил сообщения сотрудников и подписал ордер на арест.
Произвести арест я поручил одному из опытнейших чекистов — Верному, дав ему в помощь еще одного человека. Когда Верный предъявил Домбровскому ордер на арест и обыск, тот побледнел, увидев мою подпись. Вынув из кармана браунинг, он выстрелил себе в сердце. Однако рука его, должно быть, дрожала. Ранение оказалось не опасным для жизни. Через неделю он выздоровел. Наш разговор с ним продолжался два вечера. Пойманный с поличным, как говорят припертый к стене, Домбровский понимал, что от наказания ему никуда не уйти, что каждая из улик — грозное обвинение. Он и не стремился скрывать свои преступления и рассказывал теперь обо всем откровенно, в частности о том, что убийство Матяжа было делом его рук.
Дело Домбровского было передано на рассмотрение Коллегии ВЧК. Вскоре я получил за подписью заместителя председателя ВЧК Ксенофонтова телеграмму о том, что изменник родины В. М. Домбровский приговорен к расстрелу.
Против банд Махно и Григорьева
Зимним утром 1919 года ко мне в вагон (штаб Украинского фронта в то время размещался в вагонах) вошел человек выше среднего роста, лет тридцати пяти, одетый в темно-синюю поддевку, в валенках. Бросились в глаза синие очки и длинные волосы. Он отрекомендовался:
— Гусев, начальник штаба отряда Махно. Мне указали на ваш вагон. С кем я разговариваю?
— Начальник контрразведки фронта Фомин, — в свою очередь представился я.
Часа два мы с Кушнаревым слушали Гусева, который подробно рассказывал о Махно, о зарождении махновщины на Украине, о том, что собой представляет отряд в настоящее время, какую цель он преследует и с кем ведет борьбу. Конечно, Махно и махновцы подавались в самом привлекательном свете и расписывались как «борцы за дело народа».
Кушнарев, усмехаясь, многозначительно посматривал на меня, но не стал перебивать. Мы-то знали, что за птица Махно!
— Махно отправил меня к вам в Харьков со специальным поручением, — говорил Гусев. — Пусть реввоенсовет фронта решит, что нам делать, поскольку части Красной Армии приближаются к району действия Махно (Гуляй-Поле). У нас насчитывается около 10 тысяч человек. Правда, вооружены мы неважно. Но если нас обеспечить всем необходимым, и прежде всего оружием, мы сможем оказать большую помощь в разгроме белогвардейцев. Они — наши заклятые враги. Махно просил передать командующему фронтом, что его самое большое желание — сражаться вместе с частями Красной Армии.
На специальном заседании реввоенсовета Украинского фронта под председательством Антонова-Овсеенко обсуждалось предложение Махно. Мнения разделились. Одни высказывались за то, чтобы отряд Махно расформировать и влить небольшими группами в подразделения частей Красной Армии. Другие предлагали переформировать отряды Махно в бригаду Красной Армии, а его оставить командиром, но направить туда политинспекцию, которой поручить всесторонне обследовать бригаду и выяснить, что требуется для того, чтобы бригада была боеспособной.
Это предложение и было принято. Новообразованная бригада вошла в состав Заднепровской дивизии, которой командовал П. Е. Дыбенко. Спустя некоторое время военным комиссаром бригады назначили стойкого большевика бывшего председателя военно-революционного трибунала Виллера. Вместе с ним была направлена в бригаду группа политработников.
23 января бригада Махно заняла Александровск, а затем Волноваху, Мариуполь и другие города. Однако сам Махно по-прежнему выжидал, надеясь, что Советская власть падет в схватке с иностранными интервентами и их наймитами — белогвардейскими генералами и офицерами. Ярый анархист, он только на словах признавал Советскую власть, а на деле люто ненавидел ее и при первом удобном случае готов был изменить.
10 апреля 1919 года Екатеринославский городской комитет партии сообщил в реввоенсовет фронта:
«Махновцы ведут переговоры с Григорьевым об одновременном выступлении против Советов. Нами задержан сегодня делегат Махно к Григорьеву. Просим принять срочные меры к ликвидации махновцев, так как сейчас в районе расположения Махно нет никакой возможности работать коммунистам, которых подпольно убивают, в дальнейшем могут возникнуть волнения».
В исключительно тяжелой обстановке вели свою работу в махновских частях комиссар Виллер и другие политработники, и результаты не замедлили сказаться. Махно относился к политработникам, конечно, недоброжелательно, всячески мешал им, стараясь подорвать их авторитет. А спустя некоторое время Махно уже окончательно сбросил с себя маску. 13-й красной армии, куда входила бригада Махно, предстояло отразить удар белых. Накануне сражения Махно учинил кровавую расправу над коммунистами. Все политработники были расстреляны. Махно с группой головорезов бежал с позиций, открыв фронт. Белогвардейцы не преминули воспользоваться изменой Махно.
Вскоре махновцы объявились в тылу нашей армии и стали орудовать как большая организованная банда. Они жестоко издевались над мирным населением, грабили и убивали крестьян, жгли села, беспощадно уничтожали всех сочувствовавших Советской власти. Это продолжалось вплоть до осени 1921 года.
Однако в конце 1920 года Махно сделал еще одну, последнюю попытку совместно с Красной Армией выступить против белых. На этот раз он повел наступление на Врангеля и оказал нашим частям определенную помощь в изгнании белой нечисти из Крыма. Но, заняв Севастополь, махновцы с благословения своего «батько», бросившего клич: «Крым ваш, и в Крыму все ваше!» — начали свое обычное дело: грабить, убивать, насиловать.
Спешно вызванная группа особого отдела ВЧК Южного фронта совместно с буденновцами восстановила порядок. Многие махновцы тогда были порубаны клинками конноармейцев, остальные разбежались.
После Февральской революции атаман Григорьев служил в контрреволюционных войсках Центральной рады, а потом и в петлюровских войсках. В конце января 1919 года Григорьев установил со станции Раздельная первую связь с нами, а в начале февраля мы получили из Вознесенска уже официальное донесение о том, что Григорьев со своими частями перешел на нашу сторону.
В этих частях было немало кулаков, буржуазных националистов и просто деклассированных элементов. Очень скоро особый отдел ВЧК стал получать сведения, что атаман Григорьев и его приближенные крайне недоброжелательно относятся к коммунистам и чекистам. Решено было взять штаб Григорьева под особое наблюдение и прикрепить туда специального сотрудника. Многое в деятельности Григорьева было еще неясно, но авантюристическая сущность его устремлений уже стала очевидной. А это могло привести к печальным последствиям.
Дважды командующий фронтом Антонов-Овсеенко предписывал командующему группой войск Скачко заменить Григорьева другим командиром. Однако Скачко не решался на это, считая, что Григорьев в военном отношении человек опытный, лично проявляющий большую инициативу и храбрость, обладающий хорошей боевой оперативностью. Скачко решил сам выяснить, как обстоит дело. С этой целью 28 февраля он поехал в Александрию, где располагался штаб Григорьева.
Хотя о приезде Скачко Григорьев был предупрежден, ни самого Григорьева, ни его начальника штаба Тютюника на месте не оказалось. Оба накануне уехали на фронт. В григорьевском штабе Скачко увидел лишь группу бойцов, около двухсот человек, лежавших вповалку около цистерны со спиртом. На станции железной дороги стояло около 500 груженых вагонов со всяким добром: спиртом, бензином, сахаром, сукном и прочим. Григорьев не захотел отправлять их в тыл, оставил при себе.
Неделей позже командующий фронтом Антонов-Овсеенко тоже решил поехать в Александрию. Но Григорьев и на этот раз избежал неприятной для него встречи и вместе с Тютюником уехал.
25 марта он извещает, что окружает Одессу и скоро возьмет ее. Всех товарищей-партизан он приглашает приехать к нему на торжество по случаю взятия города. И действительно, вскоре части под его командованием заняли город.
6 апреля Григорьев дает телеграммы: «Харьков — Антонову-Овсеенко, Александрия — штаб — Дыбенко, Гуляй-Поле — батьке Махно, командирам полков, Николаев — председателю Совета Соколову. Исключительными усилиями, лишениями и жертвами командуемых мною революционных войск банды хищников трижды разбиты наголову, вытолкнуты с позором в море, вместе с попами и двумястами благороднейших девиц из института. Одесса взята штурмом… В Одессе захвачено нами мануфактуры на миллиард рублей, и этим мы спасли Украину от мануфактурной и галантерейной хворобы… Атаман Григорьев».
После этого Григорьев уже почувствовал себя совсем героем. Между прочим, и командование решило отметить Григорьева. 13 апреля 1919 года за боевые отличия он назначается по предложению командующего 3-й армии Худякова командиром дивизии. 18 апреля Григорьеву и его войскам разрешено отправиться на отдых в Александрию. Он забирает с собой вагоны с продуктами, мануфактурой, галантереей и другими трофеями.
Поведение Григорьева с первого дня прибытия в Александрию стало откровенно разнузданным. Пьянки, гульба не прекращались. Одновременно Григорьев сталподкупать мелкобуржуазную часть населения. Вот когда пригодились вагоны с мануфактурой! Григорьев бесплатно раздает товары крестьянам и горожанам, стараясь вызвать сочувствие и обеспечить себе поддержку. Обнаглев, он выбрасывает лозунг: «Долой ЧК!», устраивает погромы транспортных и уездных чрезвычайных комиссий.
К тому времени мы получили сведения о том, что Петлюра желает примирения с Григорьевым и послал к нему специального уполномоченного, чтобы склонить вновь выступить против Советской власти.
Командование фронтом решило направить в дивизию Григорьева несколько десятков партийных работников. Им удалось отдельные части вывести из-под влияния Григорьева, а два полка перебросить — один в Крым, другой в Одессу.
Особый отдел ВЧК ставил перед командованием вопрос о разоружении частей Григорьева, но тогда этого осуществить не удалось.
Командующий фронтом Антонов-Овсеенко еще раз поехал к Григорьеву в Александрию и убедился, что население в этом районе настроено недоброжелательно по отношению к Советской власти. Сам Григорьев, в сущности, всегда был враждебен большевикам, но первое время, почувствовав силу Красной Армии, вынужден был идти на уступки. Главными вдохновителями его на измену Советской власти был начальник штаба Тютюник и партия левых эсеров Украины, которая цепко держала его в своих руках. Она поддерживала с ним связь и тогда, когда Григорьев перешел на сторону Красной Армии.
7 мая 1919 года Григорьев должен был выступить против румынских интервентов, перешедших в наступление и захвативших часть советской территории. Вместо этого Григорьев повернул свои войска против Красной Армии. Для подавления восстания на этот участок фронта были брошены большие силы. Началась борьба за освобождение городов и сел, занятых бандами Григорьева. Под натиском частей Красной Армии григорьевцы рассеивались, уходили в леса, скрывались в дальних деревнях и хуторах. Но, выждав удобный момент, они опять организовывали отряды и снова выступали против Красной Армии. Было очевидно, что, до тех пор пока в руках у бандитов будет оружие и они будут иметь возможность собираться в отряды, такая тактика борьбы с ними не даст положительных результатов.
Нужны были срочные и решительные меры к уничтожению банд.
А Григорьев тем временем не дремал. В мае 1919 года его банды вторично занимают Елизаветград и ряд других населенных пунктов. Бандиты устраивают погромы еврейского населения, казнят коммунистов и советских работников. Григорьевцы стали полновластными хозяевами города и окрестностей. Партийная организация города ушла в подполье.
Как только это стало известно, я получил приказ немедленно выехать вместе с отрядом особого назначения для ликвидации банды Григорьева и восстановления Советской власти в Елизаветграде. Мне было предоставлено право действовать по своему усмотрению, лишь бы как можно скорее уничтожить банду. Командиром отряда был назначен чекист матрос Васильев. Получив вагоны, мы быстро сформировали эшелон, погрузили конницу, пехоту, грузовые автомашины, а также боеприпасы — патроны, гранаты, пулеметные ленты. Из сотрудников особого отдела ВЧК я взял с собой самых опытных, боевых людей. До Елизаветграда доехали благополучно. Не успели выгрузиться на станции, а в городе уже разнеслась весть о нашем прибытии. И вот во всех церквах Елизаветграда ударили в колокола. Этим население выражало свою радость по случаю прибытия советских войск. Для жителей города это означало, что бандитским бесчинствам наступил конец.
Вместе с командиром отряда Васильевым, возглавив конную группу, мы произвели разведку. Бандитов в городе не было. Оказывается, когда мы ехали из Одессы, на станции Помошная нашлись люди, сочувствующие атаману Григорьеву. Они по телефону сообщили ему, что в Елизаветград идет эшелон с чекистскими войсками. Григорьев вывел свою банду в лес.
По всему городу мы пустили конные разъезды, а основные силы двинули на окраину.
Ужасная картина предстала перед нами в городе. На мостовых и тротуарах лежали трупы. Население частично бежало, многие попрятались на чердаках и в подвалах.
Первая схватка с бандитами произошла в тот же день за городом. Силы противника намного превосходили наши. Но недаром ядро нашего отряда составляли коммунисты и комсомольцы. Все бойцы были народ обстрелянный, не раз участвовали в боях. Большинство из них, как и сам командир Васильев, были моряки Черноморского флота.
После четырехдневных боев банда Григорьева, орудовавшая в Елизаветграде, была разгромлена. Вместе с секретарем Елизаветградского уездного комитета партии товарищем Ткачевым мы пошли к рабочим Сельмашзавода, предложили им организовать рабочую дружину и принять город под свою охрану. Но убедить людей было нелегко. Рабочие были напуганы бандой Григорьева. Некоторые из них заявляли: «Пока красные войска в городе, нам некого бояться и никакой дружины не понадобится. А уйдете вы, Григорьев опять объявится и расправится с нами».
В конце концов нам все же удалось убедить рабочих организовать охрану города. За два дня в дружину записалось более двухсот человек. Мы вооружили их винтовками, отобранными у григорьевцев, снабдили патронами.
Секретарь укома товарищ Ткачев собрал общегородское партийное собрание, на которое пригласил меня, командира отряда Васильева. Много теплых слов сказали коммунисты по адресу чекистов, командиров и бойцов отряда. Ткачев от имени всей городской партийной организации поблагодарил нас и пожелал дальнейших успехов.
Через неделю наш отряд покинул Елизаветград и вернулся в Одессу.
Реввоенсовет 3-й Украинской армии объявил благодарность всему личному составу отряда за успешную ликвидацию банды Григорьева в Елизаветграде.
Однако с Григорьевым еще не было покончено. На Херсонщине у него были значительные силы, в частности в Знаменке, Користовке, Александрии и Пятихатке. В скором времени он вновь собрал отряд, насчитывавший несколько тысяч человек. Это были люди главным образом из местного кулачества.
Херсонщина опять стала местом разгула банд. Здесь систематически устраивались железнодорожные диверсии: выбивали из шпал костыли, разводили рельсы. Поезда летели под откос.
В июле 1919 года Григорьев и Махно решили созвать съезд «повстанцев» Екатеринославщины, Херсонщины и Таврии. 27 июля 1919 года в селе Сентове, близ Александрии (Херсонской губернии), состоялся этот съезд. Среди докладчиков были Григорьев и Махно. Первым взял слово Григорьев. Его выступление носило ярко выраженный контрреволюционный характер. Все сводилось у него к одному: преследовать и изгонять большевиков с Украины, уничтожать Советскую власть на местах. Для этого он предлагал соединиться с Деникиным. На этом съезде, не поладив между собой, бандиты перессорились и в схватке один из махновцев застрелил Григорьева. После смерти атамана григорьевцы разбежались. Значительная часть их примкнула к Махно, часть — к другим бандам, некоторые — к Деникину,
Под ударами Красной Армии Махно быстро отступает. Котовцы и буденновцы нигде не дают ему задержаться. Надежды Махно собраться с силами и связаться с другими бандами полностью проваливаются. Местное население не только не оказывает ему поддержки, но само активно участвует в истреблении бандитов. Банда была уничтожена полностью.
Сам Махно 28 августа 1921 года с небольшой шайкой своих приспешников перешел Днестр, чтобы найти убежище в буржуазной Румынии. Правительства Российской Федерации и Украины обратились к румынскому правительству с официальной нотой, в которой требовали выдать Махно и его сообщников, как уголовных преступников, совершивших тягчайшие преступления на русской и украинской земле. Однако на эту ноту буржуазно-помещичье правительство Румынии ответило, что Махно нет на территории Румынии. Между тем в румынской газете «Универсул» от 2 сентября 1921 года сообщалось: «Контрреволюционные банды гетмана Махно, будучи полностью разгромленными советскими войсками, перешли Днестр около Вадуллуй-Водэ…»
В конце осени 1921 года меня направили для работы на границе в город Проскуров. Всеукраинская чрезвычайная комиссия во избежание каких-либо «неожиданностей» поручила пограничникам внимательно следить за «движением» и действиями Махно за кордоном. Это было не так уж трудно: зарубежные газеты, а также перебежчики довольно подробно сообщали о поведении Махно.
В буржуазно-помещичьей Румынии Махно встретил хороший прием, он пользовался всеми почестями, полагающимися «мученику цивилизации и прогресса», как его называла антисоветская пресса.
Надо сказать, что румынский пролетариат с гневом осудил поведение своего правительства. Румынская газета «Сочиализмул» (орган компартии) писала 27 марта 1922 года: «Мы хотим мира с Россией! Прекратить контрреволюционные происки на нашей земле! Требуем высылки всех лиц, которые подготавливают в Румынии и с ее помощью уничтожение первого в мире пролетарского государства».
Вскоре стало известно, что вместе с женою и двадцатью сопровождавшими его приближенными людьми Махно решил пробраться на нашу территорию через Польшу. Хорошо вооруженный, он пустился в путь. Верный своей старой привычке, в селе Жилава (Ильфовского уезда) он ограбил группу крестьян, забрав у них лошадей, повозки и продукты. Войдя во вкус, он в селе Писэу снова ограбил группу крестьян. Жандармам, направившимся по его следам, удалось 6 апреля 1922 года поймать Махно вместе с шестью сообщниками. Впоследствии были пойманы и остальные. На допросе в жандармском отделении Махно признался в совершенном им грабеже. После этого его с шайкой отправили в Бухарест.
Через несколько дней румынское правительство выслало Махно и сопровождавших его людей в Польшу. Но «батько» везде оставался верным своим бандитским обычаям. Время от времени он совершает грабительские налеты на польских крестьян. Правительство Польши и хотело бы сквозь пальцы смотреть на эти махновские «проказы», да уж слишком распоясался «батько». Его арестовывают и сажают в тюрьму, где он находился до 4 января 1924 года. По распоряжению министра внутренних дел Польши Махно освобождают и направляют на жительство в один из городов Познанского воеводства под надзор местной полиции. Приближенных Махно — атамана Хмару, адъютанта Домашенко и других — направили на жительство в другие города. За ними также учреждается полицейский надзор. Но правильно гласит народная мудрость: горбатого могила исправит. Махно, по-видимому, уже не мог жить без грабежей и насилий. Он ухитряется связаться с сообщниками и снова принимается за старое. Затем, опасаясь ответственности за свои черные дела, он бежит из Польши в Париж. После этого следы Махно теряются надолго. Его имя вынырнуло лишь спустя 10 лет. Газеты сообщили, что 25 июля 1934 года Махно был убит в Париже.
В руках у бандитов
В августе 1919 года член РВС 12-й армии В. П. Затонский, я и еще несколько командиров-чекистов вместе с отрядом особого назначения были направлены из Киева в Одессу в группу войск И. Э. Якира, блокированную белыми со всех сторон. Прибыли мы на станцию Помошная. Путь дальше был отрезан: восставшие немцы-колонисты привели в негодность железнодорожную ветку на участке Помошная — Одесса.
В. П. Затонский по прямому проводу вызвал Елизаветград, чтобы выяснить положение в городе и на станции, так как было известно, что Херсон и Николаев, а также узловые станции Знаменка и Пятихатка были заняты генералом Шкуро. Затонскому ответили, что все железнодорожные пути забиты составами, в самом Елизаветграде на станции скопилось 22 эшелона. В эшелонах рабочие и их семьи, бежавшие из Николаева от Шкуро.
Затонский приказал мне сформировать бронепоезд, погрузить чекистов и отряд особого отдела ВЧК армии и следовать в Елизаветград, чтобы организовать эвакуацию рабочих. В депо нашлись старенькие платформы и паровозик, а также уже вышедший из строя бронепоезд. Все это стояло в ожидании капитального ремонта. В течение одного часа бронепоезд был сформирован. Я осмотрел его, грустно покачал головой и пошел докладывать Затонскому, что бронепоезд для боевых действий непригоден. Затонский ответил:
— Ничего. Сражаться нам там не придется. Наша задача — вывезти семьи рабочих. Нам бронеплощадки нужны для морального воздействия, и только.
— Разве лишь для устрашения, но боя этому бронепоезду не выдержать. Он может даже по дороге рассыпаться…
— Ну уж и рассыплется! — усмехнулся Затонский. — Все обойдется. Я поеду вместе с вами.
Я отдал приказ грузиться.
К месту назначения мы прибыли вечером. Подъезжая к станции, мы были крайне удивлены: кругом пусто, тихо, ни одного эшелона на путях. Не видно ни рабочих отрядов, ни наших войск. Как выяснилось впоследствии, телеграфист на станции Елизаветград оказался петлюровцем и спровоцировал Затонского, сообщив ему ложные сведения.
Наш бронепоезд, медленно подъехав к вокзалу, остановился. И в то же мгновение со всех сторон забили пулеметы, беспорядочно захлопали оружейные выстрелы. Я решил осадить бронепоезд за мост, метров на триста, и побежал к паровозу, чтобы дать распоряжение машинисту. Но ни машиниста, ни помощника на паровозе не оказалось.
Куда они подевались? Попрятались с испугу или бежали к врагу? Зову — никто не отзывается.
Выхватив из кобуры оружие, я, пригибаясь, бегу разыскивать мерзавцев, бросивших паровоз. Кидаюсь туда, сюда — никого не видно.
А выстрелы приближаются с каждой минутой. Слышу, как от нас ударили ответной пулеметной очередью. В стороне различаю здание, по-видимому депо. «А нет ли их там?» — подумал я и бросаюсь в здание,
— Где тут машинисты бронепоезда? Давай на паровоз! — кричу я…
И тут откуда-то с боков и сзади на меня набрасываются люди, сбивают с ног и обезоруживают.
— Ага, голубчик, попался!!
— Вот таких-то комиссаров нам и надо! — слышу злобные, хриплые голоса.
Пинками меня поднимают на наги. Оглядываюсь. Вокруг меня солдаты с белыми повязками, человек восемь. С меня срывают пояс, сдирают кожаную тужурку.
Один из бандитов прицеливается в меня и собирается стрелять.
— Подожди! — закричал ему кто-то. — Успеем еще. Никуда ему теперь не уйти от нас.
А другой, видимо старший, говорит:
— Надо его в город отвести. Соберем всех комиссаров-большевиков на площади и перестреляем их там, как собак!
Двое бандитов берут меня за руки, двое становятся впереди, остальные сзади, и мы трогаемся.
Я думаю лишь об одном: как только отпустят руки — побегу. Пусть пристрелят на ходу — все лучше, чем дожидаться казни на площади.
Но нет, бандиты крепко держат меня за руки, не отпускают ни на секунду. Все дальше и дальше идем мы вдоль железнодорожной насыпи. Уже и выстрелы от станции доносятся глуше. Ну, думаю, пришел конец: убежать не удастся, а пощады не жди.
Впереди виднелся водосточный желоб метра в полтора — два шириной. Бандиты отпустили мне руки, стали сзади и с боков.
— Прыгай! — Один из бандитов ударил меня прикладом по спине. — Тебе говорят, прыгай, сволочь!
Я прыгнул и тут же метнулся в сторону, кубарем скатился в высокую густую полынь и крапиву, что росли вдоль насыпи. В то же мгновение раздались выстрелы. Бандиты с. криком бросились за мной, беспорядочно стреляя. Пули ложились над самой головой, срезали траву. К счастью, уже было темно.
Сделав несколько прыжков, я пополз на четвереньках. Но, заслышав шаги, прижался к земле, боясь пошевелиться.
Вот, подминая траву, все ближе и ближе ко мне приближаются шаги.
Над самым ухом голос:
— Куда поперли? Он здесь заховался. Издалека доносятся другие голоса:
— Будет он тебя здесь дожидаться!
— Он такого стрекача задал, что, поди, версту отмахал.
— А ну его к бису!
— Пошарим еще трошки, хлопцы!
Крапива нестерпимо жжет лицо, голую грудь и руки, но я лежу, не шевелясь.
— И где он, гадюка, притаился? — слышу я шагах в четырех от меня, не более.
Подумалось: теперь уж все. Схватят… Будут зверски избивать, злобствуя, что чуть не упустили.
— Да ну его к бису! — снова слышу я, но уже голос отдаляется. Выстрелы раздаются все реже и реже, потом совсем прекратились. Голоса стали слышны уже издалека. Тогда я пополз дальше. Выпрямиться во весь рост я не решался, тем более что вышла луна и стало довольно светло. Метров двести прополз, потом решил все же встать. Как только выпрямился, увидел водонапорную башню. И в тот же момент кто-то метнулся в сторону, прижался к стене…
Неужели опять бандиты?
Однако, кроме прижавшегося к водонапорной башне человека, никого не было видно.
Я подошел ближе. Заметив, что его обнаружили, человек попятился. Вижу — солдат. Кто он: свой или чужой? По виду определить трудно. Хотя была ночь, но я разглядел старую шинель, помятую фуражку, на ней ни кокарды, ни красноармейской звезды. Руки свободные, ни винтовки, ни нагана.
Я подхожу к нему и тихо спрашиваю:
— Ты кто?
Он отвечает так же тихо:
— Свой.
— Красный или белый?
— Свой, — опять повторяет солдат и оглядывается по сторонам.
— Какой части?
— Свой!
— Да что ты заладил одно и то же: «свой» да «свой», — разозлился я. — С белыми ты или с красными? Или, может быть, с зелеными?
— Я свой, — жалобно шепчет солдат.
— Тьфу ты, черт! — выругался я про себя. От этого вояки, видно, толку не добьешься.
— Ну вот что, решай сам, с кем ты. Направо, в сторону станции Помошная, — красные, налево, в Елизаветграде, — белые.
Солдат, как услышал это, пригнулся и, не оглядываясь, опрометью бросился бежать в нашу сторону. Откуда и прыть взялась. Следом за ним пошел и я. Но тут меня нагнал маневровый паровоз. Я решил рискнуть. Вскочил на подножку, забрался на паровоз, обращаюсь к машинисту и его помощнику:
— Я начальник особого отдела, приехал сюда с членом реввоенсовета Затонским…
А машинист, не долго думая, объявляет мне:
— Ты арестован!
— Я советский командир.
— Какой ты советский командир! Бандита сразу видно по обличью. Хорош командир!
Я и сам сообразил, что во мне трудно было признать командира: рваная гимнастерка без пояса, взлохмаченная голова без фуражки, исцарапанное лицо. Но все же еще раз говорю:
— Товарищи! Я — Фомин, начальник особого отдела ВЧК армии. И приехал сюда вместе с отрядом чекистов.
— Поговори еще! Вот приедем на Помошную, там разберемся.
Ну тут уж я успокоился: на этой станции — свои, А паровоз тем временем мчал полным ходом. Прибыли мы на станцию, машинист и его помощник передали меня окружившим паровоз бойцам.
— Вот, товарищи, поймали одного. Говорит, красный командир. Ведите его к своему начальнику.
Бойцы и командиры, увидев меня, обрадовались:
— Да это же наш начальник! Мы уж думали, что вы погибли. Что с вами было?
Вперед выскочил Митя Шультик — голова его перевязана кровавой тряпкой. Схватил меня, обнял, трясет за плечи.
— Товарищ начальник… Мы еще повоюем, мы покажем белым гадам!
Я рассказал друзьям, что со мной произошло за эти несколько часов. Товарищи радостно смеялись и удивлялись моему чудесному спасению.
Командир отряда рассказал, что произошло за это время на бронепоезде. Петлюровцы, устроив засаду на станции, попытались захватить бронепоезд. И тут настоящим героем показал себя Митя Шультик. Установив пулемет, он начал поливать огнем атакующих бандитов. А те лезли и лезли со всех сторон. Некоторым удалось забраться на платформы. Митя еле успевал поворачиваться то направо, то налево и строчил из своего «максима» чуть ли не в упор. Вражеская атака уже захлебнулась, но один из бандитов вскарабкался на платформу, где был Митя, и ударил его прикладом по голове. Стальная каска спасла Мите жизнь. Тем временем бойцы-чекисты отбросили остатки наступавших петлюровцев.
Я невольно вспомнил того вояку, который на все вопросы отвечал: «свой», «свой». Тому на вид было примерно столько же лет, сколько и Мите, — 18–20. Но какая огромная разница между тем жалким трусишкой и нашим общим любимцем комсомольцем Митей Шультиком.
Конец барона Грюнвальда
Весной и летом 1919 года обстановка на Украине оставалась крайне напряженной. Некоторое представление об этой обстановке читатель может получить из следующего «Обращения Всеукраинской Чрезвычайной комиссии к гражданам Советской Украины о задачах комиссии и об оказании ей помощи», подписанного председателем ВУЧК Лацисом. Относится оно примерно к апрелю или маю 1919 года. Вот его текст:
«От Всеукраинской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.
Товарищи и граждане Советской Украины!
Дружным усилием рабочих и крестьян Украина освобождена от иноземного поработителя.
Семимильными шагами продвигается вперед наша Красная Армия, собирая под Красное знамя Советской Украины все отторгнутые от нее усилием контрреволюционеров области.
Буржуазия отброшена от власти. Трудовой народ отказался ее кормить. Она издыхает, но окончательно еще не добита. В то время когда все наши усилия устремлены на внешний фронт, она в тылу зашевелилась, желая вернуть потерянное.
Она подбивает наших красноармейцев оставить фронт, рабочих — бросить работу на заводах и рудниках, желая остановить железнодорожное движение, чтобы этим оставить нашу Красную Армию без снаряжения, а братскую Советскую Россию — без хлеба и угля, чтобы таким образом задавить Советскую власть костлявой рукой голода.
В наших советских учреждениях стараются устроиться шпионы и контрреволюционеры, чтобы выведать наши тайны.
Как саранча, со всех местностей нахлынули бандиты и грабят среди бела дня и советские учреждения и граждан.
Советское правительство Украины решило принять самые решительные меры для борьбы с этим внутренним врагом.
Эту борьбу оно поручило Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.
Я как председатель этой комиссии обращаюсь к вам, товарищи и граждане, с предложением прийти на помощь в этой трудной работе.
Чрезвычайная комиссия беспощадно расправится со всеми пытающимися посягнуть на власть рабочих и крестьян и на достояние трудового народа Советской Украины…
Товарищи и граждане, вы должны делать больше этого: вы должны задерживать при помощи милиции каждого преступника, которого встречаете, и доставлять его в Чрезвычайную комиссию.
Вы должны заявить и о каждом злодеянии со стороны сотрудников Чрезвычайной комиссии, позорящих доброе имя комиссии. Такие сведения прошу отправлять прямо в город Киев, Всеукраинской Чрезвычайной комиссии.
Я надеюсь, что общими усилиями мы сломим внутреннего врага и закрепим на всей Украине рабочую и крестьянскую власть».
Летом 1919 года реввоенсовет армии предоставил мне возможность поехать на некоторое время в Киев для лечения…
Положение под Киевом было очень тяжелое. Деникинские части наступали с Дарницы, а петлюровцы — со стороны Коростеня. Киев уже подвергался усиленному орудийному обстрелу с двух сторон.
Я решил повидаться с председателем Всеукраинской чрезвычайной комиссии Мартином Яновичем Лацисом.
М. Я. Лацис попросил меня временно задержаться в Киеве:
— Сами видите, как нам сейчас приходится. У нас крайняя необходимость в работниках.
— Прошу вас, товарищ Лацис, используйте меня, как найдете нужным.
— Ну вот и отлично. Я направлю вас заместителем начальника особого отдела ВЧК 12-й армии. Вы, товарищ Фомин, займитесь там арестованными. Мне сообщили, что начальник этого отдела Грюнвальд хватал всех подряд, кого нужно и не нужно. Разберитесь, пожалуйста.
С первого же дня ко мне стали приходить коммунисты-чекисты и рассказывать о том, что начальник отдела Грюнвальд со своими приближенными пьянствует, безобразничает, запугивает население. Признаться, я этому не сразу поверил. Вместе с секретарем партячейки Светловым мы занялись проверкой этих сведений, и, к сожалению, все подтвердилось.
Однажды в разговоре с начальником отряда особого отдела, не помню в связи с чем, речь зашла о гетмане Скоропадском. И тут он мне сделал неожиданное сообщение:
— Товарищ начальник! У нас под арестом содержится жена гетмана Скоропадского.
А мне доподлинно было известно, что жена Скоропадского вместе с ним уехала из Киева еще в декабре 1918 года. Это, подумал я, какое-то недоразумение.
Вызвав старшего следователя Николаева, я спросил его:
— Кого из женщин, содержащихся у нас под следствием, называют женой гетмана Скоропадского?
— Это, как видно, арестованную Чхеидзе, — отвечает Николаев.
— А кто такая Чхеидзе? Николаев несколько замялся:
— Вы разве не слышали?..
— Нет, ничего не знаю, потому у вас и спрашиваю.
Чхеидзе была любовницей Грюнвальда.
— Почему же ее называют женой гетмана Скоропадского?
— Как видно, лишь потому, что она красивая женщина.
Я попросил Николаева дать мне для ознакомления дело Чхеидзе. Николаев принес тоненькую папку с надписью на обложке красным карандашом: «Английская, шпионка Чхеидзе, покушавшаяся на жизнь начальника ОО ВЧК 12-й армии тов. Грюнвальда». Написано это было собственной рукой Грюнвальда.
Открыл я папку «английской шпионки» и удивился. В деле лежало всего лишь пять небольших писем — интимная переписка Грюнвальда с Чхеидзе. Из этих писем можно было сделать только тот вывод, что за Чхеидзе (по профессии зубным врачом) нет никакого преступления и обвинение в шпионской деятельности — плод больного воображения Грюнвальда. Я предложил старшему следователю Николаеву вызвать арестованную Чхеидзе:
— Хочу поговорить с ней в вашем присутствии, вы не уходите.
Минут через десять к нам привели очень красивую женщину, грузинку.
Я предложил ей сесть. Женщина села в кресло, стоявшее около стола, и попросила разрешения закурить. Николаев дал папиросу.
— Скажите, Чхеидзе, как вы попали под арест?
— А вы кто такой?
Я назвал свою должность, фамилию. Чхеидзе неожиданно встала:
— Помогите мне, спасите меня от Грюнвальда, умоляю вас! Я верю, вы мне поможете!
— Не волнуйтесь, Чхеидзе. Садитесь. Вы не ответили на мой вопрос.
— Я все, все вам расскажу, — быстро заговорила женщина. — Все расскажу, хотя о многом сейчас и вспоминать и говорить стыдно. А вообще-то все из-за моего легкомыслия и глупости… Только вы, пожалуйста, не думайте, что я искательница приключений и развлечений…
Началось все с того, что я с подругой шла как-то по Пушкинской улице мимо здания, где помещался, как я узнала впоследствии, особый отдел ВЧК. Подъехал автомобиль, из него вышел высокого роста мужчина, светло-русый, на нем был плащ защитного цвета.
— Смотри, какой красивый мужчина! — сказала я подруге. — Хочешь, я с ним познакомлюсь?
— У тебя все глупости на уме! А в меня точно бес вселился.
— Нет, ты посмотри, какой он стройный, как голову держит, а выправка-то!
— Наверное, бывший офицер.
— Ну и что же, еще интереснее с таким познакомиться!
Из парадного, куда вошел этот мужчина, вышел красноармеец. Я спросила его, что это за человек подъехал на автомобиле? Красноармеец ответил мне, что это прибыл начальник особого отдела ВЧК Грюнвальд.
На другой день утром я пишу Грюнвальду записку: «Вы мне нравитесь, и я хочу с вами видеться. Буду ждать сегодня вечером там-то». И указала свой адрес. Букет и письмо принесла на Пушкинскую улицу и через дежурного коменданта передала Грюнвальду. В 10 часов вечера ко мне на квартиру пришел Грюнвальд с коньяком, шампанским и закуской… На следующий день он опять приехал ко мне… Но после двух свиданий я поняла, что Грюнвальд — очень нехороший человек, и решила с ним больше не встречаться. Он был нагл и высокомерен.
— Я все могу, что захочу, — говорил он, опьянев. — Все в городе в моих руках. Меня все боятся. Только ты не бойся, ты мне нравишься!
А мне было жутко, в особенности когда я встречалась с его глазами, пустыми и жестокими.
— Я боюсь тебя, ты страшный человек, — сказала я.
— Это и хорошо, что боишься! Когда боятся, тогда слушаются, подчиняются. Я хочу, чтобы и ты мне подчинялась, только мне! Слышишь?!
Я твердо решила больше с ним не встречаться и в тот же день пошла к подруге. Я жила у нее три дня. А когда вернулась к себе на квартиру, то увидела письмо от Грюнвальда. Он требовал встреч, грозил мне… Я на это письмо ему не ответила.
На следующий день ко мне на квартиру пришли два сотрудника из особого отдела с ордером на арест за подписью Грюнвальда. Меня привели сюда и посадили в подвал. Сижу и сама не знаю за что.
Я спросил Чхеидзе:
— Вам было предъявлено какое-либо обвинение или нет?
— Никто никакого обвинения мне не предъявлял!
Рассказ Чхеидзе, письма, а также сведения о поведении Грюнвальда, собранные мной за последние дни, — все говорило о невиновности этой женщины. Я предложил Николаеву написать постановление об освобождении Чхеидзе из-под ареста и дать мне его на утверждение.
Как только я ушел к себе в кабинет, Николаев был вызван к Грюнвальду. Видимо, он узнал о том, что я заинтересовался историей этой женщины.
Ночью Грюнвальд появился в особом отделе пьяным, вызвал коменданта. Когда тот явился, он взял дело Чхеидзе и на обложке его написал крупными буквами: «Расстрелять! Грюнвальд».
На другой день я пораньше пришел в особый отдел. Николаев был уже там.
— Нужно кончать с этим делом Чхеидзе, — сказал я ему, — давайте я подпишу постановление об освобождении. Вы заготовили его?
— Я не мог выполнить вашего приказания, — ответил Николаев. — Сегодня ночью Чхеидзе по личному распоряжению Грюнвальда была расстреляна…
Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что Грюнвальд — это враг, пробравшийся в органы ВЧК.
Я внимательнее стал присматриваться к окружению Грюнвальда. У него было несколько помощников из бывших царских офицеров. Рядом с его кабинетом они устроили что-то вроде буфета со спиртными напитками. Здесь они напивались до бесчувствия. Пьяные, с мандатами за подписью Грюнвальда на аресты и обыски, они творили все что хотели. Кабинет Грюнвальда был превращен в кладовую, куда приносились изъятые при обысках ценности, и там их делили, по усмотрению самого «хозяина».
Все это стало возможным только потому, что Киев тогда, в сущности, был фронтовым городом. Все силы были брошены на борьбу против вражеского нашествия. Пользуясь этой напряженнейшей обстановкой, стремясь всячески ухудшить ее, грюнвальдская компания и творила свои черные дела.
Вскоре особый отдел ВЧК эвакуировался из Киева в Новозыбков, где был расположен штаб и реввоенсовет 12-й армии. Там мне удалось собрать группу товарищей. Это были честные, надежные люди, в большинстве коммунисты, их возмущала преступная деятельность Грюнвальда и его сообщников.
Начали мы с экстренного собрания партийной ячейки особого отдела. Собрание прошло бурно. Один за другим выступали члены партии и рассказывали о беззакониях, творимых Грюнвальдом. Партийное собрание уже подходило к концу. Единогласно была принята резолюция:
«Считать действия начальника ОО ВЧК Грюнвальда контрреволюционными. Поручить товарищу Фомину довести об этом решении партсобрания до сведения председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского».
Коммунисты поочередно подходили к столу и ставили свои подписи под этим решением.
Неожиданно в дверях появился комендант особого отдела с двумя вооруженными бойцами.
— Приказано всем разойтись!
— Как это понять? — наш секретарь парторганизации Светлов вскочил с места.
— Ничего не знаю. Начальник особого отдела дал приказ разогнать партийное собрание.
— Он так и сказал? — спросил Светлов. Коммунисты возмущенно заговорили: «Вот до чего дошел! От него можно всего ожидать!» Комендант еще раз повторил:
— Начальник особого отдела объявляет ваше собрание незаконным, так как вы открыли его без согласования с ним. Он требует закрыть собрание. В противном случае он примет меры.
Что было делать?!
Мы перешли в общежитие и закончили партсобрание тайно, нелегально. Мне поручили переговорить по поводу дела Грюнвальда с членом РВС армии С. И. Араловым.
На следующий день я прихожу к нему и докладываю о состоявшемся партсобрании особого отдела и его решении. Я прошу Семена Ивановича Аралова, чтобы он по прямому проводу связался с Ф. Э. Дзержинским. Товарищ Аралов заверил меня, что при первой возможности он переговорит с Феликсом Эдмундовичем. А на другое утро вызвал меня к себе:
— Я передал все, что вы просили, товарищу Дзержинскому, и он предложил немедленно вас, товарищ Фомин, с группой чекистов, которые подписали решение партсобрания, направить к нему в Москву для доклада.
Тут же С. И. Аралов распорядился выписать нам литер на получение вагона-теплушки.
Всех нас волновала предстоящая встреча с Феликсом Эдмундовичем. Для нас, чекистов, тогда еще молодых людей, Ф. Э. Дзержинский был человеком легендарным. За его спиной были многие годы подпольной революционной работы, тюрьмы, каторга, сибирская ссылка. Он был героем Октября, соратником великого Ленина, нашим руководителем.
Как только приехали в Москву, мы направились на Лубянку, в ВЧК. Ф. Э. Дзержинский сразу же принял нас. С трудом скрывая волнение, я и мои товарищи — 22 человека — входили в кабинет председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинского.
Он был в гимнастерке защитного цвета, в хромовых сапогах. Лицо худое, бледное, усталое от бессонных ночей и величайшего физического и морального напряжения. В кабинете — письменный стол, много стульев, у стены ширма, за ней кровать, покрытая серым, солдатского сукна одеялом.
Я представился и отрапортовал ему как полагалось.
— Здравствуйте, товарищи, — приветливо поздоровался с нами Феликс Эдмундович. — Садитесь вот сюда. Расскажите, товарищ Фомин, что там у вас в Киеве натворил Грюнвальд.
Я подробно рассказал Феликсу Эдмундовичу все, что знал о Грюнвальде, и в подтверждение своих слов вручил ему постановление партийного собрания. Рассказывали и другие товарищи. Дзержинский внимательно выслушал нас и очень разволновался. Лицо его еще больше побледнело.
— Дело, товарищи, очень серьезное и исключительное. Речь идет о дискредитации Советской власти. Этим делом я займусь сам…
Тут же при нас он по телефону распорядился немедленно вызвать в Москву начальника особого отдела 12-й армии Грюнвальда.
Затем Феликс Эдмундович снова обратился к нам:
— Хочу с вами говорить начистоту. У нас не все благополучно. В наших чекистских рядах есть чуждые элементы. С этим нужно вести борьбу беспощадно. Владимир Ильич неоднократно напоминал мне об этом. В особенности плохо обстоит дело на Украине. Чужие, примазавшиеся к Советской власти люди творят всяческие беззакония и вредят нам больше открытых врагов. Ленин поручил мне помочь товарищу Лацису очистить органы ВЧК Украины от позорящих нас людей.
Феликс Эдмундович вынул из ящика стола копию письма В. И. Ленина, адресованного Лацису — председателю ВУЧК, и зачитал нам его:
«Уполномоченный Совобороны говорит — и заявляет, что несколько виднейших чекистов подтверждают, — что на Украине Чека принесли тьму зла, быв созданы слишком рано и впустив в себя массу примазавшихся.
Надо построже проверить состав, — надеюсь Дзержинский отсюда Вам поможет. Надо подтянуть во что бы то ни стало чекистов и выгнать примазавшихся».
После делового разговора Ф. Э. Дзержинский спросил нас, где и как мы устроились. Я доложил ему, что мы разместились все в двух комнатах. Феликс Эдмундович тут же распорядился расселить нас по два-три человека в комнату, зачислить на довольствие.
В связи с тем что Украина была тогда занята белыми, вся наша группа чекистов, приехавших с Украины, осталась работать в Москве.
Вскоре нам стало известно, что Грюнвальд арестован и дело его передано для ведения следствия особоуполномоченному ВЧК.
Среди чекистов, работавших в Москве, было много латышей. Узнав об аресте Грюнвальда, кто-то из них рассказал мне, что знал одного Грюнвальда, но тот — барон, служил в царской армии штабс-капитаном, был начальником пулеметной команды Латвийского полка. Говорили, что этот Грюнвальд зверски обращался с солдатами. В феврале 1917 года, когда солдаты, узнав о свержении самодержавия, пришли на общее собрание, барон Грюнвальд появился на тачанке с пулеметом и потребовал, чтобы солдаты разошлись по казармам, а в случае неподчинения грозился стрелять. Официального сообщения о революции тогда еще не было получено. Солдаты разошлись. На следующий день пришла телеграмма о революции. Но барона Грюнвальда уже не было. Боясь расправы, он сбежал из полка.
Другие латыши-чекисты рассказывали мне, что при правительстве гетмана Скоропадского в качестве секретаря уполномоченного буржуазной Латвии был тоже некто, носивший фамилию Грюнвальд. Когда в Киеве они к нему обращались за получением паспорта латвийского подданного и пропуска через границу в Советскую республику, этот Грюнвальд соглашался удовлетворить их просьбу, но при условии, если они будут посылать ему сведения из Советской России.
Латыши согласились. Они получили за подписью Грюнвальда паспорта и пропуска, а когда перешли границу, то приехали в Москву, явились в ВЧК и заявили об этом.
Получив такие сведения от чекистов-латышей, я предложил им пойти к особоуполномоченному ВЧК и доложить ему обо всем этом, а у кого сохранились паспорта и газеты с заметками о Грюнвальде, также передать для приобщения к делу. Когда следствие по делу Грюнвальда было закончено, то выяснилось, что Грюнвальд — это действительно в прошлом барон, тот самый, кто угрожал солдатам пулеметными очередями. Он же занимался вербовкой шпионов и засылал их в Советскую Россию. Обманным путем пробравшись на работу в органы Украинской ЧК, он своими вражескими действиями стремился дискредитировать Советскую власть и органы ВЧК. В связи с раскрытием в это же время заговора «Штаба добровольческой армии Московского района» дело Грюнвальда было на некоторое время отложено, а затем передано в военный трибунал при штабе РККА, который осудил преступника на десять лет заключения.
Кончилась гражданская война. По первой амнистии Грюнвальду сократили срок до пяти лет, а по второй он был освобожден. После выхода из заключения Грюнвальд скрылся, перешел границу и получил в буржуазной Латвии должность начальника разведывательной агентуры. Его «специальностью» становится шпионаж против Советского Союза. Вскоре Грюнвальд был подкуплен англичанами. Он быстро зарекомендовал себя перед английской разведкой как ценный работник. Спустя некоторое время ему предложили «работать» в Константинополе, добывая сведения о Советском Союзе. Грюнвальд переехал из Риги в Константинополь и здесь развернул активную шпионскую деятельность, запродавшись, как выяснилось впоследствии, еще и итальянской разведке.
В 1924 году по поручению английской шпионской организации Грюнвальд со специальным заданием направляется в Советский Союз. Но здесь его опознал один из латышей-чекистов. Грюнвальд был задержан и доставлен в ОГПУ. Изменник родины вторично попадает в руки чекистов. Коллегия ОГПУ вынесла Грюнвальду смертный приговор, и он был расстрелян.
С помощью народа
Рабочие, крестьяне, лучшая часть интеллигенции, которые видели в революции свое кровное дело, всегда помогали чекистам защищать ее великие завоевания. Мне хорошо помнится, какую большую роль сыграли в раскрытии многих крупных заговоров простые советские люди.
В 1919 году, когда нашу страну со всех сторон окружили армии империалистических хищников, а внутри контрреволюционеры организовали заговоры против Советской власти, в эти тревожные дни В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский обращаются к населению с призывом:
«Берегитесь шпионов! Смерть шпионам!.. Все сознательные рабочие и крестьяне должны встать грудью на защиту Советской власти…»
И граждане молодой Советской республики горячо откликнулись на этот призыв.
Однажды в комендатуру ВЧК пришла скромно одетая пожилая женщина и попросила дежурного коменданта пропустить ее к товарищу Дзержинскому,
Феликс Эдмундович принял посетительницу, со свойственной ему внимательностью выслушал ее.
— Я учительница 76-й московской школы, — волнуясь, рассказывает женщина, — пришла к вам, в ЧК, товарищ Дзержинский, чтобы поделиться своими опасениями. Не знаю, может быть, я излишне недоверчиво отношусь к нашему директору школы Алексею Даниловичу Алферову. Но кажется мне подозрительным, что все время к нему ходят какие-то люди в военной форме. Особенно участились эти посещения за последнее время. Я думаю, военные ходят к нашему директору неспроста. И я прошу вас поинтересоваться этим — нет ли тут чего плохого.
Феликс Эдмундович поблагодарил учительницу и сказал, что ее сообщение будет проверено. Опасения учительницы оказались не напрасными.
_ Через несколько дней к Ф. Э. Дзержинскому попросился на прием еще один посетитель — мужчина средних лет, отрекомендовавшийся врачом одной из военных школ. Он пришел с повинной:
— Хочу облегчить свою совесть и искупить вину перед народом. Состою членом одной белогвардейской организации. По неведению, по наивности многое мне раньше представлялось иным. Теперь же я убедился во всей гнусности этой контрреволюционной организации и ее бандитской деятельности. Искренне раскаиваюсь и хочу помочь вам раскрыть эту организацию. Поверьте мне, я жестоко разочаровался в людях, с которыми недавно был близок.
Врач назвал несколько фамилий и просил в первую очередь обратить внимание на некоего Миллера. Этот бывший полковник царской армии, а теперь начальник окружной артиллерийской школы, является одним из руководителей организации.
Феликс Эдмундович сделал пометки в своей записной книжке, поблагодарил врача за сообщение и попросил через несколько дней зайти еще раз, а затем дал задание установить наблюдение за школой и Миллером.
Материалы, поступившие от учительницы и военного врача, были переданы Вячеславу Рудольфовичу Менжинскому, только что пришедшему тогда на работу в органы ВЧК.
…Сентябрь 1919 года. Москва в густой сетке мелкого осеннего дождя. Ветер гонит вдоль настороженно притихших улиц мокрые желтые листья. Изредка пройдет по тротуару молчаливый патруль да вынырнет из туманной измороси ссутулившийся на козлах извозчик.
Тяжелые это были дни. Армии интервентов и белогвардейцев окружили республику.Утопая в окопной грязи, голодные, плохо одетые красноармейцы героически сдерживали их натиск. А внутри республики все активнее действовали темные силы контрреволюции.
Все вражеские центры черпали свои силы для борьбы с молодой Советской властью из среды бывших царских офицеров и юнкеров, которых тогда в Москве насчитывалось десятки тысяч.
Заговорщические центры, носившие названия «Национальный», «Тактический», вынашивали планы захвата Москвы и Петрограда, убийства В. И. Ленина и других руководителей Советского правительства. Они хотели захватить радио и телеграф, Оповестить фронты о падении Советской власти, вызвать панику среди населения и в частях Красной Армии. Москва была разбита ими на боевые участки. Каждый из этих участков «обслуживался» группой заговорщиков, состоявших из бывших царских офицеров и юнкеров, вооруженных артиллерией, пулеметами и винтовками. Под Москвой в трех военных школах сосредоточились главные силы резерва: более 700 белогвардейцев.
Военная организация «Тактического центра» уже заготовила приказ № 1 командующего «добровольческой» армии Московского района. В нем говорилось:
«Все борющиеся с оружием в руках или каким-либо другим способом против отрядов, застав или дозоров добровольческой армии подлежат немедленному расстрелу, не сдавшихся в начале столкновения или после соответствующего предупреждения в плен не брать».
Перед чекистами стояла задача раскрыть заговор, обезопасить республику. Действовать нужно немедленно. Некоторыми сведениями ВЧК уже располагала. Известны были, в частности, имена ряда руководителей заговора. Дзержинский решил арестовать их. Мне и члену коллегии ВЧК товарищу В. А. Аванесову Феликс Эдмундович поручил арестовать одного из главарей заговора — бывшего полковника царской армии Алферова. При этом Ф. Э. Дзержинский подчеркнул:
— Обыск произведите как можно тщательнее. Алферов является начальником штаба заговорщического «центра», и у него должны храниться очень важные секретные документы.
Когда я пришел в кабинет Феликса Эдмундовича, чтобы получить задание, там уже собралось много руководящих работников ВЧК. Речь шла об аресте участников заговора, бывших царских офицеров и юнкеров, которые пристроились в военные школы и учреждения, расположенные в Москве и под Москвой — в Вешняках, Волоколамске и Кунцеве.
Обсудив план операции, все отправились выполнять задание. Отправились и мы: Аванесов, я и три бойца.
Москва уже укладывалась спать, когда мы ехали на Малую Дмитровку. Тихо стало на центральных улицах. Машину мы остановили в ближайшем переулке, а сами пошли к серому дому, где жил один из главарей заговора — Алферов. Квартира его была одновременно и местом явки заговорщиков.
Войдя во двор, мы осторожно поднялись по черному ходу в бельэтаж. В ночной тишине гулко раздался наш стук в дверь. Старческий голос испуганно спросил:
— Кто там?
— Милиция, — ответил Аванесов.
— Что вам нужно?
— Ищем дезертиров.
— Дезертиров у нас нет.
— Откройте!
Дверь чуть приотворилась. Я рванул ее на себя, и мы вошли в тускло освещенную кухню. Перед нами стояла женщина в накинутом на плечи пальто, по-видимому прислуга.
— Где Алферов?
— Они спят…
Мы прошли в спальню. На кровати лежал пожилой мужчина. Это и был полковник царской армии Алферов. Предъявив ордер на арест, мы предложили ему одеться и отвели в отдельную комнату, поставив рядом охрану. Сами же приступили к обыску в его квартире. Обыск длился всю ночь. Измучились мы, надо сказать, порядком. Перелистали все книги, отбили в комнатах плинтуса, подняли весь паркет, но ничего не нашли. И уже только под самое утро взгляд Аванесова остановился на мраморном пресс-папье, украшавшем письменный стол. Аванесов осторожно развинтил его, снял верхнюю мраморную плитку, и мы увидели под ней сложенный вдвое небольшой листочек тонкой бумаги, сплошь исписанный бисерным почерком, — длинный перечень фамилий.
В старых брюках Алферова я нашел записную книжку. На первый взгляд в ней не было ничего подозрительного. Что-то вроде счетов, словно хозяин записывал за своими знакомыми одолженные суммы. Например: «Виктор Иванович — 452 руб. 73 коп.», «Владимир Павлович — 435 руб. 23 коп.», «Дмитрий Николаевич — 406 руб. 53 коп.» и т. д. Эти цифры показались мне подозрительными: а не шифр ли это? Может быть, номера телефонов? А что, если попробовать позвонить? Отбрасываю все «руб.» и «коп.» и прошу телефонистку соединить меня с номером 4-52-73. Слышу в трубке мужской голос. Спрашиваю:
— Виктор Иванович?
— Я у телефона.
— Очень хорошо. Алексей Данилович срочно просит приехать вас к нему, как можно быстрее!
Моя догадка подтвердилась. В записной книжке были зашифрованы телефоны многих участников заговора.
Прошло с тех пор 45 лет, но я, как сейчас, помню это хмурое осеннее утро 1919 года, когда мы привезли к Дзержинскому Алферова и положили на стол наши «трофеи». Измученное бессонницей и нечеловечески напряженным трудом лицо Феликса Эдмундовича мгновенно просветлело, он пробежал глазами список и уверенно сказал: «Теперь все в наших руках!»
В тот же день были арестованы многие участники заговора.
А на другой день я увидел из окна особого отдела ВЧК, как по Лубянской площади чекисты провели несколько сот белогвардейцев — главные силы штаба «добровольческой» армии Московского района. Этот отряд должен был начать наступление на Москву в самое ближайшее время. Ожидали только сигнала. Но солдаты революции — славные чекисты обезвредили врага. В этой операции выдающуюся роль сыграл начальник особого отдела Московской чрезвычайной комиссии Ефим Георгиевич Евдокимов[79].
Феликс Эдмундович, как и всегда после окончания какой-либо крупной операции, собрал нас, чекистов, и подробно рассказал о характере, целях и задачах ликвидированной контрреволюционной организации.
— Это наше собрание проходит в тот момент, когда Деникин занял Курск и продвигается на Орел — Тулу, — говорил Ф. Э. Дзержинский. — Положение очень напряженное, не стану скрывать. Успехи Деникина окрыляют внутреннюю контрреволюцию. Некоторые из вас, присутствующих здесь, принимали активное участие в раскрытии и ликвидации заговора. Захваченные документы и признания арестованных показали, как действует агентура Деникина и Колчака, как готовятся восстания против Советской власти.
Феликс Эдмундович рассказал, что во главе раскрытой контрреволюционной организации стояли Н. Н. Щепкин, бывший домовладелец, член Государственной думы III и IV созыва, кадет, председатель заговорщического «Московского центра». При обыске у него обнаружили точные сведения о расположении наших войск и все данные о плане действии реввоенсовета республики.
Вторым после Щепкина среди заговорщиков был Алферов — начальник штаба «добровольческой» армии Московского района. Видный агент Деникина и Колчака, содержатель шпионской конспиративной квартиры, тоже кадет, Алферов был в последнее время директором 7б-й московской школы. Школьное помещение было превращено в явочную квартиру для агентов Колчака и Деникина, приезжавших с инструкциями для «центра». Деятельным пособником Алферова была его жена, тоже принадлежавшая к кадетской партии.
На этом совещании мы узнали имена 67 руководителей и активистов контрреволюционной организации. Ф. Э. Дзержинский обратил наше внимание на то, что в ликвидации вражеской организации принимали участие не только чекисты и красноармейцы, но и сотни московских большевиков.
Вскоре Дзержинскому сообщили, что в Петрограде обнаружены следы крупной шпионской организации, связанной с генералом Юденичем через начальника штаба обороны Петрограда Люндеквиста. Эта организация готовила сдачу Петрограда Юденичу. Феликс Эдмундович срочно выехал в Петроград. Он не только руководил, но и сам принимал непосредственное участие в разоблачении и ликвидации шпионской организации.
Когда Ф. Э. Дзержинский вернулся в Москву, он опять собрал актив работников ВЧК. Феликс Эдмундович рассказал, как была раскрыта новая шпионская организация. Один красноармеец увидел, что идущая впереди него женщина нечаянно обронила сверток. Красноармеец поднял его, развернул и обнаружил военные чертежи. Они показались ему подозрительными. Он задержал женщину и доставил ее вместе с чертежами в ЧК. В свертке помимо секретных чертежей петроградских военных укреплений были шпионские донесения, а задержанная женщина оказалась дочерью матерого шпиона.
Во время допроса арестованный шпион держал себя нагло, вызывающе. Он даже заявил Феликсу Эдмундовичу:
— Вы поймали меня совершенно случайно, благодаря оплошности моей дочери. Не обрати на это внимание ваш красноармеец, все было бы иначе. Дочь случайно обронила сверток, солдат случайно обратил на это внимание. Как видите, все дело случая, да, только случая!
— Нет, вы глубоко ошибаетесь! — сказал Феликс Эдмундович. — Если бы массы нас не поддерживали, если бы каждый трудящийся, каждый красноармеец или матрос не сознавал, что борьба с контрреволюцией — это дело не только ЧК, но всего народа, — тогда могло быть, действительно, все иначе: ваша дочь уронила сверток, и на это никто не обратил бы внимания. Равнодушные люди прошли бы спокойно мимо чертежей, которые сами по себе уже вызывают подозрение. Дочь ваша случайно уронила сверток, это верно. Но красноармеец — наш советский человек, отнюдь не случайно обеспокоился. Именно в том, что это не случайно — сила ЧК…
Вскоре этот шпион получил возможность убедиться в том, что ЧК умеет распутывать нити контрреволюционных заговоров. Рядом с ним оказались все его сообщники и на очных ставках раскрыли весь план заговора.
Ф. Э. Дзержинский придавал очень большое значение воспитанию чекистов. Одной из форм идейно-воспитательной работы и были такие совещания, постоянно проводимые Феликсом Эдмундовичем. Для нас, тогда молодых работников, это была отличная школа. Еще бы! Сам Дзержинский занимался с нами, учил нас. А лучшего учителя и желать нельзя было. Феликс Эдмундович воспитывал чекистов в духе верности партии и беззаветной преданности делу рабочего класса. Он воспитывал в нас бесстрашие и мужество, учил крепить связи с трудящимися, соблюдать революционную законность. О чем бы ни шла речь, он постоянно возвращался к одной мысли: беспощадная борьба с контрреволюцией должна сочетаться с внимательным, чутким отношением к интересам и правам трудящихся. Это была священная заповедь чекистов.
Феликс Эдмундович воспитывал нас личным примером. Он, например, сам произвел обыск квартиры и арестовал главаря «Тактического центра» Н. Н. Щепкина. Часто он сам допрашивал обвиняемых, внимательно и кропотливо вникал в суть каждого дела, изучал документы, обнаруженные при обысках. Буквально дни и ночи Дзержинский просиживал за работой в ВЧК. Дома он почти не бывал. Спал он тут же, в кабинете, иногда три-четыре часа в сутки, и то с перерывами. Здесь же, в кабинете, он и обедал. Старик курьер приносил ему обед из общей столовой для сотрудников. Иногда он старался принести что-нибудь повкуснее, получше, и тогда Феликс Эдмундович, пытливо прищурив глаза, спрашивал:
— А что, сегодня все сотрудники едят такой обед? И старик, скрывая смущение, поспешно отвечал:
— Все, все, товарищ Дзержинский.
Враги наши создавали целые легенды о всевидящих глазах ЧК, о вездесущих чекистах. Они их представляли себе какой-то громадной армией. Они не понимали, в чем сила ВЧК. А она состояла в том же, в чем и сила Коммунистической партии, — в полном доверии трудящихся масс. «Наша сила в миллионах», — говорил Феликс Эдмундович. Народ верил чекистам и помогал им в борьбе с врагами революции. Помощниками Дзержинского были не только чекисты, а тысячи бдительных советских патриотов.
На VII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин говорил: «Когда среди буржуазных элементов организуются заговоры и когда в критический момент удается эти заговоры открыть, то — что же они открываются случайно? Нет, не случайно. Они потому открываются, что заговорщикам приходится жить среди масс, потому что им в своих заговорах нельзя обойтись без рабочих и крестьян, а тут они в конце концов всегда натыкаются на людей, которые идут в… ЧК и говорят: «А там-то собрались эксплуататоры»».
В особом отделе 10-й армии
По распоряжению Ф. Э. Дзержинского в декабре 1919 года я был направлен на работу в особый отдел ВЧК 10-й армии, которая вела наступление на Царицын. Бои шли упорные, кровопролитные. Деникин понимал, какую важную стратегическую роль играл этот город на Волге, и всеми способами старался удержать его.
Наша армия очень рассчитывала на свою артиллерию. Но вот беда! Не хватало снарядов. Экономили мы их как могли, но вскоре наши скудные запасы совершенно иссякли. С нетерпением ожидали подвоза снарядов. Тогда можно было бы пойти на приступ вражеских позиций и штурмовать город. И вот наконец долгожданные подводы. Все бойцы повеселели. Артиллеристы зашевелились. Снаряды моментально были разобраны.
…Появилась неприятельская конница. Артиллеристы дали залп… Но что это?! Снаряды ложились точно, по цели. А разрывов не было видно. Дали еще залп, затем еще и еще. Результат тот же: снаряды не рвались. И тут кто-то закричал: — Братцы, снаряды-то с песком! А конница приближалась все ближе и ближе. Снаряды продолжали ложиться по цели, но разрывов не было. Было очевидно, что к снарядам кто-то приложил свою вредительскую руку.
Выручили пулеметы. Когда деникинцы уже совсем приблизились, застучали «максимы», бойцы дружным ружейным огнем поддержали пулеметчиков. Атака белых захлебнулась.
Но вот наконец доставлены еще снаряды, на этот раз настоящие.
…Наши части пошли в атаку. Деникинцы защищались отчаянно. Все, что можно было, они бросили в бой. Красноармейцы с трудом, медленно, но все же продвигались в глубь обороны врага, занимая укрепления одно за другим.
И вдруг на одном из участков сражения бойцы увидели удивительную картину: откуда-то появились странно одетые конники. Вооруженные клинками и винтовками, они лихо мчались на нас, а длинные полы их черных одеяний развевались по ветру. Это был полк «Христа-спасителя», состоявший исключительно из священников. Видно, плохи были дела у Деникина, если он посадил на коней вооруженных попов. Служители Иисуса Христа вели себя отнюдь не по-христиански: размахивая клинками, они бросились рубить «антихристов». Но полк «Христа-спасителя» — увы! — не спас белых.
Вылетела наша кавалерия, врезалась в гущу поповских ряс. И через несколько минут половина «христовых воинов» была положена на месте, а другая, преследуемая нашими конниками, бросилась наутек.
Когда Царицын был взят и мы вошли в город, страшное зрелище предстало перед нами. По всему городу видны были следы кровавых злодеяний деникинцев. Отходя, белые подожгли многие здания, взорвали электростанцию и водокачку. Город остался без света и воды.
Через несколько дней после взятия Царицына мы организовали похороны жертв белогвардейщины. С проволокой на шее их находили в оврагах и канавах на окраинах Царицына, куда белогвардейцы свозили трупы казненных. Рабочие дали клятву отомстить врагам за погибших товарищей — лучших сынов народа, которые и в дни разгула деникинцев не покорились врагу.
Сразу же после взятия города в особый отдел стали приходить группами и в одиночку рабочие, сообщая об оставшихся в Царицыне агентах белой контрразведки, а также о притаившихся предателях и пособниках деникинских палачей.
Благодаря помощи трудящихся многие из них были выявлены. Некоторые сумели проникнуть на весьма ответственные должности в советских учреждениях и в Красной Армии. Все они получили по заслугам.
Спустя неделю в Царицын прибыл М. И. Калинин. Пробирался он сюда с трудом — на лошадях, в пургу. Поезда не ходили из-за снежных заносов. В тот же день, вечером, в театре «Парнас» состоялось торжественное заседание, посвященное освобождению Царицына. Михаил Иванович приветствовал командиров и красноармейцев, занявших город, а также трудящихся Царицына. Его приезд был встречен с огромной радостью. Выступление М. И. Калинина вдохновило воинов и тружеников Царицына на новые боевые и трудовые подвиги.
Из Царицына наши войска стали наступать в направлении станиц Великокняжеская, Котельниково, Тихорецкая и города Армавира. Обстановка на Дону была для нас не из благоприятных. Нам приходилось проходить по местам, население которых сочувственно относилось к деникинцам. Видимо, оголтелая пропаганда белых, запугивание и нелепые выдумки о большевиках возымели свое действие. Да и богатые станичники настраивали против нас своих односельчан. В станицах почти не было мужчин: одни старики, женщины и дети.
Когда мы останавливались для отдыха, ни за какие деньги ничего нельзя было достать. А ведь станицы в тех краях богатые. И вдруг я узнаю, что наши разведчики ни с того ни с сего «полюбились» жителям. Раньше хлеба не было, а теперь появились и сало и яйца. Сами разведчики ходят сытые и с товарищами делятся. Я обратился к старшему разведки товарищу Панкратову.
— Что за чудо? — спрашиваю.
— Это верно, — отвечал он, — чудо, да еще святое. Бог помог!
Что за притча! Уж не спятил ли? Или дурачится? Вроде как не пристало: человек пожилой, обстоятельный.
— Объясните же толком! — говорю я ему. А он, улыбаясь, отвечает:
— Может быть, я, товарищ начальник, со своими ребятами поступаю неправильно, не по-партийному, но другого выхода нет. Хлеба и других продуктов здесь, в станицах, нам не продают и даром не дают. Как же быть, чтобы моим разведчикам голодными не ходить? Пришлось пойти на такую «военную хитрость». Как были мы в станице Великокняжеской, помните, там еще была такая церковь богатая, я и приказал моим разведчикам «вооружиться» маленькими иконками Иисуса Христа, Николая Чудотворца и других святых. Каждый получил по иконке и прикрепил ее на шнурке. Когда подходим к станице, я ребятам командую: «Надеть иконки!» Они поверх пальто или полушубков их и надевают (разведчики у нас ходили в штатском). Затем расходимся кто куда, выбирая дома побогаче. Это уж я строго-настрого приказал: заходить только к кулакам. Приходим в дом и обращаемся к хозяевам:
— Здравствуйте, рабы божьи!
Смотришь, кто с печки спускается, кто с кровати поднимается, а кто из подполья лезет.
Тут мы направляемся сразу в передний угол, поближе к иконам, делаем два-три поклона, крестимся. Ну, а уж после этого хозяева к нам с полным доверием относятся, мы становимся своими людьми. Несут все, чем богаты, на стол, угощают, чаем поят, расспрашивают, сами рассказывают. Тут мы узнаем, что им известно о белых, кто и как помогал белым из станицы, кто красным сочувствует. А иногда и другие сведения получали: где банды скрываются, где и когда белые намерены объявиться. Ну, конечно, на дорогу с собой дают продуктов. И редко когда деньги берут. Но я все же приказал разведчикам оставлять деньги на столе, даром ничего не брать…
Ну что тут было делать с ними? Вот уж, действительно, и смех и грех.
Рядом со мной стоял мой заместитель.
— Как вы, товарищ Фомин, насчет того, чтобы поужинать яишенкой с ветчинкой? — шутливо сказал он. — В самый бы раз!
— Да рановато, — говорю, — солнце еще не село. А сам подтянул потуже пояс: сегодня не удалось нам ни позавтракать, ни пообедать. Даже кипятку нельзя было достать. Обходились одними сухарями. Ехали мы на паре лошадей, в санях, и в нас сразу признавали советских начальников. Вот и пришлось нам вдоволь поголодать. И все же я категорически запретил разведчикам пользоваться их «тактическим приемом». Не к лицу советским воинам!
Вскоре, однако, подтянулись наши обозы, стали нас лучше снабжать, и больше уже незачем было разведчикам прикидываться богомольными.
Матренинский женский монастырь
Летом 1920 года на Украине чекистам вместе с частями Красной Армии пришлось вести упорную борьбу против бандитов, шайки которых, состоявшие главным образом из кулаков, грабили население, убивали коммунистов, работников советского аппарата, активистов, вредили Советской власти чем только могли.
Из особого отдела ВЧК 10-й армии Северного Кавказа я тогда был переведен опять на Украину. Приехал я в Харьков, представляюсь начальству. Предлагают поехать заместителем начальника особого отдела ВЧК побережья Черного и Азовского морей. Я уже собрался отбыть на место нового назначения, но мне сказали:
— Вам, товарищ Фомин, придется на некоторое время задержаться в Харькове и принять участие в одной серьезной операции. Обнаружено местонахождение штаба одной крупной банды. Пойдите к старшему уполномоченному Д. П. Румянцеву, и он вас ознакомит со всеми материалами.
Румянцев вручил мне большую папку с надписью: «Матренинский женский монастырь». Из нее я узнал следующее.
В районе Чигирин — Черкассы, в Знаменских лесах, на возвышенности «Холодный яр», стоит женский монастырь. Игуменья монастыря — «преподобная» Матрена. Монастырь как монастырь. Ничего за ним особенного не замечалось. Ходят монахини, молятся. Колокольным звоном зазывают к себе верующих. Иногда устраивают вокруг монастыря шествия — крестные ходы.
Правда, с некоторого времени в женском монастыре появились монахи. Но и тут удивляться не приходилось. В гражданскую войну некоторые монастыри были разрушены, и «святые братья» или «святые сестры» пристраивались к другим монастырям. Пришлось и этому женскому монастырю потесниться и выделить несколько келий для «святых братьев» — епископа Никодима и еще нескольких монахов.
В районе монастыря орудовали банды: убивали коммунистов и советских работников, угоняли скот, грабили население, останавливали поезда. Главари бандитских шаек по кличке «Черепаха», «Заболотный», «Кочубей» и другие, собрав вокруг себя остатки петлюровцев, махновцев, григорьевцев, вначале действовали разрозненно, а затем объединились и создали общий штаб.
Банда, численность которой превышала тысячу человек, укрывалась в Знаменских лесах.
Однажды в особый отдел ВЧК Южного фронта явился молодой «монах» Алексей и рассказал, что творится в монастыре.
— Я пришел искать спасения у вас. Помогите мне вырваться из этого вертепа, где вместо поста и молитвы — пьянство, разврат и преступления. Я прошу и за себя и за монахиню Галю, девушку, которую я люблю и которая тоже хочет бежать из монастыря. Одним нам это сделать не удастся: поймают — убьют. Алексей сообщил, что в монастыре находится штаб-квартира бандитов. Там живут главари шаек, туда свозят награбленное, там же хранится оружие, боеприпасы, продукты. В монастыре же постоянно развлекаются члены шайки. По ночам устраиваются дикие оргии. Пример подают епископ Никодим и настоятельница монастыря Матрена. Все эти молебны, крестные ходы, колокольные перезвоны — для отвода глаз. Монастырь охраняют надежно: 50–70 вооруженных бандитов посменно дежурят вокруг монастыря. Бандитским штабом разработана специальная система сигналов. Если появляются в зоне монастыря невооруженные гражданские лица, подается сигнал малой тревоги: звонят в колокола. Когда появляется группа людей с оружием, епископ с игуменьей срочно организуют крестный ход вокруг монастыря, чтобы всех поднять на ноги и быть готовыми к сопротивлению. На колокольне установлено постоянное дежурство.
Вблизи монастыря бандиты чувствуют себя в безопасности. Они знают, что всегда получат сигнал о тревоге и сумеют скрыться.
В заключение Алексей добавил:
— Мужчины, живущие в монастыре под видом монахов, — переодетые белогвардейские офицеры. Один из них — перед вами. Я прошу помочь мне.
— Мы вам поможем, — сказали ему чекисты. — Но помогите и вы нам. Взять штаб бандитов нелегко. Могут быть жертвы. А нам бы хотелось захватить штаб без потерь и кровопролития.
Получив указания, как действовать, Алексей вернулся в монастырь.
В оперативную группу по ликвидации бандитского штаба вместе с другими чекистами вошла Эльза Грундман, которую я знал еще раньше, в Москве, как женщину исключительного мужества и самоотверженности. Она первая из женщин, работавших в органах ВЧК, получила впоследствии знак почетного чекиста и орден Красного Знамени.
Для участия в операции были выделены воинские подразделения 2-й Московской бригады, которые расположились недалеко от монастыря, в двух соседних деревнях. В операции должен был принять участие и наш отряд особого назначения.
И вот однажды поздним вечером тайком прибежала к нам из монастыря монахиня Галя. Сегодня ночью, сообщила она, намечено совещание всех главарей банды.
Стояла непроглядная темень, когда мы направились к монастырю. Вошли в лес. Осторожно двигаемся вдоль неширокой просеки. Вот и деревня Субботино — в трех километрах от монастыря. Здесь наготове стоят подразделения 2-й Московской бригады под командой Жилина-Дунайского, имевшего большой опыт по борьбе с бандитизмом. (Впоследствии он был за боевые заслуги награжден орденом Красного Знамени.)
Сделали небольшой привал. Встретились с командирами, еще раз напомнили им план действия.
Проверив оружие, мы направились к монастырю. Каждый имел определенное задание. Мне поручили взять епископа Никодима, Эльзе Грундман — настоятельницу монастыря Матрену. Группа чекистов должна была арестовать главарей банды, отряд особого назначения — захватить охрану монастыря.
К монастырю подошли как можно тише. Часовых моментально обезоружили, но тишина была нарушена. Несколько бандитов, выскользнув из наших рук, бросились на колокольню, чтобы поднять тревогу. Группа красноармейцев кинулась вслед за ними. Однако бандиты спешили напрасно. Колокола безмолвствовали: языки у всех колоколов были заранее сняты Алексеем.
Тем временем каждый из нас выполнял свое задание. Эльзу Грундман Галя сразу повела в покои настоятельницы. Заслышав шум и почувствовав недоброе, «преподобная» Матрена попробовала выскочить наружу. Но не тут-то было. Галя предварительно закрыла ее на замок.
Епископа я застал в постели. Приказал ему одеться и вывел во двор, где уже находились другие арестованные. Как раз в этот момент чекисты выводили главарей. На них нагрянули так внезапно, что они сразу не сообразили, в чем дело. Их моментально обезоружили и приставили к ним усиленный конвой. А в это время в окрестностях монастыря части 2-й Московской бригады прочесывали местность.
К утру банда была полностью ликвидирована.
Отправив арестованных в Харьков, мы занялись трофеями. На другой день из монастыря двинулся целый обоз. Вывозили спрятанные в обширных подвалах и складах «божьей обители» станковые пулеметы, винтовки, патроны и ручные гранаты. Были обнаружены и огромные запасы награбленных у населения продуктов.
Дело генерала Слащева
В 1920–1921 годах я работал заместителем начальника и затем начальником особого отдела ВЧК побережья Черного и Азовского морей в городах Николаеве, Одессе, Севастополе, а также председателем Крымской областной ЧК в Симферополе.
В Севастополе после поспешного отступления белой армии ко мне в руки попало много документов врангелевской контрразведки. Среди них были материалы о генерале Слащеве, о которых я счел нужным сообщить Ф. Э. Дзержинскому.
Возможно, сама по себе история белого генерала Слащева и не представляла бы большого интереса, если бы она не характеризовала в какой-то степени состояние контрреволюционных сил в то время и не свидетельствовала о разложении белой эмиграции, которая и по численности и по масштабу своей деятельности все же была опасна. Ведь именно из этой среды иностранные разведки вербовали шпионов, диверсантов, лазутчиков. Легко понять, почему Ф. Э. Дзержинский внимательно следил за белой эмиграцией и заинтересовался делом генерала Слащева.
Яков Александрович Слащев родился в 1885 году, окончил Павловское военное училище, а потом военную академию генштаба. Преподавал в Пажеском корпусе. В начале первой мировой войны был командиром роты, а в 1916 году — командиром полка. В гражданскую войну уже в чине генерала занимал крупный командный пост в деникинской армии.
20 марта 1920 года генерал Деникин направил из Феодосии письмо председателю военного совета Добровольческой армии генералу Драгомирову:
«Многоуважаемый Абрам Михайлович, — писал он, — три года российской смуты я вел борьбу, отдавая все свои силы и неся власть, как тяжелый крест, ниспосланный судьбой. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых, и хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее. Предлагаю военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование».
Когда стало известно, что Деникин подает в отставку, между белыми генералами Врангелем, Шилингом, Слащевым и другими началась грызня из-за поста правителя юга России. Деникин был против кандидатуры генерала Шилинга, потому что тот оставил Одессу. Часть белого офицерства выдвигала Врангеля, а другая часть предлагала кандидатуру генерала Слащева. Однако военный совет остановил свой выбор на Врангеле и назначил его правителем юга России и главнокомандующим русской армией.
В армии Деникина Слащев занимал пост главнокомандующего войсками Крыма и Северной Таврии.
Впоследствии Врангель назначил Слащева командиром отдельного корпуса.
В Николаеве летом 1920 года мне приходилось читать перехваченные донесения генерала Слащева, наступавшего на Херсон — Николаев, примерно такого содержания: «Главнокомандующему русской армии генералу Врангелю. Такого-то числа во столько-то часов Чаплинку взял, кого нужно расстрелял тчк Слащев». Такие телеграммы Слащев посылал Врангелю, когда занимал и другие населенные пункты Херсонщины.
Когда генерал Слащев командовал в Крыму вторым армейским пехотным корпусом, по сведениям разведки и перебежчиков, нам известно было, как жестоко слащевская контрразведка расправлялась с семьями командиров, красноармейцев, матросов, со всеми заподозренными в сочувствии большевикам. На станции Джанкой, например, редкий день проходил без того, чтобы на телеграфных столбах не висели люди, боровшиеся за власть Советов.
В этом отношении Слащев ничем не отличался от других белых генералов. Неслыханными зверствами они стремились добиться повиновения жителей. Но дикие расправы с каждым днем лишь увеличивали недовольство населения. Многие уходили в партизаны.
Врангель ненавидел Слащева, видя в нем основного претендента на свое место главнокомандующего. Он боялся, что его конкурент при случае воспользуется своим влиянием среди определенной части офицерства и сместит его. Врангель решил устранить Слащева, и прежде всего лишить его должности командира корпуса. Но чтобы не вызвать недовольство офицеров — приверженцев Слащева, решил снять его «с почетом»… Был издан специальный приказ, в котором выражалась тревога за состояние здоровья Слащева и предлагалось ему заняться лечением. В заключение выражалась надежда, что, оправившись, генерал Слащев «вновь поведет войска к победе». За особа выдающиеся «заслуги» генералу Слащеву «именоваться впредь Слащев-Крымский»…
Оказавшись не у дел, Слащев прибыл в Ливадию и остановился на даче, ранее принадлежавшей министру двора барону Фредериксу. Врангель был доволен и не мешал Слащеву проводить время так, как тому заблагорассудится.
За несколько дней перед отступлением белой армии из Крыма Слащев предложил сформировать десант и пойти в наступление на Одессу. Врангель через генерала Кутепова передал Слащеву: «Если он желает продолжать борьбу, то благословляю его остаться в тылу противника для формирования партизанских отрядов».
О том, какой панический характер носило бегство белых из Крыма, можно судить по воззванию, с которым Врангель обратился к ним 11 ноября 1920 года: «Ввиду объявления эвакуации для желающих — офицеров, других служащих и их семей — правительство юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают выезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море, кроме того, совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственной опасности от насилий врага, оставаться в Крыму. Врангель».
Прочитав это, генерал Слащев, усмехнувшись, сказал:
— Одним словом, спасайся, кто может! А кто не может, оставайся и вручай свою судьбу в руки божьи и большевиков.
Слащев посадил свою жену на вспомогательный крейсер «Алмаз», сам сел на ледокол «Илья Муромец» и отправился в Константинополь.
В мае 1921 года я был переведен в Симферополь. Один из приятелей Слащева, проживавший в Симферополе, получил из Константинополя письмо от известного эсера Федора Баткина. Это письмо попало к нам в руки. В нем говорилось, что Слащев выражает желание вернуться на родину, чтобы отдать себя в руки Советского правительства.
Письмо это я направил в Харьков начальнику особого отдела ВЧК Южного фронта. А он поехал с ним к председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому. Возник вопрос: стоит ли начинать переговоры с генералом Слащевым о его возвращении в Советскую Россию? Местные работники высказались отрицательно. Но в Москве сочли нужным начать переговоры со Слащевым.
Феликс Эдмундович отлично знал, какие «лавры» стяжал себе генерал Слащев. Неслыханными жестокостями, кровавыми расправами над лучшими сынами нашей родины прославил себя этот белогвардеец. Но интересы государства требовали дальновидной политики: возвращение генерала Слащева в Советскую Россию даст возможность использовать его самого в целях разложения эмиграции. Да и сам факт его возвращения в Россию имел бы определенное политическое значение.
Вскоре в Крым приехал из Харькова особоуполномоченный ВЧК с письмом, в котором было сказано: «По распоряжению председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского к вам направляется в Крым товарищ для ведения переговоров с генералом Слащевым, находящимся в Константинополе. Вся работа особоуполномоченного должна проходить под вашим контролем. Прошу оказывать ему помощь».
Нам стало известно, что генерал Слащев с женой и ребенком проживает в Стамбуле. Средств к жизни не имеет. Занимает старую маленькую хибарку, почти без всякой обстановки.
Как только Слащев прибыл из Крыма в Константинополь (это было в ноябре 1920 года), Врангель произвел над ним суд чести. Из старших офицеров была создана специальная комиссия. Ему предъявили два обвинения.
Первое из них — пособничество большевикам. Да, как это ни странно, генерал Слащев обвинялся в том, что оказывал услуги Советской власти: дескать, зверства, чинимые им в захваченных районах, восстанавливали местное население против правительства Деникина и Врангеля и во многом способствовали возникновению партизанских отрядов в Крыму — красных и зеленых.
Второе обвинение было иного рода: Слащева судили за самовольный расстрел полковника Протопопова — ставленника и любимца Врангеля.
Суд признал, что генерал Слащев не может быть более терпим «в рядах русской армии». Его разжаловали в рядовые. Генерал Врангель в тот же день, 21 ноября 1920 года, приговор утвердил.
Очень скоро мы смогли убедиться, что Слащев действительно разочаровался в политике контрреволюционных организаций, продолжавших антисоветскую деятельность за границей. С пристальным вниманием он следил за событиями в Советской России и горячо говорил о своем желании получить прощение у Советского правительства, чтобы иметь возможность честной службой искупить свою вину перед народом.
Феликс Эдмундович просил нас регулярно и подробнейшим образом сообщать ему о переговорах со Слащевым, и все дальнейшие указания по этому вопросу мы получали от Ф. Э. Дзержинского. Он поручил передать генералу Слащеву, что Советское правительство разрешает ему вернуться на родину и обещает обеспечить работой" по специальности (Слащев еще до мировой войны занимался преподавательской деятельностью в высшем военном учебном заведении).
Получив такой ответ, Слащев, однако, поставил ряд своих условий: во-первых, он хотел бы получить от Советского правительства грамоту о неприкосновенности личности на территории Советской страны. Во-вторых, намереваясь направить свою семью — жену и ребенка — к родным в Италию, он просил обеспечить их валютой или ценностями. Кроме того, Слащев предупредил, чтобы весь разговор с ним о его намерении вернуться в Советскую Россию сохранялся в тайне, особенно на территории Турции, и был бы известен только узкому кругу лиц: тем, которых уполномочили вести переговоры с ним.
В ответ на это Феликс Эдмундович решительно заявил:
— Если Слащев желает вернуться на родину, то пусть приезжает к нам с семьей. Работой он будет обеспечен, и ему будут созданы нормальные материальные условия. Валюты или ценности для обеспечения его семьи мы дать не можем. Также не можем выдать ему и грамоту о неприкосновенности личности. Генерал Слащев достаточно известен населению Крыма своими зверствами… Если с ним случится что-нибудь, то наши враги используют это против нас. А под охраной держать его нам нет надобности.
После некоторых размышлений Слащев в конце концов пришел, как нам передали, к такому заключению:
— Не надо мне никакой гарантии… Да и что эта бумажка может мне дать? Приеду я, скажем, на пароходе в Севастополь и пойду по городу, а по пути меня встретит и узнает кто-либо из тех, у кого я расстрелял или повесил в Крыму близкого человека. Тут уж никакая грамота не поможет…
Осенью 1921 года Слащев прибыл на пароходе в Севастополь. С парохода он был перевезен на станцию железной дороги в вагон Ф. Э. Дзержинского (Феликс Эдмундович пожертвовал своим отдыхом, прервал свой отпуск и вместе со Слащевым выехал о Москву).
Генерал Слащев после раскаяния был амнистирован Советским правительством. Через некоторое время он выступил по радио с обращением ко всем генералам, офицерам, солдатам русской белой армии и русским эмигрантам.
«Я — бывший генерал Слащев-Крымский, — говорилось в обращении, — добровольно вернулся на родину, в Советскую Россию. Я раскаялся в своих грехах и получил прощение от Советского правительства. Мне предоставлено право продолжать военную службу, созданы хорошие материальные условия… Я призываю вас всех последовать моему примеру. Родина прощает раскаявшихся и искренне желающих послужить народу».
По собственной инициативе Слащев несколько раз выступал по радио и написал несколько писем за границу. И они, конечно, сыграли свою роль в том, что вскоре в Советскую страну начали возвращаться эмигранты. Среди них было немало видных военных и гражданских специалистов.
Возвращение генерала Слащева, а затем и ряда других известных и влиятельных лиц окончательно развеяло миф о репрессиях, чинимых большевиками над возвратившимися белыми эмигрантами, которых-де всех, вплоть до рядовых, преследуют, арестовывают и даже расстреливают.
Сразу же по возвращении на родину Слащев получил штатную должность преподавателя тактики в Высшей тактической стрелковой школе РККА. К работе он относился добросовестно и проявил себя как крупный военный специалист.
Кроме преподавательской работы, Слащев активно сотрудничал в военной прессе, особенно в последние годы своей жизни. Подготовил к изданию книгу «Общая тактика».
Теперь Слащеву по роду своей деятельности приходилось все время общаться с командным составом Красной Армии. Большинство слушателей были участниками гражданской войны. Слащев мог видеть, что собой представляет командный состав Красной Армии. Перед ним были настоящие патриоты, герои, боровшиеся за счастье народа, — мужественные, честные, бескорыстные.
Незадолго перед смертью Слащев говорил: «Много пролито крови… Много тяжелых ошибок совершено. Неизмеримо велика моя историческая вина перед рабоче-крестьянской Россией. Это знаю, очень знаю. Понимаю и вижу ясно. Но если в годину тяжелых испытаний рабочему государству придется вынуть меч, я клянусь, что пойду в первых рядах и кровью своей докажу, что мои новые мысли и взгляды и вера в победу рабочего класса — не игрушка, а твердое, глубокое убеждение».
Смерть постигла Слащева при обстоятельствах, которые он предвидел, собираясь вернуться на родину.
11 января 1929 года на московскую квартиру к нему явился неизвестный молодой человек и спросил:
— Вы бывший генерал Слащев?
Получив утвердительный ответ, неизвестный в упор выстрелил в него и скрылся. Были приняты меры к розыску. Стрелявшего задержали. Он назвал себя Коленбергом и заявил, что убил, мстя за своего брата, казненного по распоряжению Слащева в годы гражданской войны в Николаеве. По окончании следствия Коленберг был осужден.
Нетерпимость к ложным доносам
В. И. Ленин постоянно требовал от чекистов органически сочетать в своей работе непримиримость к врагам революции с чуткостью в отношении честных советских граждан. 3 декабря 1918 года на заседании комиссии Совета рабоче-крестьянской обороны под председательством В. И. Ленина обсуждался вопрос о работе ВЧК. В одном из пунктов проекта предложений, составленного В. И. Лениным, предлагалось более строго преследовать и карать расстрелом за ложные доносы.
Ф. Э. Дзержинский на протяжении всей своей работы в органах ВЧК — ОГПУ во всех приказах, письмах, беседах, выступлениях неизменно подчеркивал необходимость строжайшей проверки всех заявлений, прибегая к арестам лишь в случаях явной необходимости и лишь после того, как очевидность преступления доказана. За ложные доносы и нарушения революционной законности строго наказывать, вплоть до расстрела, — такова была установка Ф. Э. Дзержинского чекистам.
24 ноября 1920 года был издан приказ Дзержинского о тщательной проверке обстоятельств дела лиц, привлекаемых к ответственности. В органы ВЧК на местах поступало много заявлений и указаний на незаконные и преступные деяния некоторых ответственных партийных или беспартийных советских работников с просьбой возбудитьпротив них дело и привлечь к ответственности. Авторами подобных заявлений часто были лица, не заслуживающие никакого доверия, а мотивами подачи заявлений — сведение личных счетов, желание дискредитировать сотрудника, а иногда и убрать его с дороги ради своей личной карьеры.
Чтобы избежать безосновательной дискредитации граждан самим фактом расследования, предлагалось всякое заявление, поступившее в органы ВЧК о преступной деятельности советских работников и других граждан, сохранять в строжайшем секрете; поданное заявление основательно расследовать и возбуждать дело только в том случае, если подавший заявление заслуживает доверия и если заявление его не является клеветническим. Если же заявление окажется ложным, основанным на сведении личных счетов и т. п., то заявителя предлагалось привлекать к ответственности.
После освобождения Крыма нашими войсками чекистам предстояла большая работа. В Крыму осталось более 30 тысяч врангелевских офицеров и других контрреволюционных элементов. Нужно было решить, кому дать гражданские советские права и разрешить жительство в Крыму, кому предоставить право проживать в Советской стране, но в другом месте, кого выслать. Наиболее злостную часть белогвардейцев, из тех, кто причинили много вреда Советской власти, нужно было покарать со всей строгостью законов военного времени.
Сколько было попыток со стороны родственников врангелевских офицеров и других врагов Советской власти подкупом, шантажом и всякими другими способами освободить своих родственников! Но им не удавалось достигнуть своей цели. Чекисты были неподкупны и стояли строго на защите интересов партии и рабочего класса.
В тяжелой и почетной работе по закреплению Советской власти в Крыму органам ВЧК большую помощь оказывали коммунисты морских сил Черного и Азовского морей, трудящиеся Крыма.
Через четыре-пять месяцев после освобождения Советская власть в Крыму была прочно закреплена. Стала налаживаться нормальная жизнь. Войска Красной Армии, освободившие Крым, постепенно выводились в другие районы Советской республики. В Крыму была оставлена небольшая группа войск под командованием товарища Якира.
Как представитель Крымревкома, Якир оказывал большую помощь Крымской областной чрезвычайной комиссии. Среди чекистов, работавших в то время в Крыму, и по сей день сохранилась светлая память об Ионе Эммануиловиче.
Особый отдел ВЧК побережья Черного и Азовского морей и его отделения на местах были расформированы. Вся работа по линии органов ВЧК была сосредоточена в руках Крымской областной чрезвычайной комиссии в Симферополе и ее органах на местах.
Хочется рассказать об одном случае, который отчетливо сохранился у меня в памяти. В бытность мою председателем Крымской ЧК моим заместителем был Александр Григорьевич Грозный (Сафес) — старый чекист, пользовавшийся большим авторитетом у начальствующего состава и подчиненных. С первых же дней создания ВЧК он работал в этих органах, занимая ответственные посты.
И вот однажды А. Г. Грозный докладывает мне, что он получил сведения о существовании в Крыму подпольной белогвардейской организации, под названием «Крымский повстанческий комитет». Эта организация имеет широкую сеть агентов и готовит мятеж. Руководитель ее — бывший жандармский полковник князь Алхазов, до революции занимавший пост начальника тифлисского жандармского управления. Картина, нарисованная Грозным, была довольно мрачной.
— Откуда вы получили эти сведения? — спросил я.
— Один наш нештатный сотрудник уже давно занимается этим делом. До последнего дня собирались сведения. Вот папка. Ознакомьтесь с ее содержанием.
Я принялся тщательно изучать документы. Впрочем, никаких иных документов, кроме сообщений этого сотрудника, в папке не было. Из них явствовало, что в горах скрывается около 200 вооруженных человек. В городах имеется более 100 человек, составляющих ядро белогвардейского подполья, состоящего из врангелевских офицеров и местной буржуазии. Они ждут только удобного момента, чтобы поднять мятеж в Крыму и захватить власть. В Симферополе имеется штаб, куда входят 8 белых офицеров. Агенты «Крымского повстанкома» ведут антисоветскую работу в горных селениях и городах, вербуют всех недовольных Советской властью в свои ряды.
Все это показалось мне преувеличением. Ведь прошло уже около пяти месяцев после освобождения Крыма Красной Армией. Вражеские очаги были ликвидированы. Установилась спокойная мирная жизнь. Последнее, что еще нарушало спокойствие, — это две банды из местных кулаков: одну возглавлял Мустафа Курба, другую — Ибрагим. Но с ними мы вели переговоры, предлагая добровольно сдаться.
И они уже готовы были согласиться на это. А тут, оказывается, готовился контрреволюционный переворот…
Еще и еще раз пересматриваю сообщения. Отобрал сводки, где говорилось о главарях заговора, и в адресном столе навел справки об этих людях. Оказалось, что все указанные фамилии и адреса соответствуют действительности. Но что из себя представлял каждый из главарей, было неизвестно.
— Как хотите, Александр Григорьевич, — сказал я Грозному, — но мне что-то не верится в существование такой организации… А вы хорошо знаете этого нештатного сотрудника?
— Он у нас недавно. Зарекомендовал себя неплохим помощником: деятельный, находчивый, старательный. Нет оснований не доверять ему.
— И тем не менее проверить необходимо… Если вы настаиваете на аресте подозреваемых, то я дам санкцию на арест штаба (восьми человек), но только с тем, чтобы немедленно допросить их и выяснить, насколько это все серьезно. Допрашивать будем сами.
…Дежурные чекисты вводят в кабинет полного человека, лет пятидесяти пяти. Грозный спрашивает:
— Как ваша фамилия?
— Алхазов.
— Так вот, Алхазов, точнее, бывший князь Алхазов… — начал он. Но арестованный, мотнув головой, перебил его взволнованно скороговоркой:
— Какой князь? Никакого князя не знаю! Что ты говоришь, товарищ начальник?
— Подождите, не перебивайте. Нам известно, — продолжал Грозный, — все о вашей деятельности.
153
В ваших же интересах не запираться и рассказать правду о вашей организации.
— Какая организация?! — Алхазов говорил с сильным восточным акцентом, и, оттого что волновался, слова его были не совсем понятны. — Ты сам, начальник, князь? Да? Нет, не князь… А почему я князь? — видимо, этот титул более всего задел Алхазова.
— Кто вы такой и чем занимаетесь? — вмешался я.
— Я бедный кавказский еврей. Живу здесь, в Симферополе, и торгую. Меня здесь все знают. Спросите кого угодно. У меня была лавка, совсем маленькая — торговал фруктами и водой. Пятнадцать лет держал, а теперь уже два года не торгую — больной я. Совсем больной, почки лечить надо. Вот мои рецепты.
Из бокового кармана «князь» Алхазов стал вытаскивать бумажки — многочисленные рецепты и больничные справки.
Я спросил, знал ли он таких-то, и назвал по фамилиям других арестованных из штаба «Крымповстанкома».
— Никогда не слышал, никого не знаю, — отвечал Алхазов.
— Есть ли у вас, Александр Григорьевич, к нему еще вопросы? — обратился я к Грозному.
Тот отрицательно качнул головой.
Я велел увести арестованного.
Следующим привели высокого парня в кожаной тужурке — «начальника штаба», как значилось в сообщении. Он оказался шофером из гаража Крымревкома, не раз подвозил меня с заседания ревкома на работу или домой.
— Что ж, будем еще допрашивать? Грозный был смущен и подавлен.
— Чего уж тут, — сказал он. — Вижу, что все это состряпано нечистыми руками.
Грозный только виновато развел руками и тут же попросил меня подписать ордер на арест нештатного сотрудника, оказавшегося аферистом.
— Охотно подпишу этот ордер. Немедленно займитесь им. А арестованных надо сию же минуту освободить.
Люди тотчас же были освобождены из-под стражи, каждому из них мы принесли свои извинения.
Провокатора арестовали в ту же ночь. По договоренности с председателем военного трибунала группы войск Крыма его дело передали одному из наиболее опытных следователей. Поскольку это был наш нештатный сотрудник, мы не хотели сами вести следствие, чтобы исключить малейшую возможность необъективного подхода к делу.
Тщательным расследованием было установлено, что этот провокатор ходил по квартирам родственников белых офицеров и контрреволюционеров из числа высланных на Север, получал от них деньги, вещи, продукты якобы для передачи. Военный трибунал приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу.
Мы созвали специальное совещание оперативного состава Крымчека, на котором А. Г. Грозному по материалам этого дела поручено было выступить с докладом.
Этот случай, пусть и единичный, показал, что наряду с честными и самоотверженными людьми, добровольно помогавшими органам ВЧК, к нам проникали и такие провокаторы. Нам пришлось сделать серьезные выводы из всей этой истории. Еще раз убедились мы в глубокой правоте В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского, учивших с величайшей осторожностью подходить к заявлениям и сообщениям, поступающим в наши органы.
Конференции трудящихся
Ф. Э. Дзержинский считал необходимым для укрепления связей с трудящимися, чтобы руководители органов ВЧК — ОГПУ регулярно выступали перед массами, устраивали конференции. Кроме того, он предлагал широко освещать работу чекистов в печати, разумеется не разглашая при этом то, что не подлежало разглашению.
Летом 1920 года я впервые побывал на такой конференции в Одессе. Ее решили провести в клубе совторгслужащих. Когда я пришел в клуб, меня встретил председатель Одесского губчека М. А. Дейч, который был организатором конференции. Пригласил в президиум. Свободных мест в обширном зале уже давно не было. Даже все проходы были заполнены до отказа.
— Смотрите, — сказал я Дейчу, — яблоку упасть негде. А кто-то еще сомневался: не пойдет-де народ, при пустом зале будем проводить конференцию… До начала четверть часа осталось, а народ все идет и идет. Это хорошо!
— Хорошо-то хорошо, а вот как мы высидим при такой скученности? Ведь никто и часу не выдержит в этой духоте.
И решительно добавил:
— Надо перенести конференцию в оперный театр. Там места всем хватит.
Это предложение Дейча было поддержано всеми членами президиума. Люди хлынули в оперный театр, где был самый большой зал, но и он едва-едва вместил всех желающих попасть на конференцию.
М. А. Дейч вышел на трибуну и начал доклад. По существу, это был отчет губчека о работе за последние несколько месяцев перед трудящимися города Одессы. Дейч рассказывал о том, как одна за другой были раскрыты и обезврежены контрреволюционные организации в городе и его окрестностях.
Слушали его внимательно. Но едва только Дейч касался мер наказания, вынесенных коллегией губчека, из ближайших рядов раздавались отдельные выкрики: «Позор! Позор!». Дейч не обращал на них внимания и невозмутимо продолжал доклад. Мы знали, что эти выкрики принадлежат эсерам и меньшевикам.
Но вот в один из самых кульминационных моментов доклада выкрики получают поддержку в разных концах зала. Видимо, крикунам удается создать обстановку, которой бессознательно начала поддаваться какая-то часть аудитории.
Дейч прервал свой доклад и спокойно сказал:
— Товарищи, мне для окончания доклада нужен еще час. Затем начнутся прения, и каждый может выступать. Говорите что хотите и сколько хотите. Это право будет вам предоставлено. А пока что рано кричать «Позор!».
В общей сложности М. А. Дейч говорил более двух часов. Прения же продолжались… два дня. Активность присутствовавших была удивительной.
Почти все выступавшие одобряли работу губчека, говорили о необходимости помогать чекистам, призывали к революционной бдительности.
Когда кончились прения, Дейч взял слово для заключения. В частности, он сказал:
— Я вам не успел доложить еще об одном случае, который наглядно показывает значение нашей работы. Месяц назад благодаря бдительности чекистов была предотвращена гибель многих и многих тысяч людей. Зоркий глаз Чека обнаружил в катакомбах множество мин огромной взрывной силы. Весь город был заминирован и в одну секунду мог бы взлететь на воздух со всеми жителями…
Дейчу не дали договорить. Поднялся неимоверный шум. Все повскакали с мест, ринулись на сцену, к президиуму. Дейча усадили в камышовое кресло, которое стояло возле стола президиума, и под восторженные крики вынесли на театральную площадь. Минут десять Дейча вместе с креслом подкидывали в воздух.
Через несколько дней я встречаю Дейча и шутливо спрашиваю:
— Ты еще жив? Удивительно, как ты только уцелел. Я думал, что тебя на радостях разорвут на части. Смотри, такие конференции опасно проводить.
А Дейч улыбается. После этой конференции, сказал он, письма, заявления хлынули прямо потоком Людей, желающих помочь чекистам, стало очень много. Приходят рабочие, служащие, матросы, ремесленники, крестьяне.
— Представляешь себе, какие это замечательные помощники нам в борьбе с контрреволюцией. И главное, бескорыстные помощники! Никто из них не преследует ни малейшей выгоды себе… Я только теперь убедился, какую великую роль в нашем деле могут играть такие беспартийные конференции. Не случайно Феликс Эдмундович так настойчиво советовал проводить их.
Потом мне самому не раз приходилось проводить подобные конференции. И всегда они давали замечательные результаты.
Для упрочения Советской власти в Крыму потребовалась напряженная работа всех партийных и советских органов, в том числе и ЧК, и такая работа проводилась на протяжении первых пяти-шести месяцев после занятия нами Крыма. Это легко понять. Крым был последней цитаделью белогвардейщины и буржуазии и представлял собой в то время скопище контрреволюционных элементов. Условия для чекистской работы в Крыму были особенно сложными. Местное трудовое население было терроризировано врангелевцами. Многие предпочитали ни во что не вмешиваться.
Заручившись согласием партийных органов, мы развернули широкую разъяснительную работу среди рабочих и крестьян. Сначала конференции были проведены в трех наиболее значительных промышленных городах Крыма — Севастополе, Симферополе и Керчи. На каждой конференции после доклада выступали трудящиеся. Их очень интересовало, что сделано и делается органами ВЧК для укрепления Советской власти в Крыму, какую работу провели органы ВЧК сразу после освобождения Крыма. Выступавшие признавались, что до этого они плохо представляли себе деятельность чекистов и побаивались их, но теперь охотно будут помогать органам ВЧК.
Позднее такая же конференция состоялась в пограничном городе Проскурове, на Украине. Поблизости был большой железнодорожный узел Гречаны. Пришли многие рабочие. Конференция шла в переполненном театре.
Желание населения помочь органам ВЧК было очень большим. Иногда меня даже будили среди ночи и сообщали: там-то и там-то появился незнакомец, надо проверить, не шпион ли. Увидят, что кто-то покупает золотые вещи, немедленно сообщают мне: «Не за границу ли собирается переправлять?» Одним словом, мы сразу же ощутили помощь местного населения.
Конференции трудящихся играли большую роль в нашей работе. Они превращались в своеобразные отчеты органов ВЧК перед населением, укрепляли ту силу, на которую постоянно опирались чекисты, — связь с народными массами.
«Рыбаки»-шпионы
Начальник военно-контрольного пункта особого отдела ВЧК побережья Черного и Азовского морей Илья Ефимович Любченко просит принять его по срочному делу. Через несколько минут он уже у меня в кабинете и докладывает:
— Получены сведения, что в Севастополе Врангелем оставлена шпионская группа. У нее много драгоценностей и валюты. Группа тщательно законспирирована и очень осторожно ведет работу в городах
Крыма.
— Ваши сведения из достоверных источников? — поинтересовался я.
— Источники самые достоверные, — заверил меня Илья Ефимович. — Что будем делать? Прикажете арестовать?
— Нам надо их поймать с неопровержимыми уликами, да еще с такими, которые помогли бы нам распутать и некоторые другие контрреволюционные узелки.
— Улики будут, — уверенно сказал Любченко. — Правда, уж очень тонко у них дело поставлено…
— Вот вы и сами, Илья Ефимович, об этом говорите… Знаете, что мы сделаем: вы продолжайте наблюдение за этой группой, только так, чтобы ничем не выдать себя. Они работают осторожно, а мы должны за ними наблюдать в десять раз осторожнее. А потом, в самый подходящий момент, возьмем их…
Любченко ушел. Две недели он не подавал о себе вестей. Наконец является и докладывает:
— Врангелевские лазутчики готовятся к отъезду. Они приобрели рыболовную шхуну и на днях собираются в Турцию, к Врангелю.
— Вот теперь, пожалуй, и настала пора их схватить.
— Пусть они выйдут в море, тогда и схватим.
— А не упустите?
— Все будет как нужно.
— Ну хорошо, Илья Ефимович. Как находите нужным, так и действуйте. Я знаю вас как опытного чекиста.
И Любченко стал действовать по своему усмотрению.
В ночь на 10 апреля 1921 года, взяв с собой четырех моряков — чекистов, он вышел с Графской пристани на быстроходном сторожевом катере в ночной патруль по направлению к Ялте. Прошли бухту Балаклава и в открытом море увидели тихо движущуюся рыбацкую шхуну.
Катер подошел к шхуне. Там было пять человек: трое сидели, а двое лежали на дне шхуны, укрывшись рыбацкими сетями.
— Кто вы такие, откуда и куда идете? — спросил Любченко.
— Разве не видите? Мы рыбаки. Идем в море на лов рыбы.
— Пограничный дозор должен произвести у вас обыск, — заявил Любченко. — Вот наши удостоверения… У кого есть оружие, прошу сдать.
— Какое же у нас может быть оружие, — спокойно отвечают на шхуне. — Зачем оно рыбакам? Можете обыскать.
Чекисты начали обыск. Задержанные рыбаки сами помогали им: поднимали снасти, подсвечивали фонарями — ни тени страха, беспокойства или смущения.
— Ничего подозрительного не обнаружили, — сообщил Любченко один из чекистов, молодой боец.
— И не обнаружите, — уверенно сказал один из рыбаков и сердито добавил: — Потому что и обнаруживать нечего!
— Рубите дно! — приказал Любченко.
— Что вы делаете?! — в ужасе закричал пожилой рыбак. — Это моя шхуна! Вы не имеете права!
— Мы потонем! — загалдели другие.
— Не потонете, — спокойно возразил Любченко и, взмахнув топором, вонзил его в дно шхуны. Приподняли верхнюю доску и обнаружили тайник, куда были спрятаны тщательно завернутые в непромокаемые мешочки драгоценности, валюта, секретные бумаги. О существовании этого двойного дна Любченко знал еще тогда, когда шхуна оборудовалась для шпионских целей. Но до тех пор, пока врангелевские лазутчики не вышли в море, у него не было уверенности, что весь экипаж будет в сборе.
Изъятые драгоценности, валюта (на пятьдесят тысяч рублей золотом), а также пакет с бумагами вместе с арестованными были доставлены ко мне.
В ходе следствия выяснилось, что четверо «рыбаков» — офицеры разведки — были оставлены самим Врангелем и выполняли его личные указания. В частности, Врангель поручил им собрать сведения о дислокации воинских частей в Крыму, что, надо сказать, они и сделали. В перехваченном пакете мы обнаружили данные о количестве и расположении наших военных сил в Севастополе и в Симферополе. И. Э. Якир, который в то время командовал группой войск в Крыму, ознакомившись с документами, признал, что собранные шпионами данные хотя и неполно, но отражают действительное состояние наших сил в Крыму. Иона Эммануилович просил горячо поблагодарить Любченко за удачно проведенную операцию.
Дело четырех врангелевских агентов было направлено в коллегию ВЧК. Пятый — пожилой рыбак — был действительно хозяином шхуны и не принимал участия в сборе шпионских сведений. За большое вознаграждение он согласился перевезти в Турцию «контрабандистов» с их грузом. Польстившись на деньги, он оказался вместе с предателями Родины и понес заслуженное наказание.
Границу на замок!
В конце 1921 года, получив отпуск, я приехал в Москву. Однако через неделю вызывают меня в Административно-организационное управление ВЧК и объявляют, что отпуск мой прекращается и я должен немедленно выехать на Украину. Перед отъездом мне приказано было явиться к Ф. Э. Дзержинскому.
— Вам придется, — сказал мне Феликс Эдмундович, — поехать на Украину и переключиться на пограничную работу. Это ничего, что вы не знакомы с ней. Справитесь. А то, что это новое для вас дело, так ведь нам, коммунистам, приходится каждый день сталкиваться с новыми делами. Вот теперь чекисты должны заняться охраной границ.
Далее Ф. Э. Дзержинский обрисовал положение на советско-польской границе. При прямой поддержке Пилсудского в конце октября Петлюра направил из Польши на Украину два вооруженных отряда: один под командой Тютюника — на Волынь, численностью около тысячи сабель, и второй — на Подолию, в район Гусятина, около семисот сабель, под командой полковника Палия. Банды на нашей территории соединились и принялись бесчинствовать, зверски расправляться с коммунистами, грабить население.
По распоряжению Ф. Э. Дзержинского в те места выехала из Харькова группа чекистов. В ликвидации банд участвуют части корпуса Червонного казачества. Дело подходит к концу. Однако до сих пор там, по существу, нет пограничной охраны. После заключения мирного договора с Польшей в 1921 году границы охраняются батальонами Красной Армии, которые для такой службы не подготовлены и несут охрану границы слабо. В связи с этим туда и направились из Харькова и Москвы опытные чекисты.
— Границу нужно закрыть на замок, — сказал Феликс Эдмундович. — Ни один вражеский лазутчик не должен проникнуть к нам. С чего начать? В первую очередь рекомендую вам как можно скорее из командиров и красноармейцев воспитать хороших, бдительных пограничников-чекистов. Обязательно нужно войти в контакт с местным населением, чтобы оно было прямым и надежным помощником пограничной охраны. То, что произошло у нас недавно на Украине, не должно повторяться. Мы должны быть всегда начеку…
В Киеве я встретился с чекистами, только что завершившими ликвидацию банд Тютюника и Палия. Ознакомив меня с обстановкой на том участке границы, где мне предстояло работать, меня направили в Проскуров начальником пограничной ЧК.
Вместе с секретарем укома партии и председателем уездного исполкома мы прежде всего наметили план работы среди населения пограничной полосы. После ряда совещаний с местными партийными и советскими работниками по всей погранполосе мы провели митинги, чтобы мобилизовать население на помощь пограничной охране. В боевых подразделениях, несших охрану границ, были проведены собрания с командным составом и общие, совместно с бойцами пограничной охраны. Все внимание при этом было приковано к наказу Дзержинского держать границу на замке.
Попутно я занимался тщательным изучением пограничной зоны Волочиск — Сатаново — Гусятин.
На совещании чекистов-пограничников я встретил двух работников, которых знал еще по Одессе. Оба они были начальниками пограничных комендатур. Один из них, Доляцинский, был комендантом Сатанова; другой, Давыдов, — комендантом Волочиска[80]. Давыдов рассказал мне, что ему известно было о своем районе. Свою работу здесь петлюровцы вели через ротмистра польской «Дефензивы» Карпинского, который находится в Подволочиске (местечко на польской территории, являющееся продолжением нашего Волочиска) и систематически забрасывает к нам шпионов.
— Я уже нащупал одного его резидента, по фамилии Мельник, — продолжал Давыдов. — Этот Мельник периодически приезжает из Львова, переходит границу через реку Збруч, встречается со своей агентурой в нашем тылу.
— Вот с него-то, пожалуй, и стоит начать, — сказал я.
— С него и начнем, — согласился Давыдов. — Не пройдет и недели, как Мельник будет в наших руках. Заверяю вас.
Прошла неделя после этого разговора. Я уже начал беспокоиться, не впустую ли прозвучали обещания и заверения Давыдова. И вдруг Давыдов по телефону сообщает мне:
— Мельник ночью попал в засаду. Сейчас он у меня в комендатуре. Вышлите машину. Я его привезу к вам в Проскуров.
Через два часа Давыдов приводит ко мне петлюровского резидента Мельника. В присутствии своего помощника Л. С. Грушко и Д. М. Давыдова я начинаю допрашивать арестованного. Мельник путается, запирается, сам себе противоречит.
Время уже было позднее. Я решил прекратить допрос. Но Л. С. Грушко попросил разрешения продолжить допрос. Я и Давыдов ушли домой, а он еще около часу допрашивал арестованного. Затем здесь же, в своем кабинете, оставил его на ночь, приставив двух часовых: одного — в кабинете, другого — в коридоре.
Строго наказав охране не спускать глаз с арестованного, Грушко ушел. Мельник лежал на диване, притворившись спящим. Рядом в кресле расположился вооруженный красноармеец… Прошел час, другой. Послышалось мерное посапывание. Боец спал. Арестованный внимательно следил за ним, потом встал, подошел к часовому и стал трясти за плечи. Тот очнулся:
— Чего тебе?
Арестованный молча указал на дверь. Красноармеец повел его во двор. Они вышли в коридор. Там, сидя на стуле, беспечно спал другой часовой. Увидев такую охрану, Мельник воспрянул духом, надеясь убежать.
Вернувшись, он вновь лег на диван и прикрыл глаза. Прошел еще час. Снова раздается похрапывание часового. Мельник спустил ноги с дивана, сел.
— Эй! — позвал он вполголоса. Боец не пошевелился.
Арестованный, осторожно ступая, тихонько отворил дверь и прошел мимо второго часового, который также спал, и вышел во двор. Ночь была темная. Ему удалось незаметно выбраться на улицу. А там он спокойно пошел по направлению к границе. Этой же ночью он перешел вброд пограничную реку Збруч — и был таков.
Утром я встал пораньше, чтобы поскорей допросить Мельника. Меня встречает встревоженный Грушко и докладывает, что Мельник ночью бежал из его кабинета.
Легко представить себе, каково это было мне слышать. Как гром с ясного неба!
О побеге петлюровского агента я сообщил в Харьков, а оттуда дали знать в Москву. Попало мне крепко. Не менее моего расстроился, услышав о побеге шпиона, и Давыдов, но заверил меня, что это дело поправимое. Давыдов предполагал, что Мельник непременно должен снова появиться в пограничной полосе. У него большая агентурная сеть в Проскуровском уезде, с которой так просто ни он, ни его хозяева не расстанутся.
— У нас в Волочиске, — сказал Давыдов, — проживает человек, у которого родной брат находится в соседнем селении — в Подволочиске, на польской территории. Он иногда видится с братом на мосту.
— Как это на мосту? — не понял я.
— Ну да, на мосту. Наш Волочиск и польский Подволочиск разделены речкой Збруч, через нее — мост. Есть среди населения родственники, и очень близкие, проживающие в разных государствах. Где-то и как-то им нужно видеться? Местом таких встреч и выбрали мост. Это вошло в обычай. Раньше встречались просто, кто с кем хотел. Теперь я ввел такой порядок: каждый, желающий пойти на мост, должен получить разрешение…
— Ну, и что же дальше? Вы начали говорить о двух братьях, которые встречаются на мосту.
— Так вот, я и думаю привлечь их. Я поручу им разузнать, нет ли Мельника в Подволочиске, а как только он объявится, сразу сообщить нам.
В тот же день я уехал из Волочиска. С неделю Давыдов не подавал о себе вести, но вдруг является в Проскуров и рассказывает:
— Мельник объявился в Подволочиске. Жители его видели дважды, и оба раза пьяным.
— Но каким же образом нам захватить его? На ту сторону не пойдешь.
— Что верно, то верно, — ответил Давыдов. — Но он будет в наших руках, товарищ начальник. Положитесь на меня и разрешите мне действовать самостоятельно.
Я дал согласие.
Давыдов уехал и «стал действовать самостоятельно». Собственно говоря, действовал не он, а два брата Михайленко — Федор и Афанасий, на которых он очень рассчитывал и в которых не обманулся. Оба они выразили желание помочь советским пограничникам.
Афанасий — тот, что жил в Польше, пригласил к себе домой Мельника, сказав, что имеет к нему «дельце». Тот и раньше бывал у него и охотно принял приглашение. Мельник заявился поздним вечером. Это был коренастый здоровяк с бычьей шеей и красным лицом.
— Рад видеть тебя, — сказал Афайгасий и, подмигнув, добавил: — Садись за стол, у меня специально на этот случай бутылочка припасена — 60 градусов.
— О! Это дело!
Афанасий Михайленко поставил на стол бутылку, хлеб, соленые огурцы, нарезал ломтиками сало. Мельнику поставил стакан, себе стопку.
— Что ж себя обижаешь, хозяин? — гость кивнул на стопку.
— Ты не смотри на меня. Болею что-то. Много не могу пить.
— Это ты брось. Водка, она от всех болезней лечит!
— Не принимает внутренность…
— Ну дело хозяйское, мне больше останется. Сидели за столом долго. Часам к двенадцати Мельник уже не владел языком, а немного погодя свалился на скамейку. И как его ни тряс хозяин, он даже не мычал.
Хозяин вышел на улицу, прошел к реке, осмотрелся по сторонам: польских часовых не видно. Вернулся домой, взвалил Мельника на спину (ох и тяжел дьявол! Хорошо, что самого бог силой не обидел) и направился к реке. В полуверсте был мост, на котором Афанасий не раз встречался с братом. Но там наверняка часовые, да и нести далеко. Афанасий пошел вброд. Шатаясь от усталости, он выбрался на берег и сбросил Мельника на землю к ногам советского пограничника. Пьяный только хмыкнул, но не пришел в себя.
— Вот, — сказал Афанасий, — берите этого человека и несите скорей к пану Давыдову. Он его давно поджидает.
Все в том же бесчувственном состоянии Мельник этой же ночью был доставлен в Проскуров и очнулся только часа через два. Первыми его словами были:
— Где я нахожусь? Я ответил ему:
— Вы находитесь там, откуда три недели тому назад бежали в Польшу.
Мы поинтересовались, как ему удалось бежать от нас после первого ареста. Мельник обстоятельно рассказал все, как было. Из его показаний стало известно, что на Проскуровщине была петлюровская повстанческая организация. Во время ликвидации ее было обнаружено, что по всем пограничным районам Подольской губернии значительная часть кулачества и духовенства хранила оружие: винтовки, карабины, гранаты и даже пулеметы, а также боеприпасы к ним.
На Подолии была создана специальная комиссия, в которую наряду с пограничниками входили и чекисты. За два месяца они обнаружили более 4 тысяч винтовок, большое количество боеприпасов.
Граница между Польшей и Советской республикой в то время еще не была оформлена. Конфликты, возникающие на нашем участке, рассматривались все на том же мосту комендантом Давыдовым и ротмистром Карпинским. Последний старательно подбирал ключи к Давыдову, а тот в свою очередь — к Карпинскому.
На мосту через речку Збруч с польской стороны у шлагбаума всегда собиралось много народу, среди которого особенно много было торговцев. Они продавали товары представителям наших кооперативных организаций. При этом советские пограничные власти осуществляли контроль.
Как-то во время одного из свиданий Давыдова с Карпинским в связи с торговыми делами на мосту среди польских торговцев появилась молодая интересная женщина.
— Пан Давыдов, — обратилась она к коменданту, — вы хоть бы раз дали мне какой-нибудь заказ!
— Какой такой заказ?
— Ну, что-нибудь достать для вас.
— О, вы очень любезны, мадам! — галантно отвечает Давыдов.
Был он молод, недурен собой и умел нравиться женщинам.
Давыдов еще несколько раз встречал на мосту пани Софью, и всегда она кокетничала с ним. А однажды так ему сказала:
— Пан Давыдов, вы плохой кавалер! Сколько раз мы с вами встречаемся, и все на мосту да на мосту. А в гости к себе пригласить вы так и не догадались.
— Это зависит от пана Карпинского. Если он согласится пропустить вас через границу…
— О! Пан Карпинский не будет возражать.
— В таком случае нам остается только назначить время и место свидания, — ответил Давыдов. — Не возражаете, если мы с вами встретимся сегодня же вечером, часов в семь? Я вас буду ждать на берегу.
Давыдов, опытный чекист, давно уже сообразил, что пани Софья кокетничает с ним неспроста. Не иначе как что-нибудь поручил ей ротмистр Карпинский.
В назначенное время пани Софья, нарядная и веселая, перешла границу и очутилась на нашем берегу, где ее уже поджидал Давыдов.
— Нравлюсь я вам такая? — прищурив глаза, спросила она.
— Такая нарядная?
— Нет, такая решительная. Ведь это я вас на свидание вызвала…
Давыдов пошел с нею на квартиру. Там он угостил ее ликером. Пани Софья, подвыпив, разоткровенничалась и призналась, что она действительно получила от пана Карпинского задание собирать сведения о наших пограничных частях в этой зоне. Тут же она пожаловалась, что ее «хозяин» ничего не платит: только выдал пропуск для входа на мост, чтобы она могла принимать заказы у русских. Но торговля ее идет плохо, и на вырученные деньги не прожить.
Давыдов пообещал помочь ей в торговых делах, познакомить ее с солидными покупателями, с представителями кооперации. А пан Карпинский?.. С паном Карпинским ей не нужно расставаться. Она окажет большую услугу, если будет держать нас в курсе всего, что затевает пан Карпинский против Советской страны.
В дальнейшем пани Софья действительно оказала нам большую услугу, сообщая ценные сведения об агентах, направляемых на нашу территорию. Благодаря ее предупреждениям разведывательная деятельность пана Карпинского постепенно сошла на нет.
В связи с неурожаем в Поволжье, на Северном Кавказе и Украине в начале 1922 года председатель ВЦИК М. И. Калинин и председатель ВУЦИК Г. И. Петровский объезжали Украину.
Приехав в Проскуров, они выступили на городском митинге перед трудящимися. Население радостно приветствовало их.
Михаил Иванович и Григорий Иванович поинтересовались у меня, как поставлена охрана границы, какая работа ведется среди пограничников, как они несут службу, что делается для пресечения диверсионных вылазок вражеской агентуры.
— Я слышал, — сказал Михаил Иванович Калинин, — что у вас тут полным ходом идет торговля между местными жителями — как с нашей, так и с польской стороны. Верно ли это?
Я подтвердил.
— И без таможни? — поинтересовался Михаил
Иванович.
— Да, без таможни. Но под наблюдением наших представителей из пограничной комендатуры.
— Интересно посмотреть.
Я пригласил М. И. Калинина и Г. И. Петровского побывать на границе, посмотреть, как осуществляется у нас бестаможенная торговля с Польшей и как наши пограничники живут и несут службу. Привел я их на границу и показываю знаменитый мост в Волочиске. Посредине его — шлагбаум, с одной стороны стоят польские торговцы, а с другой — наши представители кооперативных организаций, рядом — пограничники, контролирующие торговые сделки.
Затем мы пошли вдоль границы. Идем по узенькой тропке, встречаем пограничника, поздоровались с ним. М. И. Калинин и Г. И. Петровский стали расспрашивать его, не ходит ли он к польским пограничникам в гости. Пограничник отвечает, что польские часовые часто приносят шоколад, папиросы и кричат: «Пан русский! Иди покурим, побеседуем!» — Но мы на их приглашение не отзываемся. Не только не подходим, но и в разговоры не вступаем. Несем свою пограничную службу так, как командиры наши учат, — закончил он.
М. И. Калинин и Г. И. Петровский одобрили такое поведение нашего пограничника и поблагодарили его за службу.
Прошли мы еще немного вдоль границы. Встречается нам второй пограничник, в легонькой старенькой шинельке, как бойцы шутили, подбитой «рыбьим мехом». На голове — буденовка со звездой, на ногах — ботинки с обмотками. А по ту сторону границы медленно прохаживается польский жолнер: в тулупе, в меховой шапке-ушанке и валенках.
Михаил Иванович Калинин спрашивает у нашего пограничника:
— А что, не завидуешь ли ты ему? — и показывает на польского солдата.
— Нет, — отвечает красноармеец и улыбается Михаилу Ивановичу, — у него все чужое, французское. А у меня, хоть и старенькое, да зато свое, советское!
— Молодец! — похвалил бойца Михаил Иванович и пожал ему руку.
— Вот какие у нас есть пограничники, товарищ Фомин, — сказал М. И. Калинин, обращаясь ко мне. — Нам нужно воспитать всех своих пограничников такими.
— У нас почти все такие, Михаил Иванович, — ответил я.
М. И. Калинин и Г. И. Петровский вернулись в Волочиск, а оттуда поехали в Проскуров. Я проводил дорогих гостей до станции и посадил в вагон.
— Михаил Иванович, — обратился я к Калинину, — не могли бы вы посодействовать нам с открытием таможни, ускорить оформление границы между нами и Польшей?
М. И. Калинин, улыбаясь, отвечает:
— Товарищ Фомин, здесь находится глава земли украинской Григорий Иванович Петровский. С ним и разговаривайте по этому вопросу.
Г. И. Петровский повернулся ко мне:
— Через две-три недели будут у вас в Волочиске таможня и смешанная комиссия по оформлению границы между Польшей и Украиной. Комиссия уже работает и скоро прибудет к вам.
Действительно, в скором времени на границе в Волочиске организовали таможню. Приехала и смешанная комиссия по оформлению границы. В нее включили меня и Давыдова. Граница была оформлена. И жизнь на границе пошла так, как и следовало бы с самого начала. С чистым сердцем теперь мы могли рапортовать Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, что граница на Проскуровском участке закрыта на замок.
Подвиги героев-пограничников
В двадцатых годах в Париже существовала так называемая «Русская армия», возглавляемая белогвардейским генералом Кутеповым — известным палачом. В марте 1927 года генерал Кутепов и его помощник генерал Александров приехали в Финляндию, в город Териоки (ныне Зеленогорск), где устроили совещание монархистов и провели смотр всех «боевых сил», состоявших из диверсантов, террористов, вредителей. На этом совещании было решено бороться против Советской власти «двумя фронтами — экономическим и политическим». Под фронтом «экономическим» подразумевались взрывы заводов, фабрик, мостов и государственных сооружений, разрушение всего, что должно было служить строительству социализма в нашей стране. Под фронтом «политическим» понималось убийство ответственных партийных и советских работников и другие диверсионно-террористические акты.
Осенью 1927 года Ленинград готовился торжественно отметить десятилетие Советской власти. Члены правительства начали съезжаться в город Ленина на юбилейную сессию Центрального Исполнительного Комитета СССР. Этот светлый и радостный праздник враги пытались омрачить убийствами и диверсиями. Вражеская разведка подготовила переброску на нашу территорию через границу четырех бандитов-террористов во главе с матерым английским разведчиком.
Но пограничники были начеку. Ни время, ни события не изгладят в памяти народа замечательный подвиг, совершенный во имя Советской Родины пограничником Андреем Коробицыным — простым пареньком из Вологодской области.
Комсомолец-пограничник Андрей Коробицын — один из тех, кто своей жизнью доказал верность матери-Родине и Коммунистической партии. Всегда серьезный, вдумчивый, он был одним из лучших бойцов своей части.
В ответственные дни празднования десятилетия Великой Октябрьской революции, когда члены правительства уже съезжались в Ленинград на юбилейную сессию, начальник заставы направлял в наряд лучших бойцов, предварительно проинструктировав каждого и предупредив, что в эти дни надо особенно быть бдительным.
В ночь на 21 октября 1927 года в наряд пошел пограничник Андрей Коробицын.
…Темная осенняя ночь на исходе, близок рассвет, но не ослабляет внимания пограничник Коробицын. Глаза зорко всматриваются вдаль, слух напряженно ловит каждый шорох. Вот качнулись кусты у старого, полуразрушенного сарая, стоявшего около границы… Треснул под чьей-то ногой сучок… И вдруг пограничник увидел четырех человек, вооруженных маузерами. Те тоже заметили пограничника и, наведя на него оружие, крикнули: «Сдавайся!» Но Андрей Коробицын вскинул винтовку и открыл по нарушителям границы огонь. Один из нарушителей сразу же был убит меткой пулей пограничника. Но в тот же момент и Андрей был ранен в ногу. Враги метнулись к сараю и оттуда стали стрелять. Превозмогая острую боль, Коробицын пополз к сараю. Кровавый след тянулся за ним, но боец не прекращал огонь. Бандиты, отстреливаясь, стали отступать к границе. Одна за другой, еще и еще, пули впивались в тело бойца-патриота, но, пока билось его мужественное сердце, пока теплилось сознание, он продолжал стрелять. Диверсанты бежали в Финляндию. Андрей Коробицын, весь изрешеченный пулями, погиб на боевом посту, защищая свою Родину…
В бытность свою начальником пограничной охраны и войск ОГПУ Ленинградского военного округа я пригласил в пограничную часть художника Дроздова, предложил ему сделать зарисовку на месте, где происходило сражение Коробицына с диверсантами. Хотелось увековечить память пограничника-героя, мужественный подвиг которого должен стать примером для всех бойцов.
Я знал, с каким вниманием и уважением относился Вячеслав Рудольфович Менжинский к защитникам рубежей нашей страны. Поехав в Москву, я захватил с собой рисунки художника Дроздова, которые мы задумали размножить литографским способом, и текст к ним. Вячеслав Рудольфович внимательно прочитал описание подвига Коробицына и тотчас же подписал разрешение на распространение рисунков. Он расспрашивал, каким тиражом будут отпечатаны литографии, хватит ли их на все части погранохраны, на все заставы, комендатуры и подразделения внутренних войск ОГПУ. Поинтересовался, поддерживаем ли мы связь с семьей Коробицына, помогаем ли ей. Вячеслав Рудольфович был очень доволен, узнав, что семья погибшего героя-пограничника получает денежное пособие, что родители героя регулярно приезжают на заставу, которой присвоено имя Коробицына.
— Все это очень хорошо, — сказал Вячеслав Рудольфович. — Держите постоянную связь с семьей героя, приглашайте родителей не только на заставу, но и в другие пограничные подразделения округа. Пустькрепнут боевые традиции, пусть наши чекисты свято чтут память Андрея Коробицына…
ЛЕТОМ 1932 года я получил приказание из Москвы выделить один дивизион из войск ОГПУ Ленинградского округа для подавления бандитских шаек в Азербайджане.
Меня предупредили: «Дивизион должен быть боевым, отправьте таких людей, которые не посрамят ваш округ».
Я поручил командиру одного из полков войск ОГПУ выделить один из лучших дивизионов для проведения операции.
Дивизион войск ОГПУ, прибыв в Азербайджан, в первый же день вступил в бой с бандитами. Среди бойцов дивизиона был комсомолец Иван Антипов — уроженец Воронежской области, сын колхозника. Группа красноармейцев, в которую входил Иван Антипов, была выделена для засад по дорогам и тропам. Антипов вместе с другим бойцом, вооруженные ручным пулеметом и гранатами, поднялись на вершину сопки.
Они выбрали место, откуда хорошо просматривалась окрестность. Внизу проходила тропа. На рассвете Антипов с товарищем увидели группу вооруженных бандитов. Растянувшись в длинную цепь, они двигались с большими предосторожностями. Антипов присмотрелся: бандиты были вооружены винтовками и холодным оружием. Сердца молодых бойцов-чекистов тревожно забились. Пропустить их по тропе нельзя. А справиться с ними невозможно: бандитов было около сотни. Что делать? «Начнем бой», — решили смельчаки. И взяли прицел на середину банды. Выстрелы гулко разнеслись в горах. Четверо остались лежать на месте. Бандиты ошалело заметались, припали к земле, потом открыли ответный огонь. Товарищ Антипова упал, сраженный насмерть. Но Антипов не растерялся, его пулемет продолжал бить без промаха. Уже добрый десяток бандитов недвижно лежал на тропе. Но враги не думали отступать. Они раскинулись цепочкой и Бели яростный огонь из винтовок, подползая все ближе. Вот они уже почти у самой вершины. Бой длится полчаса. Бандиты не отступают. Их ряды редеют с каждой минутой, осталось уже меньше половины… И все же они рвутся к Антипову.
Отважный боец закладывает последний диск. Его выстрелы становятся реже, но бандиты падают чаще. Их осталось человек 15–20, не более. Они уже совсем близко. Патроны на исходе. Антипов срывает гранату и бросает в самую гущу наступающего врага… Взрыв! Не дав опомниться бандитам, Антипов бросает вторую гранату. И падает навзничь. Пуля врага сразила его наповал…
Тем временем на помощь Антипову подошел взвод. Бойцы оцепили сопку, часть их бросилась к вершине. Два уцелевших бандита хотели бежать. Одного из них убили, другого взяли живым. Командир взвода тут же допросил бандита. Он рассказал, что их было 72 человека.
72 против одного! Из них Иван Антипов уложил 70 бандитов.
На место боя прибыли командир дивизиона и его помощник по политической части. Поднялись на вершину. Там лежал молодой герой. Здесь, на вершине горы, вырыли могилу. Отыскали тело чекиста, погибшего в самом начале схватки, и положили его рядом с Антиповым. Бойцы и командиры простились с героями. И тут же назвали именем Антипова эту сопку…
В конце 1932 года я приехал в Москву к председателю ОГПУ В. Р. Менжинскому. Он попросил, чтобы я доложил ему о геройском подвиге бойца-чекиста Ивана Антипова. Когда я кончил рассказывать, В. Р. Менжинский спросил:
— А как, товарищ Фомин, в вашем округе передаются и хранятся славные боевые традиции? Как проводится воспитательная работа с молодыми пограничниками и бойцами-чекистами? Что делается, кроме наглядной агитации через плакаты и картины, для сохранения памяти героев?
Я сказал Вячеславу Рудольфовичу, что мы поддерживаем постоянную и очень тесную связь с родителями героев. Помогаем, заботимся о них. Часто устраиваем с ними встречи бойцов и командиров. Приглашаем к себе, и вместе с ними выезжаем в части, подразделения. Затем объезжаем учебные пункты, где встречаемся с вновь прибывшим пополнением красноармейцев. 20 декабря — в праздник ВЧК — ОГПУ — на торжественном собрании у нас всегда присутствуют родители или родственники погибших героев. Я или начальник политотдела делаем доклад о ВЧК — ОГПУ, рассказываем о Ф. Э. Дзержинском, о славных традициях, завещанных великим Лениным, вспоминаем наших героев — пограничников и чекистов, погибших за Родину. На этих собраниях обычно выступают и родители героев.
Вячеслав Рудольфович, одобрительно отозвавшись о таких методах воспитательной работы, указал на необходимость укреплять среди бойцов и командиров высокое патриотическое сознание, чувство долга и ответственности перед Родиной и партией. Этому, сказал он, как нельзя лучше служит память о героических подвигах наших славных товарищей по оружию.
На границе с буржуазной Эстонией
Советская граница с буржуазной Эстонией образовалась сразу после окончания гражданской войны. Протяженность ее была небольшая, но в смысле засылки к нам шпионов, диверсантов, террористов она становилась с каждым годом все более опасной. Такой небольшой городок на границе, как Нарва, в котором тогда насчитывалось лишь несколько тысяч жителей, имел семь иностранных консульств. Множество иностранных представительств и разведок находилось и в столице буржуазной Эстонии Таллине. А надо сказать, что в те времена иностранные консульства зачастую играли роль центров разведывательной службы.
Советские пограничники умело пресекали происки империалистических разведок. Раскрытие ряда шпионских организаций, существовавших на территории Советского Союза, показало, в каких широких масштабах проводилась подрывная деятельность разведывательных органов буржуазной Эстонии. Причем как раз в городе Нарве, граница от которого проходила всего лишь в 14 километрах, и были сосредоточены главные шпионские силы. В Нарве дислоцировался штаб первой эстонской дивизии. Но это был не столько штаб крупного воинского соединения, сколько штаб шпионской службы. Главным руководителем разведки в Нарвском районе был начальник штаба дивизии майор Трик, его помощником — адъютант оперативного отдела штаба капитан Койк и старшим разведчиком — Тупиц.
В ночь на 24 декабря 1931 года, находясь на границе в наряде, пограничник Тимофей Углицких заметил на далеком расстоянии, что в сторону границы, согнувшись, крадутся два человека в белых халатах. Он дал им возможность перейти границу. Не подозревая, что за ними следят, нарушители устремились вперед. Они прошли около километра. Тимофей Углицких, следивший за ними, решил, что теперь вражеские лазутчики лишены возможности скрыться на своей территории, и быстро на лыжах нагнал их.
— Руки вверх! — крикнул пограничник. Нарушители границы упали в снег и, отстреливаясь, поползли обратно.
Углицких взял на прицел одного и метким выстрелом уложил на месте. Второму крикнул:
— Бросай оружие! Сдавайся!
Нарушитель повиновался. Тем временем с заставы подоспела помощь. Задержанного доставили в комендатуру.
На допросе нарушитель рассказывал:
— Два дня тому назад с нами проводил инструктаж старший агент разведки Тупиц. Это опытный разведчик. Он сам несколько раз благополучно переходил границу и приносил ценные сведения. Тупиц перед нами поставил задачу: брать на заметку все, что имело отношение к военному делу в Советской стране, не упускать ни одной мелочи. Особое внимание он велел обратить на расположение воинских частей в Ленинградском военном округе, на вооружение, передвижение войск, численность и транспортабельность их, а также на состояние железных и шоссейных дорог, авиации и морского флота.
Нас заверили, что переход границы никакой сложности не составляет и почти безопасен. Тупиц при этом сказал: — При вашем вооружении, если даже вас и обнаружат, несколькими выстрелами вы себе легко расчистите дорогу и ликвидируете преследователей.
Мы так и действовали: строго по инструкции Тупица. А в результате — товарищ погиб, а я нахожусь в ваших руках…
Начальник погранотряда Давыдов, который вел допрос, не утерпел и заметил:
— Наш пограничник Тимофей Углицких тоже действовал согласно указаниям своих командиров, согласно уставу пограничной службы. Но он, кроме того, еще руководствовался высоким чувством ответственности перед народом, перед своей совестью. Он действовал как патриот и в поединке с двумя противниками оказался победителем. Иначе и быть не могло. Ни один нарушитель не должен пройти незамеченным через нашу границу — таков девиз советских пограничников.
Тимофей Углицких за бдительность, находчивость и смелость в борьбе с нарушителями границы коллегией ОГПУ был награжден серебряными часами.
В один из зимних дней 1932 года на этом же участке границы в наряд вышел боец Андреев. Его служебная собака Джарда обнаружила след человека, перешедшего границу. След вел к нам в тыл. Нарушитель границы был, как видно, опытный шпион. Чтобы сбить собаку со следа, он использовал нюхательный табак. Но Джарда продолжала преследовать нарушителя. Вот она выскочила на поляну и стремительными прыжками «пошла на сближение». Заметив собаку, нарушитель выхватил из-за пояса гранату и бросил ее. Джарда погибла. Андреев отстал от своего верного друга и не видел всего, что произошло. Но, услышав взрыв, догадался, что Джарда настигла нарушителя. Андреев изо всех сил бежит к месту происшествия. Вот он уже видит изуродованную взрывом овчарку. Андреев спешит дальше. Следы ведут на хутор.
На краю хутора стоял сарай. Нарушитель, притаившись, выждал, когда Андреев подбежал к сараю, и бросил вторую гранату. Снова взрыв, и Андреев падает в снег, сраженный насмерть. Но убийце не удается уйти далеко. Кинувшись к лесу, он вдруг резко меняет направление: наперерез ему бежали местные жители. Они услышали взрывы и поспешили на помощь пограничнику. Вскоре бандит был в комендатуре. На допросе он показал, что выполнял очередное задание эстонской разведки.
Комсомолец Андреев, погибший на боевом посту, в схватке с врагом, был отличным пограничником. На его счету был не один задержанный нарушитель границы. Память о нем до сих пор жива среди советских пограничников.
Эту молодую, привлекательную женщину пограничники уже знали. Несколько раз ее задерживали на границе и продержав один-два дня, каждый раз официальным порядком возвращали за кордон, как эстонскую подданную. Ну что с глухонемой возьмешь! Конечно, возникали подозрения: не симулирует ли она? Проверяли ее и так, и этак. Женщина бессмысленно смотрела, что-то мычала, когда ей задавали вопросы.
Вот и опять глухонемая нарушила границу недалеко от Пскова и свободно расхаживает по небольшому пограничному городку.
Начальник погранотряда на этот раз решил не задерживать глухонемую. Он вызвал к себе одного из наших сотрудников — эстонца Фридриха и дал ему задание проследить, что делает и куда ходит глухонемая, будучи на нашей территории. Фридрих решил познакомиться с ней. Он остановил ее и спросил, не знает ли она такой-то улицы. Глухонемая улыбнулась, развела руками и смущенно покачала головой: мол, не понимаю. Фридрих пошел с нею рядом, заговаривал с ней и по-эстонски и по-русски, но безуспешно. Женщина, не переставая улыбаться, качала головой, разводила руками и в свою очередь силилась что-то сказать, но, кроме мычания, у нее ничего не получалось. В конце концов Фридрих тоже перешел на язык жестов. Так они дошли до дома, куда спутница Фридриха приходила и раньше. Она показала Фридриху, что останется здесь. Тот в свою очередь дал ей понять, что хотел бы с нею встретиться завтра.
На другой день они снова увиделись, долго гуляли, Фридрих изъявил желание познакомиться с ее родственниками. Женщина в нерешительности посматривала то на Фридриха, то на окна дома, возле которого они стояли. Наконец она все же поманила его за собой. Фридрих познакомился с хозяином и хозяйкой этого дома — пожилыми эстонцами. Они пригласили его к столу, появилась водка и закуска. Разговор, разумеется, коснулся глухонемой.
— Эльза глухонемая не от рождения, — сказал хозяин. — Она перестала слышать после тяжелой болезни, когда ей было лет двенадцать.
— Какое несчастье! — вздохнула хозяйка. — Такая красивая, молодая, и вот…
— И теперь она абсолютно ничего не слышит? Или все же хоть что-то различает? — поинтересовался Фридрих.
— Нет, она совсем ничего не слышит.
Эльза переводила глаза с хозяина на хозяйку. От выпитого вина она раскраснелась и стала еще привлекательнее. Фридрих ей явно нравился.
Когда настала полночь, Фридрих распрощался с хозяевами и вышел на крыльцо. Его провожала Эльза. На прощание Фридрих попытался обнять ее, но Эльза решительно оттолкнула его и быстро закрыла дверь.
На третий и четвертый день своего знакомства они встречались еще не раз. А на шестой день Фридрих пригласил Эльзу к себе. Много ласковых слов говорил он Эльзе, та не сводила с него влюбленных глаз. И вдруг на чистом эстонском языке она явственно произнесла:
— Милый, я люблю тебя! Слышишь, люблю тебя, Фридрих! — горячо говорила Эльза. — Надоело притворяться!.. Я хочу быть счастливой, как все!
И она рассказала Фридриху, а затем и начальнику погранотряда Давыдову, как ее завербовали в эстонскую разведку, как она собирала сведения о настроениях населения в пограничной зоне, об охране границы. Затем ей поручали устраивать встречи агентов на конспиративной квартире. Вот и сейчас она должна была дождаться двух агентов из Таллина, которые под видом мужа и жены прибудут в Ленинград, якобы к родственникам.
Через неделю чекисты арестовали эту «супружескую пару». У их родственников была явочная квартира.
А Эльза, уже как наша сотрудница, работала у нас вплоть до того времени, как Эстония стала Советской. И с Фридрихом она уже не разлучалась, став его женой.
Манифест «царя Кирилла»
В конце 20-х годов за границей еще активно действовали многие бывшие царские генералы, министры, члены Государственной думы, а также члены семьи дома Романовых. Хотя прямых «наследников престола» к тому времени уже не было в живых, но все же кое-какие отпрыски нашлись. И никак они не могли примириться с тем, что, будучи «царских кровей», вынуждены прозябать в чужой стране. Все эти «бывшие» даже за границей не могли жить без царя.
Наиболее активные белогвардейские силы сплотились в Русский общевоинский союз (РОВС), который стал европейским штабом по борьбе с Советской властью.
Для поддержания духа белой эмиграции, для укрепления веры в «царя-батюшку» и в возврат прежних порядков на русском языке издавались в Париже три белогвардейские газеты. Появились знамена отдельных царских полков, возрождалась армейская офицерская форма. Весьма активно действовала православная церковь, пышно справлялись тезоименитства царей, религиозные праздники.
Возглавляли борьбу против Советской власти два обербандита, прославившие себя зверскими расправами над советским народом еще в годы гражданской войны, — Борис Савинков и генерал Кутепов. Первый вел работу по подготовке вооруженного восстания в Советской России, а второй задался целью собрать остатки белогвардейщины во Франции, Югославии, Польше и других прилегающих к Советскому Союзу странах.
В августе 1924 года во Франции объявился новый русский царь «Кирилл I». Так величал себя великий князь Кирилл Владимирович Романов — адмирал царского флота. Эмигрантская молодежь его поддерживала, а старики не признавали: они не могли простить ему, что в Февральскую революцию, после свержения царя Николая II, он явился в Государственную думу с красным бантом на мундире.
Я не стал бы об этом и вспоминать, если бы мне не пришлось столкнуться с «деятельностью» этого «царя» в 1930 году. Как-то начальник Псковского погранотряда Д. М. Давыдов доложил мне, что по пути следования поезда из Прибалтики в большом количестве были разбросаны открытки с портретом «царя Кирилла» и его манифестом. На другой день такое же сообщение я получаю от начальника Островского погранотряда И. Я. Ильина.
Я приказал немедленно выяснить, кто и как провозит через границу эти контрреволюционные листовки.
Через некоторое время ко мне явился на прием известный врач-терапевт профессор Шварц. Вид у профессора был крайне взволнованный, когда он вошел в кабинет. Даже не ответил на мое приветствие и не сел в придвинутое кресло. Дрожащими руками он протянул мне изящную открытку, изготовленную из отличной меловой бумаги:
— Товарищ Фомин! Меня хорошо знают в Ленинграде, зачем же эта провокационная проверка?
— Мы провокациями не занимаемся, товарищ Шварц. Откуда у вас эта открытка?
— Мне прислали ее по почте. В конверт был вложен вот этот манифест и еще письмо.
— Это действительно провокация. Но только со стороны какой-нибудь зарубежной антисоветской организации.
— Но откуда же они знают мой адрес? Ведь письмо адресовано непосредственно мне. Вот смотрите: фамилия, имя, отчество. И послушайте, что они пишут мне: «Верьте в царя Кирилла, он скоро будет в Петрограде. Будьте готовы встретить законного царя русского народа» и т. д… Я готов поклясться чем угодно, что у меня нет знакомых ни здесь, ни за границей, кто бы мог писать такие послания…
Я, как мог, постарался убедить профессора, что его никто ни в чем не подозревает.
— Нам известно, откуда и как поступают эти письма и манифест. Мы уже приняли меры, чтобы они больше не появлялись у нас. Если нечто подобное повторится, то рвите и бросайте в корзину… А за то, что уведомили нас, спасибо.
Профессор, видимо успокоенный, поблагодарил, раскланялся и направился к выходу. В дверях он задержался:
— А манифест этот отзывает анекдотом, просто смех, да и только.
Действительно, Шварц был прав. Трудно удержаться от улыбки, читая это послание новоиспеченного «царя», столь же нелепое, сколь и велеречивое:
«…Осенив Себя Крестным знаменем, объявляю всему Народу Русскому: Надежда наша, что сохранилась драгоценная жизнь Государя Императора Николая Александровича, или Наследника Цесаревича Алексея Николаевича, или Великого Князя Михаила Александровича, не осуществилась…
Российские Законы о Престолонаследии не допускают, чтобы Императорский Престол оставался праздным после установленной смерти предшествующего Императора и Его ближайших Наследников…
А посему Я, Старший в Роде Царском, Единственный Законный Правоприемник Российского Императорского Престола, принимаю принадлежащий Мне непререкаемо титул Императора Всероссийского.
Сына Моего, Князя Владимира Кирилловича, провозглашаю Наследником Престола с присвоением Ему титула Великого Князя Наследника и Цесаревича.
Обещаюсь и клянусь свято блюсти Веру Православную и Российские Основные Законы о престолонаследии…
Дан 31 Августа 1924 года. Кирилл»
Когда я читал это, мне чудилось, что я слышу голос с того света. Но — увы! — приходилось прислушиваться. Потому что и он, и ему подобные голоса мешали жить живым людям.
Следует отметить одну существенную деталь. Манифест, обращения, письма рассылались, как правило, тем, кого хорошо знали в нашей стране и за границей.
Через несколько дней ко мне приходит другой посетитель, не менее взволнованный, — председатель Ленинградского областного Осоавиахима В. И. Шорин. Он тяжело опустился в кресло и молча подал мне все тот же пресловутый манифест «царя Кирилла» и такое же письмо, как и у профессора Шварца.
— Каким-то мерзавцам захотелось меня скомпрометировать, — глухо начал он. — Вот, с сегодняшней почтой получил этот «подарочек». Впрочем, — он криво усмехнулся. — сделать это нетрудно, ведь я бывший царский полковник, как вы знаете…
И опять мне пришлось успокаивать:
— Ну и что из этого следует? О том, что вы бывший полковник, все знают, как знают и другое: что вы с первых дней Советской власти защищали ее от врагов. Знают также, что Советская власть вам доверяла и доверяет ответственные посты в Красной Армии, что вы работали вместе с С. М. Кировым.
Я объяснил Шорину, что это чистейшая провокация, задуманная, как видно, в широких масштабах, что не один он получает такие послания.
— Но все же, почему они меня вспомнили? Ведь за границей меня давно предали анафеме. Там, конечно, хорошо известно, что в годы гражданской войны я боролся с белогвардейцами, с интервентами…
А на другой день — звонок из Смольного. Слышу голос Сергея Мироновича Кирова:
— Товарищ Фомин, у меня только что был академик Иван Петрович Павлов… Пришел и, ничего не объясняя, сердито спрашивает: «А что, к нам собирается царь Кирилл из Парижа?» И показывает мне письмо и манифест «царя Кирилла». А потом так же сердито добавил: «Я уже привык жить без царя, зачем он мне нужен? Пусть этот Кирилл больше мне ничего не пишет!»
Я ответил Сергею Мироновичу, что мне уже известно несколько подобных случаев и что меры к пресечению их приняты.
— Нужно как можно скорее покончить с этим, — сказал Сергей Миронович. — А то это приносит людям лишние волнения.
А тем временем погранотрядами Ленинградского военного округа было установлено, что все эти контрреволюционные листовки — манифест «царя Кирилла», его обращения «К русскому воинству», «К русскому народу», а также письма провозили проводники поездов из Эстонии и Латвии. Для этой цели в полу вагонов устраивались специальные потайные ящики, в них были обнаружены и мелкие галантерейные товары. Проводников арестовали. Они указали и тех, кто покупал контрабанду, и тех, кто распространял среди населения письма и манифест по заданию парижской эмигрантской организации РОВС. Агенты этой белогвардейской организации, как выяснилось, скупали у букинистов такие дореволюционные справочники, как «Вся Россия», «Вся Москва», «Весь Петроград». Из них брали адреса известных ученых, инженеров, адвокатов, бывших генералов, крупных чиновников. Им писались письма и вместе с манифестом и обращениями завозились к нам. А здесь, через местные почтовые отделения, письма рассылались по указанным адресам.
Однако вся эта затея абсолютно ни к чему не привела. На эмигрантскую провокацию никто не поддался.
Пойманные с поличным
К началу 30-х годов наша страна имела уже нормальные дипломатические отношения со всеми крупнейшими странами мира, кроме США. С некоторыми капиталистическими государствами у нас были и особые промысловые и другие соглашения. В частности, был заключен договор с Англией на рыболовные и зверобойные концессии в северных морях. И надо сказать, что все здесь обходилось без каких-либо осложнений, пока английские тральщики соблюдали установленные договором правила.
Но вот в 1933 году начались переговоры между СССР и США об установлении дипломатических отношений. Это не отвечало интересам английских агрессивных кругов. И они решили спровоцировать какой-либо конфликт с Советским Союзом, чтобы получить повод для пропаганды против нормализации отношений между СССР и США.
Именно в это время английские рыболовные суда, несмотря на наши предупреждения, стали все ближе и ближе подходить к советским берегам и пытались связаться с населением.
Коменданту отдельной Мурманской пограничной комендатуры О ГПУ Алешину было приказано срочно выяснить, с какой целью подходят к нашим берегам английские рыболовные суда. Вскоре от Алешина пришло донесение: английские тральщики, пользуясь разрешением ловить рыбу в наших водах, нарушают свои обязательства и близко подходят к советским берегам. При этом они не только ловят рыбу в неположенных местах, но еще занимаются контрабандой и шпионажем. На шлюпках английские моряки подходят к берегу, продают местному населению заграничные вещи, а заодно интересуются, как часто бывают в этих местах пограничники, каково настроение у людей, есть ли недовольные Советской властью и т. п.
Вскоре получаю от Алешина новое сообщение: два английских рыболовных тральщика, «Вридлейт» и «Дайн», особенно злостно нарушают наши морские границы. Их шлюпки в ночное время постоянно курсируют у берегов. Есть сведения, что кроме вещей передаются какие-то письма. Капитанам этих судов делались предупреждения, но они снимались с якорей и уходили в море, чтобы через несколько часов в другом месте снова бросить якорь и спустить шлюпки. Не было никакого сомнения, что эти «зверобои» и «рыболовы» интересуются отнюдь не рыбой и морским зверем.
Начальником Мурманской пограничной базы был у нас отличный командир-пограничник А. В. Садников. Он окончил Военно-морское училище имени Фрунзе, хорошо знал морское дело и пограничную службу. И что было для данного случая особенно ценным, он неплохо изучил международные правила, относящиеся ко всякого рода торговым и иным соглашениям. В распоряжение Садникова был дан боевой пограничный корабль «Пурга», которым командовал Харченко — старый, опытный моряк, получивший боевую закалку еще в гражданскую войну. Вот им и поручено было в корне пресечь провокационные действия английских рыболовных судов. Для этого необходимо было поймать их с поличным. Но требовалась величайшая осторожность, чтобы не дать вовлечь себя в международный инцидент.
И вот пограничный корабль выходит на задание. Харченко проинструктировал личный состав. Прошли Кольский пролив, вышли в Баренцево море. «Пурга» повернула к тому месту, о котором писал в своем донесении Алешин. Шли медленно, ожидая наступления ночи. Нужно было подойти к берегу, стараясь не обратить на себя внимания. Этому способствовал туман.
«Пурга» осторожно идет вдоль берега. Садников становится в рубке рядом с Харченко.
— Смотрите, Александр Владимирович, — и Харченко указал рукой вперед. — Возьмите мой бинокль. Он протянул Садникову бинокль и отдал команду: «Огни погасить, идти самым тихим ходом на сближение».
Садников в бинокль уже хорошо различает два английских тральщика. Они стоят совсем недалеко от берега, спокойно ловят рыбу. А от берега идет шлюпка.
— Вот бы перехватить, — сказал Садников.
— Ну, где же! Разве успеем? — спокойно заметил Харченко. — Мы их и так, голубчиков, накроем.
Заметив, что к ним приближается военное судно (видно, были начеку!), тральщики стали поднимать сети и якоря.
«Пурга» включает прожекторы и сигналит: «Стоять на месте!» И дает полный ход. Один тральщик подчинился команде — стоит и ждет, а другой, тот, что поднял шлюпку, стал уходить. Садников вторично сигналит: «Стоять на месте!» Но английский тральщик, словно это не к нему относится, набирает скорость. В третий раз Садников повторяет ту же команду и предупреждает: «Буду стрелять». Английский тральщик на всех парах уходит в нейтральные воды. Тогда Садников приказывает произвести предупредительный выстрел. И только тогда судно замедлило ход и ответило сигналом, что подчиняется распоряжению советских пограничников.
Садников предлагает задержанным судам стать на то место, где они ловили рыбу и где их застал советский пограничный корабль, то есть на место преступления. Затем капитаны обоих тральщиков с вахтенными журналами приглашаются в кают-компанию «Пурги» для составления протокола.
Капитанам «Вридлейта» и «Дайна» были показаны копии договоров с английскими концессионерами и их обязательства не подходить к советским берегам ближе трех миль. Протоколы были составлены в двух экземплярах с копиями и скреплены четырьмя подписями: командира Мурманской пограничной базы Садникова, командира «Пурги» Харченко и капитанов английских тральщиков. Приписка, сделанная капитанами английских судов, гласила, что с их стороны к пограничным советским властям никаких претензий не имеется. Протоколы были вручены под расписку.
Пока оформлялись протоколы, помощник одного из английских капитанов связался по радио со своими властями и сообщил о том, что они задержаны советским пограничным кораблем. Английское телеграфное агентство немедленно распространило клеветническое сообщение, густо приправленное антисоветскими выпадами. Взывая к международной общественности, английская печать завопила о недостойном поведении большевиков. «С кем США собираются иметь дело?! С Советской Россией?! Но ведь она своих обязательств не выполняет! Для нее не существуют никакие законы! Вот как приходится англичанам расплачиваться за свою доверчивость!» — в таком свете преподносила зарубежная пресса инцидент в Баренцевом море.
А тем временем Садников, действуя строго по инструкции, конвоирует тральщиков в Мурманский порт для досмотра и карантина, который вместе со штрафом накладывается в таких случаях на нарушителей морских границ.
Между тем из Москвы запрашивают, что произошло с двумя английскими тральщиками в Баренцевом море. Телефонные звонки в моем кабинете не умолкают. Но… на корабле испортилось радио, связи с «Пургой» нет и не будет до тех пор, пока Садников не придет в Мурманск. А значит, и в Москву я не могу дать нужного ответа.
То и дело вызываю Мурманск, а меня через каждые пять — десять минут вызывает Москва: нужны исчерпывающие сведения о задержании английских тральщиков.
Наконец, в первом часу ночи «Пурга» появляется в Мурманском порту вместе с английскими тральщиками. Садников докладывает, где и как были задержаны «Вридлейт» и «Дайн», зачитывает протоколы. В заключение он сообщает, что со стороны английских капитанов никаких претензий к советским пограничникам нет. Тут же я сообщил об этом в Москву и получил приказание, как только Садников прибудет в Ленинград, взять у него все документы и немедленно ехать в Москву для личного доклада председателю ОГПУ.
Вячеслав Рудольфович Менжинский остался доволен действиями советских пограничников и, прощаясь со мною, сказал:
— От моего имени поблагодарите командира Садникова. Хорошо он знает службу и умело выполнил задание. Ведь эти документы обличают провокаторов.
Вернувшись в Ленинград, я рассказал товарищам о встрече с В. Р. Менжинским и, разумеется, передал благодарность председателю ОГПУ Садникову.
С Александром Владимировичем Садниковым мы встречаемся и сейчас. Он контр-адмирал в отставке, живет в Ленинграде.
Борьба с валютчиками и контрабандистами
В годы новой экономической политики немало темных дельцов и спекулянтов вело бойкую торговлю драгоценностями и валютой. Некоторые из них обогатились. Но позднее, когда Советская власть перешла в решительное наступление против нэпманов и спекулянтов, они заметались. Охваченные страхом за свои капиталы, они старались связаться с контрабандистами и через их посредничество сплавить золото и валюту за границу.
Легко себе представить, какой вред наносила эта «утечка» ценностей. Партия выдвинула лозунг индустриализации страны. Началась борьба за экономию, каждый рубль был на учете. А тут миллионы золотых рублей ловкими аферистами — людьми без родины и без совести — сплавлялись за границу. Это наносило большой ущерб народному хозяйству страны.
ОГПУ и пограничники принимали решительные меры к пресечению спекуляции и контрабанды.
Большая работа в двадцатых и тридцатых годах велась ОГПУ и погранчастями Ленинградского военного округа.
У меня в памяти сохранилось немало таких дел. Одно из них связано с бывшим владельцем банкирской конторы в Петрограде Захарием Ждановым. Еще во время Октябрьской революции он тайно очистил сейфы своего банка, вывез ценности к себе на дачу в Павловск и там все закопал в землю. Когда началась новая экономическая политика, он извлек эти ценности и принялся за коммерческие операции. Захарий Жданов по старой памяти ходил в клуб, играл в карты. Как в «доброе старое время», занимался и ростовщичеством: принимал в залог за большие проценты дорогие вещи.
В конце двадцатых годов Жданов связался с одним ксендзом, подружился с ним. И немудрено: оба по убеждению оказались врагами Советской власти. Они стали изготовлять антисоветские листовки и тайно распространять их среди населения. И того и другого вскоре арестовали. Жданов был выслан в Соловки на пять лет. Спустя два года он ухитрился оттуда бежать и в 1930 году снова очутился в Ленинграде. Здесь он остановился у своей прежней любовницы В.
Захарий Жданов был в Ленинграде довольно известным человеком. Поэтому укрыться ему было трудно. Как только он появился в Ленинграде, об этом сразу же стало известно органам ОГПУ, и он был арестован. Вместе с ним была задержана и допрошена его сожительница В. Из ее слов мы узнали, что Жданов обладает огромным состоянием в 10 миллионов рублей золотом, но, где он все это держит, ей неизвестно.
— Захарий Иванович собирался бежать за границу. Обещал взять и меня. При этом он говорил мне: «Поедем не с пустыми руками. 10 миллионов повезем! Нам на свой век хватит, и еще останется».
Нас не могли не заинтересовать эти показания. 10 миллионов золотом — огромное состояние. Заполучить бы их да передать в фонд индустриализации страны!
Дело Захария Жданова вели мой заместитель Шершевский и его помощник Юрьев. Оба они были опытные работники, и немало контрабандистов, валютчиков, шпионов и диверсантов прошло через их руки. И хотя дело бывшего банкира Захария Жданова оказалось одним из самых сложных в их практике, они справились с ним неплохо. Первое и очень важное, что удалось им выяснить, — это наличие у арестованного вклада в Парижском банке в 650 тысяч франков. Захарию Жданову об этом ничего не сказали. Когда его вызвали к себе Шершевский и Юрьев, то спросили, есть ли у него денежные сбережения за границей.
— Есть, — отвечал Жданов, — в Париже на счету одного банка лежит около полумиллиона.
— А точнее не помните?
— 650 тысяч франков. Подумав, Захарий Жданов сказал:
— Я знаю, что очень виноват перед Советской властью. Я прошу принять в фонд индустриализации мои сбережения, хранящиеся в Парижском банке.
Мы, конечно, понимали, что истинным побуждением Захария Жданова было отнюдь не доброе движение души и не чувство раскаявшегося грешника. Ему просто хотелось поскорее освободиться, и, делая такой шаг, он рассчитывал, что от него отступятся — выпустят на свободу и оставят в покое. Мы воспользовались его предложением и через уполномоченного Наркоминдела в Ленинграде и управляющего Госбанком оформили счета для перевода денег из Парижского банка. Захарий Жданов сам торопил нас с переводом и был обрадован, когда через три недели на его имя пришло 650 тысяч франков, которые он сразу же передал в фонд индустриализации страны.
Однако мы были глубоко убеждены, что бывший банкир имеет еще немало ценностей, но скрывает. Сколько? А что если в самом деле 10 миллионов!
Я решил для начала сам переговорить с Захарием Ждановым.
— Захарий Иванович, — начал я, — вы передали государству только часть своего состояния. Теперь нам остается договориться о передаче остальных денег и ценностей.
Жданов клятвенно заверяет, что ни денег, ни ценностей у него нет. Все, что было, отдал.
Я напомнил ему, что на квартире гражданки В. сотрудники ОГПУ обнаружили ценностей и денег в общей сумме тысяч на пятьдесят.
— Да, эти деньги у меня действительно были. Я оставил их для того, чтобы обеспечить себя и ее. Эти деньги ее и есть. И больше нет у меня ни полушки. Ей-богу! Хотите верьте, хотите нет. Как на духу говорю…
Несколько раз мы разговаривали с ним, но Жданов упорно твердил одно: нет и нет у него больше денег.
Проходит несколько недель. Мы опять вызываем его на допрос.
— Ваше освобождение, — сказали мы ему, — зависит от вашего чистосердечного признания. Ведь никто вам не позволит пользоваться своими миллионами у нас в стране. А бежать за границу вам не удастся, об этом не следует и помышлять. Границы надежно охраняются нашими славными пограничниками.
Захарий Жданов, тяжело опустив голову, молчал.
Мой заместитель Шершевский предлагает Жданову указать близких ему людей, которые вместе с ним участвовали в коммерческих сделках и могли бы подтвердить, какой суммой в период царской власти и в период нэпа он располагал.
Захарий Жданов долго раздумывал и в конце концов сказал, что у него в Павловске, на даче, закопаны ценности на сумму около миллиона рублей.
Шершевский с двумя сотрудниками и с бывшим банкиром поехали в Павловск и там по его указанию произвели раскопки. Обнаруженные ценности немедленно доставили мне в кабинет. На моем столе оказались золотые браслеты, диадемы, перстни и прочие драгоценные вещи, а также валюта и разные акции и облигации — всего на сумму около миллиона рублей. Мы составили опись и передали найденное в фонд индустриализации страны.
И все же я усомнился, что Захарий Жданов открыл нам все запасы ценностей. А бывший банкир, знай, твердит одно:
— Помилуйте, если бы у меня было 10 миллионов, я давно бы их передал государству. Вот было 650 тысяч франков и около миллиона рублей в валюте и ценностях. Так я же передал их в фонд индустриализации. И больше ничего не имею. Все, что было, отдал. Себя, можно сказать, по миру пустил. Уж вы поверьте!
Я снова решил вызвать для разговора его сожительницу В., которая ходила к нему на свидания и носила передачи.
Я просил ее подтвердить, действительно ли арестованный говорил ей о 10 миллионах рублей.
Она ответила:
— Когда арестовали Захария Ивановича, он все уговаривал меня, чтобы я не волновалась, жила спокойно, а его не забывала, почаще навещала и приносила бы ему все необходимое. «Меня подержат, подержат и освободят. А денег нам с тобой хватит. У меня, — говорил он, — 10 миллионов припасено».
Вот ведь какая задача!
Действительно ли у него 10 миллионов хранится, или же он для соблазна своей сожительницы выдумал такую сумму, чтобы она не бросала его?
Снова вызываю Жданова к себе в кабинет. Велел принести чаю. Четыре часа мы сидели с ним, пили чай и разговаривали. Тут мне пришлось познакомиться со всеми тонкостями банковского дела. Захарий Жданов начал рассказывать, как он проводил денежные операции, как ухитрялся извлекать доходы. При этом он, однако, заявил, что более 2 миллионов рублей золотом никогда не имел. Я задал ему вопрос:
— Захарий Иванович, но ведь вас никто за язык не тянул, вы сами говорили людям, что обладаете десятимиллионным состоянием в золоте и валюте.
На это бывший банкир ответил:
— Относительно 10 миллионов рублей я действительно говорил своей знакомой В. два раза: когда я только остановился у нее на квартире после побега из Соловков и второй раз сказал ей об этом, когда она приходила ко мне в тюрьму на свидание и принесла вещи и продукты. Я знал, что у нее имеется небольшая сумма моих денег. Так пускай, думаю, она на меня часть из них израсходует…
Жданова увели. Я остался один, но не дают мне покоя эти миллионы. Сижу и думаю: а что если где-то в земле закопаны еще восемь с половиной миллионов!
Испытаю еще одно средство, решил я. Вызову на очную ставку со Ждановым тех, кто знал его жизнь, коммерческие дела, наличие денежных средств и ценностей. Тогда уж можно будет прийти к окончательному выводу. Через несколько дней снова ко мне в кабинет приводят Жданова. Я усадил его рядом с собой за стол. Пригласил свидетелей. Опираясь на палки, прихрамывая, входят два старика. Одеты богато: пальто с бобровыми воротниками, бобровые же шапки. Уселись они против нас. Я спросил, узнают ли они человека, сидящего перед ними.
— Как же не узнать? — ответил один из них. — Нам, маклерам петроградской фондовой биржи… («Бывшим биржевым маклерам», — подправил другой свидетель), — да, бывшим маклерам — очень хорошо знаком Захарий Иванович. Да и кто из финансовых дельцов Петербурга не знал его? Захарий Иванович был человек видный. И средства имел немалые. А ведь из банковских конторщиков вышел!
Я задал им ряд вопросов. Оба свидетеля отвечали охотно и подробно. Мне важно было выяснить, какой суммой обычно оперировал Захарий Жданов. И все ответы сводились к одному: не более 2 миллионов.
— Может быть, больше? — допытывался я.
— Нет, в пределах 2 миллионов обычно вел он денежные дела. А держать какую-то часть капитала мертвым фондом он бы не стал — какой резон! Капитал в обороте — это верный доход. Да и не такой человек Захарий Иванович, чтобы скрывать свои капиталы. Любил он, грешным делом, себя показать…
Встречи с другими свидетелями окончательно убедили меня в том, что Жданов действительно больше не располагает никакими ценностями. Следствие по этому делу было закончено. Жданова выслали на жительство в Архангельскую область.
В 1931 году в Управление пограничной охраны Ленинградского военного округа поступило заявление, что некий Либерман имеет в земле закопанного золота более 30 килограммов и намерен частями переправить его за границу. Выяснилось, что Либерман до революции владел небольшой картонной фабрикой в Петербурге, а после Февральской революции закупил на большую сумму червонного золота в слитках. После Октября его фабрику национализировали, он остался работать на ней в качестве технорука.
Начальник отделения пограничной охраны Ленинградского округа по борьбе с контрабандой Иван Алексеевич Дмитриев получил сведения, что Либерман начал изготовлять обручальные кольца, прибегнув к помощи одного ювелира. Кольца эти нелегальным путем продавал частным лицам.
Долго пришлось беседовать Дмитриеву с Либерманом, пока наконец тот не удостоверился, что мы действительно знаем о закопанном золоте и о том, что он намеревался с ним делать. И. А. Дмитриев предложил ему передать это золото в фонд индустриализации страны, с тем чтобы, исполнив этот свой гражданский долг, Либерман мог с чистой совестью продолжать работать на прежнем месте. Ему дали возможность подумать, и в конце концов он предложил Дмитриеву ночью поехать в указанное место и откопать золото. Вскоре И. А. Дмитриев доложил мне, что в указанном месте обнаружил слиток в 6 с половиной килограммов.
Тогда я понял, что Либерман хочет нас провести: откупиться этим слитком. Дескать, получат они золото и оставят меня в покое.
— Нет, — говорю я Дмитриеву, — этот номер не пройдет. Вы настаивайте на сдаче государству спрятанного золота полностью. По нашим данным, у него должно быть более 30 килограммов. Не скажет, где лежит у него остальное золото, — предупредите его, что на него будет заведено следственное дело; вызовем людей, которым он предлагал купить у него золото. Они подтвердят, и он будет отвечать по всей строгости закона.
Однако Либерман упорствовал. И мне и Дмитриеву пришлось не раз говорить с ним. Он стоял на своем. Все время повторял:
— Я же советский человек и сразу привез золото, чтобы сдать его государству!
Последняя наша встреча была совсем короткой. Услышав в очередной раз заявление «я же советский человек…»,я сказал ему:
— Вот вы говорите, что вы советский человек, а поступаете не по-советски. Вы должны понимать, что ваше упорство ни к чему не приведет.
Давайте покончим с этим делом раз и навсегда, — сказал я. — Если вы хотите, чтобы мы с вами могли спать спокойно, сдайте полностью золото государству.
— Я вас не понимаю, — удивился Либерман. — Почему это я и вы не будем спать спокойно?
— Вы не будете спокойны потому, что, как только пройдет машина мимо вашего дома, или остановится кто-либо у вашей парадной, или позвонит кто в вашу квартиру, вы будете думать, что за вами приехали из ОГПУ. Я же не буду спать спокойно, так как постоянно буду чувствовать себя виноватым перед государством и стану себя упрекать: а почему я позволил Либерману утаить еще около 26 килограммов золота? Так не лучше ли нам с вами прийти к обоюдному согласию. Давайте спать спокойно по ночам — и вы, и я. Я хочу, чтобы вы могли спокойно жить и работать.
Лицо Либермана выражало внутреннее волнение. Видимо, в нем боролись два чувства. Наконец он провел дрожащей рукой по лицу и сказал:
— Ну, ладно, пусть будет по-вашему. У меня есть еще 26 килограммов золота.
Когда оставшееся золото было изъято, Либерман попросил принять во внимание, что он добровольно сдает свое золото в фонд индустриализации страны,
— И пожалуйста, сохраните всю эту историю с золотыми слитками в тайне. Я не хочу, чтобы об этом узнали знакомые и особенно сослуживцы. Я честный труженик и хочу спокойно работать на прежнем месте и на прежней должности.
Я заверил, что ему нечего беспокоиться:
— Работайте честно, и никто вас пальцем не тронет, никаких ограничений или тем более преследований не будет.
Вот так мы с ним и расстались.
За годы моей работы начальником пограничной охраны в Ленинградском округе с 1930 по 1935 год мне довелось не раз сталкиваться с контрабандистами различных мастей. Среди тех, кто действовал с особенно большим размахом, были капитаны кораблей, работники иностранных консульств. Контрабандные товары (чаще всего галантерея, отрезы, часы, наркотики) пограничники находили в угольных ямах пароходов, в искусно оборудованных тайниках кают. Случалось обнаруживать даже пароходы с двойными палубами.
Но пограничников трудно было провести. Они знали все уловки контрабандистов. В тех же редких случаях, когда контрабандисты ухитрялись проскочить через таможню со своим товаром, к их услугам всегда находились темные дельцы, в чьих руках за годы нэпа скопилось немало ценностей. Сделки совершались на черном рынке.
Но на границе зорко следили за скупщиками драгоценностей. Пограничники обнаруживали запрятанные золотые монеты и вещи, бриллианты и валюту в самых, казалось бы, необычных местах и предметах: в книжных переплетах, ботинках, прическах, даже в утюгах.
В управление пограничной охраны Ленинградского военного округа поступило заявление, что дочь бывшего торговца Ш. — Генриетта бежала в Париж, захватив с собой валюту и бриллианты на огромную сумму. В Париже у нее жил муж — белый офицер, эмигрировавший еще в гражданскую войну. Отец Генриетты остался в Ленинграде. Нам стало известно, что дочь оставила ему около 30 тысяч рублей золотом.
Бывший торговец Ш. был арестован. Ему предъявили обвинение в сокрытии ценностей, кроме того, он привлекался к ответственности как соучастник в побеге дочери за границу. На квартире у Ш. нашли более тысячи золотых пятирублевых монет. На следствии арестованный предложил:
— Облегчите мне наказание, и я передам в фонд индустриализации страны крупную сумму.
Старику было обещано прощение. Он повел уполномоченных к себе на квартиру, и там, в потайном месте, был найден целый клад — золотые монеты на 24 тысячи рублей. Затем он написал письмо дочери в Париж с просьбой выслать на его имя половину той суммы, которую она вывезла из Ленинграда за границу. Это составило ни много ни мало — 200 тысяч франков.
Месяца через два я получаю из Парижа письмо:
«Советская Россия. Ленинград, ОГПУ, начальнику пограничной охраны. Товарищ! Я поступила честно. Перевела 200 тысяч франков в Ленинградский госбанк; прошу и вас поступить с моим отцом тоже честно. Генриетта».
В общей сложности только за три года (1930–1933) пограничная охрана ОГПУ Ленинградского военного округа передала в фонд индустриализации страны драгоценностей и валюты на сумму более 22 миллионов рублей золотом.
Из воспоминаний о В. Р. Менжинском
С Вячеславом Рудольфовичем Менжинским я впервые встретился в начале сентября 1919 года в Москве, В это время чекисты раскрыли крупный контрреволюционный заговор так называемого «Тактического центра», о чем я уже писал в предыдущих главах.
Ha Лубянке, где помещалась ВЧК и куда я явился по вызову Ф. Э. Дзержинского, царили особая подтянутость, собранность, делозитость. В приемной я увидел, как из кабинета Дзержинского вышел высокого роста мужчина в пенсне с золотой оправой.
— Кто это? — спросил я секретаря ВЧК т. Савинова.
Это был направленный по решению ЦК для работы в качестве члена коллегии и члена Президиума ВЧК Вячеслав Рудольфович Менжинский.
На следующий день В. Р. Менжинский явился в особый отдел ВЧК со специальным поручением Феликса Эдмундовича и приступил к расследованию заявлений от военного доктора, учительницы одной из московских школ и других советских патриотов, предупреждавших ВЧК о существовании контрреволюционного «Тактического центра», подготовлявшего вооруженный мятеж и захват власти в Москве.
В ночь накануне операции меня вызвали к Феликсу Эдмундовичу. Когда я пришел к нему, в кабинете уже были В. Р. Менжинский и член коллегии ВЧК, секретарь ВЦИК В. А. Аванесов, начальник особого отдела Московской ЧК Е. Г. Евдокимов. В кабинет то и дело входили чекисты. В. Р. Менжинский вручал им ордера на аресты заговорщиков, объяснял характер задания, предупреждал об осторожности. Он был немногословен, очень четко формулировал свои мысли, переспрашивал, все ли понятно.
В ночь на 19 сентября 1919 года было арестовано и доставлено в ВЧК более 700 белогвардейцев «добровольческой» армии. Чекистам под руководством Ф. Э. Дзержинского и В. Р. Менжинского удалось с помощью московских коммунистов полностью разгромить и уничтожить опасный очаг контрреволюции.
…В революционном движении В. Р. Менжинский начал принимать участие с 1895 года. По заданию Центрального Комитета он вел агитационно-пропагандистскую работу в Ярославле. В годы первой русской революции работал в военной организации при Петербургском комитете партии, был одним из редакторов большевистской газеты «Казарма». Скрываясь от царского суда, Вячеслав Рудольфович вынужден был эмигрировать за границу, откуда возвратился летом 1917 года.
Уже после смерти В. Р. Менжинского его жена показала мне несколько интереснейших документов и фотографий, в том числе личный листок, заполненный собственноручно Вячеславом Рудольфовичем при получении единого партбилета. Там значилось: год вступления в РСДРП — 1902; с 1907 года по июнь 1917 года — в эмиграции (Франция, Германия, Бельгия, Англия). После Октябрьской революции — народный комиссар финансов. В период гражданской войны — заместитель наркома социалистической и военной инспекции на Украине. В органах ВЧК — с сентября 1919 года.
В. И. Ленин очень высоко ценил Менжинского как настоящего революционера-бойца, всегда стойкого, выдержанного и очень скромного человека. По предложению Владимира Ильича Вячеслав Рудольфович был в 1917 году назначен на пост народного комиссара финансов. Много лет спустя мне довелось прочитать такие строки воспоминаний современника о Вячеславе Рудольфовиче: «В самые бурные дни бешеного сопротивления свергаемых классов, при истерическом вопле всей буржуазной печати, Вячеслав Рудольфович Менжинский вошел, как хозяин, в помещение Государственного банка, крепкой рукой обуздал саботажников, с неизменной улыбкой раскрыл сейф и так же твердо провел до конца волю пролетариата, как впоследствии проводил ее в борьбе с заговорами контрреволюции».
Как член Президиума ВЧК, а с 1923 года заместитель председателя ОГПУ Вячеслав Рудольфович Менжинский принял активное участие в раскрытии многих контрреволюционных, шпионских, диверсионных, вредительских организаций, ставивших своей целью свержение Советской власти.
Ф. Э. Дзержинский считал Вячеслава Рудольфовича отличным оперативным работником. С первой сводки или заявления, поступившего к нему, Менжинский мог сразу сказать, есть ли тут действительно что-либо серьезное или не стоит заниматься этим делом. Впоследствии мне самому не раз приходилось убеждаться в необычайной прозорливости Вячеслава Рудольфовича, в его умении вдумчиво анализировать факты и доверять только фактам, в его поразительном чутье и знании психологии людей.
Когда Вячеслав Рудольфович уже был председателем ОГПУ, заменив на этом посту Ф. Э. Дзержинского, из Ростова прибыла телеграмма с сообщением, что группа кубанских казаков в парадном обмундировании с трехцветным царским флагом и трубачами выехала встречать своего бывшего наказного атамана генерала Улагая, который должен был поднять восстание на Кубани. В телеграмме сообщалось, что казаки оцеплены дивизионом войск ОГПУ и арестованы. Ознакомившись с содержанием телеграммы, Вячеслав Рудольфович немедленно вызвал к себе начальника ОГПУ Северо-Кавказского края, находившегося в то время на учебе в Москве. Он при мне дал ему прочесть телеграмму и приказал немедленно выехать на Кубань.
— Я не верю в это дело, — сказал Вячеслав Рудольфович, немало обескуражив этим начальника ОГПУ края. — Прошу вас разобраться всесторонне и объективно. Скорее всего казаков придется освободить, а виновных наказать.
Как предполагал Вячеслав Рудольфович, так и оказалось на самом деле.
В чем же был секрет проницательности В. Р. Менжинского? В его осведомленности о настроениях, думах и чаяниях самых различных слоев населения, в умении трезво оценивать обстановку, тщательно сопоставлять и анализировать факты, отбрасывая ненужную шелуху, добираясь до самой сути дела.
Припоминается и другой случай. Мне, тогда начальнику особого отдела Северо-Кавказского военного округа и начальнику погранохраны и внутренних войск ОГПУ края, пришлось докладывать на коллегии ОГПУ о вскрытой нами контрреволюционной группе курсантов в военной школе среднего комсостава. Члены коллегии согласились с докладом и в своих выступлениях поддержали меня. Вячеслав Рудольфович, внимательно слушавший доклад и выступления членов коллегии, сказал:
— Нельзя всех мерить на один аршин. Что же, по-вашему, рядовые члены группы, многие из которых просто отсталые в идейном отношении люди и к тому же представители национальных меньшинств, заслуживают такого же наказания, как и их главарь — выходец из дворянской семьи, убежденный враг Советской власти? Нет, нужен вдумчивый, дифференцированный подход. Одних можно и нужно перевоспитывать, других — строго карать.
Мне не раз приходилось разговаривать с Вячеславом Рудольфовичем о делах ВЧК — ОГПУ, о наших чекистах. Он всегда хотел услышать как можно больше фактов из повседневной практической работы рядовых чекистов.
Однажды я рассказал Вячеславу Рудольфовичу о том, как артистка Михайлова, жена крупного помещика Крупенского, попыталась подкупить часового — вчерашнего простого рабочего парня. Красноармеец, не колеблясь, доставил ее в комендатуру и сообщил о ее гнусном предложении. Вячеслав Рудольфович заметил по этому поводу, что это очень хороший пример стойкости и неподкупности наших людей. Нужно, чтобы в ВЧК приходило как можно больше рабочих, чтобы школы чекистов пополнялись в основном за счет рабочих, особенно металлистов — этого передового отряда рабочего класса.
Вячеслав Рудольфович постоянно заботился о подборе и подготовке чекистских кадров, в том числе работников погранохраны. Мне хорошо запомнилась одна беседа с Вячеславом Рудольфовичем. Речь шла о командном составе погранохраны. Наша единственная тогда пограничная школа ни в коей мере не удовлетворяла потребности в командном составе, пригодном к тяжелой службе и специфическим условиям работы.
— Нам нужно будет, — сказал Вячеслав Рудольфович, — готовить командный состав из своих чекистов-пограничников, организовав новые пограничные школы.
И вот, помню, уже на праздновании 5-й годовщины Высшей пограничной школы в 1928 году в Центральном Доме Красной Армии мне довелось после некоторого перерыва вновь встретиться с Вячеславом Рудольфовичем.
— Как приятно смотреть на всех вас, сидящих здесь пограничников, — говорил Вячеслав Рудольфович. — Все вы молодые, здоровые, выглядите чудесно, хорошо одеты…
Радость Менжинского была вполне понятной. Ведь это он возглавил особый отдел ВЧК по охране границ, подписав в ноябре 1920 года приказ о приеме охраны от Наркомвнешторга. С тех пор и до последних дней своей жизни он неустанно заботился об улучшении охраны государственных границ, гордился идейным ростом, ростом военного и чекистского мастерства командного и рядового состава пограничных войск.
Как и Феликс Эдмундович, Менжинский всегда подчеркивал, что сила чекистов в неразрывной связи с народом. Примерно через год после смерти Ф. Э. Дзержинского произошел такой случай. В июне 1927 года двум диверсантам удалось бросить бомбу в общежитие работников ОГПУ и скрыться. Взрыв, к счастью, не принес большого вреда.
В. Р. Менжинский дал распоряжение поставить на ноги все силы ОГПУ и во что бы то ни стало задержать диверсантов. Вячеслав Рудольфович распорядился также дать телеграмму с описанием примет диверсантов во все уголки страны, привлечь к поимке диверсантов самые широкие слои населения. Некоторые работники ОГПУ говорили, что в этом нет смысла: органы безопасности, действуя таким образом, достигнут лишь того, что диверсанты будут более осторожны и т. д. Но В. Р. Менжинский настоял на своем.
И вот стали поступать известия. На дороге Ельшино — Смоленск один неизвестный в ответ на просьбу милиционера предъявить документы выхватил браунинг и ранил милиционера. Работавшие невдалеке крестьяне организовали погоню. К ним присоединились работники О ГПУ и красноармейцы. В десяти километрах от Смоленска неизвестный был настигнут и убит в перестрелке. При нем были найдены кроме нагана и парабеллума топографические карты, английская граната, дневник. Убитый оказался одним из участников диверсии.
Через два дня недалеко от Витебска местные крестьяне и красноармейцы вместе с работниками ОГПУ организовали преследование неизвестной женщины, застрелившей шофера военного автомобиля. В перестрелке неизвестная была убита и оказалась членом той же террористической группы. Так с помощью населения были обезврежены опасные враги.
Вячеслав Рудольфович всю свою жизнь упорно, настойчиво учился. Когда он пришел в органы ВЧК, нам стало известно, что он свободно владеет двенадцатью иностранными языками. Но этого ему еще казалось мало. За годы работы в ВЧК — ОГПУ он, несмотря на огромную занятость, изучил еще четыре восточных языка: китайский, японский, персидский и турецкий. Каждый выходной день, каждый свободный час Вячеслав Рудольфович старался использовать для выполнения намеченных себе учебных заданий. Обычно это были задания из самых различных областей науки. Он был человеком очень разносторонних интересов: следил за литературой по химии, астрономии, физике, математике.
Огромная эрудиция, умение подчинить людей своей воле, колоссальная выдержка и хладнокровие сочетались в нем с большой скромностью и деликатностью. Вячеслав Рудольфович был на редкость внимателен и вежлив в обращении с подчиненными, В самых острых ситуациях он не выходил из себя, не терял спокойствия. Он не был обладателем «командирского голоса», и первое время для тех, кто работал с ним, было очень странно слышать от руководителя ОГПУ приказание, начинавшееся обычным для него обращением: «Покорнейше прошу…» Но чекисты знали, что эта манера обращения в данном случае говорит лишь о большом уважении к людям, о деликатности.
Мне неоднократно самому доводилось убеждаться в этом. В частности, когда Вячеслав Рудольфович отдыхал на даче «Карс».
Зная, что Вячеслав Рудольфович интересуется театром, я как-то под вечер зашел к нему, чтобы узнать, не желает ли он посмотреть спектакль театра оперетты, который только что приехал на гастроли в Кисловодск.
— Вы, я вижу, уже собрались? — спросил Вячеслав Рудольфович, глядя на мой парадный вид. — А что за спектакль идет?
— «Сильва».
— Спасибо за приглашение. Я с удовольствием пошел бы в театр, но неважно себя чувствую… А вам желаю весело провести вечер…
Когда я был уже в дверях, В. Р. Менжинский сказал:
— Я вас попрошу, товарищ Фомин, завтра утром зайти ко мне.
На следующее утро я пришел к Вячеславу Рудольфовичу и выслушал от него замечание, высказанное, как обычно, в очень вежливой форме, по поводу допущенной мною оплошности по службе. Я обещал тотчас же исправить ошибку. Меня необычайно поразила тогда деликатность Вячеслава Рудольфовича, который накануне, зная, что я иду в театр, не захотел испортить мне настроение.
Когда Вячеслав Рудольфович уезжал из Кисловодска, он, прощаясь со мною, пригласил, если буду в Москве, заходить к нему. И все же я, хотя и часто бывал в Москве, считал неудобным беспокоить своим посещением Вячеслава Рудольфовича, отрывать его от работы.
Как-то в начале весны 1926 года я, будучи в Москве, зашел в Управление ОГПУ. Поднимаюсь по лестнице, а навстречу В. Р. Менжинский. Остановил меня, поздоровался и спрашивает, когда я приехал в Моекву.
— Два дня назад.
— А почему же вы не зашли ко мне?
— Считал неудобным, Вячеслав Рудольфович. Что ж я буду вас отвлекать разговорами?
— Напрасно так думаете. Я всегда рад вас видеть у себя. Если сможете, то завтра в 11 часов утра зайдите ко мне.
Я поблагодарил за приглашение.
В назначенное время я пришел к Вячеславу Рудольфовичу. Болезненный вид его обеспокоил меня. Я выразил опасение по поводу его здоровья.
— Да что вы все, точно сговорились. Только о здоровье со мною и говорите, — шутливо и в то же время с каким-то оттенком грусти заметил Вячеслав Рудольфович. — Впрочем, вы правы. Здоровье у меня действительно неважное. Врачи заставляют лежать. Я прошу вас, товарищ Фомин, извинить меня: я буду разговаривать с вами лежа. Пусть вас это не смущает.
Он попросил принести нам чаю и, лежа на диване, рассказывал, что из Германии прибыла в Москву врачебная комиссия, куда входят известнейшие в медицине ученые. Совместно с нашими профессорами они освидетельствовали всех членов Политбюро ЦК партии и народных комиссаров.
— Почему-то и меня включили в этот список, — сказал Вячеслав Рудольфович. — Осмотрела меня эта комиссия и постановила, чтобы я оставил работу и выехал на все лето в Сочи лечиться. А разве можно сейчас оставить работу мне, когда Феликс Эдмундович так занят в ВСНХ! Но он настаивает на лечении…
В 1934 году Вячеслав Рудольфович ушел из жизни. Перестало биться сердце пламенного революционера, верного ученика Ленина, помощника и соратника Дзержинского.
Память о Дзержинском
Нас, чекистов, знавших «грозу буржуазии», «рыцаря революции» Дзержинского, всегда поражала в Феликсе Эдмундовиче его необычайная человечность, скромность, простота, душевное отношение к своим подчиненным, сотрудникам, к товарищам, ко всем, кто обращался к нему за советом или с просьбой. Это был человек большого, отзывчивого сердца. И все эти качества, которые были присущи ему самому, он очень настойчиво прививал, воспитывал и у своих подчиненных.
У всех, кому довелось общаться с Феликсом Эдмундовичем, навсегда осталась о нем добрая, светлая память.
Я хочу рассказать здесь не только о том, чему сам был свидетелем, но и о том, что рассказывали мне люди, встречавшиеся с Дзержинским. Пусть это будут разрозненные и, может быть, на первый взгляд не очень значительные эпизоды. Но ведь нам дорого, вплоть до мельчайших подробностей, все, что относится к славной жизни таких людей, как Дзержинский. Пусть же и эти маленькие штрихи послужат воссозданию в памяти потомков живого облика одного из самых преданных и самых благородных сынов ленинской партии.
Как-то, уже много лет спустя после гражданской войны, я встретился с бывшим инспектором политотдела 15-й армии И. Н. Гурвичем[81]. Он рассказал мне об одном случае, который произошел с Феликсом Эдмундовичем в Польше в 1920 году.
В то время Ф. Э. Дзержинский был членом Польского ревкома и начальником тыла Юго-Западного фронта. Ему приходилось часто бывать в воинских частях, останавливаться на ночлег у местного населения. Однажды в местечке между Лидой и Белостоком остался он ночевать у одного старенького ксендза. Тот вначале смотрел на незваного гостя исподлобья и не желал даже разговаривать с красным начальником. Но вот Феликс Эдмундович заговорил по-польски со служанкой. Ксендз, не утерпев, присоединился к ним. Это был крайне словоохотливый старик. Слово за слово, и вот он уже подсаживается поближе к Ф. Э. Дзержинскому.
Вначале разговор не касался политики. Ксендз заговорил о неуважении современной молодежи к классикам польской литературы. Феликс Эдмундович хорошо знал произведения многих из них, но особенно любил он Адама Мицкевича. Вспомнив о нем, Феликс Эдмундович с чувством прочитал на память некоторые строки великого поэта. Ксендз был просто очарован.
— Как приятно, — сказал он, — встретить у большевиков такого образованного, культурного человека, да еще из наших, из поляков. Среди красных такие не часто попадаются. Вот, к примеру, есть у них там в Москве чекист Дзержинский — тоже поляк. Так ведь как только земля носит такого: сколько он, говорят, народу погубил! Все тюрьмы полны, кого посадил, а кого и расстрелял!
Феликс Эдмундович внимательно слушал, не перебивал да еш, е иногда и поддакивал:
— Да, да, бывали у Дзержинского такие случаи: и в тюрьмы сажал и расстреливал.
Ксендз, обрадованный, что его слушают так внимательно и даже соглашаются, продолжает все откровеннее ругать и Дзержинского и ЧК. Уж такого-де лиходея, антихриста, как Дзержинский, и на свете не бывало.
Служанка поставила на стол ужин. Ксендз велел принести бутылочку наливки. Но Феликс Эдмундович от вина отказался, а довольствовался чаем.
Ксендз не мог нарадоваться на своего квартиранта.
Утром Феликс Эдмундович должен был уехать. Он позвал хозяина и спросил, сколько с него причитается за ночлег и ужин.
Ксендз огорчился:
— Неужели вы уже уезжаете?
— Да, надо.
— Очень жаль. Редко с такими хорошими людьми приходится встречаться. Хоть вы и большевик, но, прямо скажу, удивительный вы человек: и душевный, и обходительный. Вы хоть свою фамилию скажите, чтобы я знал, с кем имел честь познакомиться. А может быть, еще и встретиться придется,
— Я Дзержинский.
— Дзержинский? — переспросил ксендз, меняясь в лице. Он пытался улыбаться, но это у него как-то криво получалось.
— Скажите, какое совпадение! А тот-то, чекист… ваш, значит, однофамилец? А может быть, и… родственник?
— Нет, не родственник. Я и есть тот самый чекист Дзержинский, о котором мы с вами вчера так любезно поговорили.
Услышав это, ксендз затрясся. Несколько мгновений он не мог произнести ни слова. Затем жалобно запричитал:
— Ой, что я наделал, что наделал! Что же мне теперь будет?
Дзержинский, усмехнувшись, прервал его.
— Ровным счетом ничего.
— Ой, не верю, не верю, пропал я! — причитал ксендз. — Меня арестуют? Да?
— Да ничего вам не будет. Успокойтесь, — сказал Дзержинский. — Вы сказали мне вчера то, что пишут и говорят обо мне буржуазные газеты, враги Советской власти да обыватели. Я все это не первый раз слышу. А должность у меня действительно такая, что приходится и в тюрьму сажать и даже кое-кого расстреливать — особо вредных врагов Советской власти,
Ф. Э. Дзержинский ушел, оставив растерянного ксендза на крыльце.
А через час инспектор политотдела И. Н. Гурвич зашел вручить Феликсу Эдмундовичу служебный пакет.
У ксендза, как увидел он человека в военной форме, так ноги и подкосились.
Узнав, что Дзержинского уже нет, Гурвич повернул было обратно, но ксендз, обретший дар речи, остановил его:
— Пан начальник, пан начальник! Скажите, что мне будет? Я очень обидел пана Дзержинского, такое ему наговорил, что и вспомнить страшно.
И он рассказал ему все, что произошло.
— А что сказал вам сам Дзержинский? — спросил Гурвич.
— Он говорил, что мне ничего не будет. Но я не верю.
— Ну, раз Дзержинский так сказал, — успокоил старика Гурвич, — значит, вам нечего беспокоиться. Феликс Эдмундович никогда ничего зря не говорит.
В 1922 ГОДУ в политотдел войск ВЧК поступили с Урала необычные хромовые тужурки — ярко-красного цвета. Их раздали сотрудникам. И на другой день начальник политотдела Я. В. Мукомль и его помощник С. К. Сюннерберг явились в этакой шикарной форме на работу. Когда они возвращались домой, у Мясницких ворот их машина неожиданно стала. Шофер вышел осмотреть мотор. В это время в открытом автомобиле проезжал Ф. Э. Дзержинский. Он попросил шофера замедлить ход и очень внимательно принялся рассматривать своих сотрудников. А те, кажется, даже и не заметили его. После того как машина была исправлена, они спокойно отправились домой.
А на следующий день, утром, секретарь ВЧК Герсон вызывает Мукомля и Сюннерберга в кабинет Ф. Э. Дзержинского. Как раз в это время я зашел в кабинет секретаря. Мукомль и Сюннерберг подсели ко мне. «По какому делу вызывает нас Феликс Эдмундович?» — гадали они, да так и не могли додуматься.
Потом Сюннерберг мне рассказал:
— Когда мы вошли к Феликсу Эдмундовичу, он быстро поднялся, вышел из-за стола, поздоровался за руку с каждым и спокойно, но твердо сказал:
— Я вас побеспокоил, товарищи, вот по какому поводу. Не знаю, заметили вы или нет, но вчера мы встретились с вами на Мясницкой улице… Сами понимаете, мы живем в такое тяжелое время, когда у значительной части населения Москвы нет ни одежды, ни кожаной обуви. А вы, чекисты, на глазах всего города разъезжаете в ярко-красных хромовых тужурках. Разве это правильно? Зачем же так делать?..
Наши лица сделались под стать нашим красным тужуркам. Мы готовы были от стыда провалиться сквозь землю. Хотели было что-то сказать в свое оправдание, но Феликс Эдмундович опередил нас:
— Не считайте меня таким начальником, который ко всему придирается и во все вмешивается. В другое время я, пожалуй, не стал бы вызывать вас по такому поводу. Надеюсь, что вы правильно поняли меня.
Недавно я заходил к Сюннербергу, живущему в Москве.
— Помните эту историю с красными тужурками? — спросил я.
— А как же! — ответил Сюннерберг. — На всю жизнь запомнилось. Хороший урок дал нам Феликс Эдмундович.
Суровый и беспощадный к тем, кто посягал на завоевания Великого Октября, Ф. Э. Дзержинский был внимателен и отзывчив к нуждам трудящихся. И что особенно для него характерно, очень любил детей, всегда заботился о них. Даже в самые ожесточенные моменты борьбы с контрреволюционным подпольем Феликс Эдмундович мечтал о том времени, когда сможет заняться воспитанием подрастающего поколения. В нем жил талантливейший педагог-воспитатель. «Я люблю детей так, как никого другого… Я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше», — признавался Феликс Эдмундович. И через всю свою жизнь он пронес это чувство отеческой заботы и проникновенной любви к детям.
Гражданская война еще не окончилась, а Феликс Эдмундович пошел к наркому просвещения Анатолию Васильевичу Луначарскому с предложением поручить борьбу с детской беспризорностью органам ВЧК и лично ему.
27 января 1921 года Президиум ВЦИК утвердил Ф. Э. Дзержинского председателем Комиссии по улучшению жизни детей. В то время в нашей стране, после четырехлетней империалистической и гражданской войн, насчитывалось около 4 миллионов беспризорных детей — в большинстве сирот, без крова, без пищи, без присмотра и ухода.
Уделяя исключительное внимание борьбе с детской беспризорностью, Ф. Э. Дзержинский и от нас, руководителей чекистских органов на местах, требовал повседневного участия в ней. И мы всегда считали борьбу с беспризорностью частью нашей основной, чекистской работы.
Я, в то время работавший в Крыму, получил директиву от Ф. Э. Дзержинского, адресованную всем руководителям органов ВЧК. В ней говорилось:
«…ВЧК надеется, что товарищи, работающие в ЧК, поймут важность и срочность заботы о детях, а потому, как и всегда, окажутся на высоте своего положения. Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции. Поставив на должную высоту дело обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем, широкую опору в борьбе с контрреволюцией».
На созванном в связи с этой директивой совещании чекистов, командиров и политработников войск ВЧК Крыма мы обсудили предстоящую работу и, кроме того, решили добровольно отчислять из собственной зарплаты определенную сумму на содержание беспризорных детей. Обком партии создал областную комиссию по улучшению жизни детей. Такие же комиссии были созданы во всех городах Крыма.
В состав областной комиссии вошел начальник Главного курортного управления Крыма Дмитрий Ильич Ульянов (брат Владимира Ильича), к которому мы обратились с просьбой принять шефство над беспризорными детьми Крыма. Дмитрий Ильич оказывал помощь всем, чем только мог. Его деятельность в Крыму была очень плодотворна. Изо дня в день он занимался делами, связанными с трудоустройством, воспитанием, образованием, отдыхом, лечением бывших беспризорников. Специально для них в Ялте был отведен один из лучших санаториев. В Севастополе, Симферополе и других городах для беспризорных детей были выделены особые курортно-лечебные помещения. Устраивались трудколонии, детские сады. За короткое время около 500 беспризорников были обеспечены всем необходимым для нормальной жизни и учебы.
Поход на беспризорность был подхвачен всей общественностью Крыма. Передовые деятели культуры принимали участие в судьбе детей, помогали денежными средствами. Отлично помню концерты в Крыму замечательного певца и человека Леонида Витальевича Собинова, которые он давал в пользу беспризорных детей. Вся сумма, собранная с концерта, — весьма внушительная! — шла в фонд помощи детям. Л. В. Собинову случалось выступать и перед беспризорниками.
Под руководством Ф. Э. Дзержинского в нашей стране возникла целая сеть трудовых колоний и коммун. Уже к 4-й годовщине своего существования в трудовых колониях была полностью ликвидирована неграмотность, воспитанники получили производственную квалификацию, многие из них стали учиться на рабфаках и в специальных технических учебных заведениях. Коммунары построили для себя новые каменные дома — общежития, клубы, спортивные площадки. Подростки, бывшие недавно подонками общества, в трудкоммунах перерождались и становились полноправными строителями социалистического общества.
Несмотря на огромную занятость, Дзержинский находил время лично посещать трудколонии и коммуны, интересовался их производственными успехами, беседовал с воспитанниками.
Когда в сентябре 1924 года я приехал в Москву, начальник хозяйственного отдела ОГПУ Матвей Погребинский рассказал мне о поездке Ф. Э. Дзержинского в тюрьму, где среди заключенных было много несовершеннолетних. Феликс Эдмундович велел вывести и построить их в коридоре тюрьмы. Набралось их более 20 человек.
Феликс Эдмундович объявил им, что все они переводятся в трудкоммуну, где будут жить на свободе и учиться. Каждый получит специальность и сможет стать честным тружеником.
Он говорил о времени, в которое мы живем, о том, во имя чего была совершена революция и что нужно, чтобы стать строителем новой жизни, в чем оно — настоящее, большое счастье человека.
— Как бы мне хотелось, — закончил Феликс Эдмундович, — чтобы каждый из вас научился уважать и себя, и народ свой, научился ценить ту великую созидательную работу, которую делает страна. Будьте достойны получить право принять участие в строительстве новой жизни.
Слова Ф. Э. Дзержинского произвели огромное впечатление. Возможно, впервые так доверительно и с таким уважением говорили с ними — малолетними преступниками.
Спустя некоторое время Ф. Э. Дзержинский навестил трудкоммуну. Воспитанники окружили Феликса Эдмундовича. Многие помчались в мастерские, чтобы показать свои успехи в труде: принесли инструмент, изделия, детали, искусно сработанные собственными руками. Каждому не терпелось похвалиться перед Феликсом Эдмундовичем.
На всю жизнь бывшие беспризорники сохранили трогательную любовь к человеку, проявившему истинно отеческую заботу о них, помогавшему им стать настоящими людьми.
20 декабря 1927 года отмечалось десятилетие органов ВЧК. Я в то время был начальником Управления погранохраны и войск ОГПУ Северо-Кавказского края. В Ростове-на-Дону был организован вечер воспоминаний о ВЧК и ее председателе Ф. Э. Дзержинском. На этот вечер мы пригласили ответственных партийных и военных работников, в том числе командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Ивана Панфиловича Белова и начальника штаба округа Ивана Федоровича Федько.
Выступавшие, бывшие чекисты, говорили о работе чекистских органов в грозные годы революции и гражданской войны, вспоминали Феликса Эдмундовича Дзержинского. Многие работали вместе с ним и делились личными впечатлениями о Феликсе Эдмундовиче.
Вечер воспоминаний уже подходил к концу, когда слово взял Иван Панфилович Белов. И вот что он рассказал:
— До меня выступали товарищи, которые работали вместе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Я же никогда не работал в органах ВЧК и с Феликсом Эдмундовичем познакомился при обстоятельствах, крайне для меня неблагоприятных. Меня доставили к нему под конвоем…
Очень я боялся этой встречи. Все время, пока сидел во внутренней тюрьме ВЧК, думал о Дзержинском: как-то он со мной обойдется?
И вот наконец меня вызывают к председателю ВЧК. Привели в кабинет. Дзержинский поздоровался со мной, предложил сесть.
— Расскажите мне, Иван Панфилович, — говорит Дзержинский, — о себе, о своей жизни и службе.
Я начинаю подробно рассказывать о себе. Был грузчиком в порту. В царской армии служил рядовым, в конце первой мировой войны был младшим унтер-офицером. Февральская революция застала меня в Средней Азии. Там я организовал вокруг себя солдат и беднейшее крестьянство. Перед самой Октябрьской революцией командовал уже полком, и с каждым днем в этот полк прибывало все больше и больше рабочих и крестьянской бедноты. Громили мы бухарских князей, богачей-баев.
— Этому полку в напряженные Октябрьские дни, — продолжал я свой рассказ, — суждено было сыграть немалую роль в завоевании политической власти в Туркестане. В дальнейшем полк участвовал во многих операциях. В частности, им были разоружены казачьи части, возвращавшиеся с Кавказского фронта и настроенные враждебно к Советской власти.
В марте 1918 года я был назначен начальником ташкентского гарнизона и комендантом Ташкентской крепости. Одновременно состоял заместителем командующего войсками Туркестанского округа.
Условия работы в Туркестане были очень тяжелые: подготовленных работников, специалистов почти не было, коммунистов мало. Когда был создан Реввоенсовет Туркестанской республики, меня назначили главкомом. Занимал эту должность вплоть до ноября 1919 года, то есть до того времени, когда войска Российской Федерации уже соединились с красными туркестанскими войсками.
В августе 1920 года М. В. Фрунзе вызвал меня в Ташкент для проведения Бухарской операции. После успешного выполнения этого задания я должен был выехать на Южный фронт, но заболел и остался в Туркестане. После болезни, несмотря на мой протест, был назначен командующим войсками Хорезмской республики. А по дороге в Хиву меня арестовали. Было создано громкое дело, которое тянулось два месяца на месте, в Туркестане, а потом было передано в Москву.
И вот теперь я здесь, у вас.
Я не знаю, в чем моя вина. Все обвинения, предъявляемые мне, — чудовищная клевета с целью опорочить меня в глазах той власти, которой я свято служил и готов служить, пока бьется сердце.
Долго рассказывал я. Дзержинский слушал меня с огромным вниманием, не перебивая. А когда я кончил, поднялся из-за стола, подошел ко мне и сказал:
— Вот что, товарищ Белов. Делать вам у нас здесь абсолютно нечего. Вас действительно оклеветали. Я заинтересовался вашим делом. И ознакомился с ним со всеми подробностями. Никакого преступления против Советской власти вы не совершали. Заслуги ваши большие. Человек вы храбрый, в военном деле опытный. Можете и в дальнейшем большую службу сослужить Советской власти! А клеветники не уйдут от ответа.
Написал он записку, вызвал своего секретаря и сказал ему:
— Передайте записку начальнику тюрьмы. Пусть немедленно освободит товарища Белова и направит его в штаб РККА.
Товарищ Дзержинский пожал мне руку, улыбнулся.
— Желаю вам, Иван Панфилович, так же честно служить народу, как вы служили ему и раньше.
Приехал я на Северный Кавказ. Назначили меня начальником дивизии. За боевые заслуги в гражданской войне наградили орденом Красного Знамени. А спустя некоторое время назначили уже командиром корпуса и наградили вторым орденом Красного Знамени. Теперь вот командую Северо-Кавказским военным округом…
Вот так благодаря чуткости Феликса Эдмундовича Дзержинского, его внимательности и справедливости к людям я был возвращен в строй и смог принести пользу делу революции.
В 1924–1925 годах я работал начальником Терского окружного отдела ОГПУ. По согласованию с Ф. Э. Дзержинским Северо-Кавказский крайком партии возложил на меня охрану членов ЦК партии и правительства, приезжавших на кавказские минеральные воды.
Летом 1924 года, одним ранним утром, у меня в кабинете раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал голос Дзержинского. Он сообщил, что в Кисловодск едут Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова.
— Прошу встретить их, хорошо устроить, а главное, уговорить, чтобы они подольше пожили в Кисловодске: они очень нуждаются в отдыхе и лечении!
Я встретил Надежду Константиновну и Марию Ильиничну на станции Минеральные Воды. Оттуда приехали в Кисловодск, на дачу «Карс».
Я смотрел на них и думал: сколько пережили эти женщины! Ведь совсем недавно у них на руках скончался Ильич. Каким мужеством должны были они обладать, чтобы преодолеть такое страшное, непоправимое горе!
Приехали они тяжело больные. В первую неделю ни Надежда Константиновна, ни Мария Ильинична почти не выходили из комнаты. Но постепенно здоровье их улучшилось, и врачи разрешили им небольшие прогулки.
Феликс Эдмундович регулярно справлялся по телефону о состоянии их здоровья. Как обрадовался он, когда я сообщил, что Надежда Константиновна и Мария Ильинична почти целые дни стали проводить на воздухе и вот уже два дня, как могут совершать прогулки до Красных камней.
Я знал и раньше, что у Феликса Эдмундовича Дзержинского доброе, отзывчивое сердце, но только теперь, наблюдая его отношение к членам семьи Владимира Ильича, смог по-настоящему оценить его душевную чуткость, теплоту, преданность друзьям.
Вскоре я заметил, что Надежда Константиновна начинает по утрам заниматься: усаживается на скамеечку, раскладывает перед собой книжки, тетради, читает и что-то записывает. Это она решила во время отпуска заняться переработкой учебных программ для семилетней школы.
Я попросил Валериана Владимировича Куйбышева и Анастаса Ивановича Микояна, отдыхавших здесь же, чтобы они уговорили Надежду Константиновну оставить работу. С большим трудом, но им все же удалось уговорить Надежду Константиновну во время отпуска не работать.
— Мы с Анастасом Ивановичем будем следить за вами, чтобы вы отдыхали и лечились, а не изнуряли себя, — сказал Валериан Владимирович.
Серьезно обеспокоенные здоровьем Надежды Константиновны и Марии Ильиничны, они на протяжении всего своего отпуска проявляли о них сердечную заботу.
Не прошло еще и месяца со дня приезда Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой, как Надежда Константиновна заявляет мне:
— Нужно, товарищ Фомин, подумать об обратных билетах в Москву. Скоро наш отпуск кончается. Больше шести недель нам не положено отдыхать, да и позволить себе мы не можем этого. Пора и за работу приниматься.
Я доложил об этом по телефону Ф. Э. Дзержинскому. Он был очень огорчен.
— Нельзя их отпускать из Кисловодска! Ни в коем случае! Убедите их остаться. Раз сами себя они не жалеют, то надо нам их поберечь. По меньшей мере еще месяц им нужен на отдых и лечение.
И опять я обратился за помощью к А. И. Микояну и В. В. Куйбышеву.
Анастас Иванович даже в шутку пригрозил:
— Как хотите, а я вас не отпущу. И вы обязаны повиноваться мне. Вы, можно сказать, у меня в гостях[82]. А в гостях, как говорится, не своя воля.
Как ни убеждали их, Надежда Константиновна и Мария Ильинична в один голос заявили:
— Вот пройдет шесть недель нашего отпуска, сразу поедем в Москву.
Что делать?
Выручил зубной врач Бенинсон. Он уговорил Надежду Константиновну и Марию Ильиничну, пока они в Кисловодске, полечить зубы. Они охотно согласились.
— Вот и хорошо, — сказала Мария Ильинична. — Пока есть у нас свободное время, займемся зубами. А в Москве некогда будет.
А как согласились, то тут уж пришлось и отъезд отложить. По моей личной просьбе лечение зубов растянулось почти на полтора месяца. За это время Н. К. Крупская и М. И. Ульянова хорошо поправились. Феликс Эдмундович был очень доволен находчивостью зубного врача и просил передать ему благодарность от своего имени.
Однако истек и этот срок. Теперь уж ничто не могло удержать их в Кисловодске. Ф. Э. Дзержинский поручил мне позаботиться о возвращении в Москву Надежды Константиновны и Марии Ильиничны, непременно достать им отдельный вагон и обязательно дать сопровождающего.
Я договорился с начальником железной дороги о предоставлении отдельного вагона. Но, узнав об атом, Надежда Константиновна рассердилась не на шутку.
— Да что вы, всамом деле! Зачем это нам такие привилегии?! Что о нас люди говорить будут, когда увидят, что мы вдвоем отдельный вагон занимаем! Нет, уж, пожалуйста, возьмите для нас два билета в спальном вагоне.
Так и настояли на своем.
Как уже упоминалось, в том же году на дачу «Карc» в Кисловодск приехал лечиться и отдыхать В. В. Куйбышев. Поселился он на той же даче, где жили Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Надобно было видеть их радость, когда В. В. Куйбышев вошел к ним в комнату.
— Валериан приехал! Отдыхать? Как хорошо, что именно сюда! Значит, будем вместе!
С какой трогательной нежностью смотрели они на приехавшего. Необычайно легко чувствовали себя при нем Надежда Константиновна и Мария Ильинична. Разговорам не было конца. Вспоминали об Ильиче, о друзьях, о годах, проведенных в ссылках. Живо интересовались и современными событиями. В. В. Куйбышев был на редкость простым и обаятельным человеком. К нему на дачу часто приходили знакомые и незнакомые люди, по делам и без дела. Не было случая, чтобы Валериан Владимирович уклонился от встречи или принял кого-либо сухо, официально.
— Валериан Владимирович, — сказал как-то я, — вы приехали лечиться и отдыхать. А какой же тут отдых, когда, что ни день, вас донимают разными просьбами. Вы себя здесь переутомляете, так же как и в Москве.
Но Валериан Владимирович только смеялся.
Он очень любил прогулки и совершал их на довольно большие расстояния. И во время прогулок к нему всякий раз подходили люди:
— Валериан Владимирович, вы не помните меня по работе в Астрахани?
— А я с вами работал в Средней Азии!
— А я вас помню еще с Самары. И начинались беседы.
Не помню, чтобы В. В. Куйбышев ходил один — всегда в окружении. Тянулись к нему люди, да и он сам, будучи общительным человеком, скучал в одиночестве.
Как к председателю Центральной контрольной комиссии и наркому РКИ, к нему приходили рядовые партийцы, люди, совершенно незнакомые. Никому не отказывал в приеме, тут же помогал, чем мог.
Как-то он попросил меня показать Медовый водопад. Мы поехали верхом. В пути Валериан Владимирович много рассказывал о себе, о том, в каких условиях приходилось вести революционную работу при царизме, о тюрьмах, ссылках, побегах. В особенности запомнился его рассказ о жене и сыне, родившемся в Самарской тюрьме.
Жена Валериана Владимировича — революционерка-подпольщица была арестована незадолго до Февральской революции. Несмотря на то что она была беременна, ее поместили в одиночку — крошечную, сырую каморку. По стенам ее беспрестанно сочилась вода.
После Февральской революции тюремному начальству и местным властям было не до заключенных. Запертые в своих каменных гробах, они провели два дня без пищи и воды. На третий день рабочие, устроив демонстрацию, пошли к тюрьме, чтобы освободить политзаключенных. Когда вошли в камеру жены В. В. Куйбышева, она лежала на полу без памяти, рядом в судорогах корчился ребенок. Рабочие немедленно послали за врачом. Жену и ребенка удалось спасти просто чудом. Приди рабочие на час позже — и они погибли бы.
Здоровье самого Феликса Эдмундовича находилось под угрозой. Оно было серьезно подорвано еще в молодости тюрьмами и ссылками. После Октябрьской революции, в годы гражданской войны, Феликс Эдмундович, не щадя своих сил, вел борьбу с. контрреволюцией. Вот уж про кого, действительно, можно сказать, что он горел на работе.
Несколько раз правительство, ЦК партии и лично Владимир Ильич Ленин предлагали ему отдохнуть и полечиться. Но Феликс Эдмундович всегда горячо возражал, убеждая, что сейчас нет причины ему волноваться о своем здоровье. Да и обстановка не позволяет. Вот кончится гражданская война, тогда можно будет и о здоровье побеспокоиться.
Но кончилась гражданская война, и на очередь стали другие неотложные дела. И опять Дзержинский считает, что для его отпуска еще не настало время. В октябре 1923 года он писал в ЦК: «Считаю, что давать мне сейчас отпуск вредно для дела и для меня лично по следующим соображениям. По линии ОГПУ в связи с внутренним и международным положением, а также с сокращением нашей сметы ОГПУ будет переживать сейчас очень трудное время, и вместе с тем политическое значение его работы и ответственность неимоверно возрастут. Необходимо мое присутствие как для обеспечения полной связи с ЦК, так и для самой работы в ОГПУ и для наиболее безболезненного сжатия его аппаратов, что по моей инициативе производится…»
А между тем нечеловеческое напряжение многих лет все настойчивее давало себя знать. Феликс Эдмундович очень похудел, сильно кашлял. Участились перебои сердца. Летом 1925 года Центральный Комитет партии категорически потребовал, чтобы Ф. Э. Дзержинский отправился на курорт.
И вот Феликс Эдмундович получает отпуск. На станции Минеральные Воды его встретили секретарь Терского окружного комитета партии С. О. Котляр, директор курортов кавказских минеральных вод С. А. Мамушин и я. По дороге Феликс Эдмундович буквально забросал нас вопросами: сколько рабочих работает на железнодорожном узле Минеральные Воды, каков их средний заработок, в каких бытовых условиях находятся? Интересовался курортами: какая пропускная способность их летом, как поставлено медицинское обслуживание, в чем нуждаются? И тут же сказал:
— Мне кажется, настало время все курорты перевести на круглогодовую работу. Потребность в этом у трудящихся очень большая. Вы, товарищ директор, соберите все данные о работе вверенных вам курортов и зайдите ко мне на дачу, ну хотя бы через недельку. Мы с вами подготовим материал для обсуждения этого вопроса в Москве. Как член правительства и председатель Высшего Совета Народного Хозяйства, обещаю вам оказать помощь.
В Кисловодске Ф. Э. Дзержинский поселился на даче «Карc». Должна была приехать и жена его, Софья Сигизмундовна. На втором этаже для них была приготовлена квартира из трех комнат. Но Феликс Эдмундович решительно отказался в ней жить:
— Зачем мне такая большая квартира? Софья Сигизмундовна приедет только через две-три недели, и мне вполне достаточно одной комнаты.
Глубокая человечность Ф. Э. Дзержинского, его забота о людях проявлялись всегда и везде.
В Кисловодске, в санатории имени В. И. Ленина, лечилась в то время группа работников ОГПУ. Из-за небрежности поваров, сваривших пищу в только что луженных котлах, произошло легкое отравление. Об этом доложили Феликсу Эдмундовичу. Он немедленно отправился навестить больных.
Придя в санаторий, Феликс Эдмундович вызвал весь медицинский персонал во главе с главным врачом, обстоятельно выяснил причину отравления, побеседовал с каждым пострадавшим. А потом постарался успокоить изрядно переволновавшихся работников санатория. Попросил только главврача принять все меры, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия отравления. Больные вскоре поправились и пришли к Феликсу Эдмундовичу на дачу, чтобы поблагодарить его за внимание и заботу.
Однажды в разговоре кто-то выразил удивление терпеливости и внимательности Феликса Эдмундовича со всеми, кто обращался к нему за советами или с просьбами.
— Чему ж тут удивляться? Не вижу здесь ничего особенного, — сказал Дзержинский. — Все мы имели великий пример в лице Владимира Ильича. Ведь мы, большевики, считаем себя слугами народа. А как можно служить народу, если равнодушен к его нуждам или заражен барским высокомерием?
Тема эта, как видно, сильно волновала Феликса Эдмундовича. Говорил он возбужденно.
— Думаете, это правильно, когда некоторые ответственные работники только красиво разглагольствуют о массах, а сами не замечают просьб и нужд отдельных людей? Нет! Массы состоят из личностей. И каждый человек имеет право на помощь и внимание.
— Вот я вам приведу такой пример, — продолжал Дзержинский. — Перед самым моим отъездом из Москвы сюда, в Кисловодск, я получаю сведения, что некоторые сотрудники ОГПУ, работающие в бюро пропусков, в столе справок, — в общем те, кто обычно сидят за окошками и к кому ежедневно обращаются сотни граждан, грубо отвечают на вопросы — посетителей. При проверке это подтвердилось. И тогда я распорядился, чтобы в часы приема посетителей за окошками сидели только начальники управлений и отделов ОГПУ и чтобы они сами давали исчерпывающие ответы на все вопросы посетителей, и непременно в вежливой форме.
Помню и такой разговор Феликса Эдмундовича со мной. Речь зашла о чекистах, которые находились на лечении в Кисловодске:
— Весьма возможно, что кто-нибудь из них пожелает прийти ко мне — поговорить, посоветоваться. Я не должен лишать их такой возможности. Ведь во время отпуска я имею больше свободного времени и могу поговорить с каждым по душам. Вы, пожалуйста, не препятствуйте и пропускайте их ко мне.
И к Феликсу Эдмундовичу на дачу постоянно приходили сотрудники ОГПУ, да и не только они, а все, у кого была необходимость увидеться с ним. И ко всем он относился с дружеским участием, интересовался личной жизнью, работой, здоровьем, лечением.
Многие свои прогулки Феликс Эдмундович совершал совместно с В. Р. Менжинским, также лечившимся в то время в Кисловодске. Однажды после обеда они решили проехать посмотреть Медовый водопад, находящийся за Кисловодском километрах в четырнадцати.
Утром прошел сильный дождь. А вслед за ним — радуга, солнце. День выдался отличный. Феликс Эдмундович и Вячеслав Рудольфович были в самом веселом настроении. Дорога шла по живописнейшим местам. Прогулка обещала быть на славу.
И вдруг машина резко затормозила. Шофер выскочил, осмотрел машину. Оказалось, что лопнула камера. Вид у него был испуганный. Феликс Эдмундович сразу обратил внимание на то, как изменилось его лицо и голос.
— Товарищ Шибуняев, что это вы так нервничаете? Спокойно заменяйте камеру, а мы походим, погуляем пока…
Феликс Эдмундович вышел из машины. Заметив, что я тоже волнуюсь, он спрашивает:
— А вы чего переживаете?
Я ответил, что мне крайне неприятно: хорошую прогулку испортил непредвиденный случай. Дзержинский прервал меня:
— Да что вы из-за такого пустяка волнуетесь! Лопнула камера — шофер заменит, и через десять минут поедем дальше. А если даже он и не исправит машину — погода хорошая, отъехали мы немного, вернемся обратно пешком. Прогуляемся, и только.
Сняв с себя плащ, он разостлал его на траве, сел и меня пригласил сесть.
— Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом… Вот я вам сейчас расскажу кое-что тоже про автомобили. В годы гражданской войны положение с автотранспортом в Москве было очень тяжелое. Автомобили все старые, изношенные, резины мало, бензина нет, заправляли спиртом-сырцом, смешанным с эфиром. Пользоваться автотранспортом разрешалось только для оперативных служебных целей. Однако под выходные и в выходные дни много автомобилей все же направлялось за город. Даже в то тяжелое время (1919 год!) находились любители покататься на государственный счет, покатать своих родственников и знакомых. И вот что интересно: резины, горючего и смазочных материалов в нерабочие дни расходовалось в Москве больше, чем в рабочие. Узнав об этом, я решил принять экстренные меры. Позвонил Владимиру Ильичу и сказал, что хочу на всех окраинах города и на заставах выставить комиссаров ВЧК для регистрации автомобилей. Владимир Ильич одобрил мое предложение. И знаете, это возымело действие! Бывало, любители прогулок за город, как только увидят чекистов, быстро поворачивают обратно. В течение первых же двух недель расход горючего, резины и смазочного материала по Москве в нерабочие дни сократился наполовину…
Пока мы сидели и разговаривали, камера была заменена, и мы могли следовать дальше.
Феликс Эдмундович Дзержинский давно мечтал подняться на гору Машук.
— Иоанн Львович, — обратился он как-то к лечившему его доктору Баумгольцу, — я очень хочу осмотреть в Пятигорске лермонтовские места и подняться на гору Машук. Что вы на это скажете?
Доктор Баумгольц задумался:
— Что я могу ответить вам, Феликс Эдмундович? Ноги сердца не лечат. Но если уж у вас такое большое желание подняться на Машук, то по крайней мере обещайте мне, что не будете переутомлять себя, обязательно делайте через каждые 50 шагов минутную передышку.
Дзержинский дал слово неукоснительно выполнять все «требования медицины».
Вот и знаменитая гора…
В. Р. Менжинский, тоже поехавший с нами, остался с одним из сотрудников у подножия Машука. Я вызвался сопровождать Феликса Эдмундовича. Медленно поднимались мы по узкой тропке. Впереди шел Ф. Э. Дзержинский. Обещание, данное врачу, он выполнял самым тщательным образом: как только пройдет 50 шагов, так минутную остановку сделает.
Поднялись мы на Машук. Прилегли отдохнуть. Феликс Эдмундович несколько минут лежал молча.
Не знаю, о чем он думал. Может быть, о трагической судьбе гениального поэта. Может быть, в молчаливом благоговении созерцал раскрывшуюся перед глазами красоту горного пейзажа. А может быть, совсем иные мысли заставили его задуматься и уносили его туда, в сердце России, в Москву, в Кремль, где ждал его рабочий кабинет и дела, дела, дела…
С Машука открывался необыкновенный вид на вершины гор, ущелья, долины. А вдали над всем величественно высился, сверкая снеговой шапкой, Эльбрус.
— Красота-то какая! — восхищенно проговорил Феликс Эдмундович. — Хорошо бы везде побывать, посмотреть. И даже на Эльбрус подняться. Вот здоровье только, пожалуй, не позволит. Как вы думаете, позволят мне врачи на Эльбрус подняться? Конечно, не на вершину, а так, хоть немного?
— Не позволят, Феликс Эдмундович, ни за что не позволят!
— И я так думаю, — вздохнул Феликс Эдмундович. — Ну а вот близлежащие достопримечательности мы посетим обязательно. Это что за гора?
— Это гора Бештау. А там вдали — их отсюда не видно — Седло и Кольцо. Есть тут недалеко замок «Коварства и любви». А в 14 километрах от Кисловодска находится Медовый водопад.
Я показывал Феликсу Эдмундовичу все интересные места и рассказывал о них что знал. Так мне в тот день довелось быть гидом.
Феликс Эдмундович с восхищением смотрел на раскрывшуюся перед нами панораму.
— Во что бы то ни стало надо побивать везде. Теперь, как только выдастся свободный от процедур день, я уж не усижу на даче. Поскорей бы Софья Сигизмундовна приезжала. Я и ее соблазню на эти прогулки. Пусть тоже полюбуется.
Впоследствии Феликсу Эдмундовичу удалось осуществить свои желания. Вместе с Софьей Сигизмундовной он побывал и в замке и на горах. А излюбленным их местом были Красные камни, неподалеку от дачи. Чуть ли не каждый день они ходили к Красным камням, где на одной из скал был высечен барельеф Владимира Ильича.
Когда мы спустились с горы и направились в обратный путь, я заметил усталость Феликса Эдмундовича и предложил ему заехать ко мне на квартиру в Пятигорск, благо нам по пути, — пообедать, отдохнуть, а уж потом возвращаться в Кисловодск. Феликс Эдмундович сразу согласился.
По соседству со мною в доме-общежитии жили наши сотрудники с семьями. Феликс Эдмундович захотел посмотреть, как они живут. Он обошел квартиры, и в каждой семье возникал у него сердечный разговор. Люди откровенно делились с ним всеми своими делами, радостями и тревогами. Дзержинский умел быть сам откровенным и вызывать на откровенность собеседника.
Его душевность, чуткость и внимательность располагали к нему людей. Он подходил к людям с открытым сердцем, а в ответ и у них открывались сердца…
Один из своих отпусков я провел в Сухуми, Председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба очень рекомендовал поехать в Новый Афон.
— Такой красоты, — говорил он, — нигде не отыщете. До революции богачи даже из-за границы специально приезжали, чтобы посмотреть монастырь в Новом Афоне. Берите машину и завтра же поезжайте. Большое удовольствие получите. И зайдите обязательно к монаху Артемию.
— Это зачем же? — удивился я.
— Интересный человек. И наш.
— Монах — и вдруг наш человек? Как это понять? И вот что мы узнали об этом монахе. В 1921 году засуха сгубила на корню весь хлеб на юго-востоке. Чтобы спасти население от голода, правительство решило изъять церковные ценности, с тем чтобы на вырученные деньги закупить хлеб за границей. Но бедственное положение народа было на руку врагам революции. Кое-кто из них решил нажиться. Под предлогом спасения «святых реликвий» от «богохульников и еретиков» нашлись охотники присвоить огромные ценности.
Осенью 1921 года с моря к Новому Афону подошел баркас. С него высадилась группа людей и направилась в монастырь «спасать» монастырское добро. Молодой монах Артемий сразу смекнул, в- чем тут дело, и что есть духу побежал в Сухуми. Прибежал в ЧК и рассказывает: так, мол, и так, грабители уносят ценности из монастыря и собираются сплавить их за границу. Сотрудники Абхазской ЧК моментально выехали к месту происшествия. И как раз вовремя: еще немного — и баркас был бы далеко в море. Похитители были арестованы. Ценности по описи направлены в ЧК Абхазии, а оттуда в Госбанк.
С тех пор местные жители называли Артемия не иначе как «комиссаром ЧК», кто в шутку, а кто и злобствуя. А он был просто честным человеком.
— Вы к нему зайдите передохнуть, — сказали нам в Сухуми. — Он любит, когда к нему приходят. Между прочим, Феликс Эдмундович Дзержинский его посетил, когда был в Новом Афоне. Артемий сейчас в монастыре вроде коменданта.
На другой же день мы с женой отправились в Новый Афон, в монастырь. Артемий встретил нас приветливо. Трудно было себе представить, что этот еще молодой, разговорчивый, веселый мужчина в кожаной тужурке, сапогах и кепке — монах. А впрочем, он теперь монахом себя уже и не считал.
Он охотно вызвался сопровождать нас, чтобы показать достопримечательности монастыря и окрестностей. К концу прогулки мы устали. Заметив это, он пригласил нас к себе отдохнуть и перекусить. Жил он в небольшой квартирке из двух комнат, аккуратно прибранных.
Артемий представил нам свою жену Аннушку — миловидную молоденькую женщину лет двадцати двух — двадцати трех.
— Вот так монах! — почти вслух сказал я, но Артемий все же услышал и рассмеялся.
— Бывший, бывший монах. Теперь я охраняю монастырь и его богатства. Мне доверяют, власти ко мне относятся хорошо. Я очень доволен… Вы обождите немножко. Я сейчас вернусь, сойду только в погреб.
Аннушка подсела к нам и доверчиво заговорила:
— Вот он сейчас меня перед вами назвал женой. А ведь три недели назад и слышать не хотел, чтобы я у него осталась.
— Как же это так? — поинтересовалась моя жена. — Ведь у вас, я смотрю, должен быть ребенок…
— Вот с этого все и началось… Я сама из Саратовской губернии. Попала сюда, спасаясь от голода. Поступила к Артемию в услужение, а потом стала жить с ним. Артемий сначала хорошо ко мне относился, но, как узнал, что я беременная, сразу переменился и решил от меня отделаться. А куда же мне деваться? Бить не бил, но каждый день одно и то же слышала: «На что ты мне? Уходи на все четыре стороны!» Я и плакала, и умоляла его. Ничего не пронимает. Хоть петлю на шею, ей-богу!
И вот недели три назад — никогда не забуду, до самой смерти — товарищ Дзержинский, вот так же, как и вы, зашел к нам. Артемий тоже пошел приготовить на стол. Я сижу в углу и плачу, такая тоска взяла, на белый свет глядеть не хочется!
А Дзержинский увидел меня и спрашивает, что случилось, отчего плачу. Я ему по простоте-то все и расскажи. Сразу все как есть, без утайки. Выслушал он меня, а когда вернулся Артемий, говорит ему…
В этот момент в комнату вошел Артемий. Посмотрев на внезапно замолчавшую жену, он шутливо сказал;
— Ну, я вижу, Аннушка вам тут всю нашу жизнь расписала. Было дело, было… Вразумил меня товарищ Дзержинский. Долго он со мной говорил. И дошли его слова до самого моего сердца. Стыдно мне стало за себя…
Артемий переглянулся с Аннушкой, оба улыбнулись друг другу, а затем вместе стали накрывать на стол…
Когда мы прощались, я сказал, что, возможно, скоро увижу Феликса Эдмундовича. Услышав это, Артемий и Аннушка просияли.
— Увидите товарища Дзержинского, скажите ему, что живем мы дружно и ребенка воспитаем так, как он говорил — по-советски! А если родится мальчик — назовем Феликсом в его честь…
В последний раз я видел Феликса Эдмундовича Дзержинского в декабре 1925 года, когда был проездом в Москве. Я зашел к нему в ВСНХ. На Феликсе Эдмундовиче не было привычной наглухо застегнутой защитного цвета гимнастерки. Он был в темном штатском костюме. Рубашка с крахмальным воротничком, галстук…
— Видели ли вы меня когда-нибудь, товарищ Фомин, таким разодетым? — шутливо спросил он. — У меня даже ручка с золотым пером. Специально купил. Еду подписывать договор с англичанами о лесной концессии.
Дзержинский хоть и торопился, но принял меня с обычной для него сердечностью и вниманием. Интересовался моей работой, планами на будущее. Я обратился к нему с просьбой послать меня учиться.
— Мне очень приятно, — сказал Феликс Эдмундо-вич, — что у вас появилось такое желание. Было время, когда мы только своей большевистской преданностью и чекистской храбростью побеждали контрреволюцию, а теперь к этому нужно еще добавить отличное знание своего дела и хорошее образование.
Узнав, что мне предстоит отпуск, Феликс Эдмун-дович стал заботливо расспрашивать, все ли есть у меня для отпуска, не надо ли путевку, денег и т. д, Я поблагодарил и сказал, что ни в чем не нуждаюсь,
Прощаясь со мной, Феликс Эдмундович сказал:
— Обязательно пошлю вас учиться!
Думал ли я тогда, что в последний раз вижу и слышу этого пламенного рыцаря революции…
20 июля 1926 года он пал на боевом посту, сражаясь с врагами партии.
За несколько часов до смерти, выступая на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), в своей пламенной речи, направленной против отступников от ленинской линии партии, Дзержинский, обращаясь к участникам пленума, с полным правом сказал о себе:
«Вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда. (Голоса с мест: правильно!) И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них».
В день смерти Ф. Э. Дзержинского ЦК и ЦКК партии опубликовали обращение ко всем членам партии, ко всем рабочим, ко всем трудящимся, к Красной Армии и Флоту:
«В самые тяжелые времена, времена бесконечных заговоров и контрреволюционных восстаний, когда советская земля пылала в огне и кровавое кольцо врагов окружало бившихся за свое освобождение пролетариев, Дзержинский проявлял нечеловеческую энергию, дни и ночи, ночи и дни, без сна, без еды, без малейшего отдыха работал на своем сторожевом посту. Ненавидимый врагами рабочих, он пользовался громадным уважением даже среди них. Его рыцарская фигура, его личная отвага, его глубочайшая проницательность, его прямота, его исключительное благородство создали ему громадный авторитет».
А вот текст правительственного сообщения, опубликованного в тот же день:
«Сегодня, 20 июля, в 16 час. 40 мин., на своей квартире, от приступа грудной жабы скоропостижно скончался председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР и председатель Объединенного государственного политического управления Союза ССР товарищ Феликс Эдмундович Дзержинский.
Человек исключительной энергии и целиком преданный делу революции, он горел деятельным огнем на своих ответственнейших постах.
Он и сгорел на своем посту.
Смерть застигла товарища Дзержинского через три часа после его горячей и содержательной речи на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). Весь пленум с напряженнейшим вниманием слушал своего любимого товарища.
Правительство Союза ССР, застигнутое неожиданной смертью одного из самых выдающихся деятелей, не находит слов к оценке настоящей потери в лице товарища Дзержинского для всего Союза ССР.
Умер человек, который не только руководил делом развития народного хозяйства Союза ССР, но который был одним из героев Октябрьской революции и все время стоял на страже ее завоеваний».
Таков был Феликс Эдмундович. Таким он и остался в сердцах и в памяти советских людей.
Иллюстрации
 Ф. Т. Фомин
Ф. Т. Фомин
 Ф. Т. Фомин в годы гражданской воины
Ф. Т. Фомин в годы гражданской воины
 Грамота Почетного чекиста, подписанная Ф. Э. Дзержинским
Грамота Почетного чекиста, подписанная Ф. Э. Дзержинским
 Аркадий Борисович Кушнарев
Аркадий Борисович Кушнарев
 Ефим Георгиевич Евдокимов
Ефим Георгиевич Евдокимов
 Давид Моисеевич Давыдов
Давид Моисеевич Давыдов
 Ян Борисович Гамарник
Ян Борисович Гамарник
 Герой-пограничник Андрей Коробицын
Герой-пограничник Андрей Коробицын
 Вячеслав Рудольфович Менжинский
Вячеслав Рудольфович Менжинский
 Ф. Э. Дзержинский с женой Софьей Сигизмундовной на даче под Москвой (1923 г.)
Ф. Э. Дзержинский с женой Софьей Сигизмундовной на даче под Москвой (1923 г.)
Черносвитов Владимир
Сейф командира «Флинка»
Действие повести разворачивается в одном из городов советской Прибалтики. Неожиданное покушение на жизнь водолаза во время работы на затонувшем судне послужило толчком к расследованию преступления, совершенного еще в годы Великой Отечественной войны.
Адресована юношеству.


Комсомолии,
ныне служащей на флоте,
посвящаю
ПОДВИГ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
— Вира помалу!..
Матрос-крановщик включил лебедку — трос напрягся, пошел, роняя капли, и поднял со дна большую, бурую от ржавчины фугаску. Под нею гамаком провисала сетка — вдруг бомба да сорвется со стропов!..
Манипулируя рычагами, матрос повернул стрелу и плавно, тихонечко опустил бомбу в кузов грузовика. Придержал. Солдаты в кузове отвели страховочную сетку, бомба мягко улеглась на смесь опилок и песка. Махнули крановщику: «Забирай снасть!»
Стоявший у пульта связи вахтенный офицер поднес к губам микрофон, предупредил:
— Внимание, водолазы. Майна строп.
Описав в воздухе дугу, сетка легонько шлепнула по воде и скрылась в ней, увлекая за собой гак со стропами.
«Есть строп майна», — отозвался динамик.
...Еще в годы войны здесь, на берегу укромной бухты Южная, немцы соорудили большой бетонный причал с пакгаузами — какую-то перевалочную базу. Отгрохотала война... Демобилизованный в числе первых моряк главстаршина Шарипов не поехал домой: война осиротила его. Он остался у моря и из таких же демобилизованных сколотил здесь первый рыболовецкий колхоз. Проявив флотскую находчивость и разумную инициативу, он сразу прибрал к рукам эту временно ничейную базу. С годами артель крепла, росла, флот ее увеличился — Южная стала солидным колхозным портом. И вот на днях обнаружилось, что гитлеровцы, драпая, заминировали причал, превратив одну его секцию в крюйт-камеру[83] огромного фугаса! Долгие годы, оказалось, рыбаки хозяйствовали буквально на бочке с порохом!
Конечно же, военные моряки и армейцы-саперы тотчас пришли на помощь. Первым делом эвакуировали все население колхозного поселка. Неподалеку от причала врыли бетонные укрытия. В них развернули компрессорную, пункт снаряжения водолазов, камбуз, кубрики питания и отдыха, командный пункт с узлом связи. Глубже в тылу расположили гараж, техобеспечение, кубрики шоферов, комендантского взвода, солдат и матросов подвахты.
Причал пустовал. Рыболовные сейнера и траулеры маячили на якорях далеко на рейде. У берега бесстрашно летали, зависая, радужные стрекозы, за работой разминеров бдительно наблюдали любопытные скворцы.
...На дне матросы-водолазы приняли снасть, подтянули и расстелили ее возле промоины под бетонной стенкой причала.
— Гамак готов, старшина.
— Пусть лежит. Все, кончились «поросята», — ответил старшина Сафонов. — Фонарь мне... Ствол... Самим приготовиться к подъему.
— Товарищ старшина...
— Довольно канючить! — оборвал Сафонов. — Сказано — приготовиться! На стенке! Поднять водолазов. Иду на отмывку.
Сейчас Сергею Сафонову предстояло самое противное: в тесноте бетонной каморы, заполненной миллионом смертей, отмыть очередной ряд бомб и снарядов. А кто знает — где, какой и в каком ряду заделан тут общий взрыватель?..
— Водолазы вышли, — сообщил Сергею вахтенный капитан-лейтенант.
— Добро.. На стенке, прошу всех в укрытия.
— Понял, — отозвался офицер и нажал тумблер ревуна.
Стенка вовсе опустела. Хотя отмывка эта не первая уже, хотя все продумано, предусмотрено, отработано и водолазы натренированы, а в укрытиях всё же замерли все в тревоге. Не за себя, нет, — хотя бункер тоже не спасение — за водолаза, представляя, каково там сейчас ему!
А он, пробравшись в камору, осветил сильным фонарем штабель фугаса, примерился, зрительно запоминая, где и как отмывать. Попросил воду. Ствол в руках чуть дрогнул, напрягся — и через секунду уже камору заполнил непроглядный буран песка и мути, ни на дюйм не пробиваемый никаким фонарем! И это даже при самом слабом напоре струи.
Сергей работал вслепую, ориентируясь лишь по памяти. Рисковал он страшно. Снаряды следовало со всеми предосторожностями извлекать по одному, обнажив общий взрыватель — обезвредить его. А тут штабель может посыпаться, заставив сработать взрыватель. Одна эта мысль обжигала. Раньше, когда командование поднимало добровольцев на это дело, можно было все много раз взвесить. А когда уже вызвался, захотел проверить себя на подлинно боевое мужество — тут уж держись!
— Не увлекайтесь, Сафонов, кончайте, — сказал ему прямо в ухо телефон.
Сергей не ответил — не мог почему-то. Легкое шипение струи тотчас смолкло, ствол в руках водолаза обмяк.
— Сафонов! Почему молчите?.. Сергей, ты меня слышишь? — тревожно спросил офицер.
— Слышу, — как-то лениво промямлил Сафонов, почувствовав вдруг чугунную усталость, будто он на предельной глубине полчаса камни ворочал. Привалился плечом к стене. Перевел дух. — Слышу, — повторил, тупо уставясь в ржавую тушу, скатившуюся прямо под ноги. Из-под вязаной фески по вискам и за ушами противно поползли капельки холодного пота.
...И родная отвечала:
— Я желаю всей душой,
Если смерть придет — мгновенной,
Если раны — небольшой», —
промелькнули в памяти почему-то строки песни комсомольцев гражданской...
День, другой, третий на пустынном далеком мысу, куда саперы отвозили ржавую смерть, громыхали взрывы, напоминая многим войну. Наконец пришел черед последнего.
...Утром колхозный порт заполнили принаряженные женщины, рыбаки, ребятишки, районные и областные власти, военное начальство. Усердно дудел клубный оркестр, дымили трубы колхозной столовой.
Лучшие водолазы по-братски бросили жребий, кому из них в составе комиссии подписать акт сдачи разминированного объекта. Выпало Сафонову.
— Судьба была к нему щедра, но справедлива, — высказал общее мнение старшина Чуриков, разведя руками.
Простую формальность правление колхоза и райком решили сделать колхозным праздником. Военное командование охотно дало «добро». Сообща наметили нехитрую программу.
— Внимание! Водолаза — к спуску! — объявил вахтенный офицер.
В прорезиненный комбинезон скафандра водолаза втряхивают, как в мешок, растянув широкий резиновый ворот. Затем надевают на плечи «манишку» — нечто вроде овального медного подноса с дырой посредине, согнутого так, чтобы он двумя полукругами прикрывал грудь и спину водолаза. В дыру-флянец этой манишки вытягивают кромку резинового ворота комбинезона, расправляют по окружности флянца и насаживают дырками на три болта, торчащие из флянца. Надевают просторный шарообразный медный шлем с тремя смотровыми иллюминаторами, насаживают его на те же болты и затягивают гайками. Резиновый ворот комбинезона оказывается плотно зажатым между флянцами манишки и шлема, и теперь эти составные комбинезон — манишка — шлем образуют уже единое целое — скафандр. Из-за этих болтов и пошло его прозвище — «трехболтовка». Ну, а потом еще обувают водолазу свинцовые «галоши», навешивают на грудь и спину груза́, опоясывают ножом, снабжают фонарем, сумкой с инструментами — в общем, снаряжения ему хватает.
Сафонова одели по всем правилам в скафандр, и он, как статуя командора, грузно зашагал по бетонной стенке к трапику.
— Боже ж мий! Так вин же утопне, серденько, такый важкый! — испугалась какая-то бабуся.
Колхозники притихли, наблюдая. Большинство из них впервые видели спуск водолаза.
Сергей сошел по трапику в воду — по пояс. Матросы накрыли его голову шаровым медным шлемом, затянули гайки флянца. Чуриков ополоснул водой — чтобы не запотело — круглое стекло в медной оправе, крикнул:
— Воздух водолазу!..
Компрессорщик включил подачу. Сзади в шлем впаян рожок, на который насажен и закреплен шланг воздухопровода. Через невозвратный клапан этого рожка в шлем поступает нагнетаемый компрессором воздух. А на груди и спине рубахи есть другие невозвратные клапаны, которые, наоборот, выпускают лишний воздух. Таким образом комбинезон не раздувает и водолаз все время дышит свежим проточным воздухом. Но этого мало: в самом шлеме есть еще клапан с пружинкой — золотник. Вот им-то, главным образом, и регулирует количество воздуха в рубахе и свою плавучесть водолаз, то и дело нажимая головой на пуговицу золотника.
Женщины в удивлении ахали, девчата прыскали, пацаны застыли благоговейно, даже перестав шмыгать носами. Военные снисходительно улыбались этому маленькому спектаклю.
Чуриков ввинтил Сергею в шлем передний смотровой иллюминатор, затянул, шлепнул ладонью по медной лысине — и Сафонов ушел под воду, травя золотником лишний воздух.
— Ой, лышенько! — всплеснула руками та же бабуся.
Придя на грунт, Сергей взял заранее оставленную там латунную полированную пластинку и стал ждать сигнала. На ней было выгравировано:
Бухта Южная
Причал рыбколхоза «Балтиец»
РАЗМИНИРОВАН
(дата и год)
Тем временем наверху секретарь парткома колхоза Соловецкий открыл митинг, публично высказал морякам и армейцам-разминерам сердечную благодарность за их подвиг.
Офицер скомандовал «Подъем!», водолаза подняли, сняли с него шлем, и, тяжело топая, оставляя на сером бетоне мокрые темные следы, Сергей подошел к столу комиссии.
— Товарищ председатель, причал рыболовецкого колхоза «Балтиец» разминирован и взрывоопасным больше не является! — отрапортовал он и подал латунную пластинку.
Шарипов громко прочитал текст и высоко поднял пластинку, показывая собравшимся.
— Ура гвардейцам! — провозгласил усатый рыбак с боевыми наградами, и все восторженно подхватили.
Парни в гимнастерках и синих фланельках смущенно улыбались. Они не думали, что газеты назовут их работу подвигом, были польщены и чувствовали себя именинниками.
За официальной частью последовал праздничный обед в колхозной столовой — столь щедрый, что потом всем морякам и солдатам пришлось предоставить продленный адмиральский час отдыха.
Спасательная экспедиция внесла, конечно, яркое разнообразие в повседневную монотонность их служебных буден, но моряки и солдаты все же рады были уже вернуться в свои подразделения. И сейчас, разделясь на две бригады, авралили вовсю, свертывая остатки своего выездного хозяйства.
Смекалистый Шарипов снова пришел на причал, подсел к отдыхающей бригаде — будто бы тоже передохнуть. Впрочем, он и впрямь упарился, надев сегодня по случаю торжества синий морской китель с золотой медалью «Серп и Молот», которой был недавно удостоен. И сейчас, распахнув китель, сидел, обмахиваясь его бортами.
— Уф-ф... Ну и денек выдался — лето, да и только!
— Сплюньте, Солтан Мустафович, а то еще снег повалит, — улыбаясь, посоветовал Чуриков. — Прибалтийская весна — баба капризная.
— Это точно. Тьфу-тьфу-тьфу! — шутливо сплюнул рыбак. Посмотрел, щурясь, на небо, на бухту. — Да нет: чайки садятся на воду — жди хорошую погоду! Примета верная... А скажите-ка, братцы-водолазы, ваше слово — олово. Винт у нас на «Сириусе» бить стал. Гребной вал как струна, а винт молотит! Вы не могли бы в порядке шефства...
— Есть о чем говорить! — перебил Сафонов, нежась на солнце.
Чуриков подтвердил:
— Запросто. И посмотрим и сделаем, что там надо. Только я, Солтан Мустафович, распоряжения такого дать не могу: прав у меня еще как-то маловато. А вот если начальство...
— Так я и нацелился с Ладогой потолковать... А то, понимаете, гнать траулер в док — это же простой минимум неделю. Да и дорого чертовски. А водолазов от отряда ПТР вызывать — вовсе без штанов останешься. В прошлом году за пустяковину такой счет выставили — нас с главбухом чуть кондрашка не хватила!.. Ты чему радуешься?
Покусывая травинку, Сергей смотрел на председателя смеющимися глазами.
— Чудно: такой рачительный хозяин, а... Сколько у вас в артели получает самый ценный специалист?.. Так. Умножаем на двенадцать... Кондрашка не хватает? Прекрасно! Так почему бы вам не заиметь собственных двух-трех водолазов-совместителей, которые бы работали кем-либо, а по мере надобности выполняли бы и все подводные работы? Прикиньте-ка на круг разницу-выгоду...
ТАЙНЫЙ РЕЗОНАНС
Не прошло и двух дней, как Шарипов снова приехал на военно-морскую базу с очередным сюрпризом.
— Бог мой, Солтан Мустафович! — в шутку ужаснулся капитан первого ранга Коногонов. — Что привело вас к нам? Неужто еще фугасик нашли?
— Да уж не знаю что, но нашли. Мы такие!..
Разговор продолжился в кабинете командира базы, куда адмирал вызвал еще и некоторых своих флагманских специалистов.
— Прошу, товарищ Шарипов, — пригласил он рыбака к большой карте-макету водного района.
Шарипов подошел, присмотрелся, сориентировался:
— Ага. Вот, стало быть, наша Южная, вот выход из бухты, отмель, коса. Это уже морской берег... Так... Ситуация, значит, такова. Получили мы недавно новинку — тралы «Альфа». Пригнали с «Красной кузницы» и два новеньких траулера, которые еще осенью прикупили... А тут этот проклятый фугас объявился!.. Суда на рейде простаивают, команды бездельничают — сплошные убытки! Ну, и решили пока опробовать свои новинки, освоить, так сказать, в комплексе и траулеры, и тралы. А поскольку тут и дно чистое, и близенько, то стали гонять взад-вперед вот туточки... Походили мористее, где поглубже, — отлично! Пошли у самого бережка. И вот тут-то, на малых глубинах... Где санаторий «Белый камень»?.. Вот. Стало быть, аккурат на траверзе санатория, вот здесь, вдруг — зацеп. Да какой! Рвануло — аж ваера[84] застонали! Выбрали трал, он — в клочья. Новенький! А в нем — вот этот «улов»...
Шарипов, как перышко, извлек из своего портфеля что-то плоское, завернутое в бумагу, вручил адмиралу. Тот взял — и едва не уронил. В пакете оказалась какая-то бурая от ржавчины железяка со свежим изломом на оконечности.
— Любопытно, — осмотрев, сказал адмирал. — Явно кусок какой-то палубной броняшки.
— Похоже, вроде бы — от щита...
— Не будем гадать. Послушаем лучше: что скажут наши тральщики? — обратился адмирал к тучному офицеру.
— Что мы скажем, товарищ адмирал... — пожал тот плечами. — В годы войны, точно известно, никаких морских боев и десантов тут не было и ни одного потопления наших или вражеских кораблей не отмечено. После войны тоже никаких аварий. Минных заграждений тут также не было ничьих. А потому и тралений особой тщательности не производилось. Да и место такое... не бойкое. Так что...
— Понятно. Значит, надо проверить, посмотреть. Разведайте, товарищ Коногонов, и доложите, что там такое.
...Диеткафе располагалось неподалеку от Главного управления строительства и ремонта Морфлота. Готовили здесь на редкость невкусно, так что даже в обеденный перерыв народу бывало мало и Николай Николаевич вполне успевал поесть и еще пройтись по Садовому кольцу для моциона. Так и сегодня.
В огромном штате управления Николай Николаевич Федотов занимал весьма скромную должность — в общей канцелярии ведал экспедицией. Группа с этим романтическим названием выполняла самую прозаическую функцию: распределяла по отделам, группам и секторам управления всю поступающую корреспонденцию и рассылала адресатам всю исходящую. Однако это внешне нехитрое дело в сущности оказывалось довольно сложным и требовало сноровки. Приходит, скажем, какая-то деловая бумага, и надо с одного взгляда сразу и безошибочно решить, куда, кому ее направить. То ли начальнику, то ли одному из заместителей, а то и в какой-то из отделов. Ошибешься — бумага станет бродить из отдела в отдел, пока не затеряется.
В управлении все относились к Федотову с тем особым уважением, с каким у нас повсеместно относятся к ветеранам Великой Отечественной. А Николай Николаевич был к тому еще и фронтовиком особо лютой судьбы.
Возвратясь с войны, он разыскал в Москве мать своего погибшего друга — офицера Куракина. Потерявшая двух сыновей, она оказалась совершенно одинокой и беспомощной — кандидат в дом престарелых. Федотов не мог допустить этого: он поселился у несчастной и всю свою жизнь посвятил сыновним заботам о ней, так и не устроив свою личную жизнь. Такое не может не тронуть даже самого черствого человека!
Шли годы, менялись начальники управления, и каждый настоятельно предлагал Федотову повышение по службе, но ветеран решительно отказывался покинуть насиженное место. Карьера его не прельщала, зарплата тоже: жил он скромно. Николай Николаевич так и объяснял начальству: покой и здоровье дороже. Тем более здоровье у него подорванное — боевые ранения, плен, каторжные работы в подземном лагере смерти...
Ежедневно к Федотову стекалось множество документов из всех отделов. Вот и сегодня — целая кипа. Привычно быстро обработав «исходящие», Николай Николаевич сдвинул стопу на край стола:
— Валюша, сдайте, пожалуйста, в отправку. И прихватите, голубушка, сегодняшние поступления.
Молоденькая сотрудница охотновыполнила просьбу, и вскоре на стол Федотову легла охапка прибывшей почты. С ней возни предстояло больше. Следовало не только зарегистрировать каждое поступление, но еще и «разнести» все по соответствующим отделам. Охапка уменьшалась и рассеивалась по кучкам медленно: Федотову приходилось бегло прочитывать хотя бы две-три строчки каждого документа.
Наконец он вскрыл предпоследний пакет — из военно-морского ведомства. Машинально записал очередной номер в регистрационный журнал «входящих», глянул в текст и... обмер. Вчитался со всем вниманием. Утер лицо и лоб платком — и снова перечитал. Сунул документ в ящик стола. Вскрыл последний пакет и зарегистрировал в журнале под уже написанным номером...
Домой с работы Федотов всегда ходил пешком. По дороге заходил в магазины и, уже не скромничая, накупал что получше — дома готовил изысканные блюда. Нынче мимоходом прихватил в киоске лишь коробку мармелада. Затем втиснулся в будочку телефона-автомата, набрал номер, вежливо сказал:
— Добрый вечер. Марию Васильевну, пожалуйста.
— У нас такой нет, вы, вероятно, ошиблись номером.
— Да?.. Минуточку! Извините, конечно, но мне слышится — не ошибся: вы ее сосед. Простите, я знаю, что вы не в ладах с нею, но мне крайне необходимо...
— Уверяю вас, вы ошиблись, — холодно перебил ответивший и положил трубку.
Перезванивать Федотов не стал и спокойно зашагал дальше. Спустился по бульвару, свернул на Метростроевскую... Вскоре был уже у себя — в двухкомнатной скромной квартире на третьем этаже старого дома. Дверь в прихожую из меньшей комнаты была распахнута — там у окна сидела в кресле щуплая старушка. Николай Николаевич одарил ее мармеладом, улыбнулся и, сопровождая слова жестами, объяснил, что устал и приляжет у себя. Куракина одобряюще покивала.
В своей комнате он сразу как-то осунулся, обмяк. Привычно переоделся по-домашнему — в шлепанцы и пижаму — и грузно опустился в старое кожаное кресло. Прикрыл глаза в мрачном раздумье.
На столике рядом зазвонил телефон. Николай Николаевич не глядя протянул руку, взял трубку.
— Слушаю.
— База горторга? Можно приехать...
— Можно! Ждем. Это вытрезвитель, — раздраженно прервал Федотов и положил трубку.
Поднялся, прошел в кухню, отпер и оставил незапертой дверь на черную лестницу. Возвращаясь, проверил, плотно ли закрыта дверь в комнату Куракиной.
Вскоре из кухни донесся щелчок запираемого замка и в комнату Федотова без стука вошел одетый под среднего москвича симпатичный мужчина лет тридцати семи. По внешнему виду трудно было предположить, что в кармане у него дипломатический паспорт пресс-атташе одного из солидных посольств.
— Добрый вечер, Майкл.
— Отнюдь не добрый. Садитесь, Фрэд.
— Что стряслось, почему экстренный вызов? Кстати, позвони вы минутой позже — меня бы в посольстве уже не было. Старушка дома?
— Куда она денется! Да вы не бойтесь: старая карга глуха, как колода. Забыли?.. Кофе хотите?
— Пожалуй, выпью.
Федотов всыпал двойную порцию, включил кофеварку. Через плечо спросил гостя:
— Сегодня пятница?
— Пятница.
— Ну конечно, в другой день этого не могло произойти! Мерзкий день!..
— Да что случилось-то?
— Страшная вещь. Сегодня, Фрэд, мы получили из военно-морского ведомства извещение: найден «Флинк»!
Лицо пресс-атташе выразило лишь некоторое недоумение. Федотов нахмурился еще пуще, потом сообразил:
— Впрочем, вы тогда еще в индейцев играли... «Флинк» — это секрет сталинита.
— Так бы сразу и сказали. Сталинит! Да его нынче у нас вспоминают куда чаще, чем самого Сталина!
— Он так был назван не в честь Сталина, а по своему прямому значению. Вам известно, в чем ценность сталинита?..
— Признаться, не очень, это же не моя сфера.
— Надо знать. Для должной оценки ситуации хотя бы. Сталинит — редкий минерал, природные запасы которого крайне ограничены. Единственное в мире месторождение его, имеющее промышленное значение, — в Советском Союзе. Сталинит является совершенно изумительной присадкой при выплавке особых сталей. Талантливые Кошкин и Кучеренко сконструировали, конечно, замечательную «тридцатьчетверку», но превосходство боевой машины определяют не только ее тактико-технические решения. Броня — тоже решающий фактор. Броня!
Сталеплавильные заводы Круппа, Крезо славились на весь мир, в годы войны наши блюминги катали броневой лист не хуже уральских, а броня значительно уступала советской! Почему? Да потому, что у Советов имелся сталинит, а у нас его не было! Мы вводили в сплав другие присадки, но — увы... А на пороге серийного производства уже стояла реактивная авиация и другие новинки вооружения — сталинит был нужен всем позарез!
Захватив советскую Прибалтику, мы узнали, что накануне войны там настойчиво искал что-то ленинградский геолог Михеев. Что?.. Абвер дал задание нашей агентуре выяснить это. Но в блокадном Ленинграде прояснить что-либо стало чертовски трудно, а тут еще Михеевых в России — как Шмидтов в Германии!.. Удалось узнать только, что какой-то из Михеевых был одержим поиском сталинита и пропал без вести. Тот это Михеев или не тот? Нашел он сталинит или не нашел? Где документация его поисков? Черт его знает!..
Однако сталинит, да еще в Прибалтике, где рейх мог бы его немедленно реализовать, — проблема наиважнейшая! Дело было взято абвером на оперативный учет. Время шло, но туман не рассеивался. Альберт Шпеер лично распорядился «не ждать милостей от абвера», а направить в Прибалтику лучших геологов Германии, чтобы те сами немедленно нашли сталинит. Вот даже как!
— И те не нашли?
— Даже фюрер посмеялся над бредовой затеей своего друга. Министр вооружения и военной промышленности Шпеер прежде и архитектором-то был хреновеньким, а уж в поисковой геологии и вовсе ничего не смыслил. Без документов Михеева такой поиск стал бы ловлей золотой рыбки в мутном озере.
Однако абверовцам удалось узнать, что русские готовят к тайному походу трофейный «Флинк». Куда? К кому? Зачем?.. Наши военные базы, порты и вообще берега Скандинавии исключались — к ним на надводном слабеньком «Флинке» даже советским фанатикам-морякам было не подступиться, Значит, южное побережье Прибалтики. А туда чего?.. Десант? Чепуха, самолетом и быстрее, и проще, и надежнее. А уж не в связи ли со сталинитом готовится этот тайный рейс?!
Задание диверсионной группе было дано широкое. Разумеется, прежде всего высветить, за чем идет «Флинк». И если за сталинитом, то любыми средствами завладеть документами Михеева! А если с другой целью, то сорвать операцию. Обычно исполнителю ставится конкретная задача. Тут же командиру давался полный карт-бланш — право все решать и действовать по своему усмотрению! Двух своих помощников я потерял почти сразу. Но вдвоем с последним все-таки внедрился в экипаж «Флинка»... Трудно, вы говорите?.. — Федотов повел носом, выключил кофеварку. Зло и чуть надменно усмехнулся: — «Трудно» — не то слово, Фрэд. Почти невозможно! Но я преодолел это «почти» и вышел на задание!
— И блестяще выполнили его! — подхватил атташе. — Да-да, я вспомнил! В разведшколе эта операция преподавалась нам как образец смелой, тонкой разработки и высокопрофессионального исполнения. Правда, операция осталась незавершенной...
— Ну, это уже не по моей вине. Это флотские наши...
— Нам так и объяснили. Командир «Флинка» все же обхитрил их и прямо из рук ушел вместе с кораблем... на дно! Да еще невесть где.
— Именно так. Я все подготовил, разжевал и в рот положил... Да, не учли советского фанатизма.
Разливая кофе по чашечкам, Федотов горько подосадовал:
— Сколько лет этот чертов «Флинк» лежал на дне никому не известный и вот — на ж тебе! — нашелся, проклятый! Теперь, конечно, его обследуют, первым делом поднимут корабельные документы и... Представляете, Фрэд, что меня ждет?
— Н-да, не позавидуешь... Но, простите, Майкл, откуда у вас уверенность, что на «Флинке» документы именно сталинита? Ведь тогда вы этого так и не узнали.
— Это узналось потом. Потому на моряков, упустивших «Флинк», и обрушился шквал негодования командования. Сгоряча и мне чуть не всыпали!.. В гестапо ведь были и аналитики. Исследовав и сопоставив агентурные, официальные, разведывательные — все имевшиеся прямые и косвенные данные, они дали категорическое заключение: «Флинк» ходил за секретом сталинита! Тогда с наших мариманов-ротозеев и полетели пух и перья. А меня даже наградили и как Федотова вернули в СССР.
— Ясно... Да, чертовски плохо получилось! Командир «Флинка», конечно, красочно живописал ваше истинное лицо — лицо губителя его чрезвычайной экспедиции, а это вам теперь смертный приговор. Скверно получилось!
— Чего уж хуже! Прошу... — подал гостю чашку.
— Спасибо... Послушайте, Майкл, а может быть, все это не так уж страшно? Ведь сколько лет прошло — бумаги все уже раскисли, записи расплылись... А?
Николай Николаевич покачал головой:
— Сомнительно. Все геологи, изыскатели, моряки записи свои делают всегда только графитовыми карандашами — специально, чтобы не расплылись в случае чего. И бумагу им давали специальную, водостойкую. Правда, ее всем вечно не хватало, но где гарантия, что именно командиру «Флинка» ее не досталось? Нет, Фрэд, на это рассчитывать архиглупо.
— Пожалуй. Надо что-то срочно предпринимать.
— Что именно?.. Послушайте, коллега, давайте начистоту. Мы с вами специалисты разного профиля, но служим одной «фирме». Я значительно старше и опытнее вас, и...
— Не продолжайте, — перебил атташе, морщась. — В свое время вы крепко выручили меня, и я не забыл этого. Поэтому охотно помогу вам теперь всем, что в моих силах. Не сомневайтесь.
— Рад слышать. И глубоко признателен. Что вы посоветуете мне предпринять?
— Удрать, пока гром не грянул, — быстро и внезапно. Лучше всего полулегально. Я вам тотчас, пока посол в отъезде, сделаю дипломатический паспорт с вашей фотографией и вы вместе с дипкурьером посольства завтра же улетите. Если вас даже сразу хватятся — и то будет поздно.
— Признаться, я первым делом тоже так подумал. Но... «Фирма» не согласится. Сами посудите: сколько лет уже мне деньги платят. И какие! А за что? За ту рыбешку, какую я вылавливаю в Управлении? Черта с два! За такую добычу таких денег не платят, Фрэд. Да и не мой масштаб это. Меня специально держат в глухом резерве на случай какого-либо чрезвычайного задания, это ясно.
Атташе потер переносицу, обдумывая:
— А что... А что, если вы удерете так, без разрешения? А постфактум оправдаемся: вы — экстренной потребностью, я — незнанием необходимости испрашивать разрешение. Генерала вам за этот трюк не пожалуют, вероятно, но и из полковников не разжалуют. Годы все же, заслуги... На счету у вас накопилось изрядно, да и с войны кое-что, надо полагать, хранится — перебьетесь. Купите виллу где-нибудь в Рио-де-Жанейро и засядете писать мемуары. А?
Федотов мрачно усмехнулся:
— Вы нарисовали слишком идиллический финал. У нас на первом месте интересы «фирмы», и такой выход из игры — дезертирство. А как поступают с дезертирами, вы знаете. Мне страшно, Фрэд, погибнуть в автомобильной катастрофе или того нелепей. Я... Я боюсь, просто боюсь.
— Понял, — кивнул атташе. — Что же тогда вам предпринять?..
— Не мне, а «фирме». Место затопления «Флинка» мне теперь точно известно. Используя это, «фирме» следует экстренно провернуть решительную диверсию и перед носом у русских уничтожить или захватить все корабельные бумаги.
— Браво, Майкл! Именно это и спасет, и сохранит вас!
— Спасло бы. Не выйдет. Сегодня наши не пойдут на такой шаг.
— Не решатся, думаете? Или не осилят?
— Ну, что вы! И решимости, и возможностей, и исполнителей у наших хозяев достаточно. О деньгах и говорить нечего. Просто... — Федотов щелкнул пальцами, подбирая слова, — решающим в нашей системе является его величество барыш. Если спасение агента даст крупный выигрыш — политический, экономический, идеологический, любой, — его станут спасать. Если же не даст... и спасать нет резона.
Коллеги надолго замолчали, попивая мелкими глотками крепкий кофе, размышляя. Атташе вдруг оживился и отодвинул чашечку:
— Я профан в этом. Скажите, Майкл, а нынче сталинит имеет какое-то значение?
— Еще бы! Огромное! Ведь сталинит — это не только броня. Это и важнейший компонент для производства сплавов. Но единственное месторождение сталинита в Союзе уже почти исчерпано. Сейчас советские ученые усиленно ищут заменитель сталинита.
Атташе восхитился:
— Даже так?! Прекрасно! Значит, надо немедленно требовать диверсии по добыче документов с «Флинка», мотивируя это не столько необходимостью вашего спасения, сколь тем, что иначе Советы получат второе месторождение сталинита! Понимаете, Майкл?
Федотов даже как-то обмяк. Утер проступившую на лбу испарину, выдохнул облегченно:
— Ну, дружище, этого я по гроб не забуду!
В это же время в кабинете одного из Управлений КГБ вели деловую беседу двое сотрудников. Хозяин кабинета имел вид ученого, каковым, собственно, и являлся. Собеседником был капитан первого ранга Запорожец. Возраст его соответствовал званию, но высокий рост, светлые волосы и спортивная фигура делали его моложе. Энергические черты лица говорили о волевом характере, серые внимательные глаза — об уме, а ровный постоянный загар — о том, что засиживаться в кабинетах ему не свойственно. Ученый имел звание полковника, но, как обычно, был в ладном штатском костюме.
Кабинет более походил на домашний, нежели на служебный. Сидя в креслах возле чайного столика с самоваром на подносе, офицеры беседовали свободно и просто.
— То, что зарубежная пресса, — рассуждал полковник, — особенно всякие радиоголоса, нагло извращают нашу действительность — естественно. Это их плесневелый хлеб. Интересно другое: какие источники питают их?
Моряк набивал трубку. Темного дерева «люлька» изображала голову хитро улыбающегося казака-запорожца. Уминая в ней тонкую лапшу табака, моряк ответил:
— Частично — наши официальные сообщения, особенно критические материалы. Личные наблюдения некоторых ретивых интуристов и корреспондентов. Злопыхательские высказывания наших невозвращенцев. Ну, еще — разглагольствования отдельных дураков-критиканов из числа наших туристов, командированных и моряков за границей. Таких там ловко на крючок поддевают.
— Умеют, — согласился полковник. — Еще?
— Допускаете агентурную информацию? Сомневаюсь. В наше время антисоветский шпионаж вообще дело трудное, рисковое и малоэффективное. И те крохи, какие удается заполучить иностранным разведкам, достаются им такой ценой, что невольно задумаешься об овчинке и ее выделке.
— Это так, — согласился опять полковник.
— Эрго: какая же разведка станет такую драгоценность передавать какому-то «голосу» для его никчемной радиотрепотни? Глупо. Вы мне позволите? — спросил моряк, показывая трубку.
— Ради бога, — охотно разрешил полковник. — Я даже люблю запах табака. Особенно хорошего. Значит, вы полагаете — не станет? Все мы так думали. А оказалось иначе. — Он взял с письменного стола объемистое досье. — Вот. Здесь у меня собраны всевозможные наши публикации. А тут, — взял он другой том, — все стенограммы всяческой антисоветской пропаганды. И что же? Изучив их, систематизировав и сопоставив, я заявляю: какая-то, пусть совсем незначительная часть этой антисоветчины построена на таких данных, каких ни в наших официальных публикациях, ни в частных материалах информаторов-дилетантов, ни в болтовне простачков не было и не могло быть!
— Интересно, весьма интересно.
— Да-с, любопытно. Особенно, если учесть, что эти разведданные касаются именно морского ведомства.
— Даже так? Некоторая утечка информации морского характера нами, правда, тоже выявлена, и не вчера. Но... Слышим звон, да не знаем, откуда он.
— Классический камень преткновения всех контрразведок! Однако, проштудировав все это, — полковник похлопал по папкам, — я подумал: а что, если не по каналу идти к источнику, а выходить прямо на источник, минуя все подступы? Комбинация проста. Определяем список наиболее вероятных источников. Это нетрудно, и их немного. Второе. В каждый из них направляем отдельную, специально только для него подготовленную дезинформацию...
— Все ясно, Олег Сергеевич. Думали уже. Ну и что? Какая-то из этих дез попадет вскоре в какую-либо из зарубежных разведок и затаится там за семью замками. И все! А мы останемся в прежнем неведении.
— Так это, голубчик Дмитрий Васильевич, какая деза. Вы, вероятно, предполагали значительную, свежую, емкую — чтобы на нее непременно клюнул противник. Так?.. А если сделать другой расчет — психологический? Если сработать такую дезинформацию, чтобы она, сохраняя привлекательность, не представляла бы ценности для разведцентра, но была бы жемчужиной именно для идеологической пропаганды?
— А что? Это вариант! Надо попробовать! — загорелся моряк.
— Я почти уверен: такую дезу разведчики обязательно передадут какому-нибудь «голосу», газете или журнальчику вроде «Посева». А я — смею заверить — я уж замечу это.
— И тогда, увидев, какая именно деза использована, мы сразу узнаем, из какого нашего учреждения она вышла.
— Что и требуется. А установить в нем уже конкретное лицо — не проблема.
ФАКЕЛ В МОРЕ. ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
Уже за полночь большой спасатель «Абакан» — флагман базы снялся со швартовов и якоря, тихо пересек гавань и вышел в море. Ночь обещала продержаться спокойной и темной: небо сплошь затянуло низкой облачностью, на море — полный штиль.
Стоя по правому борту на мостике главного командного пункта корабля — ГКП, как его попросту называют, командир «Абакана» капитан третьего ранга Ладога оглянулся на проблесковый огонь маяка и негромко спросил:
— На румбе?
Из рубки ГКП рулевой тотчас ответил:
— На румбе триста четырнадцать.
— Право два. Курс триста шестнадцать.
— Есть право два... На румбе триста шестнадцать.
Из штурманской вышел старший помощник Ладоги — невысокий подвижный крепыш капитан-лейтенант Чумбадзе. Дружески блеснул улыбкой из-под черных подбритых усов.
— Иди-ка отдыхать, Иван Иванович, день-то нелегким был. Все наши учебные и рабочие планы — коту под хвост.
— Это нормально. Кому как не нам, спасателям, привыкать к внезапностям. А насчет отдохнуть — пожалуй.
Командир спустился по крутому трапу к себе в каюту.
Высчитав ход так, чтобы на место работы «Абакан» пришел к утру и команда спокойно выспалась, Чумбадзе велел вахтенному начальнику сбавить обороты машины, походил по мостику и устроился на своем излюбленном месте — между обвесом крыла и нактоузом[85] пеленгатора...
Раскурив трубку, замполит капитан-лейтенант Венциус прошел на ют. Здесь у обреза[86] сидели матросы подвахты, а с ними — огненно-рыжий главстаршина Шнейдер с «Труженика». На «Абакане» он временно замещал Сергея Сафонова, поощренного за разминирование отпуском в Ростов, к маме. Подыгрывая себе на гитаре, Шнейдер негромко пел:
У причалов наш дом.
Корабли стали в ряд.
Темнотой, словно льдом,
Катер к стенке прижат.
Но поступит приказ,
В борт ударит волна...
Ждет тебя,
водолаз,
глубина...
— Чудо́ва писня. Аж за душу чипляет! — вздохнул кто-то.
— Хороша, только не ко времени, — сказал Венциус.
Только тут заметив замполита, матросы вскочили.
— Это я виноват, товарищ капитан-лейтенант. Извините, — признался Шнейдер, скомандовал: — Кончай курить. Отбой! — и первым шагнул в темноту: корабль шел по-боевому, без огней.
Полная противоположность Чумбадзе по характеру и темпераменту, Венциус отличался спокойствием и выдержкой. И потому, если на вспыльчивого старпома матросы иногда и обижались, то на замполита — никогда, хотя добреньким он не был и поблажек не давал. Он посидел еще, покурил, выбил в обрез золу из трубки. Поднялся, пошел на мостик. Легко взбежал по трапу:
— Что нового, Гвидо?
— А что у меня может быть нового? — отозвался Чумбадзе. — Все то же: там — норд, тут — зюйд, кругом море, а в нем — вода.
— Иди, чайку попей. Я велел заварить.
— В-ва! Спасибо, дорогой-заботливый, сейчас...
Чумбадзе выждал, пока вахтенный начальник скомандует поворот, задаст новый курс, и тогда уж спустился в кают-компанию.
Теперь «Абакан» шел у границы наших территориальных вод, параллельно берегу. Идти этим курсом, постепенно приближаясь к суше, предстояло до утра.
Но разве в море можно что-либо гарантировать загодя...
Вахта давно засекла, а теперь и Венциус время от времени следил по развертке локатора-репитера[87] за сближением с каким-то судном. До пересечения их курсов оставалось еще изрядно. Но вот, держа к берегу, неизвестное судно пересекло курс «Абакана» — и Венциус успокоился. В общем-то, он и не беспокоился, но... море! Казалось бы, чего уж просторнее? А вот поди ж ты — ежедневно ллойды регистрируют самые нелепые, зачастую трагические столкновения судов! Поэтому каждый офицер на мостике при сближении с другими судами всегда внутренне настораживается.
Какое-то время прошло тихо-спокойно...
Вдруг сверху — с поста сигнальщиков хрипловатый тенорок старшего доложил:
— Справа по носу, курсовой — двенадцать, дистанция — две с половиной мили: факел!
Что за чертовщина! Венциус с вахтенным офицером одновременно вскинули бинокли. Замполит долго не мог ничего углядеть, потом заметил: действительно, в глубине ночи мерцали красноватые, еще еле заметные вспышки огня. Молодцы сигнальщики, глазастые!
Вахтенный начальник взял пеленг, спокойно приказал:
— Право тринадцать. Курс — девяносто восемь. Сигнальщики! Наблюдать факел.
— Есть право тринадцать!.. Есть наблюдать!..
Застегивая на ходу китель, вернулся Чумбадзе. Замполит молча показал ему в ночь. Чумбадзе посмотрел в бинокль и все понял, прежде чем вахтенный начальник успел доложить ему. Сказал вахтенному:
— Дайте «самый полный» обеим машинам.
Тот передернул рукоятки машинного телеграфа: мелко задрожав, «Абакан» мощно рванулся вперед, взбив штевнем седые усы пены. Рывка этого оказалось достаточно, чтобы чуткий командир проснулся и тоже поднялся на мостик.
— Что такое, куда мы помчались?
— Товарищ командир, замечен, вероятно, пожар на судне, — доложил вахтенный начальник. — Сейчас рассмотрим.
Вскоре уже ясно стали видны взметы пламени на неизвестном судне.
Темпераментный Чумбадзе метнулся в радиорубку, рванул дверь:
— Почему не доложили SOS?
— Сигнала бедствия не было, товарищ старпом.
— Не может этого быть! Ушами хлопаете, спите на вахте! Ладно, после поговорим! — угрожающе пообещал он.
По международному закону каждые полчаса — в «минуты молчания» — все морские радиостанции работают только на прием, вслушиваясь, не просит ли кто помощи. Горящее судно, конечно же, взывало.
— Играйте тревогу, лейтенант, — приказал Ладога вахтенному начальнику.
«Др-дррр! Др-дррр! Др-дррр!..» — по всему кораблю зашлись дробью электроколокола громкого боя. Матросы, старшины, офицеры взметнулись с коек. Через несколько секунд на ГКП посыпались доклады о готовности боевых частей.
— Командир АСП, на мостик! — приказал по трансляции Ладога.
Тотчас командир аварийно-спасательной партии старший лейтенант Серебров предстал перед начальством...
Горящее судно оказалось иностранным небольшим старым «купцом». На корме и грязно-черном носу его белело претенциозное имя «Sirena». Пока что на судне явно горела лишь надстройка. Горела буйно. Но удивило спасателей другое: «Сирена» стояла на воде без хода и была уже покинута командой!
— Тоже мне, моряки. Подонки! Удрали, даже не попытавшись спасти судно, — презрительно процедил Чумбадзе.
— Да уж, — согласился Серебров. — А на судне и сейчас еще вполне можно работать.
— Конечно. С какого борта подходить, командир? — спросил Чумбадзе.
— Подожди с подходом, не суетись, — ответил Ладога, вглядываясь. — Что-то не нравится мне эта картина. Поспешное бегство команды при пожаре на судне — первый признак взрывоопасного груза.
— Так оно же не в грузу!
Действительно: грузовая ватерлиния на корпусе и марки углубления показывали, что судно шло в балласте.
— То-то и оно. Мощной взрывчатке большого тоннажа и не надо.
Из тьмы к «Абакану» подлетел военный катер погранохраны. Заглушив моторы, плюхнулся носом на воду и по инерции подошел к спасателю. Знакомый абаканцам командир катера — молодой, веселый — громко объявил по мегафону:
— Привет братьям-спасателям! Греетесь? Попрошу капитана третьего ранга Ладогу.
— Слушаю вас, Зиновьев, — отозвался тот, выйдя на крыло.
— Здравия желаю! Поиск людей с бедствующего судна нами уже открыт.
— Добро, Зиновьев, спасибо. Желаем удачи!
— Взаимно!
Поодаль во тьме перемигнулись другие катера. Взревев моторами, катер Зиновьева тоже умчался.
Повременив, Ладога решил:
— Рискнем. Действуйте, Серебров.
Защитив себя жемчужным каскадом распыляемой воды — на синем бархате ночи да еще в багровых бликах пожара это выглядело феерически! — спасатель подошел к «Сирене» и ударил по огню тугими струями изо всех лафетных стволов. Командуя, Серебров то разводил эти струи, то сводил в одну цель — и тогда могучий напор их крушил переборки, вышибал двери, отрывал и швырял за борт горящие обвесы, мебель, рундуки...
Огонь стихал. Горящее судно окуталось дымом и паром. Стало темно, прохладно, запахло угаром.
— Врубить прожектора! — приказал Серебров. Доложил Ладоге: — Товарищ командир, пожар притушен, обстановка позволяет — разрешите высадить десант?
Ладога медлил. Кто его знает: высадишь — а тут как раз и рванет!.. И выйдет — послал людей на верную смерть.
Серебров ждал. Офицеры молчали. И тут с «Сирены» донесся слабый протяжный крик. Здесь, конечно, уже прочь все опасения.
— Добро, высаживайте. И поживее!
Первым на борт «Сирены» перебрался сам Серебров. Произведя наружную рекогносцировку, подал знак — за ним последовали в термостойких костюмах, волоча за собой воздухопроводные шланги и сигнальные концы, Шнейдер и Сыроежка. И замыкающими — старшина Шлунок и Скултэ.
Тут произошла маленькая заминка. Шлунок умудрился сорваться с борта — его подняли из воды обратно на «Абакан» и быстро заменили старшим матросом Изотовым.
Задачи парам были поставлены разные. Шнейдеру с Сыроежкой — найти и ликвидировать главный очаг пожара. Местами палуба уже прогорела. Рискуя провалиться или запутаться шлангами в хаосе разрушений, парни пробирались по задымленной, тлеющей руине жилой палубы, обследуя залитые водой по самые комингсы помещения. Пожар начался с провизионки, где хранились вина, ром, спирт и прочее. Вероятно, тут что-то случайно подожгли — струсили и удрали. От огня лопнули бутылки со спиртом, спирт рванул — и пошло!.. И сейчас еще пузырилась, как раскаленная магма, смесь масла, спирта, сахара, рома и водок. Главстаршина с матросом приняли с «Абакана» пенный ствол, заполнили провизионку углекислотной пеной и тем надежно ликвидировали очаг пожара.
Изотов и Скултэ первым делом поспешили на поиск гибнущего. Это далось им весьма не просто, однако нашли. Обреченным на гибель оказался молодой симпатяга-пес — мокрый, грязный, с опаленным боком.
— Эх ты, бедолага, — пожалел его Изотов. — Бросил тебя хозяин на погибель, предал, мерзавец!..
Пес, дрожа и жалобно скуля, благодарно лизал резиновые маски спасителей.
Серебров дал сигнал — и уже вся аварийно-спасательная партия, вооруженная табельными приборами и инструментами, перешла с «Абакана» на борт «Сирены». А еще через полчаса командир АСП доложил Чумбадзе о результатах первичного осмотра и состоянии спасенного судна.
Тем временем катера погранохраны нашли одну шлюпку с моряками «Сирены», затем — на большом курсовом расхождении — вторую. А третья... Третья, вместо того чтобы держать курс на «большую морскую дорогу», где ее скорее бы заметили, пошла, как оказалось, к берегу...
Берег был уже совсем близок, но не виден — ночь. В шлюпке все оказались из начсостава «Сирены»: помощник капитана, второй электрик, механик, боцман... Правда, как гребцы эти люди не утруждались, шлюпка имела подвесной мотор. Пассажирами на носу шлюпки сидели двое мужчин в диверсионных легководолазных гидрокостюмах «Ихтиандр». На коленях они держали объемистые прорезиненные сумки с каким-то припасом. Потерпевшие бедствие отнюдь не были удручены происшедшим, держались спокойно и деловито.
— Пора, — решил помкапитана. Заглушил мотор, скомандовал гребцам: — Весла на воду! — Кивнул боцману: — Давай!
Боцман пальнул в небо красной ракетой.
— Держите по курсу двести восемь — и выйдете аккурат на хорошее место. Там будет удобно и ориентироваться, и выйти: участок берега каменистый, следов не останется, — сказал помкапитана молчаливым таинственным пассажирам. — Давай еще, боцман.
Боцман пустил еще ракету. Все притихли, прислушиваясь. Вскоре из ночной тиши донесся шмелиный гул еще далекого катера.
— Идут... Ну, с богом! Курс точно двести восемь! Ни пуха вам ни пера.
— К дьяволу, — буркнул диверсант помоложе, натягивая маску.
Оба перевалились через борт, взяли по наручным компасам курс и скрылись в воде.
— Еще ракету! Две! — велел помкапитана. — А теперь — навались, да так, чтобы по-настоящему взмокнуть-взопреть! И — раз!.. И — два!..
Повел шлюпку хитро: не обратно в море, а почти параллельно берегу. На ходу завернул в карту гаечный ключ — отправил за борт. Следом ушли шлюпочный компас и подвесной мотор.
Шмелиный гул постепенно превращался в рев. Он приблизился и оборвался. Совсем близко вспыхнул прожектор и слепящим голубым потоком захлестнул шлюпку.
— Пограничный дозор. Кто такие, откуда? — спросили из тьмы и повторили вопрос по-английски.
— Моряки с потерпевшего бедствие сухогруза «Сирена», — ответил помкапитана и поименно назвал спутников. — Где мы находимся, господин офицер? У нас ни карты, ни компаса...
Рассвет медленно выявлял понурую, грязную, закопченную и изувеченную пожаром «Сирену». Рядом с ней мощный крепыш «Абакан» выглядел даже элегантно-чистым и аккуратным. С берега радировали, что за «Сиреной» уже выслан морской буксир. Пока ее команда разместилась в салоне команды «Абакана», а капитан — в каюте Чумбадзе.
Едва на горизонте зарделось солнце — возле спасателя и спасенной «Сирены» приводнился гидроплан с экстренной комиссией. Совещание ее проходило в кают-компании. Понимая, что люди были подняты среди ночи с постелей, Ладога распорядился тотчас подать туда свежий чай, бутерброды и консервы.
— Итак, люди все в целости и наличии, — констатировал морской офицер-пограничник, сверив найденную на «Сирене» судовую роль с рапортами командиров катеров, разыскавших в море три шлюпки с ее командой.
— С людьми и документами вроде бы все в порядке, — согласился помначштаба базы. — С судном тоже...
По международным законам судно, почему-либо брошенное в море капитаном и командой, становится трофеем того, кто его спасет. С позиции правовой данный случай являлся бесспорным. А вот кое-какие частности вызывали некоторое недоумение комиссии.
Например. Следуя из Окерсберга в Киль, прихватив попутный груз какой-то фирмы, чего ради «Сирена», вместо того чтобы идти обычной большой дорогой Балтики, свернула в наши территориальные воды?
Или. Судя по документам, «Сирена» в Окерсберге взяла у некоей частной фирмы попутный фрахт, а на поверку никакого груза в трюмах судна и духу не было! Куда же он делся?
Капитан «Сирены» ответил на этот вопрос удрученно: чего, мол, тут о грузе толковать, когда теперь все судно ваше!..
Упоминание об этом на совещании комиссии вызвало общую улыбку.
— Удручаться ни ему, ни хозяину нечего, — пробасил инженер-капитан первого ранга. — Судно — старое корыто еще довоенной постройки. Корпус — ни к черту, двигатель — рухлядь... Как его еще выпускали в море! Трофей, прямо скажем, незавидный. На металлолом разве что сгодится...
Загадку с грузом прояснил представитель Регистра:
— Вы, товарищи, народ военный и потому просто не знаете некоторых тонкостей морского торгового бизнеса. Эта «Сирена» — собственность частной транспортной фирмы, то есть капиталиста. Безусловно, давно и выгодно застрахована в одном из ллойдов. Посудина старая, дрянная, ремонтировать ее — выгоднее утопить. Но алчному владельцу одной страховки мало, хочется урвать кусок пожирнее. А как? Делается это гениально просто. По личной договоренности в каком-либо порту берется фрахт на перевозку какого-либо ценного груза. Оформляется по всем правилам. Груз остается у грузовладельца — вместе с определенной мздой, разумеется, — а судно якобы с грузом выходит в море, «терпит аварию» и благополучно тонет. И ллойд выплачивает владельцу судна страховку да еще стоимость груза. Все законно, все довольны!
— В этом, кстати, и объяснение местонахождения «Сирены», — дополнил от себя пограничный комиссар. — По роковой случайности могло статься, что именно в момент пожара и гибели «Сирены» на «большой морской дороге» как назло не окажется поблизости никаких других судов. Бывает так. Значит, «Сирена» может погибнуть без свидетелей и — поди доказывай ллойду ее гибель! Дело рисковое. А наши воды патрулируются кораблями погранохраны, они-то уж непременно обнаружат даже не горящее судно. Но пока пограничники сообщат, пока на берегу решат, пока выйдет и придет спасатель — «Сирена» великолепно сгорит и потонет. Судно утонет, а свидетельство останется. А свидетельство СССР авторитетно во всех ллойдах! Так все аккуратненько и рассчитали. Но бог шельму метит: едва жулики подожгли «Сирену» и покинули, тут как тут оказался «Абакан»! И что теперь будет с владельцем «Сирены», когда он узнает, какую свинью ему подложил наш дорогой Ладога, — страшно подумать!
Члены комиссии дружно рассмеялись. Все стало на свои места, все нашло свое объяснение. Лишь один нюанс остался неизвестным комиссии: то, что в порту «погрузки» капитан с помощником тайно приняли на борт «Сирены» еще двух мужчин, не вписанных в судовую роль...
В кают-компанию Ладоге позвонили с мостика. Выслушав, Ладога ответил: «Добро» — и сообщил председателю комиссии:
— Буксир на подходе, товарищ капитан первого ранга.
— Очень хорошо. Передайте ему «Сирену», ее людей, а сами отправляйтесь на свою работу. Мы тоже отбываем сейчас.
— Есть! — обрадовался Ладога: из-за этого происшествия он и так потерял уйму дорогого времени.
На точку разведки «Абакан» пришел уже к полудню. Мутнел серый день, близкий берег прятался в тумане. Едва подгребая винтами, «Абакан» полз вдоль берега, пока не приблизился к свайному домику гидрологического поста № 17. Застопорил машину.
— Отдать правый! Пятьдесят метров на клюз! — дал команду на бак вахтенный офицер.
Боцман Трофимыч отпустил стопора лебедки, и якорная цепь весело загрохотала в чугунной ноздре-клюзе корабля...
К обеду слегка распогодилось.
Первыми на разведку топляка[88] пошли асы и ветераны соединения — флагманский специалист водолазной службы капитан третьего ранга Тутаринов и мичман Журбенко. Глубина здесь всего метров пятнадцать, стало быть, до верхней линии топляка и того меньше.
Важное преимущество малых глубин — простота спуска-подъема водолазов. На больших глубинах водолаз работает полчаса, а то и меньше, а поднимают его часами, подолгу выдерживая на «ступеньках». Иначе — азотное вскипание крови и смерть, если рядом нет декомпрессионной камеры.
На «Абакане» она, конечно, была. Металлический цилиндр ее с двумя узкими койками, аптечкой, телефоном и даже библиотечкой, с герметической дверцей, смотровыми иллюминаторами и прочим оснащением был намертво принайтовлен поперек палубы возле огромной буксирной лебедки. Однажды экстренно «выдернутый» с глубины мичман Голодов провел в этой камере — на пару с фельдшером — почти сутки. Ничего, обошлось. Даже с пользой: Голодов наконец одолел «Братьев Карамазовых».
Прежде всего водолазам предстояло найти сам топляк. Сегодня это было особенно непросто — видимость никудышная: метрах в пяти-семи от водолаза — сплошная муть.
Придя на грунт, Тутаринов с Журбенко сориентировались, разделились и пошли на поиск. Назвать это поиском в прямом смысле едва ли можно. Приходилось действовать по интуиции. Минимальная прозрачность сделала свое дело, и первые шаги ничего не дали.
Но вот наверху открылось солнце, туманная дымка сгинула — и видимость на грунте сразу улучшилась. Вскоре Журбенко радостно объявил:
— Ага, ось, навить, вин!.. Пэвно — топляк! Та який гарнесенькый... Ходыть сюды, товарищ кап-три... Сообщаю командиру: корабль найден, стоит на ровном киле с небольшим креном на правый борт... А ну, хлопцы, вирайте менэ помалу... Стоп, добре... Сообщаю: нахожусь, вероятно, на полубаке... Иду... Точно: вышел к брашпилю. Занесло все на палубе... Майнайте мне по сигналу конец буйрепа... Есть, принял... Сообщаю: носовой буй прикреплен...
Тутаринов поднялся на ют и обозначил буем корму затонувшего корабля. Теперь, ориентируясь на поплавки-буи, «Абакан» мог сразу точно становиться «на точку».
— Добро. Хватит, выходите, — распорядился Ладога. — Обедать пора.
Поговорив с Тутариновым и Журбенко, Ладога связался по радио с командиром Коногоновым:
— Нашли, товарищ командир. Да, только что, перед обедом. Долгонько искать пришлось, видимости не было... На первый взгляд: топляк, несомненно, военного времени, стоит почти на ровном киле, в грунт не засосан, но сверху занесен песком изрядно... Нет, видимо, какое-то небольшое патрульное судно или сторожевик, пока трудно сказать... Вооружен довольно сильно для него. Нет, поднимать, пожалуй, нет резона. Порежем, сдадим на металлолом... Конечно, отмоем, посмотрим еще...
После адмиральского часа второй парой на грунт пошли командиры водолазных отделений Шнейдер и Шлунок. Пока они осматривали корпус топляка, с берега, где в зелени лесопарка мрамором сияло здание санатория «Белый камень», задул ветер и, окрепнув, развел на море волну балла на три. Вообще-то, на глубину волнение не проникает и работе водолазов не мешает. Но на малой глубине все же чувствуется, а главное — раскачивает наверху корабль и тот дергает шланги водолазов.
Не доверяя прогнозу, Ладога сам осмотрел небо, «потрогал» ветер, вздохнул и приказал сворачивать работу. К ночи «Абакан» вернулся на базу.
Немногим раньше вернулся к себе в Балтиморск и майор госбезопасности Рязанов. Как член экстренной комиссии, он вместе с другими офицерами подписал все акты спасения «Сирены» и ее моряков. Подписал без колебаний, но, возвратясь на берег, все же «мобилизовал» у пограничников двух лучших следопытов и вместе с ними лично проверил многие километры природной КСП[89], — совершенно пустынного здесь дикого пляжа. Никакого намека на след вышедшего из воды нарушителя найдено не было. Чекист мог спать спокойно. Мог, но не спал. И не потому, что ныли ноги, отвыкшие от таких переходов, — не давало беспокойство, вызванное всей этой историей, смутное, аморфное.
Лишь засыпающему уже Рязанову припомнился помощник капитана «Сирены» — и аморфное беспокойство сразу выкристаллизовалось: как это могло статься, чтобы помкапитана — ш т у р м а н — вдруг забыл взять в шлюпку компас и карту?!
Сомнение определилось, но осталось лишь сомнением. А оно, увы, не основание для официального допроса. Тем более иностранца. Но ни малейших фактов и улик у чекистов не имелось...
...Аквалангисты, конечно, не попали сразу на узкую каменистую полосу, пересекающую берег. Пришлось немало побродить по колено в воде, пока не углядели спины выступающих из воды валунов. Это были очень напряженные минуты: нарушители знали, что, получив извещение о ЧП в море, береговые пограничники тотчас выступят на усиленную охрану. Так что тут каждая секунда могла оказаться роковой.
Наконец, переступая с камня на камень, они вышли на травянистый берег. Рассвет застал их уже далеко от моря. А к полудню напарники добрались до живописного курортного городка Сосногорска. Встретить тут хабаровца, мурманчанина, алмаатинца или киевлянина было проще, чем местного жителя. Поэтому появление здесь еще двух курортников никак не могло привлечь чье-либо внимание. Закопав в сосновом бору свои мешки, напарники налегке вошли в город...
Прежде они мало знали друг друга. Оба состояли в ГОР — группе особого резерва генерала Z, что сразу указывало на их высокое положение в некоей разведывательной «фирме», — но были специалистами разного профиля и квалификации. Старший по возрасту Пауль — мастер еще гестаповской школы. Латыш по национальности Оскар — диверсант уже послевоенной выучки. Оба, конечно, хорошо знали русский язык, Россию и оба прекрасно дополняли друг друга, являя оптимальное для данного задания исполнительское целое.
Третьим был сам Федотов. А дабы троица не перегрызлась между собой, хитрый лис Z ограничил их осведомленность и функции. Федотову поручил финансировать оперативные расходы и всячески содействовать агентам. Паулю — обеспечивать организационно диверсию. Ему же были доверены пароль и явка к Федотову, а Оскару — информация о документах с затонувшего корабля и непосредственное исполнение диверсии. Таким образом, дружная работа троицы была гарантирована.
Паулю было за пятьдесят, но сил, подвижности и мастерства он не потерял. Округлое лицо его с мягкими чертами казалось простоватым и добродушным. Хорошее лицо, неброское — удобное для агента.
Оставив напарника на бульваре, он вошел в курортное посредбюро, реклама которого сулила уйму всяческих услуг, и вскоре вышел уже с листком в руке. Оглянулся по сторонам.
— Я здесь, Павел Иванович, — объявился Оскар, выступив из тени каштана.
Пауль махнул: пошли!..
В дома они зря не заходили: присматривались с улицы, оценивали и — шли дальше. Наконец вернулись к маленькому одноэтажному домику в глубине довольно обширного сада.
— Ступайте разведайте, — сказал Пауль. — Кажется, это то, что надо. Только не вздумайте отдать напрописку свою липу.
— Опасаетесь выборки?
— Даже не выборки, а сплошной проверки. После ночного чепе проверить на всякий случай всех прибывших сюда сегодня — дело отнюдь не глупое, а потому вполне вероятное. Так что остерегитесь.
— Да? А я, представьте, просто жаждал получить прописку в санатории с решетками! — Оскар усмехнулся и вошел в калитку.
Пауль пристально посмотрел ему в след. Нет, каков! И откуда у них, у нынешних, эта манера разговаривать со старшими этаким ерническим тоном?.. Ладно, черт с ними, с манерами, был бы напарником хорошим. А он хорош, говорили, смел, умен, находчив и везуч. А удачливость — бесценное качество! Недаром даже Наполеон, назначая командующих, интересовался всегда, удачлив ли этот генерал?..
Пристанище Оскару понравилось. Однокомнатная квартира-домик имела застекленную верандочку с диваном, столиком и еще выходом прямо в садик. Эту-то верандочку и сдавала курортникам одинокая пожилая хозяйка. Поторговавшись для блезира, Оскар снял веранду, заплатил вперед, но паспорт свой лишь показал и отправился с ним «на почту за переводом».
Прогулочным шагом напарники шли к вокзалу. День разгулялся, хвойный сосновый озон в смеси с морским делал воздух чудесным. После высадки и ночного марш-броска к Сосногорску путники сейчас действительно отдыхали. Но — только физически. Оскар зло сетовал:
— Черт бы побрал эти сложности! Тут каждый день на вес золота, так еще эта канитель...
— Все правильно, — возразил Пауль. — Ведь все побережье — погранзона. И не какая-нибудь, а советская! Иметь надежные документы, их подстраховку на всякий случай и точную ориентировку в обстановке нам просто необходимо.
— Да понимаю, понимаю. — Оскар сладко потянулся, взбодрился. — А хороша погодка! И местность тут... Чего вы хмуры, как сыч?
— Да так. Высадка удалась на редкость, проход тоже, дачку сняли отличную запросто... Меня всегда гнетет и тревожит, когда дело начинается так гладко.
— Сплюньте, — всерьез предложил Оскар. — Кстати, я не уверен, что нам надо здесь базироваться. Смотрите... — Остановился, ткнул носком туфли три точки в дорожной пыли: — Сосногорск, Балтиморск, санаторий «Белый камень». Так?.. — Соединил точки линиями: — Равносторонний треугольник. Добираться до санатория из Балтиморска и удобнее электричкой, которой отсюда до санатория нет, и безопаснее в массе пассажиров. А Балтиморск все равно станет нашим главным опорным пунктом: город!
— Так-то так, но Сосногорск курорт — полно приезжих. А в Балтиморске... Ладно, подумаем. А сейчас возвращайтесь на дачу и тихо сидите тут. Я в столице долго не задержусь.
— Надо думать. Пламенный привет от меня симпатяге Марсу.
— Вы его знаете? — мрачно насторожился Пауль.
— Я знаю, что крупно заработаю на нем — потому он мне уже симпатичен!
ВНЕЗАПНЫЕ ВСТРЕЧИ И РАЗЛУКИ
Плотно пообедав в курортном ресторане, Оскар прошелся по бульвару, накупил свежих газет и журналов и вернулся на дачу. Там уютно устроился на диване, но, не прочтя и одной газеты, крепко уснул. Предыдущие сутки были все же очень изматывающими, и Оскар проспал до утра.
Утром еще раз «сходил на почту», позавтракал и вернулся возмущенным: телеграф переврал его фамилию и теперь до уточнения ее денег ему не выдают! Паспорт остался, конечно, опять в кармане.
Полдня провел на пляже: и приятно, и безопасно. Пофлиртовал с какой-то стройной и смазливой девицей, но в меру: завязывать знакомства не стал и даже ушел не попрощавшись, когда она купалась.
Посидел, пообедал в ресторане, прошелся, купил газеты и пошел на дачу, через сад прямо на свою веранду. Вошел — и притих: в кухне хозяйка с кем-то разговаривала. Оскар осторожно глянул в щелку меж занавесок на застекленной двери: за столом чаевничал со старушкой немолодой капитан милиции — завтрашний пенсионер.
— Не откажусь, спасибо, — сказал он, подставляя чашку. — Хотя я, так сказать, и при исполнении...
— Да когда же, батюшка, вы не при исполнении-то? Днем при исполнении, ночью обратно при исполнении. Этак и вовсе отошшаешь.
Капитан вздохнул, деликатно беря варенье:
— Участок у меня такой, частного сектору много. А где частный — там и непорядок. Вот и вы даже, Пелагея Васильевна, не в обиду сочтите. Нарушаете. Ну, как же это: дачника приняли, а не прописываете! Некрасиво.
Оскар тихонько ретировался в сад. Перемахнул через штакетник, выждал в переулке, когда уйдет участковый, деловито вошел в дом с улицы, решительный и огорченный.
— Пелагея Васильевна, голубушка, не знаете, когда вечером самолет на Ленинград?
— И-и, милай, нашел кого спросить! А пошто вам?
— Лететь надо, — меняя рубаху, ответил дачник. — Сейчас домой звонил насчет перевода. Соседка сказала — у жены приступ сердечный был, «скорая» увезла!
— Батюшки светы! И что за напасть: народ такой бессердечный пошел, у каждого, почитай, сердце! Беда! А как же...
— Не беспокойтесь, хозяюшка, деньги остаются вашими, веранда — моей. Я денька через два вернусь. Может, с женой даже, если ей разрешат.
— Дай-то бог!
Вечерело, в электричке на Балтиморск было многолюдно. Оскар неторопливо пошел по вагонам. Некоторые пассажирки задерживали на нем взгляд: высокий мускулистый шатен был красив и выглядел моложе своих сорока.
— Алексей Алексеевич! — неожиданно окликнули его. Это была пляжная знакомая. — Идите, сюда, садитесь.
Отказываться не было причин. Оскар вернулся, подсел. Припомнил: зовут ее Алисой.
...Тихий и теплый вечер застал их на открытой площадке летнего ресторана на самом берегу Серебряного озера почти в центре Балтиморска. Алексей не мелочился — ужин получился почти изысканным. Закончив его, они не спеша направились к гостинице «Москва».
— Нет, Алиса, я все-таки не понимаю: как вы могли бросить театр? Театр!
— Пришлось. Чтобы чуточку выдвинуться, молодой актрисе без диплома нужно стать угодной главрежу либо начальству повыше. А я так не могу и не желаю. Помыкалась и ушла.
В скверике возле гостиницы Оскар попросил спутницу подождать, а сам пошел оформить номер. Алиса присела на скамью и задумалась. Из вспомогательного состава местного муздрамтеатра ее просто выперли за бездарность. По той же причине не взяли ни во ВГИК, ни в одну из театральных студий столицы. Но это не остудило ее рьяной мечты стать звездой экрана и сцены. И вот — такая встреча! Ведь Алексей Алексеевич режиссер-постановщик! Одно его слово — и она в фильме! Мыслимо ли упустить такую возможность?
Тем временем Оскар постоял за углом, обдумывая встречу и знакомство с Алисой, бросил окурок и вернулся к ней, злой и возмущенный:
— Не задержал? Простите... Ну и порядочки здесь! Утром прилетел — номер еще занят. Ладно, оставил чемодан, ушел на море. Сейчас прихожу — администратор сменился и забыл передать мою бронь! Номера нет. Мне надо сценарий дорабатывать, принимать людей...
У Алисы застучало сердце. Это был ее шанс.
— Алекс... Только поймите меня, пожалуйста, правильно. Мама на лето уехала к сестре в Пятигорск подлечиться, папа — в море, вернется еще не скоро. У нас вы никого не стесните и вам никто не будет мешать. А живем мы вон, совсем рядышком...
Выйдя из вагона на перрон, Сергей поволок чемодан в камеру хранения. Гостинцев мама наготовила на весь «Абакан».
— Товарищ главстаршина!..
Сергей еще не привык: его и Чурикова только-только произвели в главных старшин. Оглянулся: патруль! Подошел, представился, предъявил документы. Офицер посмотрел, улыбнулся:
— А-а, Сафонов! Вот вы какой. Приятно встретить. И куда же путь держите в столь поздний час, позвольте все же узнать?
— Домой. К дяде то есть: у меня тут дядя живет и служит. Капитан госбезопасности Сысоев...
— Вот как. Ну, добро. У вас еще целые сутки — счастливо погостить! — пожелал, вернув документы. — Постойте! Вы сегодняшнюю газету нашу читали? Держите...
Подойдя к дому, поднял взгляд и удивился: окна дядькиной квартиры поблескивали черным лаком. Обычно два светились допоздна: дядя читал или занимался, будучи заочником Высшей школы. Сергей взбежал на третий этаж, позвонил... Еще разок... Открылась соседская дверь, и на пороге появился сослуживец дядьки.
— Сергей? С приездом! А Сысоевых нет...
Оказалось, болезненную вообще бабушку Ксению опять крепко прихватило и дядя Шура срочно повез ее в окружной госпиталь. А ключ Сергею впопыхах забыл оставить.
— Да он утром вернется уже. А ты у нас ночуй.
— Нет, нет, спасибо. Я тут... в спортроте устроюсь, — отказался Сергей, черкнул дяде записку и ушел.
«Что же делать? В гостиницу обращаться бесполезно. В спортроте его знают, конечно, как самбиста-разрядника, но кто ж туда является ночью! Придется побродить до утра...»
Ночь встретил Сергей на скамье под каштаном на трамвайной остановке возле театра. Городские куранты громко пробили час. Сергей усмехнулся: ночь только началась, а привычка к распорядку уже властно клонила в сон.
...Откуда, как она подошла — Сергей не заметил. Видимо, задремал все же. Увидел, когда незнакомка уже остановилась перед ним — невысокая, грациозная, с точеной талией и высокой грудью.
— Не скажете, трамвая давно не было? Туда, — махнула она сумочкой на длинном ремешке.
— Давно уже. Оттуда прошли недавно. Последние, надо полагать.
— Да?.. — Она посмотрела на Сергея большими, подведенными, совершенно изумрудными, но какими-то незрячими глазами: посмотрела, будто и не увидев его. Повернулась и медленно, понуро пошла дальше.
Неожиданно для самого себя, Сергей вдруг поднялся, нагнал ее:
— Извините... Вам будет страшновато одной идти, разрешите, я провожу? Мне все равно делать нечего, — смутившись, неуклюже оправдался он.
Она спокойно рассмотрела моряка, невесело усмехнулась чему-то и молча сама взяла его под руку.
За всю неблизкую дорогу они не обмолвились и десятком фраз. Сергей, правда, пытался заговорить, но девушка не поддержала беседы.
Миновав «Гастроном», охраняемый немолодой толстухой, они вскоре свернули во двор темнокирпичного дома. Собственно, от дома авиабомба оставила лишь фасадную стену. Но одноэтажный флигелек с мезонином в глубине двора-сада уцелел. Взойдя на его крыльцо, девушка приоткрыла дверь, прислушалась. Сергей мешкал в нерешительности: попросить ее о свидании или так уйти? Он медлил. Девушка смотрела на него с той же спокойной непонятной полуулыбкой. Открыв дверь, подтолкнула его, шепнув:
— Тихо только: соседи!..
На цыпочках они поднялись в мезонин. В тесной прихожей сгрудилось все: умывальник, плитка, дверь в кладовку, еще одна... Далее шла комната — невысокая, продолговатая, со скошенным по краям потолком и полукруглым окошком в торце. Обставленная просто, даже бедно, комнатка тем не менее была очень уютной.
— Ну, чего потолок подпираешь? Садись. Ты что, в самоволке? — грубовато спросила она.
— Нет, у меня отпуск. Просто ночевать оказалось негде, понимаете... — брякнул Сергей и смутился.
Она опять усмехнулась:
— Понимаю, понимаю. Так что, служивый, поужинаем? Или так перебьемся?
Непонятная, не то злая, не то дружеская ирония прозвучала в этом «служивый». Сергей промолчал, неопределенно пожав плечами.
— Надо бы, — решила она. — Только у меня нет ничего такого...
— У меня тем более.
— Да ну? — насмешливо удивилась она. — И денег, конечно, тоже.
— Деньги-то как раз есть, да где сейчас...
— Где есть: тетя Даша не зря магазин сторожит! Давай... — Взяла деньги, сумочку, кошкой выскользнула на лестницу.
Сергей нахмурился. Странная какая-то особа, двуликая. То затаенно-грустная, но естественная и располагающая к себе. То вдруг нарочито циничная, вульгарная и тем неприятная. Кто же, какая она на самом деле?
Сергей оглядел комнату, но ничего четко характеризующего хозяйку не увидел. Явно только, что живет она небогато и одна: ничего мужского, детского, семейного в комнате нет.
Над колченогим письменным столиком нависала книжная полка. В детстве Сергей читать не любил, к книгам пристрастился уже в юношестве, а на службе и вовсе заболел. И тут, конечно, подошел, полюбопытствовал. Медицинские учебники, разрозненные томики Блока, Есенина, Цветаевой, кое-какая беллетристика... Перебирая книжки, наткнулся на застекленный фотопортрет молодого офицера-моряка. Хорош! Интересно, кто это? Отец? Муж? Брат?.. Ответа портрет не давал: ни надписи, ни даты на нем не было.
Так же тихо вернулась хозяйка с покупками.
— Открывай, — распорядилась, выложив на стол консервы.
Сергей положил на стол портрет, подошел к хозяйственному — вспорол резаком жесть банок.
Сели. Девушка, видимо, не ужинала — без промедлений положила гостю и себе щедро на тарелки, налила по трети стакана водки.
С водкой у Сергея были старые счеты. Как-то уже перед окончанием школы он однажды хлопнул стакан «Столичной». А потом... Это был такой срам, такое публичное позорище, что Сергей с месяц, наверное, стыдился выйти из дому и в глаза маме посмотреть! С тех пор зарекся! И сейчас отказался. А девушка уже выпила и посмотрела на моряка удивленно и насмешливо:
— Это почему же? Больной, что ли?
— Еще чего! Просто... Просто не пью. Вообще.
Замечательные глаза ее сузились и стали колючими.
— Ну как же! Конечно. Устав-батюшка не велит, и матушка-замполит не разрешает?!
— Это само собой, но... Я же водолаз — нам нельзя, — придумал он самое простое объяснение.
— А-а... Ну, извини, не знала. А вино можно?
Видя, что его нет, Сергей кивнул. И просчитался: девушка достала из шкафчика почти пустую бутылку, вылила остаток ему. На глоток набралось. Деваться было некуда.
— Давай хоть познакомимся: Сергей...
Девушка не назвалась, а молча пристально посмотрела на моряка. «Глаза, как у хозяйки Медной горы!» — любуясь, подумал Сергей и спросил:
— А тебя как?
Девушка отвела взгляд, невесело ответила:
— Не все ли равно? Ну — Лида... Со знакомством!
Криво усмехнулась и выпила. Поморщилась, стала закусывать. Сергею не елось, хотя он тоже не ужинал. Шевельнув ногой, он задел гитару, стоявшую почему-то на полу возле стола. Подхватил, протянул Лиде:
— Может, споешь?
Лида иронически посмотрела на него, приняла гитару, еле касаясь струн, взяла аккорд. Шепотом запела:
Ты едешь пьяная и очень бледная
По темным улицам совсем одна.
Тебе мерещется дощечка медная
И шторы синие его окна...
Сергей изумился. Недавно дядя Шура познакомил его со своим приятелем — немолодым худруком флотского театра, страстным меломаном, обладателем уникальной коллекции старых, точнее, уже старинных грампластинок с записями еще Вяльцевой, Юрия Морфесси, Вари Паниной, молодого Шаляпина... Только у него Сергей смог услышать и вообще узнать о существовании этого романса. Откуда же он известен Лиде?..
Лида отложила гитару, не то вздохнула, не то сдержанно зевнула:
— Все. Вы просите песен — их нет у меня. Были, да все вышли. Давай-ка спать... — Встала, подошла к кровати и заметила возле нее на столике портрет офицера. Оглянулась на Сергея.
— Кто это? — простодушно спросил он.
Взяв портрет, Лида посмотрела на него и бросила обратно:
— Так, случайный знакомый. Вроде тебя. Только другой совсем. — Откровенно зевнула и, ничуть не стесняясь, потянула с себя платье.
У моряка дыхание перехватило. Сконфузившись, он опустил взгляд, а Лида как ни в чем не бывало откинула одеяло, взяла полотенце и вышла из комнаты, бросив на ходу:
— Ложись...
Сергей опешил: «Как ложись, куда — ложись? — Усовестил себя: — Хорош! Не успел познакомиться и сразу, как кобелишка уличный!.. И это вся любовь?»
Он лег на продавленную тахту, укрылся каким-то пледом. Нарочито зажмурился, притворился задремавшим. Услышал, как вернулась Лида, подошла к кровати. Замерла. Помедлила — и тихо легла в постель.
Как уснул, Сергей не помнил. Проснулся, почувствовав взгляд. За окном брезжил рассвет. На краю тахты сидела Лида в ситцевом халатике и смотрела на Сергея с какой-то неизъяснимой грустью, почти болью. Сергей встревожился:
— Что с тобой? Заболела? Или беда какая?
Она слабо улыбнулась, покачала головой:
— Нет. Просто встала посмотреть, не озяб ли ты?
— Ну что ты. Теплынь!
С той же улыбкой Лида мягко положила руку на его широкую сильную грудь. От прикосновения этого моряка зазнобило, но тут же он почувствовал: ласка эта — дружеская, почти материнская. Вздохнув, Лида тихо сказала:
— Сергей... Сережа... Хороший, видно, ты человек.
— Ну, так уж и хороший, — смутился он.
Оба помолчали, думая о чем-то своем.
Они были почти ровесниками. Однако — Сергей это интуитивно чувствовал — жизнь узнавали и понимали по-разному.
Лида тихо провела рукой по его груди, вздохнула, отошла и легла на свою кровать, отвернулась к стене.
Вторично проснулся Сергей точно в минуту подъема по корабельному распорядку. Лида еще спала или делала вид. Сергей мигом оделся и тихонько вышел, оставив записку:
«До св.! Приду в сл. воскр. или через нед. С.»
Крадучись спустился по лестнице, надел во дворе ботинки и быстро ушел, запомнив дом и улицу.
Всю дорогу что-то неотступно мешало ему думать об этом волнующем и чрезвычайном для него событии. Что именно, он сообразил только дома, у дяди: утром, когда он торопливо писал записку, фотографии офицера на столике уже не было.
ПОЛОСА ВОЛНЕНИЙ И НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Проснулась Алиса уже радостно взволнованной. Так пробуждаются в праздник дети, жаждущие подарка. Она тщательно занялась туалетом. Умылась, старательно причесалась, наложила косметику. Надела узкий в талии, длиннополый халат, прошлась, посмотрела в зеркало. Нет, так не пойдет — слишком для начала. Надела шортики, легкую рубашку с полурукавчиками, стянула полы узлом на талии. Вот так хорошо: вполне современно и прилично. Довольная собой, отправилась в кухню и вскоре позвала:
— Алексей Алексеевич, прошу к завтраку!
С аппетитом завтракая, Оскар откровенно любовался Алисой. Приятно видеть рядом живую статуэтку и сознавать, что достаточно только протянуть руку... Но Оскар не спешил.
— У вас фотоаппарат есть, Алиса?
— Нет, не увлекаюсь. У папы где-то лежит «Практифлекс», могу найти.
— Давайте съездим на пляж, где побезлюднее, я поснимаю вас, посмотрим фотогеничность. А там и о кинопробе подумаем.
— Стоит ли? — усомнилась Алиса, скрывая восторг. — Может быть, просто так съездить, отдохнуть... — И заторопилась на лекции.
Оскар перебрался в кабинет развалился в кресле, закурил. Итак, в Сосногорске все обошлось благополучно. И здесь сложилось лучше не придумаешь. Знакомство с Алисой — просто дар! Дом великолепный, во всем подъезде всего шесть квартир — по две на этаже. Можно месяц ни с кем не встретиться! Однако все надо предусмотреть. До возвращения Пауля ничего серьезного предпринимать нельзя, но и время терять попусту досадно. Надо произвести хотя бы общую рекогносцировку местности близ санатория «Белый камень»...
В такой день и впрямь грешно не поехать на море!
Старый лесопарк, окружающий санаторий, был прекрасен. В прибрежной его части мраморно белело здание санатория, а по берегу простирался природный пляж. В отличие от сосногорского и других — чрезвычайно тихий и малолюдный.
— Какая прелесть! — восхитилась Алиса. — Представьте, Алекс, я тут никогда не бывала. А здесь, оказывается, чудесно!
— Конечно. Недаром здешние старожилы посоветовали мне.
Отдалясь от загорающих курортников, они расположились возле гранитного валуна с указателем «Граница пляжа». Здесь Оскар устроил привал. Выложил из сумки припасы, расстелил на песке «скатерть-самобранку». Алиса тем временем облачилась в пляжный мини-костюм.
Позировала она с удовольствием и сноровкой опытной манекенщицы. В статике и движении. Нащелкав кадров двадцать, Оскар объявил:
— А теперь — к столу, к столу, к столу! Я уже шатаюсь от голода!
На пляже всегда естся с аппетитом. Усердно работая челюстями, Оскар продолжал «любоваться» морем. Правее их недалеко от берега торчал из воды свайный домик-будочка с круговым балкончиком. Явно гидрологический пост. А близ него стоял на якоре какой-то вспомогательный военный корабль. Какой? Примет и флага его отсюда было не разглядеть без бинокля. Уж не «Флинка» ли он уже разведует?.. Интересно, он постоянно тут торчит или уходит на ночь?
Увидеть это сегодня ему не удалось: по берегу уже шагал, приближаясь, первый пограничный наряд — еще не строгий, но... лучше все же заканчивать пикник. Стряхивая «самобранку», Оскар расслышал комариный зуд подвесного мотора. Присмотрелся: вдоль берега шел дюралевый катеришко. Пограничники глянули на него в бинокль и пошли дальше. Катеришко причалил к посту и через две-три минуты отправился дальше, проплыв мимо санаторного пляжа. «Так, так, так. Понятно: смотритель обходит посты, снимая показания приборов. Это надо учесть», — решил Оскар и засек время.
Получив копию дислокации и плана работ на топляке — это входило в сектор его наблюдения — капитан Сысоев отправился к своему непосредственному начальнику, майору Рязанову.
Когда-то начинающего чекиста Рязанова определили помощником к Сысоеву. Они хорошо сработались, подружились. Потом обстоятельства разлучили их. Но по прошествии нескольких лет снова свели вместе, только уже поменяв местами. Это, однако, ничуть не ухудшило их отношений.
Сейчас майор был один, а наедине они говорили без чинов. Капитан показал Рязанову полученные документы:
— Читал, конечно?.. Петр Петрович, я понимаю: «Абакан» — спасатель и потому должен быть на «товсь» под рукой у командования, а не болтаться где-то. Но почему не поставить на топляк какую-нибудь брандвахту, что ли? Надо же как-то охранять...
— Кому это надо? — Рязанов вышел из-за стола, подсел к товарищу на диван. — Флоту надо? Да флоту этот топляк — как рыбке зонтик.
— Но уж коль скоро он нашелся...
— Резонно, резонно. Мы согласные, мы завсегда за охрану — было бы чаво охранять! А тут что? «Черный принц», набитый золотом? Новейший корабль с новейшим вооружением? Старая рухлядь, не представляющая никакого...
— Э-э, нет! А вдруг как раз представляет!
— Да я что, против, что ли? Нереально это. Сам посуди: где они возьмут эту брандвахту? Флот наш народные денежки бережет и бездельников не содержит. Значит, для охраны придется снимать со службы какой-либо корабль. И только потому, что Сысоев с Рязановым, видите ли, считают это не лишним. Тем паче топляк — на дне, да еще в пограничной полосе, которая и так бдительно охраняется. — Рязанов встал, прошелся по кабинету. Остановился перед Сысоевым: — А вот насчет «а вдруг» — твоя правда. Это наша забота. Надо хотя бы в принципе определить: может эта находка быть чем-то интересной и важной?.. Я уже сказал Ладоге, чтобы водолазы поднимали каждую найденную вещицу. Так ведь пока не отмоют топляк от наносов, в него не проберешься. А что мы еще можем?
Сотрудники помолчали. Разминая «беломорину» — иных папирос он не признавал, — капитан сказал:
— А ты знаешь, можем, пожалуй. Хотя бы по наружным обводам определить принадлежность, класс, тип топляка. Может, он сам по себе уже чем-то примечателен. Чем черт не шутит!
Рязанову предложение понравилось:
— Дельная мысль, Алексеич! Давай-ка, привлечем Тутаринова... Молодежь-то не знает давние типы судов, а он и сам войны хлебнул, да и других ветеранов знает — может их приобщить.
«Почтовый ящик» в Сосногорске пустовал — значит, Пауль еще не вернулся. Оскар поддернул плечом лямку рюкзака, зашагал к вокзалу. Электричка на Балтиморск шла почти пустой. Естественно: утро погожее, все сейчас едут сюда, к морю. Вечером картина будет обратной. Оскар затолкал рюкзак с «Ихтиандром» в угол под скамью, сел к окну. Частичная разгрузка тайников прошла благополучно, а вот задержка Пауля тревожила.
Оскар задумался, глядя в окно. Отсюда до родных мест рукой подать и вполне можно встретить какого-нибудь знакомого земляка. А это почти верный провал.
Отец Оскара хуторянин-середняк Ансис своевременно вступил в ряды националистов-айзсаргов и круто пошел в гору. Латыши вообще умеют работать, Ансис же умел не только сам работать, но и из батраков выжимать силы. Хутор скоро вырос в имение, а сам Ансис — в фигуру уездного масштаба. И младшенького, своего любимца Оскара, отец с пеленок растил ярым националистом и выжигой. Старшая дочь Ансиса, Милда, жила самостоятельно в Риге, состояла в молодежной организации компартии и была функционером-подпольщиком. И Оскар, определенный отцом в городскую гимназию, жил у сестры и доносил о ее знакомствах и деятельности жандармскому офицеру, приятелю отца.
А тут Латвия снова стала советской. Раскулаченный Ансис сам поджег свое бывшее имение, ставшее колхозным, и ушел в лес в банду «межа кати» — «лесные кошки». Туда же подался и Оскар. Бандит-подросток быстро заматерел в Курземских лесах и оттуда был взят в немецкую разведшколу «Абверштелле-Остланд» в Балдоне, близ Риги. Война близилась к концу, но юный диверсант успел отличиться, был отмечен и переправлен на Запад. Там прошел полный курс специального «высшего» училища и уже отлично подготовленным специалистом пришел в диверсионно-разведывательную «фирму» генерала Z. И тут, обойдя многих коллег, сравнительно быстро выдвинулся в ГОР.
«Работал» Оскар в прибалтийских, скандинавских и социалистических странах Центральной Европы. Специально готовился и для СССР. Последний раз был в Союзе недавно и довольно долго — месяца три, приехав как турист-социолог. Единственным его заданием было как можно глубже познакомиться с сегодняшним производством, бытом, культурой, нравами, модами, общественными заботами — укладом жизни советских людей. Теперь же — конкретное и чрезвычайное задание.
...За окном вагона поплыли городские кварталы: тупиковый курортный вокзал обосновался в самом центре Балтиморска.
При выходе с перрона на площадь Оскара толкнул какой-то торопыга в летней шляпе и теневых очках. Оскар оглянулся и обрадовался: Пауль!
Вскоре они уже беседовали в кабинете Туманова. Пауль по достоинству оценил новое пристанище Оскара. А на веранде у старушки решили поселить Пауля: документы теперь у него были надежные.
— А у вас и того крепче, — заверил он Оскара, достав из кармана плотный конверт. — Вы улиток и пиявок любите?.. Придется полюбить, хотя бы временно. Вот вам паспорт, вот удостоверение инженера-ихтиолога, научного сотрудника... Командировка на работу в прибрежной зоне. Отношение в здешний НИИ. Все, разумеется, фиктивное, но настоящее. И даже, пока цел Марс, обеспечено подтверждение на случай проверки! Вот еще и рабочее научное задание: исследование моллюсков прибрежной зоны юго-восточной Балтики.
— Крыша прочная, ничего не скажешь.
— Есть еще один паспорт с документами, про запас. Он пока вам не нужен, я его прячу.
— Ладно. Вы молодец, Пауль, с вами можно крепко работать! Только... Я же ни черта не смыслю в головастиках.
— А кто смыслит? Думаете, настоящие ихтиологи толком в них смыслят? Купите «Юный натуралист», подчитаете. Кстати, когда на разведку отправитесь?
— Завтра же. Сегодня уже поздно. Сейчас купите мне в «Спорттоварах» акваланг — мой «Ихтиандр» для дела беречь надо. Да и приметный он.
Утро выдалось прохладным, но, пока Оскар с Алисой добирались до санатория, потеплело. Скинув с плеч довольно увесистый рюкзак, Оскар первым делом посмотрел на море: «Абакана» не было. Но это не обрадовало, а скорее, обеспокоило: вдруг придет, да в самый неподходящий момент?..
Лодку взял у санаторного заведующего пляжем, в распоряжении которого было несколько шезлонгов, пляжные зонты, лежаки и пузатые фофаны. Греб Оскар неуклюже — откуда режиссеру уметь! Подплыл сначала к свайному домику поста. Точно: «Пост № 17»! Отсюда уже были видны незаметные с берега буи обозначения топляка. Подгреб ближе к ним, остановился.
— Самое, по-моему, место. Лещей тут — тьма тьмущая! — предсказал, бросая якорек.
Изготовили и закинули удочки. Ни одной поклевки не последовало, и Алисе вскоре такая ловля наскучила.
— Ну, где же они, Алексей Алексеевич? — капризно спросила она.
— Тут! — указал Оскар в воду. — Придется, наверное, просто хватать их за жабры, раз не хотят клевать, — решил он, надевая акваланг. — Вот это спорт! Ни грести уметь не надо, ни даже плавать всякими батерфляями. Люблю!
Аквалангистом Оскар был отменным, но перед Алисой разыгрывал неумеху. Только говорил о своих классных ныряниях в Черном море. Алиса же, глядя на увлеченного Оскара, раззадорилась и стала просить дать и ей понырять.
— Я же умею, Алекс, ей-богу, умею! Вот посмо́трите...
Пришлось уступить. Но с условием: погружаться только на страховочном поводке. Так они и ныряли поочередно, отогреваясь в паузах: вода была еще холодной.
Алиса все же не утерпела и, отвязавшись в воде от страховочного конца, пошла на глубину. И там вдруг увидела смутные очертания какого-то затонувшего корабля! У нее дух захватило — так это было романтично! Вынырнув, она сорвала с лица маску и закричала:
— Алекс! Я нашла затонувший пиратский корабль! Честное слово!..
К ее удивлению, потрясающая находка ничуть не удивила и не заинтересовала Алексея, а вот сущий пустяк — возмутил. Почти до грубости:
— К черту ваши пиратские фрегаты! Да после войны здесь таких находок — куда ни ткнись! Тоже мне находка!.. Кто вам позволил отвязываться?! Что за самодурство?! Вы соображаете что-нибудь? Понимаете, что я — я! — отвечаю за вашу жизнь? А случись что — у меня даже нет второго акваланга, нырнуть на помощь! Вы хоть об этом подумали?.. Не-ет, все. Все, все, все! Вылезайте!..
Алиса испугалась. Испугалась не опасности, какой себя подвергла — честно признаться, особой опасности она так и не осознала, — испугалась возможной ссоры с Алексеем. Она покорно влезла в лодку и виновато захныкала, прося прощения. Но не разжалобила. Гребя к берегу, Алексей продолжал возмущаться и даже высказал ужасное предположение: если она уже сейчас позволяет себе такое, то чего можно ждать от нее на киносъемках!
Тут Алиса скисла окончательно.
На берегу Алексей молча стал собираться. Тем более что и погода начала хмуриться под стать его настроению. Да и ее тоже.
Дома он безмолвно застыл в кресле, прикрыв глаза. Алису это даже взбодрило: как он переживает из-за нее! Она присела на подлокотник, заворковала:
— Вы все сердитесь? Ну не надо, Алекс, прошу вас...
Оскар поморщился. Он обдумывал результат первой разведки. Топляк действительно лежит неглубоко и удобно: в грунт не засосан и не на боку. Это хорошо. Не надо делать подкопы, извиваться внутри... Сильно занесен сверху песком — илистым, плотным, слежалым. Это плохо: чтобы только отрыть подступ к двери в надстройку — одному на год работы хватит! Придется ждать, пока водолазы отмоют... «Абакан», как сегодня выяснилось, приходит не каждый день. Значит, будут дни, когда можно спокойно действовать. Теперь — пост. Внутри него сегодня побывать не пришлось, но под водой Оскар обнаружил достаточно широкую, открытую с обоих концов трубу-лаз со скоб-трапом внутри и водомерной рейкой. Когда разгуляется волна, внутри трубы определить ее истинный уровень легко и удобно. Если загодя пробраться в домик поста, то даже при «Абакане» можно по трубе спуститься под воду и также незаметно подняться обратно! Остается придумать способ, как добираться до этой морской избушки с берега? Проще всего было бы, конечно, пользоваться санаторной лодкой, но это неразумно...
— Я не сержусь, Алиса, я думаю... Я думаю, мне все же надо перебраться в гостиницу. Я сейчас...
— Нет, нет! — запротестовала Алиса. — И не выдумывайте!
— Это не выдумка. Я не вправе рисковать вашим реноме. Да и своим тоже. Заметят соседи, пойдут кривотолки...
— Алексей Алексеевич! Мы же условились! Вы — папин приятель, моряк, пришли в наш порт на ремонт. У нас же в Балтиморске такие гости — обычное явление.
Зазвонил телефон. Алиса отозвалась, показала Оскару: вас... Передала трубку.
— Слушаю... Да, да. Здравствуйте, товарищ генерал! Так... Да, конечно, удобно. Сейчас приеду, спасибо.
Положил трубку, поднялся, надел пиджак.
— Начальник милиции — насчет обеспечения съемок. Пойду, Аля, потом договорим.
...Прохаживаясь по перрону в ожидании электрички, «генерал» тихо переговаривался с «режиссером».
— Я очень неплохо устроился на вашей веранде.
— И сейчас вызвали меня, чтобы сообщить эту потрясающую новость?
— Не только. Вот вам крок карты с точным обозначением места топляка...
— Благодарю, я уже был на нем.
— Уже?! Даже без моего ведома? Ну, знаете!.. Если бы вы рисковали только собой, то черт с вами. Но вы...
— Прекратите, — оборвал Оскар. — И вообще, коллега, бросьте этот менторский тон. По отношению ко мне, во всяком случае.
Пауль осекся. Промолчал, потом спокойно спросил:
— Ну и как, что там?
— Не знаю. Внутри я еще не был, обстоятельства не позволили.
— Так вот вам еще план офицерского отсека. Крестиком помечена каюта командира. А теперь запоминайте: в ее правом углу над койкой — настенный шкафчик с бронзовыми львиными мордами на створках. За левой — просто шкафчик. А вся правая половина и есть командирский сейф. Так что не тычьтесь, как слепой котенок, по всей каюте, а...
— Понятно. Вот за это спасибо, ориентировка дельная.
— Вас еще интересовал смотритель гидрологических постов. Я узнал. Вот его данные, адрес.
— Вот это оперативность! А самого его не поглядели?
— Смотрел. Мерзкая личность, этакий кремень с партбилетом.
— Жаль. Но лучше подосадовать, чем раскрыться. Ничего... Ваша электричка отходит!
— Спешу! До завтра!
К утру «Абакан» пришел на «точку» и приступил к работе.
Молодые водолазы начали отмывку топляка. Тутаринов не спешил на грунт, ждал полудня, когда под водой станет светлее. А пока с Сергачевым и Евсеевым — заслуженными фронтовиками, бывшими разведчиком и корабелом-ремонтником, прибывшими на «Абакан» накануне, — наблюдал за спусками.
Гости уже вошли в морскую семью абаканцев и подружились с молодежью. Встретили их вчера с почетом и флотским гостеприимством, а вечером в матросском клубе состоялась встреча ветеранов с моряками. Любознательная молодежь расспрашивала о службе и боевых походах, о тонкостях корабельного и водолазного дела, морской разведке, советовалась. Ветераны радостно удивлялись: что́ только не интересует их наследников!
Тем более было приятно продолжить беседу уже на корабле, за столом в салоне команды у пузатого самовара-ветерана с клеймом «Тула, 1895». Евсеев знал об этом знаменитом самоваре и привез с собой, к удивлению абаканцев, пластикатовый мешочек с углем и чаями. И пока он священнодействовал, заваривая чай и угощая им абаканцев, Сергачев рассказал случай из своей фронтовой биографии.
...Был момент, когда вся авиация Ленинградского фронта оказалась под угрозой бездействия. Военный совет приказал немедленно доставить через Ладогу горючее! А как?.. Танкеров нет, на баржах — только на перекачку из цистерн в бочки полмесяца уйдет! Но на том берегу — блокадный Ленинград, а в кармане — приказ! Что делать?! Два офицера — моряк и военинженер, два командира заперлись в кабинете. Среди ночи отдали приказ: экстренно, архисрочно отвести от береговой колеи стометровую ветку в... воду! Еще затемно военинженер постучал каблуком по хилой укладке: «Ладно, полчаса вытерпит...» Моряк расписался у начальника перевалочной базы ГСМ в приемке груза, махнул машинисту паровоза: «Не расцепляя вагонов, толкай потихоньку состав в озеро. Аккуратненько». Все присутствовавшие ахнули и растерялись. Машинист побелел: «Да вы что?!» Моряк повторил: «Выполняйте! Я приказываю!» — «Н-не могу. Нап-пишите», — заикаясь, прошептал машинист. Моряк черкнул в блокноте приказ, вырвал лист — и машинист, зажмурившись, тронул. Все с напряжением смотрели, как цистерны с бесценным горючим одна за другой скрывались в воде... Но, погрузившись по самую горловину, ни одна не утонула! Мощный буксир завел концы и потянул караван из десяти цистерн в бухту Гольцмана, где успели соорудить такую же ветку и по ней выкатили цистерны на берег. Тщательный математический расчет оказался точным, а невыполнимый приказ — выполненным блестяще! Выполненным благодаря знаниям, чувству долга, огромной находчивости и смелости двух командиров! Говорили, оба поседели за эти полчаса. Так ли это — неизвестно. А вот что награждены были высоко — это точно!
И сегодня, вспоминая находчивость и мужество балтийцев-фронтовиков, молодые водолазы особенно тщательно и серьезно готовились к спускам.
Незаметно подошло время обеда. Работы прервались. Муть, поднятая отмывальщиками, должна была рассеяться и осесть. Поэтому Тутаринов спустился на грунт в адмиральский час отдыха. Тогда и он никому, и ему никто не мешал.
Бродил он на дне вокруг топляка довольно долго, а поднявшись, уединился с Евсеевым и Сергачевым в их каюте, где уже кипел, радостно фырча, самовар.
— Где бумага?.. Картина, значит, такова, други мои. Вот черт, рисовальщик я аховый! Ну, в общем, так...
Рисовал Тутаринов и вправду коряво, но тут особого таланта не требовалось, важна была правильность контуров и соотношений. Да и Сергачев тут же перерисовывал наброски Тутаринова куда более художественно. Так на ватмане появились силуэты топляка в профиль, в фас, с кормы, обводы в плане, надстройки...
Евсеев требовал уточнения деталей, Сергачев — количества иллюминаторов, типа клюзов... Евсеев сам уже не мог погружаться, но отлично представлял, как все может выглядеть на дне и чего можно требовать от Тутаринова, а чего нельзя. Друзья выпили по чашечке «евсеевского», и Тутаринов снова отправился под воду.
Потом они долго спорили, рисовали, пили чай, вспоминали, снова рисовали... В конце концов, уточнив детали, переворошив память и старые альбомы и опорожнив не раз самовар, убежденно заключили: топляк — немецкий, предвоенной постройки.
Получив это заключение, майор Рязанов прошел к капитану Сысоеву и застал его за довольно странным для чекиста занятием — он старательно наносил на морскую карту курсы, отмерял по ним расстояния и вырисовывал какие-то подобия дынных семечек.
— Ты что это, Алексеевич, никак в штурмана податься решил?
— Да вроде того. Вот, навигационную задачку решаю.
— И успешно?
— Да вроде того. Любопытная картинка, понимаешь, нарисовалась. Смотри... Вот этот огурчик — это я так «Сирену» изобразил, эти линии от нее — курсы, по каким разошлись шлюпки с ее моряками. А это сами шлюпки на тех местах, где их остановили пограничники. Шлюпки все одинаковые, гребные. Спущены на воду были почти одновременно. Течений тут нет, ветра не было — условия одинаковые. И шлюпки, шедшие на ост, отдалились от «Сирены» почти на равные расстояния. А шлюпка, задержанная у берега, чуть ли не вдвое дальше! Видишь, вот ее место... Теперь скажи: разве не любопытно, как это корабельные «аристократы» оказались гребцами лучшими, чем матросы? А?
Рязанов посмотрел на карту, на Сысоева, снова на карту. Потер подбородок.
— Черт побери! Выходит, у них был мотор...
— ...который они перед задержанием утопили. Другого объяснения быть не может. А зачем утопили?
— На этот вопрос они уже не ответят: их отправили домой.
— То-то и оно. Придется нам самим... А ты с чем пожаловал?
— Да тоже с одной любопытной картинкой. Вот она... Наши милейшие консультанты точно определили и даже старую фотографию двойника нашли: топляк — немецкий СБТ «Флинк», то есть скоростной буксировщик-тральщик типа «Юркий». Строились они как коммерческие, потом были мобилизованы. У немцев их было всего несколько вымпелов, но зарекомендовали на войне они себя весьма разносторонне и хорошо.
— Немецкий? — удивился Сысоев. — Гм.. Признаться, я ожидал иного...
Отмывку топляка от наносов водолазы начали с носа к корме. И одновременно, следуя за отмывщиками, приступили к осмотру палубы, форпика, палубных механизмов, носового трюма...
Подошел черед надстройки. Предварительный общий осмотр ее достался главстаршине Сафонову.
Как обычно, к началу рабочего дня на ют «Абакана» сошел командир корабля. Сегодня Ладога был хмур. Только что он получил радиограмму-распоряжение штаба: не смотреть на топляк только как на металлолом. И все. Как хочешь, так и понимай. А Ладога, как все военные, неопределенностей не любит.
Покуривая у фальшборта, он наблюдал за подготовкой водолазов к работам. Жестом подозвал Сергея:
— Вот что, Сафонов. Если обстоятельства позволят, обследуйте первым делом штурманскую рубку и жилой отсек комсостава. Поищите несгораемый ящик или сейф. Кодовые таблицы, шифры — они могут оказаться и в радиорубке. Личные вещи, записные книжки.... Результат доложите лично мне...
За долгие годы подводного плена корабль сплошь оброс ракушками, осклизлыми водорослями, местами еще оставался покрытым иловатыми наносами. Под тяжелыми свинцовыми «галошами» Сергея с хрустом крошились мидии, илистая муть поднималась из-под ног, будто дымок, курилась в зеленовато-серой воде.
На грунте водолаз движется медленно: плотность воды сковывает его резвость. Поэтому водолаз и идет, то наклонясь — будто боднуть хочет, то — будто вагонетку одним плечом толкает и подгребает руками. Но наклоняться тоже надо умеючи, а то воздух из рубашки кинется в штаны — и барахтайся вниз головой! А если еще с золотником не управишься, не стравишь лишний воздух, то и вовсе выбросит на поверхность — «сушить лапти». Хорошо еще, если с маленькой глубины, что в учебном отряде почти с каждым случается, — конфузом да насмешками отделаешься. А если с большой — можно и жизнью поплатиться.
Набычась и подгребая, Сергей прошел по палубе до наружного трапа, поднялся по мохнатым от водорослей ступеням. Дверь в ходовую рубку приросла намертво, войти не удалось. Спустился.
Помещения первого яруса надстройки разделялись сквозным поперечным коридором. С левого борта литая стальная дверь оказалась неплотно закрытой. Сергей втиснул в щель жало ломика, навалился — дверь, скрежетнув ржавыми навесами, приоткрылась. Отжал еще маленько.
— Трави помалу. Иду внутрь первого яруса, — буркнул наверх.
С надводным миром водолаза непременно связывают, как минимум, воздухопроводный шланг, телефон и капроновый трос, на котором водолаза спускают, поднимают и еще сигналят, если телефон почему-то откажет. Оба этих связующих так иназывают «шланг-сигнал», и оба они все время в руках товарища, страхующего наверху.
Сейчас на борту «Абакана» страхующим на шланг-сигнале Сафонова стоял матрос-водолаз Изотов. Возле его ног крутился еще не уяснивший всех корабельных уставных правил собачоныш с «Сирены».
На посту телефонной связи стоял друг Сафонова главстаршина Коля Чуриков.
— Добро, топай, — сказал он Сергею. — Аккуратненько только, впервой ведь. Да хоть пой, что ли!..
Под водой психика, а стало быть, и характер, и поведение водолаза несколько меняются, и у каждого по-своему. Один становится разговорчивым, вроде Журбенко, другой угрюмым, третий резким... Сафонов на грунте работал молча, затягивая иной раз такие паузы, что с борта его уже сами запрашивали, как он там...
Спускаться в неизвестность внутренних помещений старых топляков водолазам радости не доставляет. Это и трудно, и опасно: можно запутать шланг-сигнал, порвать рубаху, провалиться сквозь прогнившую палубу...
Перешагнув через высокий комингс-порог, Сергей вошел в коридор. Включил фонарь, осмотрелся: справа от него находился санузел, слева шли шифровальный пост, радиорубка, а между ними — трап вниз.
— Спускаюсь в каютный отсек...
Мастера-водолазы виртуозно управляют своей плавучестью — утяжеляются, легчают, подвсплывают, а то даже зависают в невесомости. Пожалуй, как это ни парадоксально, именно им наиболее близко состояние космонавтов. Недаром же космонавты и тренируются в бассейнах...
Сергей прикопил в рубахе воздуху и плавно сошел, еле касаясь еще непроверенных ступеней трапа. В тупиковый коридор выходили четыре двери — по две слева и справа. Первая направо распахнута, за порожком — тесная кают-компания. Сергей вообразил, как остальные двери распахиваются и моряки идут сюда, весело переговариваясь. И вдруг смех действительно звонко ударил в уши водолазу! Сергей в ужасе зажмурился... Тьфу, черт! Это же наверху у поста связи что-то рассмешило матросов! Сафонов чувствовал себя как в склепе и со страхом оглядывал закрытые двери, не в силах шагнуть к ним.
— Сергей, ну что там? — Спросил Чуриков. — Ты где?
— Здесь, — сипло буркнул Сергей. — Первая направо — кают-компания. Иду во вторую.
Голос друга ободрил. Сафонов прошел вперед, ударил — тонкая прогнившая дверь рассыпалась, слегка замутив воду. Он вошел, повел фонарем. От движения воды в двухместной каюте заколыхалось разное гнилье, а на полу водолаз увидел широко улыбающийся череп. Снова стало жутко, но Сергей все же поднял череп, осмотрел: зубы все целы — белые, крепкие. «Видно, недолгой была твоя жизнь, неизвестный моряк!..» — отметил, оглядывая останки, не знавший войны водолаз.
Противоположная каюта пустовала. Последняя — напротив кают-компании — принадлежала, очевидно, капитану или командиру корабля. Она, конечно, могла бы что-то рассказать, но немногочисленные судовые журналы и документы в столе, книжки на полочке — все давно превратилось в подобие папье-маше. Сохранились лишь чернильный прибор, какая-то фотография над ним, да еще в углу над койкой настенный шкафчик со звериными мордами-ручками на створках. Сергей попробовал открыть: левая створка сразу отвалилась, ничего не обнаружив внутри, правая — вообще не поддалась. Сергей постучал — железная. Взяв прибор и фотографию, сказал:
— Выбирайте помалу. Выхожу...
С задачей разведать носовой кубрик топляка под воду шел Чуриков. Матрос Скултэ стал страхующим на его шланг-сигнал. Строго по правилам, страхующий сам должен быть одетым по-водолазному на «товсь», то есть уже в комбинезоне, только без шлема и грузов. Но, видно, тот, кто писал эти правила, не представлял, каково страхующему стоять на солнцепеке в таком виде! Так что теплая одежда и зеленая трехболтовка Скултэ просто висели поблизости.
Отправив еще на грунт шустрого Швайку, мичман Голодов повернулся к поднятому на борт Сафонову, стоявшему уже без шлема.
— Ты, Сергей, отдыхай пока. Хлопцы, раздеть водолаза!
Развязав «подхвостник», матросы первым делом сняли с Сергея груза́: как-никак, а тридцать пять килограммчиков! Затем — манишку. «И-и р-раз!.. И-и два!..» — растягивая ворот, спустили комбинезон до колен. Сергей сел, устало выпростал ноги из штанин, стянул длинные теплые чулки, рейтузы, снял феску, свитер, тельняшку и с наслаждением растянулся на брезенте, вдыхая не стиснутый компрессором, пахнущий резиной, спиртом и маслом, а вкусный, вольный морской воздух. Отдыхая, осмотрел свои трофеи. На чернильном приборе не было даже фабричного клейма. Сергей обтер фотографию. Плотно зажатая рамкой-скобой между двух стекол, она уцелела, но поблекла, еле-еле сохранив портрет молодой красивой женщины. Лицо ее показалось Сергею знакомым, и он долго всматривался, припоминая. Тут как раз подошел Ладога и тихо спросил:
— Ну, что там?
— Бумаги все — каша, товарищ командир. А сейф... Не понял я — сейф это или что. Половинка настенного шкафчика, но железная. Похоже, сейф. Маленький, вот такой. — Сергей показал руками. — Я бы его запросто прихватил, да он оказался приваренным к стойке и бимсу.
— И ладно, что не прихватил, — одобрил Ладога. — А вдруг это еще потребует оформления каким-либо актом... Больше ничего не нашел?
— Вот... — подал Сергей чернильницу и портрет.
Ладога посмотрел, повертел, вернул.
— Сдай мичману, пусть запишет в ведомость? А чего загрустил, моряк?
— Просто устал немножко. — Сергей смутился. — А там еще мертвяки эти...
— Понял. Да, Сережа, водолазам при судоподъемах открываются подчас страшные картины. Мне некоторые до сих пор снятся... К этому нельзя привыкнуть, да и не надо, а то зачерствеем душой. Но мы люди военные и обязаны уметь укрощать свои эмоции.
— Я понимаю. Да я что? Я ничего: раз надо, значит, надо.
— Правильно. Я рад: ты становишься настоящим моряком и водолазом. Так держать! — улыбаясь, приказал Ладога, легко и ловко поднимаясь на ноги. — Лежи, лежи, отдыхай...
Сергей откинулся. Вдруг в бок ему торкнулось что-то теплое и мягкое.
— Это ты, псина?.. Надо отвечать «так точно!», а не молотить меня хвостом по животу. Экий ты... — Сергей погладил собаку. — Слышал? Обязаны волей укрощать свои эмоции! — Сергей вздохнул, припомнив свое возвращение...
Возле самых ворот базы неожиданно встретил Венциуса. Взглянув на часы, замполит одобрил: «Молодцом, Сафонов, даже на час раньше срока. В Балтиморск ездил? У Сысоева-то был хоть?» — «А как же! Вместе и отправились: он на концерт, а я домой». — Венциус кивнул, довольный: когда моряк, даже машинально, называет свой корабль домом, это замечательно! «Добро. А тебя тут спрашивали — в команду зачислить. Ты же самбист-разрядник, а скоро соревнования с рыбфлотом». Вот так раз! Это значит — прощай, увольнения, Балтиморск, Лида... И Сергей увильнул: «Да я только команду подведу и сам опозорюсь. Сколько уже не занимаюсь — сырой совсем». — «Нагонишь. Переведем пока на берег, для тренировок». — «Некрасиво получится, Ояр Янисович. Кабы учебные спуски, а то ж по-настоящему авралим. Значит, все будут на грунте ворочать, а я на бережку сачковать! Что ребята скажут?» Расчет на особую щепетильность замполита оправдался. Венциус досадливо поморщился: «Да, действительно неладно. Тем более командир отделения. Ладно, ступай...»
На корабль Сергей пришел расстроенным: впервые он покривил душой перед Венциусом, которого, как все абаканцы, глубоко уважал.
На «Абакане» первого Сергей увидел командира третьего отделения Шлунка — личность малоприятную и язвительную. «Здорово, выдвиженец. Наведаться пришел?» — «То есть как это — наведаться?» — «Обнакновенно. Говорят, ты в штаб словчил — к Тутаринову. А Шнейдер на «Труженик» вернулся только оформиться да барахлишко прихватить». Хотя и знал Шлунка, а все равно покоробило.
Припомнив все это, Сергей поднялся с горячего брезента, тоскливо посмотрел на море.
— Хоть бы заштормило, что ли! — сказал насторожившемуся псу.
Тот в ответ неуверенно помахал хвостом.
Тем временем Ладога по радиотелефону доложил начальнику штаба базы о результате осмотра каютного отсека и испросил указаний.
— Пока ничего не предпринимайте, — решил тот и пояснил: — Понимаешь, Иван Иванович, разнобой с этим «Флинком» получился. Это же не чисто военный корабль — судьбу таких топляков решает морское ведомство. От него мы сразу получили: «Находка интереса не представляет, режьте на металлолом». А наши, наоборот, вдруг заинтересовались... Да, и москвичи и здешние. И майор Рязанов — помнишь его? — официально порекомендовал: работы на топляке продолжать по нашему плану, но входы в офицерский отсек пока что задраить наглухо. Этим и руководствуйся.
Выйдя на палубу, Ладога, прищурясь, посмотрел на небо, на санаторный пляж. «А хорошо бы с Ольгой и Славкой тоже этак на песочке пожариться да по лесу побродить!» — позавидовал курортникам и подошел к посту связи.
— Кто старший на грунте? — узнал у Голодова, беря микрофон. — Чуриков. Слышите меня? Командир говорит. Примите сейчас сверху инструмент и прихватите сваркой в двух-трех точках обе двери в сквозной коридор первого яруса надстройку. Задачу понятна? Выполняйте.
Матросы на палубе недоуменно переглянулись...
А вечером в салоне команды довольно бурно прошло комсомольское собрание. Вопрос стоял один: Шлунок. Поведение его давно уже возмущало матросов и офицеров. Водолазом Шлунок был слабеньким и трусливым, командиром отделения — надменным, придирчивым и незаботливым, а товарищем и комсомольцем вовсе дрянным — мелочным, язвительным, непорядочным. Зато горлопан первостатейный! А вчера он напортачил на грунте и поставил подчиненному условие: возьми вину на себя, не то пожалеешь! Честный, добросовестный парень взорвался...
И вот все накипевшее выплеснулось. Да еще как! Горячо выступали все — матросы, старшины, молодые офицеры. И решение приняли суровое: ходатайствовать перед командованием о разжаловании Шлунка и списании с корабля!
Молчавший до этих пор Венциус только тут попросил слова и сказал:
— Мне понравилось, что все выступавшие говорили искренне и справедливо. Такими и должны всегда быть собрания. Только вот насчет разжалования — это вы, по-моему, сгоряча. Вопрос присвоения или снятия воинского звания — это, согласитесь, вопрос не компетенции комсомольского собрания...
Моряки согласились. Первый пункт был вычеркнут из решения. Однако после ухода Венциуса официально закрытое собрание продолжилось, и абаканцы долго еще обсуждали события прошедшего дня и свою находку.
— Давайте толком рассудим. Двери приварили. А зачем?
— Элементарно: чтобы в отсек не шастали, кому вздумается.
— Вот-вот. А кому может вздуматься? Только водолазам! Так чего просто не сказать: «Товарищи, в отсек пока не спускаться», а? Разве кто ослушается?
— Да ни в жисть! Командир сказал — все! Закон! Мы же моряки...
— Вот именно. А тут безо всяких — приварить! Треба до комиссара...
Венциус оказался легким на помине. Он еще на собрании заметил особую нервозность матросов и сейчас будто бы мимоходом заглянул к ним.
— О чем спор, если не секрет?
Моряки поведали замполиту и попросили объяснить, за что их так обидел командир? Венциус ответил искренне:
— По правде сказать, я еще тоже не знаю, чем вызван этот приказ. И не догадываюсь. И вам не советую ломать свои светлые, горячие, молодые головы. Давайте рассудим. Я задам три вопроса... Только уговор: отвечать как на духу! Идет? Первый. Было когда-нибудь, чтобы наш командир отдавал нелепые приказы?
— Нет! Что вы! Никогда! — посыпались ответы.
— Так. Было когда-нибудь, чтобы командир не уважал вас, не доверял?
— Да что вы! Николы нэ було! Да у нас такой командир — поискать!..
— И последний. Уважаете вы своего командира, верите в него?
— Абсолютно! А как же — и уважаем, и любим!
— Ну вот. А раз так, то должны быть уверены и спокойны: если командир дал такой приказ, значит, имеет на то основания. А какие — это уже, простите, его командирское дело, а не ваше, и даже не мое. Согласны?.. — Венциус добродушно усмехнулся: — Стало быть, нечего и базарить, а надо спокойно ложиться и отдыхать, чтобы завтра еще лучше выполнять его приказы.
Чей этот таинственный «Флинк», оставалось пока неясным. Точно, что это за корабль, знали лишь те, кто сейчас всячески старался оставить это в тайне. Последним звеном цепи были Оскар и Пауль. Но и они не знали всего — по законам «фирмы».
В сосногорском парке садовники спилили старую пихту, дупло которой служило напарникам почтовым ящиком, и Оскару пришлось пройтись мимо дачи — показаться. Пауль варил на веранде утренний кофе.
— Заходите! — позвал он. — Смелее. Пелагея в Балтиморск укатила. Берите чашки, бисквиты, идите в сад. Вам, может, яичницу?..
Смахнув со столика птичий помет, Пауль расстелил газету, сервировал. Разговаривать можно было без опаски, и, как всегда в таких случаях, напарники перешли на английский.
— Как это усложнило дело! И чем дальше, тем будет сложнее, — предрек Оскар, помешивая кофе. С досадой бросил ложечку на стол: — И как это ни Марс, ни «фирма» не предупредили, что сейф приварен! Знать бы, прихватили портативный автогенный резак. Или взрывпатроны.
— Лучше уж лазер! — сыронизировал Пауль.
— Идите вы!.. — озлился Оскар. — Я вправе возмущаться. Это вы, обеспечивающий, можете спокойно лавировать, выжидать. Я же — как на ринге! Только без публики.
— Я не хотел вас обидеть. Вы правы, конечно, вам действительно трудно придется. Но «фирму» и Марса вы напрасно клянете. Я уверен: они сами не знают, что сейф приварен.
— Допустим. Вам от этого легче? Мне нет.
— Мне тоже. Патроны, конечно, мечта. А вот автоген... Автоген я вам добуду. Это моя обязанность.
— А как я смогу работать им? Чтобы отрезать сейф, необходимо минимум двадцать минут совершенно безопасного времени. Его вы мне тоже добудете? Когда? Днем на топляке «Абакан» стоит, ночью пограничники бдят. Выдирать сейф в таких условиях — это вырывать сало из капкана.
— Вы правы. Но не требуйте от меня невозможного, дружище. Снять «Абакан» с работ и отменить погранохрану, согласитесь, — выше моих сил. Так что придется рисковать. Сейчас главное — найти, как отрезать этот проклятый ящик. И мне думается, не вернее ли будет поручить это самим абаканцам? Способ, конечно, старый, но проверенный.
— Подкуп? — Оскар посмотрел на Пауля с ироническим прищуром. — Ну что ж, отправляйте меня за ненадобностью назад, я согласен. Действуйте! Только не просчитайтесь...
— Бросьте, Оскар. Я советуюсь, а вы сразу в амбицию... Надо серьезно взвесить каждый вариант.
— Серьезно? Серьезно, этот безусловно оптимальный вариант имеет одно «но»: если только карась выплюнет крючок — вся операция сразу проваливается! А я уверен: он выплюнет. Ибо советская нынешняя комсомолия — это те же Кошевые и Космодемьянские. Да и как присмотреться к ним, прощупать? Не лезть же на военно-морскую базу!
— Да... А другого варианта у вас нет?
Таковой у Оскара уже наметился: смотритель гидрологических постов. Пауль не знает, что «кремень с партбилетом» уехал, а заменил его отнюдь не кремень. Но стоит ли открывать Паулю эту новость?.. Пост — идеальное укрытие для тайных спусков в воду. А заарканить временного смотрителя Оскар и сам великолепно сумеет.
— Нет, другого, увы, не видится, — с сожалением ответил Оскар. — Придется самому играть ва-банк. Добывайте автогенный резак.
В Балтиморск Сергея отпустили в воскресенье только после обеда и без ночевки. А автобус-то — вот-вот! Сергей помчался и впрыгнул уже на ходу.
...Лида была дома и встретила его тихо, спокойно, молчаливо. Но что-то непонятное, отчуждающее таилось в ней по-прежнему. Сергея это ранило, он ждал доверия, откровенности.
И как это время умеет так растягиваться и сжиматься! Вроде бы только что пришел...
Прощаясь, Лида подошла к Сергею, коснулась ладонями его груди и, не поднимая глаз, тихо попросила:
— Я хочу сказать тебе, Сережа, не надо, не приходи ко мне...
— Но почему, почему?! — горячо выдохнул он.
— Не спрашивай.
— Я мешаю кому-то? Или неприятен тебе?
Она ответила не сразу, еще тише.
— Приятен. Очень. — Тряхнула головой, посмотрела в лицо и уже громко и решительно: — Вот поэтому и не приходи. Прощай...
Вдруг приподнялась на цыпочки и поцеловала — ласково и стыдливо, как школьница. Сразу же отступила и отвернулась. Сергей задохнулся, оторопев. И в каком-то сумбурно-восторженном порыве вылетел из мезонина, дробно простучал ботинками по ступеням лестницы...
Времени наведаться к дяде уже не хватало, и Сергей пошел прямо к автобусу.
— Бонжур, камарад. С праздником! — Только огненно-рыжая шевелюра помогла Сергею узнать в штатском моднике главстаршину Шнейдера.
— Здравствуй, — ответил Сафонов. — С каким это праздником?
— Я знаю? Сияешь, как новенький рубль...
— Сам-то как самовар. А чего пижоном таким? Отслужил уже?
— Ша! — Борис засмеялся, подняв руку. — В увольнение словчил, здесь же — майн либер муттер унд швестер. Вон в том доме.
— Да? А чего же ты ребятам про Херсон травил?
— Пардон, мсье, Борис Шнейдер — сама правда. В милом сердцу Херсоне прозвенела моя розовая юность. А сюда мама с сестренкой недавно переехали, — пояснил Борис. — А вы, сэр, к Лидочке изволили наведываться?
— Да. Ты ее знаешь?
— Ну, не ночую у нее, как некоторые...
Шнейдер не договорил — сокрушительная затрещина отшвырнула его. Если бы он ответил тем же — стычка эта не стала бы столь постыдной. Борис тоже здоровяк, верзила — повыше Сергея. Но в том-то и беда, что Шнейдер рванулся было к Сергею и — сдержался...
На следующий день перед обедом Сергей с мичманом Голодовым, сопровождаемые Юнгой — так абаканцы нарекли пса с «Сирены», — отправились к ремонтникам, из-за которых «Абакан» не вышел нынче на топляк. Шли вдоль причалов. И надо же: возле «Труженика» встретились на стенке именно со Шнейдером! Левую скулу его оттеняла замечательная багрово-синяя припухлость. Голодов весело удивился:
— Ого! Кто это тебя так, главный?
— Если я-таки скажу, что это Маша, — вас устроит?
Добродушная сластена бурая медведица Маша была общей любимицей военной гавани, и Голодов погрозил Шнейдеру:
— Не клепай напраслину на животную! Это ж тебя при погрузке храпцами садануло, я сам видел. А будешь кому еще байки травить — в город больше не поедешь! Понял?
— Так точно, товарищ мичман! Храпцами.
Мичман козырнул и пошел со сконфуженным Сафоновым дальше. «А мичман-то, хотя и строгач, а мужик товарищеский!» — приятно подумалось Сергею.
Обратно он увлек Голодова другой дорогой — подальше от причалов. На этом пути возле штаба мичмана окликнул капитан третьего ранга Тутаринов:
— Голодов! Постой... Я с матросами в Балтиморск еду на склады. Нужны еще два толковых старшины из водолазов. Посоветуй, кого.
— Кого же, Василий Васильевич? Чумарчука с «Капитана Трефелева» возьмите и...
Коля Чуриков давно мечтал о поездке в Балтиморск, и Сергей из-за спины Тутаринова засигналил мичману: указал на свой старшинский полупогон и на «Абакан». Мичман понял:
— ...и Чурикова нашего, по-моему. Вы же сами всех знаете.
— Но не так, как ты. Верно, парни хорошие. Добро.
Однако Чурикову, бедняге, не повезло: отделению его приспел табельный медконтроль и командира не отпустил Чумбадзе. Заменил Чурикова Сафоновым.
Склады, где получали водолазное снаряжение, находились далековато от квартиры Сысоева, но рядом с Лидиным домом. И не утерпев, Сергей на другое же утро, еще до работы, отпросился у Тутаринова «сходить за сигаретами ребятам» — курево действительно кончилось.
Горожане только просыпались. Сергей мчался, мечтая, как сейчас разбудит Лиду и увидит в ее глазах радостное удивление.
Мягко взойдя по лестнице, тихо постучал. Лида не отозвалась. Еще чуть сильнее. Тщетно. Подождал... И хотя из-за двери не слышалось и шороха, тишина в светелке показалась затишьем. Сергей понуро сошел вниз. Выйдя, приостановился: может быть, Лида просто крепко спит?..
Перед цветником под окнами флигеля пролегала песчаная дорожка. И тут на эту дорожку упал дымящийся окурок с золотым ободком-фильтром! Сергей взбросил взгляд, но никого не увидел. Лидино окошко было открыто, но ведь и высокие окна первого этажа тоже распахнуты! Откуда бросили этот окурок?
Возвратясь на склад, Сергей весь день и сам ожесточенно ворочал ящики, бухты шлангов и тросов, и матросов в пот вогнал. Сутки прожил мучительно: сердце скребли черные кошки.
В воскресенье под стать настроению Сергея с утра дождь сменялся солнцем, солнце — туманом. Получив от Тутаринова «законную» увольнительную, Сергей снова поспешил к Лиде.
Она была дома. Одна. В первый миг в ее глазах мелькнуло какое-то замешательство, но только мелькнуло. Хитря, Сергей умалчивал о своем приходе позавчера, ждал: упредит она его вопрос упоминанием «невзначай» о своем дежурстве в ту ночь или отсутствии по другой причине? Однако она ничего не сказала. Он тоже промолчал.
Лида опять была тиха и приветлива. И Сергей почувствовал себя хорошо и уютно. Идти никуда не тянуло, но он все же рыцарски предложил:
— Может, погуляем? Пройдемся по центру, зайдем куда-нибудь...
— Нет-нет! — поспешно отказалась она. — Тебе плохо тут, скучно со мной?
— Что ты! Я подумал — тебе.
— А ты не думай. Давай чаевничать...
Торопливость, с какой Лида захлопотала у стола, подчеркнула ее желание отвлечь Сергея от прогулки. «Неужели стыдится гулять с простым старшиной? Не похоже, она не из таких. Стесняется моего безденежья? Чепуха. Она проста и нетребовательна. Может, опасается встречи с курящим сигареты с золотым ободком?!» Сергею стало очень горько и обидно, но он и виду не подал, «волей укротив свои эмоции», как сказал Ладога.
— А у нас на корабле Юнга появился, — сообщил Сергей, чтобы отвлечься от горьких дум своих, — славный такой...
— Юнга? — удивилась Лида. — Воспитанник? Так они же только в войну разрешались, и то не особенно...
— Да не такой, четвероногий, пес, — улыбаясь, пояснил Сергей. — И такой, знаешь, симпатяга, смышленый...
Так они и чаевничали, ощущая неизъяснимую приятность своего общения. Но в благодушии этом все же была горчинка. Уже уходя, Сергей сказал:
— Утром мы грузимся и уезжаем, а там — в море. Так что когда теперь увидимся...
— Ну зачем ты сказал это! — искренне пожалела она. — Так бы я все время ждала тебя, мне бы легче было... — Откинулась на подушку тахты, зажмурилась и застыла.
На складе тишина. Моряки все отсыпались: машины почему-то не пришли. Не пришли они и утром. Тутаринов чертыхался, звонил в штаб базы, выяснял, требовал... Наконец прикатили после обеда. Тутаринов объявил аврал, ребята навалились, и к ночи машины были уже загружены и затянуты брезентом. Но мест в кабинах всем не хватило, а ехать поверх груза пассажирам не разрешается.
— Ладно, — решил Тутаринов. — Мы трое поедем автобусом. А тебе, Сафонов, за отличную работу разрешаю до утра побыть у дядьки.
— Есть! — обрадовался Сергей — Спасибо!..
И через час уже мягко взбежал по Лидиной лестнице, но постучать не успел — дверь сама распахнулась, и он едва не столкнулся с моряком загранплавания. В растерянности, что ли, тот посторонился, открыв взгляду Сергея разрумянившуюся Лиду.
На миг все опешили. Первой спохватилась Лида:
— Сережка! — фальшиво обрадовалась она и пояснила своему гостю: — Это мой приятель, я тебе говорила... Знакомьтесь...
— Надо бы, да поздно уже, к сожалению. Другим разом! — зло пообещал тот и вышел, хлопнув дверью.
Тихо звучала модная пластинка. На столе, рядом с «валютными» закусками, лежали пачки «Мальборо». В одной из грязных тарелок поблескивал разбитый бокал.
Лида закурила сигарету и развалилась в кресле, закинув ногу на ногу. Вызывающе бросила:
— Ну-с, надо полагать, будут бурные объяснения? Начинайте.
Сергей стоял в тяжелом оцепенении.
Покачивая ногой, Лида продолжила с издевкой и отчаянием:
— Не будут. И так все ясно. Ну и правильно: давайте просто выпьем на прощание. Как-никак, а... Ах да, вы же непьющий! Вы вообще безупречны. Голубой рыцарь печального образа...
Сергей еле сдерживал желание ударить ее.
Лида взорвалась:
— Ну, что молчишь, истукан! Неужели тебе все равно?! Ну накричи, обругай, ударь!.. — Отвернулась и еле слышно добавила: — Может, легче станет.
Сергей вдруг почувствовал щемящую жалость к ней: еще чуть-чуть — и он бросится утешать ее! Чтобы не упасть до такого слабодушия, он стремглав выбежал из комнаты.
...Большие кабинетные часы мягко пробили половину третьего ночи.
— Н-да, в незавидном ты очутился положении, — посочувствовал дядя Шура. Закурил «беломорину», прошелся по кабинету, остановился возле Сергея, поглядел на него и вдруг улыбнулся: — Слушай, а почему, собственно, в незавидном? Давай-ка без панихиды, объективно. Судя по твоему рассказу, встреча ваша оказалась для всех троих полной неожиданностью.
— Абсолютной.
— Так. Значит, ей можно верить, она не сыграна. А встретил ты его в дверях уже выходящим.
— Да.
— И злым. А на столе в комнате узрел незаконченный ужин.
— Точно.
— Тогда вопрос: почему он, вместо того чтобы остаться ночевать, для чего он, разумеется, и пришел, вдруг оборвал застолье и, обозленный, отправился восвояси?
— Не знаю.
— А не потому ли, что Лида дала ему от ворот поворот? У тебя есть другое объяснение?
— Я... я даже не подумал о таком, — растерянно признался Сергей.
— Напрасно. Зачастую бывает очень полезно подумать.
Дядя Шура помахал пустым чайником, поставил его на место. Взял термос, налил из него и подсел с чашками на диван к Сергею:
— Держи... Конечно, Сережа, осудить и оттолкнуть человека — проще всего. А вот вникнуть в суть, понять обстоятельства и оправдать проступок — куда труднее.
Племянник и дядька задумались.
— Ладно, давай-ка поспим, сколько осталось, — прервал молчание дядя Шура, залезая под одеяло. Протянул руку, погасил лампу на тумбочке и уже в темноте сказал: — И все-таки, Сергуня, нельзя жить спокойненьким трусом. Надо рисковать, надо верить в людей и людям! Надо! Иначе не жизнь будет, а слякоть какая-то — гладенькая, но гаденькая. Спокойной ночи.
Родная гавань встретила Сергея солоноватой свежестью солнечного утра. На проходной рядом с большими воротами, сверкающими латунными якорями на створках, главстаршину придержал дежурный офицер:
— Сафонов? Водолаз? Бегом на второй причал! — приказал, крикнув уже вдогонку: — Бортовой ноль-девять!
Стремительные ракетные катера уже нетерпеливо-сердито рычали дизелями, обдавая бетонную стенку сизой вонью соляра. Возле ноль-девятого стоял Тутаринов, подгоняя Сергея резкими жестами: «Давай, скорей!»
— Поспел! Сигай на катер: «Абакан» на работе, тебя забросят на него.
Испросив у головного «добро», ноль-девятый просигналил мателоту и вышел из походного ордера. Взревев двигателями, рванул к «Абакану».
Едва ступив на палубу родного корабля, Сергей увидел Голодова, а рядом с ним — Шнейдера!
— Видим, что прибыл, — добродушно прервал доклад Сергея мичман. — Весь корабль любовался твоим шикарным прибытием: адмирал, да и только!.. Вот, — указал на Шнейдера, — наш новый командир третьего отделения. Вместо Шлунка. Да вы же знакомы давно.
Улыбаясь, херсонец подтвердил:
— Давно. Связаны, так сказать, крепкой и нежной дружбой. Здравствуй, Сергей!
— Здравствуй. С прибытием... — пробормотал Сергей и поспешил доложиться вахтенному офицеру.
Значит, херсонец стал не только сослуживцем, но и соседом по койке в их старшинской каюте. «Только этого и не хватало для полного счастья!» — с усмешкой подумал Сергей.
Так началась их совместная служба.
КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ
Пауль вернулся в Балтиморск злым и раздосадованным. Оскар сделал вид, что не заметил этого.
— Ну-с, как съездилось в столь любимую и памятную вам Белоруссию? Как принял вас Минск?
— Великолепный город, черт бы его побрал. Шикарные магазины, торговля богатая...
— Вы ездили «Гастрономы» ревизовать? Я что-то запамятовал.
— Вроде того получилось... — Пауль хмуро помолчал. — В общем, соорудил я превосходный портативный газорезный аппарат. И что же?..
— Что же?
— Украли! Уже в поезде. Сперли самым наглым образом! Вышел в туалет, вернулся — чемоданчика как не бывало! Это в храме-то коммунизма!
— Действительно. Я просто не представляю, как вы переживете такую медлительность коммунистического воспитания народов СССР!
— Перестаньте паясничать. Нет, Оскар, низшая раса так и останется низшей, сколько ее ни...
— Но-но, коллега! Не забывайте, что я тоже принадлежу к ней. И здесь все же моя родина.
— Что-о? Бросьте, «патриот», не смешите. Ваша родина — в паспорте без подданства и чековой книжке.
— Тоже неплохо: всегда у сердца! Однако — к делу. С аппаратом пока потерпим. Сейчас важнее, чтобы вы экстренно повидались снова с резидентом.
— Почему?
«Да потому, что хотя вы оба и зубры, но я вас оставлю в дураках! Наступило мое время!» — подумал Оскар и ответил с язвинкой:
— Потому, что я не удостоен явки к нему, это ваша привилегия. И еще потому, что этот Марс безусловно располагает немалыми финансами, на которых сидит, как собака на сене. А разве вам не досадно это? Мне досадно...
— Оскар, давайте действительно к делу. Вам, вижу, что-то удалось без меня. Что? Неужели смотритель?
Оскар выглянул из кабинета — не пришла ли Алиса? — вернулся, ответил:
— Нет. Вы же сами убедились: кремень с партбилетом. Сейф возьмет водолаз.
— Вот как? Это великолепно! Просто здорово! Как вам удалось?
— Вам детали важны или результат?
— Вы правы. Каковы его условия?
— Это деловой вопрос. Десять тысяч и загранпаспорт с визой.
— Только-то? Это даже сверхскромно.
— В его глазах это состояние!.. Я тоже считаю эту сумму мизерной. Поэтому мы увеличим ее. А то даже неловко перед Марсом, несолидно.
— Увеличим? Зачем? Я что-то не понимаю...
— Стареете. В успехе нашей операции больше всех заинтересован сам Марс. И если вы втолкуете ему, что я ничего уже сделать не смогу и водолаз — его единственный шанс, он все отдаст. А сколько запросил водолаз, он же не знает!.. Себе я назначаю двадцать тысяч. Сколько вы еще накинете для себя — дело ваше.
— Однако! Да вы просто акула, Оскар! — усмехнулся Пауль.
— Отнюдь. Акула рвет добычу только себе, а я равно забочусь и о своем товарище.
— Очень заботитесь. Пароль-то — у меня! — отыгрался Пауль.
— Впрочем, если вам не важна дотация в какие-то там десятки тысяч, вы вольны отказаться от своей доли.
— Ну, зачем же... Так что́ надо доставить, конкретно?
— Оформленный паспорт без фотографии. Переводную пленку с печатью, чтобы поставить потом на фотографию. Ну, и чеки на предъявителя в швейцарский или другой банк. Все. Вечерний самолет через четыре часа.
Пауль ушел.
Оставшись один, Оскар развалился в кресле посмеиваясь. Никакого водолаза у него на прицеле не было, разумеется. Паспорт требовался ему самому: он намерился разыграть свой вариант эндшпиля. «Итак, первый шах хотя и не объявлен, но сделан. Пауль согласился и выжмет из Федотова требуемое — это он умеет. Стало быть, я должен решительно действовать, чтобы к возвращению Пауля у меня все было готово. А если самому добыть документы и доставить их — перевод в высшую категорию обеспечен: генерал ценит ловких, находчивых и решительных!..»
Подремывая в кресле самолета, Пауль тоже размышлял. «Вырос волчонок, заматерел. И школа сказывается, хватка бульдожья, и умишком бог не обнес... Ну да ничего, не с такими справлялись! Деньги ладно, бери, черт с тобой. А уж паспорт получит из моих рук только сам водолаз! И фотографию его я своими руками наклею и припечатаю. Только так!» — мудро парировал он, не предполагая еще, что Марс тоже сделает ход конем: деньги даст, а паспорт только покажет и придержит у себя, пока ему не предъявят доказательства выполнения задания, то есть документов из сейфа «Флинка».
Все трое стоили один другого.
Сегодня «Абакан» остался на ночь на «точке». Уже близко к закату Юнга пулей вылетел на полубак и, задрав голову, залился озорным лаем.
Описав круг, гидроплан приводнился близ «Абакана». Боцман Трофимыч опустил шлюпку и доставил на борт двоих — высокого ладного капитана первого ранга и бодрого, но совершенно седого мужчину в штатском. Ожидавший гостей у трапа Ладога представился.
— Запорожец Дмитрий Васильевич, — опустив свое звание, попросту назвался офицер. — Здравствуйте, Иван Иванович. Знакомьтесь: наш консультант Тихон Тарасович.
Обменявшись рукопожатиями, Ладога увел гостей в свою каюту.
Недолго поговорив там с хозяином, гости вяло поужинали и тотчас легли спать в отведенной им каюте.
Вскоре жизнь на корабле затихла, и только монотонная молотьба «вспомогачей» в его утробе нарушала тишину.
Перед тем как лечь, Ладога еще раз перечитал допуск консультанта, поморщился и позвонил вахтенному начальнику.
— Гладышев? Это я... Если Голодов еще не спит, пусть придет ко мне. Только, пожалуйста, сходите сами, а то посыльный непременно разбудит.
Не прошло и трех минут — мичман явился.
— Садись, — сказал Ладога. — Извини, что тормошу после отбоя...
— Пустяки, Иван Иванович, я еще и не думал ложиться.
— А вот это напрасно, распорядок надо чтить... Скажи, как на твой проницательный взгляд: этот седой инженер — водолаз?
— Штатский-то? Не похоже. Скорее, лектор какой-нибудь.
— Вот и обмишурился. Водолаз. Только давний уже. И потому необходимо его...
— Подстраховать?
— Особенно! Ты сам пойдешь с ним на грунт. И если там хоть чуть заметишь слабину его — сразу сигналь мне. Сразу!
— Понял. Если что, я стану о фонаре травить. Можно так?
— Давай.
Утром после подъема флага все занялись своими делами по распорядку, а Юнга отправился в обход своих владений. Пес уже совершенно освоился, прижился и радовал моряков своей редкой смышленостью и веселым нравом. Точно знал распорядок дня, отлично понимал все сигналы и команды и, что особенно ценилось, тонко чувствовал, как себя вести в каждой конкретной ситуации. Например, при торжественном подъеме флага и других церемониалах присутствовал обязательно, но — в сторонке, а при обычных построениях команды — мчался и занимал место последнего на левом фланге. По сигналу аврала или учебно-боевой тревоги бежал к себе и сидел, чтобы никому не мешать. Кстати, в людях Юнга разбирался тоже исключительно. Как и везде, на «Абакане» тоже нашлись два-три человека, недолюбливавшие собак. И хотя они не обижали Юнгу — да и попробуй обидь! — пес обходил их, не удостаивая своим вниманием. С остальными же был весело дружен, а Сафонова просто обожал, сразу признав новым хозяином.
Сейчас, обежав корабль, Юнга затрусил на ют, где уже разворачивалась водолазная станция. Там на правах гостеприимного хозяина составил компанию гостю.
Посапывая своей замечательной трубкой, капитан первого ранга посмотрел вниз, нагнулся, погладил пса и продолжал со спокойным интересом наблюдать за подготовкой к спускам. Молчаливый, деликатный, простой, он сразу расположил к себе всех абаканцев, и матросы, даже не зная фамилии, уже нарекли его Запорожцем — за трубку.
Пришел Ладога и изменил порядок работ и спусков. Первой парой на грунт отправились мичман и седой инженер. На топляке Голодов разрезал стежки сварки, какими были прихвачена бронедверь, и спустился с напарником в каютный отсек комсостава «Флинка»...
Ладога сегодня задержался с Запорожцем у поста связи. Водолазы, как обычно, обступили командира, прислушиваясь вместе с ним к репликам работающих под водой, а больше того — ожидая замечаний, вопросов и советов самого командира. Неугомонный Дереза юлил, будто его блохи одолели.
— Ну, что вам покою не дает, Дереза? Говорите, — разрешил Ладога.
— Да вот... Я, конечно, извиняюсь, товарищ капитан третьего ранга, а только интересно... Вы, простите, уроженец каких мест?
— Земляков ищете? — Ладога улыбнулся. — Не знаю точно. Считаюсь — Ленинградской области. Не устраивает?
— Подходит! Вы помните, инженер-майор Сергачев рассказывал о героях Ладоги?.. Так вот: озеро — Ладога, ваша фамилия — тоже. Это как же, случайно или связано?
— Не случайно, товарищ Дереза. Кстати, ваша фамилия тоже, знаете... — Посмеиваясь, Ладога прислушался. На топляке все было спокойно, и он продолжил: — Когда я был вот таким шкетом, на одном из островов на Ладоге в старом монастыре была трудовая колония... «Путевку в жизнь» видели? Ну, вот такая же, только специально для шустряков, любящих бегать: с острова-то запросто не удерешь! Привезли туда однажды такого, не ведающего ни своего имени, ни фамилии, ни родины. А жить не помнящим родства у нас не полагается! Вот и нарекли его Иваном, по батюшке Ивановичем, а по фамилии Ладогой. Так и... Стоп!.. — Ладога снова прислушался: из динамика прозвучало: «Что-то фонарь скисает. Контакты, наверно, электрик не зачистил...»
— Как это так? Очень даже зачистил, проверил, — обиделся электрик, однако Ладога даже взглядом не укорил его, взял у вахтенного микрофон и сказал:
— На грунте! Выходите, ваше время истекло. Подъем.
Инженер попытался что-то возразить, но его перебил голос мичмана:
— Есть, выходим. Выбирайте помалу...
Водолазов подняли, раздели. Гость выглядел, как новобранец, впервые пробежавший кросс в противогазе. Ладога кинул мичману взгляд благодарности.
Отдыхая на палубе в сторонке от работающих, инженер тихо сказал Ладоге:
— Правильно, Иван Иванович, что вы не поспешили. Вскрывать такие сейфики благоразумно, конечно, на суху, а поднимать...
— Минуточку! Извините, Тихон Тарасович, — прервал его Ладога и подозвал: — Сафонов! Идите сюда... Вот, послушайте, как надо отрезать сейф.
— Значит, так, э-э... Простите, как вас зовут?.. Прекрасно, — одобрил консультант, вооружась блокнотом и карандашом. — Значит, так, Сережа, смотрите: сейф, стойка, бимс. Так? Такие сейфики производства шведской фирмы «Эриксон», в чем я уверен, выпускались обычно по заказам. Стало быть, логично предположить, что для флота поставили водонепроницаемые. Нарушить эту герметику под водой очень опасно: истомленные временем документы могут тотчас превратиться в кисель. Понимаете, Сережа, сколь это важно!.. Второе. Стенки двойные, полость заполнена инфузорной землей. Внешний лист на большие сейфы ставился броневой, на малые — типа этого — из тонкого, но прочного листа...
— Вероятно, он уже проржавел или почти, — предположил Сергей.
— Ошибаетесь, мой друг. Лист тонкий, но из отличной нержавеющей стали. Толщина листа таит другую опасность: его очень легко прожечь любым металлоплавящим инструментом...
— Значит, отрезать сейф надо не по кромке, а с запасцем, перерезая стойку и бимс сантиметрах этак в десяти от корпуса, — сообразил Сергей.
— Совершенно верно! — одобрил консультант и указал Ладоге на водолаза: — Очень толковый молодой человек!
— А они у меня все такие, — улыбаясь, заверил Ладога.
Юнгу сегодня будто муха укусила! Он вдруг кинулся к Сергею, стал кусать его скафандр, наскакивать и лаять на одевающих водолаза. Ребята смеялись, а Голодов рассердился:
— Это еще что? Юнга! Место!
Пес отступил, но не ушел в свой закуток, а, стоя в отдалении, смотрел на водолазов, тихо поскуливая и перебирая лапами.
Уже одетый Сафонов стоял на забортном трапике, а с Чуриковым, как обычно, все еще возились.
— Ладно, я пошел, — сказал Сергей мичману, принимая от Изотова электрокислородный резак.
— Давай, не томись. Воздух — водолазу! Третьему отделению — приготовиться! — объявил Голодов и повернулся к Шнейдеру, неожиданно схватившему насморк: — А ты постой на шланг-сигнале Чурикова, погрей штевень на солнышке. Просыхай.
Жарко. Командиру отделения пренебрегать правилами никак не к лицу, но париться в трехболтовке — тоже не радость! Смекалистый херсонец надел легководолазный гидрокостюм, снаряжение — и так поладил и с правилами, и с жарой.
По палубе топляка Сергей пробирался осторожно. Смотрелось ему сегодня плохо: половину переднего иллюминатора закрывало темное стекло. А тут еще воздухошланг, сигнал, кабель-шланг резака, телефон, кабель фонаря...
Вода плотно обжимала ноги, упруго сопротивлялась движению водолаза. Сергей добрался до литой двери отсека, открыл ее. И тут не увидел, а почувствовал чье-то присутствие. Повернулся — заметил шмыгнувшую за угол рыбину. Вошел в коридор, включил фонарь.
— На грунте... Ну, как ты, Сергей? — спросил сверху мичман.
— Нормально. Спускаюсь в каюту.
— Добро. К тебе Николай пошел.
— Зачем? Тут и одному-то делать нечего.
— Приказ командира, — лаконично объяснил Голодов.
Чуриков не попал сразу на топляк — промазал. Подошел, подвсплыл, утвердился на палубе. Направился к надстройке, недовольно бранясь: он не любил бездельных спусков, а дела ему сейчас было только подстраховать Сергея.
Войдя в каюту, Сергей снова ощутил не то чтобы страх, а какую-то душевную неуютность. Но это только на миг. Уже спокойно подошел, обтер, осмотрел сейф, прикинул, как его сподручнее снять. Приладив фонарь, высвободил руку.
— Сафонов, Сафонов! — позвал сверху Сыроежка. — Почему молчите, как себя чувствуете?
— А я, когда тебя не вижу, всегда себя хорошо чувствую, — добродушно сообщил Сергей, вставляя в держатель электрод. — Ток!..
Наверху врубили ток. Шлепнув по носу позеленевшую львиную морду на дверце сейфа, Сергей наметил точку и приблизил к ней электрод, глядя уже сквозь темное стекло. Перед глазами во тьме, обволакиваясь кипящим парным «плафоном», вспыхнула, затрепетала слепящая яркость электродуги...
Стоп! Кто-то потянул Чурикова назад, не пуская его к надстройке. Николай повернулся, посмотрел: сигнал держит. Потянул — не поддается. Зацепился, проклятущий, где-то. На палубе это немудрено: везде всякие железки да механизмы. Николай погреб обратно — отцепиться. И снова остановился, удерживаемый уже воздухошлангом. Вот так штука! И как это шланг и сигнал расползлись в противоположные стороны? Никогда еще такого не бывало! Наверху, наверно, Шнейдер не выбрал слабину, а, наоборот, потравил лишние метры. Николай уже намерился высказать страхующему все, что причиталось, да воздержался. Там сейчас на юте Ладога с гостями: негоже срамить товарища и командира отделения тоже.
— Зацепился. Отвязываюсь от сигнала, — спокойно сообщилнаверх.
Там это никого не встревожило: случай не из редких, неопасный, водолаз опытный — беспокоиться нечего. Вот если бы воздухошланг чем-то придавило, тогда спеши на помощь! Однако осторожный мичман все же велел Пинчуку и Рукавишникову одеваться.
— Сафонов, Сафонов, как слышите меня? Проверка... — забубнил Сыроежка.
Голодов полез в карман за сигаретой — покурить захотелось.
— Сафонов, Сафонов!.. — Сыроежка высунул из рубки веснушчатую физиономию. — Товарищ мичман, связи нет.
— Ну вот, как начальство или еще кто приедет, так у вас всегда что-нибудь!.. Наладь, — приказал Голодов электрику, а сам подошел к Изотову, взял у него трос-сигнал Сафонова. Дернул раз... Безответно. Еще раз — тоже. — Что за черт! И этот, что ли, зацепился? А ну подергай... — вернул трос Изотову. Скомандовал матросам: — Одеть водолазов!
Рукавишников и Пинчук уже влезли ногами в штанины собранных в гармошку скафандров. Матросы взялись за вороты мешков: «И-и р-раз!.. И-и два!..
Изотов тряс и дергал сигнал Сафонова — тщетно. Мичман потянул шланг. Это не рекомендуется, но им тоже можно посигналить. И даже — вытащить водолаза. Мичман дернул — Сергей не отозвался. И тут Изотов рухнул на палубу. Вскочил, стал быстро выбирать трос. Выбрав, испуганно крикнул:
— Мичман! Сигнал обрезан!
— Тревога! Водолазов — к спуску! Живо! Доложить командиру!..
Пинчуку с Рукавишниковым оставалось еще надеть груза, шлемы... А сейчас каждая секунда — на вес жизни! Шнейдер мгновенно натянул на лицо маску, продул систему и прыгнул за борт...
Принявшись за последнее — верхнее — крепление сейфа, Сергей ощутил мертвое молчание телефона. «Пустяки, бывает, сейчас наладят». Сергей сосредоточенно продолжал работать.
Если бы ему и вздумалось оглянуться, он, ослепленный дугой, все равно не увидел бы, что за ним тайком наблюдает какой-то аквалангист в серо-зеленом гидрокостюме.
Яркая дуга потухла. Отрезанный от крепления сейф мягко отделился от переборки и плавно упал к ногам водолаза. Сергей прикрыл глаза, давая им отдых, и тут — резанул удар сзади в левый лок. Боли не почувствовал, в точке удара сделалось мокро, как-то одновременно горячо и холодно, в скафандре хлюпнула вода — и сознание померкло.
Все ближе и громче зазвучало: «бом-м!.. бом-м!..» Зачем, где бьют эти набатные колокола? Да ведь это звоны храма Дмитрия Донского на городском майдане!.. Сергей окончательно очнулся от невозможности вдохнуть побольше воздуху, а при каждом куцем вздохе в боку вспыхивала жгучая боль, в груди клокотали хрипы. Набатный бой колоколов стих. Сергей открыл глаза.
Небольшая светлая комната. В высоком окне голубеет небо, неподалеку виднеется угол старинной крепостной башни. Нет, это не Ростов, там черепичных крыш нет. «Никак меня в Балтиморск прибуксировали? Для чего? Когда?» — спокойно, даже как-то лениво удивился моряк. Его слегка поташнивало, тупо болела голова. Он снова смежил веки.
Дрему прервал приход врачей. Старший из них проверил пульс водолаза, откинув пикейное одеяло, оглядел повязку, стягивающую грудь.
— Туго? Ничего, потерпи. Как общее самочувствие?
Сергей собрался ответить, но увидел перед своим носом грозящий палец.
— Но, но, поговори! Чтобы неделю и шепота твоего никто не слышал! Ясно? Водолаз должен уметь сигналами объясняться.
Сергей слабо улыбнулся и правой рукой чуть дернул халат врача — раз.
— Вот это разговор. Ясно: «Я на грунте, чувствую себя хорошо». Добро, так держать! Лежи, питайся и помалкивай. Рана у тебя серьезная, относись к ней уважительно. Молоко и кодеин, — сказал сестре.
Вскоре цыганочка-медсестра принесла теплого молока, сдобную булочку и таблетку. И, заботливо кормя Сергея, весело защебетала:
— Пейте, пока горячее, это так надо... А какая у вас жена милая! Кодеин — это чтобы не кашлять. Всю ночь просидела внизу. Чихать если захочется — трите переносицу. Вот так... Ее не пускают, а она сидит. Счастливец! Если спина устанет, осторожно перевалитесь на здоровый бок. Но не очень. Сидит и плачет тихонько. Утку нянечка принесет. А красивая!..
Сергей тихо изумился: «Вот так раз! Меня тут, оказывается, успели и женить уже! Ну, дела!»
Ослабший, он даже от такой еды разомлел. И уснул. А когда снова открыл глаза, увидел дядю Шуру и каперанга Запорожца. Сейчас он был в штатском и, разумеется, без трубки. Сергей еле узнал его.
— Эка тебя угораздило! — одобряюще улыбаясь, сказал дядька. — Ладно, главное — жив, а раны лишь украшают солдата. Мы еще повидаемся, Сережа, поговорим, а сейчас слушай и сигналь. Расследование поручено мне. На месте я уж побывал, а Дмитрий Васильевич даже спускался — обстановка нам ясна. Со спасителем твоим тоже беседовали...
Вероятно, на лице Сергея отразилось такое недоумение, что Сысоеву пришлось объяснить:
— По тревоге упредил всех Шнейдер: кинулся в легководолазном, вытащил тебя, раздул свой дыхательный мешок и всплыл с тобой в обнимку. Отличный парень! Но об этом потом...
Запорожец достал из папки блеклый портрет в медной окантовке, показал Сергею. Дядя спросил:
— Этот портрет ты нашел там, в каюте?
Сергей чуть кивнул, больше глазами.
— Так. Тебя ранили, а сейф исчез... Лежи спокойно! Да, исчез. В том-то и дело. Так вот. Была там, в каюте, у тебя борьба, схватка с напавшим?
Сергей слабо покачал головой.
— Значит, нет. Гм... Он был один?
Сергей пожал правым плечом: кто его знает!
— Не знаешь. И не видел его?.. Не видел. А в каком положении ты находился в момент нападения? Стоял?.. Спиной к двери или... Ясно — спиной. Правильно мы поняли? И последнее, Сереженька...
— Никаких последних! — властно пресекла цыганочка, войдя в палату со шприцем. — Вам сколько позволили? Все, все, все! Вы его уже утомили!
Чекисты тепло простились и быстро вышли.
Цыганочка, ловко сделав пациенту укол, тоже ушла. Сергей поплыл в блаженной невесомости и снова уснул, улыбаясь тому, что каждое пробуждение приносит ему какой-то сюрприз.
И верно: когда он проснулся — уже вечером — возле него сидела Лида! Бледная, грустная. «Так вот она какая жена!..»
Ощутив на себе его взгляд, Лида вся подалась к Сергею и — сдержалась. Замерла, ничего не говоря. Сергей тоже смотрел на нее. Странно смотрел: не гневно, не радостно, а как-то... как фотограф-художник на лицо позирующей. Смотрел на ее лицо, и грезилось чье-то другое — призрачное, затуманенное, как давно забытое. Силясь яснее его представить, Сергей закрыл глаза.
Лида осторожно поднялась и неслышно вышла из палаты. Сквозь ресницы Сергей видел это, но не остановил.
Успокаивающее действие укола кончилось, рана опять разболелась, сон не шел. Морщась, Сергей размышлял о происшедшем. Ясно одно: с такой наглостью и риском покушаться на сейф просто так никто бы не стал. Сейф, несомненно, хранит что-то чрезвычайно ценное. Что именно, пока тайна. Но уже ясно: ни один бандит не мог знать, что и м е н н о з д е с ь лежит на дне и м е н н о «Ф л и н к», что на нем есть сейф, а в сейфе, вероятно, что-то чрезвычайно ценное. Не-ет, тут орудовал точно информированный диверсант. Только так!
В госпитале уже давно наступила тишина, вечерние огни повсюду сменились ночными, синими. Снова в палату тихо вошла цыганочка, держа вверх иглой обернутый марлей шприц. Сочувствуя, наморщила носик:
— Болит? Не спится? Бедняжка. Ничего, сейчас отпустит, уснете. Вам теперь главное покой, сон и хорошее настроение. Давайте-ка руку...
— Подождите, сестричка! — шепнул Сергей.
Как это бывает, вроде бы ни с того ни с сего он вдруг вспомнил...
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ — СТОЛЬКО СУДЕБ
Увлеченные своими рассуждениями, чекисты засиделись. Чайник давно опустел. Маятник высоких напольных часов настойчиво напоминал о времени, и каперанг Запорожец спохватился:
— Ого! Что-то мы увлеклись... Извините, Александр Алексеевич. Я-то командированный, могу утром и приспнуть часок лишку, а вам — на службу. Жаль, Рязанова нет. Кстати, куда он исчез?
Сысоев развел руками:
— Не знаю. Он издавна такой: вдруг скроется, как леший в омуте, потом вынырнет, а в руках — золотая рыбка! Да вы не досадуйте, Дмитрий Васильевич, главное — с вами у меня полная синхронность и взаимопонимание. А с Рязановым всегда лады: давно сработались.
— Это прекрасно. Ну-с, бью челом за чай-сахар, я пошел.
— Через весь город в гостиницу, чтобы вскоре же обратно? И не выдумывайте! Я бы предоставил вам свой кабинет, но мое ложе будет вам явно коротко. Поэтому постелю здесь, на тахте, тут вам удобно будет...
Они по-военному быстро расположились на отдых.
Несмотря на усталость, сон не шел к Сысоеву. И откуда у этого проклятого диверсанта такая точная наводка на сейф «Флинка»? Ведь когда тот же Сережа срезал накануне железную шкатулку в шифровальном посту — бандит и не шелохнулся! А тут... Ладно, допустим невозможное, но единственно логичное: разболтал кто-то из военных моряков. Но что они могли разболтать?.. То, что топляком оказался именно «Флинк», знает всего несколько человек. А о сейфе — и того меньше. Так и то сказать: на прямой сговор с диверсантом никто из моряков не пойдет — это исключено! Значит, допустима только случайная болтовня. Так-какой же ей путь пройти надо! Да и вряд ли кто-то решится на диверсию только на основании такой «информации»! Не-ет, эта версия абсолютно неверна. Должна быть другая.
Каперанг Запорожец рассказал об утечке за рубеж морской информации — именно морской! — и о проводимой чекистами работе по установлению источника этой утечки. Предположительно, пока еще только логически, увязал ее с диверсией на «Флинке». Вот это серьезно, это — рабочая гипотеза!
Размышления чекиста прервал телефон. Звонок его показался тревожным, и Александр Алексеевич поспешил взять трубку.
— Квартира капитана Сысоева?.. Говорит дежурный врач госпиталя майор Кузнецов. Извините за поздний звонок, но наш пациент Сафонов...
— Что с ним? Ему хуже?
— Если бы так, я бы звонил не вам, а ведущему хирургу. Чудить начинает. Не спит и отказывается от медикаментов, пока я не позвоню вам и не передам сакраментальную фразу: «Обрати внимание на сходство портрета с моим новым знакомым-медиком». И это, представьте, все.
— Большего и не требуется, — улыбаясь, ответил Сысоев. — Огромное спасибо, доктор! Передайте ему, пожалуйста: «Понял, спасибо, молодец!»
Положив трубку, достал из папки портрет в медной окантовке, всмотрелся... Интересно. Надо же — такая случайность! А впрочем, почему бы ей не быть? И вообще, надо еще выяснить, есть ли действительно сходство...
Сходство оказалось несомненным. Поэтому, специально встретив Лиду на улице, Александр Алексеевич остановил ее совершенно уверенно:
— Простите,-пожалуйста, вы — Лида?
Она остановилась. Вскинув ресницы, посмотрела на незнакомца:
— Да. Но...
Сысоев улыбнулся:
— Припоминаете? Не трудитесь, мы не знакомы.
— Забавно. И что же, хотите познакомиться?
— Не хотел бы — не остановил.
— Вот как! А откуда вы знаете, как меня зовут?
— Охотно расскажу. Только... Может, присядем или куда-нибудь зайдем?..
Лида, чуть покачиваясь и крутя сумочку на длинном ремешке, критически посмотрела на незнакомца, потом указала на низкий парапет, отгораживающий тротуар от палисада:
— Только недолго...
Сысоев вежливо подстелил ей газету. Сели.
— Ну, чего же вы? Говорите.
— Да вот не знаю, с чего начать...
— А вы назовитесь для начала.
— Ах да!.. Сысоев, Александр Алексеевич Сысоев, капитан госбезопасности...
— Вот кто! Можете не продолжать!
Глаза Лиды мгновенно позеленели, лицо стало злым, она пружинисто вскочила на ноги. Сысоев жестом задержал ее:
— Что с вами? Я хочу только спросить...
— А я не хочу! — оборвала она. — Не желаю говорить с вами! Ясно? Все! — Круто повернулась и пошла.
Капитан даже не стал догонять ее, останавливать — видел, что бесполезно. Достал папиросы, закурил: «Н-да-а... Разговора не получилось... Чем-то вы не потрафили, капитан!»
На другой день утром он приехал к ней домой, заранее наметив тактику поведения. Неторопливо поднялся по лестнице, постучал.
Лида работала вечером и сейчас готовилась поехать в госпиталь, узнать, как там Сережа. Без расспросов открыла дверь. Холодно смерила взглядом, неприязненно усмехнулась:
— А вы, однако, назойливы. Впрочем... проходите. Или к вам прикажете?
— Нет, зачем же. К нам я мог просто вызвать, — простодушно ответил чекист, входя в комнату. — Здравствуйте.
Лида не ответила. Небрежно указала ему на стул у стола. Закурила. Бросила:
— Ну, допрашивайте. Вы же за этим пришли. Или за мной? Тогда пошли. Наручники не забыли?
— Зачем вы так?.. — укорил капитан. — Никакого допроса не мыслилось даже, просто хотелось поговорить...
— Разговора тоже не будет! — перебила она. — Допрашивать — ваше право. А мило беседовать с вами у меня ни малейшего желания нет. И не будет! Как и видеть вас. Учтите, кстати, это на будущее.
— Жаль. Очень жаль.
Помолчал, вздохнул и поднялся:
— Ну, что ж, насильно, как говорится, мил не будешь. Извините за беспокойство.
Пошел. Но, уже взявшись за ручку двери, обернулся:
— Можно все же один вопрос, сугубо личный? Почему вы так злы со мной? Ведь мы даже не знакомы.
Лида саркастически усмехнулась:
— Не понимаете? Ну, конечно, где же вам понять!
— Истинно не понимаю. Больше того: просто ошарашен.
— Бросьте. А то станете еще уверять, что ничего обо мне не знаете. Не надо, противно.
— Уверять не стану, но скажу, что это действительно так.
— Ну, знаете!.. — Лида с силой вдавила сигарету в пепельницу. — Как меня зовут, вам известно. Как я выгляжу, известно. Где живу, где работаю и даже в какую смену — все известно! А вот кто я, что я — не известно! Вы что, дурочкой меня считаете? Или сами дурачком прикидываетесь?
Сысоев прикрыл дверь и вернулся. Сказал отрезвляюще:
— Послушайте, Лида. Честного слова я вам не даю только потому, что нечестных у меня нет. Как каждый чекист, я могу чего-то не сказать, на что-то не ответить, о чем-то умолчать, но врать, обманывать — не в моих правилах. К чему я это говорю? Хотите верьте, хотите не верьте, но я действительно не знаю о вас решительно ничего.
Как каждая чуткая и умная женщина, Лида почувствовала, что говорит он искренне, и посмотрела на него уже с оттенком недоверчивого удивления или любопытства. Сысоев же продолжал:
— Я не разглашу служебной тайны, если скажу вам: да, я мог бы узнать не только ваше имя и адрес. У нас есть такие возможности. Но я просто не счел нужным это делать. Зачем? Я шел к вам с открытым забралом, ничуть не таясь, как вы сразу в этом убедились. Ведь на лбу у меня не написано и за язык меня никто не тянул сразу называться... Я шел к вам, не тая за пазухой ни камушка, намереваясь просто спросить... Поэтому мне и в голову не приходило наводить о вас какие-либо справки. И когда вы вдруг превратились в разъяренную тигрицу... Я даже испугался! Честно признаюсь.
Лида прикусила губу, живо представив себе их вчерашнее «знакомство». Злость ее остывала. Она даже оценила: другой бы на его месте — ого! А этот ничего, даже иронизирует над собой. Удивительно.
— Вот этого, Лида, я никак в толк не возьму — за что вы меня так?.. Почему?
Лида примирительно махнула рукой:
— Ладно, не будем об этом. Спрашивайте, что хотели. Отвечу. Вы же не чай пить пришли и не обиды свои выяснять.
— А что, чайку бы и впрямь неплохо, — заметил Сысоев. — Однако и на вопрос уже времени не осталось: мне пора. Может быть, вы согласитесь продолжить наш разговор? Хорошо бы сегодня.
Сысоев мог бы и не спешить сейчас, но — так надо! Надо, чтобы Лида вышла на разговор заранее готовой, а не вдруг согласившейся.
— Сегодня... Часа через два — устроит? У меня тоже дела. Куда мне явиться? — суховато спросила Лида.
— Зачем являться? Вам же сегодня еще на дежурство. Если позволите, я сюда вернусь...
Остановив на улице такси, Сысоев приехал на службу, доложил Рязанову ход дела, дал поручения помощникам. Затем отправился проведать Сергея. Близ госпиталя нагнал Лиду. «Так вот какие у нее дела. Ясно», — весело подумал капитан и сказал шоферу:
— Не останавливайтесь, Виктор, езжайте дальше.
Тот молча проехал мимо подъезда: работал у чекистов давно и ничему уже не удивлялся.
...В назначенное время Сысоев снова поднялся в мезонин. Лида вернулась и — в хорошем настроении. Во всяком случае, встретила без недовольства и даже налила чаю. Села в любимое кресло, держа свою чашку на коленях.
— Ну, так чем вас моя личность заинтересовала? — сразу приступила к делу, давая понять, что чай — это еще не расположенность к беседе.
— Извините, Лида, но, собственно, ваша личность у меня интереса не вызывала. Я хотел немного поговорить о ваших родных...
— У меня нет родных, — перебила она. — Не о ком говорить.
— Этого я не знал. Простите. И давно вы без отца-матери?
— Отца я вообще не видела. А мама умерла, когда мне едва исполнилось шестнадцать.
— И ни сестер, ни братьев, ни родственников?
Лида мотнула головой: нет.
— Плохо. Представляю, каково это, в шестнадцать-то!.. — искренне посочувствовал Сысоев. Помолчал. — А вы не покажете мне фотографии родителей. Может быть, семейная есть.
— Зачем вам?
— Надо, знаете... Да вы не тревожьтесь, ничего неприятного...
— А я и не тревожусь, — опять прервала она.
Поднялась, поставила чашку на письменный столик, порылась в его ящичках. Дала Сысоеву две фотографии. На одной он увидел Лиду-девочку с матерью, на другой — одну мать, совсем еще молодую. И внутренне взволновался, пораженный сходством с женщиной на «подводном» портрете. Чутье чекиста подсказывало ему, что сейчас он выходит на какой-то существенный, если не весьма важный след.
— Красивая женщина. И, знаете, вы очень похожи на нее! А на папу?
— Не знаю. У меня нет его фотографий.
— Ни одной? — удивился Сысоев. — Ну как же это...
— Да вот так! — вскипела Лида. — Будто не знаете! Снова взялись ворошить!
— Не надо, Лида, перестаньте... — Сысоев сказал это тихо и мягко, будто дружескую руку на плечо положил. — Я вовсе не хотел вас огорчать, а тем более ворошить что-то. Повторяю: я действительно ничего не знаю о вашей семье и жизни. И прошу: расскажите мне сами, что произошло, — попросту, откровенно. Не опасайтесь: я вам верю и все пойму правильно. Уверяю вас.
В интонации его было столько убеждающей душевности, что Лида успокоилась. И — неожиданно для самой себя доверчиво — поведала Сысоеву:
— Папа мой был военным моряком, балтийцем. Командовал «малым охотником», затем — торпедными катерами. Это я уже от мамы узнала, когда подросла... Война началась — меня еще и не ожидалось. Папа воевал. Был ранен. После госпиталя получил отпуск, побыл дома... И снова в море... И погиб! «Пропал без вести» — сообщили. А вскоре я родилась. Маме было очень тяжело. Как всем вдовам... Но нас все жалели и уважали, нам помогали. Везде. Все. И вдруг...
Лида отвернулась, замолчала, волнуясь.
— Оказалось, что папа жив и нашелся? — догадался Сысоев.
— Оказалось, — горько подтвердила Лида. — Да еще как!.. Вдруг к нам пришли с обыском, забрали все папины бумаги, снимки, письма... Маму стали часто вызывать, допрашивать... Сняли пенсию, какую мне назначили, за папу. Все от нас отвернулись. Мама не выдержала и уехала со мной в Залив. Ни к кому, просто — лишь бы уехать в какую-нибудь глушь. Но там нам еще хуже стало. Потому, что приехали туда уже «жена и дочь изменника и предателя»! Там через год мама умерла — от горя и стыда. Она очень любила папу.
— Вот оно как... Да-а... Скверно, очень скверно... Пережить такое!.. А как это узналось?
Лида почувствовала в голосе чекиста самое искреннее огорчение и сочувствие, пояснила:
— Очень просто. Объявился офицер с папиного корабля, уцелевший. Он долго был в плену, потом, кажется, в лагере у американцев... Точно не знаю. В общем, вернулся он и доказал, что папа вовсе не погиб, а предал команду и ушел к врагу, изменив Родине и присяге.
— Предал и ушел, — хмуро повторил Сысоев. — Страшная вещь. А кто этот офицер, как его звали?
— Звали... Забыла! А мама часто, очень часто называла его, я думала — на всю жизнь запомню! Нет, забыла.
— Постарайтесь вспомнить.
— Вам-то он зачем?.. Постойте, постойте... Вспомнила: не то Филиппов, не то Филимонов.
— Филиппов или Филимонов, — снова повторил Сысоев. — Впрочем, не все ли равно? А как, Лида, вы сюда, в Балтиморск, попали?
Лида чуть смущенно помешкала. Чиркнула спичкой, прикурила:
— Просто приехала — и все.
— Просто так? Не имея здесь никаких знакомых? Ну, хотя бы среди моряков?
Памятуя рассказ Сергея, Сысоев неспроста спросил о моряке. И не промахнулся — Лида вспыхнула и вызывающе ответила:
— Ну, допустим, имела. И что с того?
— Ровно ничего. Странным было бы обратное. Просто интересно: кто он, кем приходится вам?
— Кем? Любовником, сожителем.
— Зачем вы так... грубо, цинично!
Лида махнула рукой и замолчала. Прошлась по комнате, нервно сжимая пальцы до хруста суставов. И вдруг поведала:
— Когда мама умерла, мне совсем невмоготу стало. Одна, ни кола ни двора... Школу кончать — жить не на что. Работать в Заливе негде, да и что я умею!.. В техникум сунулась — не прошла. И тут встретился этот романтик моря с поэтической фамилией Зорин. Он в какую-то командировку приезжал. Заворожил, очаровал и предложил ехать с ним в Балтиморск, там пожениться. Как же, офицер, рыцарь, муж, друг! Устроит учиться, покой, счастье подарит. Много ль мне надо-то!.. Подарил! Едва приехали, залебезил: лет тебе еще мало, нас не поженят — называйся пока сестрой. Затем оказывается — пропойца он. Терплю, куда денешься. Ни о какой учебе, покое, заботе и речи уже нет. Молчу. Наконец еще сюрприз: он женат давно! Что тут делать? А он уже сам решил: взял и выгнал меня. Как кошку, среди ночи. Только кошка хоть в шубе, а на мне одно платьишко...
— И вы это так оставили?
— А кому что скажешь? Кто я ему? Сожительница! Сотни раз уже плевок этот утирала, хватит!.. Подобрала меня в ту ночь одна девчушка фабричная. Привела к себе вот в эту голубятню, пригрела, утешила, оставила... Вот уж душа-человек оказалась моя Катюша!
— Ну вот, а говорили!.. — поймал Лиду на слове Сысоев. — Нашлась же: и помогла, и поняла, и посочувствовала.
— Так почему поняла-то? Потому что сама пережила такое! Вот и посочувствовала. Прописала у себя, устроила в фабричные ясли санитаркой. А там я уже сама на вечерние курсы медсестер поступила. Теперь вот в медтехникум заочно... И все спасибо Катюше.
— Вы и поныне вместе?
— Нет. Встретила она хорошего парня, вышла замуж. Ох и наревелась я, провожая!
— Ну еще бы. С таким другом расстаться — это не с Зориным. Кстати, Лида, на каком он флоте сейчас?
— А черт его знает. По-моему, его уже отовсюду повыгоняли, пропойцу. Не знаю, не интересовалась.
— Знавал я одного офицера Зорина... У вас не осталось его фотографии?
Лида покосилась на полку с книгами и поморщилась:
— Нет. Валялась одна карточка, да я порвала ее недавно.
— Ну и ладно... — Сысоев посмотрел на часы, спохватился: — Батюшки, время-то!.. Бегу! — Энергично поднялся: — Извините, Лида, за этот трудный для вас разговор и... И давайте считать, что его не было?
— Давайте, — с приязнью согласилась Лида.
— До свидания, — Сысоев намеренно протянул ей руку.
Лида посмотрела на него, понимающе улыбнулась и положила на его открытую ладонь свою.
На пороге Сысоев приостановился, оглянулся:
— Вы хороший человек, Лида, умница. И давайте так: если вам понадобится любой совет, помощь или что еще — без всяких сомнений обращайтесь прямо ко мне. Фамилию не забыли?
— Помню, Александр Алексеевич. Спасибо.
У «СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ»
Начальник отдела милиции припортового района подполковник Хумин был ветераном своего дела. Еще сержантом-бронебойщиком попал он в балтиморский госпиталь. Направленный по выздоровлению в милицию, так и остался в Балтиморске.
Однажды он уже встречался с капитаном. И сейчас, благодаря цепкой памяти, сразу узнал его:
— Милости просим, товарищ Сысоев, рад видеть во здравии! Чем могу служить? К нам ведь редко кто просто так припожалует, стало быть, вопросик какой-то имеется.
— Иначе чего же мешать людям работать?.. Меня интересует прописанный в вашем районе бывший морской офицер Константин...
— Зорин, — сразу подхватил Хумин. — Обретается такой, как же! И даже к нам наведывается. Правда, не всегда доброхотно, но захаживает. Сейчас мы его вам точно нарисуем... Соколов, зайди, пожалуйста, — сказал Хумин в микрофон пульта связи.
Почти тут же в кабинет начальника вошел рослый молодой человек в модном костюме с университетским ромбиком на лацкане. «Вот как времена меняются! Лет двадцать-тридцать тому человек с высшим юридическим образованием был в милиции — ого! Сразу в большие начальники выдвигался. А нынче — обычное явление», — с удовольствием отметил капитан, посмотрев на вошедшего.
— Вот товарищ из Комитета интересуется Зориным. Выдай, Вячеслав Иванович, объективную характеристику.
— Нет ничего проще, — ответил тот и «выдал»: — Зорин как офицер уволен в запас за пьянство. Поступил в рыболовный флот — уволен за пьянство. Устроился к речникам — уволен за пьянство. Поступил матросом на баржу портофлота — списан за пьянство. Ошивался в разных береговых службах, нигде тоже не задержался. Имевшуюся комнату, хотя и прописан в ней, фактически пропил, уступив квартирантам, сам обитает у собутыльников...
— В этом я уже убедился, — заметил Сысоев.
— Ну, что еще... Имеет широкие знакомства среди моряков и береговых работников порта. Перебивается поденными заработками... Уличался и подозревается в мелких нарушениях.
— Простите, что вы под этим подразумеваете?
— Именно мелкие. На какую-нибудь серьезную кражу или аферу он не пойдет. А на мелочевку польстится: подсобить спекулянту, обтяпать какое-нибудь левое дельце... Прямых улик сейчас нет, но подозрения имеются.
— Например.
— Ну, вот недавно. Пропил он с дружками довольно крупные для него деньги, а ни в каких кражах замешан не был и честных заработков не имел. Он постоянно халтурит: то машину в магазине разгрузить, то старые ящики на складе разломать, то еще что... Но там заработки — на бутылку, а тут посолиднее.
— Любопытно. А когда это было, поточнее? С кем он до этого...
— Понял. Видите ли, специально мы этим не занимались: дел у нас и без того хватает, так что... Но если нужно — поработаем, установим.
Где-то к обеду Сысоев заехал в госпиталь.
Открыв дверь, увидел в палате Лиду. В белом по фигуре халате и косынке она была тоже мила. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!» — весело подумал Сысоев, подавая ей знак молчать: сейчас он не хотел открывать Сергею их знакомство. Лида поняла.
— Разрешите?..
— Да, пожалуйста. Сергей, к вам пришли, — ответила Лида и вышла из палаты.
Сысоев приблизился к племяннику:
— Здравствуй, страдалец. Ну, как дышится?
— Спасибо, дядя Шура, дышу, — шепнул Сергей.
— Молодец. И врач тобой доволен... Ах, черт! Забыл шоферу сказать!.. — спохватился Сысоев и выскочил из палаты.
Нагнал на лестнице Лиду, сказал, чтобы она подождала его. Вернулся к Сергею.
— Сам догадался, ждет. Это тебе дары солнечного Кавказа, — положил на тумбочку апельсины. — Извини, Сереженька, я лишь на минутку заскочил и по делу. Тебе знакома эта физиономия?
Сергей посмотрел на фотографию: лицо «рыбного» моряка было уже изрядно потрепанным, но несомненно знакомым.
— Да, дядя Шура. Это тот самый, портрет которого я у Лиды видел. Только там он — офицером.
— Лида тут ни при чем, — отводя от нее удар, сказал дядька. — Это приятель подруги, у которой Лида поселилась. Подружка уехала, а снимок завалялся. Значит, точно? Тот самый. Добро. Я помчался, Сережа, дел много...
Дел и впрямь хватало. Поэтому, посадив Лиду в служебную «Волгу», Сысоев сразу повел беседу.
— Это очень удачно, что я вас тут встретил. Кстати, Лида, о Зорине я сказал Сергею, что это приятель вашей Катюши...
Лида посмотрела на чекиста и благодарно кивнула.
— Это так, к слову. А главное вот что. Мне нужен Зорин. Дома он не живет. Вы, вероятно, помните его излюбленные кабаки. Помогите, пожалуйста, найти его.
— Боже мой, допился! Докатился до...
— Нет еще. Он просто знает человека, который нас интересует, — пояснил чекист. — Только и всего. Поможете, Лида?
Она озабоченно молчала.
— А при чем тут Сер... Сафонов? — осторожно поинтересовалась она.
— Сережа? — Сысоев рассмеялся. — Понимаю: вы увязываете это с моим приездом в госпиталь. Так ведь Сережа мой племянник, почти сын.
— Вот как?! — обрадовалась Лида. — Ну конечно же, помогу. Только это вечером надо, попозже.
В их чекистском тандеме Сысоев, хотя и старший по годам, был подвижным и неутомимым, любил живую оперативную работу, а рано начавший полнеть Рязанов предпочитал «штабную». Вероятно, даже наоборот — поэтому он и начал полнеть. Но не в том суть. Главное то, что они отлично дополняли один другого и работали споро, ладно и дружно.
И сейчас Рязанов сидел за ворохом бумаг, папок, карт и альбомов. Посмотрел на вошедшего, снял очки и, щурясь, спросил:
— Набегался? С толком?
— Кое-что принес. Между прочим, Петрович, я еще занялся и Зориным. Ну, тем — бывшим офицером флота...
— А-а, — вспомнил Рязанов. — А какие, собственно, тому причины?
— Да прямых вроде бы и не было. Так, по наитию.
— Не имела баба хлопот!.. Впрочем, интуиция — суть не осознанная еще проницательность, подсказанная логическим анализом обстоятельств и предшествующим опытом... Ну, так что же этот Зорин?
— Сам по себе уже подонок. Типичный алкаш. Но что любопытно: последние и крупные деньги появились у него невесть откуда точненько в день подводного грабежа, вечером.
Майор кисло поморщился, потирая пальцами пухлую щеку.
— Водолазным делом он никогда не занимался?
Сысоев посмотрел на патрона огорченно:
— Напрямую тянешь? Ай-яй-яй. Нет-с, не занимался. И аквалангом тоже. И не может уже — спился. И с водолазами не знаком, и со спортсменами. А денежки все же заполучил именно в тот вечер. Как это тебе нравится?
— Чему ж тут нравиться? Вот что меня всегда умиляет, так это твое феноменальное умение в самый неподходящий момент принести какую-нибудь пакость! Вот, извольте: Зорин. Времени ни копейки, работы невпроворот, вероятность причастия мизерная, а прокрутить все же необходимо. Вот и крути сам!..
— И прокручу — с божьей, а лучше — с твоей помощью.
Рязанов извлек из распечатанного пакета две тонкие папки:
— Вот, пришли затребованные нами материалы. На, почитай свежие показания Федотова, а я само «Дело» посмотрю. Потом поменяемся.
Майор раскрыл «Дело по обвинению капитана III ранга Рындина», Сысоев — «Повторные показания Н. Н. Федотова», и оба углубились в уже далекое прошлое.
Названный Лидой не то Филиппов, не то Филимонов на деле оказался Федотовым. Учитывая распространенность этих фамилий, можно представить, каких трудов стоило чекистам одно это установление! А ведь нужно было не только установить, но еще и найти его! И это лишь малая толика всей работы чекистов.
Повторные показания Федотова дублировали прежние, подшитые к делу Рындина. А из дела вырисовывалась такая картина...
Командир корабля Рындин, выйдя в море с секретным заданием, тайно вызвал по радио на рандеву корабли врага. Встретясь с субмаринами Деница, принял на борт переодетых в советскую форму гитлеровцев, собрал «для важного сообщения» в салон свой экипаж и там запер его. А пока гитлеровцы разделывались с палубной и машинной вахтами, отбыл сам на подошедший миноносец «Мюнхен», который и завершил пленение советского корабля.
Далее Федотов по-военному кратко, без «лирики» описывал, как ему с тремя матросами удалось бежать, когда «Мюнхен» проходил близ берега. На суше беглецы тут же нарвались на гитлеровцев и были вынуждены разделиться. Какая участь постигла двух других смельчаков — Федотов не знал. Сам же он с матросом Кирилловым был схвачен и помещен в шталаг[90], где назвался тоже матросом. Вскоре бежал. И опять был схвачен. На этот раз его, как особо непокорного, отправили в глубокий тыл в специальный лагерь — каторжный. Но Федотову повезло: он дожил до освобождения. Их лагерь захватили американцы и тотчас перевели узников на «санаторный режим»: помыли, переодели и стали усиленно питать тушенкой и агитацией не возвращаться на родину. Русские и французы оказались особенно неподдающимися. Первому же представителю советского командования Федотов вручил рапорт о предательстве Рындина, а затем сплотил соотечественников в лагере и возглавил борьбу за немедленную передачу их советскому командованию...
По рапорту Федотова было сразу назначено расследование. Тем более что сигнал к тому, неведомый Федотову, уже имелся.
В период наступления наших войск и освобождения Прибалтики в дюнах на побережье были найдены останки многих наших солдат и моряков. И среди них — трупы двух матросов, погибших в неравном бою. Возле них заметили воткнутый в песок кинжал, обмотанный зачем-то носовым платком. Посеревшую тряпицу догадались размотать и на изнанке обнаружили следы какой-то записи. Криминалистам удалось восстановить текст:
«Братья! Наш командир Рындин — предатель и сволочь! Мы четверо сбежали. Ст. л-т Федотов и Кириллов, кажется, проскочили. Они все расскажут. Нас фрицы прижали к морю. Конец! Отомстите за нас фашистам и предателю! Прощайте!»
Записка безымянная, Рындиных разных много, никакие Федотов с Кирилловым так и не объявились и ничего не рассказали... Рапорт Федотова дал возможность вернуться к этому делу. Сразу определился Рындин, действительно исчезнувший со всем экипажем.
При стремительном наступлении войск Баграмяна комендатура шталага драпанула столь резво, что не успела даже уничтожить канцелярию. В ней сохранились и учетные карты «матроса» Федотова и матроса Кириллова. С немецкой аккуратностью в них были внесены пометы: на первой — «бежал» и дата, а на второй — «умер от сердечной недостаточности». Что это означало — каждому ясно.
Кое-какие сведения о Рындине нашлись и в захваченных нами штабах ОКМ[91] и абвера. А тут еще сложным путем дошло до командования письмо-сообщение о трагической судьбе остальных членов команды Рындина. Всех моряков гитлеровцы заточили в подземелье завода «ФАУ-2», который потом и затопили вместе с узниками.
Таким образом, когда бывших военнопленных американцы передали наконец советской администрации и Федотов вернулся, его осталось только допросить как участника этого ужасного эпизода войны.
...Рязанов сидел, прикрыв глаза, как бы придавленный невыносимой тяжестью совершенного преступления. Из задумчивости его вывел голос Сысоева:
— Расхождений в показаниях Федотова нет. Ты что это, Петрович?
— Представил, как это происходило.
— Ужас. Все эти документы надо сто раз перечитать, представить, прочувствовать, а тогда уж исследовать.
— Вот именно. Давай так и сделаем.
— А время?..
— А мы сверхурочно, — мрачно пошутил майор.
Цыганочка, как обычно, стремительно влетела в палату и потрясла над головой письмом:
— Пляшите! А то не дам. — Засмеялась, положила письмо Сергею на грудь и устремилась обратно. Но в дверях спохватилась, оглянулась: — Да! Ваше прошение о помиловании отклонено, в общую палату вас не переведут. Там разговоры, сквозняки, хохот... А вам смеяться нельзя. Так что лежите, помалкивайте и наслаждайтесь письмами своих поклонниц. — У-ух, коварный обольститель!.. — И умчалась.
Сергей правой — подвижной — рукой взял письмо, посмотрел на конверт — и стало тепло. Зубами оторвал кромку, вытряхнул из конверта листки...
Дорогой мой мальчик! Целую и обнимаю тебя, родной, и все думаю-гадаю, как-то ты там?..
И что же натворил-то, милый! Как теперь быть — просто ума не приложу! Главный твой командир с комиссаром прислали газеты, где про вас написано и карточки напечатаны. И письмо приписали: «Спасибо, уважаемая Мария Алексеевна, за то, что воспитали такого сына...» Хорошее письмо, лестное материнскому сердцу, да только напрасное: разве же я воспитывала тебя, чтобы ты в пучину лазал и там смерть лютую ворошил? Да мне и подумать такое — жуть берет!..
Сергей улыбнулся, припомнив, что было, когда он пацаном еще приволок домой с бывшей переправы боевой патрон зенитной скорострелки. Мама остается мамой!..
Дальше она писала, что письмо командования пришло и в горком комсомола... И еще новость: в райжилуправлении подошла их очередь на переселение в новую квартиру.
...Соседи все радуются, а я плачу. Подумать только — каково бросить эту нашу квартирку, где каждая половица, рама, дверь, полочка — все-все сделано руками нашего любимого незабвенного Сергея Тимофеевича? Для моего сердца это вроде как измена, будто я светлую память о милом муже и твоем отце вымениваю на какую-то теплоцентраль, балкон и лифт. Как-то гадко это, Сереженька...
Сергей отложил письмо, задумался. Как права мама, как чисто и мудро сердце этой обыкновенной скромной женщины!
...В общем, ты теперь глава семьи нашей, тебе жить — ты и решай. Как скажешь, так я и сделаю. Жду, Сереженька, твоего письма. А пока обнимаю, целую тебя, родной мой.
Любящая тебя мама
«Да, надо сегодня же написать, как я люблю тебя, как постоянно думаю о тебе, какая ты у меня прелесть! И как замечательно, что память о папе для тебя свята и во сто крат важнее и ценнее всяких комфортов...»
Сергей поднял взгляд и просиял: в дверную щель просунули головы Чуриков, Шнейдер и Венциус...
— Заходи, — поманил рукой и указал на кресло Рязанов.
Сысоев подошел, сел, положил на край стола «Дело по обвинению...». Закончив телефонный разговор, Рязанов вопрошающе посмотрел на помощника. Сысоев хмуро вздохнул:
— Преступление страшное, Петрович. Однако должен сказать...
— Тут не преступление, — поправил Рязанов, — тут, скорее, торопливость, что ли. Или недоработка.
— Какая торопливость? — не понял Сысоев. — Ты о чем это?
— О деле, разумеется. Вот. — Майор взял подшивку, как бы взвешивая ее на ладони. — Формально все вроде бы сделано: следствием проверен документ обвинения, добыты прямые и косвенные улики, документальные, свидетельские показания... Рындин изобличен и приговорен по заслугам — как будто. Но, — Рязанов поднял указательный палец, — в деле, однако, не усматривается основного, если не главного — м о т и в о в преступления.
— Вот именно! — Сысоев хлопнул ладонью по столу. — Именно это я и хотел сказать! Где причины? Не мог же отличный кадровый заслуженный офицер вдруг стать предателем? Не мог! Чем-то это непременно должно быть вызвано. Чем? Ответа на этот вопрос в деле нет.
— Объяснить, пожалуй, можно. Следствие заочное, суд заочный, на скамье подсудимых пусто — некого просто было спросить. А к тому еще, учти, вскоре после войны само это дело было людям как соль на свежую рану.
— Э-э нет, извини! Никаким, даже самым прекрасным народным настроениям юристы поддаваться не имеют права. Их бог — истина! А тут взяты на веру даже просто сомнительные факты.
— Например?
— Например, кинжал с платком-запиской. Написать ее после своей гибели моряки, надо полагать, не могли. Значит, когда их убили, кинжал уже был воткнут. А платок был еще белым, заметным, привлекающим внимание. В этом и был смысл: быть замеченным! Гитлеровцы, конечно, подходили к погибшим. Хотя бы просто, из любопытства, посмотреть, кого же они убили? Логично? И что же? Посмотрели и ушли, не заметив такого сигнала? Сомнительно.
— Да-а, — согласился Рязанов, потирая щеку. Сконфуженно признался: — А знаешь, Алексеич, ведь я, признаться, как-то проглядел это. Действительно, ерунда какая-то! Зато я подметил некоторые другие детали... Короче говоря, следствие небезупречно.
— Значит, мы должны завершить его теперь.
— Теперь мы должны форсировать наше прямое дело. Но прежде следовало бы, наверное, пообедать.
— Давайте, — скомандовал Пауль, расстилая, как обычно, на столике газету.
Напарники сели, выпили по рюмке, принялись за еду. Под птичий гомон в саду елось особенно аппетитно, и Оскар заметил:
— Все же ловко мы углядели эту дачку. Райские кущи!
— Аркадия, — мрачно согласился Пауль. Не выдержав, бросил в тарелку куриную ногу: — Поражаюсь вашей беспечности! Так накалить обстановку — и еще умиляться каким-то птичкам-дачкам!..
— И это вместо оценки и восхищения тем, как я нашел выход из безвыходной уже, казалось, ситуации! Ну, спасибо!
— Вскрыть отсек и отрезать этот проклятый ящик руками самих его хранителей — это, конечно, верх наглости и отваги. Тут, пожалуй, сам Скорцени стушевался бы! Но при всем этом еще вспарывать, как икряную белугу, самого водолаза!..
— Ну, конечно! — зло перебил Оскар. — Достаточно было попросить: «Сэр, подарите мне эту безделушку!», как водолаз тут же преподнесет мне сейф сам!
— Ну хорошо, хорошо, — примирительно сказал Пауль, — победителей не судят! Но это — если они выигрывают все дело. Мы же пока выиграли генеральное сражение. Это чрезвычайная удача, конечно, но, согласитесь, еще не победа.
— Стратегический парадокс: для победы нам надо поспешно и успешно покинуть поле боя! — усмехнулся Оскар.
— Вот именно. И нечего усмехаться: бежать надо, — а как побежишь с этим чугунным ядром на ноге?.. Вы сейф надежно упрятали?
— Абсолютно. Старый «венецианский дворец» еще не восстановлен с войны, подвалы почти затоплены — даже мальчишки туда не лазают, боятся! Прямо на канал выходят оконца — в одно я и впихнул ящик. Снаружи, с лодки, в оконце не пролезешь — маленькое, а изнутри... Под оконцем есть неширокая сухая площадка, но, чтобы попасть на нее, надо пересечь затопленный отсек. А в него сунуться — жуть берет! Однако, нащупав бетонную балку, по ней можно пройти.
— Гарантия сомнительная. Где уверенность, что этот проход только вами нащупан?.. Кстати, где этот дворец?
— Это... Да вы не поймете так, надо провести, показать.
«Индюк! Провести... Кого ты провести надумал? Я этот город знаю лучше, чем ты квартиру своей дуры. Твой «дворец» — это бывший банк, что на канале сразу за железным мостом!» — внутренне ухмыльнулся Пауль и небрежно сообщил:
— Яруинами не собираюсь любоваться. Меня интересует: там глухо? Нельзя ли там же вскрыть этот ящик?
— Чем? Крушить сейф кувалдой нельзя, да и весь город сбежится. Тащить его куда-нибудь в лес — тоже полный идиотизм: первый же дружинник прицепится. Автоген нужен, резак! Так вы его...
— Не надо об этом. В годы войны у самого фрегатен-капитана Целлариуса какой-то рижский ширмач часы срезал! Всяко бывает... Можно и другой добыть, да вот беда: подколов водолаза, вы уже раскрылись контрразведке. Глаза, уши и щупальца ее сейчас так напряжены, что даже одно слово где-либо об автогене смертельно опасно для нас.
— Вас, вы хотели сказать, — поправил Оскар. — Обеспечение — ваша функция. Ничего не попишешь, я рисковал — теперь ваш черед.
— Придется, конечно. Только как бы это понадежнее...
Напарники задумались, делая вид, что увлечены едой.
Паулю меньше всего хотелось совать в петлю свою голову, и он соображал, как бы заарканить подходящего посредника по добыче автогена.
Оскар думал о своем. Провала Пауля он сейчас не ждал. Рано! Пока его нужно только отвлечь от главного. Пусть хлопочет, обеспечивает, пока Оскар сам не раскурочит сейф и завладеет документами. А уж тогда...
— Людей нет, — посетовал Пауль. — Ни одного мало-мальски подходящего и надежного человечка! Оскар кивнул:
— Это верно... Ладно, дам я вам нужного человечка. Покажу издали. Это мой лодочник, мужик уже апробированный. И в мастерских, доках, на судоремонтном — везде у него друзей-собутыльников полно. Портовый кран приволокут, не то что автоген!
— Пьяница! — поморщился Пауль. — Ненадежный это народ, боюсь с такими связываться.
— Что вы, Пауль! Алкаши — это же милейшие, золотые для нас люди! Если, конечно, не давать им авансом больше, чем на чекушку.
— Ладно, покажите мне его вечером. Надо ковать... — Пауль неожиданно оборвал речь на полуслове и через мгновение яростно ткнул пальцем в газету-скатерть: — Кто?! Какая стерва устроила эту пакость?!
Оскар прочитал:
Редкая находка
Решив отдохнуть перед зачетом, студентка нашего МТИ Алиса Туманова отправилась с товарищем на взморье. День был прекрасный, молодежь прихватила акваланги. И недалеко от берега ныряльщики нашли на дне... затонувшее судно!
На запрос редакции моряки сообщили, что в лоциях Балтийского моря этот топляк не значится. Стало быть, он является подлинной находкой наших студентов-спортсменов.
Какое бедствие много лет скрывало от людей море? Ответ на этот вопрос, надо полагать, мы скоро узнаем.
— Да-а, ничего себе подарочек! Здорово напакостила, свинья! Хорошо еще что постфактум.
— Кто?!
— Ну кто, кто?! Она, конечно, кисонька Алисанька! Обожает всякий блеск!
— Рвите с нею немедленно!
— И что бы я делал без ваших советов!.. — съязвил Оскар. Глянул на часы: — Сегодня она кончает в три. Поезд в пять. Отлично: она вполне успеет проводить меня по «срочному вызову на киностудию».
Молодого Свентицкого капитан Сысоев величал своей правой рукой. Иногда иронически, чаще всерьез: лейтенант обещал стать скоро хорошим чекистом. «Если только не останется старой девой, помешанной на филателии», — говаривал в шутку Рязанов: страстный коллекционер, Стась мог ради того, чтобы только посмотреть на какую-нибудь «Вирджинию», не пойти на свидание.
Уже темнело, когда Сысоев в черном пиджаке и фуражке, Свентицкий в форменной курточке рыбфлота и Лида Рындина вышли из «главной» в припортовом районе пивной. Долгие поиски их уже утомили.
— Где же он еще может быть?.. — хмуро бросила Лида. — Разве только в «Святой Терезе».
Столь клерикально пьянчуги прозвали гадючник, воздвигнутый предприимчивыми рестораторами в подвале разбитой крупным снарядом кирхи. Возле крыльца уцелел и серого песчаника пьедестал с изваянием святой Терезии.
В дверях чекисты и Лида разминулись с двумя неприметными мужчинами. Спускаясь с крыльца, те остановились, закуривая. Тот, что постарше, негромко сказал товарищу:
— Ладно, попробую. Выбора-то, собственно, нет. Они уже последние медяки выгребают. Подожду немного и вернусь.
Знать бы чекистам, кого они встретили!
Войдя в сумрачный, пропахший пивом и табаком зал, контрразведчики с Лидой потолкались меж столиков, как бы выбирая, где присесть. Стоял пьяный гомон, грохот посуды, собираемой грубой и грязной посудницей, возгласы спорщиков.
— Миленькая святая обитель, — оценил Сысоев. — Не видно?
— Вон он, — горько и брезгливо шепнула Лида, кивнув.
— Сядьте сюда, — усадил ее Свентицкий спиной к Зорину, а сам с капитаном сел напротив.
В компании за столиком в углу пьяно бахвалился мужчина в затасканном морском кителе — лысеющий, обрюзгший, небритый и... не похожий на аккуратного офицера Зорина с фотографии.
«Да-а, без Лиды мы бы его вряд ли опознали. Что водка с человеком сделала!» — подумал Сысоев. Он остро почувствовал, как мучительно и противно сейчас Лиде! И, обменявшись с помощником взглядами, поднялся из-за стола:
— Идемте отсюда, Лида.
НЕЖДАННЫЙ ВИЗИТ. ДОСАДНАЯ ЖЕРТВА
Утром, покуривая у открытого окна, Рязанов с Сысоевым слушали рассказ Свентицкого о вчерашнем наблюдении за Зориным.
— ...И тут из их пьяного пустомола вдруг выскользнула одна любопытная информация: Зорину подфартила «непыльная халтурка», и он весь этот месяц приватно замещает уехавшего в отпуск смотрителя гидрологических постов прибрежной линии.
— Ого! Это более чем любопытно, — оценил Рязанов.
— Если же учесть, что катер смотрителя имеет постоянное разрешение на прибрежное плавание и хорошо известен пограничникам...
— А вот это уже, Стась, пожалуй, не стоит объяснять нам, — с улыбкой прервал Сысоев. — Доложите лучше подробности их разговора.
— Извините, — смутился увлекшийся Свентицкий. — А подробностей не было, Александр Алексеевич. Как раз тут к ним подсел какой-то тип: перекинулся с Зориным тихо двумя-тремя фразами и увел его. Я следом...
— Каков он собой, этот тип? — спросил Рязанов.
— По-моему, мы его уже видели: встретили, когда входили в этот шалман. Помните, Александр Алексеевич? Выше среднего роста, лет уже за пятьдесят, но крепкий такой. Лицо добродушное, простецкое. И одет просто. Неприметная личность.
— Левша? — спросил Сысоев.
— Н-не знаю, не заметил, товарищ капитан.
— Это надо замечать. Дальше.
— Выйдя из парка, они направились к порту. Улицы стали уже пустынны, приблизиться я не мог. А говорили они тихо. Только раз Зорин пьяно воскликнул: «Это можно, сделаем! Надо только...» — и опять забормотал, одернутый этим типом. Поговорив, тип схватил проезжавшее такси и умчался.
— Номер не разглядел?
— Нет. Машину приметил: старая, с помятым крылом и трещиной на лобовом стекле. Но сегодня вчерашние шоферы отдыхают, я справлялся уже.
— Естественно. Где сейчас Зорин?
— Рано утром сообщили — я тут в дежурке остался, — что он в порт прошмыгнул. Я сразу туда. Но он как в воду канул, даже портовые милиционеры не смогли его отыскать.
— Там найдешь!.. Но найти надо. Так что... Ах да, вы же так и не отдохнули еще. Но все равно: возьмите хотя бы Васильева и сейчас же отправляйтесь обратно. Найдите Зорина, передайте наблюдение, а тогда уже...
— Есть! — отчеканил Свентицкий и вышел.
— И впрямь любопытно складывается... Да! Как тебе понравилось выступление «Комсомольца»?
— А что там? Я еще не читал, признаться.
— Напрасно. Весьма интригующие встречаются публикации. Вот, например... — протянул майор газету.
— «Редкая находка»? Ну-ка, ну-ка... — Сысоев быстро прочел заметку. — Интересно. Чертовски интересно! Само собой — не исключено и редкостное совпадение, но...
— Но как бы там ни было, мы выходим на первое конкретное лицо — некую Алису Туманову.
— Вот именно. — Сысоев посмотрел на часы. — Не возражаешь, Петрович, если я сейчас, благо МТИ рядом, схожу познакомлюсь с этой Алисой. Чем черт не шутит, может, она окажется нашей «редкой находкой»?
— Сделай одолжение. И редакцию проведай: откуда они взяли это? А с Зориным я тут разберусь.
В дверях Сысоев столкнулся с помощником дежурного.
— Товарищ майор, тут один мариман похмельный на прием рвется, Зорин какой-то...
— Зорин?! — разом изумились офицеры. — Давайте его сюда.
Через две минуты Зорин уже сидел перед чекистами и, дыша в сторону, исповедовался.
Оказалось, что смотрителю гидрологических постов позарез потребовалось поехать по семейным делам, а отпуска ему не полагалось. Работник он хороший, надо было его уважить. Вот и намекнули: найди себе приватно замещающего и езжай. Он нашел Зорина — бывшего офицера, знающего дело. Оставил ему свой катер, журнал замеров, зарплату и уехал. Деньги Зорин, разумеется, тут же пропил и заскучал: работать-то еще целый месяц надо! Тут вскоре и подвалил ему фарт в образе ученого-ихтиолога из Ленинграда...
— Диссертацию он готовит. Ну, и приехал сюда ракушки да прочую дрянь донную собирать. Ясно, одному, без плавсредств, это несподручно. Он и обратился ко мне. Вежливый такой, интеллигентный, в золотых очках. Показал все документы: удостоверения, отношения, разрешения... «Как, — говорит, — вам угодно? Можно через начальство: вам прикажут — будете меня возить, и все. А можно и без начальства. Так, конечно, проще и быстрее, а мне каждый день дорог. Ну, а за помощь — само собой... Не обижу!» Так и поладили. Я же по документам видел: все равно придется возить его. А так все же приработок. И работенка не пыльная: утром отправлюсь на объезд — заброшу его попутно на пост, а сам...
— На какой именно?
— Да когда как. А чаще всего на семнадцатый. Акваланг он у меня в катере оставлял — рундучок запирается. Высажу его с аквалангом и склянками — он и ныряет там пока не посинеет. А обратно иду — забираю. Или вторым рейсом. Халтурка — дай бог. Плохо только, что денег не давал. Провиант, правда, прихватывал на день по высшей норме, с коньячком даже!.. А уж как набил все склянки улитками да слизняками, так рассчитался сполна, тут уж ничего не скажу.
— Когда это было? — спросил Сысоев. — Расчет я имею в виду.
Зорин потер дрожащими пальцами иссеченный лоб, назвал точно день ранения Сергея.
— На каком посту он тогда работал?
— Да на том же, на семнадцатом.
— А что, собственно, вас к нам привело?
— Привело не это. Другое привело. Зашел я вчера вечером в «Терезу», приятеля искал... — И он точно воспроизвел вчерашний эпизод «делового знакомства», дополнив его весьма интересной для чекистов концовкой.
...Выйдя из «Терезы» с полковником в отставке, как тот назвался, Зорин, обусловив мзду, пообещал устроить ему напрокат автогенный аппарат и направил свои нетвердые шаги к приятелю — переночевать. Открыла ему преждевременно вернувшаяся из командировки жена. И, высказав Зорину все, что она думает о нем, а заодно и о своем муже, захлопнула перед носом дверь. Зорин поплелся к другому приятелю. И, проходя через один из парков, каких в Балтиморске много, снова увидел полковника. Не заметив своего поставщика, тот остановил какого-то запоздалого прохожего, попросив спичек.
По непостижимой логике пьяного Зорин решил остаться незамеченным и вильнул за кустарниковую изгородь, ограждающую главную аллею. И оттуда расслышал в тиши, как полковник, прикуривая, сказал прохожему что-то по-немецки. Тот ответил по-английски. Тогда полковник тоже перешел на английский. Перекинувшись несколькими фразами, они разминулись, при этом полковник снова по-русски громко сказал «благодарю».
— Спьяну я не придал этому значения. Город наш моряцкий, а мариманы любят щегольнуть иностранными фразочками. Но утром, как пошел автоген ему доставать, сообразил: а перед кем им было иностранщиной щеголять ночью-то?.. И засовестился, почуяв неладное.
Зорин посмотрел чекистам в глаза, потупился и признался:
— Я же понимаю, что подонком стал. Сказать только: на днях белье с чердака унес, на похмелку... Но ведь был же я человеком. Был! Офицером! На флоте служил, присягу принимал! Вот, вспомнил, подумал обо всем этом и — пошел к вам.
— И правильно. Такое утаивать — это уже не кража мокрых подштанников, это может посерьезнее оказаться. Так что умиляться вашим решением, Константин Ильич, прямо скажу, мы не станем, а вот ежели поможете разобраться в этой странной ситуации, спасибо скажем. Важно вспомнить, что они говорили. Вы же моряк, должны знать язык.
Зорин уныло покачал головой:
— Забыл почти. Да и говорили они бегло и тихо. Понял только отдельные слова: Марс, Балтиморск... Что-то забавное еще... Сейчас, сейчас...
— Не спешите, подумайте спокойно.
— Да! Венецианский дворец! И еще — ночь. И... Нет, все.
Записывая, Рязанов повторял вслух:
— Так, значит: Марс, Балтиморск, Венециан... — Прервав запись, взглянув на Зорина: — Марс, говорите? Точно?
— Точно. Я спьяну ослышался поначалу и еще удивился: чего это они ночью тайком о Марксе шепчутся? Да еще по-английски? А тут он снова повторил, четко так — Марс.
— Значит, точно. Хорошо...
Рязанов поднялся и, кивнув Сысоеву, вышел. Сысоев продолжил:
— Скажите, Константин Ильич, ученый этот... Как вы его назвали?
— Алексей Алексеевич, — уверенно повторил Зорин.
— Да-да, Алексей Алексеевич этот — левша?
— Н-не помню... — Зорин зажмурился, вспоминая, и удивленно подтвердил: — Да, верно, левша! Вы разве знаете его?
Сысоев не ответил, задав следующий вопрос:
— Ночью полковник с ним встретился и говорил?
Зорин призадумался, пожал плечами:
— Черт его... Может, и с ним. Ростом вроде схож, а так... Темно уже было, да я за кустами, да еще косой... Нет, не скажу этого. Но и отвергать не стану: может, и с ним.
— Понимаю. А вам не показалось... Да, войдите!
Войдя в кабинет, Свентицкий не удивился, застав тут Зорина. Видимо, от дежурного уже узнал, что пропажа нашлась сама. Кивнув помощнику, Сысоев вернулся к вопросу:
— Вам не показалось странным, Константин Ильич, зачем отставнику понадобился автоген?
— Нет. Собственно, я сам ему посоветовал.
— Да? Чем это было вызвано?
— Он поначалу спросил просто: не помогу ли я ему? У него теща умерла. Он заказал где-то железную ограду могилы. Сделали, привезли. Теперь надо ее установить. А чем скрепить? Ну, я посоветовал автогеном сварить, чего проще. Тогда он и попросил достать на денек-два аппарат...
— Ну да, у вас же знакомства кругом. Понятно. А себя он назвал? Адрес, куда аппарат доставить?
— Зовут его Павел Иванович, а фамилии не сказал. И адреса тоже: условились просто встретиться возле порта.
— Ясно. Так вот, Константин Ильич, доставайте ему аппарат, торгуйтесь, встречайтесь — в общем, делайте все так, будто никаких подозрений он у вас не вызвал. Понимаете?
— Чего же тут не понять. А может, все же...
— Нет, нет! От вас сейчас требуется только одно! Тем более что здесь и впрямь может не оказаться ничего особенного. Мы это сами уж... Да, кстати: если заметите где-либо близ себя вот этого товарища или меня, то и виду не подавайте, что мы знакомы. Будет нужно — сами подойдем.
Сысоев подписал Зорину пропуск на выход и, черкнув записку Свентицкому с приказом организовать наблюдение за Зориным, оставил помощника у телефона, а сам пошел проводить посетителя. Внизу в вестибюле нарочно придержал Зорина, прощаясь:
— До свидания, мы, возможно, еще встретимся. — Улыбнулся: — И все же спасибо, что пришли, Константин Ильич. Да, кстати, как вы добирались к нам?
— Обыкновенно: от порта — по трамвайному маршруту.
— Трамваем?
— Пешком. Погода сегодня такая, знаете... располагающая, — смущенно объяснил Зорин — у него просто не было ни гроша.
Во взгляде Сысоева мелькнула обеспокоенность:
— Посидите тут, я сейчас... Машину вызову.
Вернулся на этаж, зашел к Рязанову. Застал того у раскрытого железного шкафа с папками различных справочных материалов.
— Что тебя всполошило, Петр Петрович?
— Да вот, понимаешь, Марс этот... — Рязанов показал тонкую папку. — Порылся — точно: в конце войны органам СМЕРШа[92] стал известен молодой, но классный шпион-диверсант Флейшман. Под кличкой Марс он работал на Канариса, а как Джон — на Аллена Даллеса, который тогда представлял Си-Ай-Си в Швейцарии. После войны этот Марс исчез, как и многие, ему подобные. А птица это зело сволочная и хищная. Вот я и подумал, вспомнив: уж не взлетел ли опять этот стервятник?
— Гм... — Сысоев прикинул в уме. — Нет, Петрович, не похоже. Если он тогда уже был персоной в агентуре, то вряд ли теперь стал исполнителем. Масштаб не тот. Да и физически — возраст!..
— Увы, пожалуй, ты прав, — безрадостно согласился майор. — Вот «Марс» проклятущий! А «венецианский дворец» — вовсе загадка. И при чем тут Балтиморск?..
— С этим еще поломаем головы. Тут вот что всплыло. Зорин, понимаешь, шел к нам пешком и напрямую. А что, если этот левша-ученый следит за ним?
— А он впрямь левша? Это ведь примета. Как ты установил?
— Да по ранению Сергея. Так ударить его, да еще в тесноте каюты, было с руки только левше... Я решил подстраховать Зорина.
— Разумно. И еще: выпиши ему повестку как свидетелю какого-нибудь ерундового происшествия в порту. Документальное оправдание.
Сысоев тут же заполнил бланк повестки и позвонил в свой кабинет — Свентицкому.
— Стась, вы исполнили?
— Никак нет, товарищ капитан: никого нет, все работают. Я звоню вам к дежурному, он говорит...
— Я у начальника. Выходите, встретимся у лестницы.
Когда встретились, дал повестку. Спускаясь в вестибюль, пояснил:
— Отвезите Зорина к порту и по дороге растолкуйте, зачем ему эта повестка. Тем временем я найду и подошлю кого-либо вам на смену... Постойте, а где же он?
Зорина в вестибюле не было. Прижатая пепельницей, на столике лежала записка:
«Спасибо, к машинам я не приучен, так доберусь. До свидания. К. З.»
— Вот артист. Решил, видите, что ему тут любезности расточают! Придется, Стась, вам мотануть сейчас в судоремонтные — он туда отправился, — встретить и подстраховать. Сменщика я вам скоро пришлю. Езжайте. Да вы его нагоните по дороге.
Сысоев вернулся в кабинет Рязанова. Предстояло проанализировать ситуацию.
— Пиши: контактирует ли «полковник» Павел Иванович с «ученым» Алексеем Алексеевичем или заказ на автоген пришелся случайным совпадением? — продиктовал Рязанов.
— А давай это же — по-другому: высветить «полковника» Павла Ивановича. Тогда и контакты его проще определить. Зорин, конечно, выведет нас на него, но время нельзя терять, надо...
— Я уже звонил военкому, попросил срочно выбрать нам всех отставников Павлов Ивановичей. А группе Васильева поручил тотчас процедить их.
— Тогда у нас — полный синхрон, как всегда. Я сейчас...
Работу прервал звонок Свентицкого:
— Товарищ майор, я Зорина и по дороге не нагнал, и тут не нашел. Все обшарил. На воротах его знают, говорят — не проходил...
— Плохо. Машину отпустили? Держите. Сейчас вышлю подмогу. Быстро проверьте все места, где он только может быть, и найдите. Непременно найдите! Результат сообщите.
Только Рязанов «мобилизовал» сотрудников на помощь Стасю, опять задребезжал телефон.
— Товарищ майор?.. Васильев. Полковник в отставке Павел Иванович есть, кстати, единственный. Фамилия Пузенков, живет на Каштановой. Осенью действительно похоронил тещу. Самого дома нет, уехал по ягоды. Все. Какие будут указания?
— Спасибо, Васильев. Постарайтесь деликатно выяснить, где он сегодня ночевал и куда именно уехал. И возвращайтесь. Слышал? — положив трубку, спросил Сысоева.
— Слышал. И все-таки надо показать Зорину этого Пузенкова.
— Непременно. Послушай, пожалуйста, — кивнул майор на взывавший телефон.
Звонил Свентицкий — взволнованный и огорченный.
— Александр Алексеевич, беда! Нашли: в морге лежит. Убит в переулке...
— Ударом ножа сзади в левый бок?
— Точно так. Вам уже сообщили?
— Выясните все возможное, назначьте экспертизу и возвращайтесь, — вместо ответа распорядился Сысоев. Положив трубку, мрачно посмотрел на майора: — Следил все же, мерзавец! На финише этот «ученый» становится все активнее и наглее.
— Ох как мы прошляпили! — пожалел Рязанов. — Давай, Алексеич, духом, найди эту Туманову! А то как бы... Послушай. А я — к начальству.
Докладывать контр-адмиралу о ЧП с Зориным было нелегко. Формально рассуждая, Зорин буквально сам напоролся на нож, самовольно уклонясь от опеки. Но ведь не станешь же этим оправдываться...
Возвратясь к себе после нелегкого разговора, Рязанов созвонился с милицейским начальством и другими учреждениями, согласовал с ними оперативно-организационные вопросы взаимодействия и связи, отдал первоочередные распоряжения своим сотрудникам и стал ждать. Прежде всего — известий от Сысоева.
Хуже нет — ждать, особенно когда надо и хочется действовать. Поглядывая то на телефон, то на часы, Рязанов сидел, снова и снова продумывая все обстоятельства.
Зорин... Каким бы он ни был, он наш гражданин, и его надо было уберечь. Не уберегли. А он был единственным, кто знал в лицо диверсанта и мог бы его опознать. А мы не сообразили первым делом взять у него портрет преступника посредством фоторобота. Это крупнейший и невосполнимый ляп! Зорин также был единственным, кто мог опознать заказчика автогена, назвавшегося полковником Павлом Ивановичем...
Второе — Павел Иванович Пузенков... Он обращался к Зорину или кто-то другой прикрылся его именем? Если он, то для себя заказывал автоген или был подослан «ученым» Алексеем?.. Хорошо бы — подослан: тогда через него есть шанс выйти прямо на «ученого». А если для себя?.. Сейчас очень важно поговорить с Пузенковым — сразу многое определится. Черт его унес по эти ягоды!..
Третье — заметка в «Прибалтийском комсомольце», Туманова... Вряд ли она была главной ныряльщицей. Кто был с нею? Почему репортер его утаил? И что Туманова с ним нашла — «Флинк» или другой топляк?.. Ну, это все Сысоев сейчас разузнает. Что-то он молчит...
Будто угадав нетерпение майора, задребезжал телефон. Рязанов схватил трубку. Звонил Васильев:
— Хорошего мало, товарищ майор. Пузенковы живут в особнячке и одну комнату сдают. Так вот жилица насчет ночи ничего сказать не может, но что в девять вечера видела Пузенкова дома — ручается.
— Понятно, — мрачно оборвал майор. — Спасибо, Васильев, возвращайтесь.
Где же еще этот «ученый»?.. Ну, его не вычислишь, — город слишком велик. Судя по тому, как он активизировался, обнаглел и в то же время стал дьявольски осторожен, он сейчас стремится разыграть блиц-эндшпиль. Это и логично: добыча в руках — мешкать нечего. Его сейф задерживает. Как только он его вскроет, так — фьюйть!..
Слишком много иксов!
БОРЬБА НА ФИНИШЕ. УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Листая газеты последних дней, Сергей наткнулся на заметку «Редкая находка» и лишь усмехнулся, пробежав. Ему и в голову не пришло, что эта Алисина похвальбушка имеет к нему прямое отношение, и уж тем более — окажется существенной для расследования.
А в это время Алиса уже сидела в кабинете Сысоева и, размазывая по лицу слезы, краску и тушь, признавалась даже в том, в чем без ущерба для следствия могла бы и не признаваться...
Не было, нет и не может быть преступления, в каком даже самый умный, изощренный и предусмотрительный преступник не совершил бы хоть малейшей ошибки. С первых же слов Алисы капитану открылась крупная промашка диверсанта: Зорину он тоже назвался Алексеем Алексеевичем, как и Алисе. Стало быть, «режиссер» и «ученый» — одно и то же лицо и Алиса может дать розыску портрет «Алексея»!
Обрадованный Сысоев тотчас провел Алису в проекционную, усадил перед экраном, объяснил суть дела. Лаборант-монтажер включил проекторы фоторобота... Но тут-то дело и застопорилось.
Этот нехитрый аппарат — просто палочка-выручалочка в подобных случаях. Человек может прекрасно помнить нужное лицо, но как он изобразит его, если не умеет рисовать?.. Тут несколько проекторов «выстреливают» на общий экран каждый свою ленту-строчку. Один — всевозможные лысины и шевелюры, другой — лбы и брови, третий — глаза, четвертый — носы, пятый — рты, шестой — подбородки и овалы лица. Свидетель, сидя перед экраном, останавливает нужный кадр: «Стоп! Брови точно эти. Нос... нет, нет... Вот этот! Рот... В результате компонуется зачастую поразительно точный портрет.
Алиса даже этой «чудо-техники» не постигла и лишь изумлялась ей. «Феноменальная дура!» — мысленно обругал ее Сысоев и вернул в свой кабинет. Указал на дверь в смежную комнату:
— Покурите там, я скоро приглашу вас...
«Теперь понятно, почему он не пришил ее, как Зорина: понимал, что проку нам от нее — ноль целых!.. — желчно подумал, сев на диван и закурив. — Да и нужен ему живой свидетель отъезда. Но тут он перегнул. Или нас вислоухими счел. Если бы вздумал действительно — он бы смылся втихую, не устраивая никаких демонстраций отъезда! А он устроил! И этим только подтвердил, что продолжает здесь возню с сейфом. Случайной встречи с нами он не боится. Однако, рыская по городу, вдруг встретится... с той же Алисой! Должен он это предусмотреть? Обязательно!..»
Сысоев взял со стола телефон, набрал номер. Негромко сказал:
— Это я. Слушайте, Стась, прогалопируйте на машине по парикмахерским, где красят. Поспрашивайте, не красился ли высокий симпатичный мужчина средних лет? Да! Где вы пропадали целых полтора часа?
— Искал. Нашел двух девушек и одну немолодую женщину, которых и привез. Привести?
— На черта мне ваши немолодые девушки! — вспылил Сысоев.
— Так они мастерицы, они красили... Мужчин.
— Стась, вы золото, а не помощник. Давайте их в проекционную.
Сысоев взял из «мусорного» ящика в шкафу десятка два фотографий разных мужчин, прошел к Алисе.
— Вот, посмотрите. На лица внимания не обращайте, отберите таких, какие ростом, фигурой, осанкой наиболее похожи на вашего «режиссера». Поняли? Не спешите, время у вас есть.
В проекционной его уже ждали. Познакомясь, Сысоев быстро установил, что молодые парикмахерши бесполезны следствию и, извинившись, велел Стасю развезти их по домам. Последняя же легко освоила фоторобот и быстро скомпоновала даже два портрета своего клиента: до стрижки и покраски и после. Довольный Сысоев попросил лаборанта наскоро сделать пробную карточку «до», а сам тем временем допросил свидетельницу, поблагодарил и отправил домой.
Алиса любовалась отобранными снимками двух мужчин. Один из них спускался с лестницы, другой — шел по пляжу.
— Вот, пожалуйста, — похвалилась она вошедшему Сысоеву. — Если лица закрыть — вылитый Алекс! Рост, фигура, плечи...
— А это лицо не подойдет? — дал ей чекист свежую карточку.
Алиса даже в ладоши хлопнула:
— Он! Железно — он!
— Железно? Вы всмотритесь получше...
— Да точно! Возьмите хотя бы его снимок и сравните сами.
— Охотно бы, да где его взять?
— Да у меня! Я же снимала Алекса.
У Сысоева в глазах помутилось:
— Где?!
— На пляже. Когда ездили...
— Где снимок, я спрашиваю? Карточка, пленка, негатив — где?!
— Не кричите, пожалуйста!
— Извините. Где снимок?
— Дома, конечно, где же еще! В фотоаппарате. Я не знаю, как эту пленку выявляют... как это?..
Алиса тарахтела что-то еще, но Сысоев уже не слушал — вертел диск телефона.
— Вересков, прихватите Юру и ко мне. Быстренько, пожалуйста.
Положил трубку, всмотрелся в Алису, вздохнул, покачивая головой. Через минуту в кабинет вошли Вересков и совсем еще юный фотограф Юра.
— Вот что, добры молодцы. Промчитесь с этой милой девушкой к ней домой, возьмите ее фотоаппарат или кассету и все — обратно. И тут, Юра, пожалуйста, сразу проявите пленку и отпечатайте.
Оставшись один, капитан откинулся на спинку дивана, устало смежил веки: «Неужели опытный вышколенный диверсант позволил снимать себя? Невероятно! Может быть, обстоятельства вынудили? А какие?.. Ладно, нечего гадать, сейчас увидим».
Он ничего не увидел. Когда все вернулись и спустя несколько минут Сысоев сам пришел в лабораторию, Юра показал ему еще мокрую пленку:
— Все кадры — сплошная мазня. Видите?.. Снято при полной диафрагме да еще с секундной экспозицией.
— Я этого и ждал, Юра. Жаль, конечно, но... Вы формулу портрета по роботу получили? Запускайте тираж в печать.
Возвратясь к себе, Сысоев обратился к лейтенанту:
— Спасибо, Вересков, все. Только оформите, пожалуйста, с Юрой изъятие и обработку пленки, на всякий случай.
Повторный допрос Алисы ничего нового не дал. Она рассказала, как проводила «режиссера» на вокзал, простилась у вагона и Алекс отбыл. Все это Сысоев заведомо ясно себе представлял и лишь сейчас оформил протоколом. В заключение спросил:
— Ваш отец когда возвращается с морей?
— Недели через две-три. А что? — насторожилась Алиса.
— Ничего. Когда приедет, скажите ему, чтобы он вас выпорол.
— То есть как это?
— Как следует, ремнем. И побольнее. Это ему мой частный совет. А сейчас отправляйтесь домой и не удивляйтесь, увидев там мужчину и женщину — это наши сотрудники. Они пробудут у вас еще два дня. И если этот ваш «режиссер»... Впрочем, они там все объяснят. Идите. Вас проводят.
Вечером Сысоев, усталый и хмурый, заскочил ненадолго в отдел, где застал Рязанова.
— Пусто? — спросил он вошедшего.
Сысоев кивнул.
— Ничего, теперь, когда весь розыск снабжен его портретом, никуда он не денется.
— Сплюнь, Петрович.
— Тьфу, тьфу!.. А знаешь, я, пожалуй, разгадал этот проклятый дворец. Скажи-ка, чем отличаются именно венецианские?
— А черт их знает. Я, признаться, не силен в архитектуре.
— Я, увы, тоже. Но суть не в архитектуре.
— Тогда... Венецианским вроде бы полагается стоять на самой кромке канала.
— Вот именно! А у нас в городе где такие?
В Балтиморске, расположенном в дельте реки, на набережных было много всяких домов, но ни один из них на дворец не походил. Сысоев пожал плечами.
— А форт Старый, где интендантство и школа милиции? Чем тебе не дворец? И место «режиссеру» самое подходящее.
Наполовину разрушенный тяжелой артиллерией форт по внутреннему двору был теперь перегорожен глухим забором. В уцелевшей половине разместились военные хозяйственники и — временно — школа милиции. Другая половина представляла собой руины, уже поросшие кустами и двухметровыми березками. Тут, конечно, удобно спрятать сейф, но... Сысоев припомнил угрюмую старую фортецию, окруженную рвом, заполненным черной водой, и усомнился:
— Уж больно мрачен. Венецианские дворцы — роскошь, красота, радость. Мрамор, розовый туф, лоджии, сходы...
— А ты был там? По рекламным проспектам судишь. А я уверен — со времен инквизиции там еще не такие казематы сохранились! — заверил Рязанов.
Уверенности, однако, в его голосе не прозвучало.
Не найдя ничего более подходящего, чекисты решили плотно блокировать именно форт Старый. Взяли под наблюдение и некоторые дома на берегах реки и каналов, которые хоть с натяжкой можно было назвать дворцами. Бдительно наблюдали и патрулировали набережные, жестко контролировали все вокзалы, автостанции, аэропорт... Все было продумано, все предусмотрено, все организовано — оставалось только ждать.
Оставив за себя на посту главного руководителя операции Сысоева, майор Рязанов отправился лично проверить оперативную обстановку:
— Машину я тебе оставлю — мало ли что... Воспользуюсь патрульными.
От речной опергруппы до Дома профсоюзов майора подвез на своей «Волге» какой-то моряк. Дальше, как назло, — ни попутных, ни служебных! Майор плюнул и быстро зашагал по окаймленной пустырями и новостройками улице вниз. Дошел до канала, ступил на разводной железный мост — и замер в досаде и радости.
Вот что подсознательно тревожило его все время! Коварная зрительная память упорно подсовывала ему только старинные здания. А он — вот он, вот! — самый что ни на есть «венецианский дворец»! Перед Рязановым темнело контражурно высвеченное луной здание бывшего банка — лишь стилизованное под старинное. Оно тоже было сожжено войной, но коробка действительно венецианского барокко сохранилась! И вся боковая стена его являлась бортом канала! Даже со слипами[93]. И как же это никому в голову не пришло!
Раскинув руки, Рязанов бросился чуть не под колеса выкатившему на набережную грузовику — ночному уборщику. Шофер-армянин, высунувшись из кабины, как бы продолжил яростный визг тормозов:
— Тебе чиво — жить надаела? Да? Ты чито — дурак или самашедший?
— Конечно, дурак! Да еще какой! Извини, пожалуйста. Подвези, будь друг, до ближайшего телефона.
— «Скорую» сибе хочешь визвать? — уже смеясь, спросил шофер. — В-ва! Садись, самашедший!
Не присевших за день Свентицкого и Васильева да двух сержантов милиции — всех, кого по тревоге смог мобилизовать и выслать Сысоев, было маловато. Шофер должен оставаться на «товсь» в машине у радиотелефона и сигнала — так он один и не спасал положения. Но существует все же телепатическая связь: вдруг «прибыли в ваше распоряжение!» еще четыре курсанта! И принесли весточку, что у Старого форта по-прежнему тихо-спокойно.
— Добро. Кто из вас не боится упасть в воду? Все. Молодцы. Тогда все и замаскируйтесь — попарно — вон там, где из воды торчат сваи бывшей фронтовой переправы. И замрите там!..
У Рязанова отлегло, насколько позволяла обстановка.
Вязко, как черная смола, тянулось ночное время. Засада томилась. Часы, казалось, вовсе остановились. Майор по давней дурной привычке хрустел суставами пальцев, гадая, где появится диверсант — здесь или все-таки там, в Старом форте? А вдруг — нигде!..
Дважды все напрягались, изготавливаясь, — и оба раза напрасно: по каналу проплывали обыкновенные рыболовы-любители. В темноте они преодолевали узкость между сваями, не замечая засады курсантов.
Звездная россыпь на небе стала уже бледнеть, когда из-под моста бесшумно выскользнула третья лодка. Сильным гребком направив ее на каменный слип, гребец без стука положил весла на борта и подался сам на корму. Задрав нос, лодка с тихим хрустом взъехала на откос слипа и замерла. Гребец, прихватив пустой мешок, торопливо выпрыгнул из лодки, взошел по слипу и юркнул во тьму полуподвальных катакомб «дворца».
Рязанов толкнул локтем сержанта, тот замкнул проводочки — стоявший в отдалении автомобиль, будто проезжий, подал короткий сигнал: приготовиться!
Свинцово-темное облако наплыло на луну. «Дворец» обволокла густая тьма. В ней чекисты услышали шаркающие осторожные шаги. Так бредет человек с тяжелой ношей. Послышался глухой стук чего-то массивного о дно лодки, шорох ее киля по слипу. Рязанов глянул на небо и спокойно шепнул своим:
— Выдвигаемся к сваям!
Расчет его оказался точным: когда луна снова осветила канал и «дворец», лодка плыла еще у стены здания. Миновав его, она вошла, в узкость между частоколом старых свай. И тут нос ее ловко схватили и подтянули к сваям, а в лодку запрыгнули двое. Гребец попытался опрокинуть лодку, чтобы утопить сейф-улику, но крепкие руки молодых чекистов не зря держали ее борта — уловка не удалась.
Рязанов облегченно и радостно вздохнул: все! Финиш!
— В машину его — с мешком. Дайте, Стась, отбой всем засадам. А вас, Васильев, прошу сразу доставить в отдел Туманову.
Стась взял у шофера ракетницу и с удовольствием вонзил в бледнеющую синеву неба три зеленые ракеты.
Рязанов иронично оглядел Алису. Без косметики она выглядела старше своих лет. Понимая это, Алиса несколько смутилась, однако ненадолго. Более волновала ее непонятная доставка сюда еще затемно. И уж вовсе поразила внешность предъявленного ей «режиссера».
— Что вы из меня дурочку делаете? «Где видели, при каких обстоятельствах?.. Да нигде я его не видела, не знаю и знать не желаю! Тоже мне...
— Спокойнее, — одернул ее Рязанов. — Вы хотите сказать, что ваш «режиссер»...
— Да какой это режиссер?! Сравнили! Алексей Алексеевич моложавый, красивый и сложен как бог, а этот... Да вот ваш же товарищ, — Алиса указала на Сысоева, — сам мне карточку Алекса показывал. Значит, сами прекрасно знаете, что это не он!
— Итак, именно этого человека вы никогда прежде не встречали и сейчас видите впервые? Не спешите, посмотрите внимательно, припомните...
— Что вы меня уговариваете? Нечего мне припоминать, железно говорю — не видела.
— Ну, хорошо. Подождите, пожалуйста, там, — указал на дверь в соседнюю комнату. Арестованному — на другую: — А вы со своим мешком пожалуйте туда.
Сопровождаемый двумя сержантами, тот вышел, волоча добычу.
— Дайте кто-нибудь закурить, что ли, — с виноватой усмешкой попросил Рязанов. — Вот и вернулись мы к нераскрытому эпизоду «Пузенков и ночная встреча». Прав ты оказался, Александр Алексеевич, в своем предположении: вдвоем они, стервецы, работали, вдвоем! Увы, несомненным это стало лишь сейчас. Ох этот Пузенков!.. Блокировка города не снята, Васильев?
— Никак нет, товарищ майор. Только засадам был дан отбой.
— За счет освободившихся людей максимально усильте блокировку и лично все проверьте. Езжайте. Если что — звоните... Все готово? — спросил Свентицкого.
— Сотрудники научно-технического отдела прибыли, ждут. — Стась указал на осветительные приборы, фото-, киноаппаратуру, магнитофоны: — Все готово.
— А понятые? — напомнил Сысоев.
— Да-да! — спохватился Рязанов. — Давайте, Стась, и понятых.
— Так где ж их взять в такую рань, товарищ майор? Одним наш Юра-фотограф может быть, он вольнонаемный, а второго...
— Ну, хоть эту кинозвезду позовите, что ли...
Пауль неохотно вынул из мешка и поставил на отдельный столик сейф с украшением на дверце.
— Дайте свет, — сказал криминалист-эксперт. — Арестованного и вас, граждане понятые, прошу подойти поближе. Итак, перед нами — объект вскрытия. Это небольшой — размеры указаны в протоколе — настенного типа сейф с одной дверцей... — Эксперт дал необходимую характеристику внешнего вида и состояния сейфа и велел техникам: — Приступайте, пожалуйста.
Внутренне волнуясь, все молча, выжидая, следили, как маленький диск электрофрезы с веселым визгом вгрызается в то место, где язык-ригель замка плотно сомкнул дверцу с корпусом сейфа. Мягко стрекотала кинокамера, клацал затвор фотоаппарата. Вот эксперт поддел дверцу отверткой, нажал, пробуя, — и она неожиданно легко поддалась и открылась!
Бумаги в сейфе сохранились неплохо. Их очень бережно извлек уже другой эксперт и разложил на столе майора. Это были ничего теперь не значащие сигнальные таблицы, карты минных полей, некоторые разведывательные ориентировки, корабельные журналы и... Больше ничего!
Все замерли в молчании. Тишину вдруг разорвал злобный стон. Ударяя себя кулаками по вискам, Пауль яростно взвыл:
— Переиграл! Переиграл, подлец, сволочь, дерьмо латышское!..
— Стоп! Итак, вас было двое! — поймал его на слове Рязанов. — Васильев, проводите понятых к себе — пока. Остальные могут покурить. — И Паулю: — Рассказывайте!
Свентицкий включил магнитофон. Взяв себя в руки, Пауль не спеша, осмысливая, стал выкладывать все, что утаивать было уже безрассудно. Но, если бы он даже захотел быть полностью откровенным, то последнего хода на финише все равно не раскрыл бы, ибо большей части и сам не знал...
Нацелив Пауля на знакомство с Зориным, Оскар за полночь пришел в парк на контрольную встречу. Там они согласовали дальнейшие действия, назначили следующую встречу и разошлись.
Только расставшись с Алисой, «режиссер» полностью оценил, какого пристанища он лишился! Ночь провел — хуже бездомной собаки и чуть свет побрел пешком к порту, чтобы там перехватить Зорина. В интересы Оскара вовсе не входило, чтобы Пауль легко, просто и быстро обзавелся автогеном. И Оскар собирался как-нибудь усложнить и притормозить это дело. Как именно — он еще не решил, полагая, что обстановка сама подскажет вариант.
Обстановка подсказала самый неожиданный.
Народу на улице становилось все больше, а ближе к началу рабочего дня трамваи, автобусы и троллейбусы выдавливали из себя уже целые толпы спешащих к проходным порта. Откуда-то появился Зорин. Однако в общем потоке он только приблизился к воротам, где повернул и шмыгнул вдоль забора за угол. А там — со стороны пустыря — раздвинул доски забора и юркнул на территорию порта.
Оскар занял удобную позицию, с которой и тайный лаз, и ворота порта находились в поле зрения, и стал ждать, превозмогая дремоту. Хотелось хорошо позавтракать, принять душ и выспаться на Алисиных пуховиках, но даже помечтать об этом всласть Оскару не пришлось: доски раздвинулись, Зорин вернулся. Неторопливо покуривая, задумчиво посидел на камушке, потом решительно поднялся и направился в город. Оскар — за ним.
Зорин привел Оскара прямо к чекистам! Это и решило его участь.
Позавтракать Оскар так и не успел: дело предстояло куда более срочное и важное. Он не пошел в плавмастерские, доки, авторемонтные и прочие госпредприятия, которые (теперь это несомненно!) уже были взяты под надзор или предупреждены чекистами. Он был хитер, осторожен и изворотлив. И отправился... в большой гаражный городок моряков-автовладельцев.
Тут был тонкий расчет. Моряки наименее контактны и дружны: один в море ушел на полгода, другой — только что вернулся, третий — в отпуск укатил... И в море, и на берегу они всегда люди временные — общаться с ними проще и безопаснее. Во-вторых, привозят отличные автопринадлежности, запчасти, инструменты... И окупить затраты тоже не чураются.
Оскар, зная, что моряки — народ прижимистый, не торгуясь, заплатил за прокат, оставил более чем достаточный залог и без особых хлопот заполучил «до завтра» отличный портативный автогенный аппарат с маленькими, как у газовой туристской плитки, баллончиками. Запихал его в объемистую спортивную сумку, купил по дороге в «Кулинарии» аппетитную, еще горячую жареную курицу и вернулся электричкой в Сосногорск.
Там Оскар подался на пляж, сдал в камеру хранения сумку и костюм и наконец-то отлично выспался на горячем песочке почти в полной безопасности среди тысяч курортников. И убитый Зорин ничуть не тревожил его сна.
День пошел на убыль. Курортники уже отобедали и отдыхали в палатах. Хотелось есть, но Оскар не спешил: выкупался сначала, освежился. И, обсыхая, мысленно вернулся к своим заботам.
Автоген добыт, прекрасно. Но вот беда: чтобы аккуратно вскрыть им такой маленький сейф, надо быть большиммастером. Иначе жаркое пламя горелки раскалит стенку, а то и просто прорвется внутрь и вмиг сожжет все содержимое! Слава богу, что он вовремя спохватился и сообразил, а то мог бы и... Неужели нельзя обойтись как-нибудь по-другому? Конечно, можно: прострогать, высверлить, разрезать фрезой... Но все это опять-таки исключено, так как связано со станками, подступу к которым у него нет. Что же еще придумаешь? А может... Немцы — народ практичный, технически смышленый и предусмотрительный. Разве в заказе не могло быть обусловлено, чтобы замки этих сейфов изготовлялись из нержавеющей стали и заполнялись водостойкой смазкой? Вполне могло! Значит, не исключена возможность, что и сейчас его просто открыть! А замочек-то несложный, его отмычками осилишь — не зря же учили!
Правильно, с этого и надо начать! Ну, не получится... Тогда уже — только тогда! — придется прибегнуть к автогену. Другого, увы, не остается.
Оскар энергично поднялся, стряхнул налипший песок и, повеселевший, пошел одеваться...
К концу рабочего дня в Балтиморске из руин бывшего банка, ничуть не таясь, спокойно вышел хорошо одетый мужчина с вещевой сумкой в руке. Спохватясь, он стыдливо застегнул пуговки на брюках и пошел своей дорогой...
Даже днем в мрачные полузатопленные катакомбы бывшего банка не заходил никто. Поэтому Оскар безбоязненно занялся здесь своим делом, выбрав укромное местечко, а по пути купив в хозмаге масленочку для швейной машины. Водрузил сейф на каменную плиту, как на стол, снял пиджак, повязался полотенцем вместо фартука и принялся за работу. Напитал маслом щель-стык дверцы с корпусом сейфа, напустил в замочную скважину. Посидел, подождал. И, сдерживая волнение, стал орудовать отмычками.
Возился, возился — тщетно! Отдохнул, успокоился. Снова принялся. Рычажок ригеля вроде бы шевельнулся... Подался... Ну, ну! Еще усилие... Щелчок. Другой! Есть!!! Ручки на створке не было — колечко лев давно выронил из пасти — и Оскар, обмотав платком головку отмычки, потянул за нее. Дверца открылась!
Оскар обмяк. Сел, облегченно вздохнул, утер со лба испарину и счастливо рассмеялся.
Корабельные, сигнальные и навигационные документы интереса не представляли — он даже не стал смотреть их. Отдельно в сейфе хранились явно не морские карты, толстая общая тетрадь и полевые маршрутные записные книжки геолога — целый пакет, завернутый в прозрачную коричневую компрессную клеенку и перевязанный прочной рыбацкой нитью. Оскар понял, что именно этот пакет и является целью его чрезвычайной миссии.
Завладев драгоценными документами, ему, естественно, захотелось тотчас избавиться от лишних улик и тут же утопить и сейф, и автоген, и корабельные документы, и прочее. Но спешить он не стал.
На какого-то Марса Оскару было решительно наплевать. Делить лавры удачливого диверсанта экстра-класса с Паулем не хотелось. «Однако, надо признать, он крепко помог в деле. Может быть, его все-таки пожалеть?.. Нет, прежде нужно проверить окончательно, что это за гусь, а там уже решать — бросить ли милостыню или вовсе раздавить», — решил Оскар и принялся замыкать сейф.
Закрыть замок оказалось еще труднее, чем открыть. Но Оскар все же запер, положил на место, привел себя в порядок и, довольный, покинул «венецианский дворец».
Вскоре он вошел в сад при инфекционной больнице. Народу тут было мало: несколько больных прогуливались с родственниками да несколько еще ожидали свидания. И то сказать, место мало привлекательное.
— Не помешаю? — спросил Пауля.
Поставил на скамью сумку, сел сам. Осмотрелся: поблизости — никого, говорить можно без опаски.
— Ну, все готово, надо полагать?
— Ни черта не готово, — раздраженно ответил Пауль. — Я же говорил: нельзя связываться с пьяницами! Не явился этот ваш трепач Зорин.
— Эх вы... — укорил Оскар. — Второй раз подводите! Вот, держите, — подтолкнул сумку.
— Что тут?
— Можете полюбопытствовать.
Пауль открыл сумку и даже присвистнул, увидев портативный фирменный автогенный аппарат. Поспешно задернул молнию.
— Ну, вы ловкач, Оскар!
— На вас понадейся... Забирайте аппарат, идите и доставайте лодку. Надеюсь, это-то вы сможете? Ровно в три тридцать ночи подгребете к «венецианскому дворцу». Догадались, где это?
Пауль изобразил на лице полнейшее непонимание и пожал плечами. Оскар самодовольно усмехнулся:
— Еще бы! Это бывший банк на берегу канала, у железного моста. Чем не дворец? В цоколе здания в полутора метрах над водой — четыре оконца. Подплывете к последнему. Внутри как раз возле него я спрятал ящик — и из него-то я спущу ящик прямо вам в лодку. И вы сразу плывите дальше! А за поворотом канала возьмете меня — я напрямик туда выйду. Все поняли?
— Да.
— Итак, в три тридцать, минута в минуту — ни позже, ни раньше!
— Не беспокойтесь, мы, немцы, народ пунктуальный. Ауф!.. — Пауль взял сумку и ушел.
Оскар закурил, посмотрел на часы: времени вполне хватит... Случайную встречу с Алисой он отнюдь не исключал, но и без этого пришла пора видоизмениться.
В Балтиморске полно моряков рыбфлота, торгфлота, речников, перегонщиков, значит, наилучшая мимикрия — одеться моряком. Это еще и просто: в специализированных магазинах разной форменной готовой одежды сколько угодно. Затем надо покраситься. Лето, слава богу, позволяет весь день ходить в темных очках. Все, вполне достаточно.
Вскоре Оскар из элегантного шатена стал блондином, надел легкие песочного цвета брюки и курточку с морскими пуговицами — без галстука, погончиков и фуражки. Перед закрытием успел в магазин «Охотник», купил разборную удочку, маленькое капроновое ведерко, складную скамеечку и спортивную сумку...
С этой сумкой в третьем часу ночи появился на берегу канала на одном из излюбленных мест удильщиков — близ железного моста, за которым зловеще темнела громада «венецианского дворца». Тут уже восседало человек пять рыболовов-любителей ужения на рассвете, по одному подходили еще. Изготовив свою удочку, Оскар присоединился к ним. Позиция великолепная: канал неширокий, не распознать Пауля невозможно — иного пути у него просто нет!
И надо же так — едва Оскар расположился, как мимо удильщиков бодро проплыл Пауль, ничуть не подозревающий, что в десятке метров от него сидит и видит его напарник!
Оскар посмотрел на часы: «Все, как я и предполагал! Решил, значит, все-таки обставить меня на финише. Ну, давай, давай, спеши, упреждай меня, дурачка!.. Черта с два я теперь тебя пожалею! Радуйся, гад, что живым оставляю: ты еще должен отвести от меня чекистов!» — напутствовал он Пауля.
— Ах ты, черт побери!.. — тихо ругнулся и стал торопливо собираться.
— Куда же вы? — не сдержал удивления сосед. — Скоро рассвет, самый клев начнется.
— Да, понимаете, газ на кухне забыл потушить, а дома — никого!..
По пути на тропинке Оскар встретил спешащего рыболова лет двенадцати. Мальчишка весело размахивал удочкой из обыкновенного березового хлыста.
— Рыбалить?
— Козе понятно, — пробасил паренек, с тайной завистью посмотрев на бамбуковый, с разными штучками складень Оскара.
— Держи, — отдал ему удочку Оскар. Добавил ведерко, стульчик. — Бери, не стесняйся, дарю. На счастье. Она, брат, знаешь какая счастливая!
— А... а вы как же?.. — удивленно и недоверчиво спросил мальчишка.
— А я уже поймал во-от такого карася! — Оскар засмеялся. — Я, брат, сегодня в моря ухожу, тралом ловить буду. Удачи тебе!..
Утренней электричкой Оскар приехал в Сосногорск и, примкнув к каким-то попутчикам, прошел мимо дачи Пелагеи Васильевны. Острое чутье ему подсказало — дача находится под надзором. «Значит, Пауль уже принят на тюремное довольствие и изо всех сил топит меня. Плохо, я не рассчитывал, что они его так быстро сцапают. Лихо работают товарищи чекисты, ничего не скажешь. Бежать надо немедленно!» — решил Оскар.
Из Сосногорска не побежишь. Некуда: Сосногорск — тупик на полуострове. Поэтому и пригородная электричка сюда практически не контролируется, в чем Оскар уже убедился. А шоссе?
Оскар прошел на автобусное кольцо. Присмотрелся: отходящие на Балтиморск автобусы явно не проверялись. Значит, можно сесть, посмотреть в пути, как обстоит дело со встречными.
Сел, поехал обратно автобусом, уже твердо зная, что Пауль арестован и он, Оскар, в усиленном персональном розыске. Ехал настороженный, готовый к любым сюрпризам и зорко наблюдал за обстановкой. Никаких подвижных патрулей или заслонов на дороге не было.
Наблюдая, думал. Задача стоит сложная: вырваться из Балтиморска, а затем — из СССР. Это можно почти слить: граница-то тут — рукой подать. Но стоит ли здесь лезть на рожон? Ведь чекисты, естественно, именно этого и ждут. Значит, и вся здешняя граница уже взбудоражена... Так как же быть-то?.. А что, если стремительно рвануть отсюда наоборот, в глубь страны? И уже где-то там, у черта на куличках, круто повернуть и выйти на границу? А? А что, в этом есть резон. Таким маневром он крепко обескуражит чекистов и уж во всяком случае вырвет у них инициативу. Правда, маневр этот сопряжен с лишним риском на долгом пути. И все-таки этот риск во сто крат меньше, а вероятность успеха во сто крат больше, нежели при попытке вырваться здесь...
Вот и пост ГАИ на выезде из города. Ну-ка, что тут... Один инспектор наверху у телефона, другой — внизу у шоссе наблюдает за порядком. И все.
Рядом с шофером автобуса ехал его приятель, он тоже заметил:
— Смотри-ка, а здесь все тихо-спокойно.
— А почему должно быть шумно? — усмехнулся шофер.
— А ты не знаешь? Да сегодня с ночи еще на всех выездах заслоны. Каждую машину останавливают, каждого едущего проверяют! Ловят кого-то... А здесь почему-то свободно...
«И правильно, им сейчас и так людей не хватает, — подумал Оскар. — А тут... Какой же дурак в тупик полезет?..»
В городе, попросив шофера остановиться, несколько пассажиров, а с ними и Оскар, вышли, не доехав до автовокзала.
На бульваре проспекта Оскар присел на скамью покурить и поразмыслить. Да, вариант «рывок в глубь страны» — оптимальный. Не вынимая, пересчитал в нагрудном кармане оставшиеся крупные деньги, аккредитивы, валютные боны: хватит на все с избытком! Значит, решено. Оскар бросил окурок, поднялся, деловито пошел в центр.
Сегодня он особенно чувствовал какую-то нервозность. Минутами его даже познабливало. Правда, день нынче прохладный, ветреный, но все же не знобкий. К тому же он устал, почти не спал, голоден, но и это не причина. Подумав, Оскар признался себе: это не обычная нервозность — это страх! Относительно спокойно он себя чувствовал, лишь когда готовился к диверсии, а как проявил себя — так все!.. Вот и сейчас: ему необходимо сытно поесть, набраться сил, а он боится даже зайти в ресторан! Боится самым вульгарным страхом!
Зашел в какое-то захудалое кафе, увидев в углу мужчину с газетой — выскочил обратно. Береженого бог бережет, ну их к дьяволу, все эти кафе-рестораны!..
Оскар прошел на Центральный рынок. Тут ему повезло: в ларьке-буфете попалась еще теплая жареная печенка, до какой он с детства был охоч, на прилавках — помидоры, соленые грибы, огурчики, зеленый лук... «К ним бы еще картошечки!» — возмечтал он (все же латыш!) и, как в сказке, тотчас узрел разбитную бабенку с укутанной в детское одеяло кастрюлей:
— А вот горяченькая, масленая, с укропчиком!..
Наполнив снедью два кулька, Оскар пошел на берег Королевского озера, что серебрилось сразу за рынком. На ходу под рубашкой неприятно елозил драгоценный пакет, но девать его больше было некуда, и Оскар лишь прижимал его локтем к телу.
Летом в солнечные дни народу у озера хватало. Многие горожане приходили сюда компаниями или семьями — здесь и ели, и загорали, и баюкали детишек. Тут же расположился под ветвистым каштаном Оскар. Вкусно, с аппетитом поел. Насытившись, привалился спиной к дереву.
Куда бежать, решено. Теперь — как вырваться из Балтиморска? На вокзале, пристани, автостанции, в аэропорту его только и ждут. Все шоссейные выезды — это уже точно известно — перекрыты. Окраинные поля, перелески, огороды, разумеется, тоже блокированы. Фактически он уже в мышеловке. Стало быть, терять уже нечего, надо идти ва-банк!
Захотелось пить, но никакого питья он не прихватил, идти за ним не хотелось, и Оскар перетерпел.
...Единственное, чем он еще располагает, это минимумом времени для решительного контрманевра. Пожалуй, остается одно: угнать чью-нибудь машину и нагло вырваться из города. Автомобиль он добудет, конечно, и наглости ему не занимать — проскочит. А дальше что? Даже в кино эти проскоки хорошим не кончаются, а уж в действительности...
Надо с другого конца идти — определить: где, какую слабину допустили контрразведчики? И тогда придумать удар в уязвимое место.
Мысленно прощупав цепь окружения, Оскар нашел это слабое звено — выезд на Сосногорск. Оставив его не перекрытым, чекисты, в принципе, были правы. Но чуть-чуть все же сплоховали. Это «чуть-чуть» и надумал использовать Оскар. Он сейчас только выедет свободно из города на Сосногорск, а там свернет где-нибудь в сторону и проселком — на другое шоссе. Выедет уже за постами ГАИ и ВАИ, на которых дежурят заслоны! Оскар усмехнулся и закурил. Он устал, не выспался, но мысль работала энергично, и ему сразу припомнилась большая неохраняемая стоянка возле рынка, забитая автомобилями торгашей-частников. Чего лучше! Торгашу за прилавком некогда следить за своей тачкой, а когда он спохватится, Оскар будет уже черт те где!
...Он не гнал, ехал спокойно, по всем правилам. Остановился у магазина «Канцтовары», купил ярко-красный фломастер, несколько конвертов с хорошей почтовой бумагой. Отъехав, вскоре снова остановился. Аккуратно вырезал из бумаги два кружка, нарисовал на них красные кресты, налепил знаки на лобовое и заднее стекла автомобиля. «Едет врач» — этот знак придал краденой «Волге» солидность и уважаемость.
Выехав из города, «Волга» с красным крестом притормозила, неспешно миновала пост ГАИ — ВАИ и — снова наддала.
Впереди показался дорожный знак «пересечение дорог» — Оскар включил сигнал поворота, сбавил скорость и свернул вправо, на второстепенную дорогу. Узкая, но асфальтированная, она пролегала сквозь смешанный хилый лес. Хилый потому, что почва тут была сырой, почти болотистой.
На столбике под знаком «крутой поворот» свежел другой, дополнительный — «впереди ремонт дороги». Притормозив, Оскар выехал на поворот и с досадой присвистнул. Подъехав, остановился.
В раскисшей седловинке поперек дороги застрял гусеничный трактор! Возле него устало покуривали тракторист и два рабочих. По ту сторону трактора выжидающе стояли вишневые «Жигули», у которых нерешительно топтались огорченные мужчина и его спутница.
— Эка вас угораздило тут! — подосадовал Оскар. — И долго вы курить намерены? Надо как-то вылезать, товарищи.
— Да вот чем больше вылезаем — тем глубже увязаем! — плюнув, зло пошутил тракторист. — За «Кировцем» идти надо, самим не вылезти.
— Ну-у... — огорченно махнул рукой владелец «Жигулей». — Поехали-ка обратно, Наташенька.
— В Васильково? — обрадовался тракторист. — Захватите вот Диму — он оттуда «Кировец» нам вышлет.
— А я как? — возмутился Оскар. — Я же врач, по вызову еду, меня больной ждет!..
— Езжайте тоже с нами, — нашла выход женщина. — Обратно вас доставят, конечно.
— А машина?..
— Да что с ней станет? Мы же тут будем, — успокоил тракторист.
— Черт знает что!..
Оскар согнал «Волгу» на обочину, хлопнул дверцей. Перебрался через трактор и сел в «Жигули» рядом с Димой. Машина поторкалась туда-сюда, развернулась и помчалась к Васильково.
Хозяин «Жигулей» был явно огорчен возвращением. А спутница его ничуть — весело щебетала и грызла витаминизированное драже.
— Вы мне позволите закурить? — спросил ее Оскар.
— Ой, не надо бы!.. — Она оглянулась: — Вот, погрызите лучше кислушек...
Положила ему на ладонь несколько драже. Они оказались действительно кислыми, и испытывающий жажду Оскар с удовольствием их схрупал.
«Жаль, карты подробной нет. Но, помнится, по газетам: Васильково уже на автостраде! Это хорошо. А что «Волгу» пришлось бросить — плохо. Ну, ничего: удалось главное — вырваться из Балтиморска!» — мысленно рассуждал Оскар, оглядывая местность. Лес кончился, дорога прореза́ла колхозные поля и стала хуже. «Жигули» покачивало, и утомленного Оскара стало клонить в сон.
«...Мы с весны до зимы без выходных вкалываем сутками, а он в галстучке председателя колхоза возит. Резина, запчасти, бензин — все ему первому, безо всяких. Да еще премиальные! И, выходит, получает он почти столько же! Где справедливость?..» — сквозь дрему слышались разглагольствования Димы. Потом голос его стал отдаляться и вовсе потух...
Майор Рязанов остался на весь отдел один. Он стоял у штурвала оперативного руководства сетью розыска и был прикован к телефонам и картам города и области. Но телефоны звонили редко и ничего ни радостного, ни огорчительного пока не приносили.
Но вот раздался звонок, показавшийся майору каким-то особенным. Рязанов взял трубку, назвался.
— Товарищ майор, докладывает Ковальчук. Все в порядке, мышеловка сработала как часы! И без эксцессов: Наташа его усыпила в два счета! Пакет с документами найден у него за пазухой...
— Отлично! Молодцы, ребята, спасибо! Он уже здесь?
— Здесь, только в санчасти. Спит беспробудно.
— Да? — Рязанов встревожился: — А вы не того, не перестарались?
— Нет-нет, все нормально. Врач говорит, он просто очень уставшим был. Можно разбудить, но доктор не советует.
— Ладно, черт с ним, пусть дрыхнет пока. Еще раз спасибо всем.
Рязанов положил трубку, помял-потер щеку и как-то даже скучновато сказал сам себе:
— Ну, вот, кажется, и все. — Снова взял трубку, набрал номер дежурного по Управлению: — Кисилев? Это я, Рязанов. Вот что попрошу: дайте-ка полный общий отбой всем, участвующим в розыске... Да, уже. Финиш!
СЛЕДЫ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
Фотограф положил на стол фотографию морского офицера и репродуцированный с нее большой портрет.
— Вот, Александр Алексеевич, как вы просили.
Сысоев прислонил портрет к настольной лампе, отошел, посмотрел.
— Отлично сделано. Просто художественно! Спасибо, Юра.
— Пожалуйста, всегда рад!..
Юноша вышел польщенным. Сысоев всунул портрет в конверт из-под фотобумаги, аккуратно упаковал в оберточную, отложил на угол стола.
Майор Рязанов внимательно просматривал еще не подшитое полностью следственное дело и не мог не перечитать еще раз один документ, хотя помнил его уже наизусть. Это было личное письмо капитана третьего ранга Георгия Рындина, вложенное в последний вахтенный журнал и вместе с ним сохранившееся в сейфе.
Поверх очков взглянув на вошедшего помощника, Рязанов кивнул ему на кресло и продолжил чтение. Письмо это впоследствии заняло достойное место в одном из музеев Великой Отечественной войны, а до того было приобщено к делу как документ обвинения, изобличающий шпиона-диверсанта «международного класса» по кличке Марс.
Перечитав, Рязанов аккуратно вложил письмо в прозрачный целлофановый конверт. Протянул Сысоеву:
— Держи. Письмо чрезвычайно ценное, а ветхое. Закажи хорошую фотокопию, оформи. И допроси по нему дочь «предателя и изменника Родины».
На лице Сысоева отразилось непонимание. Рязанов снял очки и, улыбаясь, пояснил:
— Необходимости нет, конечно: все и так ясно. Но...
— ...получить еще одно подтверждение делу не повредит! — ухватил Сысоев. — Душа ты, Петр Петрович! Сделаю.
Вызванная спокойно вошла в кабинет и улыбнулась. Сысоев предложил ей стул возле своего стола:
— Садитесь сюда, Лидия Георгиевна. Разговор предстоит официальный.
Он заполнил бланк протокола допроса свидетеля. Достал из стола лист бумаги с двумя прорезями и фотокопию какого-то письма. Накрыл письмо трафаретом и так положил его перед Лидой. Задал вопрос, записал его и ответ в протокол. Задал другой... Страница протокола покрылась текстом.
В о п р о с. Вам предъявлены строки: «Не для размышлений — в нас нет колебаний! — но для того, чтобы дать людям передышку...» фотокопии письма, написанного от руки карандашом на листе линованной бумаги. Знаком ли вам этот почерк?
О т в е т. По двум строкам трудно утверждать, но уверена — знаком.
В о п р о с. Чей, по-вашему, это почерк?
О т в е т. Моего отца, Георгия Андреевича Рындина.
В о п р о с. Откуда знаком вам его почерк?
О т в е т. Уйдя на войну, отец часто писал моей матери. Письма эти она хранила. Мама очень любила мужа, часто перечитывала его письма (отец не вернулся с войны) и каждый раз показывала их мне. С тех пор я хорошо запомнила его почерк.
Закончив протокол, Сысоев дал его Лиде подписать. Поднялся.
— Ну, вот и вся формальность. Спасибо, — сказал он и, прочтя во взгляде Лиды немую мольбу, отошел к окну якобы покурить.
Глубоко взволнованная, Лида сняла трафарет и стала читать неизвестное еще почти никому письмо отца.
Пишу наспех. Корабли врага прекратили огонь и натиск и, снова требуя сдачи в плен, дали пять минут на размышления. Я принял эти минуты. Не для размышлений — в нас нет колебаний! — но для того, чтобы дать людям передышку, а главное — написать это письмо. Я обязан его написать, дабы когда-нибудь, верю в это, люди узнали правду о нашей гибели.
Мы бьемся как только и подобает советским гвардейцам. Но мы обречены. И виной тому — мерзостная диверсия. Только так! В своих моряков я верю и ручаюсь: изменников-предателей среди них нет...
Сысоев украдкой оглянулся. Лида даже не ощутила его взгляда. Не видя ни Сысоева, ни кабинета — ничего, кроме письма, она дочитывала:
...маневрируем в огненном кольце. Выхода из ловушки нет. Снаряды кончаются — да и что мы можем своими калибрами! Надеваем чистое. Сейчас отдраим кингстоны.
Себя не жаль — чувствую себя виноватым в том, что не разглядел мерзавцев. Безмерно жаль своих гвардейцев. Но моряки как один отказались покинуть корабль, предпочтя смерть.
Мучительно больно, что никогда уже не увижу жену, дочурку, землю, людей.
Прощайте, товарищи. Да здравствует наша Отчизна, наша Победа и грядущий Мир на земле! Они будут прекрасны, берегите их!
Умираем за нашу Советскую Родину, за Сталина, за партию и дело великого Ленина! Прощайте.
Гв. кап. III ранга Г. Рындин
Дочитав письмо отца, Лида уронила голову на руки и заплакала. Сысоев не стал утешать ее, успокаивать. Это были прекрасные слезы — слезы великого счастья возрожденной гордости за отца, его имя, честь и достоинство. Потом Лида, не стыдясь, вытерла лицо, поднялась, повернулась к чекисту:
— Спасибо, Александр Алексеевич. Нет, это не то слово! Вы... Вы не представляете, что вы сделали для меня! Боже мой!..
Голос изменил ей, Лида опять всхлипнула и метнулась к двери.
— Постойте, Лида! Пропуск!.. — задержал ее капитан. И, подписывая пропуск, заметил: — А спасибо скажите лучше Сергею и его товарищам. Это ведь они подняли со дна моря это письмо.
— Да?!
— Да. Вот, пожалуйста, — вручил Сысоев ей пропуск и приготовленный пакет с портретом: — А это от нас лично вам.
— Спасибо. А что тут?
— Дома посмотрите.
— Хорошо, — послушно согласилась Лида и вышла.
Тусклая и скудная до этого жизнь Лиды стала яркой и насыщенной. Лида оказалась в обширном кругу самых различных, но одинаково доброжелательных и заботливых людей.
Так, вскоре ее вызвали в военный комиссариат, где незнакомый полковник с искренним удовольствием известил:
— Когда-то по горькому недоразумению маме вашей была прекращена выплата пенсии на дочь погибшего офицера. Заместитель министра обороны приказал выплатить вам всю задолженность. Пройдите, пожалуйста, в наш финансовый отдел — там все подготовлено...
Кого это не тронет! Радость, конечно, не в деньгах, которые пришлись тоже отнюдь не лишними, — радость в том, что кто-то подумал о ней, довел до сведения самого замминистра, тот вник в суть дела, распорядился... Десятки людей от рядового писаря до маршала позаботились о какой-то медсестре!
А то в клинику к Лиде приехал незнакомый морской офицер. Представясь порученцем командующего, сказал:
— Командование и Политуправление флотом приглашают вас, Лидия Георгиевна, на церемониал в гавани. Куда прикажете за вами заехать?..
Казалось, даже погода замерла в почетном карауле. Позолоченные солнцем в полном штиле плыли в воздухе невесомые паутинки, нежно прикасаясь к лицам, оружию и знаменам моряков. На широкой набережной замерли в строю команды боевых кораблей и береговые подразделения. Перед ними на берегу канала, по которому ежедневно выходят в дозор на охрану Отчизны могучие корабли, между двух великанов-тополей свежела серым гранитом, бронзой и цветами братская могила. Тихо звучала торжественно-траурная музыка.
К микрофону на черно-красной трибуне подошел моложавый адмирал в парадной форме. Без ораторского пафоса, просто и душевно сказал:
— Товарищи моряки. Ветераны флота и молодежь. Боевые друзья-балтийцы. Мы пришли сюда, чтобы, склонив боевые знамена нашего овеянного славой Балтфлота, воздать последние почести погибшим в бою за свободу и независимость нашей великой Родины героям-гвардейцам...
«Как жаль, что мама не дожила до этого дня!» — подумала глубоко взволнованная Лида. Совсем недавно она считала себя всем чужой и лишней. А сейчас смотрела на сотни моряков и чувствовала, что все они — ее друзья, что она дорога им, так же, как и они ей.
Молодость, флотская закалка быстро подняли Сергея на ноги. Но молодости свойственна еще и беспечная самоуверенность: Сергей пренебрег указаниями врачей, посидел на сквозняке у открытого окна и — снова слег с тяжелым осложнением. Опять койка, бульончики, пилюльки, градусники...
После завтрака цыганочка Зина принесла свежие газеты. Сергей развернул одну из центральных — в глаза бросился заголовок «Оборотень». Под ним шел большой репортаж о начале открытого судебного процесса по делу крупного шпиона, диверсанта и резидента «одной из иностранных разведок», как обычно пишут в газетах.
Приход врачей оторвал Сергея от чтения. Проверив температурный лист, послушав больного, терапевт спросил:
— Как общее состояние?
— Откровенно, доктор, осточертело мне это лежание.
— Поделом. Попрыгал, порезвился, теперь полежи, поскучай.
— Осточертело ему! Лежи да радуйся, что еще так обошлось, — сердито добавил хирург.
— Есть радоваться, — смиренно согласился Сергей.
После обеда сержант-связист вкатил в палату Сергея белый медицинский столик с телевизором. Приладил, настроил, вывел под руку больному выключатель.
— Курорт! Развлекайся, симулянт дырявый. Да замполиту спасибо скажи, это он тебе свой прислал.
— Да? Обязательно скажу! И тебе тоже.
Теперь после обеда и тихого часа Сергею разрешалось «без отрыва от койки» быть телезрителем, что в его положении было особенным удовольствием: к общему телевизору в салоне отделения ходить он не мог.
Заступив на очередное дежурство, цыганочка впорхнула в его палату и выпалила очередью:
— Ой Сережа здравствуйте день-то какой чудесный как вы себя чувствуете а к вам гости пришли! — Заложила крутой вираж и умчалась.
Дверь приоткрылась, в палату просунулась бритая загорелая голова.
— Солтан Мустафович! — обрадовался Сергей. — Заходите, заходите!
За Шариповым появился и секретарь парткома Соловецкий. Посмотрев на Сергея, тряхнул русыми с проседью кудрями, притворно изумился:
— Смотри-ка! Напанихидили нам: чуть живой, еле дышит... А тут здоровенный румяный лежебока жирок нагоняет! Ну, здравствуй, бедолага!
Гости расположились, открыли изрядную корзину. Взгляду Сергея открылись переложенные крапивой лоснящиеся жиром копченые угри, золотистые лещи, балыки, вяленая тарань...
— Весь колхоз тебе кланяется. А это гостинца маленько...
— Маленько?! Да тут на хорошую свадьбу хватит!
— На свадьбу еще не то наладим — только женись! И невесту просватаем и... Да мы ведь и сейчас к тебе — навроде сватов.
— Да-да, — подхватил Шарипов, и глаза его сощурились в хитроватой серьезности. — Ты уж извини, времени у нас с бараний хвост, так мы уж сразу к делу. Помнишь наш разговор?.. Так вот мы с Филиппом Федоровичем да главбухом все просчитали, выверили и вынесли вопрос на правление.
— А народ-то вас всех крепко помнит, уважает, — продолжал Филипп Федорович, — и поручил нам бить челом: милости просим к нам в артель!
— То есть как это? — не понял Сергей.
— Обыкновенно. Чуриков к Даше Хромовой на свиданки приезжает...
— Николка? К Даше?! — весело удивился Сергей. — Ну, хват, медведь!
— Любовь у них. Так он говорит — в запас вам скоро. Пора, значит, определяться. Вот артель и зовет вас к себе: тебя, Чурикова, Скултэ — всех, кто пожелает. Работы хватит, заработком не обидим.
— Ну и условия, само собой, — дополнил Шарипов. — Жилье, конечно, обзаведение и разное там прочее. Кто пожелает — в институт определим за счет артели... Так как ты смотришь?
Тронутый предложением, Сергей ответил не сразу. Он вдруг почувствовал себя в новом качестве — взрослым человеком, специалистом, с которым серьезные деловые люди ведут серьезный деловой разговор.
— Спасибо вам. Всем спасибо. Но... Вы только не обижайтесь, пожалуйста, но о работе в рыбколхозе у меня и мысли не было. Так что... Не могу я так сразу ответить.
— А мы сразу и не требуем. Время терпит: подумай, посоветуйся... А там и решишь.
Гости поговорили еще о том, о сем и простились, оставив Сергея в некоторой растерянности.
Сергей Сафонов — водолаз рыбколхозной флотилии! Вот уж чего не ждал, не гадал! А собственно, почему бы и нет? Водолаз — нужная в народном хозяйстве, интересная специальность. Стать водолазом не каждому по плечу, и хорошие водолазы, прямо скажем, на дорогах не валяются. А он хороший водолаз, это уже признано специалистами.
Сергей, пожалуй, впервые задумался всерьез о том, что дала ему военная служба. Служба и офицеры научили его не только мужеству, выносливости, смелости и воинскому мастерству. Они привили ему трудолюбие, добросовестность, чувство коллективизма, гражданственности. Научили пониманию настоящей дружбы и умению, сохраняя эту дружбу, оставаться взыскательным командиром. И наконец — вооружили замечательной специальностью. А теперь пришедшаяся по душе воинская специальность может стать профессией. Полюбившееся море — жизнью. И в нее войдешь вместе с проверенными друзьями-сослуживцами!.. И еще немаловажный фактор: сразу крепко становишься на ноги, обретаешь прочную материальную базу. Право же, очень заманчивое трудоустройство! Только как еще посмотрят на это годки, согласятся ли? Приживется ли к колхозу он сам, горожанин? Поедет ли сюда мама? А как Лида?..
Сергей поделил гостинцы по совести. Отложил понемножку дядьке, бабуле, себе и Лиде. Выбрал три самых лучших угря и вызвал цыганочку.
— Вот, Зиночка, вам с подружками-сестричками подарок от Нептуна. Это спрячьте, пожалуйста, пока в холодильник. А остальное раздайте ребятам по палатам.
— Какая прелесть! Спасибо, Сережа, только это напрасно. И матросам столько незачем...
— Р-разговорчики! — пресек Сергей.
Цыганочка унесла гостинцы. А вскоре, всполошенная, заглянула в палату, выстрелив:
— Ой Сережа включайте телевизор сейчас такая передача по второй программе только тихо!
Сергей щелкнул выключателем и услышал голос диктора:
— ...множество писем. Выполняя желание телезрителей, редакция организовала репортаж из зала суда. Выступает государственный обвинитель. Включаем зал...
На экране возникло энергическое лицо интеллигентного мужчины в очках. Обращаясь к трибуналу, он говорил, сдерживая взволнованность:
— ...Отказавшись от своей родины, подарившей миру Гете, Шиллера, Канта, Маркса, Тельмана, этот, с позволения сказать, человек всю свою жизнь отдал предательству, шпионажу и диверсиям, прячась за фамилиями то Флейшмана, то Смита, то, наконец, Федотова. Порожденный и вскормленный фашизмом, он в годы войны под кличкой Джон предавал германский народ, под кличкой Марс — другие народы, а под обеими — рьяно вел самую подлую и жестокую антисоветскую подрывную деятельность.
Оператор перевел камеру на скамью подсудимых. На ней за дубовой балюстрадой сидел под конвоем солидный, благообразный мужчина, которого еще недавно все называли товарищем и величали Николаем Николаевичем. А прокурор продолжал:
— Вот он сидит перед вами, граждане судьи, — благообразный, импозантный, с лицом праведника и холеными чистыми руками. Не верьте их чистоте! Она так же лжива, как весь облик этого оборотня. На этих руках — и ее не отмоешь! — кровь тысяч немцев, французов, англичан, шведов... а более всего — советских патриотов!
Камера снова вернулась к прокурору.
— Граждане судьи! Я обращаю ваше особое внимание на один эпизод преступной деятельности подсудимого. В разгар Великой Отечественной матерый шпион-диверсант из псарни Канариса, этот самый Марс, со своими подручными был заброшен в наш тыл с важным поручением...
ГВАРДИЯ НЕ СДАЕТСЯ!..
В самые черные дни Ленинграда моряки легендарного Балтфлота несокрушимым заслоном ограждали Финский залив, защитив с моря колыбель революции. И продолжали стоять, героически сражаясь и готовясь к генеральному контрнатиску. Но пока еще приходилось трудно...
Энская военно-морская база флота постоянно подвергалась остервенелым налетам бомбовозов люфтваффе. В небольшом, еще недавно таком строго-красивом морском городе рушились дома, вспыхивали пожары, нарушались коммуникации... Во время и после бомбежек, бывало, прерывалась связь, от осколков и под обвалами зданий гибли линейные связисты, посыльные, порученцы, офицеры связи, строевые офицеры и матросы на кораблях и береговых объектах. Штабы на какое-то время порой теряли прямые контакты с некоторыми своими «хозяйствами», не получали оперативной информации о происходящем, не ведали о судьбе того или иного офицера, группы моряков, а то и подразделения. Потом, конечно, связь возобновлялась, обстановка уточнялась, судьбы узнавались — тот в госпитале, эти погибли, тех завалило...
К бомбежкам давно привыкли. Точнее сказать, притерпелись — привыкнуть к ним невозможно. И сегодня все довольно спокойно отнеслись к очередной воздушной тревоге. Под вой сирен город покрылся зеленовато-серыми дымами. Прицельное бомбометание стало невозможным. С трудом прорвавшиеся, обозленные асы люфтваффе, шарахаясь от зениток, сыпали бомбы наобум — авось да угодит какая в значительную цель!
Будто прячась от бомбежки, в арке уже разбитого дома стояли двое — офицер и матрос с автоматом. Глядя на тягучие пласты маскировочного дыма, матрос потянул носом и сплюнул:
— Ну и запашок, сволочь! Трупы жгут — приятнее пахнет.
— Труп врага всегда хорошо пахнет! — усмехнулся офицер.
— Это, конечно, фюрер сказал? Гениально!
— Фюрер, конечно, сказал бы — не упреди его римский император Вителлий. Еще до нашей эры, — ответил офицер, не сводя глаз с малоприметного особняка, где разместился отдел формирования.
Несмотря на бомбежку, из него нет-нет да и выходили моряки. Другие, прибежав, входили, отряхивая пыль. Где-то неподалеку прогрохотала серия бомб.
— Эх, сейчас бы самое времечко! — подосадовал офицер.
Он нервничал, но деловито, осмысленно, как азартный, но расчетливый охотник в засаде.
Из особняка вышли трое — офицер и два матроса. Посмотрели вверх, помедлили и зашагали по уличке.
— Вот они! — выбросив руку, указал матрос в засаде.
— Точно?
— Точно. Наперерез?
— Не следом же идти! Держи... — сунул офицер матросу нарукавную повязку «патруль». Сам натянул такую же. — Пошли. Быстро!..
Три моряка с тощими вещмешками свернули в переулок, который и в спокойные-то часы оставался безлюдным. Однако именно тут, как на грех, напоролись сейчас на патруль.
— Товарищи моряки, в укрытие!
— Пошли, пошли, ну их!.. — бросил офицер своим спутникам, но патрульные пересекли мостовую и преградили путь.
— Вы что, не слышите? Приказа не знаете? Воздушная тревога.
— Брось, старлейт, — миролюбиво сказал равный по званию. — У нас срочное предписание, на корабль опоздаем.
— Предъявите. И личные документы тоже.
Моряки предъявили. Патрульный офицер посмотрел документы и, не возвращая их, строго приказал:
— Следуйте за мной. И без пререканий, пожалуйста.
За углом они вошли в опустошенный пожаром дом с фанерным указателем «Бомбоубежище». Спустившись в подвал, патрульный офицер вдруг резко метнулся в сторону, а замыкающий матрос с автоматом полоснул по спинам задержанных короткой очередью...
Через пять минут «патрульные» как ни в чем не бывало шагали по бульвару к гавани. Уже с вещмешками.
— Покурим? — предложил матрос, кивнув на скамью.
Сели. Матрос стал рыться в мешках, офицер достал из кармана документы, полистал их.
— Так. Старший матрос Усаченко — кок и комендор... Старшина второй статьи Пучков — радист и... Радист — это нам подходяще. Ценный товарищ! Держи... Да погончики присобачь. А Усаченко спишем в героически пропавших без вести. — Щелкнул зажигалкой и поджег потрепанную краснофлотскую книжку комендора.
В укромном уголке на отшибе от стоянок боевых кораблей чуть покачивался у стенки трофейный «Флинк».
Немецким корабелам посчастливилось скомпоновать весьма удачный проект небольшого вспомогательного многоцелевого судна. В начале войны со стапелей гамбургской верфи сошла всего одна их серия — далее гитлеровцам стало уже не до «Флинков». Но эти — скоростные, мореходные и оптимально вооруженные — очень и очень пригодились военно-морским силам гросс-адмирала Редера. Несколько их так или иначе уже погибло, а уцелевшие отлично несли дозорно-патрульную службу и выполняли отдельные задачи в финских шхерах и других районах Балтики. В числе погибших немцы считали и этот, который на самом деле был целехоньким захвачен нашими «охотниками». У нас его не стали перевооружать и перекрашивать — оставили внешне немецким, на всякий случай. И вот очередной такой случай, видимо, опять наступил...
С неделю тому назад командиром «Флинка» был назначен гвардии капитан третьего ранга Рындин, а весь личный состав переукомплектован по персональному отбору. Большинство офицеров и матросов Рындин, кого лучше, кого хуже, но знал лично. Остальные прибывали с отличными аттестациями.
Сегодня, возвратясь из штаба, Рындин в своей каюте достал из внутреннего кармана пакет и, не распечатывая, запер его в настенный сейф с бронзовой львиной мордой-ручкой. На пакете четко указывалось: «000. Только лично командиру 027-го. Вскрыть... (дата, время, место)». Снял фуражку, пригладил волнистые волосы. Сел к столу. Глядя на портрет жены, задумался, но не о ней, не о доме — вернулся памятью к только что состоявшемуся разговору в штабе.
В кабинете адмирала Рындин увидел члена Военного Совета, начальника морской разведки, полковника ОСО и двух сухопутных — моложавого полковника и академической наружности немолодого инженера-полковника.
Обращаясь к ним, адмирал отрекомендовал Рындина:
— Вот наш новый командир трофейного «Флинка». После Добрякова, который еще не скоро выйдет из госпиталя, Рындин наиболее соответствует этой должности. В свое время он практиковал на гидрографическом судне, отлично знает предстоящий район действия, к тому же неплохо говорит по-немецки.
— Расскажите, пожалуйста, о себе вкратце, — попросил его по-немецки армейский полковник.
Рындин улыбнулся: проверяете?..
— А много и говорить нечего, — ответил тоже по-немецки. — Родился и рос в Ленинграде. Отец — сын адмирала — бывший мичман, служил в Петроградской чека, при ликвидации бандгруппы был тяжело ранен. По выздоровлении переведен в комендатуру Смольного, затем по болезни списан на пенсию и вскоре умер. Мама преподавала французский и немецкий языки. Погибла в первые дни блокады. По комсомольской путевке я прямо из школы пошел в военно-морское училище, которое закончил в тридцать девятом. С тех пор служу на Балтике. Катерник. Последняя должность — командир группы. Был аттестован на вышестоящую должность, но недавно вдруг получил назначение командиром трофейного скоростного сторожевика «027»...
— Так уж вдруг?
— Нет, конечно. Этому предшествовали предложение, собеседования. Но само предложение было для меня совершенно неожиданным.
— Вы жалеете, что дали согласие?
— Отнюдь нет. Первые же выходы в море показали широкие возможности использования корабля. О некоторых я доложил рапортом товарищу адмиралу...
— Это мы знаем. Командование по достоинству оценило ваши предложения. — Полковник кивнул и продолжил по-русски: — У вас неплохой восточно-прусский диалект...
Разговор шел обстоятельный. Решение всех экстренных вопросов адмирал на время перепоручил своему заместителю. Продолжили эту важную беседу уже в кабинете начальника разведки.
— Вам имя генерала Горбушина говорит что-нибудь? — спросил Рындина полковник. — Так вот, как вы уже догадались, конечно, мы — от него. Для принятия оптимальных решений и действий по обстановке вам следует знать суть дела...
— Так что давайте попросту — располагайтесь, закуривайте, слушайте, спрашивайте, уточняйте, — вставил инженер-полковник.
— Да-да, по-деловому и без субординации. Итак. Сейчас среди оккупантов на латвийском берегу живет одинокий старик Ян Баугис. Он был смотрителем маяка на Скалистом мысу. Это...
— Юго-западнее Ирбенского пролива. Я знаю, — кивнул Рындин.
— Ну да, вы же моряк! — спохватился полковник. — С маяка немцы Баугиса сразу турнули, но со двора, как говорится, он не ушел. Два сына Баугиса трагически погибли недавно, и отец, заметно тронулся умом. Во всяком случае, так немцы считают. Старик ютится в хилой лачужке на подворье маяка, перебиваясь рыбешкой да подаяниями тех же немцев из маячной команды, чистит сапоги их фельдфебелю и гефрайтору, топит печи... Потешаясь над блаженным, немцы пока не трогают его. Но вот беда: Баугис тяжело и опасно заболел — жизнь его может в любой день оборваться или быть оборванной. Гитлеровцы больных не жалуют — пристрелят запросто! Так что, пока не поздно, вам предстоит спасти Баугиса и доставить к нам...
На лице Рындина отразилось недоумение.Признаться, он ожидал чего-то большего. Полковник посмотрел на моряка понимающе:
— Конечно, любого человека жалко, любого хочется спасти, любой достоин этого, но... Война жестока и беспощадна, на фронтах каждый день гибнут тысячи наших замечательных солдат и моряков, и только ради спасения самого Баугиса, прямо скажем, командование едва ли стало бы рисковать жизнями целого экипажа вашего корабля. Однако рискует. Потому, что Баугис сумел сообщить, а точнее — намекнуть нам, что с начала войны является единственным человеком, знающим о сути чрезвычайно важного секрета и единственным хранителем его документации.
«Вот оно что! С этого и начинали бы! — подумал Рындин. — Однако не понятно, каким секретом может владеть простой маячный смотритель? И потом главное...»
— Простите, мне не понятно это «намекнул». Значит, определенности нет, есть только предположение?
— Определенность полная. Просто Баугис оказался весьма сообразительным и осторожным: он воздержался открыть секрет даже доверенным людям — мало ли что может с ними случиться! И составил чрезвычайно иносказательную депешу. Мы поначалу ничего не поняли, признаться! И, только кропотливо повозившись, установили, наконец: сталинит!
— Сталинит?.. — удивленно переспросил Рындин. — А что это?..
Инженер-полковник улыбнулся и мягко положил руку на руку моряка:
— О сталините мало кто знает. Сталинит — это минерал, который... Я вам проще объясню главное: сегодня сталинит — это броня! Гитлеровцы, слава богу, и не гадают даже, что лежит у них буквально под ногами. Но если сегодня секрет Баугиса попадет к ним, то завтра уже вермахт будет иметь лучшую в мире броню! Теперь вам ясно, какое задание поручают вам партия, Государственный комитет обороны и командование флотом?
— Теперь ясно, — тихо и сурово ответил Рындин. — Простите, а вы убеждены в правильности избранного варианта?
— Хороший вопрос, серьезный, — одобрил полковник. — Да, Георгий Андреевич, мы обсудили каждый с командованием, побеседовали с вероятными непосредственными исполнителями и остановились все же на этом, хотя и понимаем, что он тоже весьма не безопасен. Однако давайте еще раз рассудим — вместе. Называйте сами.
— Ну, первый — обыкновенный наземный.
— Хорошо. Какую великолепную группу ни снаряди — пройти порядка полутора тысячи километров туда-обратно по вражеским тылам, очень плотно насыщенным войсками и опутанным густой сетью полевой жандармерии, полиции, гестапо, контрразведки, ищеек «межа-кати» — это нереально. К тому еще: идти с рацией — верный немедленный провал. Идти без рации... Ну, допустим, группа доберется до Баугиса. Допустим. А дальше что? Возвращаться, имея при себе столь ценные документы, — все равно, что своими руками отдать их врагу! Оставить документы в тайнике Баугиса? На черта было тогда идти! Перепрятать документы в другой тайник, даже не имея возможности сообщить нам о его местонахождении? Тоже, знаете ли, Не фонтан благоразумия.
— Да, действительно, вариант неприемлемый. Ну, а авиавариант?
— О нем первом подумали. С генералом Самохиным обсудили, с его асами посоветовались. Вариант, конечно, самый оперативный, простой и наиболее надежный, если бы не одно «но». Латвия не только территориально в три раза меньше Белоруссии, но и во столько же слабее там партизанское движение: принимать наши самолеты партизаны не могут. Ладно, туда можно бросить группу. Это очень облегчит и упростит задачу, но только первую ее часть. А дальше как? Обратно?
— Дальше — буквальное повторение неприемлемого наземного варианта. Тоже отпадает, — согласился Рындин.
— Ну вот. Остаются морские варианты: подводная лодка или ваш «Флинк». Проход лодки по заливу летчики и артиллеристы обеспечат, но противолодочную преграду Нарген — Порккала она, как вы это сами лучше меня знаете, нынче не форсирует, то есть в море не выйдет...
— Даже «веселые ребята» не берутся? — удивился Рындин.
— Какие? — в свою очередь удивился инженер-полковник.
— Веселые. — Рындин тепло усмехнулся: — Это базовые красавицы прозвали так группу наших подводников-асов — Федю Иванцова, Мишу Калинина, Гришу Егорова, Богорада, Лескового, Сашу Маринеско и других командиров лодок. На базе в салоне, на танцах — это впрямь веселые ребята: красивые, улыбчивые, задорные. Зато в боевом походе, на позиции — умнейшие волевые командиры, люди поразительного мужества, хладнокровия и безграничной отваги...
— Вы правы, Георгий Андреевич, все названные вами смельчаки-асы готовы со своими командами выйти на любое задание. Но...
— Но не один из них, — заключил полковник после небольшой паузы, — ни один из них, а тем более командование, не гарантируют, что хотя бы дойдут до Баугиса.
— Вполне понимаю и согласен с ними. Я тоже не гарантирую, — сказал Рындин и испугался: — Нет-нет, вы только не подумайте, что я норовлю увильнуть!
— Успокойтесь, ничего подобного мы и в голову не берем. Признаться, удивило бы обратное — если бы вы стали заверять, что оправдаете высокое доверие и непременно выполните любое задание. А вы не гарантируете, и это свидетельствует лишь о том, что вы со всей серьезностью относитесь к поручению и реально представляете предстоящие опасности и трудности. — Полковник помолчал, разминая папиросу, и невесело продолжил: — Да, к сожалению, риск велик. Но все же у вас есть значительные преимущества перед подводными лодками, и это внушает изрядную и реальную надежду на успех экспедиции.
— Разрешите узнать, какие?
— Половину их вы сами лучше нас знаете. Однако я перечислю все, — полковник улыбнулся, — чтобы не сбиться. Прежде всего это мореходность и отличная скоростность вашего корабля. Последняя дает вам широкую возможность маневра, а то и прямое преимущество при вероятных встречах с кораблями противника. Второе — это малая осадка «Флинка». Подводная лодка была бы вынуждена буквально продираться сквозь минные поля, практически покрывающие сейчас всю Балтику, или же идти по узким коридорам-фарватерам, по каким ходят корабли врага. Что опаснее — трудно сказать. Вы же с осадкой «Флинка» можете в случае необходимости идти прямо по минным полям. Это, конечно, требует особой бдительности, смелости и мастерства, так как остается риск напороться на мины малого углубления и минные ловушки, но это все же воз-мож-но. А раз так, то дает и весьма существенную дополнительную возможность уйти от преследования: никто на минное поле за вами не полезет. Теперь — «трофейность» вашего корабля. Гитлеровцы знают, что у них на флоте есть «Флинки», знакомы с их силуэтом, знают, что они ходят на их коммуникациях. Поэтому, завидев вас, непременно опознают, сочтут своим и бить тревогу не станут...
— Вы специальные дымозащитные установки получили? Освоили их уже? — спросил инженер-полковник.
— Так точно. Освоили.
— Имитаторы пожара?
— Тоже. Это ваша забота? Спасибо, могут крепко пригодиться и выручить.
— Спасибо командованию скажите. Наша забота — иная. Для своих кораблей и судов любого класса, выполняющих особо секретные поручения, немцы недавно ввели специальные кодовые радиоавтоматы. Во избежание нежелательных задержаний, проверок, объяснений исполнитель нажимает тумблер — и аппарат автоматически посылает секретный сигнал, в переводе на русский означающий нечто вроде: «Я особенный, иду на спецзадание!» Один такой аппарат нам удалось заполучить, и мы его даем вам. Но предупреждаем: изменяется ли этот сигнал и через какое время — не известно. Так что панацеей от опасных контактов с вражескими кораблями и самолетами он не является. Но может сослужить добрую службу.
Второе. Таблицу наших позывных и кодов вы получите. На время вашей экспедиции генерал Самохин формирует специальную группу самолетов, которые будут на «товсь». В нее включены и летающие лодки. Не стесняйтесь, не ждите обострения опасности, а, едва завидев врага, сразу вызывайте прикрытие. Дабы не демаскировать «Флинк», наши будут, конечно, бомбить и вас, поэтому при налете вы сразу обозначайтесь, а то, чего доброго, и впрямь накроют. Условные обозначения — дымы, фальшфейеры и радиосигналы — получите вместе с таблицей. Увы, это все, чем мы практически можем вам помочь.
— Все! — усмехнулся Рындин. — Этого уже достаточно, чтобы мы спокойно вышли на задание.
— Тогда поспешайте. Ведь где он хранит документы, Баугис не сообщил, только пароль к себе: память Михаса.
— Память Михаса, — повторил Рындин. — Странный пароль. Но тем легче запомнить. А собираться нам — только подпоясаться. Приказ — и через двадцать минут мы отходим.
— Прекрасно. Пока мы тут беседовали, приказ и задание вам уже оформили — ступайте, получите. Все ясно? Вопросы остались?.. Тогда, дорогой Георгий Андреевич, остается пожелать вам полной удачи и благополучного скорого возвращения! Да, вот что еще... — полковник приблизился к моряку и, трогая пальцем пуговицу на его кителе, мягко, но убеждающе сказал: — Поймите меня правильно, Георгий Андреевич. Мы отнюдь не хотим внушать вам подозрительность и недоверие к людям, с которыми вы идете на такое задание. Тем паче — к таким, как ваши! И все же — будьте, пожалуйста, постоянно бдительны и немногословны.
Мысли Рындина сосредоточились на походе. Он оценил метеопрогноз, обстановку в районе плавания, данные авиаразведки, рапортички о состоянии боевых частей корабля, его обеспечении... Ох, сколько всего, о чем необходимо позаботиться командиру корабля перед каждым выходом в море на боевое задание! Особенно — такого, хотя все уже продумано, подготовлено и проверено.
Вроде все безупречно, разве что некомплект команды чуть огорчает — экипаж корабля и так минимальный. Ну, да кто сейчас с полной ходит! Правда, в штабе Рындина заверили, что офицера, радиста и кока ему подобрали и уже направили...
Рындин выдернул из держателя трубку телефона, позвонил старпому:
— Слушай, Куракин, последние, недостающие по штату прибыли из отдела комплектования?.. Нет, ждать не придется. Товарищ старпом, корабль экстренно к бою и походу изготовить!
Тотчас по кораблю рассыпалась прерывистая дробь электроколоколов громкого боя: др-дррр... др-дррр... др-дррр!..
Корабль уже отваливал от стенки, когда из-за эллинга на берегу выбежали два моряка.
— Эй, на «Флинке»!..
— Полундра, черт!.. — кинув на палубу тощий вещмешок, крикнул старшина.
Прыгнул на привальный брус, ухватился за планшир фальшборта, вскарабкался. Офицер ловко сиганул следом. Это уже понравилось всем на борту: хватка у новичков гвардейская! Тут же прыгуны предстали перед командиром.
— Товарищ капитан третьего ранга, старшина второй статьи Пучков прибыл на корабль для прохождения дальнейшей службы! — отчеканил юркий новичок.
— Добро. Позже познакомимся поближе.
— Гвардии старший лейтенант Федотов, — представился офицер. — Из госпиталя. Назначен к вам на должность командира БЧ-2[94], по специальности.
— Знаю, извещен, — ответил Рындин, передавая их документы старпому. — Добро пожаловать. А где третий?
— Старший матрос Усаченко? Он где-то отбился по дороге.
— То есть как отбился? Вы где были, почему задержались? — строго спросил Рындин.
— Извините, товарищ командир. Бомбежка прихватила — патрули проходу не давали.
— А-а, да-да. Ну хорошо, вступайте в заведование, потом представитесь кают-компании. Старпом, введите товарища Федотова в должность, пожалуйста...
Переход с самого начала дался трудно.
Идти пришлось днем. В устье Финского залива близ финского берега прочно сидел на банке громадный неуклюжий немецкий транспорт, торпедированный нашей «малюткой» еще в первый месяц войны. Поначалу «финики» пытались использовать его как свой пост наблюдения и оповещения, но вскоре же отказались от этой затеи: наши подводники, катерники и летчики сбивали наблюдателей, едва те появлялись на останках «купца». Так он, весь искореженный, и ржавел тут, как громадная зловещая веха обозначения банки.
Рындину путем всяческих уловок удалось все же к концу дня подойти незамеченным к ржавой громадине. Подойдя — приткнулся, замаскировался и замер. Вроде бы ни атак не было, ни боя, ни артобстрела, ни бомбежек, а устала команда чертовски. «Дальше куда труднее будет», — подумал Рындин и приказал:
— Выставить на «купца» наблюдающих, а остальным, кроме вахты, спать!
Настороженно стали ждать темноты. Вскрыв секретный пакет, Рындин, в сущности, ничего нового не узнал: приказ и инструкция лишь дублировали недавний разговор. Запомнив некоторые уточнения, он уничтожил документы и, вызвав Куракина, стал обсуждать с ним дальнейшее...
Время шло, а темноты все не было. Рация работала только на прием. Офицеры сдержанно ругали хорошую погоду. Рындин спокойно посматривал на часы. Распорядился:
— Будите людей. Крепкий чай, консервы, и — по местам.
Сам тоже неторопливо выпил с офицерами в кают-компании стакан чаю, съел ломоть хлеба, щедро намазанный свиной тушенкой «второй фронт». Поднялся из отсека в радиорубку. Эфир молчал. Рындин излишне часто стал посматривать на часы. Наконец радист услышал условленный сигнал: начали!
На островок, в который упиралась южная оконечность мощной гитлеровской противолодочной и надводной преграды залива, вдруг обрушился неожиданный удар советских самолетов. Эфир тотчас заполнился тревожно-поспешными запросами-ответами-приказами-докладами. Враги занервничали и на какое-то время растерялись. Сейчас все их внимание устремилось к южному берегу, где взметались громыхающие фонтаны земли, огня и воды.
В это время на севере «Флинк» выскочил из засады и, прикрываясь дымами и ночной мглой, со всяческими ухищрениями форсировал непреодолимую преграду и вырвался в открытое море.
Нынче всех тревожил упорный слух о том, что, пока мы доводим конструкцию секретной новинки, гитлеровцы уже выпустили серию радаров и в первую очередь устанавливают их на наиболее важных береговых постах наблюдения. Слухи, конечно, только слухи, но разве не бывало так, что вчерашний слух сегодня оказывался реальностью?.. И нашу разведку не мог не беспокоить этот вопрос. Однако ночной рывок «Флинка» доказал, что никаких локаторов на финском берегу у врага еще нет. Иначе не быть бы «Флинку» незамеченным и неатакованным.
А тут уже рассвело. И опять пришлось идти днем. Потому что укрыться было негде. Да и вообще требовалось спешить — к ночи надо быть на месте. Ибо, разумеется, только ночью мыслимо рискнуть подойти к берегу, высадиться, пробраться к маяку, найти Баугиса, вернуться с ним на корабль и уйти.
И Рындин шел самым полным, предельно усилив наблюдение за морем по горизонту, воздухом и водой под килем.
— Справа по носу, курсовой угол пятнадцать — корабль противника! — доложил сигнальщик.
— Есть, вижу, — отозвался Рындин, не дослушав доклад. Всмотрелся, сказал вахтенному офицеру: — Лейтенант, сбавьте ход до среднего.
— Есть средний, — доложил тот, недоуменно переглянувшись со старпомом. — Боевую?..
Командир помедлил, вглядываясь в приближающийся корабль. Решил:
— Пожалуй, не стоит. Они могут разглядеть и встревожиться. — Взял микрофон, объявил по кораблю: — Слушать всем! Сближаемся с кораблем противника. Всем быть на «товсь», занять свои места по боевой тревоге, а пока без вызова на палубу не выходить. Офицерам надеть белые кители. Это и вас касается, — сказал вахтенному. — Старпом, подмените на время вахтенного начальника, а потом сами переоденьтесь.
— Есть, — громко ответил Куракин, а тихо спросил: — А зачем, Георгий Андреевич?
— Труднее различить, белые у всех почти одинаковы.
Корабли настолько сблизились, что Рындин уже хорошо рассмотрел противника — и успокоился: это был уже «пожилой» финский сторожевик. «Флинк» мог запросто уйти от него, да и в бою потягаться на равных.
Согласно ППСС[95] «Флинку» следовало чуть посторониться, но он с фашистской наглостью пер, ни на градус не меняя курса. Сблизясь, включил трофейный кодовый автомат-сигнализатор, подкрепив его еще набором сигнальных флагов, надменно диктующих: «Продолжайте следовать своим курсом. Встречи не было». Финский сторожевик, на мостике которого были и офицеры-немцы, пугливо шарахнулся в сторону, тотчас ответив: «Есть. Понял. Исполняю». И промчался мимо.
— Дайте машинам «самый полный», — сказал Рындин лейтенанту и объявил по трансляции: — Слушать всем. Отбой предыдущему приказанию.
Далее рындинцам весь день сопутствовала удача. Несмотря на хорошую погоду, «Флинк» не стал мишенью ни одного самолета и лишь один раз встретился с вражеским конвоем в семь вымпелов. Но конвой прошел другим фарватером, в отдалении, не обратив на «Флинк» ни малейшего внимания.
Новичкам на борту — офицеру Федотову и матросу Пучкову — пока что тоже везло. Внедрились в экипаж «Флинка» они весьма хитроумно, естественно и теперь подозрений даже не опасались. А к вечеру старлейт Федотов ко всему еще и «вступительный экзамен» сдал команде и офицерам на «отлично». Получилось это так.
Если от вражеских кораблей «Флинк» мог увильнуть, то от авиации противника никакие минные поля не могли его уберечь. И вот уже близ Ирбенского пролива рындинцев обнаружил немецкий морской самолет-разведчик. Это особенно встревожило Рындина.
— Объявляйте тревогу, — приказал он вахтенному офицеру.
Заметив корабль, разведчик сделал над ним круг, потом круто спикировал. Рындин приказал открыть огонь, и, лично командуя кормовой зениткой, Федотов первыми же снарядами, которых даже очередью не назовешь, заставил самолет нырнуть в море.
Стало совершенно ясно, что летчик просто физически ничего не успел сообщить своим, и Рындин по трансляции объявил благодарность расчету пушки и Федотову. Следом поздравили новичка-офицера и комендоров остальные моряки.
Сбив своего, Федотов жалости не ощутил. Чего не сделаешь ради собственного успеха! Досадно только, что основному делу это ничуть не способствует. Пока что...
Какое особое задание выполняет Рындин, оставалось по-прежнему загадкой. До сих пор Марсу не удалось даже определить, куда идет «Флинк». Заглянув при случае в штурманскую рубку, ни генеральной, ни путевой карт Федотов там не увидел. Вопреки обыкновению и правилам, их там не было! Обе карты хранились под замком в каюте старпома Куракина, и для работы с ними старпом или вахтенный офицер спускались туда. Таким образом, мельком подсмотреть Федотов мог только показания курсографа или путевого компаса в данный момент, что не давало даже приблизительного представления о генеральном курсе, так как Рындин довольно часто изменял направление движения, а наведываться в ходовую рубку и подглядывать Федотов не мог — не было причины.
Ничем помочь ему не мог и радист Пучков. Еще на берегу Рындину была запрещена постоянная двусторонняя связь. «Флинку» разрешалось слушать, а самому радировать только в исключительных и особо оговоренных случаях. Поэтому вахтенный радист лишь тщательно контролировал эфир, особенно прислушиваясь: не сообщит ли что-либо «Флинку» штаб? А передатчик в радиорубке был вообще отключен и опломбирован. За весь день Рындин послал штабу лишь одну коротенькую радиошифровку, для передачи которой старпом лично распломбировал и снова запломбировал передатчик.
Так что Федотов руками Пучкова не мог сообщить своему разведцентру не только о движении «Флинка», но даже о своем удачном внедрении в его экипаж.
На маяке прошла большая часть жизни Яна Баугиса. Сюда он привел жену, здесь вырастил двух сынов, здесь овдовел, здесь недавно потерял второго и последнего сына...
И здесь же теперь нищим приживалом у гитлеровцев мученически растягивал черные дни своей старости, которая уже явно спешила оборваться. Ян не цеплялся за жизнь, ему просто надо было дожить до возвращения Советской власти или надежной связи с ней.
Старший сын Яна в начале войны был насильно мобилизован немцами в «латышскую дивизию» и вскоре погиб на Восточном фронте. До отца дошли слухи, что его Арвида — при попытке перебежать к «сталинцам» — срезал из пулемета свой же ротный. Младший сын, Бруно, был связан с латышско-советским подпольем. Это окончательно открылось отцу недавно, когда Бруно взялся передать на Большую землю секретное сообщение отца. Ушло ли, было ли оно принято и понято Центром — отец так и не узнал: Бруно в городе схватили гестаповцы...
До войны, едва только Латвия снова стала Советской и вошла в СССР, на маяк по весне заехала кавалькада из восьми всадников при двух повозках — этаких «детей прерий» в ковбойках, бриджах и стетсонах. Возглавлял их рыжеватый мужчина лет тридцати пяти — общительный, веселый и уважительный.
— Здравствуйте. Вы хозяин? Вы позволите нам ненадолго остановиться здесь? Мы не помешаем...
Баугис молча слушал, попыхивая трубочкой. Гость чуть смутился:
— Извините, мы по-латышски еще не научились, а вы по-русски...
— Это ничеко, я русский помню, — сказал Баугис и пожал гостю руку. — Сдрафствуйте. Меня софут Ян Баугис.
— А я Михаил Михайлович Михеев — запомнить легко. Я начальник геолого-поисковой партии, вот мои товарищи по работе, — указал на остальных «ковбоев». — Мы обработаем этот участок и перекочуем дальше.
Так состоялось знакомство. Через полчаса повозка уже стояла в сарае, расседланные лошади хрупали овес под навесом, а геологи весело варили в ведре уху.
Вечером у затухающего костра Михеев и Баугис беседовали уже как давние друзья.
— Я в Кронштадт служил в китрокрафическом отряде атмирала Рындина, — свободно, но с сильным акцентом рассказывал латыш. — Слышаль такой? У неко сын гардемарин был... Ошень умный был атмираль и польшой туши человек. Царский министр, турак, прокнал его. Прощаясь с нами, атмираль коворил тем, кто уже выслужил: «Ну, пратцы, пока я еще в силе, просите, кому чеко нужно. Што моку, стелаю». И я пришел к нему и коворил так: «Ваше превосхотительство, госпотин атмираль. У меня тома нет, земли нет, скота нет, ротных нет, жены нет — ничеко нет. Явите милость, стелайте меня маячным служителем». И он сказал мне: «Я тепя снаю, унтер-офицер Ян Баугис. Слушил ты достойно: на морякоф не доносил, перет начальстфом не подличал, матроса ни расу не утарил, новобранца не обител. Быть тепе не служителем, а смотрителем маяка. Обещаю». И с тех пор я сдесь, на этом маяке...
День ото дня дружба крепла. Несмотря на разницу в возрасте, они очень привязались друг к другу, прониклись взаимной симпатией и уважением. Михеев был одержим поиском сталинита. И упрощенно растолковал Баугису, что со студенческой скамьи ищет залежи очень редкого минерала, которого у нас в стране крайне мало и который ей нужен для варки высокосортной стали.
— О та, это таст польшой польза наш феликий страна! — соглашался неторопливо Баугис. — Я теперь хорошо понимаю, ты ошень важный тело телаешь, Михас!
...Незаметно подошла осень, и Михеев снова наведался к Баугису — проститься. Геолог был мрачен:
— Не знаю, папа Ян, свидимся ли еще. Ни черта мы опять не нашли, а третью экспедицию мне уже не дадут.
— Сачем так? Сам говорил — ошень нужно, теперь говоришь...
— Да тут такое дело, понимаешь!.. Есть у нас в Геолкоме один крупный специалист. Ученый, мэтр!.. Он давно определил, что второго месторождения этого минерала у нас нет и быть не может. Так и считалось. А тут объявляется какой-то Михеев и нахально заявляет: есть! Ну ладно, разрешили мне экспедицию. Обшарил я всю Белоруссию, вернулся ни с чем. Ученый посмеивается: я же говорил!.. А я на своем стою: есть! Только поиск надо распространить на запад, а граница не пускает. Поиздевались надо мной: ловко, мол, вывернулся — и на том конец. А тут Латвия опять вошла в СССР! Я снова в драку. Добился! Приехал. И опять ни черта не нашел! Теперь все, крышка, больше не пошлют. А я убежден: есть минерал, есть, черт меня побери! Вот здесь где-то, рядышком!..
С этим и расстались.
Студеной хмарью укрыла Латвию знобкая прибалтийская зима. Но вот снова посветлело, потеплело, хрустальная капель перешла в серебряную птичью разноголосицу. Правда, весна не принесла обычной радостной благодати: грозовые тучи на западе густели, приближаясь и суля лихое ненастье. Латвия это особенно остро чувствовала...
Однажды на исходе дня на тропе к маяку показался среди сосен одинокий путник с большим рюкзаком на спине. Опираясь, как на трость, на молоток с длинной рукояткой, он подошел к крыльцу, устало скинул ношу и широко улыбнулся смотрителю:
— Здравствуй, папа Ян!
Старый Баугис даже прослезился от радости...
Потчуя дорогого гостя простой и сытной домашней снедью, Баугис даже проявил несвойственную ему суетливость — так был рад.
— Жаль, сынов тома нету. Арвид в море салаку берет, Бруно в гороте... Он еще совсем юнга, молодой, значит. Жизнь-то трутный быль, женился я посдно, детей родил посдно. Раньше сердился, теперь радуюсь: сам старый уже, а сыны молотые!.. Фот хорошо, Михас, фот ты и приехаль! А говориль — польше не дадут ехать.
— А мне и не дали. Спасибо, папа Ян, очень вкусно!
— Нету са што. Ты ковори, ковори, как все устроил, как приехаль.
— Я сказал уже: шиш мне дали, а не экспедицию. Подал я заявку, начальство ее, конечно, зарубило. Я разругался, уволился, продал книги, барахлишко — и приехал.
— Отин?
— Один. А что мне остается? Нанимать помощников не на что, бросать поиск нельзя — буду один искать. Надо! Я должен найти этот минерал, папа Ян, понимаешь, должен!
Старик Баугис долго сопел трубкой, потом сказал:
— Понимаю. Ты крепкий человек, Михас. Ты любишь рапота, знаешь свой дело, имеешь карактер и твердо идешь на цель. Ты совсем как латыш, только корячий. И ты притешь к своей цель, я снаю.
Ян помолчал, посопел.
— Тепе сейчас нушен лошать. У меня нет лошать. Лотка есть, катер есть, сопака есть — лошать нету. Катер касенный, лотка плохой, сопака — друг... Но мы скопили деньки на новый кароший лотка. Подожти, придет Арвид и купит тепе лошать...
— Нет, нет, и не думай!..
— Помолчи, не корячись. Старый Ян всекда тумает, что говорит. А тумает он так. Советский власть тал Яну и его сынам хороший, крепкий спокойный жиснь. Михас старается не тля сепя, а для советский власть. Мошет Баугис чуть-чуть помочь ей, когда Михасу трудно? Должен! Если он порядочный человек. А старый Ян всегда был порядочный унтер-офицер и латыш.
— Спасибо, папа Ян, большое спасибо! И все же не траться. Лошадь мне нужна, конечно, но лошадью мне пограничники помогут, уверен: мы с ними крепко подружились прошлым летом...
Вечером вернулся из города Бруно. Втроем поужинали, посидели еще, поговорили... А на рассвете Баугис проводил Михеева до шоссе и, взяв с него слово осенью непременно наведаться, простился.
Встреча произошла значительно раньше.
...Мимо маяка шли и ехали разрозненные части обескровленных неравными боями войск. В знойной пыли мелькали суровые лица, бинтовые повязки с бурыми пятнами. Сигналили автомобили, громыхали колеса орудий, санитарных и хозяйственных повозок, вразброд шаркали сотни сапог и ботинок. Время от времени кто-то кричал «Воздух!» — и все, кто мог, сбегали и съезжали с дороги, прячась куда попало. С воем и стрельбой проносились серые самолеты — вдоль шоссе рвались серии бомб, взметалась земля, повозки, вспыхивали машины, кричали раненые, падали деревья, визжали кони...
Но вот все стихло.
Старик Баугис вышел на шоссе и с болью смотрел на взрывные воронки, трупы, догорающие машины, разбитые тачанки. Шоссе опустело.
И тут с запада появился еще какой-то отряд. Баугис отступил за деревья, вглядываясь. Наконец различил тачанки с патронными ящиками и пулеметами и человек тридцать всадников в зеленых фуражках. «Свои! Пограничники!» Старик Баугис снова вышел на дорогу, и вовремя.
— Папа Ян! — крикнул единственный штатский в застиранной клетчатой ковбойке, спрыгнув с коня.
— Три минуты, — жестко сказал мрачный капитан и подал пограничникам знак спешиться.
Михеев обнял Баугиса, увлек за деревья:
— Еле уговорил капитана ехать мимо маяка Это все, что осталось от личного состава здешних погранзастав, — указал на конников. — Нашел! Нашел я минерал! Слышишь, папа Ян, нашел!!!
Михеев поспешно достал из полевой сумки завернутые в коричневую компрессную клеенку толстую тетрадь, карту, полевые записные книжки.
— Вот, тут все. Единственный экземпляр! Понимаешь? Только тебе и мог доверить! Специально ехал. Я это не мог держать при себе. Сам видишь, что кругом творится, а это большой секрет! Документы ни в коем случае не должны достаться фашистам! Понимаешь: ни в коем случае! Поэтому спрячь у себя, сохрани. Понял?
— Почему не понял, фсе понял. Путь спокоен, сохраню, — просто ответил Баугис.
— Если к тебе придет человек и скажет слово «сталинит» — значит, он от меня. Никаким другим не верь! Ста-ли-нит. Запомнил?
— Сапомнил. А может, сам останешься? Скашем, што ты...
— Нет, папа Ян, нет. Я должен...
«По коням!» — послышалась команда.
— Прощай, папа Ян! — порывисто обнял старика Михеев.
— Сачем прощай — до свитанья, Михас. Храни тепя бог! Я буту ошитать тепя, Михас! — уже вслед другу сказал Баугис.
К старику подхромал раненый конь. Остановился, жалобно глядя. Старик нагнулся, осмотрел, скрутил из платка жгут — перетянул кровоточащую ногу. Погладил.
— И тебе досталось ни за что, бедняга. Ну, пойдем, может, что и получится, — сказал по-латышски.
Конь понял и, припадая, побрел следом.
На другой день рано утром Бруно вернулся из города, как они называли ближайшее местечко. Отец вечером дотемна провозился с раненым конем и сейчас еще спал. Проснулся от стука. Сын поздоровался, умылся, молча сел за стол. Отец молча налил ему простокваши, поставил на стол блюдо с картошкой. Молча стали завтракать — Баугисы не любили болтовни и пустословия. Утолив первый голод, отец спросил:
— Почему вчера не пришел? Я ждал.
— У моста на нашем шоссе бой сильный шел.
— Слышал. А потом, к ночи? Побоялся?
— Нет. Вышел, да задержался.
— Почему?
— Пока лопату нашел, пока похоронил...
— Кого?
Сын вытер руки, достал из-под пиджака старую полевую сумку, положил на стол. Отец отстегнул, откинул клапан. На изнанке его чернела надпись «Мих. Михеев». Старик, потемнев, тяжело перекрестился.
— Лица не было, я его по рубашке узнал, — сказал Бруно.
Ян ударил кулаком по столешнице — так, что деревянное блюдо подскочило:
— Проклятые боши!
— Это не они, это банда Ансиса.
Ансис издавна на всю округу славился! Был поначалу обыкновенным хуторянином, затем подался в айзсарги. Стал богатеть. Сначала закабалил соседей-хуторян, а там и вовсе завладел их хуторами. Сына в Ригу учиться отвез, хвастал, что выведет его в большие люди. Не успел. И сам рухнул: латыши установили опять Советскую власть! Озверев от злобы, Ансис с сыном ушел в лес к бандитам...
— А при Ансисе — люди заметили — уже были два офицера в немецкой форме, — сообщил Бруно.
Старик, казалось, не слышал. Он сидел, не шевелясь, уставясь взглядом в столешницу. Потом тяжко вздохнул:
— Так. Значит, никто уже не придет, не скажет «сталинит»...
— Чего не скажет? — не понял Бруно.
— Да так, ничего... Пойди, напои беднягу — раненые всегда пить хотят...
Прошел год.
Трагически погиб Арвид — и старика заметно подкосила утрата. Он крепился, но все чаще прихварывал, по два-три дня отлеживаясь в своей лачужке, куда его выселили немцы. Бруно пристроился в местечке и лишь наведывался к отцу, объясняя это тем, что боится немцев. Однако отцовское сердце чувствовало — не в боязни дело. Да и не был никогда Бруно трусом.
И вот как-то раз, когда отца особенно прихватило, он поведал сыну свою тайну. Не полностью, а лишь главное: что случайно стал хранителем очень важного секрета, о каком никто, кроме него, не знает. А должны знать. Но — только в Москве! Как тут быть?
Бруно долго молчал. Наконец решительно бросил:
— Пиши. Только коротко.
— Что?
— То, что нужно сообщить.
— Объясни.
— Не могу. Я связан словом.
Теперь отец замолчал, точно, как сын. Потом сказал:
— Ты меня огорчил, сын. Ты меня очень огорчил. Я всегда считал, что мы с тобой — один человек. Одна душа, одно сердце, одна мысль. Я тоже давал слово. Но я открылся тебе, потому что ты — это тоже я. Значит, я ошибся.
— Нет. Прости меня. Я скажу. Я принадлежу к настоящим латышам, какие сейчас борются за Советскую Латвию. У нас есть связь с Большой землей. Я доставлю твое донесение Милде, она сообщит в Москву.
— Доставишь? Но ведь это опасно.
— Да, это опасно. Но ты не сомневайся, к врагам твое донесение не попадет.
— Я не сомневаюсь, я... А кто эта Милда? Дочка Ансиса...
— Ты с ума сошел!
— Ничуть, отец. Милду еще при Ульманисе жандармы называли «Советка». Перед войной она была секретарем райкома комсомола, стала членом ВКП(б). Сейчас Красная Милда — руководитель подпольной организации молодых патриотов Латвии. Ее штаб имеет радиосвязь с Москвой.
— Красная Милда! Несчастная! Такой девушке бог дал такого отца!
Больной Баугис тут же стал писать донесение. Ему было вдвойне страшно: и за сохранность секрета, и за судьбу последнего сына. Написал он иносказательно, чтобы не только немцы (попадись им Бруно, не дай бог!), но даже радист не догадался ни о чем.
Это оказалось неимоверно трудной работой, Баугис, наверно, никогда еще так не уставал. Но он с детства привык все делать обдуманно и добросовестно. И сейчас, придирчиво перечитав окончательный текст, аккуратно сжег все черновики, а депешу уверенно вручил сыну.
Утром Бруно ушел. Навсегда...
Когда сумерки загустели, Рындин, учтя слабую волну, ветер и прилив, круто повернул и повел «Флинк» через минное поле. Риск оправдал себя: как раз с наступлением темноты «Флинк», никем не замеченный, вошел в маленькую бухту.
Федотов лютовал, не понимая, куда же они пришли. По военному времени маяк, разумеется, не работал, его немцы включали только в исключительных случаях, по особому распоряжению — на считанные минуты. А никаких характерных береговых ориентиров тут не было — берег как берег. Особенно ночью. Днем хоть саму башню маяка видно, а это уже ориентир — если, конечно, хорошо знаешь лоцию. Мало ли по берегам маяков настроено!..
По подготовке десантной группы Федотов, конечно, сразу сообразил, что сейчас начнется самое главное, но просьбу его об участии в десанте Рындин категорически отверг.
— Что вы, Николай Николаевич! А стрясется что — кто нас огнем прикроет? Нет, нет, вы здесь необходимы. Поднимите-ка лучше подвахту своих пушкарей да пулеметчиков — пусть у них заранее глаза к темноте привыкнут.
Командир сам отобрал моряков в группу десанта и сам повел ее. Куракин даже не заикнулся о себе, заведомо зная — бесполезно.
Ночь выпала новолунная, темная, узенькая скобочка месяца еле просматривалась сквозь облака.
Едва первая «надувашка» освободилась от людей, в темноте захрустели галькой чьи-то шаги. Моряки распластались меж камней. Неторопливо прошел патруль. Гитлеровцы чувствовали себя здесь в полнейшей безопасности, а потому патрулировали беспечно.
Высадились парни и из второй лодки. Оставив охрану, Рындин повел группу к маяку. Примерное направление он прикинул по карте, а приблизившись, увидел на фоне неба над кронами сосен вершину башни. Подойдя к маяку, моряки залегли на краю неогороженного двора. Рындин знал: ночью армейские разведчики наблюдают местность снизу. И тут, вглядевшись, различил на более светлом фоне неба слева от маяка силуэт большого сарая, а справа — маленькой хибарки. Вероятнее всего, Баугис обитал в ней. Моряки ящерицами стали подбираться к ней, но едва ступили на лужайку, их встретил беспокойный собачий лай. Одновременно скрипнула дверь, и на крыльцо вышел гитлеровец. Лай он принял на свой счет и зло хрипнул:
— Ферфлюхтен хунд!
Обиженно ворча, пес вернулся в будку и затих. Лязгнула задвижка двери.
Моряки благополучно добрались до хибарки.
Внутри ее их ждал сюрприз. Огонек коптилки хилой, трепетной желтизной чуть освещал убогую постель и возле нее — жилистого немолодого ефрейтора в старомодных очках. Появление советских моряков не столько испугало, сколько удивило немца.
— Руих! Хенде хох! — негромко приказал ему Рындин.
Немец и не порывался шуметь. Подняв руки, он тихо залопотал, кивая на лежащего Баугиса:
— Фатер Ян плехо, зер плехо. Эр ист кранк.
— А вы почему тут? Вас махен зи хир? — спросил Рындин.
— О, я есть камрад. Я есть кранкенвяртерин...
— Гут. А сами кто? Наме, форнаме, труппентайль?
— Их бин Эрих Кнопп, гефрайтер фузилер-регемент...
— Генук. Зетцен зи руих! — велел ему Рындин и склонился к больному. Тронул его, сказал, глядя в открывшиеся глаза: — Здравствуйте, товарищ Ян Баугис, мы пришли...
Мутный страдальческий взгляд старика просветлел. Он медленно повел взором по «крабу» на фуражке, пуговицам, нарукавным нашивкам офицера (погоны Рындин специально не надел, хотя они у рындинцев уже были, — чтобы не смутить старика) и кивнул:
— Пришли, сначит... Слово мне скажешь, сынок?
Рындин склонился еще ниже, шепнул:
— Память Михаса.
Старый Ян откровенно радостно улыбнулся:
— Прафильно. Тошла, стало пыть, моя тепеша! Теперь... Ох, тушно мне...
— Выйдите все, — приказал Рындин.
— Та Эриха не обитте, он хороший человек, — позаботился Ян. С трудом старик тихо договорил офицеру: — ...вот так он погип, вечная ему память. А токументы еко я береку, спрятал от бошей. Восьми их, они пот сопачей буткой...
«Легко сказать! Поди возьми у этого волкодава!..» — растерянно подумал Рындин.
Баугис понял замешательство офицера и подсказал:
— Эриху поручи, еко сопака люпит. Я уже не моку... Ити, бери, фам нато спешить. Прощай, сынок! Та бейте этих проклятых наци!
— Уже лупим. Крепко лупим! А прощаться, папа Ян, не будем. Сейчас заберем вас, а дома вы́ходим, поправим. Еще Победу вместе отпразднуем!
— Это уже не выходишь, это — конец. Оставьте меня тут, на моей земле, я так хочу. Спасипо вам, што пришли, теперь мне спокойно. Ступайте, сыны, спешите. Дай опниму тепя...
Артиллерист вышагивал по палубе, как тигр по клетке. Что там делается на берегу? То ли кого-то высаживают, то ли наоборот — принимают, то ли подменивают... А может, что-то совсем другое?.. Да, как все удачно началось и как трудно и безуспешно сложилось в походе. Ну, да ничего, что-нибудь еще предпримем, возможности есть!
«Ишь ты, новичок, а переживает, как за родных!» — наблюдая за Федотовым, с симпатией подумал о нем старпом Куракин, сам с тревогой ожидая возвращения десантников.
На черной воде мигнул синий глазок фонарика. Куракин вздохнул облегченно: идут!
— Боцман. Принять людей и шлюпки.
Едва ступив на палубу, Рындин приказал помощнику:
— Самый полный! Держи, как по ниточке, контркурсом. Я сейчас...
Спустился к себе в каюту, умылся, присел к столу, вглядываясь в путевую карту. Перевел взгляд на портрет жены, представляя себе обратный путь. Спохватился, взял со стола пакет с документами Михеева, положил в сейф. Запирая его, оглянулся, почувствовав чей-то взгляд. В двери стоял Федотов.
— Извините, у вас открыто, — сказал он и вытянулся. — Разрешите изложить, товарищ командир?
— Да, пожалуйста. Заходите. Слушаю.
— Я наши «артпогреба» еще раз проверил. Грустная картина. Пулеметных лент и зенитных обойм еще так-сяк, а вот для наших «главных калибров» патронов вовсе не густо. Я решил напомнить, чтобы в случае чего вы это заранее...
— Спасибо. Знаю, Николай Николаевич, знаю. А где их взять-то? Пушки-то трофейные... Чем еще порадуете?
— Больше ничем. И этого хватит. Разрешите идти?
— Добро. Да! Скажите старпому, чтобы на завтрак подняли всех. А то еще не известно, как день сложится.
— Есть, — четко ответил Федотов и вышел.
О выполнении задания Рындину было приказано сразу радировать в штаб. Командир написал лаконичное донесение, закодировал, зашифровал и поднялся в радиорубку.
— Осваиваетесь? — спросил радиста-новичка.
Пучков оглянулся, сорвал наушники, вскочил.
— Никак нет, товарищ капитан третьего ранга.
— Ну как же, аппаратура-то — немецкая.
— Так оно что немецкая, что китайская: приемник есть приемник, передатчик — передатчик.
— Тоже верно. Заступили?
— Никак нет. Наоборот — сейчас сменяюсь.
Рындин посмотрел на часы:
— Ничего, еще успеете. Вот, передайте штабу. И возьмите «квитанцию». Старпом сейчас придет.
— Слушаюсь.
Едва Рындин ушел, в рубку протиснулся Федотов. Завершение явно неудающейся разведки им было уже придумано, и весьма эффектное. Но для осуществления его совершенно необходимой стала связь. Федотов понимал, что Рындин вот-вот должен что-то сообщить своим, и ждал этого.
— Что он дал? — Взял у Пучкова шифрограмму, посмотрел на группы цифр, зло сплюнул: — Тьфу, и шифрует сам!
— Сам. Коды, шифры — все у него. У нас только волны да позывные.
— Сволочь. Это, конечно, донесение о выполнении задания. Задержи его, не передавай.
— Задержи! Он же квитанцию потребовал! А ее мне самому не сделать, не зная сегодняшнего штабного кода.
— Да-а.. — Федотов покусал губы. — Тогда вот что: перепутай всю эту цифирь. Квитанцию приемщик даст сразу, а пока там провозятся с дешифровкой и станут выяснять-переспрашивать — будет уже поздно. Ты завтрак уже приправил?
— Когда же мне было? Я же на вахте. Сейчас сменяюсь...
— Сейчас уже раздавать будут! Давай сюда, я сам...
Пучков дал Федотову мягкую растворимую капсулу с мутно-белой пастой. Взамен получил текст.
— Вот это отстучи нашим. А я на камбуз...
— Как же отстучать — при старпоме-то!
— А вот это уже твое дело. И попробуй не сделать!..
Федотов ушел. Пучков скривился: с Марсом шутки плохи! На задание они отправились вчетвером, а остались уже вдвоем! Один, правда, сам сгорел, но другого Марс убрал — глазом не моргнул! Так что надо выкручиваться. Пучков подумал и приложил радиограмму Фетодова к радиограмме Рындина. Приготовил сменный кварц настройки. Надел наушники.
В рубку вошел старпом.
— Включайте, Пучков, — разрешил радисту, проверив и сорвав пломбу. — Поехали...
Пучков быстро передал исковерканную депешу Рындина, принял «квитанцию» штаба и с последним ее сигналом незаметно выключил рацию.
— Вот черт! Извините, товарищ старпом, видимо, конденсатор пробило. Одну секундочку!..
Откинул стенку передатчика, покопался в нем, ловко сменил кварц настройки на волну немецких кораблей,захлопнул стенку.
— Готово.
Быстро дал позывные... Еще раз... Принял отзыв.
— Порядок! Просят повторить...
Застучал: «Я «Марс-Z». Определиться не могу. Запеленгуйте передатчик, место определите авиаразведкой по пеленгу. Это немецкий типовой «Флинк», являющийся советским разведчиком чрезвычайной важности. Подготовлен мною к захвату. Команда отравлена, сопротивляться не сможет. Спешите захватить. Через час покину корабль на плотике, имея радиомаячок «М». На «Флинке» зажгу оранжевый дым. Как поняли?»
Близкий и сильный передатчик тотчас отозвался: «Вас слышу отлично, все поняли, идем на сближение. За себя не беспокойтесь, найдем. Заранее поздравляем с высокой наградой! Вольфмарине-1».
— Все, товарищ старпом, сеанс окончен, квитанция получена.
— Добро. А чего так долго?
— Так ведь повторять пришлось...
Пока Куракин снова опечатал рацию, Пучков аккуратно переписал морзянку «квитанции» на бланк цифрами и вручил офицеру. Старпом ушел к командиру.
Жизнь на «Флинке» шла как обычно в боевом походе, но с этой минуты он был уже обречен. И только два оборотня знали, что судьба рындинцев решена.
Вскоре после завтрака стали падать от головной боли и бессилия вахтенные на боевых постах, вся подвахта, менее сильные моряки никого не узнавали. Фактически в строю осталось всего трое — те, кто не завтракал. Командир, возвратясь с маяка, подкрепился кофе с бутербродами и есть не хотел. Лейтенант Сергеев предпочел поспать лишний часок и на завтрак не пошел. А боцман терпеть не мог макароны с тушенкой и позавтракал банкой судака в томате.
Картина была ужасающей. Рындин метнулся в радиорубку, но увидел там разбитую аппаратуру... С кормы доносилась ругань боцмана, укрощающего установку, которая извергала ярко-оранжевый дым.
Проверив состояние каждого моряка, лейтенант Сергеев доложил Рындину: двое погибли, остальные — в обморочном состоянии, а двое — старший лейтенант Федотов и радист Пучков — исчезли.
— За борт бросились... — решил Рындин. — Вот даже как...
Лейтенант покачал головой:
— Нет, командир, с ними исчез и один спасательный плотик.
Рындин все понял.
— Возьми нашатырный спирт, лейтенант, — сказал он, — ступай в машину и попытайся поднять вахту. А пока хоть следи за приборами да исполняй команды с мостика. Больше некому.
Боцмана поставил на руль. Самому нестерпимо захотелось минуту-другую побыть одному — собраться с мыслями, прогнать растерянность. Можно было ожидать чего угодно, только не такого!
Рындин вышел на крыло мостика. Там его настиг доклад боцмана:
— Командир. Слева по носу — корабли противника!
На базе в штабе все были встревожены: уже утро, а никаких известий с «Флинка» нет! А Рындин не такой офицер, чтобы нарушить приказ. Значит, что-то случилось. Что? Если даже самый внезапный и безнадежный бой — у Рындина не могло не найтись минуты, чтобы передать хотя бы одну фразу: «Веду бой в таких-то координатах». Значит, другое. Либо мина, либо торпеда...
По радиотелефону адмиралу позвонил командующий. Коротко спросил:
— Как «Флинк»?
Адмирал ответил. Командующий промолчал. Адмирал отлично представил себе Ленинград, улицу Попова, громаду Электротехнического института, притулившуюся к ней старую церковню, а под нею — командный пункт КБФ, командующего с телефонной трубкой в руке. Адмирал знал, о чем сейчас думает командующий. Он думает — высылать немедленно асов генерала Самохина на поиск «Флинка» или нет? Выслать — по сути, подвергнуть риску еще и экипажи самолетов. Ведь даже неточных координат нет — куда лететь, где искать?..
В трубке послышался вздох.
— Если что узнается — немедленно сообщите, — сказал командующий и положил трубку.
Быстроходные немецкие миноносцы отрезали «Флинку» путь к своим и, отжимая его все дальше на зюйд, ближе к берегу, вынуждали сдаться.
Сигнал боевой тревоги вернул многим силы. Все, кто мог еще сражаться, встали на свою последнюю боевую вахту.
С миноносца просигналили предложение добровольно спустить флаг и дали пять минут на размышления. «Флинк» простоял в дрейфе это время, а затем просигналил ответ, вызвав необузданную ярость гитлеровцев.
Уже прижатый к самому берегу, «Флинк» вдруг самым полным помчался вдоль береговой кромки, извергая дым. Море блаженствовало в полном штиле, Балтику нежно грело солнце. «Флинк» мчался, клубя коричнево-черную дымовую завесу. Растянув ее на несколько миль, он вдруг круто развернулся на обратный курс и скрылся в дыму.
Гитлеровские «тевтоны» Балтики» презрительно пожали плечами: неужели советский офицер надумал, прикрывшись дымом, удрать с корабля вместе с командой на берег? Болван! Там же береговая оборона не даст им и шагу ступить — всех тут же возьмут в плен или расстреляют.
Ласковый бриз медленно развевал зыбкую гряду дыма. Отделяясь от воды, она светлела, редела... И когда наконец растаяла — море оказалось зеркально чистым и пустым! «Флинк» исчез... Где именно, на каком кабельтове этих миль он затонул — поди теперь узнай!
Погожим прохладным утром подполковник Рязанов, проходя через городской парк, был остановлен приветствием:
— Петр Петрович, здравствуйте!
Подполковник посмотрел: на скамье, с книгой и тетрадью на коленях, сидела Лида Рындина. Он присел рядом, поинтересовался, чем она увлечена.
— Органическая химия. Такая трудная!.. — Лида спохватилась: — Ой, Петр Петрович, вы же не знаете: я поступаю в медицинский! Вот и зубрю...
— Молодцом! Рад за вас, очень рад. А как вообще жизнь?
— И не спрашивайте! — Лида даже зажмурилась, сияя. — Так все хорошо стало, что боюсь даже хвастать.
— Вот и прекрасно! Так и должно быть. Ну, не стану мешать вам, пойду. Желаю успешно сдать экзамены.
Лида улыбнулась, но жестом остановила Рязанова и тихо спросила:
— Петр Петрович... как все же этот Федотов сумел все так устроить?
Рязанов мельком глянул на часы, закурил. Смущенно признался:
— Вот, опять курить стал... Я — лишь главное. Но сначала вот что. Вы думали: почему ваш отец и его гвардейцы погибли так, как они погибли?.. Давайте рассудим. Не станем говорить о том, что они могли вообще не погибать, а лишь уничтожить документы Михеева. Они погибли по-гвардейски, предпочтя смерть плену. Геройски! Но раз так, то почему, скажите, Лида, они не совершили свой подвиг, как «Стерегущий» и «Варяг», — гордо, открыто, прямо на глазах у презренного врага? Почему они погибли героями, но скрытно, спрятавшись за дымовой завесой?
— Не знаю, я как-то не думала об этом.
— Потому, что офицер Рындин был абсолютно уверен в нашей победе, верил, что корабль его когда-нибудь будет найден и документы Михеева реализованы. Погибая, он стремился сохранить и уберечь от врага открытие Михеева, то есть до последней минуты думал о благе Родины, государства и народа!
— Я поняла. Если бы «Флинк» затонул на глазах у гитлеровцев, то они, точно зная место, могли бы даже сразу спустить водолазов и завладеть сейфом. А искать неизвестно где затонувший корабль — это дело не военного времени...
— Совершенно верно! Вот потому-то рындинцы так и погибли. Ваш отец, Лида, был настоящим патриотом, с большой буквы.
— А как же Марс все-таки?
— Ну что Марс... Потерпев полное фиаско с захватом «Флинка», гестапо, абвер и ОКМ решили поначалу вообще помалкивать о нем. Но погодя спохватились. Ведь донесение вашего отца мнимый радист Пучков переврал, стало быть, наше командование так ничего и не знает о нем, и для нас «Флинк» буквально пропал без вести! А коли это так, то, объявив Рындина изменником, открывается шанс вернуть нам патриота Федотова. Как же не воспользоваться такой возможностью!
Тотчас в газетах мельком упомянули о добровольном переходе и сдаче в плен капитана III ранга Р. По лагерям военнопленных распустили слух, а за ним — фальшивое письмо о ужасной судьбе команды «Флинка». В одном из них вложили в общую картотеку липовые личные учетные карты якобы сбежавшего из плена Федотова и якобы умершего его товарища-матроса. На пути наступления наших войск в Прибалтике подбросили на побережье трупы двух матросов, якобы рындинцев, с якобы их предсмертной запиской на платке. Ну, и так далее...
Продумано, надо признать, все было дотошно. И Федотову удалось разыграть все как по нотам. Его заявления и показания нашли убедительные подтверждения и долгое время мерзавец-оборотень оставался нераскрытым. Но сколько веревочке ни виться...
— Негодяи, — ужаснулась Лида. — Боже, какие негодяи!
— Да уж, — согласился Рязанов и поднял глаза на подошедшего.
— Здравия желаю, товарищ подполковник! — отдал честь, вытянулся и без того верзила главстаршина. — Здравствуй, будущий Эскулап в юбке! Разрешите доложить: главстаршина Шнейдер Бэ Эм блестяще — как, впрочем, и все предыдущие — сдал последний экзамен в Высшее военно-морское училище!..
ЭПИЛОГ
Сергея Сафонова, награжденного орденом Красной Звезды, досрочно уволили в запас — по ранению. Командир «Абакана» Ладога и главстаршина Чуриков получили тоже по «звездочке». Остальные водолазы, работавшие на разминировании, и Шнейдер — медали «За отвагу».
Отслужив, разъехались друзья-абаканцы кто куда по стране.
Прошел год, другой, третий... Уже подполковником Сысоев служит во Владивостоке. Передав «Абакан» Чумбадзе, принял построенный по новейшему проекту океанический спасатель капитан второго ранга Ладога...
Но некоторые абаканцы продолжали жить и работать вместе — в тесной морской дружбе.
Как-то погожим днем бабьего лета в поселок рыбколхоза «Балтиец» влетело такси. Притормозило возле ухоженного особнячка, угнездившегося под сенью каштанов. От улочки его отделял штакетник, за которым перед фасадом дома тучно цвели георгины, астры, тюльпаны и ирисы. А сбоку во дворике возле высокого крыльца возились два крепыша. Старший — лет двух с половиной, — сопя от усердия, вызволял из вольера младшего. Наклоняя голову то влево, то вправо, за этим делом одобрительно наблюдал симпатичный кареглазый пес. Подъехавшее такси вернуло его к прямым собачьим обязанностям — он серьезно облаял приезжего, но не испугал: высокий элегантный морской офицер спокойно вошел в калитку, посмотрел на сторожа с укоризной.
— Ты что же это, Юнга, своих не признаешь? Ай-яй-яй...
Пес умолк и помахал хвостом — сконфуженно, но неуверенно.
Офицер подошел к бутузам, пригляделся с веселым любопытством.
— Так, так. Ну, здравствуй, племя младое, незнакомое.
— Борька! — прямо с крыльца бросилась на шею офицеру красивая женщина, сбив фуражку с его рыжих кудрей. — Мама! Узнаете?
Выйдя на порог, Мария Алексеевна радушно улыбнулась:
— Вроде у Сережи на фотографии похожего видела. Не тот?
— Разумеется, — подтвердил Борис, — таких на флоте всего один! Здравствуйте, Мария Алексеевна! Лида, а где ваш?
— Горит на работе. Сейчас... А ты вроде еще подрос.
— А ты вроде еще похорошела...
— С вами похорошеешь! Три мужика в доме — три неряхи и обжоры, а еще больница, флотилия, женсовет, лекции... Если бы не мама, вовсе измучилась!
— Довольна? Счастлива?
Лида даже нос наморщила, жмурясь в улыбке, и кивнула: очень!
В кабинете председателя, кроме самого Шарипова, сидели парторг Соловецкий и Сафонов. Беседа их уже заканчивалась.
— Нет, товарищи мои дорогие, разговор этот не первый, но уже точно последний, — твердо заверил Сергей. — И давайте... Ведь у нас все так замечательно: вы нас душевно приветили, устроили, ребята это оценили и по сей день не забывают... В общем, сработались мы хорошо, живем душа в душу. Давайте хорошо, дружески и расстанемся. Я вроде не в долгу перед артелью, а Чуриков меня великолепно заменит, так что дело только выиграет: Николаю уже давно пора стать бригадиром...
— Ага, вот ты сам себе и противоречишь! — прицепился Шарипов. — По-твоему выходит, что ты никак не можешь остаться, а вот Чуриков — вполне может! А какая разница, ты что, какой-то особенный?
— Ничуть. А разница все же существенная, Солтан Мустафович. Чурикову легче и проще прижиться здесь, да он, собственно, уже природнился: тут его дом, семья, друзья — все. Коля несчастный человек: сирота, вырос в детдоме, ни родных не знает, ни какой город или село Сибири его родина. А мы знаем, любим и крепко, кровно привязаны к своему родному Дону. Вот мама моя — смотреть больно... Она, конечно, молчит, но мы-то видим: тоскует по дому! Как же я могу не уважить родную мать? Да и казакам нашим надо обретать чувство родины и любви к ней...
— Вот это правильно! А казаки твои как раз здешнего происхождения, нашенские, так что...
— Ан нет, Солтан Мустафович, — Сергей засмеялся, — рожать-то Лида обоих к маме в Ростов ездила! Иль забыл?
Шарипов даже по столу хлопнул, тоже смеясь:
— Вот шайтан-семья! И тут объегорили! А ты чего молчишь, комиссар? — обрушился на Соловецкого.
— А что я скажу, когда сам свою Пинегу каждую ночь во сне вижу? — признался Соловецкий.
— Тогда лучше молчи, — согласился Шарипов. — Та-ак. Значит, на Дону у тебя — просто рай. И климат, и бытовые условия, и заработки...
— Ну, дались всем эти условия! — перебил Сергей. — Прямо культ какой-то! Знаю, Солтан Мустафович, знаю: и особняка такого мне никто в Ростове не даст, и должности — пока что, и заработков таких не будет — все знаю! И тем не менее...
— Ну ладно, ладно, сбрось обороты. Это я так...
Весело зазвонил телефон. Соловецкий взял трубку:
— Здравствуйте, Лидия Георгиевна... Да никуда не подевали, здесь он, вот, рядом сидит...
Вечерело. Жаркое солнце ослепляюще золотило море и дюны. На самой стрелке пустынного мыса — где когда-то саперы взрывали фугаски — возле костерика расположились Сергей, Лида, Борис и Коля Чуриков со своей Дашей.
Легкая волна лениво ополаскивала борта катера, пришвартованного к кусту ракиты на берегу. В такт всплескам, подыгрывая себе на гитаре, Борис напевал любимую:
Наши мили трудны,
Мы идем, словно в бой.
Затаились с войны
Сто смертей под водой.
Я с тобою не раз
Поднимал их со дна.
Ждет тебя,
водолаз,
глубина.
Было тепло, радостно и чуть грустно — как всегда при встрече с прошлым. Даже близким.
— А где-то теперь комиссар? — спросил Шнейдер.
— Ояр Янисович снял погоны и теперь ходит в рыбфлоте первым помощником на плавбазе. А здесь все суда и корабли близ берега проходят, — кивнул Николай на воду, — так что видимся.
— Боб, а ты сам-то куда назначен, скажешь наконец?
— И скажу и покажу. Вы меня лучше спросите, кого я первого встретил в Балтиморске? Великолепного Вальку Сафар-Оглы! И представьте: молодой талантливый инженер-геолог уже возглавляет промышленную разведку нового рудного месторождения! И чего? Сталинита!!
— Ка-ак?! — изумились все.
— А вот так! Некоторым рыбколхозникам надо бы газетки почитывать иногда. В них, кстати, не писалось об этом. Только мне, как особо доверенному лицу, Валентин...
— Боря! — укорила Лида.
— Хорошо. Только нам Валентин по-дружески поведал это. И, кто знает, возможно, уже крупицы этого сталинита будут в металле моего корабля.
— Да когда же мы его увидим-то?
— Скоро. Увидите — ахнете еще!
— Неистребимый хвастун! Пойдемте-ка домой, братцы, а то внуки, поди, уже доконали бабушку, — решила Лида.
— Да-да, — подхватила Даша. — Наша, наверно, обревелась уже.
Борис стал уговаривать посидеть еще, все заспорили...
— Стоп моторы! — воскликнул вдруг Сергей. — Смотрите, какой красавец!
Из-за лесистой косы выплыл и величаво пошел по фарватеру мимо друзей новый — только со стапеля — океанический спасатель.
— Ну, каков? Я же умолял — подождите. Я же обещал — увидите. И я же говорил — ахнете. Пожалуйста! Вот на этот корабль помощником Ладоги назначен ваш друг лейтенант Шнейдер! Ну, что?
— Ну Боб, ну интриган! — засмеялась Лида и вдруг стиснула пальцами плечо мужа: на борту корабля сверкало бронзой: «Георгий Рындин»!
Николай посрывал с плеч женщин платочки и просемафорил: «Абаканцы сердечно приветствуют любимого командира на ГКП нового флагмана спасателей, желают «Рындину» счастливых плаваний и славных дел!» — одновременно с вахтенным сигнальщиком прочитал сам Ладога, стоявший на крыле мостика.
На флагмане, дрогнув, чуть приспустился флаг и тотчас взвился. А с сигнального поста пронзительным голубым светом заморгал прожектор: «Благодарю. Желаю счастья и трудовых подвигов. Помните: ветераны «Абакана» всегда желанные гости на борту «Рындина». Ладога».
Корабль сбавил ход, продлевая минуты радостной встречи. А корабельные динамики широко расплеснули по берегу любимую песню молодых рындинцев:
Если вдруг немота
Воцарит в глубине,
Значит, друга беда
Обнимает на дне.
Встрепенись ото сна
И — на помощь тотчас!
Ждет тебя,
глубина,
водолаз...
Москва — ДКБФ — Ростов
1974—1985
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
Владимир Черносвитов родился в Петрограде 27 февраля 1917 года. Трудовую деятельность начал рано, но не по нужде — влекла романтика. Еще учеником старших классов ездил на лето рабочим геологических экспедиций, побывал в междуречье Волги и Дона, на Урале, в Средней Азии. Окончив вечерние геолого-разведочные курсы, работал на Колыме и Чукотке.
В 1938 году поступил в военное училище, а уже в конце 1939-го уехал добровольцем на фронт — шла война с белофиннами. Прошел всю Отечественную. Начал лейтенантом, закончил гвардии майором. Участвовал в битвах под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге.
В 1953 году в «Воениздате» выпустил первую книжку военных рассказов. Был принят в Литинститут им. Горького. Затем вышла другая книжка, третья... Повесть «Голубая стрела» была экранизирована, а В. Черносвитов выступил как автор сценария. Позднее был написан еще целый ряд сценариев художественных и документальных фильмов. В 1960—1962 гг. его приняли в Союз писателей и Союз кинематографистов СССР.
В. Черносвитов — писатель «своей», военно-патриотической, темы. Его излюбленные герои — люди отважных и опасных профессий: чекисты, моряки, летчики, пограничники, водолазы... Писатель всегда хорошо знает то, о чем пишет, и тех, о ком пишет. Вероятно, поэтому моряки считают его моряком, летчики — летчиком, пограничники — пограничником.
Книги В. Черносвитова издавались в Болгарии, ГДР, Венгрии, Чехословакии, Канаде, Китае и других странах.

Георгий Черчесов
Под псевдонимом Ксанти
РОМАН
Слово к читателю
Хаджумар Мамсуров… Это о нем легендарный Герой Советского Союза, боевой генерал армии Павел Иванович Батов в свое время сказал: «К сожалению, у еще не наступило время, чтобы в полный голос рассказать о деятельности этого высокоодаренного человека, а настанет — люди будут читать и удивляться и радоваться тому, что среди нас живут такие натуры…»
Слова эти звучат не просто как признание неоценимых заслуг человека, сделавшего все возможное и невозможное, чтоб назначенье свое в мире оправдать, но и преклонением перед силой духа и мужеством человека, которого он в течение многих лет близко знал и жизнь которого он вправе возвысить до подвига, что светит бессмертьем…
Да, жизнь любой выдающейся личности непременно обрастает самыми мыслимыми и немыслимыми легендами. Но в данном случае, даже и молва при всей своей изобретательности не смогла достичь того взлета фантазии, что бы превзошло живую правду действительности. А она такова, что в жизни человека, чьей судьбе посвящен представляемый вашему, уважаемый читатель, вниманию роман, чуть ли не каждый миг — легенда: под псевдонимом «полковник Ксанти», якобы македонского продавца апельсинов, он во время гражданской войны в Испании совершил ряд дерзких рейдов по тылам франкистов, стал прообразом главного героя романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»; в годы Великой Отечественной войны руководил партизанским движением Юга нашей страны, будучи командиром дивизии, смелым и нестандартным маневром опрокинул в несколько раз превосходящие части врага, а войну закончил на Эльбе; в послевоенные годы сорвал крупномасштабную акцию западных разведок, развенчав матерого резидента, несколько лет подряд передававшего за границу государственной важности секретные сведения и чертежи… Это он посмел на представительном совещании по итогам советско-финской войны прервать, в присутствии Сталина, хор подхалимско-восторженных бахвальств и сказать горькую правду о той военной кампании…
Любого из этих подвигов — кстати, перечень их далеко не полный! — достаточно, чтобы вызвать любопытство и заинтриговать, но еще более они восхищают тем, что все они совершены одним человеком — Хаджумаром Джиоровичем Мамсуровым. Герой Советского Союза, генерал-полковник, человек удивительно цельной натуры, человек-легенда, по единодушному утверждению самых высоких авторитетов — выдающийся разведчик сложного и напряженного двадцатого века.
Многие вехи жизни X.Д. Мамсурова воплощены в образе главного героя моего романа «Противоборство», который в 1989 году был издан московским издательством «Советский писатель». В свет он вышел стотысячным тиражом и мгновенно разошелся. Но не столько это обстоятельство, сколько невероятный интерес читателей, а главное, их многочисленные вопросы побудили меня продолжить работу — тем более, что в то время, когда создавался роман, к сожалению, серьезнейшим препятствием являлось требование секретности. Оно сковывало перо, заставило завуалировать фамилии и Хаджумара Джиоровича и многих знаменитостей, с кем сталкивала его судьба разведчика, не позволило даже назвать страны и города, где происходило действие… И хотя у героя романа «Противоборство» была другая фамилия, видимо, то, что я в нем рассказал со слов многочисленных друзей и знакомых Мамсурова, легко узнаваемо, и ко мне посыпались вопросы читателей о Хаджумаре Джиоровиче. Множество вопросов. Правда ли, что, выполняя задание, он как-то сразился со Скорцени, которому было поручено перехватить и обезвредить Хаджумара, но хитрейший фашистский ас-диверсант был посрамлен? На самом ли деле Мамсуров в качестве разведчика побывал во всех странах Европы, исключая скандинавские, где его фактура жгучего брюнета чересчур бы бросалась в глаза? Неужто он выкрал у гитлеровцев и переправил в нашу страну семью генерал-фельдмаршала Паулюса? Верно ли, что он знал двадцать языков? (В воспоминаниях Паулины Мамсуровой — его очаровательной жены и боевой подруги, приводится и такой факт: Хаджумар, когда ему уже исполнилось пятьдесят лет, всерьез взялся за изучение арабского языка и освоил его!) На меня обрушилось множество «Я слышал, что он…» — и следовало ошеломляющее утверждение…
Все эти обстоятельства побудили меня доработать роман, и издается он под новым названием «Под псевдонимом Ксанти». В нем, благодаря гласности, властно врывающейся в нашу жизнь, уже восстановлены реальные фамилии, факты, хотя — увы! — еще не все… Еще не наступило время, о котором упомянул П.И. Батов, и многое пока еще скрыто завесой секретности… Учтено и пожелание читателей поместить в книге снимки, запечатлевшие героя в различные периоды его жизни.
Глубоко убежден, что о Хаджумаре Джиоровиче Мамсурове будут написаны десятки, сотни книг — и документальных, и художественных, о нем поставят фильмы, — ведь герои таких масштабов не уходят в забвение… Ну а этот роман — долг моей памяти о славном нашем земляке, достойном потомке алан…
Глава 1
Едва переступив порог кабинета Корзина, Хаджумар уловил неладное. Иван Петрович нервно массировал ладонями лоб — верный признак встревоженности. Хаджумар непроизвольно весь подобрался и осторожно сел в кресло. «Ему не до меня, — подумал Мамсуров и не стал вытаскивать рапорт из кармана кителя. — Потом…»
Хаджумар с полуслова понимал Ивана Петровича. Порой ему казалось, что они вообще могут обходиться без слов, так часто их мысли совпадали. Стоило Хаджумару приступить к обдумыванию одного из возможных вариантов, как при первой же встрече выяснялось, что Корзин тоже пришел к этой версии. Вначале Мамсуров подозревал, не читает ли Иван Петрович мысли на расстоянии, затем пришел к выводу, что в сложнейших разветвлениях лабиринта тайн резидента они оба находили наиболее уязвимые места.
Иван Петрович оторвал ладони от лица и перевел взгляд на окно.
— Что вас взволновало? — помолчав, спросил Хаджумар.
— Фирма «Ксари», — тяжело глянул на него Корзин. — Союзное министерство в третий раз — уже по нашему настоянию — предложило представителям фирмы встретиться и подписать договор о поставках на будущий год. Но опять они ушли от ответа. Не отказываются от контракта, но и не подписывают его. Но мы-то знаем: существовать им без вещества С нельзя! Тем более что фирма продлила контракты с постоянными партнерами на поставку продукции, в которую непременным компонентом входит С.
Хаджумар мысленно чертыхнулся и повел шеей, точно желая, ослабить ворот рубашки. Вот уже которую неделю аппарат целого отдела пытался уточнить причины, по которым западноевропейская фирма «Ксари» оттягивает возобновление контракта на будущий год. На что же рассчитывает эта фирма?
— Много договоров подписано? — уточнил Хаджумар.
— Десятка три! — вздохнул Корзин.
Три десятка! Больше, чем в нынешнем году. Три десятка контрактов подписано «Ксари» с партнерами, а с теми, от кого зависит выпусках продукции, договора нет… На такой риск фирма может пойти лишь будучи твердо уверена, что компонент С, у нее будет.
Продукция фирмы нарасхват. Об экономической несостоятельности «Ксари» не может быть и речи: в прошлом году прибыль составила почти двести миллионов долларов. У фирмы появились дочерние предприятия во Франции, в ФРГ, Италии, Бельгии… С каждым годом потребность в компоненте растет. Так отчего же утрачен интерес к контракту с нашим министерством? Многие зарубежные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро работали в этом направлении, но ни одно из них и близко не приблизилось к разгадке секрета технологии производства вещества. И все же у фирмы есть твердая гарантия, иначе ее поведение равносильно самоубийству.
— Предположим, что фирме пообещали технологию С, — сказал Хаджумар. — Но, заполучив ее, она вынуждена будет ухлопать год-два на разработку оборудования. А фирма сразу рвет контракт с нашим министерством. Не рассчитывает ли она в ближайшее время иметь не только секреты технологии, но и чертежи машин?
— Верно, — пристально посмотрел на него Иван Петрович. — На Западе секрет вещества не известен. Значит, тот, на кого рассчитывает фирма, находится здесь. Да, да, как ни больно признать, что враг притаился в нашей стране, но отбрасывать эту версию нельзя. Нужна тщательная проверка. И как можно быстрее!
С улицы донеслись веселые голоса детворы, стайкой прошмыгнувшей мимо здания. Окна кабинета выходили в переулок, куда машинам запрещено въезжать, и улица с раскинувшимся посреди бульварчиком выглядела уютно и свежо. Лето! Хаджумар и не заметил, как оно пришло. Такова уж их с Иваном Петровичем судьба: сидеть в кабинетах и наигрывать варианты: обдумывать версии, проверять подозрения, выискивать самые мелкие погрешности в работе врага. И так изо дня в день, независимо от того, зима на дворе или лето. А кому-то улыбается солнце, кто-то имеет возможность выехать за город, побродить босым по траве, забросить удочку… И он, Хаджумар, мог бы так жить. Для этого ему нужно вытащить из кармана кителя рапорт и протянуть его сидящему напротив уставшему и огорченному человеку.
Вопрос этот ежедневно обсуждался в доме Хаджумара. И виноват в том его внук, пятилетний Сережа, который по утрам непременно провожал до подъезда отправляющегося на службу деда. И хотя Лина запретила Сереже задавать этот вопрос, внук все равно спрашивал: «Деда, ты когда придешь?»
— Нельзя об этом спрашивать дедушку, — сердилась Лина. — Он отучил меня от подобных вопросов двадцать пять лет назад!
Много лет прошло, как поженились они с Линой. И все эти годы он чувствовал ее немой укор себе. Нет, она ни разу не высказала ему, как ей бывает тяжко, когда он исчезает на месяцы и она не знает, где он и жив ли. Но в самом ее молчании был упрек ему. Десятилетия ждет она, когда муж наконец станет принадлежать только ей. И вот сегодня впервые у нее вырвались эти слова. Правы вы, мои дорогие, правы. Я и сам давно уже всерьез подумываю об отставке.
Как отыскать ЕГО? Может быть, этот тип сейчас гуляет по бульвару, всматривается в голубое небо, вслушивается в шепот листьев. Он может себе это позволить. А Хаджумар и его товарищи — нет! Впрочем, генерал знал, что этот человек не в состоянии по-настоящему радоваться природе, солнцу, небу, ибо над ним все время витает угроза разоблачения.
Корзин посмотрел на Хаджумара долгим взглядом и неожиданно официальным тоном приказал:
— Товарищ генерал! Отложите все дела и лично, слышите, ЛИЧНО займитесь утечкой материалов по С! — И, устыдившись приказного тона, мягко добавил — Нехорошее предчувствие у меня. Он махровый резидент, и поймать его не каждому по зубам. Возьмись сам.
…С чего начинается поиск преступника? С детального знакомства с людьми, имеющими допуск к секретным документам. Но не придешь же ты в коллектив и не скажешь: я такой-то, прибыл, чтобы разоблачить врага. Наоборот, ни одного настораживающего слова, ни одного лишнего посещения, чтоб не вспугнуть резидента. Он чует опасность, как зверь в лесу. Малейшая оплошность заставит его на годы притаиться, чтобы потом, когда вокруг все успокоится, вновь приступить к своей тайной работе.
Было разработано несколько направлений поиска. Версий было так много, что впору подозревать чуть ли не всех конструкторов и экспертов. Расследование поручено наиболее опытным работникам, рассмотрены самые что ни на есть невероятные варианты.
Несколько дней ушло на побочные ходы, в частности, на то, чтобы исключить версию о проникновении врага в коллективы заводов-поставщиков. Этот заказ — важнейший, государственный, имеющий огромное оборонное значение — выполняют десятки крупнейших заводов. Дело поставлено так, как положено в таких случаях, с предельной степенью осторожности и секретности. На заводах неизвестно, куда, для каких именно машин и механизмов предназначены детали, над которыми трудятся коллективы. Знают, что это важно, что выполняемое ими задание находится под контролем высших инстанций, — и только… Лишь на последнем этапе, там, где производится сборка всех узлов, не утаить секрет.
Внимание спешно созданной оперативной группы привлек один из заводов, находящихся далеко на Востоке. Потом стало ясно, что резидент, находясь там, не мог одновременно иметь доступ как к оборудованию, так и к самой технологии. Мысль, что работает несколько резидентов, казалась абсурдной, хотя и ее пришлось проверять.
Доставленные личные дела работников конструкторского бюро легли на стол несколькими стопками. Всех их надо было не просто просмотреть, а проштудировать. И при этом не поддаваться очарованию добротных характеристик и ясных биографий. Хаджумар всматривался в фотографии. Со стандартных, три на четыре, снимков глядели на него укоризненно профессора, доценты, лауреаты, ученые, чьи имена могли украсить любой коллектив; они, казалось, не спускали с него глаз, пока он вчитывался в короткие, наполненные точными фактами строчки, констатировавшие, где, когда, в какой семье родился автор биографии, где и когда учился, где работал, какие награды получил, за что…
Перелистывая папки, всматриваясь в лица, Хаджумар прислушивался к себе: ох как много значит в его профессии интуиция! Бывало, что документы, поступки, поведение человека безупречны, жесты и глаза ясны и непорочны; товарищи по работе, соседи, начальство, подчиненные — все в один голос твердили о нем как о замечательном человеке, можно сказать, идеале… А у тебя в душе зарождалось неизвестно как и по какой причине подозрение, даже сперва не подозрение, а недоумение, неверие в то; что может быть все так прекрасно, и ты, злясь на самого себя за это ощущение, все-таки начинал прощупывать, — и в конце концов оказывалось, что это именно тот, за кем ты так долго охотился. И когда это открывалось, то опять же все: и товарищи по работе, и соседи, и родственники — опять же единодушно! — начинали твердить о том, что и у них таился в душе холодок к общительному, отзывчивому человеку с таким правильным образом мыслей и поведением, а некоторые прямо заявляли: чувствовали — что-то утаивает этот человек. А на вопрос, почему же не поделились этим ощущением, пожимали плечами: не видели в соседе ничего определенно плохого, настораживающего.
Детальное знакомство с работниками столичного конструкторского бюро ни на что не натолкнуло. Пришлось запрашивать личные дела экспертов по координации научно-исследовательских работ, имевших допуск к документации по С. И здесь работали солидные, опытные ученые, заслуженные деятели науки. И биографии их соответственно украшены открытиями и наградами. Жизненный путь каждого из них был однотипным: от достижения к, достижению, и в зависимости от важности и количества открытий их личная служебная лесенка все круче взбиралась ввысь. И это было закономерно и справедливо. Все они имели доступ к самой секретной документации, регулярно встречались с прибывающими в нашу страну деловыми людьми Запада, систематически выезжали за границу с важными поручениями. Неужели среди них притаился резидент? Ради чего он мог пойти на такую подлость? Из-за денег? Но все они имели хорошие оклады и практически ни в чем не нуждались.
Вот уже который день выслушивает Хаджумар доклады об экспертах, работниках министерства и научно-исследовательского института, чьи личные дела вызвали интерес, — и не выявлено ничего такого, за что можно было бы зацепиться, что помогло бы начать серьезное расследование. Безупречность работников проверялась годами. Каждый, кто чем-либо скомпрометировал себя, рано или поздно переводился на другую работу. Здесь серьезно наказывали за аморальные поступки и за частые посещения ресторанов, справедливо считая, что тяга к беспутству и выпивкам ни к чему хорошему не приводит.
Наконец, взвесив все обстоятельства, Хаджумар пришел к выводу, что резидента все-таки следует искать среди конструкторов…
Хаджумар взял очередную папку, раскрыл ее. На него глянули спокойные глаза уверенного в себе человека. Внуский Владимир Олегович 1921 года рождения. Родился в городе Владикавказе… Стоп! Да это же земляк! Интересно… Хаджумар внимательно прочел его личный листок, с радостью отметил множество заслуг земляка, его твердое поступательное движение по служебной лесенке… Женат. Две дочери. Старшей пятнадцать, а младшая вторую весну встречает… Чудак, надо бы пораньше обзавестись вторым ребенком, разница в возрасте дочерей великовата… Полковник запаса… Заместитель начальника отдела… Солидная должность… Хаджумар опять посмотрел на фотографию. Вид серьезного и опытного работника. Взгляд властный, каким он бывает у людей, под чьим руководством немало подчиненных. Глаза проницательные… Надо бы с ним познакомиться… А где он учился? Выясним из автобиографии. Ого, исписал целых семь страниц. Так. Родился во Владикавказе, а детство провел на Ставрополье… Ага, приезжал на лето в родной город. Когда? В 1928 году… Жил у тети, Дмитриевой Клавдии Серапионовны, на улице Красивая… Смотри, какое совпадение! И он, Хаджумар, в это же время жил во Владикавказе и тоже на улице Красивая!
Он вспомнил далекие годы, южный городок с чистыми улицами и шумными площадями, проспект с многоязычной толпой, праздно прогуливающейся по вечерам по бывшему Александровскому плацу. Вспомнил друзей и дома, где ему всегда радовались, как своему. Он появлялся в семьях своих сверстников-товарищей и — языки ему легко давались — чеченца приветствовал по-чеченски, кабардинца — по-кабардински, ингуша — по-ингушски… Он хорошо знал обычаи кавказских народов, их этикет, детали одежды, умел уловить своеобразие психологического настроя и поведения в той или иной ситуации, и это помогало ему в общении. Появлялся ли Хаджумар на проспекте или в русской, армянской, осетинской или ингушской семье, повсюду его. сопровождал восторженный шепот и следовали несмелые расспросы о его знатном дяде Саханджери. Восторг дядиными подвигами бросал яркий отсвет и на племянника. Хаджумар был красив, в танцах, в джигитовке мог поспорить с кем угодно и привык к тому, что постоянно ловил на себе волнующие девичьи взгляды. И сам нет-нет да поглядывал на них.
Теплое чувство сохранилось у Хаджумара от этого периода жизни, от улицы с таким светлым названием — Красивая. То время само по себе предвещало много радостей. Дни были полны трудностями быта, а почему-то вспоминается не то, что жили впроголодь, питались лишь картофелем и кукурузой, а то, какими прекрасными надеждами на близкое счастье билось сердце. Поднимаясь утром, Хаджумар спешил поскорее натянуть с каждым годом становившуюся ему все теснее кожанку дяди и за час до начала занятий отправлялся на проспект. Из уважения к дяде Саханджери преподаватели разрешали его племяннику появляться в училище с огромной деревянной кобурой, в которой вместо браунинга лежали учебные принадлежности. Кожанка Хаджумара поскрипывала при каждом движении, на сапогах позвякивали шпоры. Он шел по улице, и встречные глазели на его выправку, на черные, с озорной искоркой глаза.
Он был кумиром мальчишек, проживающих на Красивой и прилегающих к ней улицах. Толпа ребятишек — голопузых, в рваных штанишках, босоногих — каждое утро, как бы рано он ни покидал дом, ожидала его у ворот и сопровождала до самого проспекта, жадно глазея и всякий раз, когда шпоры особенно ловко издавали звон, восхищенно цокая языком. Возвращаясь домой, Хаджумар непременно слышал громкий вскрик: «Идет!» — и отовсюду навстречу ему неслись остриженные наголо бесенята, которые и гордились им, и страшно завидовали ему, и верили, что придет время, когда и они будут разгуливать по городу в такой же кожанке, и кривая, покрытая позолотой сабля будет шлепать их по голенищу сапога.
Помнит Хаджумар, с какой завистью смотрели мальчуганы, когда он отправлялся в Москву вместе с дядей, приглашенным на празднование юбилея Октябрьской революции. Всю дорогу Саханджери радовался предстоящей встрече со своим боевым другом Иваном Корзиным, человеком, достойным восхищения. По словам дяди выходило, что его друга пуля не берет, а когда требуется, он и невидимкой становится.
— Точно определял: где можем на засаду наткнуться, какой дом следует обойти, чтоб не влипнуть в беду, в каком нам будут рады. И знал я, что он впервые в селе, и никак не мог понять, как он все угадывает.
Для Хаджумара поездка в Москву и Ленинград была не только сказочной, она ошарашила его. Поезд, трамваи, машины, улицы, по которым сновали тысячи мужчин, женщин, стариков, детей, шести-семиэтажные здания, крыши которых можно увидеть, лишь сильно задрав голову, грохочущие цеха заводов, посреди которых проводились митинги, — и повсюду марши духовых оркестров, приветственные речи, объятия незнакомых людей, крики, аплодисменты.
Все это мелькало перед глазами паренька, пьяня воображение.
Глядя на растерянного племянника, дядя весело усмехался в усы. Дни их были расписаны до минуты. Митинги, встречи на заводах и фабриках, в школах и на рабфаках, торжественные собрания, открытия памятников, чествование активных борцов революции — по-разному назывались мероприятия, но роль на них Саханджери, как и других приглашенных в Москву, была одна: его приветствовали, к нему обращались с речами, его просили поделиться воспоминаниями о жарких днях революции и гражданской войны. Дядя, сидевший в президиуме в папахе и черкеске, с кинжалом на поясе и кобурой браунинга на боку, с саблей, упиравшейся в пол, заметно выделялся среди почетных гостей, и к нему чаще других обращались с просьбой рассказать, что и как было десять лет назад. Просили с таким трепетным волнением, что Саханджери не смел отказать и рассказывал то один, то другой случай из боевой жизни, с трудом подыскивая слова, боясь выглядеть в глазах слушателей бахвалом. Он умалчивал о личных подвигах, так что Хаджумара, сидевшего в первом ряду зала, так и подмывало вскочить и дополнить его воспоминания. Племянник упрекал дядю в попытках умалить свои заслуги, и дядя терпеливо выслушивал его, кивая в знак согласия, что Хаджумар прав, нельзя так искажать то, что было, но на новой встрече опять говорил о смелых подвигах товарищей по отряду, а о себе ронял лишь скупые фразы, приводя племянника в отчаяние. Саханджери бегал звонить по телефону, оставлял адрес гостиницы, но выяснилось, что встретиться с Корзиным не так-то легко. И когда совсем потерял надежду, Иван Петрович сам неожиданно появился.
Слушая рассказы дяди о Корзине, Хаджумар представлял его себе высоким, могучим, сильным. Поэтому, когда ночью в номер постучались, и Хаджумар, открыв дверь, увидел на пороге худенького, скуластого мужчину, ему и в голову не пришло, что это и есть отчаянный разведчик-кавалерист Иван Петрович Корзин. Мужчина спокойно посмотрел на паренька и вежливо, не повышая голоса, произнес:
— Скажите Саханджери, что его хочет видеть товарищ. — Он не спросил, в номере друг или нет, будто знал наверняка, что тот готовится лечь в постель.
Хаджумар, которого приучили к тому, что держать гостя на пороге худо, отступил в сторону и предложил незнакомцу войти в комнату. Тот медленно перешагнул порог и застал своего боевого друга в весьма несуразной позе, когда тот, в трусах, не знал, как себя повести: нырнуть ли поскорее под одеяло или в таком виде встречать ночного гостя. Он замялся, переступая с ноги на ногу, лицо его стало багровым от стыда, но, оглянувшись на вошедшего, дядя сделал прыжок и, оказавшись возле гостя, крепко обнял его, закричал:
— Ваня! Ваня! Ты ли это?!
— Прости, что так поздно нагрянул. Другого времени не нашлось, а не увидеться с тобой не мог.
— Ты угодил горцам, — протянув руку Ивану Петровичу, сказалСаханджери. — У нас так: чем позднее гость стучится в дом — тем больше радости доставляет хозяевам.
— Какая от ночного посетителя радость? — усмехнулся Корзин. — Одни хлопоты и неудобства.
— Не говори так, — возразил дядя. — Ты ведь поздно ночью не постучишься к тем, к кому сердце не лежит. К таким ты и днем-то не заглянешь. Не так ли?
— Это уж точно, — засмеялся Иван Петрович, и глаза его весело оглядели горцев, потом остановились на Хаджумаре. — У меня в машине кое-что припасено для такой встречи. Спуститесь, товарищ…
Это вежливое обращение к нему, подростку, поразило Хаджумара. Сколько он себя помнил, еще никто ни разу не обращался к нему на «вы». Он было сорвался с места, но дядя остановил его, в сердцах воскликнув:
— Неужели у нас не найдется, чем встретить боевого друга!
Потом они сидели за столом, на котором лежала нехитрая холодная закуска горцев, выловленная в бездонных хурджинах[96]: куски мяса, козий сыр, помидоры, лук, головки чеснока, пахучий тархун, кинза[97] и еще какие-то травы… Дядя радостно смеялся и вспоминал очередной случай из боевой жизни, в котором Корзин совершал еще один отчаянный подвиг. Иван Петрович слушал друга внимательно, но глаза его то и дело весело сверкали, при особенно залихватской фразе Саханджери он подмигивал Хаджумару, вот, мол, дает.
Слова дяди о том, что Хаджумар мечтает стать командиром, Иван Петрович воспринял серьезно, повернулся всем телом к подростку и долго расспрашивал его, выпытывая, какой характер должен быть у командира. Дядя вмешался, рассказал о том, как Хаджумар закаляет тело и волю, тренирует память и каких успехов в этом добился. Последнее особенно заинтересовало Корзина. Он произнес несколько фраз и попросил подростка повторить их. Хаджумар, волнуясь и спотыкаясь на незнакомых словах, повторил слово в слово. Иван Петрович по-доброму улыбнулся.
Дядя поднял витиеватый тост за семью Корзина, которая сейчас волнуется и беспокоится, где же их кормилец. Иван Петрович посуровел, тяжело вздохнул и признался:
— Вот от этого я не могу избавить жену и детей. Часто отлучаюсь из дома и надолго и волнений семье доставляю много. Но что делать? Служба такая… — И поднял стакан: — За то, чтобы после разлук обязательно были встречи!
…А спустя год в самый разгар занятий в один из классов Владикавказского военного училища заглянул дежурный и объявил:
— Курсант Мамсуров, на выход!
Чеканя шаг, Хаджумар вошел в кабинет и собрался отрапортовать начальнику училища, но его там не оказалось. У окна стоял человек в штатском и внимательно глядел на курсанта. Хаджумар посмотрел на него, и черные брови его поползли вверх — он узнал Ивана Петровича. Корзин шагнул к нему и поздоровался за руку. С минуту он испытующе глядел на восемнадцатилетнего паренька, затем спросил:
— Вы довольны училищем?
— Очень! — вырвалось у Хаджумара. — Здесь…
Корзин жестом прервал его.
— Не об этом речь. Я знаю, что вы успешно проходите курс обучения. И память ваша поразительна. Дядя ваш не ошибся — будете хорошим командиром. У вас есть все для этого: и данные, и прилежание… — Он надолго умолк, размышляя, приступать ли к тому, для чего он прибыл сюда; наконец решившись, глянул прямо в глаза Хаджумару: — Будете командовать эскадроном, потом ротой, корпусом, армией…
— Ну что вы… — засмущался Хаджумар.
— Так может быть. Может. Если пойдете по этому пути. — И повторил: — Все у вас для этого есть.
— Я буду стараться, — сказал пунцовый от похвалы курсант.
— Служить в армии трудно, но она дает тем, кто талантлив и верен, и почет и достаток… Но я хочу вам предложить другое будущее. — Иван Петрович внезапно попросил: — Повернитесь, пожалуйста, кругом, но только медленно… Так, спасибо… А теперь пройдитесь, но не по уставу, просто так, будто гуляете… — И опять подчеркнуто вежливо повторил: — Пожалуйста. — Потом он заставил его сесть, сам устроился напротив и сказал: — Внешность у вас вызывает доверие. И жесты мягкие, естественные… — он поискал слова, — успокаивающе-убедительные… Вы— сама откровенность. Про таких, как вы, говорят: «Душа светится». Это хорошо… На той службе, что хочу вам предложить, — хорошо… — Он помолчал. — Почему не спрашиваете, куда вас сватаю?..
Хаджумар смущенно повел плечом — горцу положено молча ждать, пока старший не выскажется.
— Я хочу, чтоб вы знали: на той службе, о которой я говорю, жизнь постоянно на волоске. Вы вечно в командировках — для всех так именуются ваши частые отлучки из дому. Семья видит вас лишь изредка. Дети растут БЕЗ вас, воспитываются БЕЗ вас, женятся и выходят замуж БЕЗ вас… Жена стареет в ожидании, когда вы вновь окажетесь рядом. Друзей вы не видите годами. Командир в армии всегда на виду, его приказы мгновенно исполняют, солдаты восторгаются его выправкой, ловкостью, умом, знаниями… Там, куда я вас зову, ничего этого нет. Не будет зрителей — очевидцев ваших подвигов, не будет поддержки ни словом, ни взглядом, ни делом… Один, всегда один — а вокруг враги, но вы должны, несмотря ни на что, добиваться выполнения задания. Совершите подвиг — вы о нем никому не сможете рассказать — не позволено… Вы живете жестокой жизнью — всегда среди врагов, и никто вокруг не должен знать, кто вы, зачем здесь, чего хотите… Вы улыбаетесь врагу, вы чокаетесь с убийцей, НАДО — вы и обниматься с ним станете… Погибнете — опять же враги не должны узнать, кто лежит перед ними. Родным не будет ведомо, как погиб, за что, где могила… Так может случиться, дорогой товарищ, так… Идти на эту службу могут лишь те, кто понимает, что это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ нужно Родине. Вы слышите? ОЧЕНЬ! Те, кто любит Родину не вообще, те, кто отдадут за нее жизнь в любую минуту, вот сейчас, не умоляя ни о секунде промедления… Я не хочу приказывать вам выбрать этот путь… Я могу лишь предложить вам его…
Хаджумар во все глаза смотрел на Корзина, ловил каждое его слово. Вон, оказывается, какую судьбу он избрал. Вот в чем заключается его служба!
— Я… — Голос Хаджумара сорвался, ему стало стыдно при мысли, что Корзин может подумать, что это от трусости и неуверенности. — Я говорю да!
— Нет! — прервал его Иван Петрович. — Не так… Это сказали ваши эмоции. Не чувства должны руководить вами, а трезвый рассудок. Вы должны обдумать мое предложение. И, лишь взвесив все, уверовав, что это ваш путь, дать ответ. Нет, сейчас ни слова не говорите, не то я подумаю, что вы легкомысленны и я ошибся в вас, — мне ничего не останется, как взять свое предложение назад. Даю вам на обдумывание двадцать четыре часа. Завтра вечером я буду гостем у вас дома — ваш дядя пригласил. Если решитесь — там и скажите мне. Не пожелаете — никто вас не упрекнет, никто и знать не будет о моем предложении. Кстати, и вам запрещается рассказывать о нем кому-либо, даже вашему дяде… — Он усмехнулся: — Как видите, уже само предложение является для вас проверкой…
Корзин давал Хаджумару право самому сделать выбор. Самому. Он ему ясно дал понять, что речь идет не просто о другой военной профессии. По сути, это дело — не профессия, которой человек посвящает свои рабочие часы. Оно требует от человека всего его, не считается ни с его интересами, ни с его склонностями, надеждами и мечтами, ни с его здоровьем и настроением; и тем более не принимает в расчет сиюминутные мечты и чаяния его жены, детей, родителей, родственников, друзей… И сон, не говоря уже о часах бодрствования и отдыха, будет подчинен главному. Ты и во сне должен видеть только то, что требуется для Дела. Для ДЕЛА!..
Через две недели после разговора Корзина и Хаджумара из Москвы прибыло распоряжение об откомандировании курсанта Хаджумара Мамсурова в столицу. Причины и основания не указывались.
* * *
…Хаджумар помнит первую операцию, в которой принимал участие, во всех ее подробностях. В своей обычной суровой и скупой манере Иван Петрович поведал:
— Ваше знание языка страны, в которую мы направляемся, дополняется вашей фактурой: внешностью вы не будете выделяться в толпе. Подготовка у вас хорошая* Воля и выдержка имеются. Смекалка тоже. Так что есть все шансы успешно справиться с заданием. Оно просто и в то же время сложно. Надо отыскать одного человека… Зачем он понадобился? Ответа не последует. И обижаться на это не стоит. Вам известен закон: разведчик должен знать как можно меньше, только самое необходимое… Вот вы и уясните главное: его НУЖНО, НЕОБХОДИМО найти. Он догадывается, что мы его ищем, и сменил уже четвертый город. Его фотографии, к сожалению, нет. Есть портрет, созданный художников в соответствии с описанием тех, кто его видел. И имеются две приметы. Вот здесь, над лбом, у него расплывчатое родимое пятно. И вторая: на левой ноге наискось от лодыжки вверх тянется шрам, полученный им в шторм, когда его бросило волной на скалы. Но как отыскать его среди трехсоттысячного населения? Не станешь же подряд у всех мужчин откидывать чуб со лба или задирать штанину? Но отказываться от его поиска мы просто не имеем права. Зная его страсть к морю, организовали наблюдение на пляжах: и на общем, и на платном, и на комфортабельном — для состоятельных лиц. Четыре месяца торчим на пляжах!.. Возможно, он построил при особняке бассейн — он в состоянии позволить себе такую роскошь. — Заметив оживившийся взгляд Хаджумара; Корзин отгадал мелькнувшую у него мысль и пояснил: — И эту ниточку — через заказ на строительство бассейна — тянули, но и она ничего не дала… Итак, остается одно: уповать на то, что он не сидит сиднем за стенами особняка и появляется — пусть изредка! — в городе. Но где его можно встретить? Самое вероятное — центр города, где концентрируются рестораны, бары, кинотеатры… Но как, не вызывая подозрения, организовать наблюдение за снующими и утром, и днем, и вечером по улицам горожанами? Человек без определенных занятий в первый же день выдаст себя. Значит, вам надо быть кем-то. Но кем? Какую профессию вам избрать?
— Таких занятий, чтоб постоянно находиться на людях, немного, — сказал Хаджумар. — Чистильщик сапог, продавец сувениров, лавочник, официант в открытых бистро, парикмахер, наконец, фотограф или уличный художник, но я здесь пас, потому что кисти в руках никогда не держал.
— Это не причина отказываться от такого интересного занятия, — возразил Иван Петрович. — Я берусь за несколько сеансов привить вам навыки вырезать профили людей по их теням. Необычное и недорогое занятие, не бьет по карману прохожих. Но… для нашего случая не подходит. Вырезание профилей требует всего внимания, нет возможности постоянно держать в поле зрения толпу. Того, кого мы ищем, подобный пустяк, как портрет-профиль, не завлечет. Значит, он, мелькнув в толпе, пройдет мимо…
— Вы сказали, шрам на ноге? — задумчиво спросил Хаджумар. — Намазывая кремом обувь, необходимо подвернуть штанины клиента, не так ли?
— Логично, — согласился Корзин. — Но есть два возражения. Первое: очень уж это привычно — в детективах подробно описано, как разведка эксплуатирует для своих нужд профессию чистильщиков. И второе: в городе велика конкуренция среди них — втиснуться сложно. — Иван Петрович нахмурился, подошел к окну, с минуту смотрел наружу, потом резко повернулся к Хаджумару: — Нам известна еще одна страсть этого человека. Сигары. Курит много. Лучшие марки гавайских сигар. На центральной площади имеется табачная лавка, владелец которой вот-вот обанкротится. Почему бы вам не приобрести ее? Обновите внешний вид заведения, организуйте самую широкую рекламу товара через газеты, закажите шикарную вывеску… Наряду с дешевыми папиросами начните продавать и, лучшие марки гавайских сигар…
…Хаджумар, как и положено коммерсанту, отчаянно торгуясь, приобрел табачную лавчонку, а с ней и лицензию. Труднее было приобрести навыки торговца. Наставления тех, кто дотошно рассказывал Хаджумару, как следует вести дело, помогли на первых порах. Но надо было постоянно держать ухо востро, чтобы в условиях конкуренции не прогореть. А главное — требовалось заиметь свою клиентуру. У каждого торговца есть маленькие хитрости и способы обхаживать покупателей, да так, чтобы каждый из них считал, что именно ему в этой лавчонке отдают предпочтение, ему припрятывают лучший табак, его вкусы учитывают при заказе товаров. И всегда важно быть обаятельным и интересным собеседником — многих покупателей притекает не только пачка нужных ему папирос, но и сам процесс купли-продажи, возможность перекинуться с продавцом парой фраз.
Хаджумар был с покупателями доброжелателен, учтив, то и дело шутил, но давал понять, что он знает цену и себе, и своему товару. От него веяло удачей, которая вместе с запахом табака как бы передавалась и покупателю. Хаджумару удалось не только сохранить постоянную клиентуру прежнего владельца лавки, но постепенно завлечь новую. Он не забывал предостережение Ивана Петровича — ни в коем случае не переборщить, добиваясь успехов в торговле. Они должны быть в меру, ровно настолько, чтоб вызвать у конкурентов уважение, а не зависть и ненависть. Но нельзя показывать и слабинку: незаинтересованность в получении прибыли вызовет подозрение.
Хаджумар дал понять конкурентам, что ему нелегко сводить концы с концами: «При такой кризисной ситуации в Европе то, что мы имеем, и так много значат; подождем лучших времен, может, тогда удастся по-настоящему подняться на ноги…»
К прилавку тянулись люди. Хаджумар протягивал папиросы, рассчитывался, записывал заказы, улыбался, шутил, но глаза его ни на минуту не отрывались от толпы, особенно внимательно оглядывал мужчин высотой в метр семьдесят.
Глаза его дотошно изучали лицо каждого из них, выискивая черты схожести с портретом, мысленно отвечая на вопросы: свои ли волосы или парик? Похож ли лоб? Нос? Подбородок? Ухо?
Люди двигались двумя потоками навстречу друг другу с семи утра до двух часов ночи, в часы пик — сплошным валом, в остальное время тонкой, но нескончаемой струйкой, — и каждого следовало окинуть взглядом.
Тяжелым испытанием для него было видеть несчастных и обездоленных, которых кризис лишил работы, выбросил в ряды голодных. Они были согласны на любые условия, лишь бы получить чашку похлебки. У них не было денег на папиросы, многие из них жались к лавчонкам и часами стояли в ожидании, когда обеспеченный клиент бросит на землю окурок. И хотя Хаджумар знал, что нельзя идти на поводу у чувств, что это вызовет недоумение и кривотолки, он однажды поддался нахлынувшему чувству жалости при виде пожилого и, судя по осанке, гордого человека, которого жизнь довела до точки, но который еще не опустился до того, чтобы на глазах у прохожих поднимать недокуренную папиросу. Он сперва прикрыл ее, будто невзначай, начищенным до блеска стареньким ботинком и, уловив момент, когда никто не обращал на него внимания, нагнулся и, будто бы поправляя шнурок, подхватил с земли окурок. Именно ему-то и сунул в ладонь пачку папирос Хаджумар. У мужчины в изумлении дернулись вверх брови, он сердито сказал: «Я не могу заплатить за это». «Потом заплатите, — сказал Хаджумар, — честного человека по глазам видно». Такое объяснение удовлетворило безработного, и он попросил: «В таком случае я прошу вас поменять эту пачку папирос на любимую мною марку…»
Из стоящего напротив отеля по десять-двенадцать раз за смену прибегал шустрый подросток-рассыльный. Он шумно и весело, настаивая на комиссионных, приобретал папиросы и сигареты для богатых постояльцев. В один из первых дней работы Мамсурова рассыльный обежал несколько лавок и магазинов в поисках сигар нужной марки, а нашел их у Хаджумара и с того времени, какой бы заказ ни был, напрямик направлялся к нему. Через неделю рассыльный заявил, что господину из двести шестого номера понравились сигары и он потребовал, чтобы каждую субботу с утра продавец доставлял ему полсотни сигар. «Он так много курит?» — удивился Хаджумар. «Он босс по рекламе. Денег у него!.. Ваши сигары он выставляет во время совещаний, которые проводит в конференц-зале. На нем неплохо заработаешь». «Прекрасно. — Довольный Хаджумар подмигнул подростку: — Значит, и тебе перепадут комиссионные».
В течение трех месяцев каждую субботу Хаджумар поднимался на третий этаж отеля и стучался в двести шестой номер. Услышав жесткий голос босса, несмело открывал дверь и поспешно здоровался с Корзиным, встречавшим его в богатом пестром халате. «А-а, это вы…» — небрежно ронял Иван Петрович и нетерпеливым взглядом спрашивал, как идут дела, на что Хаджумар пожимал плечами: пока ничего… Босс вел непринужденную беседу о сигарах, табаке, новых марках, интересовался мнением продавца, который охотно и подробно отвечал. Слушая их, никому в голову не пришло бы, что за произносимыми сортами табака, марками сигар скрывались другие понятия. Корзин дотошно уточнял необходимые ему сведения, а узнав то, что требовалось, давал Хаджумару ясные и четкие распоряжения и советы.
Однажды владелец подробно рассказывал боссу, как выращивают турецкий табак. Речь шла о табаке — на самом деле Хаджумар сообщил тревожную весть: в его вещах копались неизвестные. В ответ босс поделился своими впечатлениями о поездке в Португалию, успокоив, что тайные посещения его жилища не должны пугать — они находятся в стране, где каждая горничная связана с полицией, а то и с другими службами.
В одну из встреч Хаджумар предложил:
— Надо изменить тактику поиска. Этот вариант малоперспективен. Я намерен стать чистильщиком обуви.
— Из владельца лавки — в чистильщики? Кто вам поверит?
— Но могу же я прогореть, обанкротиться! Скажем, я неудачно приобрел сопревший табак и вылетел в трубу. Я вынужден стать чистильщиком и ищу того, кто всучил мне гнилой товарец. Более того, я попрошу у чистильщиков помощи. Месть — понятное чувство.
— Убедительно, — задумался Корзин. — Если бы сможете зажечь их своей местью, шансы резко повысятся. Но учли ли вы фактор конкуренции? А вдруг они не примут вас. и станут выживать с площади?
— В худшем случае они применят силу. Но я готов отстоять право быть чистильщиком обуви, — пошутил Хаджумар.
— Заманчиво, — прищурился Иван Петрович. — Действуйте. Если отыщите объект, следуйте строго по инструкции. Никаких побочных решений! Никакой отсебятины! Ясно? Я появлюсь через месяц. Остановлюсь опять в этом отеле. Ждите рассыльного: он будет у вас спрашивать, где достать мои любимые сигары.
* * *
Через месяц, возвратясь в город, Корзин прошелся по площади. Он увидел нового чистильщика обуви, ловко орудовавшего щетками.
Услышав от рассыльного, что лавка принадлежит другому, а бывший хозяин ее чистит обувь своим прежним покупателям, босс нахмурился и поинтересовался, как это случилось. Потом кивнул рассыльному на свою обувь: «Ну что ж, пусть теперь почистит и мои туфли. А заодно узнаем у него, где нам теперь доставать мои любимые сигары… Зовите его».
Корзин услышал приятную новость: тот, кого искали найден. Хаджумар лично проверил — ОН!
— Было так, как мы и предполагали. Хозяин отеля, у. которого я взял взаймы деньги, прослышав о гнилом товаре и возникших трудностях, потребовал немедленного возврата долга. Пришлось продать лавку, и после расчета с кредиторами денег осталось ровно столько, чтоб приобрести сапожные принадлежности. Чистильщики встретили меня в штыки. Была и рукопашная. Ночью. В переулке. Вшестером напали. Пятеро убежали. Шестого я пригласил в ресторан. Выпили. Под секретом сообщил ему, что буду чистильщиком до тех пор, пока не найду поставщика гнилого товара. Лицо его смутно помню, но шрам на щиколотке может помочь… Слух о том, каким негодяем оказался человек со шрамом на щиколотке, пошел по цепочке от одного чистильщика к другому. Они конкуренты, но, оказалось, когда надо, могут стать заодно. И вот четыре дня назад ко мне привели парнишку, что работает на площади, расположенной в новом районе города. Два месяца назад у него чистил обувь человек со шрамом, и паренек даже знает, где он живет. Я проверил. Видел его в трех метрах от себя. ОН! И парик носит очень удачный, непосвященному не догадаться. Усы отпустил. Уже три дня, как чистильщики с нетерпением ждут, когда я свершу акт мщения; Среди новых друзей нашлись и охотники помочь мне свести счеты с негодяем, пустившим меня по миру. Я отнекиваюсь, ссылаюсь на то, чего не желаю ни на кого навлекать беду… Надо поскорее принимать меры, — попросил Хаджумар. — Я боюсь, что чистильщики, которым я пришелся по душе, сами отомстят.
— Пришелся по душе? — усмехнулся, кивнув на синяк под глазом, Корзин.
— Путь к дружбе бывает и через это, — улыбнулся Хаджумар и попросил: — Прошу поручить мне операцию.
— Вы свое сделали. Спасибо. Все остальное будут делать другие.
* * *
В последующие год Хаджумар участвовал в нескольких сложнейших операциях, в двух из которых принял весьма ответственные и нешаблонные решения, которые привели к успех. И наконец наступило время первого самостоятельного поручения, давая которое, комкор, чтоб подчеркнуть, у кого оно исходит, произнес фразу с характерным акцентам. И Хаджумар понял, как исключительно ответственно задание.
Речь шла о видной деятельнице международного рабочего движения, которую нужно было вызволить из стен печально известной на весь мир тюрьмы. Вызволить и переправить в нашу страну.
Перед вылетом на задание Хаджумару показали кинопленку, подобранную из фондов хроники, и он с интересом наблюдал за довольно миловидной дамой, что долго разглагольствовала о необходимости упорной борьбы со всеми проявлениями буржуазной идеологии, которая проникает под невинными увлечениями и в среду пролетариата, а порой заглатывает в свои сети и членов партии. Она особенно гневно обличала тех, кто оказывается в плену неверного толкования путей развития революционного рабочего движения. В таких случаях она требовала жесткой кары, призывала не прощать ни ошибок, ни заблуждений.
Всматриваясь в черты ее лица и вслушиваясь в текст, который торопливо произносил переводчик, Хаджумар невольно поразился контрасту между гневными фразами и едва скрываемым удовлетворением — так бывает, когда человек как бы со стороны любуется собой. Чем-то неискренним повеяло от ее блуждающих глаз. Он ни с кем не поделился в те дни своими сомнениями, он отбросил их в сторону, ибо для разведчика священным должна быть вера в чистоту и непреклонность авторитета человека, ради которого идешь на риск. Он убедил себя, что выражение лица дамы — результат кокетливости женщины, упоенной своей значимостью. Он невольно подумал о том, что женщина и в политике все-таки женщина.
Им была разработана уникальная по своей дерзости и неожиданности операция. В истории разведки подобного хода еще не было.
Хаджумар и по сей день удивляется, что все исполнилось в точности так, как было задумано: расчет на неожиданность — нелепо было даже представить себе, что на такое можно пойти, — оправдал себя. Он помнит, как оказавшись в той тюрьме, где находилась она, Хаджумар присматривался и прислушивался, беспокоясь, не есть ли легкость, с которой они проникли за эти могучие стены, уловка угадавшего их намерения врага. Но все шло как нельзя лучше, и появилась уверенность в удачном выполнении задания. Хаджумар неторопливо вел дело к развязке. И вдруг в один момент показалось, что побег срывается. И виной этому оказалась та, ради которой все было задумано. Когда он вошел в камеру и сообщил ей, что ночью будет организован побег, она неожиданно заколебалась, а увидев, что это заметил Хаджумар, постаралась поспешно показать, что ее нерешительность — результат женской трусости, неверия в успех побега. Но он уже насторожился. Мгновенно всплыло то чувство, которое овладело им, когда он в тиши глухой просмотровой комнаты вглядывался в экран. Вот и камера мало чем напоминает тюремную. Одно трюмо, щедро обставленное склянками с духами, чего стоит… А ведь в стране господствуют фашистские порядки…
Настороженность заставила Хаджумара, не поставив ее в известность, перенести время побега на три часа. Он сделал это, чтобы спутать все карты охране, если вдруг ей станет известно об операции. И в самом деле, о побеге узнали, и отсек, где сидели уголовники и куда должны были выбраться через подкоп беглецы, был перекрыт охраной, организовавшей засаду. Но это случилось уже после того, как часом раньше Хаджумар и двое его помощников вновь вошли в камеру и приказали ей немедленно идти с ними. Она пыталась отказаться, но они вывели ее силой, доставили к границе, а оттуда переправили через кордон.
Докладывая об успешно проведенной операции, Хаджумар не мог не поделиться своими сомнениями о странном поведении спасенной им женщины, хотя это и бросало тень на операцию. Ему же лично было поручено разобраться до конца в ситуации. Ознакомившись с деталями ее ареста и предшествующими ему событиями, Хаджумар убедился, что налицо предательство. И она, как только ей представили доказательства вины, полностью призналась в своей измене.
Хаджумар в проведенной операции был безупречен, смел, расчетлив. Разработкой ее восхищались, считали, что она не только уникальна в своем роде, но и свидетельствует о безграничных возможностях самого разведчика. Мамсуров был отмечен орденом, его досрочно произвели в майоры. Пусть указ и не был напечатан в газетах, пусть о награде знало лишь несколько человек, а из родных, домочадцев и друзей никто — пусть. Удача окрылила Хаджумара, ведь и сам-то он отлично понимал, как скрупулезно, точно надо было сработать ему и его помощникам, чтобы добиться успеха. И еще в одном он убедился: в нужный момент следует действовать не по инструкции, а творчески — это поможет избежать провала.
Глава 2
Вот какие воспоминания вызвало у Хаджумара упоминание улицы Красивой Владикавказа… Те ребята, без которых он не может себе представить ее, давно уже стали отцами и даже дедами… Но и сейчас, много лет спустя, Хаджумар отчетливо видит каждую пару этих детских глаз, слышит их восторженный шепот — ив груди невольно теплеет. Стоит закрыть глаза, и встает картина: он распахивает калитку, перед которой замерли малыши. Стоят полукругом, кто засунув в рот палец, кто почесываясь, кто восторженно вытаращив глазенки… Их, мальчишек, было четырнадцать, и теперь, спустя сорок лет, он мог обрисовать каждого: какие у кого были глаза, нос, лоб, кто во что был одет… Точно снимал кинокамерой и откладывал в память, как кассеты с пленкой в фильмохранилище, и теперь ему не стоит никакого труда мгновенно вызвать прошлое из ее закоулков…
Но что это? Хаджумар пытается вспомнить белобрысого шестилетнего мальчонку, что прибыл на побывку к тете, — и никак не может. Помнит всех детей и подростков, что жили на улице Красивая, помнит, как встречали его на углу, помнит, как, стоя полукругом возле него, шмыгали носом, сопели, сосредоточенно и с завистью поглядывая на бравого красавца курсанта. Хаджумар легким усилием воли задержал эту картину перед глазами, мысленно обвел каждого из ребятишёк взглядом, перескакивая с одного лица на другое, будто разглядывал фотографии, уточняя для себя, кто их родители, чем славились.
Вспомнил семью Дмитриевых. Отчетливо увидел, как тетя Внуского, Клавдия Серапионовна, по субботам выбивала пыль из ковра — старого, потускневшего, с бахромой по краям. Она, высокая и стройная, косила на Хаджумара, проходящего мимо, синими, с грустинкой глазами. Он здоровался, она поворачивалась всем телом и вежливо произносила: «Здравствуйте и вы, товарищ командир!» Клавдия Серапионовна была из числа тех, кого годы не состарили, но внутренне надломили. Ее муж, банковский служащий, вечно щелкал семечки. Его не задевали насмешки соседей, сетовавших, что неприлично на виду у всех сидеть посреди двора и выплевывать шелуху. Он даже бравировал этим, цедя сквозь зубы: «Привычка с детства. Я ведь не из интеллигентов и богачей. У нас, простолюдинов, семечки — единственное развлечение». Была у них еще девочка лет одиннадцати. Длинная, голенастая, бойкая и острая на язык — многие соседи страдали из-за даваемых ею обидных прозвищ. Она резко отличалась от отца и матери — легко бегала по улице, порхая из одного дома в другой, выполняя многочисленные поручения матери: принести то, отнести это, сказать то-то…
А белобрысого мальчонку генерал никак не мог вспомнить. Зная душу детей, трудно поверить, что он не выскакивал из дома, не бросался вместе со всеми навстречу кумиру. Как же Хаджумар мог забыть его? Наверное, старость начинается вот так, с провалов в памяти.
Мамсуров отложил досье Внуского, взялся за другое. Но никак не мог он смириться с неудачей… И рука вновь потянулась к папке, полистала страницы, глаза ухватили строчки автобиографии Внуского: «В сентябре — ноябре 1928 года я гостил у своей тети, Клавдии Серапионовны Дмитриевой, во Владикавказе, которая проживала на улице Красивой». И все. Больше ни слова. Генерал не отрывал взгляда от двух строчек досье. Чем они его озадачили? Догадка плутала в голове, и он пытался поймать ее и четко сформулировать. Так во сне стараешься что-то вспомнить, но тебе мешает нечто большое и мутное…
Генерал заново перечитал автобиографию Внуского. Автобиография как автобиография. Ничего особенного. ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ ЭТИХ ДВУХ СТРОЧЕК. Почему Внуский отметил свой приезд на побывку к тете во Владикавказ? Для чего? Ишь важность — прожить несколько недель в шестилетнем возрасте у тети! Но Внуский вписал этот факт в автобиографию. Зачем? Что же заставило Внуского отметить это малозначительное событие? Что за этим скрывается? ЧТО? Возможно, что в воспоминаниях детства эта поездка в город, окруженный с трех сторон горами, была одним из ярких впечатлений малыша, и Внуский до сих пор придает ей огромное значение. Странно? Но сантименты встречаются и у людей, занимающихся серьезными делами… А если это не так? Вдруг есть некий смысл, ради чего вписаны в документ эти строчки? Мелочей в нашем деле нет. Значит, необходимо докопаться до истинной причины.
В сущности, опытный разведчик тем и отличается от дилетанта, что ни за что не оставит без внимания даже самый незначительный факт, выбивающийся из тины обыденности. В деле, которым занимается Хаджумар, все — первостепенной важности, все достойно пристального изучения и внимания. Генерал прислушался к себе: а что говорит интуиция? В подобных ситуациях важно не спешить со скоропалительными выводами и не поддаваться гаденькому чувству подозрительности. А оно всепроникающе, это нетерпеливое желание поскорее проверить очередную версию, покопаться в чужой душе, выискать у подозреваемого темные пятна. Бдительность должна быть, без этого немыслимо оберегать тайны страны, отстаивать ее интересы. Но бдительность — не подозрительность. «Это два разных, нигде не соприкасающихся понятия, — любил повторять Хаджумар. — Тот, кто забывает об этом, несет горе многим людям».
Генерал требовал от подчиненных сто раз проверять факты, чтобы ненароком не оскорбить хорошего человека, еще и еще раз разыгрывать все варианты, прежде чем приступать к действиям. И в то же время был строг к тем, кто затягивал принятие решений, давая врагу время на совершение новых преступлений. Делать все вовремя! И у разведчиков, и у контрразведчиков это непременный закон, и тот, кто его нарушал, терпел неудачу, и цена ее была велика.
Раз в душу вкралось сомнение, нужно развеять его. Хаджумар попросил уточнить, в самом ли деле Внуский выходец из Владикавказа и как часто он ездит на родину.
Дав задание, генерал переключился на проверку версий, предложенных оперативной группой. Одна из них касалась конструктора, который за девять лет работы побывал в штатах четырех разных бюро и отделов, у правления. Нетрудно было убедить себя, что он угадал общую направленность и цель изысканий сопричастных институтов и конструкторских бюро. К тому же он часто выезжал за границу, где встречался со многими учеными и инженерами, имевшими то или иное отношение к секретным работам и, естественно, к органам зарубежной разведки. Как всегда в таких случаях, вдруг выяснилось, что у него хватает странностей и в личной жизни. Он не ладил с женой, которая ревновала его ко многим женщинам, в том числе и к его сослуживицам. Скандалы стали достоянием соседей, у которых сложилось нелестное мнение о моральном облике конструктора. К тому же и сын его примелькался в группе болтающихся на улицах лоботрясов. А не секрет, что зарубежная разведка специально выискивает таких ученых и конструкторов, у которых в семье или на службе нелады, зная, что психологически они неуравновешенны, близки к срыву, готовы резко изменить свой быт и поддаются соблазнам легкой и денежной жизни.
Эта версия резко выделялась среди других психологической достоверностью. Но доказывать надо было не логическими размышлениями, а фактами. А их-то и не было. Нужно было подстроить ловушку, да такую, в которую, будь конструктор на самом деле шпионом, непременно угодил бы.
В суматохе дней Хаджумар не то чтобы забыл о своем земляке, просто времени на него не хватало, и когда в кабинет вошел Чернышев и с озадаченным видом, какой у него возникает, когда что-то логически не клеится, положил перед ним расшифрованное донесение, генерал нетерпеливо потянулся к листу. В нем было всего три строчки: «На ваш запрос сообщаем, что Внуский Владимир Олегович родился в 1921 году в станице Лесной под городом Ставрополем. Во Владикавказе бывал, но не является уроженцем этого города. Полковник Чижов».
Хаджумар перевел взгляд на Чернышева. Тот точно ждал этого момента, уверенно пояснил:
— Неточность в документах — не вина самого Внуского. Я проверил. Город Владикавказ впервые был указан местом его рождения в выписке, сделанной матерью Внуского в двадцать седьмом году, после смерти ее мужа, то есть отца Владимира Внуского, Олега Давидовича. Во Владикавказе проживала родная сестра матери Внуского, которая вышла замуж за чиновника банка, бывшего на двенадцать лет старше ее.
Да, да, Хаджумар помнит ее мужа — любителя семечек. И вид у него был как у завистника, что ежедневно имеет дело с большими суммами не принадлежащих ему денег. Такие люди особенно часто жалуются на несправедливость судьбы.
— Причина неточной записи?
— Не выяснено. Мать Внуского умерла незадолго до Великой Отечественной войны.
— А сам он знает о подлоге?
— Сомневаюсь. Ему было шесть лет, когда это случилось. Он всюду указывает на Владикавказ как на место своего рождения и каждого жителя этого города, с кем сводит его судьба, называет земляком и радуется встречам с ним, надо отметить — искренне радуется. То есть ведет себя так, как вел бы человек, который действительно родился во Владикавказе. — Чернышев решительно откашлялся: — Я не думаю, что эта запись имеет большое значение.
— Не пытайтесь опередить события, — предупредил Мамсуров. — Мать без серьезной причини не могла изменить место рождения сына. За этим что-то кроется.
— Может, причина в отце? Олег Давидович Внуский был полковником царской армии, более того, служил у Деникина… Но всем было известно, что он вместе е полком перешел на сторону красных, вернее, по его приказу полк пересек линию фронта и без единого выстрела был обезоружен. Возвратившись в станицу Лесную, Внуский-старший преспокойно жил до двадцать шестого года.
— Когда и где он умер? — спросил генерал.
— В двадцать седьмом году. Похоронен в той же Лесной.
— Но вы сказали: он жил в станице до двадцать шестого года?
— В этом-то и загвоздка. Осенью двадцать шестого года он неожиданно исчез. А спустя восемь месяцев его труп привезли и похоронили на кладбище на северной окраине станицы Лесной. На могиле скромный памятник из серого камня с надписью «Внуский Олег Давидович».
Брови Хаджумара вздрогнули. Внезапно никто не покидает родного дома. Что-то произошло в станице.
— Надо проверить, что заставило Внуского-старшего покинуть станицу, — сказал Хаджумар.
— Будем искать, — отозвался Чернышев.
…Будем искать… Поиск — это то, чем в этом здании постоянно занимаются. Ищут резидента, ищут версии, ищут свидетельства, ищут факты… И Хаджумар знал, что Чернышев умело возьмется за дело. Сперва организует встречу с родственниками беглого полковника. Произойдет она случайно, и беседа получится совершенно естественной, ниточка разговора приведет к выяснению того, отчего пожилой человек, уставший от войн и крови, собравшийся остаток жизни провести в тиши станичных буден, вдруг неожиданно бросит жену, ребенка, дом и исчезнет. Будут и поиски архивных документов, расспросы старых работников милиции и сельсоветов.
Последующие дни выдались напряженными, но мысль о необычных обстоятельствах смерти Внуского-старшего не давала покоя Хаджумару. Нет, пока он ни в чем не обвинял ни отца, ни сына.
Сотрудники аппарата знали, что генерал уважал тех работников, что могут до мелочей восстановить обстановку, при которой произошло даже самое невинное событие, как, например, встреча двух людей. И Чернышев, описывая генералу похороны Внуского-старшего, привел поразительное количество деталей:
— К вечеру гроб установили в гостиной дома-усадьбы, где проживал покойный, — рассказывал Чернышев. — Она была давно не ремонтированной, на стене висели клочья оторвавшихся обоев. В помещении горела лишь одна свеча. Люди заходили, приближались к гробу, крестились, всматривались в покойника и спешили поскорее покинуть темное затворье. Несли гроб домочадцы да прибывшие родственники покойного. Гордые, мол, Внуские, свои заботы на других не взваливали. Есть еще одна необычная деталь. Хоронили его не до обеда, как принято, а незадолго до захода солнца.
— И чем это было вызвано?
— Ждали его двоюродного братца, который очень любил Внуского. Приехал он в пятом часу… Плакал так, что всем не по себе стало.
— Выяснили, отчего полковник Внуский вдруг исчез из станицы?
Чернышев победно усмехнулся, нетерпеливо выложил:
— Настораживает одно свидетельство. Некий Дыбенко, умерший в тысяча девятьсот тридцать девятом году, придя на похороны и увидя Внуского-старшего в гробу, чертыхнулся при всем честном народе и произнес довольно загадочную фразу: «Эх, так и не добрался я до тебя, полковничек, упустил». Об этом нам сообщили два свидетеля, которые уверяют, что потом станичники не раз упрекали Дыбенко в непочтительности к покойникам, на что тот зло цедил сквозь зубы: «Покойник покойнику рознь». Кстати, Дыбенко в двадцать шестом году был председателем Совета станицы. Вот я и… Впрочем, все станет ясно через два-три дня — когда мы изучим ставропольский архив.
— Думаю, догадка ваша верна, — сказал Хаджумар. — Полковник… бывший полковник, — поправился он, — исчез потому, что Дыбенко стал сомневаться в его лояльности.
— Так точно, — подхватил Чернышев.
— Но почему Дыбенко перестал доверять Внускому? Была причина? Какая? Особо рассчитывать на архив не следует — Дыбенко, возможно, и не писал никуда о своих подозрениях.
Хаджумар задумался. Он знал, как строги станичники, когда дело касается обрядов. Задержка похорон на три часа — явление, прямо скажем, странное. И дело не столько в двоюродном брате покойного, сколько в причине, которую надо обязательно разгадать… Но как это сделать? — Много лет пробежало, нити, связывающие сегодня с далекой тайной, порвались. И все-таки ее предстоит разгадать. Ни одно крупное происшествие не исчезает во мраке лет, что-то остается. Это что-то надо найти и по нему воссоздать всю картину.
— Гроб заколотили на виду у всех? — уточнил генерал.
— Так точно, — подтвердил Чернышев, и неожиданная догадка заставила его быстро взглянуть на Мамсурова.
Убедившись, что не освободиться ему от назойливой мысли, Хаджумар сказал:
— Надо проверить, на самом ли деле был похоронен бывший полковник Внуский-старший.
— У меня длиннющий список свидетелей, — засомневался Чернышев.
— И все-таки проверьте, — приказал генерал.
* * *
Был воскресный, по-летнему душный день. Сережа возбужденно бегал по дому. Он проснулся чуть свет и нетерпеливо спрашивал, когда же подъедет машина, которая отвезет его, дедушку и бабушку. В дороге Хаджумар сообщил внуку: они будут окапывать деревья, чтоб тем легче было напиваться дождевой водичкой. И, прибыв на дачу, они тотчас взялись за лопаты: дед — за огромную, внук — за крошечную, выкрашенную в красный цвет. Лине нашлось другое занятие — сажать цветы.
…Когда раздался дверной звонок, Сережа находился в доме. Вцепившись обеими руками в двухлитровый графин, он осторожно наливал воду в стакан.
— И кто бы это мог быть? — почти как бабушка, пробормотал внук и отбросил засов.
На пороге стоял Чернышев.
— Здравствуй, малыш! — улыбнулся он мальчугану.
—. Вы за дедушкой? — В глазенках Сережи запрыгали встревоженные чертики, и он непреклонно заявил: — Мы с ним деревья окапываем.
— Поздновато как будто, — удивился Чернышев. — Кто же летом деревья окапывает?
— А весной у дедушки времени не было. Служба у него такая.
Чернышев кивнул на телефонный аппарат:
— Он что у вас, не работает?
Сережа испуганно оглянулся на открытое окно и приложил палец к губам:
— Тс-с. — И признался. — Я его выключил. А то все звонит и звонит. А сегодня выходной, пусть дедушка отдохнет от своей службы.
— А-а. — Чернышеву стало неловко от того, что он приехал.
— И дедушка сегодня все удивляется, почему телефон не трезвонит. — Сережа обратился к гостю с детской непосредственностью: — Ты меня не выдашь?
— Ни за что! — поклялся Чернышев.
— Где ты запропастился, внучонок? — послышался голос Хаджумара.
Сережа спохватился, бросился к столу, схватил стакан:
— Дедушка пить хочет.
Чернышев направился следом за малышом к двери, выходящей в сад, и застал Хаджумара далеко не в генеральском обличье. Тот был в штанах и майке, на голове повязан носовой платок — ну выглядел точь-в-точь как все дедушки на пенсии.
— Здравия желаем, — бодро начал Чернышев и неуверенно закончил: —… товарищ генерал.
— Здравствуй, Сергей Васильевич. Ты чего смутился? — Хаджумар жадно выпил воду.
— Дядя обещал, что ты с ним не уедешь, — предупредил Сережа.
— Не уеду, не уеду, — успокоил внука Хаджумар. — Сегодня я твой. Сбегай за бабушкой, скажи: гость у нас…
— Зачем беспокоить? — смутился Чернышев. — Я сейчас уеду.
— Сбегай, сбегай, — подтолкнул внука Хаджумар.
— Бегу, — заторопился тот и, глядя на Чернышева, заговорщицки прижал палец к губам.
Сережа убежал. Хаджумар весело улыбнулся:
— Секреты у вас? Не о телефоне ли?
Беглого взгляда на полковника было достаточно, чтобы понять: у него есть что сообщить. Чернышев пытался скрыть это, но торжествующий взгляд его карих глаз и слегка вздернутый вверх подбородок выдавали его. Он любил преподносить начальству неожиданные вести.
— Разрешите доложить, товарищ генерал!
Хаджумару не терпелось узнать, что так взволновало полковника, но старая горская привычка — ни в коем разе не показывать любопытства — сдержала его, и генерал нарочито безразличным тоном сказал:
— Пошли в дом, там сподручнее. — Ну, так что вы хотели сообщить мне, Сергей Васильевич?
— Товарищ генерал, в могилу не оказалось ничего. Ничего! Гроб пустой!
Генерал ничем не выдал своего изумления. Но эта весть должна была его потрясти!
— Я про станицу Лесную… — сказал полковник. — Выкопали могилу, раскрыли гроб, а там пусто!
— Вы удивлены?
— Вы… знали?
Хаджумар усмехнулся:
— Старая истина: если есть много свидетелей события, проверь, на самом ли деле оно произошло.
— Как нам вести себя?
— Во-первых, ничем не выдавать своего открытия, полковник! Ничем! И… не придавать ему особого значения.
— Я вас не понял, товарищ генерал, — растерялся Чернышев. И было отчего: отыскать такой факт и не строить на нем доказательства?
— Видите ли, Сергей Васильевич, я знал немало людей, что среди родственников имели белых офицеров, но не писали об этом в анкетах. И отнюдь далеко не все они оказывались врагами. Но скрывали свои родственные узы, зная, что означала для человека белогвардейская родня. Да, все слышали фразу «сын за отца не отвечает». Но жизнь диктовала свои законы. Срабатывал рефлекс перестраховки. Да и вам разве не известны факты, когда способного, но с пятнышком в анкете человека затирали неучи и карьеристы? И в защиту несправедливо обиженных не всегда осмеливались сказать слово. Так что не было резона людям вписывать в анкету самому себе приговор. Такое же могло случиться и с Внуским-младшим. Да и помнит ли он чин отца? Ему был год, когда его отец ходил в полковниках. Мать и родные могли скрыть от него: так было спокойнее и им, и ему. Не стоит придавать особого значения раскрытому факту. — И неожиданно закончил: — Но и забывать нельзя! Итак, предстоит заняться изучением Внуского — его симпатий, узнать, как он проводит досуг, и его окружения: родных, друзей, сослуживцев, соседей, земляков… — Хаджумар помолчал, взвешивая пришедшую в голову мысль, и спросил: — Нельзя ли уточнить, кто из закордонных работников органов разведки имеет непосредственное отношение к фирме «Ксари»?
— Помните сообщение нашего зарубежного друга, в котором он упомянул, что явился очевидцем короткого эпизода в приемной шефа разведки? — спросил Чернышев. — Группа оперативников горячо поздравила некоего Хона с высокой оценкой его усилий. Есть подозрение, что этот господин Хон из числа бывших высоких чинов немецкого вермахта. Прежнюю фамилию установить не удалось. Мы еще раз повторили просьбу уточнить ее.
— Зря повторили, — рассердился генерал. — Тот, кто там находится, понимает, что любое полученное им задание — это приказ, что сведения крайне необходимы, и предпринимает все возможное, а порой и невозможное. Повторенное же задание — по себе знаю — толкает человека на излишний риск. Не стоило вам делать этого. Впредь — запрещаю! — И резко поднялся. — Дайте шифровку, чтоб установили наблюдение за Внуским.
Начальник отдела кинофотоматериалов, будучи глубоко убежденным, что изображение — самое наглядное доказательство, надо не надо давал команду фиксировать на пленку каждый шаг объекта. И когда генерал попросил ознакомить его с режимом дня Внуского — на стол лег ворох снимков, запечатлевших подозреваемого в разное время суток и во множестве мест. Он ежедневно но два-три часа пропадал у начальства, и не бесцельно: Внуский полон всякого рода предложений и наметок. Он был в курсе технических новинок, появляющихся за границей, и при случае благодарил начальство за то, что оно направило его на промышленную выставку в Англию или Францию, где он присмотрел среди экспонатов уникальный аппарат, который можно внедрить — к этому выводу он пришел — в нашу промышленность.
Обедал Внуский не дома. Видимо, с женой у него не ладилось, хотя внешне все выглядело благопристойно. Десяток снимков запечатлели его в ресторане, и не в каком-нибудь второстепенном, а в «Пекине». У него там было Чшого знакомых официантов, обслуживавших его быстро. Обедал он, как правило, в одиночестве. Не переносил, когда случайно к нему присоединялся кто-нибудь из сослуживцев или знакомых. Обедать предпочитал в одиночку, а вот вечерами охотно отправлялся покутить с кем-нибудь из постоянных дружков, которых у него было четверо. Но вместе они почти не встречались. Ему звонил то один, то другой… Деньгами Внуский не сорил, хотя оклад у него приличный, премии солидные, имелись накопления. Расплачивались дружки, как правило, поочередно, так что вылазки были не очень накладны.
Хаджумар стал рассматривать на фотографиях его дружков. Владимир Яковлевич Штейн, инженер, ровесник Внуского, а Игорь Павлович Рковский, директор мастерской прикладного искусства, намного младше Внуского, что, впрочем, не мешает им часто общаться. Официанты утверждали, что Внуский — настоящий гурман. Неудачное блюдо вызывает у него гнев, он тотчас же требует к столу шеф-повара и сам его подробно инструктирует, как приготовить мясо, чтобы оно не было пережарено и, как он выразился, пахло кровью. Внуский весьма придирчив, любая заминка сказывается на размерах чаевых. Стремясь ублажить его, официанты подают заказ на огромном подносе, в обрамлении горящих свечей, что, естественно, вызывает у посетителей интерес к Внускому. Для подозреваемого в шпионаже странное желание обращать на себя внимание. Впрочем, он старается для дам, что сопровождают его.
Внуский в компании любит брать разговор на себя. Не выдавая служебной тайны, где и кем работает, он постоянно рассказывает о том, что видел за границей и с кем встречался. Особо разглагольствует о женщинах Запада — англичанках, француженках, негритянках. Не на интересе ли к женщинам зиждется его дружба с Рковским, который ни по должности, ни по внешним данным никак не украшает его общество? Дама по имени Галина представлена Внускому не кем иным, как Рковским. Она является ближайшей подругой любовницы последнего. Впрочем, Внуский не остался в долгу и в свою очередь познакомил Рковского с Тамарой. Они неоднократно встречались вчетвером и в ресторанах, и на квартире Рковского.
Хаджумар вспомнил, как Чернышев, читая шифровку о Внуском, громко хмыкнул и виновато пояснил: «Представляете себе, на виду у всего зала наполнил шампанским туфель своей любовницы Галины и вылакал его до дна!.. И ему даже аплодировали! Наверняка такие же пьянчужки…» Бедный Сергей Васильевич, он считал, что на чудачества способны только там, на Западе, отживающие свой век буржуа…
Генерал всматривался в лица на фотографиях, уяснял для себя суть Внуского, его характер. Он заботлив и внимателен к жене — она щеголяет в заграничных модных вещах. И в то же время проявляет усиленный интерес к внесемейным радостям жизни. Дарит жене норку, купленную за большую сумму, и, заявив ей, что отправляется в очередную служебную командировку, убывает на побережье Черного моря. Не один, а с Галиной…
За две недели наблюдения ничего странного в поведении Внуского не обнаружено. Кроме одного… Генерал полистал фотографии, нашел ту, на которой застыл Внуский в телефонной будке, несколько минут всматривался в снимок, потом попросил пригласить к нему лейтенанта Диксова.
…Перед генералом сидел молодой офицер с пытливыми глазами.
— Я почитал ваш отчет, — сказал генерал. — Это ваше первое поручение после училища?
— Да. — При упоминании об училище Диксов обиженно нахмурился. — Я точно описал то, что видел.
— У вас есть упоминание о том, что Внуский по дороге к любовнице останавливался и звонил ей. Вы точно установили, что он звонил именно ей?
Лейтенант насторожился. И в самом деле, почему он написал, что Внуский звонил любовнице?
— Он делал это по пути к ней, — пробормотал Диксов.
— Расскажите подробнее, — потребовал генерал и развернул схему города. — Я давно не бывал в этих местах. Покажите маршрут, по которому ехал Внуский.
— Галина живет вот здесь, в доме напротив универмага. А конструкторское бюро, в котором работает Внуский, на правом берегу реки. Он проехал вдоль набережной, остановился на площади, войдя в будку автомата, набрал номер телефона, выждал, когда поднимут трубку, и медленно нажал на рычаг: так делают люди, удовлетворившись, что человек на месте. Затем еще раз набрал и опять положил трубку. Второй раз, уже на Пушкинской улице, — лейтенант ткнул пальцем в фотографию, — вот в этот момент, он вновь дважды набрал номер.
— Тот самый? — быстро спросил генерал.
— Он собой прикрывает аппарат, — покачал головой лейтенант.
— Продолжайте… — резко сказал генерал.
— В третий раз он звонил с улицы Горького.
— Дальше?
— Возле универмага остановил машину и направился к дому, где проживает эта особа. Пробыл у нее час. Выйдя, задумчиво поглядел на пятый этаж, на окна ее квартиры.
— Затем?
— Поехал по Кутузовскому проспекту, остановился возле промтоварного магазина, прошелся по тротуару, устало облокотился о столб, подвигал ногой в ботинке — знаете, так, будто что-то попало в обувь, — потом добрел до угла, поглядел на витрину магазина и направился к машине. И уже оттуда прямиком, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, ехал до самой службы.
— Столб осмотрели?
— Но он просто облокотился, чтобы поправить обувь.
— Почему он это не сделал в машине? Там он мог снять туфель и вытряхнуть попавший камешек. Я не верю в бесцельные поездки по городу, лейтенант, и вам не советую.
Подавленный разговором лейтенант ушел. Генерал оторвал взгляд от фотографии. Много вопросов возникает, и на них нет вразумительного ответа. Не нравится, что он звонит по телефону, дожидается отклика, но сам не произносит ни слова. И вновь набирает номер. Причем делает это трижды… Не сигнал ли это? Есть какая-то связь в звонках и остановке у столба… И ее необходимо уловить. Крайне важно узнать номера телефонов, набираемых Внуским во время гонки по городу. Но как это сделать, если он каждый раз звонит из разных телефонных будок? Заранее не предугадаешь, какой телефон-автомат он на сей раз изберет, а успеть уточнить номер, пока он не положит трубку, невозможно. И все-таки необходимо узнать… А если Внуский всего лишь проверяет, на месте ли его любовница? Не избежать насмешек.
* * *
Чижов вызвал к себе кинооператора.
— Завтра четверг, — произнес он многозначительно. — Возможен вояж объекта. Сможете отснять его крупным планом на протяжении всего времени, что он будет находиться в будках телефонов-автоматов?
— Но он прикрывает автомат спиной, — напомнил кинооператор.
— А вы спину и снимайте, — сказал полковник.
— Спину? — не понял кинооператор. — Зачем?
Чижов всем телом повернулся к телефонному аппарату.
— Следите за мной внимательно. — Он снял трубку. — Вот я набираю номер… Могу медленно набирать вот так… Могу быстро… Могу еще быстрее, как в лихорадке… Что же происходит? Телефон терпит и то и то. Каждый человек по-своему набирает номер, причем быстрота набора может быть всякий раз иной, ибо зависит от множества факторов. Например, от настроения. Злой ты — и телефон ощущает твою ярость. Нерешителен — тоже. Зависит и от освещения будки телефона-автомата: пока поймаешь в сумерках очередную цифру — время идет. Конструкторы предусмотрели разнообразие характеров и настроений людей, и набор происходит не в тот момент, когда палец передвигает круг, а после того, как он отпускает его, то есть тогда, когда автомат выходит из-под власти темперамента человека. Диск обратный путь всегда проделывает с определенной конструкторами скоростью. ВСЕГДА!.. Вот на чем мы должны построить наш поиск… В этом наш шанс…
— А как определить, сколько времени крутится диск? — спросил кинооператор.
— Внимательно следите за моим плечом, — попросил Чижов. — Я набираю номер, но прячу от вас аппарат. Скажите, вы замечаете тот момент, когда рука перестает вести диск до упора?
— Кажется, да… — неуверенно произнес кинооператор.
— Вот-вот, заминка спины и плеча послужит нам отправной точкой. Уловив эти моменты, мы по паузам между набором каждого номера определим то сочетание цифр, которое набирает Внуский!
…Внуский вернулся в свой кабинет. Возвратился к себе и приступил к кропотливой работе по фиксации времени по спине Внуского и кинооператор. Важно было точно установить, в какой момент плечо Внуского дергалось и рука приступала к набору номера и сколько долей секунд уходило на то, чтобы диск возвратился в первоначальную позицию. Чтобы это выяснить, пришлось перевести время на ленту, где каждый метр обозначал секунду. Начался тщательный подсчет времени. И к вечеру на стол полковника лег лист с номерами телефонов. Ночь ушла на изучение хозяев этих телефонов, их родственников, соседей, товарищей по работе… Ни к каким секретным или важным делам или документам они не имели отношения. И не были знакомы с Внуским. Пришлось признать, что эксперимент не удался.
— Придется идти на рискованный вариант, — сказал сам себе Чижов.
* * *
Внуский ни о чем не подозревал. Если у него и возникла тревога, он ее ничем не выдал: был так же деловит на службе, предлагал новые важные проекты. Его старание невольно заставляло сомневаться, мог ли такой человек дать себя завербовать иностранной разведке. Но приказ есть приказ. И Чижов плел и плел кружева, предусматривая все, что могло выдать шпиона, если Внуский был таковым. В очередной четверг при сообщении о том, что Внуский отправился по известному маршруту, Чернышев приказал приступить к разработанной операции. На площади Внуский затормозил, выскочил из машины и поспешил к телефонам-автоматам… Люди раздраженно похлопывали по рычагам, бросали монеты, нетерпеливо набирали номера, но аппараты молчали. Внускому не повезло: он вошел в кабину, автомат в которой тоже был отключен. Пока он убедился в этом, люди разобрались, какой из автоматов работает, и возле кабины, в которой молодой паренек со спортивной сумкой весело щебетал в телефонную трубку, мгновенно выросла очередь… Внуский прошелся вдоль кабин, остановился было возле работающего автомата, но, прикинув, что раньше получаса бго очередь не наступит, разочарованно побрел к. машине.
Как и предполагал Чижов, Внуский теперь попытался переговорить с соседней площади. Но, казалось, что все горожане разом бросились к телефонам, стремясь поскорее сообщить знакомым и родственникам вести. Пять человек выстроились к единственному работающему автомату. Это не устраивало Внуского. Он не стал выходить из машины.
Добрых полчаса плутал по улицам города в поисках телефона-автомата, возле которого не толпился бы народ. Но везде его встречали очереди. Внуский внезапно развернул автомобиль и направился на службу.
— Что у нас мгновенно вырастают, так это очереди, — с горечью произнес Чижов и приказал: — Теперь взять под контроль его аппарат.
— Прибыв на службу, Внуский звонил несколько раз по своему телефону, — доложил Мамсурову Чижов, — но все разговоры носили служебный характер, и ничего предосудительного в них не было.
— Осторожный, — произнес генерал. — А что дало наблюдение возле столба?
— Он и в тот четверг прислонялся к нему, но… никаких отметин.
— Витрину осмотрели?
— На ней ничего не меняется уже который месяц, — успокоил Чижов. — Руководство магазина себя не утруждает.
— Стоило ли отключать телефоны-автоматы? — усомнился генерал. — Не напугало ли это Внуского? Случись со мной такое — я бы непременно насторожился… И все-таки эти две неудачи не должны нас остановить. Без знания номеров телефонов, по которым звонит Внуский, нам не обойтись… Но как узнать их? Как? Не спускайте с него глаз. Раз не удались телефонные звонки, он станет искать другие пути. Следите, КАК и с КЕМ.
* * *
В шестнадцать минут второго Внуский вновь отправился в путь. Пообедав в ресторане «Пекин», он взял курс к Кутузовскому проспекту. Но на сей раз не останавливался у тротуара и не проходил мимо столба. Сделав огромный крюк по проспекту, он неожиданно повернул назад, к центру. Возле бульвара он вышел и, поглядывая на небо, глубоко вдыхая воздух, всем своим видом убеждая, что наслаждается природой, не спеша направился к детской площадке, где возле ящика с песком возились малыши. Напротив клумбы на скамье сидела миловидная дама лет тридцати с пятилетним мальчуганом. Внуский прошел было мимо, но потом, точно поддавшись внезапному желанию, свернул к скамейке и уселся с другого края. Понаблюдав минуту за малышом, он заговорил с ним, потрепал его за чуб, вытащил из кармана коробку конфет и всучил мальчишке. Мать ни слова не сказала, только мельком взглянула на щедрого мужчину. Малыш открыл коробку и стал уплетать конфеты. Посидев еще немного и убедившись, что дама не намерена взглянуть на него, Внуский возвратился к машине.
…На следующий вечер у Внуского состоялась встреча в ресторане «Пекин» со Штейном, Рковским и их подругами. Тема беседы не выходила за пределы гастрономии, женщин и скабрезных анекдотов. Выяснилось, что Внуский глупо ревновал Галину к какому-то Жене.
— Тебя опять видели с ним, — резко отчитал он ее.
— Володя, я ведь тебе не жена. Какие у тебя права на меня? Ты должен быть со мной тише воды ниже травы. Я ведь могу потребовать, чтоб ты ушел от своей женской гвардии. Решусь на это, и дом останется совсем без мужчины. — В том, что в семье Внуского одни женщины, ей чудилось нечто смешное и обидное для него.
Штейн пытался свести их перепалку к шутке и, обняв за плечо свою блондинку, нарочито недоуменно вопрошал:
— О чем они речь ведут, а? О чем?! Пока рядом — радуйтесь и дышите полной грудью, не так ли, крошка?
И ещё выяснилось, что Внуский поставил перед собой цель: пить поменьше. Ему наливали его любимый армянский коньяк, трехзвездочный, а он отодвигал в сторону рюмку и потягивал из фужера шампанское.
— Да что с тобой, Вова? — недоумевала Галина.
— Я свою норму в обед выпиваю, — признался Внуский. — Днем мной овладевает такая тоска, что невмоготу отбиваться. Коньяк выручает. А вечером мне достаточно двух рюмок, и я себя, прекрасно чувствую.
Глава 3
Утром позвонил Чернышев.
— Докладываю, что теперь нам известно, кто такой генерал Хон. Вы будете удивлены, Хаджумар Умарович, — не по уставу предупредил полковник и с нажимом произнес: — Это бывший генерал рейха Пауль Кильтман… Да, да, товарищ генерал, именно он скрывается под фамилией Хон.
Положив трубку, Хаджумар долго смотрел в окно, потом глухо произнес:
— Кильтман… Кильтман… Значит, прошлое не послужило тебе уроком…
* * *
Пауль Кильтман не любил рассказывать про случай, который окончательно решил его судьбу. Было в этом что-то непрусское. В тринадцать лет Пауля отдали в Лихтерфельдский корпус — эту гордость Германии. Его и приняли туда только как отпрыска исконно прусской военной фамилии. А он, Пауль Кильтман, однажды утром исчез.
Он добрался до особняка, в котором родился и в котором прошло его детство, в полночь и отчаянно забарабанил руками и ногами по входной двери. Стук сотрясал дом. Пауль знал, что ему не простят этого шума, но он не в состоянии был унять дрожь в теле. И если всю дорогу он более или менее держал себя в узде, то тут не выдержал. Он колотил и тогда, когда в прихожей вспыхнул яркий свет люстр и осветил испуганную фигуру фрау Кильтман. Не разглядев, кто тарабанит по двери, мать нетерпеливо позвала свою нерасторопную горничную:
— Берта! Берта!
Пауль хотел окликнуть мать, но голос его сорвался, и он еще отчаяннее застучал. Фрау Кильтман сама отодвинула задвижку и отворила входную дверь.
— Боже мой! — ахнула она. — Пауль!..
Он бросился к ней, обнял, хотя знал, что и это не положено — ведь ему уже тринадцать и будущему воину следует быть сдержанным и суровым. Но Паулю было все равно, и он простонал:
— Я убежал оттуда!
— Убежал? — переспросила мать и, когда смысл фраза дошел до нее, изумилась: — Но почему?!
— Не отправляй меня больше туда! — истерически выкрикнул он.
— Ради бога, Пауль, что ты натворил? — испугалась фрау Кильтман.
Он жадно оглядывался по сторонам, ему хотелось поскорее убедиться, что он дома.
— Натворил, да? — склонилась мать над ним. — Что?
— Ничего. Но я… Если вы заставите меня ехать туда… — Он схватил мать за руку, зашептал ей с ужасом в голосе: — Шесть ноль-ноль — подъем. Барабанный бой. Вопль фельдфебеля. Туалет — три минуты, умывание ледяной водой — две минуты, зарядка — десять минут, уборка коек — две минуты, завтрак — три минуты… И все скорей! Скорей! Команды, крики, минуты… Минуты!.. И все время хочется есть!.. Я больше не могу, мама!..
Она обхватила худенькие плечики сына руками, прижала его голову к груди:
— Пауль, мой мальчик, успокойся… Не хочешь — не возвращайся.
— Поклянись! — Он смотрел ей в глаза пристально, боясь поверить в чудо: он может не возвращаться!
Мать не успела ответить. На них сверху, с площадки, ведущей в спальные комнаты, обрушился голос дяди Экхарда:
— Нет! Никаких клятв! — Он и в халате выглядел стройно, стекло в его правом глазу холодно сверкнуло.
— Дядя Экхард! — бросился к ступенькам Пауль. — Спаси меня!
Экхард Гете вытянул перед собой руку, останавливая племянника.
— Я спасу тебя, малыш, спасу от тебя самого! — заявил он и скомандовал громко и требовательно: — Кадет Кильтман! Смирно!
— Не надо так, полковник, — дрогнувшим голосом попросила фрау Кильтман. — Мальчик измучен…
— Измучена вся Германия! — возразил ей Гете. — Поражение от Антанты подорвало дух немцев.
— У Пауля тонкая душа. — Мать хотела тронуть сердце полковника.
— Пауль истинный сын своего отца. — Голос дяди Экхарда звучал сухо и назидательно. — Я думаю, что брат вашего мужа смеет дать вам дельный совет. Вы, фрау Кильтман, должны хранить верность погибшему супругу.
— Верность? — вздрогнула она.
— Э-э… — поморщился он. — Я говорю о его верности Германии, ради которой он отдал жизнь.
Она выпрямилась, непримиримо напомнила:
— Отец Пауля погиб вдали от дома так же, как и его дед и прадед. Военный мундир сделал меня вдовой, Пауля — сиротой. Из четырнадцати поколений Кильтманов лишь троих мужчин смерть застала в постели. Все остальные пали на поле брани, пронзенные пиками, штыками, изрубленные шашками, пораженные пулями… Это ужасно!
— Это великолепно! — дурным эхом отозвался Гете. — Гордитесь, что вошли в такую семью. У Пауля впереди прекрасная военная карьера.
— Нет! Нет! Я мать!
— Вы дочь! Дочь Германии! А родина наша сейчас, униженная и оскорбленная, стоит на коленях. Поднять ее, смыть позор сможет лишь хорошая война. Поколению Пауля предстоит сделать это! Германия взывает не к вашим чувствам, фрау Кильтман, а к вашему разуму. — И тихо произнес: — В этот час решается наша дружба. Отказ пожертвовать всем ради будущей Германии я не прощу даже матери!
Фрау Кильтман съежилась, закрыла глаза, рука ее легла на голову сына, она с болью произнесла:
— Видит бог, я не хочу, чтобы Пауль носил мундир. Но пусть моя сегодняшняя слабость станет доказательством моей привязанности к вашему брату, Экхард Гете…
Он подошел к ней, почтительно поцеловал ей руку:
— Вы истинная дочь Германии, фрау Кильтман, — и обернулся к Паулю: — Мой бедный малыш, тяжелую судьбу избрал ты…
— Я не избирал, — всхлипнул Пауль.
— Да, ты не избирал, — задумчиво произнес Гете. — Германия тебя избрала! Тяжело быть кадетом. И на меня находило отчаяние. Помню, ночью поднял меня офицер — он нашел складки на моем кителе. Всех выстроил босыми на холодном полу. Мне приказал вытянуть руки и присесть на корточки. На пол поставили циркуль. Одно острие направили мне под пятку, другое… Ты знаешь, куда… После этого испытания я месяц спал на животе.
— Нас тоже так наказывают, — прошептал Пауль.
— Это хорошо. Традиции должны сохраняться в большом и малом. Пауль, ты и твои друзья терпят муки ради великой Германии. — Его голос набрал силу: — Вы смоете позор восемнадцатого года! Вы смоете с лица земли социалистов, этих предателей! Они нанесли нам удар в спину! Немец рождается для того, чтобы возвеличить Германию, уничтожить ее врагов. Мудр был великий прусский король Фридрих-Вильгельм. Создав Лихтерфельдский корпус, он ввел в нем жестокие условия. И эти традиции родили нам Роска, Гинденбурга, Людендорфа! Вас держат в голоде. Это полезно! Из тех, кого кормят до отвала, не получится солдат. Голод заставит вас вечно помнить о нуждах Германии, о новых землях, которые ей так необходимы! — Он положил ладонь на голову Пауля, повернул его лицом к себе. — Малыш, я завтра сам отвезу тебя в корпус. Мы скажем, что ты приехал повидаться со мной. И ты стойко перенесешь наказание за самовольную отлучку. Сумеешь?
— Да, — глотая слезы, пробормотал Пауль.
Фрау Кильтман нагнулась над сыном:
— А теперь, Пауль, пойдем, я накормлю тебя.
— В меру, фрау Кильтман, в меру, — предупредил Гете…
На пороге столовой Пауль внезапно оглянулся на дядю Экхарда.
— А-а, теперь я знаю, почему у вас на комоде находятся ржавая пуля, осколок от снаряда и циркуль…
— Ты прав, кадет Кильтман, прав, — согласился Гете. — Вернее было циркуль положить с моими боевыми наградами, потому что ими я отмечен во многом благодаря ему.
* * *
Юношеский каприз прошел, забылся, Кильтман был теперь полковником германской армии. Приобщить его к «Великим делам» постарался дядя Экхард. Вообще-то Пауль редко встречался с ним, занимавшим видное положение в германской армии, и когда он неожиданно пригласил его к себе, ему стало ясно, что этот вызов имеет серьезные причины. Представ перед дядей Экхардом, Кильтман отрапортовал:
— Господин генерал, полковник Кильтман прибыл по-вашему приказанию.
Он знал, что генерал Гете и не представлял себе, что кто-то может как-то иначе его приветствовать. Только по уставу! Гете не мог себе позволить никаких нежностей, потому что был убежден, что это приводит к утрате мужества и дисциплины. Впрочем, он иногда мельком давал понять, что помнит, кем Кильтман ему приходится. Вот и в тот день Гете, слегка улыбаясь, сказал:
— Рад вас видеть, полковник. Садитесь. Вы очень похожи на своего отца. Те же отличные знания военной стратегии и тактики, сообразительность, аккуратность, целенаправленность… Истинный «дворянин меча». Пруссак!
— Благодарю вас! — выпрямился Кильтман в кресле.
Гете был доволен: он намекнул, что следит за успехами племянника. Но он тут же постарался недвусмысленно показать, что нечего надеяться на его особое покровительство. Гете сам пробивал свою карьеру, сам, без помощи со стороны, — и Кильтману предстояло самому хватать свою судьбу за хвост… Итак, он перешел к делу:
— Но, полковник, у вас имеется серьезный недостаток: полное отсутствие опыта хорошей войны, которая только и рождает полководцев. Мы вам предоставим возможность приобрести его. Вы поедете… в Испанию.
— В Испанию? Но там мир, покой… — изумился Кильтман.
— Пока еще мир, — многозначительно подчеркнул генерал. — А завтра… Вы там примените на практике свои знания.
— Мы объявим войну Испании?
— Боже упаси! — отмахнулся от такой чудовищной мысли Гете. — Испанцы объявят войну… испанцам.
— Значит, гражданская, — вздохнул Кильтман. — Не о такой войне мечтал я. Я не хочу стрелять в население.
Гете насупился, гневно процедил:
— Стреляют солдаты, а мы с вами занимаемся высшей воинской стратегией, полковник! Ясно?
— Так точно!
Гетсу захотелось смягчить свою вспышку, он мягко повел рукой:
— Пауль, вам необходим опыт.
— Там будут дети… женщины… — поморщился Кильтман.
— Да, женщины, — подхватил Гете. — Не только испанские, но и немецкие… Я вас познакомлю с очаровательной женщиной. — Он крикнул в сторону внутренней двери: — Фрау Бюстфорт!
Появилась невысокая женщина лет двадцати пяти — двадцати семи, уверенная, с острым взглядом серых глаз.
— Благодарю за комплимент, генерал, — сказала она деловито.
— Посмртрите, с каким мужчиной вам предстоит путешествие в Испанию.
Бюстфорд бесстыже показала на дверь, в которую вошла, призналась:
— Я уже его изучила… — и обратилась к Кильтману: — Господин полковник, у вас есть еще один недостаток. Почему вы не национал-социалист?
Кильтман не ожидал такого вопроса. Но у него давно был заготовлен ответ:
— Один глубокоуважаемый воин как-то сказал мне, тогда еще кадету: «Германия была на пороге славы и величия. Германский солдат завоевал Польшу, Украину, Прибалтику; в наших руках было пол-Франции. Но нам в спину вонзили нож… социалисты. Их революция восемнадцатого года поставила Германию на колени перед Антантой. Социалисты такие же враги Германии, как и англичане, французы, русские…»
— Память у вас, Пауль, — довольно улыбнулся Гете. — Вы хороший солдат, но…
— …слабый политик, — подхватила фрау Бюстфорд: — У власти не социалисты, а национал-социалисты.
— Все-таки в их названии не обошлось без слова «социалист».
Ей не понравилась реплика. Очень.
— Простите, — извинилась она и повернулась к Гетсу: — Он не подойдет.
— Один момент, — возразил генерал. — Скажите, полковник, какие задачи, на ваш взгляд, история поставила перед Германией?
О, это Кильтман прекрасно знал:
— Реванш, завоевание жизненного пространства, создание Великой Германии.
Гете победно глянул на фрау Бюстфорд и стал цитировать по памяти:
— Послушайте. «Главной задачей будущей армии явится завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация».
— Позвольте привести еще одно высказывание, — вступила в игру, затеянную генералом, фрау Бюстфорд. — «Только дети могут думать, что получат лакомства, если они будут вести себя скромно… Брехня, если заверяют народы, что им не придется прибегать к оружию». Я цитирую подлинник…
Гете кивнул ей, подтверждая, что она не исказила цитату, и обратился к полковнику:
— Эти высказывания противоречат вашим взглядам?
— Я могу под ними подписаться.
— Эти мысли принадлежат Адольфу Гитлеру. — Он показал на книгу, лежавшую на столе. — Фюреру национал-социалистов, государственному канцлеру Германии… — И, встав, выпрямился, торжественно заявил: — Нам предстоят славные походы и баталии, полковник. — Он подошел к карте, окинул ее взором: — Европа… Скоро это понятие исчезнет. Вместо нее возникнет — Великая Германия… — Легко повернувшись к ним на каблуках, генерал официально заявил: — Пора, господа. К сожалению, полковник, вам не удастся заскочить домой, — он развел руками, — операция засекречена. Весьма. Вы должны вылететь сегодня, немедленно. О семье не беспокойтесь. Мы сообщим, что следует. Идите!
— Слушаюсь, господин генерал, — щелкнул каблуками Кильтман; он не мог сказать, что рассуждения генерала его убедили, но он был ошеломлен размахом замысла.
— До свидания, полковник! — попрощалась фрау Бюстфорд.
Кильтман был уже на пороге, когда его настиг голос Гетса:
— Один момент, полковник, — он протянул книгу, — в полете у вас будет время. Великолепнейшая книга! Без волнения нельзя читать. Невозможно!
Кильтман взглянул на заголовок:
— «Майн кампф».
— Только не забудьте оставить книгу в салоне самолета, — предупредил генерал. — Первое время не стоит рекламировать, что вы из Германии.
* * *
Перед глазами Хаджумара мелькали картины многолетней давности… Вот он в кабинете Корзина..
— Если я скажу нет? — Иван Петрович пристально смотрел на Хаджумара.
— Я завтра опять буду проситься к вам, — твердо заявил Хаджумар.
— Твое оружие бьет врага с не меньшей силой, чем винтовка или пулемет, — возразил комкор. — А бойцов у нас пока хватает.
— Я видел, что они творят в Германии с людьми, — поднялся с кресла Хаджумар; он не мог без содрогания вспоминать факельные безумства, костры, на которых горели книги, избитых до беспамятства людей, которых волокли по мостовой, как мешки с трухой. Человек, видевший это своими глазами, мечтает об оружии. А сегддня, когда они принесли свое изуверство в Испанию, он знал, через нее они идут в поход на весь мир, на гуманизм и человечество, на нас!.. Но он не стал все это говорить, он просто сказал: — Я прошу направить меня в Испанию!
И Корзин произнес:
— Последние сводки из Испании малоутешительны. Надо же, с какой невинной фразы: «Над всей Испанией безоблачное небо», прозвучавшей в эфире, началась трагедия многих миллионов людей… Такой сигнал к путчу избрал военный губернатор Испанского Марокко генерал Франко. Он ни перед чем не остановится — будет идти по лужам крови к власти. Ему бы ничего не удалось добиться — взбунтовавшиеся воинские соединения в самой Испании удалось быстро усмирить, — но эту жалкую и смешную в своих претензиях фигуру поддержали Гитлер и Муссолини. Они высадили десант на испанский материк. Их оружие, боеприпасы и войска позволили Франко приблизиться к Мадриду. У Франко было всего девяносто тысяч солдат. Муссолини подбросил ему шестьдесят тысяч итальянских вояк, Гитлер — пятьдесят тысяч немцев. Португалия и та направила в Испанию пятнадцать тысяч. А еще наемники иностранного легиона… В общем, трагедия приближается. На помощь Испанской республике спешат интернационалисты из многих стран мира. Верны ей и мы. Но беда в том, что в самой республике не все силы стремятся к сплочению. Нашлись политиканы, стремящиеся в мутной водичке выискать выгоду для своих интересов. Коммунистам не удалось создать единый мощный кулак для отпора мятежникам: — Он внимательно посмотрел на Хаджумара: — Мы отправимся в самое пекло — в Мадрид…
— Мы?
— Да. Я и ты. По разным маршрутам. Это решено сегодня.
…Старый шумный Мадрид, взбудораженный звонкими криками, гулом, возгласами, сигналами машин, ржанием коней, громкими проклятиями, плачем, топотом многотысячной толпы, столкнувшейся двумя мощными встречными потоками — бегущих из столицы и спешащих на помощь оказавшемуся в опасности городу. Из лабиринта улиц, на которые то здесь, то там обрушивались снаряды, опрокидывая стены домов, разбрасывая в стороны доверху нагруженные домашним скарбом повозки и фаэтоны, разметая убитых и раненых, спешили выбраться на простор полей старики, дети, женщины с хныкающими малышами и узлами вещей. А навстречу им, под огонь и бомбы, шли, громко шлепая по мостовой грузными высокими ботинками, отряды добровольцев. Кого только не увидишь в этих наспех сколоченных, разношерстно одетых бригадах с громкими названиями: «Смерть франкистам», «Ярость народа», «Орлы Каталонии»! Крестьяне с дробовиками на плече вышагивали тяжким, плотно припечатывающим шагом — ни дать ни взять точно идут за плугом, выворачивающим землю. Интеллигенты то и дело поправляли на носу сползающие кругляшки-очки. Весело скалящие зубы анархисты нарочито двигались вразвалочку, чтоб все видели: они никогда не станут придерживаться команды «Раз! Два! Три!». Женщины в траурных длинных, до самых пят, платьях закутаны в платки… С высоко поднятыми головами шли, ровняя ряды, интернациональные бригады — в жестких, грубого пошива суконных тужурках, в широких штанах, заправленных в неуклюжие ботинки на толстой подошве. Их громко приветствовали. Из длинных очередей за хлебом выбегали женщины и девушки, обнимали интербригадовцев. Прохожие выбрасывали кулаки: «Но пасаран!» Интербригадовцы, не сбавляя шага, спешили на окраину Мадрида, откуда доносился гул канонады.
Улицы города кишели людьми. Казалось, что все разом решили покинуть дома, чтобы покричать, пошуметь, помитинговать. Все были в движении, все спешили куда-то, о чем-то громко споря и напутствуя друг друга. У многих в руках были кирки и лопаты, ружья и пики. Разбегались они только при появлении самолетов, нещадно бросавших в самую их гущу визжащие бомбы. И тогда город погружался в гром и грохот, визг и плач, над целыми кварталами стелился едкий дым, из-под обломков торопливо, голыми руками выгребали людей и то, что от них осталось. Невыносимо было видеть маленькие искалеченные тельца пяти-шестилетних малышей, тела-обрубки с широко вытаращенными в последнем крике «Мама!» глазенками.
Город вооружался, город готовился к обороне. Опасность сплотила рабочего и мелкого торговца, крестьянина и конторщика, художника и пенсионера… Казалось, что сам город ощетинился мешками с песком, баррикадами, сложенными из булыжников; стены домов, машины, трамваи были оклеены с необыкновенной щедростью лозунгами и транспорантами, кричащими о необходимости встать на защиту города, разбить двигающиеся на Мадрид войска франкистов…
Хаджумар медленно продвигался по улице. Устав от многочасового лазанья по вонючим, сырым, бесконечным каналам мадридского подземелья, он направился к отелю «Флорида», чтобы вздремнуть, согнать с себя эту тупую вялость мышц, что появляется у человека, не спавшего двое суток. Он точно определил время, что уйдет у него на сон, — два с половиной часа. В пять часов за ним заедет шофер и опять отвезет его на площадь, под которой начинается замысловатый узел коммуникаций, ведущих в различные районы города. До прибытия в Мадрид Хаджумара мало кому из защитников города приходило в голову, что подземелье может стать и грозной опасностью, и великим подспорьем в борьбе с врагом. Он уже в первый день наткнулся на склад боеприпасов и оружия, которым запаслись сторонники франкистов и которое в первые же минуты после условного сигнала оказалось бы в руках врагов республики. Каждый день приносил новые факты подготовленных диверсий. Даже под правительственными зданиями была обнаружена заложенная франкистами взрывчатка.
Хаджумару пришлось срочно решать задачу, как закрыть доступ в подземелье контрреволюционерам и диверсантам. Работа велась тайно. Каждый проход, ведущий вниз, будто случайно оказывался замурованным: то якобы нужно было отремонтировать пострадавшее от бомбежки здание и для этого привезли строительный материал, а нерадивые рабочие свалили его в люк; то баррикада прошла как раз над люком; то подвал, через который был проход в подземелье, завалили годовым запасом соли, ибо склада для нее не нашлось… Этими «случайностями» обеспечивалась безопасность объектов, и в то же время они не позволяли мятежникам встревожиться и искать другие возможности для диверсий, когда франкисты подойдут к стенам города.
Но обезопасить себя — это полдела. Важно было самим использовать подземные каналы и проходы для нанесения внезапного удара по врагу. Это было намного важнее. И в этом направлении Хаджумару удалось многое сделать. Мешала неорганизованность. Среди республиканцев бытовало мнение, будто исход войны зависит только от того, как будет настроен на борьбу с мятежниками народ. При этом забывалось, что сражение выигрывается не криками, а воинской наукой, умелым использованием оружия, тактики и стратегии боя. Добровольцу вручали оружие, а научить его владеть им забывали. Ди и военных специалистов у республиканцев было мало. Поэтому советским советникам, готовившим мадридцев к обороне, приходилось начинать с азов. Республиканцы ради свободы были готовы к самопожертвованию, легко шли на смерть, подымаясь под пули. Шли в атаку с песней, с гордым криком «Виват, республика!» Падали, сраженные наповал, с улыбкой. Их бесстрашие было трогательно и впечатляюще. Но этого для победы было недостаточно. И Хаджумар, полюбив эти откровенные души, их доброжелательность и жизнерадостность, негодовал, видя, как отсутствие элементарной военной подготовки уносит множество прекрасных жизней.
Глядя на оживленные лица добровольцев, Хаджумар думал: отправь их на полгода в военные лагеря на учебу — и лучшей армии не надо. Но полгода не было. Были считанные дни для того, чтобы организовать достойный отпор мятежникам.
Неожиданно за спиной Хаджумара раздался выкрик:
— Салюд, советико!
Он инстинктивно чуть не оглянулся. Но привычка, долгие годы вырабатываемая, сработала: Хаджумар даже не замедлил шага. Он давал понять крикнувшему, что не считает приветствие относящимся к нему, Хаджумару. Ведь теперь он не Хаджумар и не представитель Советского Союза. Здесь о его истинном имени и происхождении знают буквально считанные люди. И Хаджумар так же медленно и устало продолжал двигаться по направлению к отелю. За его спиной все больше голосов подхватывали приветствие, горячо, от души провозглашали:
— Вива, руссо!
— Долой фашизм!
— Вива, республика!
Поняв, что крики относятся не к нему, Хаджумар наконец медленно, как человек, который ради любопытства решил взглянуть, что там за шум, оглянулся и увидел толпу мадридцев, окруживших двоих в суконных куртках с погонами. Их дружески похлопывали по плечам, по спине. Тянулись вверх кулаки в традиционном приветствии. Хаджумар узнал их, виновников шумного приветствия. Один из них, тот, что обнял пожилого рабочего, был журналист Михаил Ефимович Кольцов, второй, пытавшийся открыть кинокамеру и заснять эту неожиданную сцену на улице, оператор Роман Лазаревич Кармен. Кольцов, когда его дружно подхватили на руки и стали подбрасывать вверх, всполошился, ошалело перешел на русский язык, упрашивая:
— Что вы? Я же не заслужил! Зачем же меня?
Он раз за разом взлетал вверх и судорожно хватался за очки, боясь разбить их. Кармен водил камерой по толпе и весело шутил:
— Так его! Так! Заслужил он, заслужил!
Теплая волна радости охватила Хаджумара. Испанцы были искренни в проявлении своей благодарности к Советскому Союзу, не оставившему их в одиночестве. Так и хотелось подойти поближе к толпе, которая все разрасталась, становилась восторженнее и шумнее, признаться им, что он тоже советский, что он тоже прибыл помогать им отстоять свободу. И его конечно же так же горячо бы приветствовали, возможно, и ему пришлось бы взлететь над толпой. Вот взялись же теперь и за Кармена… Но Хаджумару нельзя было останавливаться. И вместо того чтобы приблизиться к своим землякам-соратникам, Хаджумар продолжил свой путь. И, лишь заворачивая за угол, вновь бросилвзгляд на толпу, которая, выстроившись возле Кольцова, весело позировала Кармену.
Хаджумар, Кольцов и Кармен живут в одном отеле, часто встречаются в коридорах, но редко когда перекидываются словечком. Чаще вынуждены делать вид, что друг друга не знают. Если же возникала необходимость обсудить какую-либо проблему, они улавливали те редкие минуты, когда в отеле воцаряется ночная тишина, и пробирались в комнату, чтоб при погашенных огнях и шуме спускаемой в ванну воды пошептаться.
Мамсуров вспомнил свою встречу с Корзиным. Генерал сказал ему:
— Вам следует разработать легенду.
— Уже есть, — кивнул головой Хаджумар — Я македонский продавец апельсинов.
— Почему продавец апельсинов и почему македонский? — задумчиво спросил Корзин.
— Я знаю, как выращивают апельсины. — Корзин ждал, и Хаджумар пояснил: — Когда я был в заграничной «командировке», останавливался у одного плантатора. Изучил многие сорта, смогу определить, какой плод откуда. Ну а за границей известно, что у нас в стране плантации апельсинов — редкость. Естественно, и специалисты тоже…
— Хорошо, — похвалил Корзин.
— Что касается македонского своего происхождения, то я смахиваю на выходца из тех краев.
— Недостаточно, — отпарировал Корзин.
— Область маленькая, вряд ли кто еще оттуда появится в Испании, — привел еще один довод Хаджумар.
— Получше, — согласился генерал.
— И к тому же в библиотеке нашей я отыскал разговорник. Русско-македонский.
— Ну и…
— На память не жалуюсь, языки мне легко даются, — сказал Хаджумар. — С тысячу слов уже знаю. Акцент проверила Софья Михайловна.
— Она и македонский знает? — поразился Корзин. — Ну и полиглот! — И опять посмотрел на Мамсурова: — Ну а звать как вас, македонский продавец апельсинов?
— Никак не подберу фамилию — ни одна не приживается, — огорчился Хаджумар. — Взять распространенную? Опасно…
— Верно, — согласился Корзин. — Нужно, чтоб звучала по-македонски, но не была бы македонской. Поменьше тебе следует иметь родственников на земле Македонии. Наша профессия очень не любит случайностей… Как же тебе найти фамилию без родственников? — задумался он и вдруг резко направился к стене, на которой висела огромная карта Европы. — Идите сюда! — Он стал водить указкой по карте, читая названия населенных пунктов в Македонии: — Скопье, Прилеп, Битола, Штип, Куменово… Вардар — это река, Преспа — озеро… Не нравится?
— Нет.
У Корзина озорно блеснули глаза.
— Давай по-студенчески, Хаджумар. Бери в руки указку и ткни в карту. Что выпадет, то и будет твоей фамилией… Давай, давай…
Хаджумар взглянул на генерала: не шутит ли? Убедившись, что тот и в самом деле предлагает такой необычный способ выбора псевдонима, улыбнулся, взял указку, закрыл глаза и ткнул в карту.
— Ксанти, — прочел Корзин и засмеялся. — Да ты в соседнюю Фракию угодил! Повторяй…
— Ксанти, — произнес Хаджумар и вслушался: — Ксанти… Ксанти…
— Звучит, — согласился генерал.
— Близко мне, — сознался Хаджумар. — Сразу в душу вошло. Наверное, потому, что у осетин все фамилии на «ти» оканчиваются…
— Ну, если нравится, то пусть так и будет: продавец апельсинов господин Ксанти…
— Итак, я прибываю в Испании, чтоб приобрести апельсины для продажи в Македонии, — сказал Хаджумар. — Но меня там обворовывают, и я остаюсь, пытаясь отыскать вора, а потом поддаюсь агитации и вступаю добровольцем в бригаду.
— Все понятно: был богатым продавцом, стал нищим и перешел на сторону пролетариата… Не банально, смахивает на жизнь… Как будете добираться до Испании?
— Обговорил с Ванко Винаровым, — пояснил Хаджумар. — Он тоже советует через Берлин — Брюссель — Париж…
— Где вы появитесь как македонский продавец апельсинов?
— В Вене…
Корзин помедлил, нахмурив брови, подумал и решительно глянул на Хаджумара:
— Утверждаю…
* * *
— Я слышал, что Дурутти просит себе советника, — сказал Хаджумар Корзину.
Они находились в автомобиле, который с погашенными фарами медленно кружил вокруг парка. Корзин знал, что Хаджумару удалось найти оптимальный вариант для контрударов через городское подземелье. Теперь все подступы к нему были взяты под контроль, и франкисты не сумели использовать его для диверсий. Республиканцами же было подготовлено несколько неожиданных ударов на случай, если враг войдет в пределы города…
— Бригада Дурутти занимает ключевые позиции в обороне Мадрида, и ох как важно иметь в ней опытного советника, — сказал Корзин. — Но с Дурутти придется тяжко. Он отчаянный, не бережет себя, лезет на рожон. Удерживать его от необдуманных поступков — это полдела. Важно суметь завоевать его уважение. Только тогда можно будет влиять на него. Кстати, у него уже был советник. Неплохой. Но нам пришлось его отозвать, ибо он не пришелся по душе ни Дурутти, ни его бригаде. Сложно там, очень сложно.
— Знаю, — сказал Мамсуров и спросил, будто просьба его удовлетворена: — Будем отказываться от псевдонима или я все еще буду продавцом апельсинов из Македонии?
— Ничего менять не будем. Для всех вы господин Ксанти. Кто вы на самом деле, будут знать лишь сам Дурутти и переводчица.
— Я немного уже понимаю по-испански. Скоро свободно заговорю.
— Тебе нужна переводчица, — возразил Корзин. — Я знаю одну, что под стать вам и Дурутти — тоже отчаянная.
* * *
Командира бригады Народного фронта Фернандо задело осколком снаряда. Он сидел в овраге, нервно поторапливал бойца, делавшего перевязку:
— Кончай, камарада! Царапина, а ты возишься!
Боец невозмутимо прилаживал вату к ране, обматывал марлей лоб.
— Ты не магометанин? — нетерпеливо тряхнул головой Фернандо. — Чалму наматываешь! А тут вот-вот мятежники опять пойдут в атаку!
Тяжко переваливаясь на больных ногах, к воронке приблизилась пожилая испанка в длинной юбке и шерстяных чулках. От крестьянок ее отличала кожаная куртка, которая очень шла к волевому, насупленному лицу женщины. Ее сопровождала девушка в брюках и голубой рубашке, большая черная шевелюра так и рвалась из-под пилотки. На поясе болтался огромный пистолет, мешавший каждому шагу. Огромные глаза уставились на командира бригады.
— Салюд, Фернандо! Тебя задело?
— Салюд, Мария! — Командир оттолкнул бойца. — Ты долго колдуешь, амиго. — Глядя исподлобья на Марию, он спросил: — Что в штабе?
— Беспокоятся — выстоишь ли?
— Пусть верят — фашисты здесь в Мадрид не пройдуд! — сердито закричал Фернандо. — Франко бросил на нас танки, самолеты, погнал в атаку марокканскую кавалерию. С гиком шли! Пики наперевес! В рукопашной сразились. Зато можешь передать штабу: у Франко больше нет марокканской кавалерии!
— У него еще много марокканцев, — покачала головой Мария.
— Пусть гонит их на нас! И у него не будет марокканцев! Если бы мне, военному офицеру, раньше сказали, что рабочие, только научившиеся стрелять из винтовок, выстоят против регулярных частей, против кавалерии, танков, самолетов, — я громко смеялся бы! Я не смеюсь — я восхищаюсь! И прошу штаб: побольше давайте таких бойцов!
— Передам, — серьезно пообещала Мария. — Я пришла тебе сказать, Фернандо, что ее, — кивнула на свою спутницу, — решено направить вместе с советником к Дурутти.
— Лину к нему?! — возмутился Фернандо. — Они же анархисты! Им ничего не стоит пристрелить ее. Не отдам!
— Она нужна там, — жестко сказала Мария. — Здесь должен был ее ждать полковник Ксанти.
— Этот македонский продавец апельсинов — умная бестия, — цокнул языком Фернандо. — Утром прибыл в бригаду, а ребята уже за ним стайкой ходят. Все-то он умеет. Видела бы ты, как он из пулемета шпарил по марокканцам! — Догадавшись, встрепенулся: — Это его советником к Дурутти? Коммуниста — к анархистам? Нет! Он и нам пригодится. Нет!
— Да! — отрезала Мария. — Так решило правительство.
— Ох, погубите вы и Ксанти, и Лину, — покачал головой Фернандо. — У Дурутти не бригада, а сброд. Анархисты должны были ударить во фланг марокканцам. Но не сделали этого, трусы!
— Дурутти — смелый и храбрый командир, — сказала Мария.
— Но вокруг него подонки. Они его подводят. Да и он слаб в тактике.
— Поэтому и направляем к нему Ксанти, — согласно кивнула головой Мария и спросила, оглядываясь назад: — Где он?
— Не туда смотришь, — усмехнулся Фернандо. — Он впереди, в окопах… — И сказал бойцу: — Сбегай позови македонца сюда. Смотри, Лина, не влюбись в него. Красавец, но македонцы большие ревнивцы.
— Не пугай, — попросила Мария. — Ей с ним в бой идти.
— Не буду, — согласился Фернандо и спросил: — А в городе как?
— Как может быть в городе, который изо дня в день бомбят, снарядами обстреливают. Ехали сюда — видели, как снаряд в очередь угодил. Женщины. Дети. Старик один. За хлебом стояли. Кровь, стоны. А плача уже нет — привыкли! Ужас! — Отогнав тягостные видения, произнесла: — То, что я скажу, ты уже знаешь. Но я повторяю: так приказано! Мятежники идут дорогой Валенсия — Мадрид. Ты должен остановить их на этом рубеже! Ясно?
— Передай там словами романсеро: «Среди нас нет робких сердцем, и должна еще сильнее наша доблесть разгореться». — Он вскинул кулак. — Мадрид неприступен!
Подошел Хаджумар, молча кивнул женщинам.
— За тобой пришли, — сказал Фернандо, показав глазами на женщин.
Хаджумар молча ждал. И тогда Мария кивнула на Лину:
— Она пойдет с тобой. И будет все время с тобой. Береги ее и не обижай. Она мне все равно что дочь.
— Что она умеет делать? — заученно произнес по-испански Хаджумар.
— О-о, — заулыбалась Мария. — Она знает итальянский, испанский, русский, понимает немецкий. А лучше всего она бросает бомбы. Да-да, бомбы, — видя, что советник не поверил, подтвердила Мария. — В банкиров! Первую бомбу она бросила в Аргентине, когда ей было всего тринадцать лет. Представляешь? По улице в фаэтоне ехали банкиры, а она в них бомбой! Вот такая отчаянная у тебя будет переводчица, македонец Ксанти! Ее в шести странах приговорили к смертной казни. А бог ее бережет, потому что тоже влюблен в нее. Посмотри, какая она красивая.
До этого момента Лина стояла молча и спокойно, будто речь шла не о ней. Но тут вскинулась, огорченно произнесла:
— Тетя Мария!
…Стемнело. Впереди едва заметно выделялись на фоне отливающего краснотой неба строения. Лина внезапно остановилась. Советник подождал ее. Видя, что она не трогается с места, спросил:
— Что-нибудь случилось?
— У нас есть полчасика, — произнесла она и пояснила: — Нам не следует приходить в штаб бригады в то время, когда там отсутствует Дурутти. А он прибывает лишь в семь тридцать вечера.
— Такая точность? — усмехнулся Хаджумар. — А я представлял себе анархистов людьми, которые ни во что не ставят условности, тем более время.
— Неверное представление, — отпарировала Лина. — Я, к примеру, тоже была анархисткой, да еще какой! А на свидание ни разу не опоздала. — Сквозь ее мягкий акцент прослушивалась насмешливость.
— Таких женщин, что умудряются не опаздывать, не бывает, — поддался ее шутливому тону Хаджумар.
— Не опаздывала я на свидание потому, что его еще у меня не было, — засмеялась она и смело протянула ему ладонь. — Пора нам знакомиться. Лина.
— Ксанти, — коротко сказал он.
— Ксанти… Звучит, — усмехнулась она. — Но я вам назвала свое настоящее имя.
— Ксанти, — упрямо повторил он.
— Ну что ж, — после паузы сказала она. — А я переводчица советника Ксанти.
— Должен вас предупредить — я уже почти все по-испански понимаю. Говорю плохо. Могут не понять. Я не хотел бы говорить по-русски. Предлагаю немецкий. И вы его знаете, и я. К тому же в Македонии язык германцев в ходу.
— Принято. — Показывая на сваленное дерево, она предложила: — Сядем?
— Сядем, — охотно согласился он, с явным удовольствием вытянул ноги, затем снял берет и, прислонившись к стволу, закрыл глаза.
Лина осторожно отломала несколько торчащих веточек и тоже уселась. Глянув на советника, она с удивлением заметила, что он спит. «Моментально уснул!» — ахнула она, и ей стало обидно: она рядом с ним, а он, видите ли, преспокойно спит! Такое женщине трудно перенести. Она протянула руку к плечу советника, чтоб хорошенько встряхнуть его. Но рука повисла в воздухе, и, вместо того чтобы разбудить его, Лина наклонилась, чтобы лучше рассмотреть лицо советника. Сейчас, когда жгучие, пронзительно-задумчивые глаза его были прикрыты, весь его облик приобрел поразительно тихий, мирный вид. Казалось, у него нет никаких забот, ему ничего не угрожает и он полностью отдался сну. Короткая стрижка… Высокий лоб… Губы застыли в едва заметной доброй улыбке. Брови — черные, пышные, так и приковывают к себе, левая, слегка приподнятая, нервно дернулась раза три, точно отгоняя непрошеную мысль. Это подергивание умилило Лину, и ей ясно представилось, каким он был мальчишкой — не по-детски рассудительным и в то же время нетерпеливым, не терпящим фальши. Ей захотелось притронуться к брови, пригладить ее… «Красивый мужчина», — невольно сделала она вывод и горько усмехнулась: разве красота дает гарантию от гибели? Что с советником будет через день? Да чего там день?! Через двадцать минут они предстанут перед анархистами, и неизвестно, во что это выльется.
Берет выпал из рук советника, и это заставило его открыть глаза. Увидев устремленный на себя взгляд Лины, он сконфуженно поднял берет с земли.
— А мне говорили, что… советник Ксанти не спит пять-шесть дней кряду.
— Неверно, — отрицательно покачал он. — Я ежедневно спал по два часа тридцать минут. Пока ехали с добровольцами из казармы на стрельбище и обратно…
— О-о, — только и сказала она.
— Надо было научить их стрелять… Мужества у них много, но никогда раньше винтовки в руках не держали.
— А бьют регулярные части! — с вызовом заявила она.
— Бьют, — охотно подтвердил советник. — Эту бы отвагу да умеючи! Идут на фронт, как… как на корриду: всей семьей, заводом, фабрикой! Стащишь за ногу танцующего. на бруствере храбреца, спросишь: «Зачем зря голову подставляешь?» — а он в ответ: «Я испанец! Пусть видят, что мы их не боимся!» — Он неожиданно повернулся к ней: — И для вас война — игра? Нарядились в брюки, на бок пистолет пристроили… Что, не нашлось мужчины на ваше место?
— О мужестве судят не по штанам и юбкам, — вспыхнула она.
— Во-во! Сейчас вы скажете: «Я испанка! Пусть видят, что я их не боюсь!»
— Я не испанка, я из Аргентины, — парировала она.
— Слышал: бомбочками баловались, — сказал он. — А война— дело намного сложнее, чем бомбу в фаэтон бросить.
— А чем, собственно, вы от испанцев отличаетесь? — спросила она. — Тоже на бруствере танцуете!
— Что? — поразился советник. — Откуда вы взяли?
— Почему согласились идти в отряд анархистов?
— Им нужен военный советник.
— Это безумие! — заявила Лина. — Они ненавидят коммунистов. Не удивлюсь, если через несколько часов нас привезут назад на носилках. Только разговаривать мы не сможем. Тогда уж вы выспитесь!
— А чего же вы не отказались? — По тону можно было легко угадать, что он улыбается.
— Тайна. Пусть у меня тоже будет тайна. Как и у вас, камарада Ксанти… Еще не поздно отказаться. Подумайте.
Советник устало поднялся:
— Как долго добираться до бригады Дурутти?
— Минут двадцать. А если туда и обратно…
— Обратно не будет, — прервал он ее. — Пойдемте.
* * *
Штаб бригады располагался в доме богатого буржуа, бежавшего к франкистам. Просторная прихожая, широкая мраморная лестница, ведущая на второй этаж. Во всю стену массивные портреты предков хозяина дома, по обе стороны порога доспехи крестоносцев. Из глазницы правого шлема торчала трость. Поверх портретов — красно-черный плакат с надписью «Вива, анархия!» И лестница, и все пространство вдоль стены забиты бойцами. Они хохотали, весело наблюдая за тем, как женщина лет двадцати семи, ухватившись обеими руками за перила лестницы, отбивалась от двух бойцов, которые старались стащить ее вниз.
— Не уйду, хоть убейте! — визжала женщина. — Не уйду! — Ее щедро напудренные щеки и красные губы дрожали от негодования.
— За шею ее, за шею, Аугусто! — подсказывали снизу бойцы.
— А чего ты, Гарсиа? Боишься ее?
Аугусто отпустил женщину, вытер пот со лба.
— Чертова баба! Да понимаешь ли ты, что этот дом — ключевая позиция? Девкам тут оставаться незачем.
— Нельзя! — подтвердил и Гарсиа.
— И для нас ключевая позиция! — подхватила женщина. — Когда хозяин удрал, мы так себе и сказали: раз революция, раз республика, раз свобода, то и нам хватит ютиться в малюсеньких комнатушках. Займем особняк! А теперь вы явились.
В дверях на втором этаже показался грузный мужчина, весь увешанный патронными лентами, с двумя гранатами на поясе, с револьвером и пистолетом. Гарсиа бросился ему навстречу:
— Педро, Дурутти приказал оборудовать позиции. Куда пулеметы ставить?
— Э-э, — отмахнулся Педро. — Помогите мне. — И скрылся в соседней комнате.
— Я пойду, — предложил Аугусто Гарсиа. — А ты валяй свою агитацию — у тебя хорошо получается.
— Каброн! — выругалась женщина. — Злой он.
— Будешь злой, когда фашисты жену и детей расстреляли, — сказал Гарсиа. — Как тебя звать?
Один из бойцов заиграл на гитаре веселые танцевальные мелодии. Женщина с ходу стала пританцовывать, кокетливо крутясь вокруг Гарсиа, произнесла:
— Зови меня Хехе.
— Хехе… — удивился Гарсиа. — Да что это за имя? Никогда не слыхал.
— У тебя молоко на губах, — отмахнулась от него Хехе. — Не нравится — иди дальше!
Вокруг захохотали.
— Здорово она тебя отшила! — злорадно прокричал боец, развалившийся на ступеньках возле статуи Афродиты.
Гарсиа ошарашено оглянулся, но не рассердился и дружелюбно стал объяснять женщине:
— Пойми, Хихи… Тьфу, черт! Хехе! У нас теперь все равны. У каждого должна быть приличная профессия.
Во входной двери показались Хаджумар и Лина. Остановившись у порога, молча стали оглядывать помещение и бойцов. Брови советника нахмурились. Никто не спросил у них, кто они такие, зачем пришли, никто не обратил на них внимания — все были заняты тем, что подтрунивали над Гарсиа и Хехе. Лина увидела, что советнику не нравится, как ведут себя анархисты в штабе, и терпеливо ждала дальнейших событий.
Хехе, соблазнительно виляя бедрами, танцующей походкой удалилась от Гарсиа. Распахнулась дверь. Педро и Аугусто вытолкали из комнаты величественную двуспальную кровать с высокими резными спинками.
— Святая Мария, хозяйскую кровать взяли! — ахнула Хехе.
— Куда поставим? — спросил Аугусто.
Педро огляделся и указал на самое неподходящее место — посреди второго этажа, прямо напротив лестницы:
— Сюда.
— А почему не в той комнате, где ты остановился?
— С этим подонком я больше не намерен в одном помещении находиться, — разозлился Педро. — Храпит не переставая!
— Сейчас у тебя унизительная работа, — догнав Хехе, сказал Гарсиа.
— Почему унизительная? — продолжала танцевать женщина.
— Ну, потому что… — растерялся Гарсиа. — Тебе приходится… Как бы это сказать? Зарабатывать деньги… э-э… таким делом…
— Каждый зарабатывает деньги, как может, — беспечно заявила Хехе.
Педро и Аугустино установили кровать. Педро, отойдя на два шага в сторону, причмокнул от удовольствия губами.
— А здесь недурно! — С разбега бросился на кровать, утонул в пышных перинах.
Аугусто, желая помочь другу, вытащил пистолет и направил его на Хехе:
— Ты еще здесь? Подружки ушли, а ты сама лезешь на мушку, — и стал прицеливаться в нее.
Прервав танец, женщина испуганно бросилась за спину Гарсиа.
— Он убьет меня!
— Погоди, Аугусто! — закричал Педро и, вскочив с кровати, направился к двери, в которую только что вынесли кровать. — Последняя попытка. — На пороге он оглянулся, удивленно спросил у Хехе: — Заставляешь себя ждать?
Хехе, опасливо обходя Аугусто, медленно исчезла за дверью следом за Педро. Аугусто засмеялся в лицо Гарсиа: — Вот такая агитация ей нужна, друг! — и, не снимая сапог и куртки, бросился на кровать, подражая Педро.
Гарсиа спустился по ступенькам, отнял гитару у бойца:
— Отдай! Не то исполняешь, — и заиграл грустную мелодию.
Шумно распахнулась входная дверь. Из ночной тьмы в холл ворвались несколько анархистов. Впереди двигался порывистый высокий мужчина. Глаза горели лихорадочным огнем.
— Дурутти! — радостно закричал Гарсиа и проворно отложил в сторону гитару.
И остальных бойцов появление комбрига обрадовало, видно было, что они любят его и гордятся им. Кое-кто поднялся, стал часовым у зашторенных окон; дремавшие на полу и на лестнице подняли голову, подтянули ноги, давая проход комбригу.
— Салюд, камарада! — поднял вверх кулак Дурутти.
Ему недружно ответили:
— Салюд, комбриг! Салюд, камарада!
Дурутти, не заметив Хаджумара и Лину, легко взбежал на второй этаж. Его не смутила кровать, поставленная прямо на пути, он обошел ее и торопливо направился к окну, собираясь распахнуть шторы.
— Здесь душно.
— Стой, Дурутти! — испугался Гарсиа и дернул шнур из рук комбрига. — Фашисты в ста метрах отсюда.
— Надо будет отогнать их подальше, — нехотя отпустил шнур Дурутти.
«Вот ты какой, легендарный Дурутти!» — Хаджумар не спускал глаз с комбрига анархистов, стараясь поскорее раскусить человека, которому должен внушить идеи дисциплины и военной науки, необходимость согласовывать свои действия с другими бригадами. Поскорее бы отыскать к его душевным стрункам ключик, узнать его характер, привязанности, образ мышления… Глядя на Дурутти, Хаджумар мысленно отмечал: порывист, нетерпелив, уверен в себе и правоте анархистов, наслаждается своей популярностью, взгляд острый. Дурутти явно из числа тех, кто доверяет первому впечатлению и кого потом невозможно заставить изменить свою оценку человека. Значит, необходимо сейчас, сегодня же произвести на него впечатление. Но как?
На шум из комнаты вышел Педро. Следом появилась Хехе. Теперь на ней были брюки, на боку нелепо торчал пистолет.
— Эй, вы! Представляю вам: моя боевая подруга Катарина. Прошу любить и жаловать! — увидев Дурутти, Педро ничуть не смутился. — Салюд, комбриг!
— Это ты приказал перетащить орудия к себе на фланг? — не отвечая на приветствие, резко спросил Дурутти.
— Я! — с вызовом заявил Педро.
— Я поставил их в центр! — гневно бросил ему в лицо комбриг.
— Это несправедливо, Дурутти, — возразил Педро. — Уже неделя, как артиллерия находится у Санчеса. А чем он лучше? Такой же командир батальона, как и я. Дай и мне покомандовать пушками!
Хаджумар хмуро посмотрел на Лину, тихо спросил:
— Правильно ли я понял, что этот человек отменил приказ командира?
— Вы неплохо знаете испанский, — похвалила переводчица.
Интересно. Эта стычка должна прояснить характер комбрига. Хаджумар ждал.
— Педро, ты не прав, — сказал Гарсиа.
— А ты помалкивай, — оборвал его Педро.
— Я командир бригады, и я решаю, где находиться артиллерии, — напомнил Дурутти. — Она будет в центре!
— Ты забыл, что я тоже анархист, и я желаю, чтобы пушки стояли на левом фланге. — Рука Педро потянулась к кобуре. — И никто не помешает мне это сделать!
— Они останутся в центре! — Пальцы Дурутти скользнули к кобуре, стали отстегивать ремешок.
— Я знаю, почему артиллерия охраняет только Санчеса, — выхватил пистолет Педро. — Он твой любимчик! — Педро взвел курок.
«Эге! Это уже не шуточки!» — Хаджумар почувствовал, как тело его напряглось. Еще не хватало, чтоб Дурутти погиб на глазах советника, так и не успевшего приступить к своим обязанностям.
— Я командир бригады. — И в руках комбрига запрыгал пистолет.
— Стой! — тело Хаджумара метнулось по лестнице, и он в несколько секунд оказался между Педро и Дурутти, закричал по-немецки: — Что вы делаете?
— Уйди, амиго, изрешечу тебя! — пригрозил Педро. — Или ты не слышал обо мне?
— Не мешай, парень! — закричал и комбриг. — Я с ним разделаюсь. Он предает идеи анархии!
— Смерть тебе, Дурутти! — Оттолкнув Хаджумара, Педро направил пистолет на комбрига.
Раздался выстрел, но секундой раньше Хаджумар ловко подсек руку Педро вверх, выбил пистолет и бросил анархиста на пол.
— Не признак мужества, когда рука меч обнажает из-за пустяка, — укоризненно покачал головой Хаджумар.
Дурутти посмотрел вверх, на потолок с дыркой, перевел взгляд на Хаджумара.
— Что ты сказал?
— Это не я сказал — Фирдоуси. — И попросил Лину: — Переведите. Камарада, башни долговечнее людей. А отчего рушатся? Маленький камушек отваливается от громадной стены. Остальное сделает время: за первым отвалится второй, затем третий… А потом и стена рухнет.
Лина перевела.
— А-а, комбриг, ты башня, — догадался Гарсиа и, смеясь, показал пальцем на Педро: — А он камень, что отваливается.
Дурутти гневно посмотрел на Лину, потом на Хаджумара:
— На немца ты не похож, хоть и шпаришь фразы чисто. Кто такой?
— Ее я знаю, — вмешался Антонио. — Она из Аргентины. На ее счету немало отчаянных дел. За ней охотилась полиция. Вся своя!
— Это правда? — обратился к Лине Дурутти.
— Да, — согласилась Лина. — Я очень нравилась полиции. И я тебя тоже знаю.
— Меня все знают, — невозмутимо произнес Дурутти и показал на Хаджумара: — Он кто?
— Вам нужен военный советник.
— А-а, — вспомнил комбриг и жестко спросил: — Коммунист?
— Коммунист, — твердо ответил Хаджумар.
Вокруг раздался ропот.
— Анархистам не нужен коммунист! — выкрикнул Педро и рванулся было к Хаджумару, но его удержали.
— Тихо! — закричал Дурутти и попросил Лину: — Передай ему: я не позволю коммунисту сбивать на пол анархиста. И еще: я не позволю разводить агитацию. Мне нужна его голова, а не язык.
«И это вместо того, чтобы дать команду арестовать и осудить Педро. Вот тебе и благодарность за то, что спас комбрига от смерти», — с горечью усмехнулся Хаджумар и сказал Лине:
— Мне не переводите, я все понял. Но ему передайте: я прибыл воевать с фашистами.
— Передайте ему, — выслушав Лину, сказал Дурутти, — трусов я расстреливаю из этой штуки. — Он поднял пистолет. — Я имею право стрелять в трусов. Мне было шестнадцать, когда я первый раз швырнул бомбу в богачей. Я дрался на баррикадах, я похищал судей, я совершал налеты на банки, я познал десятки тюрем. Восемь стран меня высылали за пределы своих границ. В Испании, Чили и Аргентине меня приговорили к смертной казни. А я продолжаю бороться.
— Лина, передайте ему: я не люблю много слов. — Советник взял из рук комбрига пистолет, отсчитал четыре патрона на ладонь, остальные вложил опять в пистолет и возвратил его ему: — Четыре патрона ему, четыре — мне… Разить трусов.
Вокруг замерли. Потом Гарсиа произнес задумчиво:
— Это справедливо.
— Дурутти, он и для тебя взял «душечку», — зло прыснул Педро.
— Молчи! — взбесился комбриг. — Он намекает мне? — Он в гневе прошелся по помещению, взгляд его блуждал, выискивая способ немедленной проверки на смелость военного советника. — Отлично! — Он подбежал к окну, сорвал штору.
— Дурутти, осторожнее! — испугался Гарсиа. — В ста метрах фашисты!
Дурутти оттолкнул Гарсиа, встал спиной к окну:
— Прочь! Я покажу этому штабишке, что я не трус. Ярче зажгите свет!
Педро охотно бросился к выключателю и щелкнул им. Свет люстры ярко осветил помещение. Все, с испугом прислушиваясь, ждали. И недолго. Раздался выстрел, и тут же зазвенела люстра.
— В люстру попали! — облегченно вздохнул Гарсиа.
— Слава Марии, промазали! — улыбнулся Аугусто.
«Сумасшествие какое-то!» — подумал Хаджумар.
Дурутти нетерпеливо отошел от окна, хмуро сказал:
— А теперь пусть встанет… коммунист!
— Это невозможно! — встрепенулась Лина.
Хаджумар поглядел по сторонам, убедился: анархисты ждали, что он предпримет. Он мягко отстранил Лину, вставшую на его пути, направился к окну. «Вот тебе и испытание, которое ты искал, но как оно глупо и бессмысленно!»
— Камарада, советник! — закричала Лина. — Это самоубийство.
Хаджумар неторопливо облокотился на подоконник и не стал поворачиваться спиной к окну. Все притихли в напряженном ожидании. Опять раздался выстрел, потом второй, послышалась пулеметная очередь. С головы Хаджумара слетел берет, зазвенел хрусталь люстры. Через всю комнату метнулась фигура Лины. Девушка щелкнула выключателем. Наступила темнота.
— Дети! Ну маленькие дети! — поразилась Лина и зло приказала: — Прикройте штору!
Кто-то задернул штору, включил свет. Хаджумар спокойно щурил глаза от яркого блеска люстры.
— Вы не хотите жить? — обрушилась на него переводчица.
— Я люблю жизнь, — не согласился с ней Хаджумар.
— И подставляете свой лоб пуле?
— Глупо, конечно, — согласился советник. — Но вы же все понимаете. Я вынужден был это сделать… Там республиканцы стоят насмерть. А эти отсиживаются в замках. Мне надо из них сделать хороших солдат.
— Понятно: борьба за души, — не успокаивалась Лина. — Но не слишком ли тяжкой ценой?
— Жаль, что приходится завоевывать доверие таким образом, — вздохнул Хаджумар. — Не умом, не талантом, а вот так…
Дурутти прислушался к гулу одобрительных голосов, подошел к Хаджумару, всмотрелся в его лицо. Их окружили плотным кольцом. Комбриг широко улыбнулся:
— Ты похож на испанца, черный, как все мы. Я знаю, откуда ты, но мне говорили, что все люди там — блондины.
— Он забыл о конспирации, — сказал по-немецки Лине советник и недовольно покачал головой. — Я из Македонии. Продавец апельсинов.
Дурутти пристально всмотрелся в анархистов и многозначительно сказал:
— Наш военный советник из Македонии, — и повторил: — Из Македонии! Понятно?
Гарсиа просиял:
— Теперь мы знаем, что он из Македонии.
— Македонец, сразу видно, — пробасил Аугусто.
— Продавец апельсинов, из Македонии, — раздались голоса.
Комбриг довольно посмотрел на Хаджумара:
— Видишь, все знают, что ты из Македонии, — и протянул руку: — Дурутти.
— Ксанти, — пожал руку комбрига советник.
— Полковник Ксанти, — поправил его комбриг и вновь нахмурился. — В деле проверим тебя, коммунист, в деле.
Жить будешь в моей комнате, вон там, — показал он на дверь в глубине площадки.
— Я буду приходить поздно ночью, камарада Дурутти, — усмехнулся Хаджумар. — Не боишься, что прерву твой сон?
— А где ты намерен проводить ночь? — резко спросил комбриг.
— Ты видел, как те стреляют? — кивнул на окно советник. — Я не хочу, чтобы твои бойцы так же мазали. Я буду учить их стрелять без промаха. Днем мятежники не позволят, придется проводить занятия ночью.
Дурутти улыбнулся — идея советника пришлась ему по душе.
— Записывай и меня в ученики, — хлопнул он ладонью по плечу Хаджумара и тоже кивнул головой на окно. — А сам, наверно, рад, что те плохо стреляют. А то бы мы с тобой разговаривали там, — показал он на небо.
Бойцы засмеялись шутке комбрига. Только советник не улыбнулся.
Катарина, не сводя глаз с Хаджумара, вздохнула:
— А он красивый.
— У тебя одно на уме, — махнул рукой Педро.
— Я хочу задать ему один вопрос, — обратился к Лине Аугусто. — Мы здесь, потому что ненавидим фашистов. Они уничтожили мою семью. А он не уехал отсюда. Зачем? Ему там плохо жилось?
— Нет, жилось хорошо, — ответил Хаджумар. — А не уехал, потому что тоже ненавижу фашизм.
— Не люблю коммунистов, — признался Гарсиа. — У вас слишком много законов. Свободному человеку и разгуляться негде. А в мире должно быть иначе. Каждый должен делать то, что ему нравится. Я требую уничтожить деньги, чтоб люди перестали гоняться за ними. Я требую уничтожить правила уличного движения. В самом деле, почему я должен ехать прямо, если я хочу повернуть налево?
— И ты едешь прямо, на красный свет, и врезаешься в машину, неся смерть людям. Ты называешь это свободой, а я насилием! — Видя, что все прислушиваются к ним, Хаджумар задал вопрос: — Вы хотите уничтожить все?
— Да! — подтвердил энергично Педро. — Не оставим от старого безмозглого мира камня на камне. Мы заново построим все!
— И культура вам не нужна? — спросил Хаджумар.
— У нас будет своя культура, — отрезал Педро.
— Нам ничего не надо от старого мира, — подтвердил и Гарсиа.
— И песни Лорки? — показал на гитару в его руках Хаджумар.
— Мне его песни очень нравятся, — растерялся Гарсиа.
— Анархия создаст свои песни! А эти уничтожим, — заявил Педро.
— Опоздал! — с горечью сказал советник. — Фашисты уже расправились с Лоркой.
— Нет! — побледнел Гарсиа.
— Они расстреляли его.
Гарсиа, поняв, что советник сказал правду, прислонил гитару к стене.
Дурутти, разложив карту на кровати, позвал:
— Эй, коммунист, подойди сюда.
Хаджумар склонился над картой, спросил:
— Где фронт?
— Везде! — широко повел руками комбриг.
— Я спрашиваю, где проходит линия фронта?
— А черт его знает! — пожал плечами Дурутти и хитро глянул на него. — Ты военный спец — ты и решай где.
— Как же вы воюете? — невольно поразился Хаджумар.
— Эй, Гарсиа! — позвал комбриг. — Скажи ему, как мы воюем.
— Откуда в нас стреляют — туда и мы, — охотно поделился опытом молодой анархист.
— Вот-вот, бьем врага, где застанем.
Хаджумар посмотрел на Дурутти.
— Где нет дисциплины, Дурутти, там нет армии. Почему ты не прогонишь Педро?
— Он анархист и ненавидит фашистов, — насупился комбриг, лицо его стало озабоченном. — В штабе мне сказали, что моя бригада должна остановить мятежников, наступающих по дороге Валенсия — Мадрид. Я встречу их артиллерией.
— Ты поставил ее в центре? — всмотрелся в карту советник.
— На войне как в шахматах — всегда укрепляй центр.
— Рельеф местности позволяет им впритык подойти к правому флангу, — прикинув ситуацию, предупредил Хаджумар.
— Чепуха! — возразил Дурутти. — Они пройдут здесь: интуиция меня не обманывает.
— Вам нужен военный советник, который восхищался бы вашей интуицией? — выпрямился Хаджумар, поняв: если не сумеет отстоять свое мнение сейчас, потом поздно будет заставить его прислушиваться к себе.
— Дурутти — очень вспыльчивый человек, — предупредительно напомнила Лина. — Он истинный испанец.
— А я тоже южанин и тоже вспыльчивый человек, — твердо заявил советник и предложил: — У меня в пистолете четыре его пули. Если фашисты ударят в центр, я одну из них пущу себе в лоб.
— Это мужской разговор, — оживился Дурутти. — Пари есть пари. А если франкисты ударят во фланг, то я должен выстрелить себе в лоб?
— Нет, — поставил свое условие Хаджумар. — Ты обязан будешь забыть о своей интуиции.
— Ха! — удивился комбриг. — Согласен! — Он протянул руку Хаджумару, тот хлопнул по ней ладонью. — Ставь артиллерию куда хочешь.
— Мы это сделаем точно в нужный момент, — заявил советник и углубился в изучение карты.
Как ни прикидывай, карта давала однозначный ответ: положение катастрофическое. Немало ошибок совершено, и очень много времени потрачено на бесполезные споры и дебаты, как защищать Мадрид, надо ли его защищать и где развернуть оборону. И вот результат: выбран отнюдь не лучший вариант обороны, а времени на оборудование новой позиции нет. Надо искать выход в неожиданных тактических ударах. Но не с такими войсками, где расположение артиллерии определяют не соображениями успешной обороны, а престижными мотивами. И разве возможно воздействовать на разум таких, как Педро? Их уже не перевоспитаешь, чересчур обработаны, охвачены жаждой делать только то, что им хочется. А война — это испытание, в котором каждый человек делает то, что требуется для победы. Но бойцов не хватает, и, значит, придется опираться и на анархистов. Надо добиться, чтобы такие, как Гарсиа, Аугусто, эти простые крестьяне, одурманенные лживыми лозунгами о вычурной свободе личности, поняли, что победа не придет без умения воевать. Им надо наглядно показать, как куется успех.
Он рассуждал, а глаза его бегали по карте, выискивая, за что бы зацепиться, хотелось отыскать и использовать любой маломальский шанс, дававший дополнительную возможность для отражения атаки. Уже несколько раз палец его утыкался в мост, находившийся в тылу мятежников. Несколько дней назад он был в руках республиканцев, но уже тогда надо было предусмотреть опасность захвата его франкистами. Но никому в голову не пришло заминировать его, чтобы взорвать при отступлении.
Хаджумар чертыхнулся: будь мост взорван, сколько дней было бы выиграно для организации стойкой обороны. Мысль никак не желала мириться с тем, что он целехонький и помогает врагу. И пришло твердое решение: мост должен быть взорван. Как? Он этого еще не знал, но упрямог твердил себе: мост необходимо разрушить. Но кто это сделает? У бойцов нет такого опыта. Значит, придется идти самому. Нужно, чтобы люди поверили в него, советника, чтобы у него появился костяк бойцов, на которых можно опираться. К тому же это тот случай, та операция, на которой можно научить двух-трех анархистов умению воевать. И Хаджумар кивнул на карту и тихо, чтоб никто из бойцов не услышал, произнес:
— Камарада Дурутти, этот мост очень нужен мятежникам.
— Что ты предлагаешь?
— Надо взорвать его, — заявил советник. — Пойти и взорвать.
— Кто пойдет? — удивился Дурутти. — Там же фашисты. Хотел бы я видеть этого сумасшедшего.
— Я пойду, — сказал Хаджумар и надел на себя берет, повязал шарф на шее. — Ну как?
— Испаньеро! — засмеялся комбриг. — Нет, каталонец!
— Дай мне двух бойцов, — попросил советник.
— Значит, ты всерьез? — посуровел Дурутти и, помедлив, крикнул: — Всем — сюда! — И когда собрались бойцы, сказал: — Кто желает пройтись с камарада советником в тыл мятежников?
— Я, — вышел вперед Педро.
— Нет, — сказал по-испански советник. — Пойдет он, — показал на Аугусто.
— Меня выбрал, — довольный, усмехнулся в лицо Педро Аугусто.
Хаджумар нагнулся к гитаре, поднял ее:
— И этот, что не любит правила.
— Пойдете через два дня, — сурово произнес Дурутти.
— Нет, — не согласился советник.
— Два дня вам хватит на подготовку, — отрезал комбриг. — Это приказ.
— Нет, не через два дня, — заупрямился Хаджумар. — И даже не завтра. Сейчас пойдем… Дорога каждая минута, камарада комбриг. — Тол у вас есть?
— Тол есть, — сказал комбриг.
Лина протянула руку к гитаре, сказала:
— Тол понесут мужчины, а гитару — я.
— Нет, — отрицательно покачал головой Хаджумар. — Вы не пойдете с нами.
— Решили избавиться от меня? — вспыхнула переводчица. — Не выйдет!
— Это опасное дело.
— Я с опасностью свыклась с тринадцати лет, камарада советник.
…Когда Хаджумар, Аугусто, Гарсиа и Лина ушли готовиться к операции, Педро пристал к Дурутти:
— Тебе нужен советник или диверсант?
— Он сам захотел, — ответил комбриг.
— Один шанс из ста, — произнес кто-то из бойцов.
Дурутти проворно повернулся к бойцам:
— Вы понимаете их?
— Кого? — удивился Марио, старый анархист, всю жизнь посвятивший движению.
— Коммунистов? У всех у них — у русских, испанцев, немцев, чехов — есть что-то общее… — Он помолчал, наконец с усилием отогнал посторонние мысли, оглянулся, резко сказал: — Я приказал во всех окнах расставить пулеметы, поставить часовых возле здания…
— Хорошо, — покорно произнес Педро.
— Я сам проверю, — предупредил Дурутти и вошел в комнату.
Педро оглядел бойцов, скомандовал:
— Эй, Антонио, тащи пулемет к этому окну… Ты, Марио, будешь часовым… Марш за здание… — и повалился на кровать.
Катарина подошла поближе к нему, облокотилась на спинку кровати:
— Скажи, почему командир Дурутти? Он самый смелый?
— Заткнись! Тебя не спросили.
— Тебя окопы сделали грубияном… Был у меня Пабло. Такой внимательный! А сколько покупал конфет.
— Каждый услаждает женщину чем может.
— А ты раньше был торговцем?
— Буду… Я всегда мечтал о своем деле. Чтоб магазин был. Чтоб я стоял за прилавком. Чтобы люди мне кланялись…
— Не все тебя ценят… Вот и македонец… Он отказал тебе.
— Ну и черт с ним! Идти в тыл врага — небольшая радость.
— Кого больше боишься: коммунистов или тех? — показала она на окно.
— Победим тех, возьмемся за этих!
— Когда два твоих врага дерутся, лучше в сторонке постоять. Подождать, пока один из них другого… за глотку… И у победителя силы будут на исходе… Тогда и ударить и свалить его можно.
Педро привстал на кровати, посмотрел на нее внимательно:
— Ты не потаскушка. У тебя мужские разговоры.
— Дурутти забывает об анархии. Не такой нам нужен вождь. Ты должен быть на его месте.
— Ты вот что! — задохнулся от гнева Педро, так неприятен был ему намек на то, что его обошли: — Ты ласкай мое тело, а не слух!
Глава 4
Они пошли в тыл фалангистов далеко за полночь. Впереди шел Хаджумар, следом Аугусто, Лина и Гарсиа. Когда советник залегал, все моментально делали то же самое — об этом он их строго-настрого предупредил. Никаких самостоятельных решений. Каждый делает только то, что ему поручит лично он, советник Ксанти. Тол был распределен поровну между мужчинами. Когда достигли поля, Хаджумар приказал пересечь его ползком. Достигнув лощины, он ловко юркнул вниз… Он шел так, будто неоднократно проделывал этот путь и прекрасно знал, где мост. Лина, не выдержав, спросила у Аугусто, верно ли они идут. Хаджумар резко прервал их шепот:
— Не разговаривать!
За ночь они прошагали километров пятнадцать. Советник подгонял, твердил, что отоспятся и отдохнут днем. Надо добраться до лесочка, что длинным языком вытянулся вдоль реки, но, к сожалению, не дотягивается до нужного им места. Так что днем они будут отлеживаться, а следующей ночью, часам к четырем, окажутся на месте.
— Вперед, вперед, — приказывал он и подбадривал Гарсиа и Лину, потому что Аугусто ни на шаг не отставал от советника.
Уже рассветало, когда они добрались до лесочка. Аугусто предложил спуститься в овраг и там залечь на весь день. Но Хаджумар отправил в овраг Гарсиа и Лину, а сам вместе с Аугусто вскарабкался на пригорок, облюбовал местечко в кустах, плотно прикрывающих его со всех сторон. Пригорок давал полный обзор. Советник, осмотревшись, предложил Аугусто поспать, чтобы тот потом сменил его. Испанец не стал церемониться и уступать очередьКсанти, прилег на траву.
— Я ненавижу их, — сказал Аугусто. — Они убили моих детей. Моей Марии было всего четырнадцать… Косы у нее были длинные-предлинные, черные змейки… Они ее сперва… на глазах у матери и брата… Мигель бросился на них с кулаками… Что мог сделать одиннадцатилетний малыш? Они поставили на пригорке крест, распяли Мигеля и… подожгли…
Чем мог утешить его Хаджумар?.. Он наблюдал за проселочной дорогой, что шла за полем. Потом стал изучать карту. Судя по ней, в пятидесяти километрах от моста находился небольшой аэродром. Вернее, в то время, когда составлялась карта, он был небольшой, а в дни войны такие объекты растут по часам. Теперь, возможно, это важнейший аэродром, на котором базируются самолеты франкистов. Может быть, оттуда совершают свои варварские налеты на Мадрид пилоты герринговской дивизии «Кондор». Надо бы проверить.
И еще он подумал о том, как все сложно в бригаде анархистов. Дурутти понравился своим цельным характером. Теперь понятно, почему он пользуется влиянием в Испании среди определенных слоев населения. Наверняка он сам тяготился отсутствием полного взаимопонимания с анархистами. Не претит ли ему то обстоятельство, что каждый боец смотрит на него, в первую очередь, как на вождя анархии, а потом уже как на командира, которому все должны подчиняться? Хаджумару было известно о том, что анархисты в случае неодобрения действий командира имеют право собрать митинг и переизбрать комбрига. В таком случае один баламут, наподобие Педро, всю бригаду может настроить против Дурутти. Человеку малоприятно, когда кто-то им командует. Но армия без этого не может существовать. Значит, надо доказать анархистам это, убедить их, заставить поверить в него, советника. И начинать следует с Дурутти.
Когда Аугусто проснулся, Ксанти — насколько позволял ему испанский запас слов — объяснил, на что тот должен обращать особое внимание, и предупредил: если что-то смутит его, он непременно обязан разбудить советника.
Сон окунул его в детство. Он увидел село, мать, отца, дядю… Казалось, что уже тогда он знал, что будет далеко-далеко от родины, и он постарался все запомнить. И вот теперь все деревья, камни, овраги, ущелья, родники, друзья детства встали перед ним воочию…
Он проснулся сам. Оказалось, что спал он три часа. Аугусто не сразу заметил, что советник открыл глаза. Испанец не отрывал взгляда от дороги. Глаза у него были грустные…
Шли сперва лесом, а когда совсем стемнело — полями, старательно обходя населенные пункты. Часто натыкались на военных. Фалангисты вели себя неосмотрительно, точно были убеждены, что вокруг никого нет, только свои. Часовых они выставляли, но и те были невнимательны: не раз можно было утащить даже офицеров, что и предлагали Аугусто и Гарсиа. Но Ксанти упрямо твердил, что их цель — взорвать мост. Таков закон разведчиков, и его надо строго выполнять всем, кто идет в тыл врага. Ксанти казалось, что он говорит убедительно, но по тому, как отворачивались от него испанцы, он уловил, что они остались при своем мнении. «Да не за труса ли они меня считают?» — вдруг пронзила его догадка. Но и это не заставило его отклониться от основного задания и напасть на беспечных вояк, что тсУ и дело попадались им на пути. Лина обиженно смотрела в сторону, давая понять советнику, что ей не понравилось, что он не брал ее на операцию.
Уже рассвело, когда они оказались у цели. Мост им открылся как-то сразу, точно ему самому не терпелось показать всем, каков он красавец. Лучи двух прожекторов, установленных по краям и направленных на настил, разгоняли предрассветную мглу, и хорошо были видны будка и часовые, вышагивающие навстречу друг другу…
Двое часовых… Это уже сложнее. Будь один — Хаджумар взял бы его на себя. А тут надо было брать сразу обоих, одному не управиться. Кому же поручить второго? Аугусто? Гарсиа? Но у них нет опыта. И в состоянии ли они? Стрелять из винтовки во врага и сблизиться с ним, чтобы применить нож, — это далеко не одинаковое дело. Хаджумар знал многих, кто были смелы в огнестрельном бою, у кого была сильная воля, но кто не мог снять часового.
Минуты уходят, пора действовать. Конечно, по всем правилам, следовало бы дождаться смены караула. Но приближается рассвет, и ждать нельзя. Хаджумар лежал, прикидывая варианты, и прислушивался к тихим словам, которыми перебрасывались между собой переводчица и испанцы.
— Я отсюда одним выстрелом сниму часового, — убеждал Лину Гарсиа.
— Нам нужен мост, а не часовой, — сказал Ксанти.
— Но мост охраняют часовые.
— В часового буду стрелять я, — заявил Аугусто.
— У тебя с ним особые счеты? — спросила Лина.
— Стрелять нельзя, — возразил Хаджумар.
Он в десятый раз засек время, чтобы определить, сколько секунд с того момента, как поравнявшись друг с другом, часовые двигаются спиной друг к другу к краям моста… Двадцать три секунды! Маловато. Двадцать три секунды на то, чтобы пересечь пустырь, что отделяет кусты от моста, на то, чтобы вскарабкаться на мост и броситься на одного часового, затем на второго, пока он все еще не обернулся… Двадцать три секунды… Нет, не получится… Значит, надо разделить операцию на три этапа. Сперва, за первые двадцать три секунды, он должен пересечь пустырь. За вторые двадцать три секунды он должен добраться до пролета. И ждать…. Это самое страшное — ждать, пока они сойдутся и начнут двигаться в разные стороны. Ждать, надеясь на то, что ни один из них не заглянет с моста вниз. А ведь они это делают; Есть ли другой ход? Нет, не подключать же к операции неопытных Аугусто или Гарсиа. Он не имеет права рисковать. Значит, надо успеть все самому. За двадцать три секунды подтянуться с пролета на мост, снять финкой одного часового и броситься на второго, пока тот будет вышагивать до конца моста… Да-да, так и должно быть… Не надо никого подключать, главное, чтобы они потом не подвели его, быстро доставили тол к мосту.
— Вы метко стреляете? — спросил он Лину.
— Прошла полный курс подготовки, — ответила она.
Хаджумар стал разуваться, чем привел в величайшее изумление переводчицу и испанцев. Сняв сапоги, он аккуратно вложил в них портянки, хотел было снять и носки, но раздумал…
— Вы будете плыть? — спросила Лина.
— Зачем? — усмехнулся он. — Подходы к мосту достаточно скрытые. Вон до того кустика добраться бы… Теперь слушайте меня внимательно. План таков. Когда увидите, что оба часовых лежат на мосту, вы, Аугусто, и вы, Гарсиа, быстрыми перебежками доставьте тол на мост. Бежать легко, без шума. Вам, Лина, оставаться на месте, держать под прицелом будку. Стрелять в любого, кто оттуда покажется. Справитесь?
— Постараюсь.
— Надо справиться! Когда мы втроем будем покидать мост, вы, Лина, направитесь вон к тому дереву. Не напутайте. Нам возвращаться нельзя, потому что они сразу бросятся сюда, и тогда нам не уйти. Ясно?
— Понятно.
— Да не забудьте захватить мои сапоги, — предупредил он. — Я не люблю ходить босиком по лесу.
— Не забуду, — улыбнулась Лина; у нее стало тревожно на душе — план операции был прост и ясен, но на пути его решения могло быть много случайностей.
— Повторите, что я приказал, — потребовал Хаджумар.
— Когда ты снимешь часовых, — начал Аугусто и вдруг недоуменно воскликнул: — Но как ты это сделаешь? Их же двое! И они друг друга видят.
— Как будет — увидите, — оборвал его советник. — Повторите, что вам следует делать.
— Ты снимешь часовых, — повторил Аугусто. — И тогда мы с Гарсиа хватаем мешки с толом и бежим к мосту… Я не понимаю, для чего я шагал сюда? Чтобы смотреть, как другие убивают фашистов? — И попросил Лину: — Пусть он мне разрешит пойти… Я заговорю с часовым, а потом… — Он вытащил нож…
— Отставить, — приказал советник. Натянул поглубже берет, встал и побежал к мосту.
Через несколько минут фигура его мелькнула от кустов к основанию моста, замерла там.
— Молодец, камарада! — прошептала Лина.
— Вон, уже карабкается по столбу на пролет, — сказал Аугусто Гарсиа.
Они следили за часовыми, которые медленно сближались. Вот они уже поравнялись и прошли мимо друг друга. Один из них приближался к тому месту, Под которым замер камарада советник. Глянет или не глянет с моста вниз? Нервы у Гарсиа напряглись до предела. Лина на всякий случай взяла на прицел часового. Задвигал затвором и Аугусто. Лина испуганно зашикала на него:
— Приказ: ни в коем случае не стрелять!
Дальний часовой повернул кругом и в тот же миг и ближний сделал поворот. Теперь они стали сближаться друг с другом. Советник торопливо стал перебираться к середине моста. В одном месте ему пришлось повиснуть на руках и быстро передвигаться на весу к среднему пролету. Часовой двигался всего в двух метрах впереди него.
— Хоть бы не услышал! — взмолилась Лина.
— Как он один с двумя справится? — засомневался Аугусто.
Никто ему не ответил, ибо у всех на уме был этот же самый вопрос, и каждый недоумевал, как же собирается осуществить задуманное камарада советник. Лина с ужасом убедилась, что все висит на волоске, что это немыслимо — снять обоих часовых разом. Они успеют поднять шум, и тогда не сдобровать ни советнику, ни им.
Часовые сближались. Она видела, как камарада советник вытащил финку, зажал в зубах и вытер о грудь сперва одну руку, потом вторую.
Часовые поравнялись, пошли мимо друг друга. И в тот же самый момент камарада советник схватился обеими руками за настил, легко подтянулся, перевалил на мост и в два прыжка настиг часового. Лина увидела, как Ксанти обнял часового сзади, а потом, придерживая его винтовку, укладывал тело часового на настил. «Только бы тот, второй, ничего не услышал!»
— Скорее же! — прошептала Лина.
Ксанти на носках бежал к другому часовому и настиг его в тот самый миг, когда тот двинул правым плечом вперед, чтоб развернуться. Не успел — оказался в объятиях Ксанти.
— Пора! — скомандовала Лина.
Аугусто и Гарсиа метнулись вперед. Лина через прицел винтовки, не мигая, смотрела на дверь будки. «Теперь не должно сорваться, не должно! — глухо кричало внутри. — Не должно!» Она не удержалась, глянула на мост и чуть не вскрикнула: ей показалось, что часовой ожил и с прежней монотонностью ходит взад-вперед по мосту, держа винтовку за плечом… Где же камарада советник? И тут же она мысленно рассмеялась над собой. Это же он и есть, только в куртке часового и с его винтовкой. Вон мелькают его босые ноги… Она вспомнила наказ советника и судорожно придвинула к себе сапоги — не забыть бы! И опять стала всматриваться в дверь будки.
Мельком она видела, как вскарабкались по насыпи на мост Аугусто и Гарсиа с мешками, как Ксанти стал возиться с толом, укладывая его на том самом пролете, по которому вылез наверх, а Гарсиа и Аугусто, подражая часовым, медленно прогуливались по мосту… Потом все трое бросились вниз по насыпи и, круто завернув направо, стали удаляться в сторону дерева, куда было велено бежать и ей. Лина удивилась, увидев в руках у советника мешок с толом.
Когда раздался страшный грохот, Лина оглянулась. Обломки моста возмутили реку, началась беспорядочная стрельба.
— Быстрее! Надо уходить! Не останавливать! — подгонял группу Хаджумар.
Через некоторое время до Лины дошло, что они двигаются не в сторону Мадрида, не к своим, а наоборот — в глубь тыла франкистов.
— Мы не туда идем!
Он взял из ее рук сапоги и, усевшись на землю, стал быстро наматывать портянки.
— Мы идем не в Мадрид? — опять намекнула она ему на то, что он напутал, взял неверное направление.
— Нет, — коротко бросил он.
Ксанти все время подгонял их, твердя, что днем они будут отдыхать, а сейчас важно как можно быстрее удалиться от моста. Сам он, казалось, не ведал усталости, хотя в руках у него находился мешок с толом.
Лина кивнула Гарсиа на него:
— Возьми.
— А чего он его тащит? — удивился Гарсиа и, взяв из рук советника мешок, уложил его на землю и махнул рукой. — Пусть валяется. У нас этого добра навалом в бригаде.
Ксанти показал рукой на мешок, приказал:
— Неси.
— Назад? — возмутился Гарсиа. — Меня засмеют!
— Тол понадобится послезавтра, — веско сказал советник. Он не стал объяснять, что им предстоит еще одна операция.
Тон, которым это было сказано, не предполагал отказа. Но Гарсиа был анархистом. Еще день назад он бы ни за что не взял тол, но только что он видел камарада советника в деле и не приказ, а восхищение им заставило его шагнуть к мешку. И все-таки, подымая тол, Гарсиа проворчал:
— Гибнет анархия.
…И опять Хаджумар вел их так уверенно, как будто не раз проделывал этот маршрут. Все чаще им встречались воинские части, и все чаще ими оказывались итальянские и немецкие дивизии.
Через два дня и три ночи они залегли в маисовых зарослях. Хаджумар приказал группе располагаться на отдых, предупредив:
— Двое спят — двое работают.
— Я с вами, — мгновенно заявила Лина.
— Ясно, — посмотрел на нее он внимательно. — Каждому выдернуть с корнем двадцать-двадцать пять стеблей маиса.
И замаскироваться, чтоб утром не заметили нас с самолетов, потому что здесь они идут на снижение.
Ксанти сам завалил Аугусто и Гарсиа стеблями маиса и приказал спать.
— Я вас разбужу, — сказал он и предупредил Лину: — Ждать меня до вечера. Не вернусь — уходить. И не спите, — попросил он и нырнул в заросли маиса.
— Он мне нравится, — донесся до нее шепот Гарсиа. — А вам?
— Что мне? — сделала вид, что не поняла его, девушка.
— Нравится? Я просто так спрашиваю. Не потому, что вы синьора.
— Ну, если просто так, — решилась Лина, — то нравится.
Усталость давала знать о себе. Лина чувствовала, как ее все сильнее клонит ко сну. Гарсиа стал мурлыкать песню.
— Перестань, — попросила Лина. — Других песен не знаешь? Все о смерти — душу разрываешь.
— Другие песни надо громко петь, — возразил Гарсиа.
Хаджумар появился через полтора часа. Довольный. Глаза светились, часто улыбался.
— Ну что? — спросила она.
— Порядок! — ответил он и знаком показал Лине, чтобы двигалась следом за ним.
Они пересекли плантации маиса и выбрались к проселочной дороге. По ту сторону ее тянулись проволочные ограждения.
— Под током, — пояснил Хаджумар и добавил: — Аэродром военный. Подозреваю, что здесь дислоцируется дивизия «Кондор».
— Эти убийцы?
— Судя по шуму моторов самолетов — они… — Он показал направо. — Нам следует перебраться вон к той сирени. Она скроет нас.
Сперва дорогу перемахнул он и скрылся в густых кустах сирени. Спустя две минуты сделала бросок и она. Отсюда аэродром был виден отчетливо. Рассветало медленно, как бы нехотя. Самолеты выстроились длинной шеренгой, уставив свои тупые рыла в небо.
Хаджумар стал всматриваться в контуры самолета. «„Мессершмитт“. Истребитель новейшей конструкции — „МЕ-109“. „Хейнкель-51“ — быстроходный истребитель. А это — бомбардировщики „Юнкерсы-52“. Вот откуда они летают! А локатор-то, локатор! Такого я еще не видел. Тоже новинка немецкой техники. И радиоантенна оригинальная…» Он обратился к Лине:
— Теперь меня отсюда силком не оттащишь. Пока не уничтожим — будем торчать здесь. Одним днем не обойтись. Надо изучить режим полетов и работы вспомогательных служб… Определить посты охраны, распорядок дня, пути подхода к ним и возможность уничтожения. Надо найти подступы к помещению дежурного летного состава. Где-то вырыто подземное бензохранилище. Тут дел невпроворот. Ликвидировать часовых, взорвать помещение летчиков, локатор, радиоантенну… И все это одновременно, ну, в крайнем случае, в течение двадцати-двадцати пяти секунд. А затем поджечь самолеты… На это можно выделить три-четыре минуты… А нас всего…
— Четверо, — торопливо подсказала Лина, боясь, что он опять не возьмет ее в расчет.
— Четверо? — повторил Ксанти. — Да-да, всего четверо. А здесь нужно как минимум человек двадцать. Двадцать опытных, ловких, быстрых разведчиков. Да еще крайне необходима группа прикрытия. Как без нее? Что же делать?
— Идти за подкреплением.
— В другой ситуации так бы и следовало поступить, — согласился Ксанти. — Но терять неделю… Знаешь, сколько горя принесут эти «юнкерсы» за это время? И потом, как уйти от аэродрома, когда вот он, как на ладони? Присмотримся. Может быть, что-нибудь придумаем.
— Присмотримся, — улыбнулась Лина.
— Красиво выстроились, а? У «мессершмиттов» скорость свыше четырехсот километров в час. Как с ними тягаться тихоходам «Протезам-54», закупленным Республикой во Франции? Или бомбардировщикам «Брег-19»! У них скорость на сто-сто пятьдесят километров ниже. Нас выручают советские «И-15» и «И-16» да скоростной бомбардировщик «СБ»… Стоят убийцы… Двадцать восемь самолетов… Ничего, Лина, никуда им от нас не уйти. Взорвем их мы, изорвем.
— Тола мало, Ксанти.
— Придется самолеты поджечь.
На поле аэродрома появились механики, начали разогревать моторы. Ровно в шесть показались бензовозы.
— Считай их, — попросил советник Лину.
Она удивленно глянула на него: он впервые обратился к ней на «ты». Когда появились бомбозаправщики, камарада советник попросил посчитать и их.
— Бензовозы тоже подходят для нашей цели, — задумчиво произнес он. — Но может быть, придется использовать и бомбозаправщики. Ты не знаешь, Аугусто и Гарсиа водят машины?
Опять он сказал ей «ты».
— Вряд ли, — произнесла она. — А я проходила.
Он довольно хмыкнул:
— Прекрасно, ночью и проверим, что ты проходила.
«Он хочет меня привлечь к. операции», — обрадовалась она и спросила:
— А как мы проберемся через проволоку?
— Найдем, как преодолеть это препятствие, — сказал он и, заметив, что Лина часто встряхивает головой, борясь таким образом с сонливостью, сказал: — Через полчасика отправимся отдыхать. Мне важно посмотреть, в каком порядке взлетают самолеты.
Самолеты заправлялись горючим и бомбами. Появились летчики. Шумно и весело они вели себя.
— Убийцы! — вырвалось вновь у Лины. — Веселые убийцы!
Самолеты поднялись в небо и стройной колонной пошли на запад.
— На Мадрид! — ахнула Лина.
Видимо, и Ксанти думал о том же, потому что он вдруг жестко произнес:
— Нет, нельзя упускать такой случай! Надо вывести их всех из строя. И мы это сделаем, Лина, обязательно сделаем.
…День просидели они в кукурузе. Над ними каждые десять минут пролетали самолеты. Ночь выдалась лунная. Это было плохо. Но ждать следующей ночи? Это означало допустить завтра еще одну бомбежку, которая унесет сотни жизней мадридцев.
Четверка поделила последнюю булку хлеба. Камарада советник поведал о своем плане:
— Заправкой горючего на аэродроме занимаются три машины. В четыре утра. Доставляют рабочих на автобусе в три тридцать из бараков, что находятся в шести километрах от аэродрома. Я прошелся возле этой трассы. Есть только одно место, которое не видно ни из бараков, ни с аэродрома: там, где сооружен мостик через речонку. Чтоб перебраться на другой берег, автобусу необходимо спуститься вниз, к мостику. Тут мы его и перехватим.
— Мы проникнем в лагерь на автобусе? — изумился Аугусто.
— Это единственная возможность, — сказал советник. — Через проволочные заграждения пущен ток.
— А нашему автобусу широко распахнут ворота? — съехидничал Гарсиа.
— В три тридцать еще видимость плохая, и есть надежда на то, что часовой не разберется, кто в машине, — пояснил Хаджумар. — Тем более что я, не тормозя, просто поприветствую рукой, а станет останавливать, сообщу ему по-немецки, что прежний шофер приболел. Проникнув на аэродром, мы сразу же должны приступить к делу. В нашем распоряжении будет всего полчаса. Полагается сразу ликвидировать часовых. Так требуется поступать согласно науке, чтобы кто-нибудь из них не заподозрил неладное. Но нас очень мало. Представьте себе, что мы ликвидируем часовых, займемся подготовкой самолетов к подлогу — и вдруг из помещения выходит летчик, нужду справить. Часового нет — он тут же шум поднимет. Будь нас побольше — мы бы на место каждого ликвидированного часового поставили своего. А ведь нам еще предстоят шумовые эффекты: взрывы локатора, радиоантенны, подземного бензохранилища, помещений с летчиками и караульной командой. Из деревушки, где расположился основной летный состав и службы, на машинах девять минут ходу. Мы, конечно, можем разрушить мост. Но я предлагаю пойти на риск — не ликвидировать часовых.
— Мы будем готовить поджог самолетов, а немецкие часовые будут смотреть на нас и ничего не предпримут? — спросил Аугусто.
— Будем рассчитывать на предрассветную темноту, комбинезоны, которые мы натянем на себя, и нашу аккуратность, — успокаивающе улыбнулся испанцу Ксанти. — Приходится брать в расчет еще одно обстоятельство. Мы вынуждены работать на двух заправщиках, потому что водить машины умеем только Лина и я. Один придется оставить в гараже. Там же задержится Гарсиа, будет делать вид, будто возится в моторе машины. Всегда весьма нежелательно что-либо менять в распорядке и режиме работы врага. Но что делать? У нас нет другого выхода. Надеюсь, что часовые не обратят внимания. А если обратят, рассчитываю на свой немецкий: постараюсь шутками отболтаться… Мы все будем делать так, как ежедневно проделывают заправщики. В том же порядке. Вы запомнили?
— Кажется, — сказала Лина.
— Кажется или точно? — строго переспросил Хаджумар. — Если не уверены в себе и не запомнили порядок, по какому они двигаются от одного самолета к другому, то не стесняйтесь — я вам все подробно расскажу. Потом будет поздно. Мы и в самом деле будем заправлять самолеты. С одним маленьким отклонением. Мы будем «заправлять» не бензобаки, а кабины летчиков и бомбоотсеки, а также участок вокруг них, причем втрое более щедро. Ясно?
— Лить на землю горючее? — переспросил Аугусто.
— Верно. Но одним горючим не обойтись. В гараже наверняка есть ветошь. Так вот, ветошь надо будет щедро смачивать в горючем и незаметно проложить ею дорожку от одного самолета к другому.
— Это долго… — сказал Гарсиа.
— Придется поспешить… — заявил Ксанти и продолжил: — Но вот все самолеты заправлены… Дальше что? А? — спросил он и сам же ответил: — Вот тогда необходимо ликвидировать часовых. Иначе нам не подойти к локатору, радиоантенне, подземному бензохранилищу… Часовых трое. Самый дальний находится в ста десяти шагах от самолетов — я имею в виду того, что охраняет покой летчиков. К нему не приблизишься ни под каким предлогом ни пешком, ни на бензовозе… Обязательно встревожится. Значит, к нему в открытую не подойдешь — надо подкрасться. И это сделаешь ты, Гарсиа. Я покажу, как ты должен пробраться к нему… К тому, что у въезда на территорию аэродрома, направлюсь я. К третьему, находящемуся у подземного бензохранилища, — Лина и Аугусто. К нему подъехать просто: будто для того, чтоб заправиться… Снимать часовых надо одновременно… Сколько у нас гранат?..
— Восемь, — ответил Аугусто.
— Шесть возьмет с собой Гарсиа, — приказал Ксанти. — Две Аугусто… Сейчас объясню, для чего. Ты, Аугусто, будешь сидеть в бензозаправщике, который поведет Лина. Когда я свою машину направлю к воротам, вы поедете к бензохранилищу. К этому времени Гарсиа будет за спиной у часового возле помещения. Лина, следите за тем, чтобы и моя и ваша машины приблизились к часовым одновременно. Часовой будет спрашивать, что случилось. Аугусто, не спешите, не дергайтесь, а как обычно это проделывают люди, распахните дверцу кабины и спуститесь на землю. Вот когда окажетесь на земле — вот тут нужно действовать стремительно. Не забудьте заранее подготовить кинжал — он должен находиться уже в руке, с клинком, прижатым к рукаву… Как я учил вас… Одновременно набрасываемся на часовых. Вы, Лина, подстраховываете нас. Не спускайте глаз с Аугусто и особенно с Гарсиа.
— Но они будут находиться в разных местах аэродрома. Как я смогу одновременно смотреть в две разные стороны? — удивилась Лина.
— Вы остановите машину боком к бензохранилищу, и тогда вам будут видны и Аугусто и Гарсиа..: В случае неудачи кого-то из них — постарайтесь обезвредить часового, стрелять вы умеете… После снятия часового никаких дополнительных сигналов не ждать. Каждый действует как можно быстрее. Ты, Гарсиа, забрасываешь гранаты в окна помещения, делая круг справа налево. Запомни: справа налево — так сподручнее. Первую гранату и последнюю бросаешь в двери. Ясно?
— Понятно, — побледнел от волнения Гарсиа.
— От тебя зависит успех всей операции, — сказал Ксанти. — Я бы взял на себя это дело, но ты не водишь машину, а значит, поменяться местами мы не сможем… Не думаю, что кто-нибудь в помещении уцелеет, но на всякий случай ты следи, чтоб никто не вырвался оттуда и не открыл огонь. Вам, Аугусто и Лина, после ликвидации часового предстоит взорвать бензохранилище. Я придумал, как это сделать. Вы осторожно опустите гранату в горловину, куда заливают горючее, вставите рогатку, чтоб она раньше времени не упала. Привяжите к чеке шнур, и остается только дернуть за него. Делать это надо на полном ходу машины. Лина, вы набираете сразу большую скорость, а вы, Аугусто, стоя на подножке, сильно дернете за шнур. Вторая граната вам на случай, если у первой не выдернется чека… Но вы уж постарайтесь управиться с первого захода. Я должен буду взорвать локаторы и радиоантенну. Тола маловато, но я нашел болезненные точки. После этого я поджигаю самолеты. К этому времени вы, Лина и Аугусто, уже переберетесь в автобус. Гарсиа ближе всех к гаражу, и он должен первым добраться до автобуса. Меня вы подхватите на пути к воротам… Ясно? Никаких осечек не должно быть. Помните: у нас нет прикрытия, которое могло бы прийти на помощь… Для успеха необходимо четко все запомнить. Сейчас мы прорепетируем. — Ксанти прутиком быстро начертил на земле схему аэродрома. — Это вот въезд, — воткнул он две тонкие кукурузины, рядом одну толстую и низенькую, другую — тонкую и высокую. — Это локатор… Антенна… — Он положил камень. — Подземное бензохранилище… — Примостил комок земли. — Помещение, где отдыхают сменившиеся с вахты караульные и дежурный летный состав… — Провел линии. — А это самолеты… Вот как они выстроились, видите?.. Теперь сорвите каждый себе по початку. Положите их сюда, у ворот. Початки — это вы. Следите каждый за своим. Вот мы въехали в ворота, я приветствую часового по-немецки. Подъезжаем к гаражу, пересаживаемся в бензозаправщики. Ты, Аугусто, садишься рядом с Линой. Ты, Гарсиа, прячешься в гараже. Мы подъезжаем к самолетам… Я начну с этого края, а вы, Лина и Аугусто, с другого… Что в это время делаешь ты, Гарсиа?
— Я подкрадываюсь к часовому!
— Только не напрямик двигаешься к нему. — Советник отнял початок у Гарсиа и показал, как он должен двигаться вдоль проволоки.
Луна медленно плыла по небу. А початки вновь и вновь ползли по земле, рыхля ее и замирая в определенном месте. На шестой раз каждый двигал свой початок без подсказки камарада советника, стало получаться без заминки, синхронно.
— Все, — приподнялся Ксанти. — Вот так чтоб и было. Работать слаженно и расторопно.
— На початках так легко получается, — вздохнул Аугусто.
— А я верю ему! — улыбнулся Гарсиа. — У него легкая походка! — И неожиданно сострил: — Сапоги будешь снимать?
— Если драпать придется, — отпарировал Хаджумар. — Мы работаем на виду у часовых. Это надо помнить каждую минуту. — И, не глядя на Лину, обратился к ней: — А вам надо превратиться в мужчину.
— Что?
— Прощайтесь со своей чудной прической. Я сейчас отрежу волосы. Причем ножом. Поймите, не может же вести бензозаправочную машину женщина. Откуда ей взяться здесь? Да и часовые глаз с вас не станут сводить — они, пожалуй, с месяц женщин не видели… Прощайтесь с волосами!
Потом он на своем ломаном испанском шептался с Аугусто и Гарсиа, хватал их за грудь, делал вид, что вонзает в них нож, поправлял, указывая на неверные движения.
— Теперь всем спать… — скомандовал Ксанти. — Перед сном каждый мысленно должен представить себе, что, как и когда он будет делать… И во сне — тоже!..
— Как это во сне? — тихо засмеялся Гарсиа. — Разве человек может заказывать сны?
— Может, — серьезно ответил Ксанти. — Если очень захочет. Укладывайтесь — разбужу вас очень рано.
…Лину оставили метрах в ста от моста, и она не сразу уловила, почему, ибо советник сказал ей, что если автобус прорвется, то она должна будет стрелять в шофера. Но как могла машина прорваться, если поперек моста уложили огромное дерево?
Она видела, как камарада советник поднял руку и остановил автобус, как прокричал по-немецки «Хальт!», как нетерпеливо, освещая лица фонарем, потребовал, чтобы все сошли. Потом появились Аугусто и Гарсиа и повели заправщиков в сторону, к деревьям. Потом Аугусто и Гарсиа возвратились к автобусу.
Возле Лины Хаджумар затормозил.
…Невероятно, но все произошло так, как и предполагал камарада советник. Часовой попытался их остановить, но немецкая фраза, произнесенная Ксанти на чистом баварском диалекте, заставила его улыбнуться и махнуть рукой, разрешая продолжать путь автобуса к амбару, где стояли бензовозы.
Работалось споро. Ксанти невозмутимо мурлыкал под нос популярную немецкую песню, напоминая этим, чтобы остальные все время не забывали, что находятся под наблюдением часовых.
Если во время этого этапа операции — заправки — им приходилось сдерживать себя и делать все спокойно, нарочито замедленными движениями, чтобы не выдать часовым своего волнения, то с того момента, как заправочная машина с находящимся за рулем камарада советником направилась к воротам, возле которых прохаживался часовой, мужчины преобразились. Лина, ведя машину к бензохранилищу, краем глаза видела, как Ксанти затормозил возле часового, отворил дверцу, немец поднял к нему лицо, и вдруг из кабины мелькнуло упругое тело, обрушилось на часового, сбило наземь… И в ту же секунду Аугусто шагнул к «своему» часовому, оправлявшему китель одной рукой, другой державшему винтовку словно посох, и, забыв о торчащем за поясом кинжале, вцепился огромными своими руками в его горло, повалил на землю…
А что же Гарсиа? Лина, вспомнив наказ советника быть начеку и прикрывать молодого анархиста, выхватила пистолет и высунулась из кабины. Гарсиа запоздал с броском.
Но оттуда часовому было плохо видно, что творится возле машин, и он приподнялся на носках, чтоб получше всмотреться, — и тут на него обрушился удар Гарсиа…
Потом все три фигуры метнулись каждая к своей цели: Аугусто к заливной горловине, Гарсиа рванул на себя дверь помещения, где находились летчики и караульные, взмахнул рукой и бросился к окну… Глухо раздались подряд шесть разрывов гранат, звон стекол… Лина оглянулась и увидела, как советник бежит от локатора к своему бензовозу, вскакивает в кабину, машина мчится к самолетам, а сзади раздаются два взрыва: локатор разносит во все стороны, радиоантенна, переломившись надвое, падает…
Тут Аугусто вскочил на подножку бензовоза, закричал:
— Езжай!
Лина нажала на газ, и машина рванулась к гаражу.
— Тормози! — завопил Аугусто. — В автобус!
Лина спрыгнула на землю, взобралась в автобус, завела его.
— К выходу! — махнул рукой в сторону ворот Аугусто. — Скорее!
— А где же советник?
— Фейерверк пускает!
Ведя автобус к воротам, Лина посмотрела влево и увидела, как бензовоз Ксанти мчится мимо выстроившихся самолетов, и они один за другим вспыхивают яркими факелами…
— Зажигательными бьет! — догадался Гарсиа.
Лина затормозила у ворот, дожидаясь, когда бензовоз советника приблизится. Ксанти влетел в автобус, сдвинул плечом Лину на соседнее сиденье, сам ухватился за руль, и автобус, легко сбив дощатый шлагбаум, проскочил ворота.
— Ой, видели бы это наши! — вырвался восторженный вопль у Гарсиа.
Взрывов было не три, как предполагала Лина. Взрывались цистерны, баки, бомбы, взрывались раз за разом, воспламеняя небо.
А они мчались на автобусе, объезжая поселок. Где-то там, возле бараков, завыла сирена, раздались выстрелы, застрочили пулеметы. Несколько машин промчались в сторону аэродрома. Но что можно понять в этом аду?
Автобус был оставлен в лесу. Обратный путь предстоял долгий, пеший.
Глава 5
Хаджумар проснулся от возбужденного голоса Гарсиа, доносившегося из-за закрытой двери. Он взахлеб рассказывал анархистам о вылазке в тыл:
— …Мы думали, что станем возвращаться прежней дорогой, мимо взорванного нами моста, но камарада советник круто свернул в сторону. Осторожничал, боялся нарваться на мятежников? Нет, у него был свой расчет. Ночью, пересекая шоссе, мы наткнулись на колонну машин — громоздких, с грузом, тщательно укрытым брезентом.
— Что там было?
— Камарада советник сказал, что в машинах снаряды. Камарада вел нас вдоль дороги, поглядывал на следы, оставленные машинами со снарядами. И они привели нас, как он и думал, к военному гаражу. И еще одну ночь нам пришлось потратить — на этот гараж.
— Откуда же вы взяли столько тола?
— Тола у нас не было, — засмеялся Гарсиа. — Но на складе и в гараже достаточно материалов, что запросто заменят взрывчатку. Вы бы видели, как горел гараж — стало ярко, как днем, баки взлетали один за другим, так что еще добрых два часа мы слышали за спиной гулкие взрывы.
«Вот хвастун, — усмехнулся Хаджумар. — Лучше бы рассказал другое — как мы прибыли в Мадрид, как пробрались по нейтральной полосе и без всяких препятствий прошли в расположение анархистов. Мы видели дозорных, те нас нет. Рассказывали анекдоты, смеялись. И в самом здании нас никто не задержал, не спросил, кто мы и откуда. Часовой, правда, имелся, но он почему-то находился внутри и, привалившись к подоконнику, похрапывал. Аугусто и Гарсиа хотели разбудить бойцов, спавших на перилах и одеялах, сваленных на полу вдоль стены. Но я не разрешил. А когда мы разошлись, я столкнулся с еще одним фактом расхлябанности: возле комнаты Дурутти не было часового. Я решил, что комбрига нет в помещении. Но он спал на своей кровати. Мы могли уничтожить всю бригаду, начиная с командира… Вот о чем тебе, Гарсиа, следовало рассказать им, чтоб задумались и перестроились».
Одеваясь, Хаджумар прикинул, что необходимо срочно предпринять. Картина в общих чертах теперь была ему ясна: именно здесь, в Каса-де-Кампо, фашисты намерены прорвать оборону Мадрида. Здесь через два-три дня будет сущий ад. И важно хорошо подготовиться.
Хаджумар вышел из комнаты и оказался лицом к лицу с Линой.
— Я не первый раз на операции, Ксанти. Но впервые боялась… За вас.
Дрогнуло сердце у Хаджумара.
— Вот он! — закричал Гарсиа, и анархисты враз умолкли и уставились на Ксанти.
Дурутти окатил советника широкой улыбкой.
— Да ты свой парень! — потряс он ему руку. — Мне все рассказали. И рука у тебя твердая, и сердце львиное. И мне захотелось пойти с тобой. Может, сегодня ночью и отправимся на промысел?
Хаджумар, отрицательно покачав головой, пояснил свой отказ:
— У нас есть два дня, не больше. И за это время мы должны хорошенько подготовиться к мощному наступлению франкистов. Они удар нанесут именно здесь, на участке твоей бригады.
— Не слишком ли ты уверен в этом? Или побывал в их штабе? Проник в их мысли?
— Я вижу их действия, — не стал обижаться на иронические нотки, прозвучавшие в голосе Дурутти, советник. — Скопление войск огромное, и идут еще подкрепления. Именно здесь будут рваться к Мадриду немцы. Взорванный мост задержит их на несколько суток, но в конце концов они преодолеют реку. Мы должны продумать систему обороны с обязательным использованием контрударов.
Кивнув на карту, прикрепленную к стене, Дурутти позвал анархистов:
— Подойдите поближе, будем решать, как вести бой.
Хаджумар оглядел столпившихся вокруг анархистов.
Взгляды были обращены на него, на камарада советника Ксанти. Хаджумар хотел было возразить, что нельзя план предстоящего боя делать достоянием всех, но тут увидел эту странную женщину — Катарину. Она очень хотела выглядеть в глазах всех разбитной, живущей только чувствами и не задумывающейся о будущем, эта женщина. Но разве у подобных ей бывает такой пронзительный, все подмечающий взгляд? Облокотившись о плечо Педро, она, будто нехотя, поглядывала на карту, но глаза ее с нетерпением ждали, когда советник приступит к обсуждению. Нет, так себя не ведет женщина, которую, казалось бы, ничего не интересует, кроме мужчин. «Ну что ж, может быть, я и ошибаюсь, но упускать такого случая не стоит», — решил Хаджумар и приступил к разбору:
— Местность позволяет избрать несколько планов обороны. Наиболее удачным мне кажется тот из них, что даст возможность эффективно использовать нашу артиллерию. От ее ударной мощи зависит, прорвется враг на нашей позиции или мы его остановим. Но у нас не так много орудий. Придется сконцентрировать артиллерию в один кулак и поставить в наиболее выгодное место. Такой я вижу эту позицию. Здесь будет стоять артиллерия, и отсюда она достанет врага, и если он пойдет на правый фланг, и если он двинет на левый, а тем более если ему вздумается прорываться по центру…
Он говорил подробно, сыпал немецкими военными терминами, а Лина переводила, то и дело спотыкаясь о незнакомую лексику. Он пояснял ей и терпеливо и популярно… Закончив речь, он спросил, у кого есть вопросы или замечания. Но анархисты, которым все уши прожужжали Аугусто и Гарсиа, взахлеб рассказывая о проведенных операциях и о том, как вел себя в них камарада советник, только хлопали глазами и не сводили взгляда с Ксанти, что так отчаян в тылу врага и так мудр в военном деле… И тогда Дурутти сказал:
— Принимаем твой план, камарада советник. Повтори еще раз, кто что должен делать и где расставить артиллерию и пулеметы.
Хаджумар ясно и четко доложил. Каждый из командиров внимательно слушал, а потом, по просьбе советника, повторил, ткнув пальцем по карте в точки, где поставит пулеметы и минометы. Начальник артиллерии признался, что и он думал так же: именно с указанного места расположения наиболее прицельно можно вести огонь по наступающему врагу.
— Мы его разнесем в клочья! — заявил он.
— Итак, сегодня приготовить позиции, а завтра с утра занять их! — приказал Дурутти.
— Разрешите мне самому проследить, как будут оборудоваться огневые точки? — попросил советник.
— Поручаю это тебе.
— Есть еще одно дело, комбриг, — сказал Хаджумар. — Сегодняшняя ночь доказала, что мы очень беспечны. Вчера мы шли сюда со стороны фронта, но нас никто не остановил. Мы могли уничтожить любого из вас. И тебя тоже, комбриг. Подумать страшно, что было бы, если бы пробирались сюда не мы, а франкисты…
Дурутти на мгновение смешался, ибо доводы советника невозможно было опровергнуть, но он, не желая выглядеть смешным в глазах анархистов, шутливо заявил:
— Враг знает, что ему спуску здесь не будет, и боится приблизиться к нам.
— Верно, Дурутти. Мы никому из них спуску не дадим! — закричали анархисты. — Пусть только сунутся!
Но камарада советник не намерен был шутить и сурово произнес:
— Я не хочу, чтобы все вы были однажды ночью зарезаны или взлетели в воздух, и требую усилить охрану. Часовые должны засекать каждого, кто пробирается в расположение бригады. Ясно? Я сам буду проверять, и если часовой зевнёт и беспрепятственно даст мне возможность приблизиться к себе, я пущу в ход кинжал.
— Это угроза, — сказала Лина. — Я не стану ее переводить. Они воспользуются вашей неосторожностью.
— Переведите слово в слово, — повысил голос советник.
— Неужто так сделаешь? — посуровел комбриг, выслушав Лину.
— Одного проучу, другим будет наука. А как еще воздействовать на вас, если вы не признаете дисциплины?
Анархисты молча переглянулись. Дурутти долго смотрел в лицо советника и наконец произнес:
— Хорошо, мы вместе будем проверять часовых… Все свободны…
* * *
Хаджумар делал обход позиций. Командира первого батальона он застал за странным занятием. Педро играл в карты с двумя анархистами и Катариной. Они сидели в блиндаже за маленьким столиком, и винтовки их лежали на земле! Педро был в паре с Катариной. Она как раз подбросила карту. Педро, увидев, какой масти карта, взревел:
— Угодила под масть! Ты что, в карты ни разу не играла? У вас в заведении одному учат?
— Нам некогда было картами забавляться, — ответила Катарина.
— Некогда! — засмеялся Марио. — Хорошенькое место!
— Эй, ты, губастый, полегче на поворотах! — предупредила она.
— Уйми свою старушку, Педро, — обиделся Марио.
И тут они увидели камарада советника. У Педро глаза скосились в негодовании:
— Ты следишь за нами?
— Я пришел проверить, как ведутся работы по подготовке позиций и пулеметных ячеек, — спокойно сказал Хаджумар.
— Иди туда! — махнул рукой Педро. — Здесь не роют землю.
— Мы пойдем вместе, — настойчиво произнес советник. — И посмотрим, как и что делается. Прервись…
Педро глянул озадаченно на камарада советника, увидел, что тот ждет и, судя по всему, не уйдет, пока Педро не подымется. Анархист начал было кипеть, но рука Катарины дотронулась до его локтя, предупреждая, что сейчас не время для скандала. Педро в сердцах шлепнул картами о стол.
Катарина увязалась за ними. И опять она всем видом показывала, что ей скучно на позициях, но глаза ее были осмысленны и настороже. Чутье подсказывало Хаджумару, что она не проститутка и здесь оказалась не случайно. Но почему она не уходит? Ведь она уже знает план обороны. Или сомневается в его верности? Может быть, он, Хаджумар, чем-то выдал себя? Тогда пусть убедится: вот они, огневые позиции и ячейки, перед нею. Расположены точно по тому плану, что он предложил утром. Теперь-то у нее не должно быть сомнений. Видимо, она считает, что успеет, и выжидает, не выдаст ли он еще что-нибудь ценное из своих планов. Было бы хорошо, если бы она покинула бригаду именно сегодня ночью. Иначе он не успеет перестроить позиции. Предстоят большие работы по подготовке огневых точек, по переброске артиллерии. Выход один: подтолкнуть ее, заставить ее ускорить свой переход к флангистам. Как это сделать?
Придя в замок, Хаджумар сказал Дурутти, что хотел бы, чтобы сейчас, в канун серьезного боя, в бригаде ни одного постороннего не было.
— Кого ты имеешь в виду? — спросил комбриг.
— Здесь скитаются несколько торговцев вином и барахлом, да еще эта женщина, что с Педро.
— Что-то ты невзлюбил Педро, — поморщился Дурутти.
— Я требую этого! — продолжал настаивать Хаджумар. — Я отвечаю за исход боя в не меньшей степени,чем ты, Дурутти.
— Ладно. Я дам команду. Хотя это и разозлит анархистов.
Вечером комбриг, встретив советника на передней линии, вспомнил его требование и сказал:
— Кстати, девушка Педро заявила, что сама собиралась покинуть бригаду.
— Сама? — насторожился Хаджумар.
— Мол, перестало у нас пахнуть свободой. Уехала в город.
— И она действительно уехала в город?
— А куда же она могла? — удивился Дурутти.
…Ночью, когда, судя по оживлению в стане врага, стало ясно, что атака начнется утром, Хаджумар отыскал Дурутти и попросил:
— Дай мне право изменить тот план, что мы выработали.
— Ты что?! — рассвирепел комбриг. — Все уже готово к отражению атаки. Ты что-то упустил?
— Я дал ложную экспозицию, — признался Хаджумар.
— Почему?!
— Я не мог рисковать — вокруг нас было очень много людей.
— Тебе что, снятся диверсанты и шпионы?! — в сердцах закричал комбриг. — Как теперь исправлять твои затеи?
— Мы перестроимся за полтора часа, — заявил Хаджумар. — Я дал команду готовить ложные и запасные позиции и под этим видом кое-что успел предпринять.
…Когда началась артподготовка и бомбежка, Дурутти молча переглянулся с советником. В самом деле, это было поразительно: артиллерия врага била точно и только по тем позициям, которые были определены Хаджумаром в присутствии анархистов. Мятежники посылали туда снаряд за снарядом. Да и самолеты пикировали на эти же цели. Точно били и по позициям, предназначенным под пулеметы.
— Ты убедился? — спросил Хаджумар. — Враг знал нашу дислокацию.
— Среди анархистов предатели? — скрипнул зубами Дурутти.
…Мятежники уверенно двинули вперед танки. Шли так, будто не ожидали никакого ответного огня. Но он обрушился на них, и обрушился с неожиданной стороны. Запылали танки, обстреливаемые с фланга артиллеристами, словно на плацу. Застрекотали пулеметы, отсекая пехоту фашистов от танков. Огонь был такой плотности, а система так продумана, что враг остановился, а потом стал в беспорядке отходить, оставляя на поле множество трупов. Семь танков ярко пылали посреди нейтральной полосы.
Дурутти порывисто обнял советника:
— Спасибо, камарада! Ты похож на нас, каталонцев! — Это была его высшая похвала.
— Что касается Каталонии, то смею тебе напомнить: это имя области дали наши предки, аланы, которые в четвертом веке жили там.
— Что ты говоришь? — изумился комбриг. — Так аланы — предки…
— …народа, к которому я отношусь!
— Я знаю, что ты из России, но кто ты по нации?
— Я прошу не называть больше этой страны применительно ко мне, — напомнил Ксанти условие, с которым был направлен к Дурутти.
— Но нас никто не слышит, — оглянулся по сторонам комбриг. — Кто же ты?
— Осетин. Есть такой народ в горах Кавказа.
— Осетин… — задумчиво произнес комбриг. — Осетин! Алан! Прекрасный ты человек, камарада советник. И умница! Впрочем, ваши знают, кого посылать! Ты знаешь, что я выгнал предыдущего советника?
— Знаю, — ответил Ксанти и предложил: — Сейчас надо передвинуть артиллерию на новые позиции. Теперь и они перестроятся. Надо ждать удара по левому флангу.
— Командуй! — решительно махнул рукой Дурутти.
* * *
Кильтман с ужасом наблюдал, как оживают артиллерия и пулеметы республиканцев на Каса-де-Кампо. Особенно удивило, с какой легкостью артиллеристы бригады Дурутти расправились с танками. В стереофоническую трубу было видно, как один танк за другим сперва вздрагивал — впечатление было такое, точно кто-то с чудовищной силой толкал его сбоку, заставляя вертеться на месте, — а затем вспыхивал. Убедившись, что артиллерия заняла не ту позицию, которую указала фрау Бюстфорт, а как нельзя самую удачную, он понял, что его перехитрили. И тогда Кильтман вызвал ее на командный пункт. Она появилась, надменная и довольная, игриво спросила:
— Вы уже соскучились по мне, полковник?
— Посмотрите на поле боя, — уступил он ей место у стереотрубы. — Видите, откуда бьет артиллерия республиканцев?
— Не может быть! — резко вскричала фрау Бюстфорт. — Я слышала, как военный советник предложил занять позицию в центре, и не уходила до тех пор, пока артиллерия не была переведена. Я ручаюсь за это!
— Вас раскусили и дезинформировали, — сказал он. — И теперь гибнут солдаты.
— Не смейте так заявлять, — вспыхнула она. — Это серьезное обвинение! Там, в Берлине, меня знают и мне верят. Учтите это, полковник. Меня еще никому никогда не удавалось обхитрить. Наверное, им дали подкрепление.
— Авиация заверила, что никакого движения по дороге из глубины города к позициям не было, — сообщил ей он.
— Я разберусь, полковник. Там, на месте, разберусь! Сегодня же!
— Вам нельзя возвращаться к вашему камарада Педро, фрау Катарина, — заявил ей он. — Я вам запрещаю! Идите! Впрочем, стойте. Вы утверждаете, что военным советником к Дурутти под видом македонского продавца апельсинов прислали человека из России?
— Так точно. Хотя у него и внешность балканская и говорит по-немецки чисто, но он — оттуда!
— Это правда, — подтвердил он. — И свидетельство тому наши горящие танки. Советником Дурутти является кадровый военный. Уже взрыв моста должен был насторожить меня. Будь сейчас он цел, я мог бы быстро перебросить части на левый участок и одним ударом опрокинул бы оборону. Но он взорван…
— А вы не поверили, — напомнила она ему, — что все четыре объекта были взорваны одной группой.
— Не поверил, потому что они чересчур далеко расположены друг от друга. Шестеро суток — малый срок, чтобы везде поспеть… Кто он?
— Вы желаете, чтоб я узнала фамилию советника Ксанти?
— Мир очень тесен, фрау Бюстфорт. То, что здесь происходит, только прелюдия. Скоро начнется там, на Востоке. Мы уже сейчас должны знать их военных.
— Книга, врученная вам на дорогу генералом Гетсом, помогла, — сказала фрау Бюстфорт. — Разрешите мне отправиться туда, к анархистам, и я добуду нужные вам сведения.
— Отставить! — отрезал он и, смягчая резкость, добавил: — Вы нам еще нужны, фрау Бюстфорт…
* * *
Рассказы Гарсиа об операциях в тылу франкистов, окрашенные дымкой отчаянной романтики, вызвали у анархистов симпатию к смелому советнику. Но еще больше возрос его авторитет после того, как он заранее вывел из-под вражеского обстрела батарею и пулеметчиков, и атака захлебнулась.
Советник после каждой попытки фашистов прорваться давал новые распоряжения, и анархисты уже не возражали, хоть и тяжко было на руках перетаскивать орудия на другие позиции. Раздавался чей-нибудь голос: «Камарада советник знает, что делать!» — и никто не роптал.
Враг всякий раз менял направление удара, но советнику удавалось предугадать и предупредить маневр противника. Дурутти весело поглядывал на Хаджумара и громко кричал:
— Ты настоящий потомок своего народа! — И, подморгнув ему, добавлял: — Александра Македонского!
Но советник все больше и больше хмурился. Враг подтягивал силы, бросал волна за волной все новые и новые полки на позицию республиканцев, и Хаджумар понимал, что не ошибся: именно здесь, в Каса-де-Кампо, с точки зрения позиционных погрешностей было наиболее уязвимое место обороны Мадрида. И если удавалось еще сдержать натиск мятежников и их союзников, то это благодаря умелому маневрированию огнем да стойкости защитников. Франкистам удалось навести переправу через реку Мансанарес, перебросить войска и направить на позицию бригады Дурутти несколько дивизий. Наступал решающий момент. Вот-вот должна была состояться отчаянная атака, настоящий штурм позиции, и Хаджумар знал, что его трудно будет отбить. И он готовился к тому, что придется использовать последний козырь — заготовленный им удар через подземные тоннели. Один из них выходил в университетский городок, вплотную примыкавший к Каса-де-Кампо. Именно в том месте, где подземные коммуникации соприкасались с позицией бригады, Хаджумар заложил огромный заряд взрывчатки, чтоб разметать франкистов, навести панику и ударить им в тыл боевой группой.
* * *
…В захваченном особняке Кильтман и генерал Николас изучали карту, прикидывая, куда направить очередной удар. Вдруг раздался громкий взрыв, за ним второй, третий… В особняк вбежал солдат и сообщил, что республиканцы взорвали здание, в котором расположилась часть франкистов. Вся дорога завалена, перекрыта… А из подземного тоннеля показались республиканцы!..
Кильтман глянул на карту, попросил указать, где находится взорванное здание. Николас ткнул пальцем в карту. Кильтман ахнул, убедившись, как остроумна ловушка. Танки из-за завалов не могли пройти вперед… Еще несколько минут, и франкисты будут отрезаны и окружены…
— Прикажите срочно отходить — сказал Кильтман Николасу.
— Но мы наступаем! — бросил тот ему в лицо.
— Если вы задержите приказ еще на пять минут, вам придется давать объяснения по поводу гибели трех дивизий.
— Положение так серьезно? — побледнел Николас.
— Серьезно? Мягко сказано! Угрожающее положение!.. — Кильтман невольно покачал головой: — Ах, какая коварная ловушка!
* * *
Четыре часа авиация раз за разом утюжила бомбами позицию республиканцев. Артиллерия вела массированный огонь по передней линии. Хаджумар сказал:
— Я пойду в окопы.
Дурутти кивнул ему в ответ и показал на другой фланг:
— А я туда.
От взрывов бомб, вырывающих огромные воронки, от многочисленных снарядов, осыпавших защитников градом осколков, шумело в ушах, трещало в голове. Хаджумар видел, что люди ошалели от грохота и визга, обрушившегося на них. Он переходил от одного бойца к другому, похлопывал по плечу, подбадривал их.
Штурм фашистов на сей раз оказался стремительным и мощным. И хотя удалось вовремя дать по ним из оставшихся орудий прицельный залп, и хотя никто из защитников позиции не побежал, чего опасались, зная нрав анархистов, и Хаджумар и комбриг — натиск врага был так силен и мощен, что его солдаты сумели настичь траншеи республиканцев. В ход пошли штыки, приклады, ножи… Хаджумар, отстреляв из пистолета патроны, подхватил брошенную кем-то винтовку и бросился в самую гущу рукопашной. Он штыком и прикладом сбивал на землю наседавших на него фашистов. Люди озверели, криков уже не было, слышны только смачные удары, стоны, хрип… Один из фашистов выхватил нож и бросился на неизвестно как оказавшуюся рядом с советником Лину, которую тот оставил в блиндаже, решив, что эту атаку фашистов ей лучше не видеть. Хаджумар сделал бросок и оказался у фашиста на пути, выбил из руки нож, ударом приклада уложил мятежника на дно траншеи…
Впервые Хаджумар принимал участие в рукопашной. Он не знал, что моменты боя многие годы будут тревожить память, высвечиваясь во сне то одним страшным видением, то другим. Зрение фиксирует картины боя, но мозг не успевает осмыслить, ибо все внимание направлено на то, чтобы отбить удар и нанести ответный. Но потом каждая деталь мучает душу.
Мятежников было гораздо больше, и не сдобровать бы анархистам, если бы на помощь не подоспел отряд добровольцев, из тех, что коммунисты создавали прямо на улицах Мадрида. Фашисты дрогнули и всей массой ринулись на штурм траншеи, теперь уже стремясь как можно поскорее покинуть ее.
Хаджумар, видя, что бойцы, разгоряченные схваткой, пытаются карабкаться на бруствер вслед за врагом, стал стягивать их, приказывая: «Отставить! Назад! Не преследовать!» Важно было сохранить бойцов для обороны позиции — там, на голом пространстве, они становились верной добычей вражеских пулеметчиков.
— Видал! — торжествующе кричал комбриг. — Вот как анархисты умеют сражаться с врагами свободы! Камарада советник, ты убедился в силе нашего движения?
— Дрались хорошо, — кивнул головой Хаджумар.
— Ага! — обнял его за плечи комбриг. — Даже такой смельчак, как ты, и тот согласен, что мы дрались как львы! Нет, не по нас лежа на брюхе, стрелять в едва мелькнувшую цель. А вот так: сойтись грудь в грудь, чтоб видеть своего врага, выражение его лица. Штыком и ножом мы доказали, что нам фашисты не страшны! Мы их уничтожим и водрузим по всей Испании знамя анархии!
— Какое знамя будет сиять — это покажет время.
Дурутти покосился на Лину, развел руками, недовольно спросил:
— Спроси у него, женщина, почему он против нас? Для фашистов он такой же, как и мы. Если я и он попадем в их руки, нам рядом висеть на виселице. Он не понимает это?
— Понимаю, — кивнул Хаджумар. — Но я знаю и другое. Вот Педро анархист. Но если мы с тобой попадем и к нему в руки, он тоже нас рядышком уложит. Из своего пистолета. Не колеблясь. Разве для тебя это секрет?
Дурутти устало облокотился о бруствер траншеи, признался нехотя:
— Ты верно говоришь: среди нас тоже много подонков. Я теперь вижу, что без дисциплины нет армии, — скользнул он взглядом по лицу советника. — Ты убедил меня в этом.
— Если в армии должен быть порядок, то почему в мире может быть беспорядок? — удивился Хаджумар. — Почему ты не можешь взглянуть на проблему шире, во всемирном масштабе?
— Как будет — это мы еще увидим, — пригрозил комбриг. — Но признаюсь, мне обидно, что такие люди, как ты, противостоят анархии. Я полюбил тебя и за смелость, и за откровенность, и за доброжелательность… Я хотел бы видеть тебя своим братом, дружище!
— Ты мне тоже пришелся по душе, — заявил Хаджумар и пристально посмотрел ему в лицо. — Мне жаль, что ты якшаешься с такими, как Педро. У тебя есть верный путь. Тот, что прошла Лина. Она тоже была анархисткой, а теперь она коммунистка.
Дурутти резко отвел его руки от себя, сказал:
— Ты брось агитационные речи, брат. Я люблю тебя не за идеи, что ты проповедуешь, а за то, что ты такой человек, как есть! Мы еще с тобой не раз поспорим о том, что нужно миру: коммунизм или анархия? Не суди об анархии по тем подонкам, что прилипли к нам. Рядом с Педро есть и Аугусто, и Гарсиа, те, что с тобой ходили в тыл и не струсили. Не Педро сегодня победил фашистов, а анархисты. Но то, что и Педро сражался смело и отчаянно, тоже свидетельствует за анархию! Не согласен?
— Нет, — отвернулся Хаджумар от комбрига. — Боюсь, что когда ты прозреешь, поздно будет… — Он и не подозревал, как пророчески звучат его слова.
— Брось жалеть! — засмеялся весело Дурутти. — Пока мы рядом и пока мы с тобой заодно! А это немало!
Когда к ним спешно приблизился телефонист и торопливо доложил, что камарада советника срочно вызывают в Мадрид, в штаб революционных сил, — и тогда предчувствие не подсказало им, что они в последний раз обнимают друг друга.
— Ты проси там побольше, снарядов и патроноЬ, — напутствовал комбриг. — Расскажи, как мы бились. Пусть знают, что через наши позиции фашизм не пройдет!
— Я только туда и обратно, — пообещал Хаджумар. — Думаю, что в ближайшие часы фашисты не сунутся сюда. Им надо залечить свои раны.
К Дурутти прибежал Гарсиа. Из его слов выходило, что батальон Педро принял решение подняться с позиций и уйти в тыл;
— Невероятно! — ужаснулся комбриг. — Этого не может быть! — он бросился в батальон.
Они и в самом деле покинули позиции и шли в город. И впереди их шел Педро.
— Стойте! — встал на их пути комбриг. — Стойте, братья!
Они нехотя остановились. Педро смотрел на комбрига исподлобья. Дурутти пытался унять свой гнев, но это у него плохо получалось. Он, глубоко дыша, прорычал:
— Назад, анархисты! Назад! Приказываю занять свои позиции!
— Послушай, Дурутти, — шагнул вперед Педро. — Мы решили сообща, путем голосования. Мы уже несколько дней сражаемся здесь! Пусть теперь коммунисты удерживают позиции. С нас достаточно! Мы устали, и мы идем в город! Так-то, комбриг…
Дурутти обошел Педро и встал перед бойцами:
— Сейчас всем защитникам Мадрида приходится туго. Всем! И коммунистам тоже. Сейчас все должны быть на переднем крае, там, где решается судьба столицы. Братья! Мы должны возвратиться на позиции. Мы не имеем права уходить сейчас в тыл! Мы возвращаемся. И с вами буду я, ваш Дурутти, которого вы избрали своим командиром! Я иду первый на позиции, и буду там все время, вместе с вами!
— Братья! Ни с места! — зарычал Педро. — Педро вас не даст в обиду! — И обратился к Дурутти: — Они пристрелялись к нам. Я поднял эту каску на штык, и она сразу была продырявлена пулей. Смотри. — Он сунул в дырку палец и покрутил каской над головой. — Кто желает получить пулю, пусть возвращается. Но не сегодня, так завтра каждого продырявят, как эту каску.
Дурутти зло прокричал Педро:
— Это ты, сволочь, сагитировал их! Ты?
— Не я — каска! — усмехнулся Педро и, показав рукой на анархистов, заявил: — Люди говорят, Дурутти, что ты заодно с коммунистами.
— Я против фашизма! — отрезал Дурутти.
— Ты забыл, что коммунисты тоже наши враги.
— Правильно! — закричали в толпе.
— Пусть коммунисты и фашисты убивают друг друга!
— Свободу всем!
Дурутти вслушался в шум и крики, и на душе у него стало муторно. И он, рванув на груди куртку, закричал:
— Анархисты, мне стыдно за вас! Стыдно! Разве вы не видите, что весь Мадрид живет боями! Что все силы направлены на оборону города? Разве вы не видели, как танки с советскими добровольцами шли на правом фланге в контратаку, помогая нам отбивать врага? Фашистских танков было впятеро больше, но русские не испугались их, они таранили их в лоб. Мы все видели, как четыре танка загорелись, но из них никто не вылез. Русские оставались внутри, в этих горящих гробах, и вели огонь до тех пор, пока заживо не сгорели. И на других участках обороны так же жарко, как и у нас. И вдруг мы покидаем позиции! Мы анархисты, люди свободы! Мне стыдно! Там гибнут тысячи людей, а мы уходим в тыл. Мы оголяем самый ответственный участок фронта! Мы тем самым поможем фашистам ворваться в город, расстреливать детей, распинать женщин… Нельзя так! Братья! За мной, анархисты! За мной! На позицию! Или мы займем сейчас наши траншеи… Или… — Он задыхался от отчаяния и гнева. — Или расстреляйте меня! Сейчас! Здесь! Стреляйте в командира предателей! Ну! — Он был искренен и грозен в своем требовании.
— Что ты говоришь, Дурутти? — ахнул кто-то в толпе. Бойцы умолкли, еще мгновение — и их настроение изменится. И тогда Педро шагнул вперед, к Дурутти, и закричал ему в лицо, подымая пистолет:
— Ты жалеешь коммунистов? А нас тебе не жаль? Ты предал анархистов! Смерть тебе! — и он выстрелил пять раз в комбрига.
Дурутти упал, Педро пустил в него еще одну пулю… Толпа шарахнулась в сторону и затихла. Педро, деловито сунув пистолет за пояс, крикнул:
— Да здравствует анархия! Смерть предателю! Анархисты! Слушайте своего командира! Я приказываю идти в тыл! Пусть позицию защищают коммунисты! Пошли!
…Машину, в которой Хаджумар возвращался из штаба революционных сил в расположение бригады, обстреляли с высоты, которую должен был занимать батальон Педро. Обстреляли из пулемета той системы, что в бригаде не было. Что же произошло? Хаджумар увидел в поле редкую цепочку анархистов, ведущих стрельбу по высоте, выскочил из машины и перебежками достиг их. Ему навстречу бросились Гарсиа и Аугусто, залегли рядом с ним.
— Что случилось?. — спросил Ксанти с тревогой.
— Они убили его! — сказал Гарсиа.
— Кого? — ужаснулся Хаджумар, сразу же поняв, о ком говорил Гарсиа.
— Твой друг Дурутти убит. Убит. В него стрелял Педро… Выслушав, как и что произошло, советник с болью спросил:
— Где лежит Дурутти?
— Мы его вынесли вон за тот бугор, — кивнул назад Аугусто.
— Проводите меня, — приказал им Хаджумар. Дурутти лежал на плаще. Хаджумар приподнял голову комбрига и с радостью и надеждой увидел, что глаза друга открылись. И не просто открылись, но и узнали советника Ксанти!
— Ты жив! — обрадовался Хаджумар и обернулся к Лине: — Скорее врача!
Дурутти, казалось, усмехнулся — горько и благодарно за заботу, с трудом произнес:
— Не надо… Они подвели нас. Ксанти, брат мой… — и еще одну фразу он успел произнести, причем прошептал он ее так, будто убеждал себя: — Ты прав, амиго, нельзя, чтоб анархия была свободой убийств…
Потом была бешеная гонка на машине. Спокойный, уравновешенный камарада советник был бледен и взбешен. Лина с удивлением заметила слезы на глазах этого далеко не нежного человека. Она его видела в бою, жестоко орудующим штыком, она видела его на мосту, когда он снимал часового, она видела его безрассудство, когда он встал у ярко освещенного окна, зная, что сейчас франкисты откроют огонь по нему. И все эти поступки были так похожи на него. А вот теперь она видит слезы, бегущие по его щекам… Значит, он в душе своей мягок, только обстоятельства заставляют его быть суровым…
Они догнали батальон Педро возле парка. Анархисты узнали военного советника комбрига и изумленно уставились на него. Глаза Педро сощурились в гневе, рука его потянулась к пистолету. Хаджумар не стал дожидаться, когда остановится машина. Спрыгнув на ходу, он встал перед бойцами, широко расставив ноги.
— Вы должны возвратиться на позицию! — сказал он и повторил теперь уже по-испански: — Вы должны возвратиться на высоту!
— Один уже пробовал нас заставить! — угрожающе приблизился к советнику Педро.
Хаджумар как бы нехотя протянул руку к кобуре, стал ее расстегивать. Педро выхватил пистолет из-за пояса, закричал:
— Смерть коммунисту! Да здравствует анархия!
Два выстрела раздались одновременно. Но если пуля Педро прошла мимо, то пуля из пистолета советника опрокинула Педро навзничь на землю. Один из анархистов — взлохмаченный детина — ахнул, бросился к Хаджумару, направил на него винтовку. Но Гарсиа, выскочив из машины, приставил свой штык к груди этого анархиста:
— Полегче, друг!
— Что же вы, анархисты?! — раздался вопль взлохмаченного.
— Молчи, стерва! — оборвал его Аугусто.
Хаджумар отвел дуло винтовки анархиста от себя, тихо спросил:
— Кто еще хочет предать дело революции?
— Братцы!.. — закричал Гарсиа.
И тут заговорила Лина:
— Эй, испанцы! К вам обращается женщина! Я видела разных испанцев: красавцев и уродов, стройных и коротышек, стариков и юнцов. Все они были мужчины. Я поверила, что испанцы сплошь храбрецы. А теперь — не верю! Я вам бросаю в лицо: «ТРУСЫ!..»
— Они не трусы, — возразил Хаджумар. — Их подвел предатель Педро. Сейчас важно возвратить высоту. С нее окраина города как на ладони.
— Как это сделать? — развел руками Аугусто.
— Я знаю как… — сказал камарада советник и привычно, как это бывало не раз, приказал: — Подтянуться, выстроиться и привести оружие в боевой порядок.
…Вот когда понадобилось его хорошее знание подземных коммуникаций Мадрида, вот когда сработал мощный заряд взрывчатки, что был предусмотрительно заложен в том крыле подземного туннеля, что выходил в тыл университетского городка.
Глава 6
В последующие месяцы Ксанти был советником в четырнадцатом интернациональном корпусе, о котором много говорили, но мало кто знал, чем он занимается. Направляя Ксанти туда, Корзин сказал: «Не мне тебе говорить, как могут облегчить оборону столицы удачно действующие диверсионные группы в тылу франкистов. В корпусе горячие, но неопытные люди. Тебе следует сегодня же приступить к делу». «Вы сказали, что группы малоопытны, — ответил Хаджумар. — Учить на словах? Малоубедительно. Придется и мне ходить в тыл франкистов… Обещаю, что это будет не так часто…» «Ты так говоришь, будто, направляясь в тыл врага, заранее заказал пропуск на возврат оттуда, — горько усмехнулся Корзин. — Хотел бы, чтоб так было… Но понимаю тебя. Видимо, не обойтись без того, чтоб самому не возглавить группу. Изредка!» — предупредил он.
Изредка… Как это понять? Раз в полгода? Или раз в неделю? По мнению Хаджумара, изредка — это означало, что уж, во всяком случае, первую вылазку в тыл врага вновь созданной группы должен возглавить он сам, чтобы наглядно показать новичкам, как следует действовать в той или иной ситуации, чтобы вложить в души людей уверенность в своих силах и дерзость в помыслах. Он комплектовал группы, обучал их, определял объекты и тщательно разрабатывал диверсии, — а сам с нетерпением дожидался того дня, когда можно будет отправиться через линию фронта.
Довольно скоро франкистам стало известно, кто руководит диверсионной и партизанской деятельностью. Более того, они знали, что полковник Ксанти сам наведывается к ним в гости. И началась охота за ним. Но он был неуловим, и диверсии, одна смелее другой, совершались все чаще и чаще. Хаджумар уходил в тыл врага с группой отчаянных храбрецов, и каждый километр пути рождал новые легенды.
И нападение на фашистский аэродром под Талаверой Ксанти возглавил сам. Первая часть операции прошла успей] но. Убедившись, что все самолеты охвачены ярким пламенем, точно заспорили, который быстрее сгорит, бойцы спешно пересекали поле, стремясь поскорее углубиться в лес. По дороге, проходящей по плантации маиса, показалась машина с фашистской охраной.
— Ложись! — приказал Хаджумар.
Группа залегла. Машина промчалась бы мимо них к аэродрому, где раздавались пулеметные очереди — лихорадочные, на авось, если бы не Том, американский доброволец. Упоенный победой, он не желал пропускать мимо себя легкую добычу и, ослушавшись приказа, приподнялся и с криком: «Вот вам!» — бросил гранату в грузовик. Но граната не взорвалась. Машина затормозила, из кузова посыпались фашисты, на ходу открывая огонь. Пришлось принимать бой. И тут показались еще две машины с охраной. Подкрепление высыпало на поле и цепью стало обходить группу.
— Всем отходить, перебежками! — приказал Хаджумар и, подхватив ручной пулемет у Гарсиа, дал очередь по цепи, заставив фашистов залечь. — И тебе отходить! — закричал камарада советник, видя, что Гарсиа пристроился рядом с ним на земле. — Это приказ!
Гарсиа нехотя сделал бросок в сторону леса, догоняя группу. Фашисты попытались пересечь бойцам путь. Но пулемет Хаджумара заставил их вновь прижаться к земле. Оглянувшись, камарада советник увидел, что группа почти у зарослей. Он вскочил, перебежал несколько шагов, отступая к лесу, и опять залег за пулемет. Он трижды повторял свой маневр, пока наконец группа не скрылась за деревьями. Теперь фашисты вели огонь только по нему. Предательское зарево аэродрома освещало все поле. Хаджумар сделал еще один бросок, и в это время пули впились ему в ногу и бок… Он упал, дал длинную очередь. И тут пулемет захлебнулся — кончилась лента… А до леса оставалось метров пятнадцать… Не добежать… Хаджумар вытащил пистолет… Жаль, что все так заканчивается… Жаль и обидно, что гибнет из-за недисциплинированности одного из бойцов… Жаль… Он знал, сколько патронов в пистолете… Он мог еще сделать шесть выстрелов по врагам. И он стал целиться и нажимал на курок, только убедившись, что цель будет поражена. На пятом выстреле он услышал позади себя шаги. Метрах в трех от него шлепнулась на землю неуклюжая фигура Аугусто.
— Ты почему возвратился?! — закричал он ему. — Команда была отходить!
— У тебя больше нет патронов, я догадался, — оправдывался Аугусто. — Теперь мой пулемет будет их сдерживать. — Он нажал на гашетку, и Хаджумар убедился, что занятия на стрельбище пошли ему впрок: прицельный огонь заставил залечь осмелевших было фашистов.
— Будем отходить, попеременно делая броски, — сказал камарада советник и, когда Аугусто вновь нажал на гашетку, сделал бросок к лесу… Он думал, что пробежит метров десять, но раненая нога не слушалась его, подвернулась, и он упал недалеко, у чащи деревьев. Боль туманила глаза…
Гарсиа бросился к нему, приподнял, потащил в заросли.
— Погоди! — приказал Хаджумар. — Ложись! — И закричал Аугусто: — Отходи, Аугусто!..
Но тот только махнул рукой, предлагая им скорее углубиться в чащу.
— Аугусто! — грозно закричал камарада советник. — Отходить!
Пулемет Аугусто умолк, испанец повернул к нему голову:
— Всем не уйти!
— Я тебе приказываю! — Хаджумар поморщился от боли.
— Скорее уходите! — Аугусто отказывался выполнять приказ — впервые! — Я прикрою вас. Иначе все погибнем…
Хаджумар понимал, что только так можно уйти от преследования. Он сам взялся прикрыть огнем отход товарищей. Но его ранило, и не стало патронов, и теперь выходит, что Аугусто перехватил то, что было предназначено ему, Хаджумару.
— У меня еще есть гранаты! — закричал Аугусто. — Уходите! Фашисты у меня в долгу!
— Эй, Аугусто, я твой командир, приказываю тебе отходить! — приподнял голову Хаджумар, и тут еще один удар пули, на этот раз в плечо, опрокинул его навзничь. Он потерял сознание.
* * *
Обратный путь группа рассчитывала преодолеть за двенадцать часов. Но теперь, постоянно чувствуя погоню, боясь наткнуться на засаду, добиралась до фронта кружным путем. Том, нарушив главный закон диверсантов: никаких отсебятин, чувствовал свою вину. Всячески желая оправдаться, он говорил о своей ненависти к фашистам, брал на себя самую тяжкую обязанность — идти впереди, чтоб проверить, нет ли засады. Он подолгу не отпускал древко самодельных носилок, на которых бойцы несли раненого командира. Когда Ксанти пришел в себя через несколько часов, Том облегченно вздохнул. Советник усилием воли заставил себя всмотреться в карту, наметил маршрут и опять впал в небытие.
Команду взял на себя Гарсиа. Он был молод, но все знали, что он был принят в корпус по рекомендации Ксанти, и безропотно подчинялись его приказам. А он, памятуя науку, которую в деле преподал ему учитель, действовал осторожно, стараясь предвидеть любую неожиданность.
В Мадриде их уже не ждали, когда вдруг разнеслась весть, что они пересекли линию фронта. Советник не разрешил везти себя в госпиталь, потребовал, чтобы его доставили в расположение корпуса. К машине, остановившейся у проходной, первой бросилась Лина, обхватила руками носилки, на которых лежал Хаджумар. Сделали операцию, извлекли пули. Лина села у кровати с таким видом, что все поняли: она покинет больницу только вместе с Ксанти.
Придя в себя, он увидел, что она плачет.
— Ты чего? — едва слышно спросил он.
— Ничего. — Она едва улыбнулась сквозь слезы, прижала его ладони к своим губам, стыдливо призналась: — Думала, что больше не увижу тебя… — Вытащила из сумки газету, развернула ее и показала Хаджумару: — Вот, смотри, что о тебе писали фашисты… «Известный диверсант полковник Ксанти убит вчера при попытке нападения на аэродром под Талаверой. Вся его группа уничтожена. Один из диверсантов, Аугусто, казнен».
Погиб Аугусто… Хаджумар закрыл глаза.
— Как доставили к нам эту газетенку, я чуть с ума не сошла, — рассказала Лина. — Ты мертв! Не верилось! Я ждала тебя. И вот чудо свершилось. — Она упрекнула его: — Почему ты не разрешил, чтобы тебя сразу положили в прифронтовой госпиталь? Ведь каждая секунда была дорога!
— Лечь в абы какой госпиталь? — прошептал непослушными губами Хаджумар. — Человек только в сознании контролирует, на каком языке надо говорить.
— Тобой заинтересовался известный писатель. — Эрнест Хемингуэй. Он хочет писать о тебе… Расспрашивал, какой ты был. — Она спохватилась. — Он тоже читал эту газету фашистов, поэтому и говорил о тебе в прошедшем времени.
— Как ты его назвала? — спросил Хаджумар.
— Ты не знаешь его? — удивилась она.
— Я обязан его знать? — в ответ удивился он.
— Но он же еще при жизни стал классиком!
— Поправлюсь, закончим войну — почитаем, — сдался Хаджумар. — Сейчас времени нет… Что говорят врачи, долго мне валяться здесь?
— Считают, что тебя выручил твой могучий организм. Удивляются, как не началась гангрена…
Через четыре дня он потребовал, чтобы к нему допускали руководителей групп. Врачи пришли в ужас, но камарада советник заявил, что в противном случае он немедленно покинет госпиталь. И палата стала своеобразным штабом четырнадцатого корпуса. Здесь обсуждали будущие операции, здесь разрабатывались пути подхода и проникновения на объекты, здесь проверялась готовность группы к неожиданным ситуациям, которыми так полны будни разведчиков и диверсантов.
Свое выздоровление Хаджумар решил отметить налетом на аэродром в Севилье.
— Там базируется «Кондор», — сказал он. — У меня продуман план, как уничтожить самолеты.
— Не повторяешься ли ты? — засомневался Корзин, который понимал, что теперь фашисты особенно бдительны на аэродромах.
— Этот план совершенно не похож на прежние. — Хаджумар весело посмотрел на начальника. — И к тому же должен же я дать знать фашистам, что они рано меня похоронили!
…План был дерзок до поразительности. Команда была разбита на несколько частей, и каждая атаковала впрямую заранее определенные группы самолетов. Успех был колоссальный. Семнадцать первоклассных самолетов «Кондора» сгорели, были уничтожены летчики и обслуживающий персонал.
И опять зачастила в сводках фашистских сообщений фамилия полковника Ксанти.
…Хаджумар возвращался в отель «Флорида». Странный он был жилец: комната за ним была закреплена, но он неделями не появлялся в отеле. Если не отправлялся в тыл врага, то дела задерживали его в штабе корпуса на всю ночь, и он спал на диване, специально для него втиснутом в кабинет. В фойе отеля Хаджумар увидел Кольцова, который оживленно беседовал со здоровяком бородачом. Соблюдая конспирацию, Хаджумар хотел пройти мимо, даже не кивнув Кольцову, но тот сам обратился к нему на испанском языке и представил его бородачу:
— Познакомьтесь: это македонский продавец апельсинов, сеньор Ксанти.
Бородач вздрогнул всем телом и повернулся к Хаджумару, ухватился обеими руками за его ладонь, весело прокричал:
— Я давно желаю познакомиться с вами! Я не только знаю, в каком вы номере живете. Я подкупил вашего портье, и он мне обещал тотчас же сообщить, как вы окажетесь в своем номере. Пусть этот факт станет вам доказательством моего большого интереса к вам…
Он говорил горячо, но с каждой фразой Хаджумар все больше хмурился. Отчего у этого здоровяка такой большой интерес к его персоне?
— И не хмурьтесь, и не удивляйтесь, вы сами в этом виноваты. Ваши подвиги там, за линией фронта, не дают мне покоя. Впрочем, вы мне доставили и серьезное огорчение.
— Каким образом? — спросил по-испански камарада советник.
— Зачем вы выпроводили моего друга Тома — американца — из диверсионной группы? Чем он не удовлетворяет вас?
— Уже хотя бы тем, что он вам об этом сообщил! — резко ответил Хаджумар. — Оставайся он в корпусе, я бы только за этот факт отправил его ко всем чертям!
Писатель развел руками, озадаченно поглядел на Кольцова, с удовольствием слушавшего их беседу. Хаджумар повернулся к Кольцову, собираясь попрощаться. Но писатель схватил Хаджумара за рукав и заявил:
— Вы должны мне выделить вечерок для дачи интервью. Я напишу о вас, и газеты перепечатают мой материал.
— У меня нет времени для разговоров.
И тут вмешался Кольцов:
— Ну, почему вам, камарада советник, не найти вечерок для беседы со знаменитым писателем Эрнестом Хемингуэем? Эта статья на пользу республике. Пусть во всех странах знают, какие люди прибыли на помощь Испании и как они сражаются… — По его голосу Хаджумар ронял, что нельзя отказывать большому писателю…
— Может быть, на той неделе, — покачал головой камарада советник. — Сейчас я исчезну на несколько дней.
— Понятно, — кивнул писатель. — Буду ждать.
* * *
То были два странных вечера. Очень странных. Хемингуэй нетерпеливо раскладывал на столе блокнот и десятка два тонко наточенных карандашей.
— Вы что, собираетесь всю ночь здесь просидеть? — кивнув на карандаши, хмуро спросил Хаджумар по-испански.
— Почему бы и нет? — засмеялся писатель и нетерпеливо воскликнул: — Приступим!
Хаджумар и хотел рассердиться на него и не мог, так обезоруживающе чистосердечен был этот человек.
— Расскажите один из эпизодов там, в тылу фашистов. Как можно подробнее. Все расскажите: какая цель была, кто был рядом с вами, с чего начали подготовку, как отбирали людей, с которыми пошли на операцию, как переправлялись через линию фронта, кто шел впереди, кто сзади, почему именно так шли…
Хаджумар откинулся на спинку стула, язвительно спросил:
— Может быть показать еще и место, где франкистам лучше всего устроить засаду, чтоб всех нас перебить?
Хемингуэй озадаченно поглядел на камарада советника и, поразмыслив, уяснил, что у разведчика методы работы должны оставаться в тайне.
— Н-да, кажется, я бью ниже пояса, — произнес писатель. — Извиняюсь… Я не желаю подвести вас, камарада советник. Поведайте мне эпизод так, как позволяет сегодняшняя ситуация, и только то, что не повредит вашим будущим делам.
Хаджумару понравилось, что он с ходу уловил щекотливость ситуации, и, прикинув, он сказал:
— Вам интересно услышать о том, как мы взорвали мост? Эпизод интересный, и мы этим способом больше не собираемся воспользоваться.
Он стал рассказывать, подыскивая испанские слова. Рассказ продвигался медленно, но не по вине Хаджумара. Эрнест требовал подробнейших деталей. Он задавал такие вопросы, что ставил в тупик советника, который всякий раз взглядывал на писателя, стараясь по лицу его угадать, не подшучивает ли он над ним. В самом напряженном моменте писатель вдруг спросил:
— Вы лежали перед мостом на траве?
— Конечно, на траве…
— На животе или на спине?
— Черт побери, конечно, на животе, ведь нельзя было спускать глаз с моста и с охраны!
— А чем пахла трава?
— Пахла?! — пожал плечами Хаджумар. — А это важно, чем она пахла?
— Важно, — серьезно подтвердил писатель.
— Важно, чтоб взрыв произошел в самый нужный момент. Ни секундой раньше, ни секундой позже! — возразил Хаджумар.
Писатель вскрикнул: вот он ключик к раскрытию сути профессии разведчика! И чтоб окончательно увериться в своем предположении, Эрнест, всматриваясь в лицо советника, нарочно безразлично произнес:
— Главное, чтоб мост перестал существовать… А часом раньше или позже прозвучит взрыв… — Он неопределенно пожал плечами, какое это имеет значение.
Хаджумар укоризненно покачал головой, жестко сказал:
— У разведчиков отсчет времени иной. И цена секундам намного дороже. Каждая операция распадается на этапы. Чтобы пройти один этап, дается определенное время. Без запаса, потому что надо сократить до минимума пребывание в тылу врага. Все, что ты предпринимаешь там — шаг вправо, шаг влево, остановка, обход, — все по крайней необходимости. Ни одного лишнего движения и в то же время никакой поспешности — вот закон разведчиков. И еще один: делать все вовремя: раньше подойдешь — больше шансов у врага обнаружить тебя, позже — все придется делать второпях. И взрыв должен произойти в самый неподходящий для противника момент. Представьте себе, что идет подготовка вражеского наступления или переброска войск для обороны. И вот в тот самый момент, когда враг, избрав наиболее выгодный ему путь переброски частей, приблизился к мосту — вон она, та сторона, куда необходимо перебраться! — вдруг взрыв, и переправы нет. Будь войска еще на исходных позициях и узнай командование, что мост взорван, оно могло бы избрать другой маршрут для передвижения. А теперь времени-то и усилий сколько потеряно!
— Очень убедительно! — восхитился писатель. — Итак, вовремя, ни секундой раньше, ни секундой позже… — Он торопливо стал водить карандашом по бумаге. — А какая черта характера крайне необходима разведчику?
— Аккуратность, — не задумываясь, ответил камарада советник. — Да, да, помимо всего прочего — храбрости, хладнокровия, смекалки — крайне необходима аккуратность… Сколько великолепных задумок провалилось из-за того, что кто-то что-то забыл, вовремя не предусмотрел, неаккуратно исполнил. Из-за малейшей оплошности гибли самые квалифицированные разведчики.
— Что является непреклонным условием успеха разведчика? — настойчиво допытывался Хемингуэй.
— Вера в соратника, в его порядочность и силу воли.
Увлекшись, Хаджумар поведал о людях, что слыли отчаянными малыми, что могли на виду у всех вскочить на бруствер и молодцевато танцевать под градом пуль. Но это они проделывали под восторженные крики окружающих. Но там, куда отправляются разведчики, нет публики: там и подвиг и смерть безымянны. И Хаджумар знает таких, кто в этих условиях терял свой блеск и смелость, сникал, — им для героизма не хватало восторженных взглядов людей… Он знал и других, тех, что никогда ничем не проявляли свою смелость, держались на людях в тени, зато в одиночестве оказывались на высоте.
Они сидели уже три с половиной часа, а конца рассказу о взрыве моста все еще не было видно. Дошли лишь до того момента, когда диверсанты притаились возле моста…
Хемингуэй часто останавливал Хаджумара, переспрашивал, уточнял и вновь попросил:
— И все-таки ответьте на вопрос, который для меня, писателя, не менее важен, чем рассказ о самом взрыве. Чем пахла трава? Или вы не ощущали запаха травы — из-за встревоженности и напряженности ситуации?
Да не шутит ли он? Вопросы какие задает. Чем пахнет трава? И это в такой момент! Может быть, он и карандашом водит по бумаге так, для виду?.. Хаджумар посмотрел на неровные мелкие строчки, выскакивающие из-под кончика карандаша, вчитался в этот с трудом разбираемый почерк, выводивший английские буквы, и убедился, что писатель точно перевел с испанского на английский его фразу и дотошно записал ее… Раз фиксирует так подробно, это ему важно и стоит вспомнить…
— В напряженные моменты все чувства человека обостряются, и врезается в память каждая деталь. Иногда и жалеешь об этом, потому что не все увиденное, услышанное, прочувствованное хочется помнить… Да не удается, — сказал Хаджумар. — В процессе операции кажется тебе, что ты ничего не замечаешь, кроме того, что мешает делу или, наоборот, помогает… Но потом вспоминается все! Ничего не ускользает ни от глаз, ни от ушей. Мне кажется, что я и сегодня могу проделать ту самую пробежку, что совершил в ту ночь, и нога точно ляжет на ту травинку, на тот камушек, что и в тот раз… Вот закрою глаза — и кажется мне, что я все еще там, лежу на животе, ветер слегка шевелит листья, я вновь ощущаю терпкий запах травы, что всегда действует так успокаивающе, вызывает желание улечься на спину, вытянуть руки и ноги, уставиться взглядом в небо… Помню, помню я эти шевелящиеся травинки перед носом, невидимые в темноте, но шелест их был слышен. И запах, терпкий запах их проникал внутрь. Потом я вдохнул запах сосны, свежий и отрезвляющий. Акогда пополз вперед, почувствовал, как ладони кололись о сосновые иглы, устлавшие землю…
Далеко за полночь Эрнест наконец сжалился над Хаджумаром, заявив, что на сегодня хватит, беседу можно перенести на следующий вечер.
— Но я же достаточно рассказал! — выпалил Хаджумар.
Хемингуэй умоляюще произнес:
— Спасибо, я уже явственно вижу, как построю свой роман. Но материала у меня еще мало! Вы рассказали только, как шла операция. Теперь мне нужно узнать все о людях, которые были с вами. Все! И хорошее, и плохое о каждом из них. Их индивидуальные черточки, их характеры, стремления, слабости, увлечения… — Видя, что камарада советник хочет прервать его, писатель торопливо закричал: — Не уверяйте меня, что вы всего этого не знаете! Мне доподлинно известно, что вы каждого из тех, кто идет с вами на дело, внимательно и тщательно изучаете. Так что вы можете оказать мне эту услугу…
…День выдался напряженный. Хаджумар возвратился в отель за полночь и не успел раздеться, как раздался резкий стук в дверь. Эрнест ввалился к нему в номер, опять стол оккупировали бумага и карандаши… Хаджумар предупредил, что не станет называть фамилии людей, с которыми он ходил взрывать мост. И писатель понятливо кивнул головой — конспирация.
Хаджумар сперва неохотно, присматриваясь к реакции гостя, приступил к характеристике бойцов. Но, увидев, с каким истинным трепетом писатель расспрашивал его о внешности их, о желаниях, чувствах, об их отношении к делу и друг к другу, об их привычках, о том, что их радовало, что раздражало, что приводило в отчаяние, — Ксанти, вновь незаметно увлекшись, стал рассказывать так обстоятельно, что писатель несколько раз поднимал вверх небольшой палец и бормотал по-итальянски:
— Брависсимо! Вам бы не мешало сменить пистолет на перо — у вас наметанный глаз наблюдателя и психолога… — Он уже мысленно видел каждого члена боевой группы; вслушиваясь в рассказ Хаджумара, он представлял, что творилось в душе молодого Гарсиа и погруженного в траур Аугусто… — Это то, что надо. — Писатель торопливо стругал затупившиеся карандаши. — Вы рассказывайте, рассказывайте, я самое важное запомню…
Наконец Хаджумар умолк.
— Вам было достаточно двоих бойцов и переводчицы, чтоб взорвать мост. Но мне для романа недостаточно только их. Расскажите еще о других, о тех, с кем вы ходили на другие задания, — взмолился Эрнест. — А я их приобщу к вашей группе. — Разве важно, что будет не четверо, а несколькими участниками больше?
О ком рассказывать? Лица чередой замелькали перед Хаджумаром. После некоторого колебания он поведал о Марии, девушке, которая прошла через огромные страдания: у нее на глазах расстреляли отца, мэра деревни, изнасиловали мать и тут же на улице расстреляли. А потом взялись за дочь. Сперва втащили ее в парикмахерскую и отрезали ей косы, ощипали голову. Одной из кос заткнули ей рот. Потом затащили в ратушу, уложили на диван и подло надругались над ней.
— Сколько ей было лет? — спросил, не отрываясь от бумаги, бородач.
— Двенадцать.
— Двенадцать?! — Карандаш хрустнул в руках у писателя. — Вы сказали — двенадцать?! — не верилось ему. — Покажите мне на пальцах, — потребовал он.
Хаджумар показал. Эрнест вскочил со стула, нервно отвернулся, пробормотал:
— Нет, нет, это слишком! Я не смогу указать, что ей было всего двенадцать. Не смогу! Это немыслимо! Это чересчур даже для американских читателей. Извините, полковник, но я ее сделаю взрослее…
— Но ей было двенадцать, — сурово сказал Хаджумар. — И ее эти звери изнасиловали. Совсем девчушку. И это было. Было, как ни ужасно! Было, как ни чудовищно! А потом эта девушка стала нашим связным. Ходит в тыл к ним и ничем не выдает своей ненависти, улыбается им и делает дело, которое помогает нашей победе… На войне и дети быстро взрослеют, — заметил Хаджумар.
Хемингуэй долго не сводил глаз с советника, потом все-таки выдохнул:
— Не смогу я ее показать двенадцатилетней. Не всякий факт жизни можно включать в художественное произведение. Надо писать правду, это верно, суровую правду. Но ту правду, которая убедит человека, вызовет гнев, а не истерический вскрик. Я напишу Марию так, что всем будет ясна сущность фашизма и сила девушки, пострадавшей от него, но не сломившейся. Я напишу так, чтобы всем — всем до единого! — стало ясно, что несут фашисты миру! — сжав в кулаке карандаш, заявил писатель, лицо его побледнело от негодования.
И Хаджумар увидел перед собой бойца, который не стреляет из пулемета, но который готов за свободу идти в бой, и если понадобится, то и на смерть. Попади он в руки фашистов, он не станет трепетать и лгать, вымаливая жизнь. Он будет вести себя так, как вел себя тот же мэр деревни, отец девчушки, что смело кричал в лицо франкистам, что им не превратить людей в зверей.
— Скажи, — вдруг перешел на шепот писатель, пристально глядя на камарада советника. — Когда ты подкрадываешься с ножом к часовому, тебе силу дает…эта девчушка?
— И она тоже, — в тон ему тихо произнес Хаджумар.
— Я думаю: тебе нелегко бывает поднять нож… — пристально глядел на него Хемингуэй.
— Нелегко, — признался Ксанти. — Но без этого не обойтись.
— Да, без этого не обойтись, — тяжко вздохнул Эрнест.
— Делать то, что нужно для победы, всегда нелегко, — посуровел Ксанти. — Но мук совести нет, ибо ты уничтожаешь зло. Радости это не приносит. Но понимание этого облегчает муки.
Они помолчали, думая каждый о своем. Писатель косо посмотрел на камарада советника:
— Ты красив. Тобой многие женщины интересуются. Но я не видел тебя ни с одной из них. Почему? Тебя что, не интересуют женщины?
— Ты хочешь сказать: женщина?
Хемингуэй пристально глянул ему в лицо, с завистью проговорил:
— Ты сохранил в себе то, что у многих давно уже ушло в прошлое… Значит, ЖЕНЩИНА! Одна! На всю жизнь! Но встретится ли она тебе?
— Уже, — спокойно ответил Хаджумар.
— И ты ей признался? — искренне заинтересовался Эрнест.
— Идет война…
— И ты намерен ждать, когда наступит мир? — Бородач укоризненно покачал головой. — Но любовь не умеет ждать. Смотри, как бы она не испарилась.
— Та любовь, что может испариться, не нужна, — резко заявил Хаджумар.
Брови писателя нахмурились, из-под них на Хаджумара смотрели жгучие щелки глаз. Наконец было произнесено:
— Ты и в самом деле романтик, — и жестко заключено: — И не понятен мне. Абсолютно! При той жизни, что ты ведешь, человек тянется ко всему, что может помочь ему забыться на несколько часов, уйти от грязи войны… Тебе это не нужно. Почему? Что в тебе такое, что может делать тебя одновременно и человеком, снимающим часовых, и в то же время трезвенником, однолюбом, романтиком? Что?
Хаджумар задумался. Он мог бы рассказать о своем дяде, о его жизни и испытаниях, о его науке…
Хаджумар представил себе, как поразился бы писатель, поведай он ему правду о себе и своих родных. О том, как уставший от беспросветной нужды и каверз суровых на сюрпризы гор дед Хаджумара Гидза Мамсуров со всей своей огромной семьей перебрался на равнину. Переселился он в селение с нежным названием Ольгинское, но от бедноты не избавился. Рад был и тому, что местная община приняла многодетную семью, хотя и без права на земельный надел, ибо и на старожилов приходилось лишь по крохотному клочку земли.
Ропща на свою судьбу — злую и неустроенную, Мамсуровы часто срывались, бунтуя и бросая вызов местным богатеям, а бывало, и самому царю. Дяди Хаджумара Дзиба и Саханджери, когда в 1905 году начались волнения, не остались в стороне и поплатились за это: Дзиба был сослан в Сибирь, где и погиб, а Саханджери вынужден был долгое время скрываться от расправы. Отца Хаджумара Джиора арестовывали, отпускали домой, потом вновь за ним приходили жандармы, чтобы, продержав несколько месяцев в тюрьме, опять освободить… И никто не знал, надолго ли?
Гнулись под тяжестью наказаний Мамсуровы, но не смирялись… Хаджумар помнит, как в хадзаре появлялись чужие, говорившие на непонятном языке, не носившие черкесок люди, и его, пятилетнего малыша, выпроваживали во двор. Из-за двери доносились то глухие, то визгливые и раздражительные голоса, — там спорили и ругались, и Хаджумар недоумевал, когда эти непонятные люди покидали хадзар не врагами-кровниками, а дружески улыбаясь друг другу, а один из них — усатый, но с бритым подбородком, — подхватив на руки мальчугана, азартно подкидывал его высоко-высоко вверх…
Много лет спустя Хаджумар узнал, что в их доме бывали и Сергей Киров, и Симон Такоев, и Мамия Орахелашвили, и Маркус, и многие другие известные революционеры, а подаривший ему как-то папаху был не кто иной, как Махач Дахадаев, в честь кого названа столица Дагестана.
Память запечатлела, как маленький дворик хадзара Мамсуровых на окраине Ольгинского заполонили вооруженные винтовками и шашками люди в погонах и цветных фуражках. Они силой выволокли из дома дядю Саханджери, связали ему руки… Он что-то кричал по-русски, это злило жандармов, и они били его прикладами винтовок. Потом подогнали к воротам подводу, усадили в нее дядю, возчик замахнулся кнутом на лошадей… Женщины зарыдали… И тут шестилетний Хаджумар не выдержал, закричав во весь голос, бросился вслед подводе… Жандарм обнажил шашку и ударил плашмя малыша, потом взмахнул второй, третий раз… Боль полоснула по плечу, голове, спине, в глазах мальчугана потемнело, и он потерял сознание и не видел, как тетя Гошана выхватила у кого-то из столпившихся тут же соседей кинжал и поспешила на выручку племяннику… Но не добралась до жандарма с шашкой — сильный удар прикладом уложил ее рядом с малышом…
Хаджумар мог рассказать и о том, как через несколько лет дядя вновь появился в Ольгинском, но уже в офицерской форме и, порадовавшись тому, что племянник заметно вы рос, взял его с собой во Владикавказ, где они поселились в гостинице с громким названием «Лондон», как Хаджумару, когда появлялись гости, приходилось часами торчать у лестницы и при появлении незнакомцев дважды стучать в дверь условным знаком… Как однажды дядя, спешно переодевшись в черкеску, приказал племяннику идти на Осетинскую слободку, в знакомый уже дом Цаликовых, а сам исчез на несколько месяцев. А потом опять появился, и вновь они жили в гостинице «Лондон», но теперь Хаджумар часто ходил по указанным дядей адресам и вручал или наоборот приносил свертки.
Потом пришла революция, Северный Кавказ пылал огнем и перехлестывавшими через край страстями. Дядю повсюду узнавали и, в зависимости от того, кто ему встречался, или крепко жали руку, желая успеха, или бросали в него злобные взгляды. А еще в него стреляли. Стреляли во Владикавказе, Грозном, Пятигорске, в селах… Озверелые банды организовали за ним настоящую охоту…
Однажды в морозную лунную ночь возле гостиницы дядю и племянника подстерегли шестеро офицеров с прикрытыми башлыками лицами. Они яростно набросились на Саханджери. Тринадцатилетний племянник, как завороженный смотрел на энергичные, неожиданные и точные выпады дяди, после которых трое нападающих тотчас же оказались опрокинутыми на землю, четвертого дядя схватил за руку и неуловимым движением вывернул ее так, что тот уронил пистолет и, застонав, присел на колени… Остальные двое мгновенно исчезли за углом гостиницы… Отняв у корчившихся на земле офицеров пистолеты, Саханджери презрительно бросил им:
— Убирайтесь!..
— Как вы их!.. — восхитился племянник.
— Благодаря джиу-джитсу, — усмехнулся дядя. — Я и тебя научу приемам рукопашной схватки… — Он протянул один из пистолетов Хаджумару: — Это тебе… Может пригодиться…
И пистолет пригодился. И довольно скоро. В условленное время Хаджумар направился на перекресток улиц Никитина и Лорис-Меликовской. Увидев уже дожидавшегося его Саханджери, племянник улыбнулся… И тут из-за угла выскочили два офицера в казачьей форме и открыли по дяде стрельбу из пистолетов. Всего с расстояния в десять — двенадцать метров!.. Хаджумар не растерялся. Руки его сработали мгновенно — он действовал так, как до этого сотни раз представлял себе, каким образом использует подаренный ему пистолет и выручит любимого дядю… Он выстрелил раз, второй, третий и обратил офицеров в бегство… Смотря им вслед, Саханджери скупо похвалил племянника:
— Молодец, быстро ты сообразил, что надо делать… Плюнь на этих трусов и не трать попусту патроны…
По дороге в гостиницу он сказал:
— Мы отправляемся в Пятигорск. Там я буду работать, а тебя пристрою в конный эскадрон… Из тебя должен получиться хороший командир…
И началась воинская служба Хаджумара, которому шел в ту пору четырнадцатый год… Было все: и погони за бандитами, и августовские бои во Владикавказе, и тяжелейший переход Одиннадцатой армии через горы, во время которого заболевший тифом паренек потерял сознание и упал с лошади… Его нашел и выходил горец из близлежащего аула. Еще не окончательно выздоровевший Хаджумар становится связным, потом разведчиком партизанского отряда, а когда позволил возраст, Хаджумар поступил в Краснодарскую кавалерийскую школу.
В 1922 году группу курсантов прикомандировали к Михаилу Ивановичу Калинину, который, будучи председателем ЦИК, в сопровождении Климента Ефремовича Ворошилова совершал поездку по Северному Кавказу.
Уже тогда, несмотря на то, что Калинину лет было не так уж много — всего сорок семь, выглядел он таким, каким его, старосту страны, запомнили миллионы людей. Видимо, дали о себе знать годы ссылок и тяжкой подпольной жизни: рано поседели волосы, согнулась спина, появилась старческая походка — шаркающая, осторожная…
По горам еще гуляли банды недобитых белогвардейцев и просто любителей легкой наживы. Вокруг было, как писали газеты, много скрытых врагов. В одном из аулов правительственный кортеж неожиданно попал в засаду, организованную бандитами, и лишь быстрые и умелые действия Хаджумара отвели опасность от всесоюзного старосты. Симпатичный, аккуратный и расторопный джигит пришелся по душе ему. Когда же выяснилось, что он племянник знаменитого Саханджери Мамсурова, которого хорошо знали и Калинин, и Ворошилов, Михаил Иванович пришел в восторг и ласково стал называть его «сыночком». Командир эскадрона поручил Хаджумару повсюду быть рядом с высоким гостем, выполнять его задания, а также доставлять и отправлять его почту. В то же время он строго спрашивал с Мамсурова за любое отклонение от инструкции, которую Калинин нарушал с легким сердцем, не умея по доброте своей отказать настырным посланцам аулов, и когда «это требовалось ради дела», — так шутя он оправдывался, видя беспокойство начальника охраны. Хаджумару было обидно за получаемые накачки — как он мог влиять на поступки Михаила Ивановича? Заметив, что парню достается за каждую вольность, допущенную им, всесоюзным старостой, Калинин вмешивался, но его защита не всегда ограждала Хаджумара от разноса начальства. И тогда на время Михаил Иванович становился подчеркнуто дисциплинированным…
Известный болгарский разведчик Иван Винаров в своей книге «Бойцы тихого фронта» уверяет, что именно Михаил Иванович, считавший, что он обязан жизнью Хаджумару, возвращаясь в Москву, взял с собой храброго джигита и рекомендовал его Яну Карловичу Берзину, который занимался организацией Управления разведки Красной Армии…
Но он не сообщает одно немаловажное обстоятельство… Группа была прикомандирована всего лишь на несколько дней. Нальчик, Пятигорск, Владикавказ, Грозный были уже позади, прибыли в Махачкалу, а команды на отъезд Калинина в Москву не было… Говаривали, что Центр настаивает на глубоком изучении Михаилом Ивановичем проблем национального развития…
Инструкция по пребыванию Калинина на Кавказе была подробной и весьма строгой. Точно определено, куда можно ездить — да и то в сопровождении крупного эскорта, — а куда нет, а в том случае, когда возникала потребность отправиться в населенный пункт, не указанный в инструкции, то поездку необходимо было согласовать с Москвой. Охране круглые сутки приходилось быть начеку.
Однажды, улыбнувшись, Михаил Иванович положил руку на плечо джигита, и, глядя ему в глаза, доверительно сообщил, что скоро перестанет докучать молодым кавалеристам, ибо со дня на день ждет весточки. из Москвы с разрешением возвратиться. Действительно, через два дня Мамсуров передал ему письмо — правительственное, от Сталина. Оно пришло, а Михаил Иванович не давал команду собираться. Более того, с того дня началась интенсивная переписка Сталина и Калинина…
Как-то раз, спустя полчаса после вручения очередного письма из Кремля Калинину, Хаджумар вновь вошел в кабинет, чтоб уточнить завтрашний маршрут, и ахнул: всесоюзный староста… плакал! Хаджумар и до этого нередко видел его грустным, но чтоб плакать?! Бросившись к Калинину, Хаджумар участливо склонился над ним:
— Вам плохо, Михаил Иванович?
Тот слабо улыбнулся, оторвался от письма, поспешно прикрыл ладонью листки, написанные почерком, схожим с тем, что был на конверте, и, стараясь подбодрить паренька, произнес:
— Ничего, сыночек, ничего, бывает… Мороки со мной много, да? Надоел я вам?
— Ну что вы? — возразил горячо Хаджумар.
— Зайдешь через час. Надо будет срочно отправить письмецо в Кремль…
Подавая написанный ответ в Москву, Михаил Иванович горько усмехнулся:
— Теперь уж недолго вам мучиться со мной. Наверняка, скоро мы простимся.
И в самом деле, через пять дней эскадрон провожал Калинина на поезд. Михаил Иванович попросил, чтоб в числе тех, кто будет сопровождать его до столицы, был и Хаджумар. Уже в вагоне, обняв горца за плечи, прошептал:
— Ты, сыночек, уж прости меня, если что не так. Иногда и меня охватывает хандра, — и Хаджумар понял, что он просил никому не рассказывать о своих слезах. — При встрече с твоим дядей скажу ему спасибо за то, что воспитал такого ладного джигита…
Хаджумар часто задумывался, отчего смена настроения у Калинина происходила после получения писем от Сталина… Не хотелось допускать мысли, что и между руководителями страны бывают осложнения, а может быть, даже распри…
Пройдут годы. Курсант Мамсуров станет генералом, ему будет открыт доступ к материалам архивов, и он узнает, что нервозность Калинина была следствием его самостоятельного суждения по одной из проблем развития страны, не совпадающего с мнением Сталина. И командировка всесоюзного старосты на Северный Кавказ не была ли по сути почетной ссылкой на неопределенный срок под благовидным предлогом необходимости тщательного изучения на месте путей решения национального вопроса, закончившаяся лишь тогда, когда, наконец, Калинин смирился и уступил своему грозному оппоненту, признав его позицию единственно верной?.. Если эта догадка верна, то какую же роль играли эскадрон и сам Хаджумар?..
Об этом и еще о многом другом мог бы рассказать Мамсуров знаменитому писателю.
Но существовало такое слово: конспирация. А оно диктовало свои законы. У македонского продавца апельсинов не могло быть дяди Саханджери. И Ксанти мысленно сказал себе: будь настороже, не забывай своей легенды, иначе этот сильный человек и проницательный психолог раскроет твою сущность, а от этого факта к разгадке того, кто ты, — буквально полшага…
— Я догадываюсь, почему мне трудно расшифровать твое лицо, — задумчиво сказал писатель. — Беда в том, что я не понимаю, ПОЧЕМУ ты здесь, в этой истекающей кровью стране? Что заставило тебя прибыть сюда и с риском для жизни идти в тыл врага? Что?
«Внимание! Он вплотную приблизился к опасной зоне! — насторожился Хаджумар. — Теперь тебе стоит допустить одну неверную фразу — и легенда полковника Ксанти полетит ко всем чертям!» Следует усыпить его бдительность, направить его психологические поиски в другом направлении. Важно, чтоб оно было неожиданно для писателя — только необычность, нетрафаретность могли сбить этого человека с верного пути. И Ксанти наклонился к писателю:
— Вы думаете, меня привели сюда только идеи мира и добра? У каждого в душе еще свой интерес. Есть он и у меня. Вы просто не знаете, что из себя представляют македонцы. Мой отец и два брата умерли не своей смертью.
— Мне говорили, что среди македонцев много террористов, — сказал писатель.
— Тогда вам легче представить себе паренька, что только и слышал в доме о том, кто кого укокошил, к кому подбирается острый клинок, кого бомба должна разорвать на части… Поневоле мне казалось, что жизнь — это сплошь битва, подкопы, стрельба, бомбы, подкрадывающиеся люди, кровь и стоны, плач и радость отмщения… Я жил в этом чаду и только и мечтал о том, когда сам смогу выслеживать и стрелять, бросать бомбу и подкрадываться с кинжалом в зубах… Такая, и только такая, жизнь казалась мне достойной настоящего мужчины. И вот я здесь и стремлюсь почаще бросать вызов судьбе. Это горячит кровь. Мои симпатии — на стороне народа Испании, ради них иду на риск. И в то же время — меня такая жизнь устраивает, удовлетворяет… Понятно я говорю?
— Понятно, — не спускал с него глаз Эрнест. — Но есть в ваших суждениях противоречия. Вы любите рисковать, но почему-то ждете конца войны, чтоб соединиться с любимой? Как это понять?
И еще раз Хаджумар убедился, что психология писателя опасна для разведчиков.
— У меня столько разных противоречий, что мне самому порой кажется, что я весьма странен, — засмеялся Хаджумар. — Отчего я не сойдусь с любимой? Оттого, что она очень молода. Вдруг погибну и оставлю ее несчастной… А это, признайтесь, вполне возможно на этой войне.
…Когда уже перед рассветом Хаджумар протянул руку писателю, то услышал:
— Завтра я задам вам еще вопросы, на которые не могу отыскать ответы.
Но на следующий день Хаджумар срочно отправился в тыл врага, и события развернулись так стремительно, что больше он не встретился с писателем.
…Пройдет тридцать лет, когда наконец Хаджумар прочитает книгу Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Возьмет ее по настоянию журналиста, проведавшего, с кого автор списывал своего главного героя. Возьмет в руки книгу перед сном с намерением быстренько просмотреть ее. Возьмет — и всю ночь не сможет сомкнуть глаз. Вместе с женой будут они поочередно вслух читать роман и восхищаться писателем, сумевшим так правдиво воссоздать обстановку гражданской войны в Испании. И будут вспоминать людей, ныне умерших, тогда еще живых, реальных, о которых рассказывал писателю Хаджумар и которых тот, ни разу не встретившись с ними, так узнаваемо описал.
И еще одно поразит Хаджумара: как это Хемингуэю удалось вникнуть в тайны разведчиков. Операцию по взрыву моста он показал настолько убедительно, словно Эрнест сам ее задумал и сам осуществил.
Глава 7
И вот Москва!.. Возвращался домой Хаджумар уставший — сказывались-таки напряженнейшие годы, до предела заполненные сражениями, рейдами по тылам фалангистов, а между ними усиленной подготовкой к очередным вылазкам к важным объектам врага, — одновременно удовлетворенным от мысли, что тобой сделано все возможное, — а порой и невозможное — в яростной битве с коричневой чумой… Мечталось: по приезду в Москву залечь на два-три дня и хорошенько отоспаться…
Но получилось иначе… Уже на следующий после прибытия день Хаджумара вызвали в Наркомат обороны. Казалось бы, ничего необычного не было в просьбе дать поскорее подробный отчет о «командировке»… Но бросилось в глаза, что начальник напряжен и смотрит в сторону, будто боясь, как бы Мамсуров не прочитал по его лицу то затаенное, что мучило того. Откуда Хаджумару было знать, что его родной дядя Саханджери по гнусному доносу арестован, объявлен врагом народа и расстрелян? Не дошел до него и слух о том, что на его Родине, в Ольгинском, ночью схвачены его родственники — три брата Хаджи-Мурат, Майрам и Тасолтан. Добрались и до четвертого — Владимира, работавшего в Москве, на автомобильном заводе. В чем же обвиняли старшего научного сотрудника лаборатории завода «Электроцинк», весовщика, счетовода колхоза да сотрудника московского завода? Нелепо, но якобы Майрам, обращаясь к колхозникам, прервавшим работу, чтоб провести собрание, сказал: «Зачем вам собрание? Лучше идите работать — закончим скирду и пойдем домой». Это сочли контрреволюционной агитацией. И другим предъявили подобные же обвинения…
Но было и одно, общее обвинение ко всем братьям: связь с врагом народа Саханджери Мамсуровым, хотя, скажем, Хаджи-Мурат не виделся с ним с того времени, как дядя был направлен на работу в Ростов, то есть свыше тринадцати лет… Никаких доказательств их вины не было. Но разве не достаточно того, что они носили фамилию Мамсуровых?
И еще одно общее было у братьев: всех их судили по единому сценарию. Каждый из них предстал перед «тройкой», каждому задали по несколько вопросов, после чего тут же был объявлен приговор: расстрел, который исполнили с колоссальной поспешностью: в ту же или на другую ночь…
Нож репрессии прошелся и по другим родственникам и друзьям, а то и просто по товарищам по службе Саханджери…
Ждали возвращения из Испании и племянника врага народа. Спустя годы Хаджумар узнал, что в доносах его обвиняли не только в том, что он близкий родственник и даже любимчик репрессированного Саханджери Мамсурова, но и в том, что якшается и с другими врагами народа, в частности, нашлись свидетели того, как он при встрече обнимался с самим Михаилом Кольцовым, которого тоже к этому времени приговорили к расстрелу… Но все это Хаджумар узнал позже, а тогда он недоумевал, в чем дело. Сами предложили ему поскорее выйти на службу, а когда он приблизился к проходной, дежурный офицер на вахте, прекрасно знавший его, почтительно козырнул, но тем не менее настоятельно посоветовал полковнику Мамсурову возвратиться домой и ждать особых указаний.
Дежурные менялись, но каждый из них вставал у него на пути и раз за разом все настойчивее повторял, что ему рекомендуется быть у себя на квартире и ждать звонка. Почему он должен возвратиться домой и чьего звонка ему ждать, — не говорилось. Сперва Хаджумар решил, что ему предстоит какое-то новое задание. Но когда он день, второй, третий просидел возле телефона, который так и не заверещал ни в этот, ни в другой, ни в третий день, а наутро на проходной непременно следовала настойчивая просьба возвратиться на квартиру, Хаджумар понял, что дело серьезно. Фактически это был домашний арест. Только никто его ему не объявлял и не пояснял, в чем его вина… Хаджумар попытался дозвониться до Осетии, — безо всяких причин его упорно не соединяли с Владикавказом…
Он сидел дома неделю, вторую, искал и причины, и тех, кто мог бы внести ясность. К кому же обратиться? К кому?.. Он попытался созвониться с сослуживцами, — но — странное дело, — смелые люди, не раз отправлявшиеся на опаснейшие задания, они, едва услышав его голос, торопливо клали трубку. Значит, разговор с Хаджумаром небезопасен и может навлечь неприятности. Что же произошло? Нашелся подонок, который очернил его?.. И Хаджумар решил, что его единственный шанс заключается в том, чтобы обратиться к Ворошилову. Климент Ефремович знал его еще с 1922 года, когда сопровождал Калинина в его поездке по Северному Кавказу, он видел его в деле. И в последующие годы они не раз виделись: в Ростове-на-Дону и в Москве… Неужто и нарком не поверит ему?..
— …Вы мне скажите, что вас беспокоит, и я дам номер телефона работника, к которому следует обратиться, — вежливо произнесла секретарша.
— Но мне нужно переговорить именно с наркомом, — настаивал Хаджумар.
— Он занят, — голос секретарши звучал доброжелательно, но тем не менее в нем слышались отшлифованные долгой службой нотки непреклонности; самим тембром голоса она как бы терпеливо внушала звонящему, что ему не следует настаивать, потому что это невозможно — в перегруженный делами день беспокоить наркома обороны. — Так, введите меня в курс дела, сообщите, что за вопрос у вас…
Вопрос? Неужели все то, что неожиданно обрушилось на него, что происходит с ним, можно втиснуть в это отдающее холодом казенщины слово?! Досада, глухая волна гнева медленно, неудержимо захлестывала его. Спокойнее, спокойнее, — успокаивал себя Хаджумар. — Стыдись, ведь ты научился усмирять чувства, скрывать их… «Но ведь я среди своих, — возразил он сам себе: — Я оскорблен, унижен. И неясно, за что? Речь идет, по меньшей мере, о смысле жизни, если не самой жизни, а для секретарши это всего лишь очередной вопрос…» Хаджумар слышал, как это начиналось у других, еще более безобидно, чем у него, обволакивающе безобидно, а потом уже ничего нельзя было воротить…
Как же поведать, что происходит с ним? Он ведь сам не может разобраться, что случилось и по какой причине. Ясно, что беда. Может быть чей-то злой навет. Но как все это рассказать секретарше? Вряд ли поймет… Исповедь его наверняка ее насторожит, и тогда не дождаться ему разговора с Ворошиловым. Но надо убедить ее доложить Клименту Ефремовичу о нем, всего лишь доложить, что звонит Хаджумар Мамсуров и просит выслушать его. Хаджумар был убежден, что важно доложить, а уж нарком обязательно поднимет трубку. На него вся надежда, только он мог вмешаться, разобраться и восстановить справедливость. Хаджумар последние дни только и делал, что висел на телефоне, он и не подозревал, как трудно застать в кабинете наркома, который постоянно инспектирует части, посещает объекты, проводит в зале совещания…
— Чего ж вы молчите? — спросила секретарша: — Я хочу вам помочь, но для этого мне нужно знать, в чем ваши затруднения…
Теперь другое слово, безобидное — затруднения. Если бы у Хаджумара были лишь затруднения, то он в наркомат страны не обращался бы. Он продумал, что и как скажет Клименту Ефремовичу… Он понимал, как важно попасть к нему на прием.
И вот теперь и эта надежда рушится из-за упрямства секретарши… Кто бы помог ему организовать встречу с наркомом?
И тут он вспомнил Жору Попова, который двумя годами раньше окончил их училище, и которого отозвали в распоряжение наркома, помощником которого он и стал. Несмотря на разницу в возрасте, Хаджумар и Жора сдружились за год совместной учебы. Оба они увлекались джигитовкой, оба были быстры на подъем, любили щегольнуть своим военным одеянием и сверкающим оружием, у обоих была масса поклонниц, тащивших их на танцы в клубы красноармейцев, и оба были молоды, коща парни легко сходятся… Хаджумар попросил секретаршу:
— Пригласите Попова — он должен меня помнить…
И чудо свершилось. Через минуту в трубке зазвучал низкий голос Попова:
— Попов слушает.
— Ты, Жора? — невольно вырвалось у Хаджумара.
— Я, — начал спокойным голосом Попов и вдруг взревел: — Наконец-то, джигит, догадался позвонить! Или девушки по-прежнему отнимают все твое время?..
От его шутливого голоса полегчало на душе, но, слушая друга, Хаджумар гадал, знает или не знает Жора о беде, случившейся с ним…
— Я хочу тебя видеть, — заявил Попов: — Когда встретимся?
Хаджумар задумался. Не знает Жора о его беде… И Хаджумару хочется встретиться с другом, но в этой ситуации лучше не подводить отличного парня. И Хаджумар суховато сказал:
— Я позвонил, потому что мне нужно переговорить с Ворошиловым. Нужно. Необходимо. Понимаешь?
На том конце провода умолкли. Хаджумар с трепетом вслушивался, боясь, что в ушах сейчас задребезжат частые гудки. Наконец, помощник заговорил, и теперь голос его звучал деловито:
— Случилось что?
— Случилось, — невольно вздрогнул Хаджумар.
— Очень плохо? — тихо раздалось по ту сторону провода.
— Боюсь, что да… — признался Хаджумар и пояснил: — Если меня не допускают до моего кабинета…
Теперь пауза длилась с минуту. Хаджумар поежился. Да, конечно, своим звонком он поставил Попова перед сложной дилеммой: с одной стороны, ему хочется помочь, но с другой стороны, — какие у него гарантии, что давний знакомый не подведет. Молчит Жора. Колеблется? И Хаджумар резко спросил:
— Мне положить трубку, товарищ помощник наркома?
— Погоди, дай прикинуть, когда у него найдется десять минут, — раздался спокойный голос Жоры, и послышался шорох бумаги: помощник листал блокнот.
У Хаджумара в горле перехватило дыхание, — не все еще потеряно. Есть шанс встретиться с наркомом.
— Ты знаешь, все расписано, — вздохнул Жора, и Хаджумару вновь показалось, что Попов искал отговорку, но тут помощник снова заговорил: — Я сейчас зайду к нему. Ты не клади трубку…
Дядя Саханджери постоянно твердил Хаджумару, что вся жизнь состоит из препятствий, которые необходимо преодолевать, впереди у него будут разочарования в людях, потому что, к сожалению, при опасности не все сохраняют верность дружбе. Знал Хаджумар и другое: не всегда правда торжествует, потому что подлость живуча и ее черная краска порой перечеркивает все светлое, что есть в человеке. Хаджумар не считал себя слабым и трусливым, был готов к тому, что судьба устроит ему сердитую проверку на силу и волю. Но разве сравнишь ситуацию, когда ясно видишь врага, с тем положением, в котором оказался? Никто тебя не клеймит, не бросает тебе обвинения, вроде и обижаться не на кого. И ты часами сидишь за разбором шахматной партии Ласкер — Капабланка, почитываешь книжку на английском языке, слушаешь музыку, несущуюся из патефона… Но мысли твои далеки, душа неспокойна, взгляд твой прикован к телефону… Ты понимаешь, что кто-то играет твоей судьбой, где-то притаился враг. Но он безлик. Его трудно угадать, потому что он рядится в твой же мундир, мыслит твоими же категориями, обозначающими такие ясные понятия, как социализм, правда, принципиальность, гуманность, бдительность… Он сидит с тобой в одном здании, в перерыв спускается, подобно тебе, в полуподвальное помещение, чтобы поиграть в бильярд, он вместе с тобой аплодирует известной певице, обсуждает на собрании текущий момент, разгадывает происки фашистов… И все-таки он враг, ибо мыслит иначе, чем ты, Трактует термины на свой лад… Он не бдителен — полон подозрений… И если даже он искренен в своей мнительности, — он враг, потому что несет вред. Но как разоблачить его, ведь он твердит не о подозрительности, а о бдительности?.. И как найти ту грань, что отделяет второе от первого?
Ожидая, что Попов вновь возьмет трубку, Хаджумар не сразу понял, что голос, раздавшийся в трубке, принадлежит самому наркому. От неожиданности он едва не забыл поздороваться…
— Как же я не помню тебя, кавказского красавца? — гудело в трубке. — Только весомая причина заставила такого скромника, как ты, позвонить мне. Выкладывай свое дело, — нарочито грубовато, чтоб вселить в Хаджумара уверенность, сказал нарком, и, почувствовав, как замялся Мамсуров, спросил: — По телефону неудобно?
— Как прикажете, товарищ нарком, — неуверенно отозвался Хаджумар.
— Ясно, — уловил в его голосе нерешительность Ворошилов, и Хаджумар услышал невнятный голос Попова, что-то сообщавшего наркому: — Значит надо встретиться, и не откладывая. Сделаем так. Знаешь, какое событие состоится завтра в Доме союзов?
— Знаю…
— Там мы и встретимся, в первом перерыве, который начнется через два часа после начала. Значит, без пяти двенадцать будь в комнате, что за кулисами.
— Там наверняка строго будет на проходе… — засомневался Хаджумар.
— Конечно, строго, — подтвердил нарком, — но Попов все уладит, будет у тебя пропуск. Ну, крепись, джигит.
— Отчество у тебя мудреное, — услышал Хаджумар голос Попова. — Ты уж напомни…
…На подступах к площади Свердлова толпился народ, и милиционеры пропускали только тех, кто имел на руках пропуск. Хаджумар попросил к себе старшего и объяснил ситуацию:
— Пропуск на проходе в подъезде…
Посланный милиционер возвратился и подтвердил, что пропуск имеется.
В фойе Дома союзов стояли дежурные с красными повязками на левом рукаве да выглядывали из-за стоек гардеробщики. «Одни мужчины», — подивился Хаджумар, привычка все необычное подмечать и здесь сработала.
В комнате, куда проводил дежурный Мамсурова, стоял широкий и длинный стол с аккуратно разложенными стопками бумаги на случай, если кому-то из членов президиума нужно будет готовиться к речи. Круглый столик в углу заставлен бутылками с лимонадом и минеральной водой. Хаджумар позже не одну сотню раз бывал здесь, на разного рода совещаниях и заседаниях, съездах и конференциях, — и всегда, даже спустя четыре десятка лет, эта комната с дубовыми столами и стульями с высокими спинками выглядела все так же.
— Вы желаете подождать здесь или пройдете вовнутрь? — показал на дверь в глубине помещения дежурный.
— А как предписано? — спросил Хаджумар.
— Вам следует быть там, — сказал дежурный и пояснил: — В перерыве все члены президиума выйдут со сцены сюда… — он зыркнул глазами на Хаджумара, в его взгляде было любопытство — кто этот офицер с насупленными черными бровями и почему ему оказана такая честь — быть здесь, в святая святых? — И вы понимаете… — Он замялся.
— Я понимаю, — спокойно, без тени обиды вымолвил Хаджумар.
Внутренняя комнатка была маленькой, — здесь помещались лишь четыре кресла да круглый стол. Небольшое окошко выходило во двор, тихий и пустынный…
— Я вас оставляю, — сказал дежурный…
Хаджумар, стоя у окна, медленно повторял фразы, которые хотел произнести. Сперва он выскажет благодарность за то, что нарком нашел время его выслушать, потом коротко пояснит, что с ним происходит, и попросит поверить ему, что… Да что? Поверить во что? В его верность народу, в его надежность? Но разве это и так неясно? А произнося эти слова, чувствуешь себя так, точно свалился с другой планеты… Но что тогда он, Хаджумар, просит? Чтоб его допустили до служебного кабинета?..
…Вначале послышался шум отодвигаемых стульев: это поднялись с места члены президиума. Хаджумар уловил глухо доносившийся сюда гром аплодисментов. Потом вдруг совсем близко он услышал голос с характерным грузинским акцентом:
— Как будто все идет хорошо. — Слова растягивались, отчего они получали особую весомость и значимость.
И сразу в ответ раздались одобрительные возгласы:
— Отлично идет!
— И доклад слушался с интересом!
— Сколько раз прерывался аплодисментами!
— Все настроены торжественно.
Гул мгновенно умолк, ибо заговорил опять Он:
— Не будем спешить с выводами. Подождем, послушаем, посмотрим…
Дверь шумно распахнулась, и в комнату порывисто вошел Ворошилов. От неожиданности Хаджумар вздрогнул. Он давно не видел наркома вблизи и удивился, что Ворошилов все так же быстр и легок, точно годы не оставили на нем своих отметин. Из-за спины наркома выглядывал Жора; желая подбодрить Хаджумара, он озорно подмигнул ему. Мамсуров вытянулся, щелкнул каблуками, собираясь отрапортовать. Но нарком улыбнулся и дружески положил ему на плечо руку:
— Так это и есть полковник Ксанти?
— Он самый, — подтвердил Попов.
— Я ведь помню тебя, когда ты был совсем мальчонкой. А теперь… Такими и должны быть красные командиры: крепкими и… неотразимыми! Нарком опустился в кресло, еще раз окинул взглядом сверху вниз фигуру Мамсурова и одобрительно хмыкнул: — Джигит!.. — Вспомнив, какое дело привело сюда Хаджумара, насупился, забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, жестко бросил Попову: — Давай сюда… этого… — губы его презрительно сжались: — Ежова!
Помощник вышел. Ворошилов, точно забыв о стоящем перед ним Хаджумаре, тяжко размышлял о чем-то неприятном. Пальцы его нервно отбивали ритм. Наконец, он вздохнул, отгоняя от себя вызывавшие досаду мысли, поднял глаза на Мамсурова.
— Чего стоишь? — Он кивнул на кресло: — Садись. — Видя, что Хаджумар лишь шелохнулся, но не осмелился опуститься в кресло, приказал: — Садитесь же. — Когда кресло утопило Мамсурова в мягких складках, нарком, испытующе поглядывая на Хаджумара, произнес: — Как-то в один из приездов твоего дяди в Ростов я затащил его на рыбалку. Так он мне все уши прожужжал, твердя, что Дону, Днепру, Днестру, Дунаю наименование дали аланы — предки осетин. Убеждал, что Дунай по-осетински означает: всемирная вода. Так ли это?
— Так, — подтвердил Хаджумар.
— Вспоминая Саханджери, присматриваюсь к тебе — есть в вас нечто такое, что заставляет быть скромными и одновременно уверенными в себе, точно всем хотите внушить: мы знаем себе цену… Твои земляки специально развивают это чувство собственного достоинства или оно в крови у вас?
Хаджумар неопределенно пожал плечами, не зная, что ответить, и поспешно встал, ибо на пороге показался невысокий мужчина. Он быстрым настороженным взглядом окинул наркома и Мамсурова, как бы прикидывая, что его здесь ожидает, и, успокоенный, шагнул в комнату. Подчеркнуто плотно, нажав на дверь обеими руками, прикрыл ее, вытянув шею, прислушался, не различимы ли здесь голоса, раздающиеся в соседней комнате. Убедившись, что в общем гуле ничего не разобрать, Ежов довольно улыбнулся и посмотрел на наркома, точно ожидая похвалы за такую предусмотрительность, ибо в помещении находился посторонний человек, которому не следует слышать то, о чем говорят члены правительства. Он явно страдал из-за малого роста и, чтобы как-то скрасить его, носил туфли на широкой подошве.
— Садись, — коротко бросил нарком.
Ежов аккуратно опустился в кресло, выпрямил стан.
— Ты… сел? — в гневе всем телом обернулся к нему нарком.
Ежов недоуменно посмотрел на него и торопливо встал.
— Вы предложили сами, — напомнил он.
— Не ТЕБЕ! — оборвал его нарком. — Не тебе! — и кивнул оторопевшему от такого поворота разговора Хаджумару: — Я предложил сесть тебе. Занимай свое место, Хаджи.
Мамсуров не верил своим ушам. Неужели это и есть тот самый Ежов, чье имя произносится шепотом, с оглядкой? Чья зловещая тень маячит повсюду, вызывая у людей реакцию, близкую к страху? Казалось, власть его беспредельна, поступки бесконтрольны. И вдруг с ним говорят таким тоном! При нем! Если у Ежова до сих пор не было серьезной причины преследовать Хаджумара, то теперь есть: ведь это он, Хаджумар, стал и поводом резкого нагоняя и очевидцем его. «Может, мне уйти», — подумал Хаджумар и обратился по-военному:
— Товарищ маршал, разрешите выйти?
Нарком сердито повел бровью, жестко скомандовал:
— Садитесь!
Хаджумару было неловко, он не смел взглянуть на Ежова, мгновенно выпрямившегося, прижавшего 7— по уставу! — руки к бедрам, евшего глазами лицо маршала.
— Вот так, — удовлетворенно сказал нарком и, кивнув на Хаджумара, спросил Ежова: — Знаешь его?
— Я обязан знать всех, кого направляют за кордон, — охотно ответил Ежов, не скрывая гордости за четко поставленнуюинформацию в его ведомстве. — Это племянник врага народа Мамсурова.
«Врага народа» — слова больно ударили по Хаджумару.
— Кого-кого? — не дал договорить Ежову нарком.
— Врага народа, — упрямо опустил голову Ежов.
Нарком опять резко прервал его:
— Человек, которого ты назвал врагом народа, принимал активное участие в революции и гражданской войне. Я с ним не раз. встречался. Не один раз! Тебе это известно?
— Я досконально изучаю биографии людей, с которыми имею дело, — холодно блеснул глазом Ежов. — Саханджери Мамсуров осмелился бросить тень на самого товарища Сталина.
— Это как же?
— Выступая перед активом, он посмел заявить, что товарищ Сталин приглашал его посоветоваться по национальному вопросу, — у Ежова задрожали губы от негодования. — Представляете?! Товарищ Сталин нуждался в том, чтобы пригласить дядю этого офицера посоветоваться! Самобахвальства-то сколько! В президиуме нашелся человек, который ужаснулся сказанному и подсказал Мамсурову, что это не товарищ Сталин приглашал его советоваться, а он, Саханджери, просил товарища Сталина принять его и помочь разобраться в возникших проблемах. И знаете как повел себя этот упрямец? Ему бы внять рассудку и воспользоваться появившимся шансом отвести от себя обвинение. А зазнавшийся Мамсуров побагровел, с размаху ударил кулаком по трибуне и громогласно заявил: «Нет! Не я просился к товарищу Сталину, а он вызвал нас, нескольких нацменов, чтобы услышать наш совет!»
Хаджумар вздрогнул. Да, этот поступок его дядя мог совершить. Он в духе его порывистого, нетерпеливого характера. Так, наверняка, и было… Дядя, дядя, что же ты натворил?..
— Разве этот факт не говорит сам за себя? — повысил голос Ежов. — Разве налицо не типичный пример перерождения личности? И разве я имел право бездействовать?
— Ну, а как все-таки было на самом деле: встречались друг с другом товарищ Сталин и Саханджери Мамсуров? — уточнил Ворошилов.
— Да, встречались, — нехотя признался Ежов.
— И кто был инициатором встречи?
— Вождь, — сорвалось с уст Ежова, но он тут же спохватился: — Но это ничего не значит. Есть факты, которые не подлежат огласке, тем более в такой форме, какую избрал Мамсуров. По его словам выходит, что товарищ Сталин не всегда сам принимает решения. Что он нуждается в советах! Но мы знаем, что это не так! Товарищ Сталин, все видит и все знает! А Мамсуров бросил на него тень…
Нарком, не сводя взгляда с Ежова, медленно произнес:
— Не пойму, чего в тебе больше: глупости или ненависти к людям? Откуда это у тебя, Ежов?
— А разве я не прав? Разве товарищ Сталин?..
— Прекрати своим паршивым языком трепать это имя! — прервал его нарком. — Что-то фальшиво звучит твой голос… Невольно приходит мысль: мусоля этот случай, не пытаешься ли ты сам бросить тень на товарища Сталина?.. — Зловещие нотки прозвучали в голосе Ворошилова.
Ежов оторопел:
— Как это?
— Мне кажется, ты с радостью смакуешь мысль, что товарищу Сталину тоже потребовался совет другого человека…
Хаджумар поежился — ему не нравилось, что поклеп с его дяди нарком пытается снять не доказательством его правоты, а таким примитивным приемом, обвиняя в злом умысле Ежова, — обвиняя без приведения фактов, только такими домыслами. Он удивленно глянул на Ворошилова. Но на лице того не было и тени сомнения в своем праве на подобный ход.
Ежов вдруг мгновенно побледнел.
— …И ты нарочно распространяешь нелепые слухи, Ежов! — гремел голос наркома. — Зачем тебе это надо?
— Это неправда, — пролепетал Ежов.
— Я — и неправду?! — гневно воскликнул Ворошилов. — Ты это хочешь сказать?
— Простите, я неточно выразился.
— Почему я должен прощать тебя? Ты даже не представляешь, что Саханджери мог элементарно выйти из себя. Ведь он из тех, кто смотрел смерти в глаза, кто ходил в штыковую атаку. Они бесхитростны, говорят что думают. Он просто сказал, как было. Понижать таких людей надо. Но ты видишь врагов там, где их нет… Печально…
Не сводя глаз с наркома, вытянувшись как струна во весь свой жалкий рост, Ежов теперь не выглядел зловещей и всесильной фигурой.
Из-за двери послышался глухой голос, с характерными интонациями и знакомым акцентом. Оттого ли, что в соседнем помещении находится человек, чей облик гипнотизирующе действовал на каждого независимо от возраста, профессии и национальности, действовал безотказно, ибо все верили, что он непогрешим, то ли от несоответствия того, каким из газет и рассказов представлял себе Хаджумар этих двух известных всей стране людей, и тем, как они вдруг ему открылись, то ли оттого, что, наконец, выяснилась причина его страданий, оказавшаяся невероятно нелепой, — Мамсурову стало казаться, что все, происходящее сейчас на его глазах, нереально, не могло случиться в самой жизни… Жесткий тон наркома возвратил его к действительности:
— Ладно, Ежов, о тебе разговор впереди. А сейчас вот что, — нарком перегнулся через ручку кресла и указал рукой на Хаджумара: — Всмотрись в него внимательнее. Запомнил? Так вот, если с головы этого человека упадет хоть один волос, — тебе не сносить своей! — гнев душил Ворошилова, голос то и дело срывался. — Ты будешь иметь дело со мной… А меня ты знаешь. Я слов на ветер не бросаю… Уяснил? Забудь, чей он племянник…
От наркома, который в представлении людей был спокойным, рассудительным и добрым, повеяло зловещим холодом. Судя по тому, как сжался Ежов, он знал о нем нечто такое, что даже этого типа, явно повидавшего немало отвратительного, заставило содрогнуться. Стараясь успокоиться, нарком постучал в нервном тике костяшками пальцев по подлокотнику кресла и резко скомандовал:
— Кругом!..
И когда Ежов, повернувшись, шагнул за порог и осторожно закрыл за собой дверь, Ворошилов тихо добавил:
— Ошиблись мы в нем, сильно ошиблись…
Это было сказано в расчете на Хаджумара, чтобы он услышал и запомнил.
— Извините, — растерянно развел руками Мамсуров. — Из-за меня такой нервный разговор…
— И какое теперь у тебя отношение к Саханджери? — неожиданно спросил нарком.
— Как и прежде: с уважением, — сверкнули глаза у Хаджумара.
Теперь нарком смотрел на него тем же пронзительным взглядом, который, казалось, проникал до самого нутра человека.
— Смотри, не сделай для себя скоропалительных выводов, — предупредил он. — Подонки воспользовались неосторожностью Саханджери. Но это не значит, что Советская власть виновата. Время жесткое, нам как никогда надо быть спаянными. Никто не смеет терять веру в нашу цель, в торжество наших идей.
— Я знаю, что Советская власть не виновата, — выдержал взгляд наркома Хаджумар.
— Это надо точно усвоить, Хаджумар, — убеждая, повторил нарком. — Нельзя, чтоб обида недоверием обернулась. Да и следует точно знать, на кого обижаться.
В комнату вошел Попов, встревожено всмотрелся в лица наркома и Хаджумара, почтительно обратился к Ворошилову:
— Товарищ маршал, президиум уже занимает свои места.
Нарком резко поднялся, привычно поглаживая складки рубашки, провел ладонями вдоль широкого пояса.
— Да! Пора идти… — и уже на пороге обернулся к Попову: — Твоего протеже никто не тронет… Втолкуй ему, что в его интересах не распространяться о состоявшемся здесь разговоре с Ежовым… Отвечать будешь ты!..
Нарком закрыл дверь…
— Спасибо, друг, — сказал Хаджумар и вдруг порывисто шагнул к Попову, обхватил руками, прижался щекой к его плечу…
— Ну что ты, Хаджи?.. — растроганно произнес Жора и успокаивающе похлопал ладонью по спине Мамсурова.
Хаджумар отстранился, отвел глаза в сторону, тихо признался:
— Не представляешь, как тяжело, когда не смотрят тебе в глаза… — И с беспокойством спросил: — Что с моим дядей?..
— Погиб он, Хаджи, погиб… — печально сказал Попов…
…Так встретили Хаджумара — полковника Ксанти — дома…
Глава 8
Гете положил трубку на рычаг телефона, выпрямился в кресле и внимательно посмотрел на Кильтмана…
— Вам к лицу эта форма! — воскликнул Гете.
— Испанская кампания дала мне опыт и… генеральские погоны, — сказал Кильтман и добавил: — Я помню, кому этим обязан.
Но Гете энергично прервал его:
— Не благодарите — не люблю. Четкое выполнение очередного задания — вот лучшая благодарность. И я жду его!..
— Слушаю вас, господин генерал, — щелкнул каблуками Кильтман.
— Вы знаете личный приказ фюрера — постоянный поиск и арест коммунистов и особенно их главарей, на след которых мы напали, но они ушли из-под контроля. Разом, в один день. В нескольких европейских странах. Исчезли. Они действуют сообща, и нетрудно догадаться, куда они направляются. — Он подошел к карте на стене и ткнул пальцем в сторону Москвы.
— Есть другой ориентир — Лондон, — сказал Кильтман.
Гете усмехнулся, дав понять, что его предположение страдает наивностью.
— Исключается. Когда речь идет о коммунистах — и Лондон на нашей стороне. — Услышав звонок телефона, быстро направился к столу, поднял трубку, нетерпеливо спросил: — Никаких известий? Я жду, — и опять направился к карте. — Мой расчет верен: где-то здесь, — он провел рукой вдоль границы Советского Союза, — где-то здесь, господин генерал, вы должны их схватить.
— Почему я? — возмутился Кильтман. — Я кадровый военный, а не жандарм.
Гете предвидел его реакцию — ничуть не удивился, прошел к столу, произнес:
— Знаю: вы предпочитаете открытый бой. Я тоже. Но времена Александра Македонского и Аттилы давно прошли. Война перестала быть уделом одних военных. Теперь сражения ведутся не только на поле брани.
— Каждому свое. Бульдог не станет охотничьей собакой.
— Надо не только выследить дичь, но и завладеть ею, — назидательно произнес Гете. — И тут крепкая бульдожья хватка не помешает. — Гете неожиданно наклонился к нему, сменил тон: — Пауль, одержать победу в сражении — почетно. Но врага, лишенного вождей, можно покорить без боя. Отдать эту славу жандармам? Нет! Тот, кто их схватит, достоин Железного креста.
Опять зазвонил телефон. Гете лихорадочно схватил трубку.
— Напали на след? Где? Сколько? Препровождают на заставу? Вылетает генерал… Кильтман. — Довольный, он бросил трубку, отчеканил сурово: — Они попались! Машина у ворот. Одиннадцать минут — и вы на аэродроме! Лететь три часа сорок семь минут! Дадим на путь от аэродрома до заставы союзников ну, скажем, три часа. Вас будет сопровождать Шульц, один из моих лучших офицеров. Я жду вашего звонка через семь часов. Спешите, генерал! Я засекаю время!
* * *
Квартира Хаджумара была обставлена так, что сразу можно было определить: здесь проживает холостяк. Стол, диван, стулья — вразброд, застыли там, куда их поставили носильщики. На окнах отсутствовали занавеси. Никаких ковров и картин. На стене висела старенькая, почерневшая гитара. Да, та самая, что прошла многие пути дороги по Испании вместе с Гарсиа. В углу стояли два все еще упакованных кресла — одно на другом. На столе свалены свертки.
Прозвучавший дверной звонок застал Хаджумара на кухне. Хаджумар сорвал со спинки стула китель, одел его и, на ходу застегивая пуговицы, направился в прихожую. Он знал, что это ОНА, и торопливо открыл дверь. На пороге стояла Лина. Она смотрела на Хаджумара и смеялась, сконфузив его. Если бы она знала, какой сюрприз он ей приготовил!
— Вот куда ты забрался! — воскликнула она. — Еле нашла… Все собрались?
— Ты первая.
Она застыла на пороге комнаты и улыбнулась:
— О-о, у тебя неплохо. — Он уловил в ее словах легкую насмешку. — Уютно. Занавески с видом города. Хорошо подобранная к обоям мебель. Это склад кресел? Здесь случайно нет тола?
Хаджумар шутливо предупредил:
— Если гостья не перестанет бранить хозяина, он взорвет квартиру и… хорошо подобранную к обоям мебель без всякого тола.
— Один ноль? — усмехнулась она.
— Сдаюсь, — шутливо поднял он руки.
Лина вдруг выпрямилась и скомандовала.
— Стоять и не двигаться с места! — Палец, точно дуло пистолета, был приставлен к груди Хаджумара. — Или вы немедленно скажете, по какому поводу вы сегодня устраиваете… как это по-осетински? Кувд! Или…
— Или? — попытался он обнять ее.
— Опустите руки! — с шутливой суровостью ответила она. — Обниматься в такой обстановке! Да я перестану уважать себя! — Она закатала рукава. — Камарада советник! Слушайте мою команду! Ориентир — гостиная, цель — привести в порядок, время — до прихода гостей. Присту-пай! — И замурлыкала популярную в те времена песню: — «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…»
Глядя, как Лина порхала по комнате, он растроганно думал: «Вот так впредь и будет». Именно ее и не хватало в его холостяцкой квартире, которая на глазах стала преображаться.
— Занавесей нет, но зато есть торшер — последний крик моды! — Лина задорно оглянулась на него. — Камарада советник! Что с вами? Вы мне еще не ответили, в честь чего кувд.
Хаджумар враз посуровел, произнес:
— Будет объявлено о свадьбе.
Она смутилась; желая скрыть свое замешательство, деловито подступила к креслу:
— Помоги-ка мне вытащить эту тяжелую артиллерию на оперативный простор.
Он обхватил кресло руками, потащил на середину комнаты.
— Куда, куда ты его тянешь? — ужаснулась она.
— Поближе к столу, — ответил он.
— О-о святая Мария! — ахнула она. — Такие кресла и к такому столу! Они должны стоять отдельно, украшать твою гостиную… Вот так. А рядом будет красоваться торшер. — И вдруг внезапно, чуть не шепотом спросила: — О чьей свадьбе?
Он помедлил, колеблясь, сказать напрямик или сперва подготовить ее, и наконец ответил просто, точно объяснение у них давно состоялось и решение скреплено твердо и навечно:
— О нашей.
Она ждала этого, но когда услышала — растерялась и, будто не придала его словам особого значения, задумчиво произнесла:
— Сюда бы еще журнальный столик.
Он уловил в ее голосе напряженность и, догадываясь, что ей не по себе, торопливо и даже радостно воскликнул:
— А столик есть!
— Где?
— На кухне.
— А что он там делает?
— На нем хорошо гладить.
— О аллах! — в негодовании воскликнула она, предчувствуя, что ее в этом доме поджидает немало еще неожиданностей. — Твои дороги неисповедимы! Сделай так, чтобы журнальный столик оказался перед этими креслами…
Он круто повернулся, нырнул в дверь на кухню, через мгновение возвратился со столиком и со стуком приставил его к креслам:
— Аллах снизошел до твоей молитвы, женщина, — и смущенно признался: — В первый раз все приказы выполняю.
— И все ради кувда, на котором будет объявлено о… — она пристально посмотрела ему в глаза, — о чьей свадьбе? О нашей?
— Да.
Она шутливо протянула руки к потолку:
— О святая мадонна! Переводчица камарада советника выходит замуж, а я ничего не знаю.
— Я серьезно.
И тут сказался южноамериканский темперамент Лины. Обернувшись к нему, яростно закричала:
— А кто вам, камарада советник, сказал, что я собираюсь замуж?
Он растерялся от такого наскока, смущенно пробормотал:
— Лина…
— У вас на Кавказе согласия девушки не спрашивают? — прервала она его и решительно заявила: — Я ухожу!
Она видела, что ему стало не по себе, ибо он наверняка не ожидал такой реакции… Но на что другое он мог рассчитывать, заранее не согласовав с нею свои намерения? У порога Хаджумар ухватил ее за руку, обнял за плечи:
— Лина…
— Отпустите, — вырвалась она. — Я ухожу! Как вы смели без меня за меня все решить?
Он решительно встряхнул ее, резко заявил:
— Свадьбу сыграем в воскресенье.
— В воскресенье? — возмутилась она. — С ума сойти! Осталось два дня, а надо сшить платье, купить туфли. Да все надо! Нет! Я ухожу! — И стала вырывать руку.
— «Друзья, мы пригласили вас, чтобы сообщить вам о нашей свадьбе», — объявишь ты, — вновь встряхнув ее, сказал он.
— Я объявлю? — опять возмутилась она. — Нет, это ты объявишь!
— Хорошо, я, — улыбнулся он.
Улыбка успокоила ее. Но все-таки она упрямо произнесла:
— А если я не хочу за тебя?
И тут вскипел он:
— Ах, не хочешь! — Он не только отпустил ее руку, но еще и сам подтолкнул к двери. — Можешь идти!
— Идти? — Глаза ее сузились в гневе. — То есть как? — И вдруг ее ноздри затрепетали. — Чем-то пахнет.
— Несбывшимся счастьем! — парировал он.
— Горелым, — возразила она.
— Мой шашлык! — спохватился он и бросился на кухню.
Он очень гордился тем, что у него был один из лучших в Москве — по его, естественно, определению — мангалов и что ему удается делать в типичной московской квартире такие же шашлыки, какие пробуешь только в горах Кавказа. И вот теперь так опростоволоситься! Он торопливо срывал с шампуров обгорелые куски мяса и нанизывал на них новые — к приходу гостей он должен обязательно приготовить превосходный шашлык! Честь горца была под угрозой. Когда раздался звонок, он, не отрываясь от своего занятия, крикнул Лине:
— Принимай гостей!
— Вот так, — сказала сама себе Лина. — Только дашь согласие стать женой — и уже приказы. По доброй воле становишься рабыней.
Конечно же, он, и только он, Гарсиа, должен быть первым из гостей в этом доме. Он стоял на пороге и широко улыбался. Увидел Лину, глаза его еще сильнее заблестели, и он шутливо спросил:
— Здесь живет знаменитый испанский тореадор?
— Его ищет известный матадор? — в тон ему воскликнула Лина.
И тут она заметила за его спиной девушку. Стеснительная, она совсем зарделась под любопытным взглядом Лины.
— Я не один, — поспешил сообщить, увы, с опозданием, Гарсиа.
— Входите в комнату, — посторонилась Лина.
Увидев выглянувшего из кухни Хаджумара, девушка совершенно растерялась, однако сумела сообщить:
— Я Наташа… Здравствуйте!
Гарсиа закричал:
— Ксанти! Как давно я тебя не видел! — Он обернулся, указал девушке пальцем на Хаджумара. — Наташа, это…
— Я вас знаю, — торопливо перебила его Наташа. — Мне Гарсик о вас столько рассказывал!
— Гарсик? — усмехнулась Лина.
— Это я, — пришел на помощь смутившейся девушке Гарсиа и гордо поглядел на Хаджумара и Лину. — Красивая, а?
— Красивая, красивая, и очень молодая, — успокоил его Мамсуров.
— За некрасивой испанец ухаживать не станет, — тотчас же заявил Гарсиа. — Закон!
— По законам стал жить, анархист? — спросил Хаджумар и подмигнул девушке: — Ваша заслуга?
— Чего мы стоим? — спросила Лина. — Гости прибыли, а стол еще не накрыт. — Она стала разворачивать свертки. — Колбаса… Сыр… Вино… Коньяк… Вино… Колбаса… Шампанское… Колбаса… Опять колбаса… Полковник Ксанти, у вас испортился вкус.
— Там есть и другое, — махнул в сторону кухни Хаджумар.
— Тогда нам с Наташей надо туда, — обняла за плечи девушку Лина. — Вы мне поможете?
— Понравилась? — нетерпеливо спросил Гарсиа у Хаджумара.
— Понравилась, — кивнул головой Мамсуров.
— Я на ней женюсь, вот увидишь, — пригрозил неизвестно кому Гарсиа.
— Верю, — засмеялся Хаджумар.
Гарсиа глубоко вздохнул:
— Наконец-то ты вернулся! Поговорить надо… Я училище закончил, экзамены на отлично сдал. — И вдруг резко закричал: — Но меня никуда не посылают! Никуда! — Он схватил за рукав Хаджумара, просительно заглянул к нему в глаза. — Возьми меня с собой, а? Ты же часто уезжаешь… на Дальний Восток.
Мамсуров попытался перевести разговор на другую тему:
— Соскучился я по тебе, по песням твоим. — Сняв со стены гитару, подал ее Гарсиа.
— Ясно, — с огорчением произнес Гарсиа. — Молчу. — Он перебрал струны, поставил ногу на стул. — Я спою твою любимую. Лорку!
Он играл, а Хаджумар, вытянувшись в кресле, слушал с явным наслаждением и размышлял: «Гарсиа, Гарсиа, как я рад, что ты здесь, рядом… Полюбил я тебя, чертов анархист… Взять тебя на задание? Рано. Тяжело тебе будет. Уж больно ты горяч. А там ведь терпение требуется… Просишься? Любимая спросит — куда? А адреса — нет. В командировку — и все. И биографии — нет. Она появляется через век-другой после смерти разведчика… Так что ты уж не спеши. Огня хватит. Видел, что там творится? Скоро, уже скоро придется менять гитару на автомат».
Гарсиа поднял голову от гитары:
— Камарада полковник, ты во многих странах был — красивее моей Испании видел?
— Соскучился?
— По ночам снится, — огорченно покачал головой Гарсиа и вновь заиграл-запел.
«А мне снится моя Осетия», — сказал себе Хаджумар.
Гарсиа опять посмотрел на него:
— Когда ты исчезаешь на долгие месяцы, я не нахожу себе места… Скажи, ты в Испании больше не бывал?
Да, Гарсиа все-таки еще мальчишка. Знает, что нельзя подобные вопросы задавать, а не выдерживает.
— Я бываю на Дальнем Востоке, — сказал он значимо. — На нашем советском Дальнем Востоке.
Пришел Корзин. Увидели его, когда он уже вошел в комнату и заявил:
— Двери нараспашку — всех принимаете, что ли? Здравствуйте, Гарсиа!
— Здравия желаю, товарищ генерал! — оставив гитару, вытянулся бравым офицером испанец.
— Усвоил устав, — засмеялся Корзин.
Из кухни послышался голос Наташи:
— Гарсик, иди сюда!
— Женщинам без меня не обойтись, — пожал плечами Гарсиа и исчез за дверью.
— Извини за опоздание, — сел напротив Хаджумара Корзин и многозначительно посмотрел на него. — Ждал известий… Хочу посоветоваться.
Мамсуров подождал, но Корзин нерешительно замялся, и тогда Хаджумар пришел ему на помощь:
— Они не… пришли?
— Оттуда вышли — до нас не дошли, — вздохнул Корзин.
— Ясно, — промолвил Хаджумар. — Что же вы предлагаете?
— Я получил задание через час отправить на границу верного человека, который мог бы действовать на месте, судя по обстоятельствам. Мне было сказано коротко и ясно. — И он, подражая, повторил фразу с заметным акцентом: — «В настоящее время осложнения со странами гитлеровского блока весьма нежелательны… Но, с другой стороны, история, человечество нам не простят, если мы оставим в руках фашистов лучших сынов народа…» — Помолчав с минуту, он прямо спросил Хаджумара: — Кого послать? У меня есть несколько кандидатур. Одна из них…
И тут Мамсуров заученно произнес:
— Разведчик после задания два месяца не должен думать ни о чем другом, кроме как о рыбалке да еще — если невмоготу — о футболе. Нервы — вот что надо беречь. Чьи это слова, Иван Петрович?
Корзин гадал, всерьез ли он говорит или шутит. Не уточнив, сказал:
— Я не меняю свои правила, но если нарушаю их, то… А-а, сам понимаешь…
В комнату вошли Лина, Наташа, Гарсиа с тарелками в руках.
— Иван Петрович! Здравствуйте! — искренне обрадовалась ему Лина.
— Здравствуйте, Лина, — поднялся он и, увидев Наташу, развел руками: — А это что за… детский сад?
— Наташа, — представила ее Лина и кивнула на Гарсиа: мол, вот кто ее нашел.
— Будем знакомы, Наташа, — подошел генерал к ней, но Наташа обиженно и гордо подала руку, едва глядя на него. Корзин усмехнулся, потянул воздух: — Как вкусно пахнет!
— У меня к этой закуске что-то есть, — заспешил Гарсиа. — У дверей оставил.
Наташа попросила Лину:
— Научите меня готовить испанские блюда.
— Ой, забалуешь ты своего анархиста, — засмеялась Лина.
— Я научу тебя испанским блюдам. И еще осетинским, — заявил Хаджумар. — Особенно одному — фыдчин называется. Это пирог с мясом. Чудесный вкус… Но — чур! — встречать меня этим блюдом.
Не выдержав, Корзин кивнул ему на балкон:
— Выйдем на минутку…
— У меня отпуск, — засмеялся Хаджумар. — Отпуск! И мы за столом! Эй, Гарсиа, где ты?
Гарсиа появился высоко держа бутылку в руках:
— Амиго! Кальвадос! Настоящий!
Лина как заправская хозяйка протянула руку к столу:
— Прошу всех садиться.
Гарсиа, естественно, никому не доверил разливать кальвадос.
— Я рядом с вами, очаровательная Наташа, — заявил Корзин.
— Попробуйте шашлык, — предложила Лина. — Его жарил сам хозяин дома.
Корзин первым осмелился притронуться к шашлыку, заявив:
— Да он же совсем горелый! — пожевав, печально добавил: — Эх, Хаджумар, на тебя это не похоже.
— Это еще ничего, самые горелые куски виновник на. свою тарелку положил, — сказала, смеясь, Лина.
— Первый тост старшему за столом, — привычно закричал Гарсиа и обернулся к Корзину: — Вам быть тамадой, товарищ генерал!
— Называй меня Иваном Петровичем, — попросил Корзин и поднял рюмку, но не успел ничего провозгласить.
— Иван Петрович! — закричала Лина. — Гарсиа! Наташа! Мы с Хаджумаром желаем вам что-то сказать… Очень важное!.. В воскресенье у нас…
Хаджумар поднялся, обнял Лину:
— Прости, милая. Придется перенести.
За столом воцарилась тишина:
— Перенести? Почему? — Лина не сводила с него глаз.
— Видишь ли, мне предстоит командировка.
— Но ты же всего полчаса назад сам… — Она оглянулась на Корзина.
— Значит, ты решил? — спросил тот Хаджумара.
— Вы. считаете, что кто-то другой лучше? Я изучил там каждую тропинку. Как же можно?
— Зачем же тогда?.. — На глазах у Лины появились слезы, не договорив, она вышла из комнаты.
Наташа поднялась с места:
— Я пойду к ней.
Хаджумар жестом остановил ее:
— Не надо — и пояснил: — Она сама справится.
Гарсиа вдруг резко отстранил от себя рюмку. На строгий взгляд Корзина воскликнул:
— Это несправедливо — один все время ездит в командировки, а другие… — Он в отчаянии махнул рукой.
— Ты едешь со мной, — объявил Мамсуров. — Генерал армии не будет возражать, я думаю?
Корзин задумчиво посмотрел на Хаджумара, ответил:
— Генерал армии не возражает.
Гарсиа сорвался с места, обнял Наташу:
— Виктория! Победа! — и строго спросил ее: — Ты меня будешь ждать?
— Тебя так радует наша разлука? — шепотом, чтоб никто не услышал, встревоженно спросила она.
— Любовь после разлуки бывает крепче, — ответил Гарсиа.
Лина пришла, на редкость спокойна. Сказала:
— Начнем, а то все стынет. Иван Петрович, мы вас избрали тамадой и ждем тоста.
— Ну что ж, — поднял бокал генерал. — За удачную командировку Хаджумара и Гарсиа. У меня три пожелания вам: пусть ваши глаза всегда видят небо; пусть ваши уши не услышат вопроса: «Кто вы?» Пусть ваше тело попадает в объятия только ваших любимых… Знайте, Хаджумар и Гарсиа, мы всегда рядом с вами. За скорую встречу! — И он выпил, выпил до дна, хотя пил весьма редко, и ему предстояло поспешить на службу! и он знал, что сегодня ночью и завтра целый день и всю ночь ему вряд ли удастся покинуть кабинет.
— Какой странный тост! — удивилась Наташа.
Корзин весело подмигнул Хаджумару:
— Кавказский!
Гарсиа потянулся через стол к Корзину:
— Товарищ генерал, вашу рюмку! — и прижал бутылку к щеке. — Кальвадос, а!
— Нет, спасибо, — отказался Корзин и поднялся. — Извините — дела! — Он кивнул Хаджумару на балкон. — На минутку…
Сверху открывался дивный вид на ночную Москву. Город шелестел шинами машин, откуда-то доносилась музыка.
— Я пришлю за вами машину, — сказал Корзин. — И не советую увлекаться кальвадосом.
Корзин ушел, Хаджумар остался на балконе.
Гарсиа, проводив Корзина, вернулся. Спросил:
— Нам придется проникнуть на ту сторону?
Мамсуров покосился на него, дивясь, как тот радуется предстоящему опасному испытанию. Молод еще, очень молод, о смерти не думает.
— Придется, — согласился Хаджумар.
— А как мы это сделаем?
— Поможет… давний знакомый.
— Служили вместе?
Хаджумар весело усмехнулся:
— Служили… Вместе… Куда он — туда и я… Он от меня убегал, а я за ним наблюдал.
— Так кто он?
— Контрабандист.
— А-а, — ничего не понял Гарсиа.
— Ох и ловок же! — восхитился Хаджумар. — Так во тьме и растворялся… А границу как знает! Шнырял туда и сюда и летом и зимой. И в дождь и в туман. Ни разу не сбивался. Его так все и прозвали Счастливчиком.
Хаджумар явственно представил себе, как длинная фигура контрабандиста внезапно выныривала из-за кустов к засаде, так что он едва сдерживал свой порыв обрушиться на него, сбить на землю, скрутить руки… Но в который раз Хаджумар вынужден бывал с сожалением проводить взглядом эту сутулую спину с мешком, набитым заграничным барахлом… Счастливчик всегда появлялся на этой стороне внезапно. Он, видимо, настолько хорошо знал тропы по ту сторону границы, что мог пройти незаметно мимо охраны. Это, собственно, и прельстило Хаджумара.
— Так он самый настоящий контрабандист? — удивился Гарсиа.
— Настоящий, — согласился Хаджумар. — И еще какой! Он и сам поверил в свою звезду.
— Вы могли его поймать? Почему же не схватили?
Хаджумару вспомнилось, как однажды, возвращаясь из-за кордона, контрабандист остановился буквально в метре от него. За плечами у него был мешок, в руке щит из фанеры. Этот щит, на котором большими, неуклюжими буквами было написано: «Яблок сорт шампански, казетах пишут: полавина сахар, полавина — мед. Цена как договоримся», был его базарной ширмой. Развязав мешок, Счастливчик вытащил из него бутылку водки, сделал несколько глотков, затем обеими руками взлохматил волосы на голове, небрежно сдвинул набекрень фуражку, опустил воротник плаща, расстегнул верхние пуговицы рубашки, взбил сапоги гармошкой, выпрямился и вздохнул: «Вот теперь уже на своей земле». Закинув мешок за плечо и подняв щит, он зашагал, шатаясь, к селу — ни дать ни взять загулявший человек, возвращающийся с гостинцами от родственников домой. Он даже мурлыкал под нос незамысловатую песенку.
— И он до сих пор занимается контрабандой? — не унимался Гарсиа. — За что ему такая честь от вас?
— Тогда подумал: вдруг да понадобится человек, что так проворен и прекрасно знает тропинки по ту сторону границы, — признался Хаджумар. — Теперь его очередь выручать меня.
— Так вы тогда еще предвидели? — ахнул Гарсиа.
— Ничего я не предвидел, — засмеялся Хаджумар. — Представляю, как мы утречком, еще затемно, нагрянем к нему, в приземистую мазанку на холмике, на краю села. В ее окнах никогда не горит свет, даже когда все знали, что Счастливчик, его жена, мать и двое ребятишек находятся дома. Он будет ошарашен, что уже три года есть у него крестный ангел-хранитель, а он об этом и не подозревал.
— А вдруг он не согласится помочь нам? — засомневался Гарсиа.
— Он захочет облегчить свою судьбу… Пойдем, Гарсиа?
За столом воцарилось напряженное молчание. Наташа, добрая душа, понимая, что Хаджумару и Лине надо остаться одним, сказала:
— Гарсик, помоги убрать посуду.
— Эй, эй! Не рано ли ты начала командовать?
— Рано? Наоборот — поздно! — Она отчаянно кивнула ему на Хаджумара и Лину.
— Выезжаете сегодня? — спросила Лина.
— Вылетаем, — поправил он ее и пояснил: — Иначе нельзя.
Они опять помолчали. — Я не сержусь, — сказала она тихо.
— Я дал тебе повод, — возразил он.
— Ты знал о… командировке?
— Я узнал только что.
Лина подошла, прижалась к Хаджумару.
— У тебя есть… товарищ… Он умеет стрелять, бросать гранаты, владеет конспирацией… Но он… женщина…
— Ничего такого не будет, Лина, — успокоил он ее.
— Помни: я боец… И когда я буду нужна… Ведь женщины выносливее мужчин… Ты же видел…
— Видел…
— Хаджумар, я все понимаю… Войны нет, а борьба идет… И впереди бои… Тяжелые, страшные… Нам друг перед другом нечего хитрить… Мне легче быть там, в опасности, но рядом с тобой, чем здесь — одной…
— Туда нельзя. Но ты будешь там… Со мной! Все время! И это будет мне помогать…
— Камарада советник, ты будешь очень неудобным мужем… Женщины не любят частых отлучек мужей… Но когда я расстроюсь, ты шепни мне одно слово: НАДО… Шепни — ив моих глазах не будет слез…
Он оторвался от нее, посмотрел ей в глаза:
— Лина, надо! Слышишь? Надо!..
— НАДО! — с болью прошептала она. — НА-ДО!
— Ты обещала не плакать, — напомнил он.
— А я и не плачу, совсем не плачу, — глотала она слезы, а они бежали и бежали по ее щекам.
* * *
Осторожный и предусмотрительный нарушитель границы на поверку оказался плохим хозяином — никаких хитростей не пришлось использовать для того, чтобы проникнуть в его дом. Дверь едва держалась на слабом крючке, который в секунду был откинут. Счастливчик и его жена спали во внутренней комнате. Офицер потрепал за плечо контрабандиста. Тот, решив, что его будит жена, недовольно пробубнил:
— Чего тебе?
Офицер направил ему в лицо луч фонарика. Счастливчик вскочил. Офицер-пограничник скрупулезно, называя дни, часы и минуты, перечислил сколько раз за последние месяцы нарушал границу гражданин Киндин, он же белобрысый Василь, он же Счастливчик.
— Тс-с, не так громко, — взмолился контрабандист.
Выяснилось, что и этой ночью он возвратился оттуда.
Да, он в лесу наткнулся на группу арестованных людей, которых вели на заставу. В ответ на предложение Хаджумара провести известными тому тропами туда нескольких человек контрабандист забеспокоился:
— И золота не надо. Я честный коммерсант.
— Вам на сборы три минуты, — сказал Хаджумар.
— Плохо? — подошел к нему Гарсиа.
— Очень, — кивнул головой Хаджумар и прошептал: — Я скажу тебе, кто они…
Это были имена, известные всему миру.
— Их схватили, но еще не признали. Но признают. А мы с тобой видели, что делают фашисты с коммунистами.
— Может случиться, что надо будет ударить по заставе? — горячо зашептал Гарсиа.
— Нет, их нужно спасти тихо. И этой ночью, пока их не перевезли в глубь страны. Без шума и без следов.
…Через пятнадцать минут группа из двадцати отобранных лично Хаджумаром бойцов, переодетых в штатское, приступила к выполнению ответственейшего задания. На детальную разработку операции времени не было. Хаджумар принял решение, предусмотрев только общие детали. Вся операция должна произойти мгновенно и без кровопролития. Ни одного выстрела, ни одной жертвы, ни одного слова! Так внушил он каждому участнику операции… Он знал, что кому-то из их группы придется идти в глубь чужой страны, чтобы повести преследование по ложному пути. Не ясно было пока, в каком направлении. И Хаджумар задал вопрос Счастливчику:
— Что станешь делать, если тебе отрежут путь к нашей границе?
— Предусмотрено… — широко осклабился Киндин и развязно произнес: — У меня солидная фирма… Доберусь до моря, а там меня ждет лодка и… подземный лабиринт… Фьюить!.. — и никакого риска.
— Отлично! — похвалил его Хаджумар. — Будь готов показать мне подземный лабиринт. И вот что еще… Как ты ладишь с пограничными собаками? — Он знал: ни одна застава не обходится без собак — злых, сильных, дрессированных.
— И пограничная собака — лишь собака, — усмехнулся Счастливчик. — Как увидит кошку, все уроки забывает. Вот и хожу через границу со своими любимчиками, — кивнул он на пару крупных и пушистых кошек, небрежно развалившихся на диване. — Ночью на заставе остаются две собаки — остальных отправляют на участки. Вот я двух кошек и беру. Бросятся собаки ко мне, я выпускаю из мешочка кошек. Псам уже не до меня.
— А не жаль кошек?
— Так только собака наберет скорость — кошка на дерево и сидит, оттуда поглядывает… Сделаешь дело, домой возвращаешься, они уже лежат на диване и мурлычут. Вы, товарищ начальник, не знаете, как они находят дорогу домой, — несу-то я их на ту сторону в мешочке, ничего им не видать?
— Отвези лошадь за сто километров эшелоном, отпусти — она тоже дорогу домой найдет, — сказал Хаджумар и приказал: — Бери своих красавиц, и пошли…
…Они успели к заставе, когда начало светать. Часовые среагировали на лай собак, но, увидев, что они погнались за кошками, успокоились. И через полчаса все было кончено. Обошлось без крови. Пограничники — и солдаты и офицеры — лежали кто на земле, кто в бараках, но все лицом вниз, с кляпами во рту и связанные по рукам и ногам… Ни одного слова во время операции не было произнесено. И задержанным, находившимся в подвальном помещении, жестами дали понять, что надо выходить. Они не сразу решились, ибо их смутили неожиданность и немота незнакомцев. Пришлось Гарсиа втолковать им по-испански, что времени на объяснения нет, что им немедленно следует отправляться к границе. Поняли, ибо многие из них побывали добровольцами в Испании в тридцать седьмом — тридцать девятом годах.
Хаджумар смотрел вслед удалявшимся солдатам в штатском и освобожденным и ждал, когда они скроются в предрассветной мгле. Хаджумар ухватил за рукав Счастливчика, собиравшегося догонять их, и тот, памятуя о приказе, не произнес ни слова. Люди скрылись в лесу. Хаджумар подождал еще минут десять, а потом, убедившись, что все тихо и спокойно, подошел к одному из часовых и перевернул его на спину. Он видел, как у солдата в испуге расширились зрачки глаз. Контрабандист покачал головой — теперь солдат запомнит их. Ему и в голову не приходило, что делается это специально: солдат должен видеть, что они пошли не к границе, а в глубь страны.
Они были километрах в пяти от заставы, когда их неожиданно догнал Гарсиа. Хаджумар рассердился:
— Ты почему здесь? Я тебе приказал проводить освобожденных к границе.
— Я пришел доложить, что приказ выполнен.
— Почему ты не с ними?
— Я так понял приказ.
— Ты все понял, но нарушил приказ, — заявил Хаджумар. — Бессмысленно, что ты с нами. Выполнена лишь первая часть операции. Самое сложное — впереди.
— В самый раз сматывать удочки, а мы идем точно на прогулке! — выругался Счастливчик. — Да и ходите вы так, что полно следов остается!
— Так и надо, — спокойно объяснил Хаджумар. — Но одно соображение у тебя верное: не ускорить ли нам шаг?
Глубокая осень, прохладно. Дышится легко, но от быстрой ходьбы начали зудеть ноги.
— Далеко еще? — спросил Гарсиа Счастливчика.
— Через четверть часа доберемся до лодки.
— Если не настигнут, — сказал Хаджумар.
— Но погони нет, — возразил Гарсиа.
— Погоня наверняка уже есть. — Хаджумар знал, что прерванная связь с заставой должна была насторожить начальство. Не может быть, чтобы с других застав не послали разузнать, в чем дело. Нет, не следует успокаивать себя: погоня за ними уже началась. Надо поскорее добираться до лодки.
— Море! — воскликнул Гарсиа. — Как блестит!
— О боже! — остановившись от неожиданно мелькнувшей мысли, воскликнул контрабандист. — Что мы натворили!
— О чем ты? — встревожился Гарсиа.
— Лодка совсем плюгавенькая. Троих не потянет.
— Что же ты раньше молчал? — упрекнул его Хаджумар.
— С перепугу память отшибло, — признался Счастливчик.
— Ничего… Один вплавь, — заявил Гарсиа.
— Ни хрена не получится. Плыть-то, считай, сутки. А вода холодная… Кто выдержит? — Счастливчик торопливо заявил: — Лодка моя. Выходит, кому-то из вас двоих оставаться надо.
— Я остаюсь, — сказал Гарсиа. — Я нарушил приказ.
— Отставить! — прервал его Хаджумар. — Времени на разговоры нет.
Глава 9
По плану министерства Внускому предстояла поездка за рубеж на промышленную выставку. Он должен был выехать через неделю.
Хаджумар задумался, вновь мысленно сопоставил факты. Подозрительны звонки Внуского без подачи своего голоса. Подозрительно его посещение бульвара, во время которого он пообщался с сыном очаровательной дамы, оказавшейся Полиной Васильевной Ковалевой, администратором престижной интуристовской гостиницы!
— Она отняла коробку конфет у сына, упрекнув его, что он увлекается сладким? — спросил Хаджумар у Чижова. — Что за конфеты он подарил малышу?
— На кинопленке ясно видно — «Драже».
— «Драже»?! — Генерал был доволен. — Это серьезная улика.
— То есть? Тип конфет имеет значение? — поразился Чижов.
— Внуский с его замашками — и вдруг носит с собой не шоколад, а дешевые «Драже»?! Что бы вы сказали, если б отдыхали на бульваре и на ваших глазах незнакомый мужчина подарил незнакомому малышу коробку шоколадных конфет? Не правда ли, это было бы подозрительно? И он это учел… Но «Драже» теперь наш козырь! Так, полковник, ваш неудачный эксперимент с телефонами-автоматами все-таки дал плоды. Внускому не удалось просигнализировать по телефону, и он передал послание по запасному варианту — через Полину Васильевну Ковалеву. Он перестраховался: возможно, не желает держать у себя опасный материал, поскорее сплавляет пленку. Такие агенты встречаются. Кстати, они знакомы?
— Об этом трудно судить…
— Считайте, что вы получили задание. Придется вам установить наблюдение за бульваром. Не думаю, что он опять прибегнет к помощи коробки конфет. Но чем черт не шутит.
— Так как нам быть с его загранпоездкой? — спросил Чижов. — Может быть, воспользоваться командировкой и подсунуть в особо важную папку фиктивные документы?
— Ни в коем случае! Внуский специалист, он разберется, подсунута ли ему «клюква» или эти чертежи в самом деле имеют большую ценность.
Генерал медленно потер лоб. Конечно, отпуская Внуского за границу, мы рискуем. Он может остаться там, особенно если почувствовал, что за ним идет наблюдение. Опять же, не исключена возможность утечки материала. Но что делать? Брать? На каком основании? Пока ему еще нельзя предъявить весомых обвинений. А теперь представим, что Внуский — резидент. Возьмем мы его. А дальше что? Предатель будет уничтожен, а те, кто совратил его, кто втянул его на путь измены, останутся безнаказанными.
Значит, терпение и еще раз терпение.
* * *
Группа, в которую входил Внуский, успешно завершила поездку на промышленную выставку и возвратилась в Союз.
У Хаджумара подводились пока еще некоторые итоги поездки Внуского. Отмечалось, что он развернул довольно бурную деятельность по изучению демонстрируемого оборудования. Он буквально никому из членов делегации не давал вздохнуть, требуя, чтобы каждый подробнейшим образом ознакомился чуть ли не со всеми станками и механизмами той отрасли промышленности, в которой он специализируется. Внуский целыми днями пропадал в павильонах. Казалось, что других интересов у него нет. Он побывал на множестве встреч с английскими, американскими, французскими, голландскими, бельгийскими, немецкими конструкторами и инженерами, с представителями фирм, деловых и научных кругов зарубежных стран, вел оживленную дискуссию, ратуя за необходимость постоянного и тесного сотрудничества между изобретателями разных стран, независимо от их общественной формации. Говорил он убедительно и горячо, и это выглядело довольно искренне. Никаких контактов, могущих вызвать подозрение, у него в павильонах не было.
— Но вот по вечерам он постоянно, исчезал, — докладывал Чернышев. — За ним в отель каждый вечер прибывал один и тот же человек в машине, ждал его внизу. Внуский выходил в парадном костюме с непременной бабочкой в горошину, усаживался на переднее сиденье, весело улыбался, и они отправлялись в ночной город. Не было сомнения: он ехал весело провести время. Возвращался в отель он после двух часов ночи в веселом расположении духа. Он задорно заявлял членам группы: «Отсыпаться будем дома, а здесь надо вкусить прелести жизни отмирающего капитализма».
— И он в самом деле вкушал эти прелести? — спросил Хаджумар.
— Видели его в ночном клубе. Вместе со своим постоянным спутником, его супругой и еще с одной разбитной дамочкой.
— А кто же этот… спутник?
— Личность его установлена, — охотно ответил Чернышев, уже давно ждавший, когда прозвучит этот вопрос. — Это небезызвестный нам инженер, президент двух компаний Фил Гатри. Родился в 1920 году. Женат, имеет девятилетнего сына. Внешность солидная, умеет расположить к себе людей. Заключил несколько солидных договоров с нами.
— Когда он познакомился с Внуским?
— Достоверные данные говорят о том, что Гатри был представлен Внускому немногим менее трех лет назад, когда он прибыл в Москву в составе делегации промышленных фирм. Как уверяет один из членов группы, Внуский одну ночь вообще не ночевал в отеле. Но… этот член группы, некий Тарасов, уже несколько лет косится на Внуского, при случае любит пустить по его адресу шпильку.
— У него есть основания недолюбливать Внуского?
— Есть. Внуский дважды отклонял разработанные Тарасовым проекты.
— Как Внуский провел дни после возвращения?
— Добропорядочно. Самолет прилетел в среду, и весь этот день он пробыл дома с младшей дочерью. Жена не смогла вовремя вырваться с работы, так он несколько раз звонил ей, твердя, что соскучился и что у нее нет совести, коли она не желает поскорее увидеть те вещи, что он ей привез из-за границы. «Упадешь, когда увидишь, — твердил он ей. — В мои объятия упадешь!» У него с женой тон всегда радостно уважительный, даже несколько масленый, точно он хочет убедить ее в своей сильной любви. Сейчас уточним, что это была за вещь, от которой она должна была упасть в его объятия.
— Э-э, можете не уточнять, — махнул рукой генерал. — Во-первых, у него было достаточно денег, чтобы приобрести шубку из искусственного меха. А во-вторых, я убежден, что человек типа Внуского не допустит оплошности — не привезет домой вещь, цена которой превышает его официальные возможности.
Они помолчали. Потом генерал сказал:
— Кстати, я, кажется, догадался, как узнавать набираемые номера телефонов. — Хаджумар включил транзистор. Из него вырвалась музыка. — Прислушайтесь. — Генерал подал транзистор Чернышеву, а сам сел у телефона и стал набирать номер. — Улавливаете щелчки.
— Так точно.
— Считайте их. Вот я набираю номер… Сколько было щелчков?
— Семь, товарищ генерал.
— Верно. Я набрал цифру «семь». А теперь?
— Пять щелчков.
— Потому что я набрал цифру «пять».
— Я вас понял, товарищ генерал. Но как это использовать? Ведь Внуский не включает транзистор.
— Зато мы включим, — усмехнулся генерал. — О чем свидетельствуют эти щелчки? О том, что человек, набирая номер телефона, создает в помещении радиоактивные волны. В кабине телефона-автомата у Внуского тоже будут соответствующие щелчки. А мы их уловим. Ясно?
— Так точно!
— Пока этот способ никем не использовался. Предварительно испытайте сами, а затем проинформируйте полковника Чижова.
* * *
Слушая Чижова, сообщавшего о маршруте и действиях объекта, Хаджумар мысленно представлял себе, как автомобиль Внуского, следуя по улицам города, останавливается на площади, как Внуский неторопливо выходит из машины, на ходу вытаскивая двушку из кармана, входит в свободную кабину и набирает номер.
В будке расколото одно стекло, то самое, возле которого, прижавшись друг к другу, застыли парень и девушка. У нее через плечо висела модная спортивная сумка, у него в руках наигрывал рок-музыку импортный транзистор. Музыка мешала Внускому, и он с негодованием глянул на меломанов и даже чертыхнулся, но они, не обращая на него никакого внимания, приникли ухом к транзистору.
— Во дает, а? — восклицал парень, вслушиваясь в ударник, издававший особенно занимательную дробь.
…Взволнованный голос Чижова сообщил:
— Товарищ генерал! Щелчки на транзисторе зарегистрированы. Получился номер 436-94-75.
— Немедленно уточните, чей это телефон.
Есть первый козырь! Раскрыли-таки, раскрыли!.. Теперь тщательно разработать операцию. Должна быть тонкая ловушка, в которую непременно угодят и Внуский и кто еще там с ним? Недолго уже гадать.
…Будь Внуский повнимательнее, он бы отметил, что и возле будки телефона-автомата на Пушкинской улице оказался любитель эстрадной музыки. На сей раз это был студент, одной рукой державший перед глазами учебник физики, а другой прижимавший к уху приемник, настроенный на Монте-Карло, откуда, как известно, чуть ли не целые сутки на весь мир льется экстрамодная музыка, изредка перебиваемая бойким диктором, преподносящим — судя по интонации и интригующим переливам голоса — сенсации. Внуский, конечно, слышал мелодию и с горечью отметил, что меломания разрастается.
А возле будки на улице Горького торчал подросток с маленьким приемником. Внуский слышал, как он спросил у прохожего, не знает ли тот результат встречи динамовцев Тбилиси и торпедовцев Москвы.
— Не интересуюсь, — неодобрительно буркнул мужчина.
— Никак волну не поймаю… — вновь лихорадочно задвигал ручкой настройки подросток.
…Чижов положил на стол генералу бумагу. На ней были два телефонных номера. Один принадлежал… Полине Васильевне Ковалевой, администратору гостиницы.
— А второй? — нетерпеливо спросил генерал.
— Номер телефона люкса этой же гостиницы.
— И кто в нем остановился?
— Пит Торм, американский турист.
— Вам следует быстро раздобыть приметы Пита Торма и направить на Кутузовский проспект. — Нетерпение овладело Хаджумаром. — Думаю, что именно он направится туда.
…Он ошибался, думая, что к столбу прибудет Торм. Как пост ни всматривался в лица, снующие мимо столба, — не удалось отыскать хотя бы мало-мальски похожее на Торма. Место было оживленное, что ни минута, то к столбу кто-то приближался. Одна из женщин облокотилась о столб и незаметно поправила чулок. Личность каждого подозрительного тут же удалось установить. И наверняка отец семейства, придя домой, долго рассказывал о том, как обнимал его на улице профессор, твердя ему, что они однокашники, и стремясь изо всех сил убедить его, что имя ему Степан, а фамилия Шилин. И не отставал, обидчиво брюзжа о людях, забывающих своих однокашников, до тех пор, пока человек в сердцах не вытащил удостоверение личности и не доказал, что его фамилия совсем другая.
— Кто дежурит возле столба? — спросил генерал.
— Лейтенант Диксов, — ответил Чижов.
Хаджумар вспомнил молоденького выпускника училища, усмехнулся, приказал:
— Пусть внимательно осмотрит столб.
— Мы это сделаем попозже, — замялся Чижов. — Вдруг столб не только под нашим наблюдением — и мы вспугнем резидента.
— Надо осмотреть столб немедленно, — резко сказал генерал. — И так, чтобы не вспугнуть. Ясно?..
Через четверть часа Диксов взволнованно сообщил генералу: на столбе имеется едва заметная отметина — маленький крестик, нанесенный фломастером.
— Но… он быстро блекнет… Видимо, особый фломастер… Через полчаса от крестика не останется и следа…
— Значит ждать гостя следует в ближайшие минуты, — предупредил генерал.
В тринадцать ноль-ноль на Кутузовском проспекте внезапно остановилось такси. Собственно, «Волга» с кубиками остановилась не возле столба, а метрах в ста от него. Из такси вышел человек в черной кожаной куртке и не спеша направился к магазину. Но не дошел до него, а остановился метрах в трех от столба и стал любоваться потоком машин, скользящим по проспекту. Вдруг он впритык приблизился к столбу и бросил мгновенный пронзительный взгляд именно в то место, где был обозначен крестик. Он не искал метку. Он знал, где она должна быть. Это был осмысленный, нетерпеливый взгляд. Потом он все-таки зашел в магазин, послонялся вдоль прилавка, а выйдя из него, не сразу направился к машине, а сделал крюк, на сей раз обходя столб с другой стороны. И вновь бросил на него быстрый взгляд, как бы проверяя, на месте ли крестик…
Успокоившись, человек в кожанке сел в такси, и оно, повернув, быстро набрало скорость.
Теперь по логике событий кто-то из них должен направиться к тайнику. Что он существует — у генерала сомнений не было. «Внуский… Внуский… Чего тебе не хватает? Отчего ты продался? Или ты идейный враг?»
Настойчивый зуммер заставил Хаджумара включить селектор.
— Товарищ генерал, — услышал он голос Чижова. — Мы узнали фамилию того, кто побывал возле столба на Кутузовском проспекте.
Ох этот Чижов, он так длинно всегда говорит! Ну разве не ясно, что речь идет об этом человеке в черной кожанке?
— Мистер Джерри Нортон, тоже турист из США.
— И куда он направился?
— Прибыл в гостиницу… И он, и мистер Торм — каждый находится в своем номере.
А как же тайник? Когда они вскроют его? И где он находится? В общем, нельзя спускать глаз ни с американских туристов, ни с Внуского, ни с Ковалевой.
Как это ни странно, все они вели себя обыденно и спокойно. Внуский вечер провел в кругу семьи. В квартире не замолкал звонкий смех его малолетней дочурки.
Где-то около двенадцати часов ночи в кабинет генерала вошел Чижов.
— Товарищ генерал, — доложил он. — Как вы приказывали, мы проверили, кто проживал в люксе гостиницы в те четверги, когда Внуский совершал свое турне со звонками. И в первый раз, и во второй, и в третий — американские туристы. Этот маршрут из Москвы на Кавказ пользуется в Штатах особой популярностью.
— И куда они следуют?
— В Северную Осетию.
— В Осетию? — переспросил генерал. — И когда отправляется эта группа?
— Завтра, в пятницу.
— Ясно, — сам себе сказал генерал и обратился к Чижову: — Товарищ полковник, готовьтесь к поездке во Владикавказ. Думаю, туда направит свои шаги Внуский. Уже не имеет значения знаком ли он с Нортоном и с Тормом. Если нет, то это будет еще одним свидетельством того, что Внуский для них слишком важен, и они приняли все меры предосторожности, чтобы не скомпрометировать его. С этой минуты мы приступаем к операции, которая должна дать нам в руки неопровержимые данные. Налицо шпионаж.
* * *
…Генерал оглядел всех и приступил к делу:
— Уточним данные. Телефонные звонки — это, безусловно, сигнализация. Как-то Внуский должен же установить, прибыл ли нужный человек, в данном случае Торм. Связывающим их звеном является Ковалева. Вот он своим звонком и дает ей знать, что готов передать фотопленку. В ответ она должна сообщить, прибыл ли человек из-за кордона. Как она это делает?
— Да, как? — эхом отозвался Чижов. — Времени у нее мало. Следующий звонок уже в номер люкс гостиницы следует через семь-восемь минут. Да и Внуский не покидает машины.
— Я вчера проделал его маршрут, — сказал генерал. — И оказалось, что здание гостиницы просматривается с Пушкинской улицы.
— Просматривается, — поддержали его голоса.
— Остается уточнить, не выходят ли окна кабинета администратора в сторону Пушкинской улицы. Кто-нибудь знает это?
— Так точно! — вскочил высокий блондин-капитан. — Два окна ее кабинета на третьем этаже смотрят в сторону этой улицы.
— Спасибо, капитан. Вот и все! — удовлетворенно кивнул головой Хаджумар. — Пушкинская улица была смотровой площадкой, с которой Внуский видел окна кабинета Ковалевой… Ей оставалось, не выходя из помещения, отдернуть занавеску, или, наоборот, как у них сговорено, задернуть ее, или что-то выставить.
— Как просто, — вздохнул кто-то.
— Просто и другое, — подтвердил генерал. — У администратора гостиницы власти достаточно на то, чтобы поместить в определенном номере именно того гостя, которого ей хочется, не так ли? Вот Ковалева и вселяла нужного туриста в люксовский номер, телефон которого известен Внускому. Увидев сигнал Ковалевой, Внуский звонил прибывшему на связь агенту, давая ему знать о себе.
— А зачем еще и отметка на столбе? — спросил лейтенант. — Ее роль какова?
— Это нам предстоит еще узнать. Возможно, что эта отметка указывает, каким тайником следует воспользоваться. Да, да, у Внуского несколько тайников, и он их каждый раз меняет… Сейчас он, судя по всему, решил воспользоваться тем, что находится за пределами города. Так поступает резидент, когда у него особо важный материал. К тому же шефы очень дорожат Внуским и хотят избежать любого риска.
— Где же Внуский ждет Торма или, наоборот, Торм ждет Внуского? — задумчиво произнес Чижов.
— Это может случиться или на трассе, или в лесу, — сказал генерал. — А возможно, что вам предстоит поездка километров этак на пятьсот-пятьсот пятьдесят… Если интуиция меня не подводит, — усмехнулся он и, отбросив шутливость, сказал серьезно: — Нам остается ждать хода Внуского. Он последует и непременно сегодня или завтра. Главное — не прозевать его. Приказываю: ни на секунду не спускать глаз с Внуского, Нортона, Торма и Ковалевой!
…В полдень полковник Чижов доложил Мамсурову:
— Товарищ генерал, объект наблюдения заскочил домой, возвратился с плащом, шляпой и портфелем и, на прощанье помахав рукой жене и дочерям, отправился на «Волге» явно в дальний путь.
— Во Владикавказ, — подсказал генерал.
— Выехал на трассу Москва — Ростов — Баку.
— Это означает, что и вам пора в дорогу…
* * *
Итак, пути двоих — Внуского и Пита Торма, а может быть, и Джерри Нортона должны были пересечься. Но где и когда? Возможен и другой вариант — без очной встречи: Внуский оставляет пленку в определенном месте, а американский турист ее подбирает… Тайник может быть на трассе, где-то на обочине или у километрового столба, у заправочной станции, в придорожном кафе или даже в общественном туалете. В общем, задача, стоящая перед оперативной группой, была ясна: ни на секунду не выпускать из виду ни Внуского, ни Торма, ни Нортона.
«Волга» Внуского стремительно поглощала километры. Хозяин машины был в хорошем настроении. Поездка проходила без осложнений. Впереди были горы, которые всегда навевали на него радостные мысли. Провести два дня среди каменных великанов, дыша ароматом альпийских лугов, наслаждаясь близким солнцем, — что может быть прекраснее? Но и осторожность не дремала в нем. Ведя машину, он привычно поглядывал в зеркальце, всматриваясь в несущиеся следом автомобили, грузовики, автобусы, самосвалы. Глаза его оценивающе всматривались в водителей и пассажиров. Иногда лихач-собственник на личной «Волге» или «Жигулях» стремительно настигал его, и тогда Внуский настороженно съеживался и пристально следил за ним до тех пор пока автомобиль, шурша шинами, не сравнивался с его «Волгой» и постепенно не уходил вперед… Особенно тревожило, если случалось, что одна и та же «Волга» или «Жигули» дважды попадали в поле его зрения. Тогда мерещилась погоня, и Внуский нарочно то останавливался на обочине, спускаясь по легкой нужде в лесополосу, то, наоборот, нажимал на газ, уходя от примелькавшейся машины, с облегчением вздыхал, видя, что водители не обращают на его маневры никакого внимания.
Но осторожному, всматривающемуся на встречный и идущий впереди и сзади транспорт Внускому невдомек было, что его «Волга» под постоянным наблюдением. Ему и в голову не могло прийти, что вынырнувший на трассу с полевой дороги молоковоз, с полчаса не отстававший от него, а затем свернувший к просматриваемой с дороги молочно-товарной ферме, имел к его особе непосредственное отношение. Спустя полкилометра на трассу свернул мотоцикл, который вел пожилой комбайнер в синем, видавшем виды комбинезоне, и, пройдя десяток километров, направился к деревне… Затем Внуского догнал «Москвич», за рулем которого находилась молоденькая миловидная девушка. Он сбросил скорость, чтобы подольше любоваться ее профилем… Она не обращала на него никакого внимания, но, когда он стал удаляться, вытащила из багажника микрофон и, включив его, доложила:
— Объект наблюдения приближается к двести пятнадцатому километру трассы…
И тотчас же последовала команда невидимому впереди сотруднику:
— «Роза»! «Роза»! Взять под наблюдение «Волгу» голубого цвета, номер…
— Вас понял… — послышалось в ответ.
Внуской спешил, нигде не останавливался. Лишь в полночь свернул на обочину дороги, подремал три часика, выпил кофе из термоса, пожевал бутерброд, — и вновь завел мотор…
Чижов вспомнил вопрос генерала:
— Продумали, где он может остановиться?
— Лучшая гостиница в городе — «Владикавказ», — ответил ему Чижов. — В ней забронированы номера для туристской группы из США. Возможно, и Внуский попытается остановиться в этой гостинице. Его ждут там два опытных сотрудника из местного ведомства. Под наблюдением и другие гостиницы.
— Хорошо, — сказал Хаджумар и вздохнул. — Как мне хочется побывать на родине! Да нельзя — могут признать и, естественно, задуматься, для чего оказался в Осетии.
Но Внуский, доехав до города, не свернул ни к «Владикавказу», ни к другой гостинице. С трассы он устремился к мосту и, проехав по улице Ноя Буачидзе несколько кварталов, выехал на гизельское шоссе.
— Куда это он? — заволновались оперативники. — В Алагир, что ли, едет?
«Волга» стремительно, наперегонки с наступающей ночью, мчалась к горам, смутно нависшим над долиной. Через полчаса показались огни кварталов города Алагира, но Внуский и здесь не повернул, а поехал налево, в ущелье.
— Гонит вовсю, — докладывал по рации сотрудник, сопровождавший Внуского от Гизели. — Постепенно отстаю, иду на таком расстоянии, чтобы видеть огни его машины.
— Обхитрил нас, дьявол, — рассердился Чижов. — Кто мог предугадать, что он с ходу отправится в горы! В Мизур, что ли?
Но Внуский не остановился в Мизуре, стремительно пересек его и направился в горы.
— Неужто напрямик в Цей, знаменитый лагерь альпинистов и горнолыжников? — поразился Чижов. — Поднебесье выбрал для передачи материалов!
Потом уже скрупулезно был прослежен каждый шаг Внуского в Цее. Он подъехал к коттеджам, постучался в окно сборного домика, в котором располагался начальник лагеря. Тот выглянул наружу, увидев «Волгу», зажег свет, вышел на порог.
— Добрый вечер, Павел Сергеевич! — приветствовал его Внуский. — В прошлом году вы приглашали меня вновь посетить Цей. Вот я и воспользовался вашим кавказским гостеприимством. Принимайте! — весело закончил он.
Озадаченный Павел Сергеевич пытался рассмотреть в густой темноте летней ночи приезжего и никак не мог вспомнить, кого он в прошлом году мог пригласить сюда.
— Да вы не волнуйтесь, — сказал Внуский. — Я всего-то на ночь: завтра, ну в крайнем случае — в воскресенье, отправлюсь в обратный путь, чтоб в понедельник быть на работе.
— На ночь? — задумался Павел Сергеевич и, вздохнув, наконец решил: — На ночь приютим. Напомните, как звать-то вас?
— Владимир Олегович, — охотно сообщил Внуский и затараторил. — В тот раз погода удалась, и я познал всю прелесть Цея. Верите ли, на целый год набрался бодрости.
— Телеграммку бы дали, — сказал Павел Сергеевич. — Летом ведь у нас все битком забито.
— Так я в пятницу-то и решил. Мгновенно. И собрался в пять минут. Впереди два дня отдыха, да плюс три дня отгулов накопилось. Дай, думаю, проведу их в раю.
— Берите свои вещи и идите за мной, — предложил Павел Сергеевич.
— Да у меня всего-то портфель, — вытащил его с заднего сиденья Внуский. — Чего на два дня надо? Сорбчку, свитер на случай холода, электробритву да зубную щетку с пастой.
Павел Сергеевич как был, босиком, в трусах и майке, пошел к крайнему домику. Внуский последовал за ним.
— Все кровати заняты, — сказал начальник лагеря. — Но можно вместить и раскладушку. Не обижайтесь, дали бы телеграмму — подготовил бы вам местечко.
— Да мне переночевать — только-то и всего, — успокоил его Внуский. — А день я проведу на канатке, на Сказском леднике да посещу Реком. Программа что надо!
В это время мимо промчалась машина, осветила фарами «Волгу» Внуского и, прошелестев шинами, скрылась в темноте…
— Еще один пожелавший провести выходные в Цее, — крикнул ей вслед Павел Сергеевич…
Обеспокоенный Внуский спросил его:
— Много таких?
— И с вечера в пятницу заезжают и утром в субботу… — пояснил Павел Сергеевич. — Некоторые со своими палатками.
И невдомек было ни ему, ни Внускому, что сидевший за рулем промчавшейся мимо машины блондин-капитан, увидев их, облегченно вздохнул. И если Внуский эту ночь крепко спал, утомленный дальней дорогой, то капитан всю ночь бодрствовал, укрывшись в кустах и не спуская глаз с крайнего домика альпинистского лагеря. Когда забрезжил рассвет, он перебрался в свою машину, откуда при свете дня хорошо просматривалась вся площадка альпинистов.
Когда, умывшись и побрившись, Внуский вышел из домика, он увидел красного «жигуленка», пристроившегося в метре от скалы. Мужчина, его жена и двое дошколят — мальчик и девочка, пытались поставить палатку в тени скалы.
— Вы где ее мостите? — набросился на них Павел Сергеевич. — Под скалой? А если сверху сорвется камень, что от вас останется?
— А где ж ее ставить? — огорченный таким промахом, пробормотал мужчина.
— Да хотя бы вон там, — показал Павел Сергеевич на поляну меж деревьями.
— Там солнце, — подала голос жена.
— Ну выбирайте, — развел руками Павел Сергеевич. — Что лучше: солнце или камнепад. — И бросил подошедшему Внускому: — Ох уж эти горожане! Не понимают, что горы — это не проспект. Такие вот и лезут очертя голову на скалы и гибнут не за понюх табака… — Он кивнул на домик, откуда несло приятным запахом жареного мяса. — Идите туда, Владимир Олегович, я распорядился насчет вашего питания.
— А где мне рассчитаться за ночлег и питание? — осведомился Внуский.
— Еще успеете, — добродушно махнул рукой начальник лагеря.
Семья жаждущих отдыха в горах тащила палатку в указанное Павлом Сергеевичем место. Мужчина незаметно проследил за поднимающимся по ступенькам столовой Внуским и крикнул начальнику лагеря:
— А обзавестись минеральной водичкой у вас нельзя?
Павел Сергеевич недовольно покачал головой: надо же, отправились на отдых в горы и не побеспокоились даже о воде! Но не стал им выговаривать, а только бросил:
— Попробуйте.
Мужчина торопливо нырнул следом за Внуским в столовую.
…Позавтракав, Внуский направился к «Волге». По пути улыбнулся вышедшему из своего домика Павлу Сергеевичу:
— Завтрак что надо!
— К Рекому? — спросил начальник лагеря.
— Да, потом к канатке, — заявил Внуский.
Женщина, поддерживавшая верх палатки, которую натягивал ее муж, заинтересованно спросила:
— Канатка — это интересно?
Внуский остановился, галантно произнес:
— Очень, — и, сложив ладони лодочкой, двинул их вперед, точно плыл. — Летишь по воздуху меж двух гряд скал, которые приветствуют тебя.
— А это не опасно? — поежилась она.
— Не опаснее того, чем вы сейчас занимаетесь, — засмеялся он.
— Витя, слышал? — обратилась она к мужу. — Установим палатку и тоже на канатку, а? Спроси, как ехать туда.
Сидя в автомобиле, Внуский махнул рукой в направлении к скалам:
— Здесь все дороги ведут к канатке…
…У касс толпилось человек тридцать. Американские туристы уже были здесь и вперемежку с альпинистами, выстроившись в цепочку, один за другим усаживались в кресла и взмывали в воздух. Столбы канатной дороги тянулись бесконечной ровной чередой посреди узкого ущелья ввысь, к далеким белоснежным скалам. Кресла с сидящими в них людьми быстро набирали высоту.
Скалы, отшлифованные частым в этом ущелье пронизывающим ветром, напоенным холодом вековых ледников, манили к себе. Чудилось, протяни руку — и коснешься их вершин, но Внуский знал, что добраться до них удается только опытным альпинистам и на это уходит целый день.
Глядя на плывущих в креслах спереди и сзади людей, Внуский завидовал их горящим от восторга глазам. У него же при виде многочисленных альпинистов испортилось настроение. То, что ему предстояло сейчас проделать, не должен был заметить ни один человек. Малейшая оплошность — и все сорвется… В прошлом году людей было гораздо меньше… Откуда этот наплыв?.. Одно лишь успокаивало: оттуда кресла возвращались пустыми. Это и понятно: сейчас все стремятся в горы, а назад спустятся поближе к обеду. Значит, ему задерживаться у ледника не стоит. «Побуду с часик, чтоб никому мое поведение не показалось подозрительным, и поспешу назад».
— Пока ничего, — докладывал по рации капитан Чижову. — Таращит глаза на скалы и на альпинисток. Но ни с кем не заговаривает, никого не высматривает…
— Будьте внимательны! Не прозевайте! Это произойдет сегодня! Сегодня!
…Американские туристы пошли следом за альпинистами к скалам. Но не все. Внуский с интересом взглянул на полноватого американца в толстом свитере и с коричневой сумочкой-визиткой под мышкой… «Вот ты какой!»— подумал Внуский.
До скал туристам карабкаться минут сорок. Сорок туда — сорок оттуда. Понаблюдав с холма, как альпинисты один за другим штурмуют скалу — отсюда их фигуры казались маленькими и юркими, — и побродив по горному склону, на котором еще сохранились лоскутки снега, почерневшего под лучами июньского солнца, Внуский направился к посадочной площадке. Инструктор был поглощен тем, что резким движением отводил замок безопасности и подхватывал туристов, спрыгивающих с кресел. Их все прибывало и прибывало. А в обратный путь желающих еще не было. «Ну что ж, тем лучше, что он занят, — решил Внуский. — Сам сяду». Он встал на заасфальтированный пяток и, когда очередное кресло ткнулось ему в бедро, неловко опустился на него. Кресло подхватило Внуского и понесло. Внуский подсмотренным у инструктора резким движением передвинул замок, и планка перекрыла спереди кресло.
Внуский поплыл по воздуху, туда, где далеко в низине находилась станция канатки. Навстречу ему двигались вперемежку туристы в спортивных свитерах с яркими полосками на груди и рукавах и альпинисты в красочных штормовках, широких темных защитных очках и с ледорубами.
Поглядывая на встречный людской поток, Внуский стал отсчитывать столбы; при приближении к ним кресло слегка подергивало, а когда верхние колесики проскакивали мимо крестовины столба, то раздавался железный клекот…
«…Седьмой, восьмой, девятый… — подсчитывал он. — Уже скоро, скоро… — Нащупав в кармане маленький пакетик, он вытащил его… — А эти люди, что плывут навстречу, поглядывают на меня. Как же быть? Не сделать ли вид, что потянуло к детской игре? Кажется, она называется пятнашки. Да, да! Смешно: пожилой дяденька затеял игру в пятнашки, но зато не будет подозрений, когда я проделаю главное».
И Внуский, широко улыбаясь, вдруг вытянул руку и ладонью шлепнул по медленно проплывающему мимо столбу… Во встречном кресле сидела моложавая альпинистка, удивленно уставилась на него. Он дурашливо засмеялся и помахал ей ручкой.
…Одиннадцать… Шлеп!.. Двенадцать… Шлеп!.. Внуский, точно опьяненный зрелищем прекрасной природы, посылал улыбки встречным туристам… Шестнадцатый!.. Шлеп ладонью!.. Приготовиться! Семнадцать!.. Шлеп!.. Вот она, эта минута!.. Он переложил из правой ладони в левую пакетик, сорвал с него пленку, бросил взгляд на приближавшееся кресло и с облегчением вздохнул: в нем сидели уже знакомые ему жена владельца «Жигулей» и ее маленькая дочь, которая, испугавшись высоты, вцепилась одной рукой в поручень, а другой в мать и застывшим взглядом смотрела в небо.
В следующем кресле восседали ее муж и сын.
Внуский оглядел низину: никого! — и успокоился… Чем мог грозить ему этот простофиля-самоубийца, что пристраивал свою палатку под скалой? И, облокотившись на поручни, Внуский, как и в прежние разы, ловко шлепнул по столбу… Но теперь шлепок пришелся не на уровне глаз, а на метр ниже.
— Шлеп! — дурашливо закричал Внуский.
— Видишь, какую игру затеял дяденька, — сказала мать дочери. — Как здесь красиво!
Владелец «Жигулей» не смотрел в сторону Внуского.
Внуский оглянулся, помахал рукой девочке и увидел, что прилепившийся пакетик по цвету обертки совсем не отличался от столба, и те, кто будут возвращаться по канатной дороге, не заметят его. Увидит его только тот, кому он предназначен.
«… Все! Опасный пакетик уже не со мной! — радовался про себя Внуский. — Полдела сделано! Но спокойнее, спокойнее. Ты чуть не пропустил очередной столб. Продолжай свою игру!» Внуский вновь потянулся к столбу и шлепнул его ладонью, воскликнув: Шлеп!
Мужчина и мальчик посмотрели в его сторону.
— Привет! — весело крикнул им Внуский и поинтересовался: — Установили палатку?
— Да! — закричал Петя.
— Милости просим в гости, — улыбнулся мужчина.
Они проплыли мимо.
…— Глаз не сводить с пакетика — приказал Чижов. — Теперь ход за Тормом или Нортоном!
…В кресло первым из американской туристской группы сел Торм и поплыл по воздуху.
…В 13.30 генерал получил шифровку, в которой кратко сообщалось: «Пакетик изъят из тайника Питом Тормом».
…Группа американских туристов должна была возвратиться с экскурсии на ледник к обеду, к 14.00. Именно в это время голубая «Волга» подъехала к туристской базе.
Рядом на спортивной площадке отдыхающие сражались в футбол. Несколько десятков болельщиков, в основном жены тех, кто метался по площадке, подбадривали игроков. Внуский вышел из автомобиля и присоединился к болельщикам.
К основному корпусу базы свернул автобус «Икарус», из него высыпали американские туристы, шумно направились в здание. Как и все болельщики, Внуский оглянулся на веселую толпу иностранцев. Потом, постояв еще две-три минуты возле спортивной площадки, медленно пошел к своему автомобилю, сел за руль, и «Волга» двинулась к дороге, ведущей за пределы Цея. Не остановившись во Владикавказе, она по окружной дороге выехала на трассу и стремительно понеслась по ней. Выражение лица у Внуского было спокойным и довольным.
…Вечером Чижов разговаривал по телефону с генералом Мамсуровым.
— Сложный он избрал вариант, — сказал Хаджумар. — Его можно использовать раз-два, не больше. Значит, у них есть и другие способы… Когда группа американских туристов отбывает из Цея?
— По графику завтра.
— Как же он узнал, что все в порядке? — спросил генерал. — Торм при возвращении на базу был одет так же, как и на канатке?
— Никаких изменений, — ответил Чижов.
— А в руках что у него было?
— Визитка… — голос полковника дрогнул. — Товарищ генерал, он по дороге к канатке визитку держал под мышкой, а когда возвращался на базу, она у него висела на кисти. Вы увидите на кинопленке.
— Это может быть условным знаком, — согласился генерал и заявил: — Задерживать сейчас не будем. Их путешествие по стране рассчитано на две недели…
* * *
Неделю спустя начальник филиала срочно вызвал Внуского и озабоченно спросил:
— У тебя, кажется, есть кто-то из друзей в выездных инстанциях? Смогут ли они за сутки оформить твои документы для загранкомандировки? Заболел Кочин, а предстоит подписать контракт на ряд поставок оборудования для нашей промышленности. Думаю, ты управишься за две недели…
— Две недели?! — обрадовался Внуский. — Если дело за бумажками, то считайте, что я уже за границей.
— Кстати, у меня к тебе просьба, — остановил его у порога начальник филиала. — Дочери позарез необходимо стать брюнеткой. Как ты догадываешься, дела сердечные… В общем, речь идет о каких-то новых парфюмерных красителях… Они там, говорят, не очень дорогие.
— Считайте, что ваша дочь — брюнетка, — заявил Внуский.
Начальник филиала не знал, что его сотрудник больше никогда не пересечет границу. Как не знал и сам Внуский.
…Внуский лежал на койке в камере, куда он был доставлен поздно ночью, и ждал, когда его вызовут на допрос. То, что произошло в аэропорту, ошарашило его. Он знал, что ему следует быть готовым к такому повороту событий. Но он, ждавший, что через несколько часов окажется опять в Лондоне, ничего не заподозрил, когда девушка, сопровождавшая пассажиров к самолету, уже у самор трапа прижала наушники к ушам и спокойно обратилась к нему:
— Вы Внуский? Вас просят подняться к начальнику. таможенной службы. Звонит представитель главка, хочет сообщить вам что-то важное. — И попросила: — Вы уж управьтесь поскорее. Миша, — обратилась она к шоферу автобуса. — Доставь товарища к таможне и обратно.
И он поспешил в таможенный зал. И нашел кабинет начальника, в котором находилось пятеро штатских. Он не знал, что, когда автобус приблизился к зданию, Чернышев снял с телефонного аппарата трубку и положил на стол. Ничего не заподозрив, Внуский весело ткнул пальцем в трубку:
— По этому телефону меня вызывают?
И тогда, когда услышал гудок, он, все еще не беспокоясь, разочарованно произнес:
— Не дождались… Жаль… А не назвались, кто звонил? — И тут он увидел, что стоит в окружении четырех мужчин.
Высокий широкоплечий (это был Чернышев) прочел на его лице испуг, шагнул к нему и весомо произнес:
— Гражданин Внуский, вы задержаны.
Внуский давно готовил себя к такому повороту событий, знал, что может так произойти, и был уверен, что сумеет держать себя в руках, не даст ошеломить, будет тверд и непроницаем. Но внезапность перехода от радостного ожидания встречи с патроном к разоблачению ошеломила его и не позволила сразу принять верный тон. Он даже забыл возмутиться. Он растерянно смотрел на крепкого седого мужчину с густыми бровями.
— Поднимите руки, — сказал ему тот, кто стоял у него за спиной.
И он покорно поднял руки. Потом он клял себя, что не шумел, не протестовал, ибо в этом возмущении видел свой единственный шанс. Но это потом, а в этот момент он совершенно не контролировал свое поведение. Слишком сильно было потрясение… Думал ли он о семье, о том, как озадачены будут его сослуживцы, когда станет ясно, кем был Внуский? Нет, пожалуй, ничего подобного в его голове не мелькало. Только одна мысль билась в его висках и не находила выхода. На чем он попался? На чем?! Как же так? Вот и НЕ ПРОШЛО. НЕ ПРОШЛО! Он жалел себя, роптал на судьбу, что не дала ему выскользнуть из сетей, он оплакивал себя и в то же время усиленно искал выхода, веря еще, что все должно закончиться благополучно. Это для других в такой ситуации со всем покончено, а он, Внуский, должен выскользнуть, должен выкарабкаться. Для него НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ выхода! И он вспомнил, как успокаивал его шеф, как намекал, что даже при самом худшем варианте он не останется в одиночестве. Они помогут ему. Они обменяют его на советского разведчика. ОБМЕН! Да, да, это то, что его выручит! ОБМЕН! Так делали и так будут делать! Они обменяют его, обязательно обменяют! Ведь он им был очень полезен. Он дал им то, что не сумели бы добыть им их лучшие шпионы, профессионалы-разведчики! Ему это говорил — и причем неоднократно — сам шеф. Они узнают о том, что его взяли, и тотчас же приступят к переговорам!
Он стал приходить в себя. Он чувствовал, как руки человека, стоявшего у него за спиной, медленно и ловко обшаривали его с ног до головы, и с облегчением подумал о том, что прекрасно сделал, упрятав пленку не при себе, а в чемоданчике, уже загруженном в самолет, который вот-вот отправится в полет по привычному курсу…
— Не волнуйтесь о багаже, — точно подслушав его мысли, произнес седой мужчина, не сводивший с него глаз. — Ваш чемодан не загружен в самолет.
«И это они предусмотрели, — с досадой подумал Внуский и тут же сам себя оборвал — А чего ту удивляешься? Так и должно быть».
Пальцы ощупывавшего его человека наткнулись в наружном кармане пиджака на авиационный билет, ловко вытащили его и протянули высокому человеку:
— Пожалуйста!
Человек развернул билет, убедившись в его достоверности, довольно кивнул Внускому:
— Используем. — Он торопливо застегнул плащ, взял со стола шляпу, в ответ на недоуменный взгляд Внуского пояснил: — Полечу вместо вас. Не пропадать же билету! И не волнуйтесь за контракт — он будет подписан.
Двойник Внуского поднял на прощанье ладонь и быстро направился к двери, возле которой стоял автобус.
Внуский вспомнил, что всегда, когда он отправлялся в заграничную поездку, шефу бывало известно, кто его провожал и с кем он выпивал бокал на посошок у стойки бара в зале ожидания «Интуриста»… Наверняка кто-то и сейчас следит за ним. И ему оттуда, из зала ожидания, конечно же, не разглядеть, что произошла подмена. Он только увидит, что из дверей помещения выскочил человек в таком же плаще, в такой же шляпе, что носит и бнуский, и с такой же походкой, что и у Внуского, — и, конемно, у него не возникнет сомнений, что в самолет сел именно Внуский. «И это учли! — с содроганием подумал Внуский. — Значит, им все известно, значит, от них ничего не скроешь».
…Окно кабинета, в котором происходил допрос, выходило во двор с аккуратным чистеньким бульварчиком. За столом сидел уже знакомый Внускому седой мужчина, без всякого гнева взглянувший на него и продолжавший телефонный разговор:
— Так думаешь? Да нет, чепуха… Можно…
Один из сопровождавших Внуского поставил стул напротив стола. Седой кивнул головой — мягко и добродушно. Внуский сел. Мозг его лихорадочно прикидывал, какие же улики могли иметь против него органы, что им известно. У него ничего не нашли. А как только вскроют чемодан, пленка тоже перестанет быть уликой, потому что он применил тот фокус, которому научил его шеф: он заложил ее в темноте в чемодан с таким расчетом, что если вдруг кому-то вздумается проверить, что он везет с собой, то при вскрытии чемодана она мгновенно засветится. Можно заявить, что пленка была чистая. И на вопрос, почему он так уложил ее, сознаться на незнание, что пакет, в котором она находилась, порван и просвечивается… Так что с этой стороны опасности нет. В чем он ошибся? Или кто-то выдал его? Кто?
Седой набрал номер телефона, спросил:
— Ну как? Хорошо… И ее? Прекрасно. Теперь задержите его… — Положив трубку, он кивнул сотрудникам: — Нортон арестован. Ждут с минуты на минуту Торма.
«И их взяли?! — вздрогнул Внуский. — Значит за нами следили? Чего же я? Чего молчу? Я должен выскользнуть! Должен! Шуми же! Протестуй! Отрицай!» И он вскинулся, обратился к седому:
— Я не понимаю, что произошло…
Мамсуров поморщился и покачал головой:
— Не надо Внуский, не стоит… Мы вам сейчас покажем маленький немой фильм. И вы все поймете. Дальнейшее будет зависеть от вас. Пожелаете сразу все без утайки рассказать, выслушаем. Согласны?
— Вынужден покориться, — пожал плечами Внуский.
Генерал кивнул людям в штатском на окно:
— Затемните… А я тем временем сделаю еще один звонок… Я обещал внуку сходить в цирк.
…Фильм был о нем, о Внуском. Кинооператор не сводил с него объектива. Ничего другого и никого другого аппарат не фиксировал — только Внуского. Вот он вышел из здания, где служил, обошел «Волгу», открыл дверцу, отключил тайную сигнализацию, сел за руль… Машина двинулась — и камера поспешила следом. Оператор ухитрился и в пути держать на прицеле только Внуского. Видимо, машина с оператором двигалась слева от него… И он, Внуский, не видел! Он чертыхнулся — ведь он был уверен, что очень хитер и внимательно следит за тем, чтобы никто не увязался за ним. Когда и куда он ездил в этом костюме в клеточку? Пожалуй, месяц назад это было. Да-да… Боже мой! Прошел целый месяц! Значит, месяц за ним следили. А он, болван, был спокоен и даже радовался, что у него все так хорошо складывается. Целый месяц! В этот период он даже выезжал за границу!
Боже мой, неужели и там за ним было установлено наблюдение? Тогда им известно и то, куда он исчезал каждый вечер! Тогда им известно и то, что он отправлялся в коттедж, где его ждали трое: шеф, непосредственно руководивший им, специалист по радиоаппаратуре, технике передачи и приема сигналов и шифровальщик. И каждый вечер с семи часов до одиннадцати они показывали ему хитрости шпионской техники. А потом к дому подъезжал автомобиль — каждый раз новой марки, и в нем находился каждый раз другой шофер, но в глубине машины каждый раз сидел его большой друг, и они отправлялись погулять в очередной ночной клуб. Неужели и это им известно?!
На экране между тем «Волга» остановилась на площади, и Внуский неторопливо вышел из автомобиля и направился к одному из телефонов-автоматов. Вот он воткнул в дырку двушку, прикрыл телефон спиной… «Молодец!» — похвалил он сам себя, убедившись, что оператору, как он ни пытался, не удалось взять под прицел объектива аппарат. Стал набирать номер. Ну, им неизвестно, куда он звонит. Сейчас, наверное, начнут требовать, чтоб он им назвал его. А он этого не сделает.
— Вот, — удовлетворенно сказал Хаджумар. — Вот вы и набрали номер 436-94-75. Гудок, второй, третий, четвертый… Наконец подняли трубку. Вы, Внуский, слышите голос, но не отвечаете. Вы кладете трубку и вновь набираете. И опять не отвечаете на отзыв… Условный сигнал подан… Теперь вам пора отправляться по маршруту… Поехали…
Внуский почувствовал, как глубоко в желудке возникла горячая волна, тошнота подкатила к горлу и слабость, набирая скорость, побежала по всему телу, покрывая его холодным потом.
Глава 10
Сверкающим покрывалом навис над залом потолок. Люминесцентные лампы были хитроумно упрятаны, скрыты от глаз, но свет их проникал в помещение, проникал в каждый угол, ярко выделял многокрасочный рисунок пышного ковралана, покрывшего пол. Несмотря на отсутствие окон, здесь было обилие света и не верилось, что зал под землей.
— И все-таки это так, — довольный эффектом, произведенным дворцом, заявил сопровождавший Мамсурова студент-немец, специализировавшийся в Мюнхенском университете по русской филологии, и привычно тряхнул головой, после чего его светлые длинные волосы веером улеглись на спине. Четко подбирая слова, он дотошно пояснил: — Потолок зала находится на глубине пяти метров, пол — двенадцати… Связь с поверхностью только через лифты.
Амфитеатром расположились бесконечныеряды кресел, обитых желтым бархатистым поролоном. Вдоль первого ряда медленно двигался телевизионный оператор, целясь портативной камерой, примостившейся на его правом плече, в седовласых мужчин, похожих друг на друга из-за черных костюмов и огромных очков. Хаджумар невольно отметил, что добрая треть их была, как и он, в возрасте, близком к рубежу шестидесяти лет.
— Вот ваш ряд, — остановился студент. — Сейчас отыщем и ваше место.
— Ничего, я сам, — посмотрел в пригласительный билет Хаджумар.
— С вашего позволения… — Уверенный в своих познаниях русского языка, Отто чопорно, особо жестко подчеркивая каждый слог, произнес: — Я вас покину на несколько… мгновений. — Он слегка поклонился и — высокий, худощавый, легкий — деловито направился к двери.
Пробираясь к пятнадцатому месту, Хаджумар еще издали приметил пожилого мужчину, пристально следившего за его продвижением. Он сидел выпрямившись, не облокачиваясь на спинку кресла. «Армеец», — определил Хаджумар и, приблизившись (их места оказались рядом), слегка кивнул. Продолговатое лицо, светло-зеленые пронзительные глаза и насупленные брови кого-то ему напоминали. Тонкая кисть соседа с длинными узловатыми пальцами лежала на подлокотнике ладонью вниз и нервно отбивала какую-то маршевую мелодию.
Хаджумар, чтоб не выдать своего любопытства и спокойно поискать в памяти похожий незабытый образ, повел взглядом по рядам.
Зал постепенно наполнялся. На сцене, украшенной глобусом и зеленой ветвью, пересекающей материки, показался уже знакомый Хаджумару, вчера устраивавший его в гостиницу, распорядитель, положил на стол президиума папку, вероятно, с текстом выступлений и резолюцией, прошел к трибуне, откупорил бутылку воды, поставил рядом стакан и еще раз окинул сцену, прикидывая, все ли учтено. Удовлетворившись, направился за кулисы.
Повеяло свежим воздухом. Хаджумар поискал глазами, выискивая, где укрылось отверстие, сквозь которое конденсаторы подавали его в зал. Сосед по-своему расценил его взгляд и, обернувшись к Хаджумару, сказал по-английски:
— Конечно, можно было нанять другое, более привычное помещение, но организаторы форума остановились на этом подземелье, чтобы подчеркнуть символ — человечеству сейчас спокойнее всего под землей… — Он усмехнулся скептически: — Они верят в успех затеянного и, выходя отсюда на поверхность, как бы провозгласят миру: форум выводит человечество из подземелья на простор… Сколько в этом утопического и трогательно наивного! Не так ли?
— Об этом лучше судить после завершения работы, — улыбнулся Хаджумар, не оставляя попытки вспомнить, где же он видел этого человека.
— Яволь, яволь. Конечно, — охотно закивал головой сосед и признался: — Я постоянно задаю себе вопрос: разве можно ждать результатов от форумов? Катастрофа надвигается на человечество, ее не остановить словами. Люди поклоняются только силе. Кулак и броня — вот аргумент, что во все века действовал безотказно. И это доказывали и мы с вами, генерал…
Генерал? Хаджумар быстро глянул на него. Смутно появилось лицо, которое напоминало соседа… Да, глаза те же, брови, рот… Неужто это он? Но как он здесь? И почему? Он же…
— Да, да, яволь, — слабо улыбнулся сосед. — Мы с вами, господин генерал, знакомы уже много лет. Знакомы, как… враги. Впервые мы встретились в Испании.
И сразу исчезли сомнения. Конечно же, перед ним генерал Кильтман. Тот, кто в далекие годы шагал по городам и селам Испании, Чехословакии, Франции, Югославии, Польши, Советского Союза. Тот, кто после войны вновь всплыл, уже в бундесвере… А теперь он на форуме ветеранов борьбы за мир, собранном партией зеленых! Невероятно… Или Кильтман здесь как разведчик?
Воистину — пути господни неисповедимы. Неожиданно получив приглашение в ФРГ на форум защитников мира, он поехал посоветоваться к своему бывшему начальнику, а теперь персональному пенсионеру Ивану Петровичу Корзину. Они вместе стали гадать, почему приглашение пришло именно Хаджумару, ведь там, за кордоном, известно, в каком вёдомстве и кем служил Мамсуров. Они ломали голову, не ловушка ли это. Не желанием ли выманить Хаджумара в Западную Германию продиктовано это приглашение? И чем эта поездка может обернуться для него? В конце концов, взвесив все «за» и «против», Иван Петрович заявил: «Думаю, не стоит отказываться. Это ими может быть расценено как нежелание советского генерала бороться за мир. А в сегодняшней ситуации, когда в мире столько еще бряцания оружием, важно еще и еще раз показать, что мы ценим движение борцов за мир и мы заодно с ними».
И вот теперь эта встреча… И с кем?! Поверить в то, что Кильтман не ведал, кто будет сидеть рядом с ним?
Мамсуров, усмехнувшись, произнес:
— Случай опять свел нас.
— Увы, это не случай, — отозвался Кильтман. — Когда организаторы форума посетили меня, уговаривая принять участие, я вдруг вспомнил о вас и выдвинул условие. Им это понравилось — усадить в зале рядом тех, кто воевал друг против друга.
Неужто провокация? Не спеши, Хаджумар, не спеши.
— Но по натуре я стал скептиком: был уверен, что вы не отзоветесь…
Не торопись, Хаджумар. Выслушай, спроси, чем же руководствовался Кильтман, выдвигая условие?
— Все последние годы я мысленно беседовал с вами. — Кильтман пристально посмотрел на Мамсурова. — Провидение нас трижды столкнуло друг с другом.
«Трижды? — усмехнулся про себя Хаджумар. — Ошибаетесь, господин генерал. Пять раз».
— Во имя чего? Меня упорно мучает эта мысль.
— Мы не могли не столкнуться, — кивнул головой Хаджумар. — Вы боролись против идеи, которую защищал я.
Ему вспомнились встречи с Кильтманом и в Испании, и в одной из европейских стран… И вот пятая встреча. И вновь на чужой земле. И он, генерал Мамсуров, мирно сидит сейчас рядом с Кильтманом, не ставшим другим за все эти долгие годы. И он произнес:
— Все наши встречи закономерны. Кроме… сегодняшней.
Кильтман нахмурился.
— Не намекаете ли вы на то, что мое присутствие здесь выглядит несколько… хм… странно?
Хаджумар серьезно кивнул головой.
— Вся наша жизнь, господин Кильтман, была, по сути дела, посвящена другому. Генерал Кильтман и война, генерал Кильтман и пепелища, генерал Кильтман и… простите… смерть — это звучит привычно… Но генерал Кильтман и… мир. Это немыслимо!
— Позвольте! — возразил Кильтман. — Вы тоже генерал, и тоже ходите в мундире, и в руках у ваших солдат были не детские побрякушки, а оружие, которое несло огонь и гибель… Ваша артиллерия тоже стреляла снарядами, ваши Пулеметы посылали очереди свинцовых пуль, ваши самолеты бомбили не шоколадками и тортами, а бомбами, взрывы которых рушили здания и рыли воронки глубиной до десяти метров. Оттого, что оружие находилось в руках ваших солдат, оно не становилось безобидным.
— Да, и мы берем в руки оружие. Мы тоже, когда требуется, нажимаем на курок. Но спросите меня: ради чего? И я отвечу: ради того, чтобы этого больше не было.
— Вы все еще верите, что человечество может жить без войны? — Кильтман не стал скрывать своего изумления, он смотрел на собеседника широко открытыми глазами. — Как можно? Вся история человечества — сплошная череда зла и насилия. Да возьмите те семь десятилетий, что проскочили у нас на глазах. Из года в год насилие усиливалось. Крупные державы поглощали мелкие, сильные личности брали власть в свои руки, заставляли массы поклоняться себе… Это происходит не только в каких-то отдельных странах. Это явление общее, повсеместное… Не перебивайте, пожалуйста, меня. На каждый ваш факт добра я приведу десятки, нет, сотни фактов зла и насилия. В этом — все человечество! Мир содрогается от того, что творится на Ближнем Востоке, в Центральной Америке. Масштабы насилия становятся все глубже, а круг пострадавших — шире. И это характерно не только для международной политики. Посмотрите на деяния мафии, террористов, бизнеса. Группы вооруженных молодчиков бродят по паркам и улицам, грабят стариков и издеваются над женщинами и подростками. Мир всегда поклонялся силе, а теперь вообще не представляет себя без власти сильных над слабыми.
— Наконец я узнаю вас, генерал Кильтман, — произнес Хаджумар. — Вы заговорили своим языком.
— Я всегда говорил своим языком, — гордо вскинул голову Кильтман. — Эти мысли — мои убеждения. Так устроен мир, и ничто не в состоянии его изменить. Говоря вашими фразами: так было, так есть, так будет. Это естественное состояние мира, и я твердо убежден, что шел единственно верной стезей — оружием доказывал, что я и моя отчизна сильны и нам предназначено быть не жертвой истории, а властителями мира.
— Когда вы мчались по дорогам Европы, сметая все на своем пути, у вас, конечно, не было никаких сомнений в своей правоте. Но после Сталинграда не задумались ли вы?
— После Сталинграда… — прикрыл на минуту глаза Кильтман, — я понял, что допущен просчет, и цена ему — крах Дойчланда. Я мечтал о смерти. Я не хотел видеть, как война шагает, разрушая города, по моей родине. Было страшно. И это чувство не прошло до сих пор. Нет, нет, мы не слабы — моя Германия вновь выпрямилась и зацвела. Но мы, как это ни горько сознавать, не свободны в своих помыслах и делах.
— Иными словами, вы поняли, что глубоко заблуждались? Служили не той цели?
— Неправда. — Кильтман повернулся всем телом к Хаджумару. — У меня ясная цель в жизни — я служил и служу Германии. Не вздумайте убедить себя, что я нахожусь здесь потому, что собираюсь перейти в ваш лагерь. Это не так. Я здесь потому, что — как заявили мне эти крикуны — это требуется Германии, моему народу.
— Скажите откровенно, как вы стали военным?
— В том нет тайны. Военный мундир я выбрал не сам. Задолго — даже не за годы, за столетия до моего рождения — судьба избрала его для меня. И когда я впервые столкнулся с тем, к чему, к каким лишениям принуждает военная форма, я своим детским умом ужаснулся. Я даже бежал домой. Я, потомок Кильтманов, тайно покинул корпус. Но вскоре на смену слабости пришло прозрение; я понял: мир взрослых надо принимать таким, каков он есть. И я стал верным воином своей родины…
Устроители форума поприветствовали собравшихся в зале, особую благодарность каждый из них счел нужным выразить прибывшим из-за рубежа. Начались выступления. Манера у ораторов была разная: кто говорил горячо, захлебываясь словами, кто сухо, подчеркнуто бесстрастно, — но у всех сквозили тревога и боль; каждым владело предчувствие всемирной катастрофы.
— …Земля перегружена взрывчаткой, — предупреждающе поднимал палец известный физик-атомщик. — На каждого европейца приходится ядерный заряд, мощность которого превышает шестьдесят тонн тринитротолуола. От него не скрыться и в глубоком подземелье…
— …Крылатые ракеты чудовищны по конструкторским замыслам, — доказывал бесстрастным голосом изобретатель из Великобритании. — Они идут по-над самой землей, и их траектория меняется в зависимости от рельефа местности. Практически невозможно перехватить и уничтожить эти носители смерти…
Мамсуров слушал с интересом даже тех, чьи рассуждения были до нелепости наивными, ибо основывались не на науке, а на случайных житейских ситуациях. Внимание же генерала Кильтмана раздваивалось: он то приникал к наушникам, в которых можно было, нажав на кнопку, услышать перевод речей на одном из шести европейских языков, то неторопливо поворачивался к соседу — его так и распирали воспоминания.
— Сегодня каждый должен видеть разницу между прежними войнами и будущей, — говорил епископ из Дании. — Будущая война — это не борьба за победу, ибо победителей не будет. Все и вся погибнет. Будущая война — это катастрофа не отдельных народов, а всего человечества…
Несколько мгновений Кильтман молча переваривал эти слова, потом посмотрел на Хаджумара:
— А вы, советские военные, понимаете, что мы с вами возьмем с собой в могилу все человечество? И тех, кто только вступает в жизнь, и тех, кто…
— И тех, кто еще не родился, — подсказал Хаджумар. — Оратор прав: атомная война уничтожит и будущее. Этим она отличается от прежних…
— …Когда наступит тишина, понятия «победа» и «гибель» станут идентичными, — предсказывал датчанин. — Невероятно, но факт — никто не скажет: я победил. Люди успеют лишь проклясть того, кто первым нажал кнопку…
— Вы не задумывались, почему в тридцать шестом мы пришли на помощь испанцам? — спросил Хаджумар Кильтмана. — Мы тогда уже знали, что произойдет цепная реакция, и поэтому ее необходимо в зародыше предотвратить…
— Вы думаете, истоки сегодняшней ситуации там? — ужаснулся этой мысли Кильтман и покачал головой: — Нет, нет, разве мы ставили перед собой конечную цель — гибель человечества? И вы, и мы мечтали о победе — каждый о своей… Будем откровенны. Вы генерал, и я генерал. И вы, и я, отдавая приказ идти в бой, посылали людей на гибель. Когда выигрывают бой, погибших не считают. Но если потерпите поражение, вам вспомнят и то, в чем вы не виноваты! Я проиграл — вот вам и легко по-своему трактовать факты прошлого…
Чем дольше длился форум, тем сильнее раздирали его противоречиями ораторы. Каждый выдвигал свое средство спасения мира. Были и серьезные предложения, и наивные, и просто курьезные:
— Господа! Сравните две цифры: двадцать девять минут и пять минут, — гремел в микрофон ученый из Франции. — За двадцать девять минут ракетоносец преодолевает расстояние от Америки до территории СССР. Тем же «Першингам-2» и крылатым ракетам требуется всего пять минут, чтоб достичь границ СССР и государств Западной Европы. Всего пять минут! Случись непредвиденное и сработай автоматический механизм пуска, через две минуты средства слежения сообщат противной стороне, что ракета летит на них. Если компьютер ошибся в США, то еще будет двадцать семь минут на то, чтобы двум правительствам связаться, объясниться, избежать цепной реакции, предотвратить ответный удар. Можно еще успеть уладить недоразумение… Но когда времени всего пять минут! Пять минут! Тут же последует удар возмездия всей мощью. И через пять минут Европа перестанет существовать. Через пять минут, господа! Отсчет этих пяти минут может начаться сию минуту, — ужаснулся ученый. — Может, уже начался?!
— Да, это верный подсчет, — кивнул Кильтман. — Пять минут — и не станет Европы… — В глазах немецкого генерала притаился страх, из груди вырвался вздох: — Майн гот!
— Понимая это, как вы, западные немцы, разрешили американцам расположить «Першинги-2» и крылатые ракеты на территории ФРГ? — спросил Мамсуров. — Не есть ли это самоубийство, сознательное безумие?
— Я всегда считал: чем более мощным оружием мы располагаем, тем спокойнее для Дойчланд, никто не посмеет потревожить ее. И не стоит прислушиваться к болтовне штатской мелюзги, которая во все века кричала о мире и разоружении. И не думайте, что американцы нас обманули. Мы раскусили их, увидели, в чем их хитрость. И сознательно пошли на размещение «першингов» и крылатых ракет на территории ФРГ.
— И теперь радуетесь, глядя, как они замерли возле ваших домов, зловеще ощетинившись на Восток, — сказал Хаджумар.
— А оттуда на нашу землю смотрят ваши ракеты. Молча. Пристально. Готовые каждую секунду вырваться из своих шахт, — холодно парировал Кильтман. — Такова жизнь… И приходится играть в ее жестокие игры.
На трибуне сменился оратор. Теперь выступал молодой мужчина, широкие темные очки скрывали пол-лица…
Внезапно Кильтман зааплодировал. Хаджумар покосился на него.
— Этот парень мне нравится, — сказал Кильтман. — Он смотрит в корень. Уговорить людей действовать сообща трудно. А вот суметь внушить им страх — это уже что-то. Заимей он одну-вторую ракету — и к нему прислушаются.
— Терроризм в борьбе за мир? — усмехнулся Хаджумар. — Это что-то новое в политике.
— Сейчас не время церемониться, — упрямо гнул свое Кильтман. — Или мы их прижмем к стенке, или они нас.
— Кого это их?
— Политиканов, что у власти. На совесть их воздействовать — гиблое дело. Нужна сила, угрожающая каждому из них… Если бы можно было сразу их всех изолировать, — мечтательно сказал Кильтман. — Раз! — и сразу чтоб они оказались в наших руках.
— Знакомые способы, — покачал головой Хаджумар. — И помнится — вы их охотно пускали в ход.
— Пускали, — не стал отнекиваться Кильтман. — И зачастую они давали эффект… Откровенно говоря, я был сторонником джентльменского сражения с противником — на поле боя, с мечом в руках… Но один человек раскрыл мне глаза.
— Не генерал ли Гете? — спросил Хаджумар. — И не в тридцать девятом ли году, когда вы взялись доставить в Берлин задержанную пограничниками одной из восточноевропейских стран группу пытавшихся перебраться через границу в Союз?
— Точное попадание!.. Но зачем вы напомнили мне ту неудачу? Впрочем, я доставил бы их в Берлин, если бы не проклятый туман, что густой пеленой навис над аэродромом… Генерал Гете дал мне семь часов на путь до заставы. Туман задержал мое прибытие туда на двенадцать часов… День, когда я возвратился в Берлин, был самым ужасным в моей жизни… — Кильтман помолчал, заново переживая давнюю историю, потом продолжил:
* * *
— …Гете был взбешен. Он не скрывал, что недоволен мной. Он ничего не хотел знать. Бегал по кабинету и рычал на меня: «Провалить такое дело?!» «Я сделал все, что мог», — защищался я. «Значит, ваши возможности ничтожны!» — взревел Гете. «Я просил вас не направлять меня на это задание». «Представляю себе: вся застава лежит пластом, связанная и молчаливая! — в негодовании воскликнул Гете. — И начальник заставы уверяет, что это произошло без всякого шума?! Я уверен: здесь не обошлось без русских». «Один из солдат слышал, как нападавший позвал другого по-испански: „Амиго!“» — вспомнил я. «Чепуха! — отрезал Гете и задумчиво пробормотал: — Нам нужен один факт… Маленький факт о вмешательстве русских во внутренние дела соседней страны… И все!» — «Война?» — «Они еще не перевооружили армию, — сказал весомо Гете. — Они не станут артачиться, они выполнят все наши требования… Но нужен повод! По-вод!.. — Он деловито спросил: — Так что там за глухонемой?» — «Он сидел на берегу моря… — пояснил я. — Недалеко от того места, где заканчивались следы…» «Боже мой! Преследовать похитителей и привести… жалкого глухонемого! — рассердился опять Гете, но сдержал себя. — Как он выглядит?» — «Тупое выражение… Полуголый. Вид такой, точно неделю по морю его таскало, пока выбросило на берег. Мы объехали сотню километров по побережью — жители его не знают…» — «Он должен заговорить, ваш глухонемой!» — резко заявил Гете. «Профессор исследовал его и пришел к выводу, что он и в самом деле глухонемой», — сообщил я и рассказал дяде о методе ученого, который, уяснив стоящую перед ним задачу, пояснил, что можно симулировать шизофрению, болезнь сердца. Наконец, притвориться калекой. И можно ввести врачей в заблуждение при соответствующем таланте — история знает много удачливых симулянтов. Но притвориться глухонемым — безумие. Немой мыслит без помощи слов — только понятиями: ведь он в жизни не слышал ни одного слова. Обыкновенный же человек, хочет он этого или нет, думает — ну хотя бы о том, что ему нельзя отвечать, — с помощью конкретных слов. Профессор создал аппарат, который и определил, что наш пациент мыслит без слов, а следовательно, он глухонемой. «Не верю, не верю профессору! — отмахнулся Гете. — Этот „глухонемой“ — один из тех, кто причастен к нападению на заставу. И мы разоблачим его». И он приказал отдать его парням Миллера, заявив, что от их «приборов» тот заговорит!
— Да, они умели устраивать проверку, — глухо произнес Хаджумар.
Кильтман, недоумевая, посмотрел на него. Советский генерал намекает на то, что знает парней Миллера? Откуда? Или он сам неточно построил фразу на английском языке?
Хаджумар слегка отвернул рукав пиджака:
— Вот. Шрамы. Как видите, кандалы я знаю не только по рисункам в учебниках истории. Мне их пришлось таскать шесть месяцев на руках и ногах.
— Вы… Вы… — От догадки генерал Кильтман стал заикаться. — Вы хотите сказать, что побывали в наших руках?
— Да, мы сегодня не в первый раз встретились, генерал Кильтман. Всмотритесь. Похож я… на глухонемого? — усмехнулся Хаджумар. — Да, да, это меня после пыток, заковав в кандалы, отправили в шахту…
— Фантазия! — упавшим голосом произнес Кильтман. — Это были вы… Но ведь ученый? И агенты, которые вели за вами слежку в шахтах… Ганс, Макс, Рыжий и… и… — Он хитро глянул на Хаджумара, еще раз проверяя его, чтоб окончательно убедиться, тот ли «глухонемой» перед ним.
— И Геральд, — подтвердил Хаджумар.
— Да, и он. Их проверка подтвердила диагноз ученого.
— Им все хотелось узнать, слышу ли я, — горько произнес Хаджумар. — Возле спящего бросали ведра, кричали «Пожар!», «Караул!». Спишь — а сам в напряжений: не вскочить бы, не открыть глаза… Не знаю, спал ли или только глаза закрывал. Досталось и вашим агентам — больше месяца никто из них не выдерживал в этой дыре.
— Вы живы. А мне докладывали, что вы упали в шахту.
— Друзья инсценировали несчастный случай. Месяц скрывали в шахте.
— Кто вам помогал? В шахте, кроме немцев, никого не было!
— И среди немцев есть коммунисты…
— Я не верю, чтобы тогда… После трагедии в Сталинграде я допускаю мысль, но тогда… Нация была сплоченной и верной фюреру.
— Вам хотелось, чтобы так было.
— Я еще в Испании поверил, что мы рано или поздно, но встретимся, — сказал Кильтман и огорченно покачал головой. — И вот так… держать вас в руках — и не знать, что это вы! Потом еще представился случай схватить вас. Знаете когда?
— В сорок первом — на Украине… — Щелки глаз Хаджумара сузились в гневе. — Вы тогда две недели гоняли нас, голодных, измученных, — остатки разбитого полка, по лесам и полям. Танки бросали на нас, авиацию.
— Мне очень хотелось вас заполучить, — признался Кильтман. — Это прозвучало бы символично: сражавшиеся в Испании друг против друга завершили спор на российской земле. Но вы выскользнули из мешка.
— Я тоже верил, что мы еще встретимся друг с другом. И это случилось.
— В сорок четвертом, — кивнул согласно головой Кильтман. — Об этом я узнал после войны. Но признайтесь: ваше решение встать у меня на пути было… авантюрой? Я мог сбросить вас в реку.
Хаджумар не стал возражать.
* * *
Генерал видел, что нельзя принимать такое решение, что это рискованно, но вновь и вновь крутил карту, заходил к ней с разных сторон, то смотрел издали, то низко склонялся к ней, но она неумолимо втолковывала: чуда не существует, не за что зацепиться. Примитивный подсчет тоже утверждал: не остановить врага, который чуть ли не в девять раз превышает по своим силам и огневой мощи его дивизию… Но почему Хаджумар медлил? Почему не мог произнести нескольких коротких фраз, после которых войска отошли бы в сторону и пропустили немецкие дивизии, уползавшие к границам рейха? Опыт, военная наука убеждали его: нет причин для оптимизма, а он никак не желал примириться с очевидным и отогнать наваждение, которое основано было лишь на ненависти.
Громкий голос радистки, сидевшей под деревом метрах в семи от генерала, отвлекал от мучительных поисков, мешал сосредоточиться. Хаджумар поднял голову, прислушался. Так и есть, раз Наташа насторожилась, отвечает сухо, сугубо официальными фразами, значит, у рации Корзин.
— Извиняюсь, товарищ Главный! — вырвалось у радистки.
— «Извиняюсь»? — загремело в рации. — Погоны-то есть у вас на плечах?
— Есть, товарищ Главный! Сержанту Котовой без погон никак нельзя!
— Я вас слушаю, товарищ Главный, — сказал Хаджумар.
— Говорю тебе открытым текстом. Противник отступает в направлении Кузово значительными силами. Приказываю — в соприкосновение не входить. Отойти на юг, к высоте 1417. Все ясно?
Хаджумар покосился на Наташу, которая машинально кивнула головой. «Вот и ей ясно, — досадливо подумал он. — Всем ясно. И генералу-пруссаку ясно, что Хаджумар сейчас отступит в сторону, пропуская его. Но неужели так и следует поступить — шаг в сторону, чтоб враг ненароком не зашиб?» Мамсуров почувствовал, как внутри стало закипать то самое чувство, что заставляет идти наперекор всему, даже логике.
— Знаете, товарищ Главный, чья армия перед нами? — спросил Хаджумар.
— Генерала Кильтмана.
— Того самого, что в сорок первом две недели преследовал нас.
— Ничего, он от нас далеко не уйдет.
— Вот и я говорю: мы его можем взять в мешок, — подхватил Мамсуров.
— Как это? — спросил Корзин.
— А просто: Кильтману необходимо стремительно форсировать реку, чтоб избежать окружения. Мы встанем у него на пути и…
— Ты не успеешь переправиться на тот берег.
— Зачем переправляться? Мы займем оборону на левом берегу.
— У Кильтмана танки, — закричал Корзин. — Он вас сбросит в реку.
— Не уверен, — возразил Хаджумар. — Он не ожидает, что мы пойдем на риск. Да и вы не дадите ему времени на подготовку удара.
— Чушь! — рассердился Корзин. — Твои кавалеристы устали, трое суток без сна… У Кильтмана девять дивизий. Значит, каждому из вас предстоит драться с девятью фашистами.
— Главный никогда не меняет своих приказов, — сказала будто сама себе Наташа, но так, чтобы ее услышал комдив.
— Товарищ Главный, не могу забыть сорок первый. Кильтман чувствовал тогда себя охотником, безнаказанно преследующим дичь. Теперь пусть сам испытает, каково дичи.
— Кровная месть кавказца?! — рассердился Корзин.
— Можете называть так.
— Без кавказских шуток, Хаджумар! — закричал Корзин. — Сейчас не сорок первый — зря рисковать не стоит. Приказываю в соприкосновение не входить!
Мамсуров покосился на Наташу, которая горестно покачала головой, неожиданно наклонился к самому аппарату и громко закричал:
— Куда вы исчезли, товарищ Главный? Я вас не слышу!
Наташа удивленно зыркнула на него отчаянными глазами и начала крутить ручку, но Хаджумар плечом слегка оттолкнул ее в сторону.
— Приказываю идти на юг! Приказываю идти на юг! — неслось из рации четко и громко. — Хаджумар, ты меня слышишь?
Наташа качнулась было к рации, готовая ответить, но Мамсуров удержал ее и, прижав палец к губам, приказал ей молчать, а сам закричал:
— Товарищ Главный! Почему молчите? Товарищ Главный!..
— Я вас слышу! Слышу! И приказываю вам отходить на юг! — надрывалась рация.
— Совсем не слышно, — пробормотал комдив. — Что у них могло случиться? — И выключил рацию.
— Согласно инструкции я обязана… — непреклонно начала Наташа.
— Ты не сделаешь этого. Я все беру на себя.
— Я слышала приказ.
— Он предназначен мне. — Хаджумар повысил голос. — Товарищ сержант, слушайте мою команду!
Наташа привычно вытянулась.
— Кругом! Три шага вперед, марш!
Наташа послушно выполнила приказ.
— Стоять смирно!
Из-за деревьев показался Крылов, вытянулся перед комдивом:
— Товарищ генерал, ваше приказание выполнено. В одиннадцать ноль-ноль все командиры полков и батальонов будут здесь.
— Прекрасно, — сказал Хаджумар и посмотрел на Наташу. — Товарищ сержант, включите рацию и передавайте шифровкой. — Он продиктовал ей: — «Члену военного совета фронта. Считаю возможным занять позицию на левом берегу реки и преградить путь отходящим дивизиям Кильтмана. Прошу поддержать это решение». Подпись моя. Повторите дважды.
Наташа неожиданно вскочила на ноги и заученно, громко, чересчур громко, высказывая тем самым свою обиду, закричала:
— Слушаюсь, товарищ генерал!
Комдив, скрыв улыбку, обернулся к Крылову:
— Мины расставляют?
Крылов непроизвольно, в тон Наташе, рявкнул:
— Так точно, товарищ генерал! — и, встретив удивленный взгляд Хаджумара, укоризненно глянул на улыбающуюся радистку. — По всему видно, что много танков у него.
— Много, очень много, — думая о своем, произнес Хаджумар и, подняв голову, попросил: — Сходи, Никитич, к минерам, проследи, чтобы был порядок.
— Прослежу, — вовсе не по уставу, просто и серьезно сказал Крылов и торопливо ушел.
…После того как комдив закончил совещание и отпустил командиров, замполит задал вопрос, мучивший его на протяжении всего обсуждения операции:
— Как мы устоим против танков?
— Риск, конечно, есть, Федор Федорович, — тяжело поглядел на него комдив.
— А зачем рисковать жизнью людей? — засомневался тот. — У каждого из бойцов есть матери, жены, дети… Всех нас ждут дома живыми.
Комдив нахмурил брови:
— Знаю, на что иду. И не могу обещать, что никто из нас не погибнет. Это была бы ложь. Предстоящий бой во многих семьях отзовется плачем. Но я знаю: в другой ситуации, чтобы разгромить девять дивизий Кильтмана, от нас потребуется в пять-шесть раз больше жертв. Ясно? В пять-шесть раз! Если не больше! Я это знаю — и иду на риск. Он необходим на войне… — Хаджумар, видя, что и замполит и Наташа смотрят на него косо, добавил: — Силой кулака можно одолеть одного человека, а силой ума — тысячи.
Раздались позывные рации. Наташа бросилась к ней. Хаджумар предупреждающе поднял руку:
— Если Главный — я на передовой.
— Где Пятый? — раздался гневный голос Корзина.
Наташа поглядела на комдива, замполита и нехотя сказала:
— Товарищ Пятый на передовой.
— Скажи, чтоб связался со мной. И еще вот что, Наташа, передай ему: падающий орел или поражает цель или… — Он вдруг сам себя перебил, строго приказал: — Скажи, чтоб связался со мной! — и отключил рацию.
— Почему ты не откликнулся? — удивленно поглядел на комдива Федор Федорович. — И вообще, что он хотел сказать?
— Падающий орел или поражает цель или разбивается о камни, — задумчиво произнес комдив. — С этой поговорки началась моя солдатская жизнь. Ею напутствовал меня на службу мой дядя Саханджери.
— Мне кажется, Главный тоже не одобрит твое решение, — проницательно посмотрел на Хаджумара замполит. — Не так ли?
— Хочу тебя успокоить. Я не позволю Кильтману развернуть все силы. Не позволю, зажав его вот на этом пятачке. Да и времени у него не будет на развертывание, ибо оттуда по нему двинет Корзин. Считай, что соотношение будет один к трем. То есть обычное для обороны и наступления… Если, конечно, все будет так, как я предполагаю.
— А ты уверен, что будет так, как предполагаешь? Ты бы Кильтману подсказал, как ему себя вести.
— И подскажу, — рассердился Хаджумар;— Оружием и огнем подскажу.
…Кильтман был убежден, что впереди у него будет свободный проход. Он знал, что крупных сил у находящихся перед ним советских частей нет. И весьма удивился, когда ему доложили, что его дивизии наткнулись на заслон красных. Он не поверил, что русские не ушли в сторону. Он высказал предположение, что советский комдив не успел этого сделать и поэтому вынужден имитировать бой, с тем чтобы вывести из-под удара дивизию. Он приказал повторить атаку через полчаса, причем бросил в бой танковый полк. К его удивлению, наступающих встретил массированный огонь, заставивший пехоту залечь, а танки повернуть.
— Господин генерал, — доложил ему командир полка. — Мы понесли серьезные потери. Семь танков горят. Не думаю, что это временный заслон. Они создали серьезную систему обороны. Мне нужен час на подготовку солидной атаки.
— Но в нашем положении потерять час — это много! — выразил недовольство генерал Кильтман.
— Мне надо подтянуть силы, — возразил полковник. — Да и артиллерия должна поработать.
— Хорошо, — поразмыслив, согласился Кильтман. — Но смотри, неудачи не должно быть. Нас поджимают основные силы красных. Надо поскорее перебраться через реку.
Через час выяснилось, что одним полком не обойтись. Он был легко рассеян, танки повернули вспять.
Кильтман перебрался поближе к месту боя. Изучив линию обороны красных, он понял: дивизия русских решила дать ему настоящий бой на подступах к реке. Его возмутило именно это: на подступах к реке. Комдив красных, казалось, или ничего не понимал в тактике боя, или был настолько дерзок, что потерял чувство реальности: занял позицию по эту сторону реки. «Ну, держись же! — мысленно пригрозил своему противнику Кильтман. — Сейчас я тебе задам! Знаешь ли ты, что у меня около ста танков и девять дивизий? Твоя разведка плохо поработала… Держись же!» И он стал прикидывать, где какую дивизию развернуть и откуда ударить танками… Но чем больше он всматривался в местность, тем сильнее хмурился. «Ах ты, чертов смельчак, предусмотрел, что на этой местности мне не удастся развернуть все силы. Если бы здесь мне предложили дать парад войск, я мог бы, пожалуй, их выстроить. Но для атаки — не удастся. Не стану же я выстраивать танки в длинную колонну! Как же быть? Надо найти решение, которое позволит сбросить дерзкие части в реку. Но как? В лучшем случае можно двинуть в бой тридцать танков. Будь у меня часа четыре-пять, не сдобровать было бы тебе, самоубийца. Но у меня цейтнот. И именно на это ты рассчитываешь»…
Кильтман, как ни тяжко ему было, невольно с восхищением подумал о смельчаке, что встал у него на пути. Было бы интересно, разгромив дивизию, заполучить его самого в плен, поглядеть, что он из себя представляет. Времени на долгое раздумье не было. Следовало поскорее взорвать эту тощую, но так хитро построенную оборону. И Кильтман решил, что нужно выстроить танки за холмом и постараться провести хотя бы получасовую артподготовку. Конечно, танкам придется под огнем врага выползать из-за холма и выстраиваться в боевые порядки. Но другого плана боя просто не было! Убедившись, что придется вести бой так и только так, Кильтман уверенным тоном, каким он всегда отдавал приказы, дал распоряжение, точно указывая каждому полку рубеж развертывания.
И эта вылазка была с позором отбита. Выяснилось, что советская артиллерия была готова к этому плану атаки и простреляла все пространство, так что быстро вывела из строя одиннадцать танков, а оставшиеся нарвались на минные поля. Пехота, отстреливаясь, стала отползать на исходные позиции.
Повторять атаку не было смысла. Что делать? Надо прорываться. Через два-три часа их догонят основные силы наступающих частей русских, и тогда придется вести бой на два фронта.
Кильтман потребовал рацию, стал приказывать командирам полков:
— «Волчья пасть»! «Волчья пасть»! Слушайте приказ! Вы находитесь под прикрытием высоты 1417. Русские вас не видят. Ваша задача в корне меняется. Танковые ряды следует выстроить так, чтобы ударить по левому флангу русских. Будете идти скученно. Но может, это и не так плохо. Приказываю перестраиваться. О готовности немедленно сообщите!
…Хаджумар понимал, что Кильтман не станет в третий раз бросать войска в лобовую атаку. Значит, что-то предпримет. Но что?
— Гутин! Гутин! Танки перед тобой показались? Я их не вижу.
— Слышу гул танков за высотой 1417, но пока не появляются! — кричал ему по рации возбужденный боем командир полка.
— Не зевай, Гутин, — предупредил комдив и попросил Наташу: — Теперь соедини с разведотрядом.
— Молчат! — отчаянно закричала Наташа. — Молчат!
— Возьми себя в руки, — сказал Хаджумар. — Еще накличешь беду на своего Гарсиа. — Он по опыту знал, что такое предостережение всегда охлаждающе действует на женщин. — Может, отвлеклись, заняты делом. Повторяй попытку за попыткой!
— Есть разведотряд! — радостно протянула наушники генералу Наташа.
— Обстановка изменилась, — доложил Гарсиа.
— Знаю, амиго! Будь настороже, друг! Кильтман мудрит. Мне очень нужно знать, что делают танки за высотой 1417.
Гарсиа минуту молчал, а потом произнес:
— Пятый, Пятый! Я проберусь туда… Отсюда не видно…
— Гарсиа… — глухо начал Хаджумар.
— Я это сделаю, — твердо пообещал разведчик и добавил: — И еще… По вашему сигналу мой разведотряд ударит им в тыл.
— Хорошо, — согласился генерал и попросил: — Будь осторожнее. Это мы тебе говорим вдвоем с Наташей.
— Пусть не волнуется. Будет полный порядок!
— Пусть он останется жив! — зашептала побледневшими губами Наташа, когда генерал отошел в сторону. — Если есть еще справедливость на земле, то он останется жив! Он стал солдатом еще мальчишкой. Он потерял близких. Он потерял Родину. Это несправедливо! Это бесчеловечно! Пусть он останется жив!
И тут рация опять вызвала ее.
— Давай сюда свое начальство, — потребовал Корзин.
— Оно на передовой, — пробормотала Наташа.
— А где ты там тыл нашла? — рассердился Корзин. — Полоска с аршин, а туда же — «на передовой». Быстро! Скажи — согласовать надо совместные действия.
— Хорошо, — покосилась Наташа на подошедшего Хаджумара, — Вот…
— Пятый слушает, — доложил Мамсуров.
— Не Пятый, а хитрый, — поправил его Корзин. — Звонил мне член военного совета… Ты ему дал знать…
— С вами связи не было, — попытался оправдаться комдив.
Корзин тревожно спросил:
— Почему у тебя тихо?
— Кильтман готовится к атаке. Иван Петрович, ваша помощь нужна.
— Докладывай!
— Кильтман ударит по левому флангу. Нет, еще никаких доказательств не имеется, но другого выхода у него нет! Хорошо бы, чтоб с тылу вы ударили. Не мешкая.
— Я еще не готов, — возразил Корзин. — На исходной всего два полка.
— Мы можем не выстоять. Артиллерия левый не берет. Бросил туда всех гранатометчиков, а артиллерию — не успеть!
— Хорошо, — вздохнул Корзин. — Выручу тебя… Совместно ударим по твоему кровнику. Жди сигнала!
— Спасибо! — от души поблагодарил Хаджумар.
…Кильтман негодовал: сколько же это времени надо, чтобы перестроить боевые порядки танков?.
— Черт побери, Бергер, поторопитесь!
— Эти женщины и дети не прошли курс военной подготовки германского вермахта, и их марш-бросок несколько замедлен, — насмешливо ответил Бергер.
— Что вы мелете, генерал? — рассердился Кильтман. — Откуда у вас женщины и дети?
— Но мне приказано ждать, пока подойдет население, согнанное из ближайших деревень, — заявил Бергер.
— Что вы с ними намерены делать? — изумился Кильтман.
— Гнать перед собой, естественно, — сказал Бергер. — Чтоб русские не открыли огонь…
— Вы с ума сошли, Бергер! — закричал Кильтман.
— Но это же ваш приказ!
— Я прусский солдат, генерал Бергер, и никогда не позволю себе прятаться за спинами женщин и детей! — рассвирепел Кильтман.
— Но это в самом деле приказ, — растерялся Бергер.
— Я не отдавал такого приказа!
— Спокойнее, генерал, — услышал Кильтман за своей спиной тихий голос.
Генерал обернулся и встретился с серьезным взглядом мисс Бюстфорт.
— Это мой замысел, — заявила она.
— Как вы смели? — готов был ударить ее Кильтман.
— Он легко отбил ваши атаки, — сказала она.
— Устав гласит: если не удалась атака, проведенная с ходу, следующую надо готовить со всей серьезностью, с артиллерией и авиацией, — зло отчеканил он.
— Это дело долгое, — покачала головой она. — А русские поджимают с востока. Не через час, так через два стукнут. Будет не до прорыва.
— Что вы понимаете в этом! — закричал он. — В шпионском деле да, я прислушиваюсь к вам. Но в военной тактике и стратегии…
— Мы можем их заставить пропустить нас без военной тактики и стратегии, — сказала она. — Русские в русских стрелять не станут… Вы молчите? Одолевает жалость? Это слабость! Когда русские придут в Германию, они не станут жалеть.
— Я отлично усвоил, что для величия Германии необходимы победы любой ценой. Жалость, сантименты — это все в прошлом. Но то, что вы предлагаете…
— Вы сердитесь потому, что знаете: у вас только этот выход. Другого нет! — заявила она и, приблизившись к нему вплотную, заговорила: — В Берлине знают, кто больше принес пользы Великой Германии: вы со своими знаниями военной науки или я, существо, которое становится незаметным, когда это нужно. Для вас, генерал Кильтман, война подходит к концу. Но начинается другая, где первую скрипку будут играть такие, как я. Вы еще услышите обо мне, генерал Кильтман. Если выберетесь из этой заварухи… Прощайте, генерал, я покидаю вас.
— Если я скажу, что тонущий корабль первым покидают крысы, вы поймете, кого я имею в виду?
— Корабль тонет? Мы построим новый! — зло заявила Бюстфорт. — Одна попытка не удалась — будем готовить вторую! И я… приступаю к делу! Отправьте меня своим самолетом. Немедленно!
Он тяжелым взглядом посмотрел на нее и нехотя приказал адъютанту:
— Приготовьте самолет к вылету в Берлин.
— И вы полетите? — невпопад спросил тот.
— Нет! — резко ответил он. — Я пробьюсь вместе со своими солдатами. — И повернулся к мисс Бюстфорт: — Вы чудовище!
— Не возражаю, — цинично ответила она. — А вы благороднее? Чище? Вы военный и воевали только с военными? Чушь? Война давно перестала быть состязанием двух армий в ловкости и хитрости. Теперь это борьба народов. Жестокая, на истребление. Вы, как и я, верно служили идеям нацизма, моему фюреру! Делали то, что мы хотели! Прощайте, генерал! Желаю успеха!
Он долго смотрел ей вслед и думал… Делал то, что вы хотели? Нет! Неправда! Я служил Германии, немецкой нации! И вдруг с ужасом сам себе признался: «Чепуха! В этот последний час не надо себе врать, Пауль. Ты служил идеям нацизма — ив этом вся правда». Он круто повернулся к рации и закричал:
— Бергер! Даю вам десять минут!..
— Население уже подогнано, — разнесся голос из рации.
— Я не давал такого приказа! — в бешенстве закричал Кильтман. — Слышали?! Не давал!!!
Яркая вспышка ослепила его. Сильный толчок в грудь опрокинул генерала на спину, втиснул в землю…
И тут же на него навалилась тьма…
Форум шел своим чередом. На трибуне сменяли друг друга ораторы: всемирно известные ученые и писатели, прожженные многолетним пребыванием в коридорах власти политики и совсем еще юные парни и девушки с голосами, дрожащими от возбуждения. Все взывали к миру, к людям, умоляя проснуться, остановить преступную бешеную гонку вооружений, приближающую печальный конец.
— …Радиоактивный пепел пронзит все живое, — вещал прославленный биолог. — Почва на многие десятилетия, а возможно, и на столетия перестанет быть плодородной…
Кильтман обернулся к Хаджумару:
— Во всем виноваты ученые! Они, и только они! В том, что не изобрели противоядия атомной бомбе! — пояснил Кильтман. — С каждым поколением появляется новое, более мощное и изощренное оружие уничтожения людей. История человечества подтверждает, что это естественный процесс. Народы постоянно стремятся заполучить такое оружие, которого нет у соседей. Это позволяло властвовать над миром. Нопроходило время, и люди получали способы защиты от нового оружия. Появился меч — тут же в руках предков заалел щит, сперва деревянный, а затем железный. Засвистали в воздухе стрелы и дротики — тут же воин надел на себя кольчугу и шлем…
— В Рейкьявике мы предложили не только отвести стволы друг от друга, но и разрядить их, — сказал Хаджумар. — С тем чтобы впоследствии вообще уничтожить.
Кильтман тихо засмеялся.
— Отказаться от нового оружия? Этого никогда не было. И не будет! На этот счет не обманывайте себя, генерал. Созданное оружие рано или поздно, но будет пущено в ход.
— Даже если заведомо известно, что победителей не будет — погибнут все? — спросил Хаджумар.
— Да! — ответил Кильтман. — Будь у Гитлера ракеты с атомным зарядом, вы думаете, он колебался бы? Ни на минуту? Нет, все гораздо сложнее, чем представляют собравшиеся здесь эти фантазеры-утописты… Послушайте!
— Господа, даже самый маленький конфликт в любой части мира может обернуться катастрофой, — бесстрастным голосом предвещал бывший премьер-министр одного из государств. — Пусть каждый знает: он коснется и его родных, и лично его самого. Так и только так следует сегодня рассматривать любой факт, произошел ли он в Америке или Африке, Европе или Австралии.
— Не все так просто, — покачал головой Кильтман. — Еще неизвестно, ударите ли вы? Ведь последует цепная реакция, в результате которой погибнете и вы… И к тому же все мы прижаты к стенке — и никакого выхода нет.
— Есть, — возразил Хаджумар. — Это поняли и военные. В том числе и ваши. Вы слышали, что в бундесвере началось брожение? Да-да, даже в германской, славящейся строжайшей дисциплиной, безусловным выполнением КАЖДОГО приказа, в вашей армии начались странные разговоры. За много веков впервые германские солдаты и генералы осмелились высказать свои мысли. Они заявили, что ныне другие возможности у армий и нет никаких шансов ни у военных, ни у штатских, ни у взрослых, ни у младенцев. Все до единого — заложники, на которых уставились ракеты.
— Ну и чем кончился их ропот? Кое-кого отправили в отставку, других, внезапно ставших размышляющими, генералов и офицеров лишили очередных званий. Часть перевели из основных видов войск во вспомогательные. Вот и все!
— Неужели, господин Кильтман, вы желали своей родине этой судьбы? Неужели вся ваша жизнь, все ваши деяния, страдания, борьба свелись к этой ситуации, когда все на мушке и уже не от вас зависит, что произойдет через год — чего я говорю — год?! — через месяц, неделю, день, завтра?! Через час, через минуту?! — Мы с вами, господин Кильтман, свое отжили. Все было в нашей жизни: и радости, и печали, и сладость побед, и горькая дрожь поражений, надежды и отчаяние, свет и тьма — все прочувствовали сполна. Когда еще быть искренними, хотя бы перед самими собой, если не сейчас? Неужели вы не видите, как постепенно вы теряли идеал воина, которому поклонялись ваши предки: отец, дед, прадед — все поколения Кильтманов, служивших, как вы уверяете, верой и оружием Дойчланду? Разве могут они простить вас, покинувших своих солдат в мешке?
— Но я был без памяти! — вскинулся оскорбленный Кильтман. — Не случись прямого попадания снаряда в овраг, где я находился, мы обязательно бы встретились там. Или вы стояли бы передо мной, или я перед вами. Нет, нет, вы меня не можете упрекнуть в этом. Будь я в сознании, ни за что бы не покинул своих солдат. Это все Бюстфорт! — сердито воскликнул он. — Она приказала доставить меня в самолет, и я, сам того не подозревая, в ее компании проделал путь до Берлина.
— Но и это не было самым глубоким вашим падением, — оценивающе смотрел на него Хаджумар.
— Что вы имеете в виду? — резко спросил Кильтман.
— Вы же стали работать на своего бывшего врага. Не фрау ли Бюстфорт вы обязаны тем, что стали сотрудничать с американской и английской разведкой? А потом оказались в объятиях фирмы «Ксари»?
— Вы и об этом знаете?
— Среди разоблаченных ваших агентов был один, которого вы особо опекали.
— Я знаю, о ком вы говорите. Он был осторожен. И для нас его провал был неожиданным. Мы, кажется, все предусмотрели, чтоб он был вне подозрений… — Он с интересом посмотрел на Хаджумара. — Как вы на него вышли?
— Но мы-то с вами хорошо знаем, что шпион рано или поздно, но попадается…
— Но не такого уровня резидент, — возразил Кильтман.
— И такого тоже, — сказал Хаджумар.
На трибуну поднялась американская певица. Темные очки прикрывали чуть ли не все ее скуластое лицо.
— В двадцать первый век мы, люди мира, должны войти, любя друг друга, — заявила она и вскинула руки. — Только тогда возможно, чтоб мужчины и женщины, старики и дети, проживающие на всех пяти континентах нашей планеты, были счастливы!..
— Чушь, какая чушь. — Кильтман решительно отвернулся от сцены, и Хаджумар понял, что тот больше не намерен слушать ораторов. — Вы меня спросили, генерал, почему я здесь. Нет, не потому, что я дезертировал. И не потому, что хотел определить для себя, насколько реальны силы этого движения. Я вижу — у собравшихся здесь есть рецепт, но нет лекарства для спасения мира. Будущее по-прежнему в руках военных. И нет других альтернатив, как нам стремиться быть сильнее вас, а вам пытаться опередить нас в создании нового оружия… Я здесь потому, что я, как и прежде, служу своей родине — Дойчланд! Земной шар не так богат, чтобы все могли жить в счастье. История человечества — это сплошная борьба за богатства этого мира. А где борьба, там одним — радость, другим — горе, там добро и зло…
«Вот вы и высказались, генерал Кильтман, — глядя на своего оппонента, подумал Хаджумар. — Прошлое вас ничему не научило. Как были нашим врагом — так им и остались… Добро и зло… Они действительно всегда рядом. Так было, но так не должно быть! Но какие слова найти, чтобы они проняли вас, бывших гитлеровских генералов? Вот вы твердите, что служите своей родине, мечтаете о счастье Дойчланд. Но разве возможно благо и счастье одного народа на земле? У нас в Осетии принято застолье заканчивать тостом: „Баркад!“ Это слово обозначает изобилие. Изобилие не только материальное, но и духовное, изобилие радостей, встреч, знакомств, открытий… Горцы-старики, подымая этот тост, провозглашают баркад не только для дома, где они находятся, но и для соседей, друзей, родственников, всех хороших людей на земле… И так поясняют свое пожелание: если в одном доме есть все — и продуктов вдоволь, и у всех крепкое здоровье, судьба каждого сложилась удачно, а у соседей невзгоды, то тень их бед невольно падает и на не нуждающихся ни в чем людей. Наши предки давно поняли истину: счастье в одном доме не может быть, если рядом горе и страдание. Тот, кто мечтает о счастье для себя, для своей семьи, для своего народа, для своей страны, — не может не бороться за счастье всего человечества… В этом наши с вами, господин Кильтман, разногласия. Вы в своих устремлениях ищете дорожку избранных, неся в угоду себе горе другим… Вот история и поставила вас перед крахом».
Глава 11
— Вон он, приземляется! — воскликнул Майрам.
По аэропорту прозвучало объявление о том, что самолет рейсом из Москвы прибывает, и встречающие выискивали в небе стальную птицу. Она ястребом вынырнула из густой пряди облаков и проворно устремилась вниз.
Друг детства Хаджумара Руслан и его племянник Майрам всматривались в спускавшихся по трапу людей, но отсюда, через частую решетку ограды, невозможно было различить лиц пассажиров.
— Это он, он! — махнул рукой на показавшегося из салона самолета седого мужчину Майрам. — Видишь, он поддерживает за локоть пожилую женщину? Это он.
Майрам шепнул стоявшей на проходе дежурной девушке в синей форменной блузке, кого он встречает, та понимающе кивнула, открыла калитку, и он побежал навстречу потоку пассажиров. Но не успел. Черный «ЗИЛ» подрулил к трапу, и Хаджумар сел в него. Через минут лимузин выскользнул из ворот аэропорта и затормозил возле Руслана. Из машины выскочил Хаджумар и, широко раскинув руки, бросился к нему:
— Руслан!
— А это мой племянник, — кивнул на запыхавшегося от бега Майрама Руслан. — Ты семнадцать лет назад носил его на руках.
Черные брови вздернулись вверх, глаза приветливо сверкнули, окинули взглядом ладную фигуру Майрама, крепкая ладонь сжала его плечо:
— Здравствуй, джигит!
Всякий раз, как Майрам наезжает к своему прадеду Дзамболату в Хохкау, его встречают эти добродушно смешливые пронзительные глаза, глядящие на него с фотографии, висящей на стене. Там Хаджумар в парадной форме: генеральский китель весь усыпан орденами и медалями — и советскими и иностранными…
— Садитесь! — пригласил родственников генерала шофер «ЗИЛа».
— У нас есть машина, — кивнув на «Жигули», поблагодарил Майрам.
— Вот что, я, пожалуй, поеду с Майрамом, — сказал Хаджумар. — Соскучился по родным, семь лет не был в Осетии.
Чемодан Хаджумара перекочевал в «Жигули». Руслан уговорил друга сесть впереди, рядом с Майрамом, чтоб лучше был обзор. Когда машина приблизилась к развилке дорог на Бесланском повороте, рука Хаджумара притронулась к плечу Майрама.
— Притормози, — попросил он и обернулся к Руслану: — Махнем в Цей, а?
Майрам невольно улыбнулся этому слову «махнем». Боевой генерал произнес его с глубокой душевной болью, тоской по родным горам, аулу…
— Да как можно? — поразился Руслан. — Дома стол накрыт, гости собрались…
— Мочи нет ждать до утра, — с беспомощной прямотой признался Хаджумар.
— За гостей обидно, — заколебался Руслан. — Предупредить как?
— Через город поедем, — предложил Майрам. — Разница-то всего пять-шесть километров. Заскочим на минутку — и в путь…
— Знаю я: у осетин эта минута часами оборачивается, — сказал генерал. — И нам не вырваться до утра.
— Ладно, — решился Руслан. — Предупредим их по телефону.
«Жигули» рванулись вправо…
Майрам вел машину осторожно, но нет-нет да поглядывал на легендарного генерала. О нем газеты не пишут, радио не рассказывает, телевидение его не показывает. Но Хаджумара знают все. И как часто звучит его имя в их доме! Всякий раз, как заглянет кто-нибудь из земляков, тут же жди: непременно прозвучит имя Хаджумара. Без отчества. И тон, каким произносится оно, всегда почтителен, восторженный и одновременно интимно доверительный, будто говорящий желает подчеркнуть свою близость к знатному человеку.
Хаджумар, не стесняясь друга и племянника, воскликнул:
— Ты на родине, Хаджумар! Смотри в окно — вот она, твоя Осетия… Любуйся ею, дыши воздухом детства!
Слева выросла цепь гор. Чем ближе становилось Алагирское ущелье, тем выше были вершины гор, укутанные шарфом пышных облаков. Генерал жадно всматривался в горы.
Внезапно он широко улыбнулся и воскликнул:
— Хетаг! — Он показал рукой на островок густого высокого леса, мохнатой шапкой нежданно-негаданно выросшего посреди долины. — Давненько я его не видел!
— Паломничества к нему уже нет, — сказал с грустью Руслан. — Объявили его памятником природы. Старики, кому невтерпеж поднять бокал за Хетага, справляют кувд дома.
— Туристскую базу построить бы, — предложил Хаджумар. — Легенда красивая и привлечет многих туристов.
Красивая легенда… Бежал Хетаг от преследовавших его по пятам кровников. Впереди маячила гора, покрытая густым лесом. Ему бы только добраться до нее, скрыться в зарослях. Но сил у Хетага больше не было. Ноги от усталости подкашивались, и он упал. Вот-вот настигнут его кровники. А умирать так не хотелось. Хетаг взмолился, призвал на помощь Уастырджи, доброго бога осетин. И тогда оторвался от горы край леса, и укрыл его от преследователей…
— Видите, на горе среди леса примостилась поляна? — спросил Майрам. — Вон там. Если наложить на нее рощу, находящуюся от нее в десяти километрах, то поляна полностью ее примет и края рощи примкнут к лесу.
— Чудно, но это так, — подтвердил и Руслан.
— Забавно, — улыбнулся Хаджумар. — Выходит, что народ приметил это, и появилась легенда.
В окна машины ворвался сильный запах сероводорода. Хаджумар подался вперед, впился взглядом в девятиэтажные корпуса с широкими лоджиями, застывшие на горе. Он впервые видел их, эти новые корпуса санатория «Тамиск», возле сероводородных источников, благодаря которым и существует санаторий. И больные со всех сторон страны рвутся к ним. Многие прибывают на носилках, чтобы спустя месяц-полтора покинуть санаторий, оставив в местном музее коляски и костыли с вырезанными словами благодарности:
«Не ходил двадцать лет. Теперь костыли не нужны. Спасибо, Тамиск!»
— А вон с той вершины когда-то предателя сбросили, — показал на крутую, вздыбившуюся над рекой скалу Руслан. — Теперь она так и называется: Выступ гнева.
— Называют бедняжку-скалу и лекарем предателей, — весело вставил Майрам.
— Предательство — не болезнь, — произнес Хаджумар. — Это гнойник, язвящий душу. И ему одно лекарство — пуля… Вор может стать честным, пьяница — трезвенником, злодей — добряком, а предатель всегда останется предателем. И смерть не снимет этого клейма.
В доказательство своей правоты Хаджумар мог бы рассказать Руслану и Майраму про Внуского, но нельзя.
…Как это часто бывает с предателями, Внуский уже на третий день полностью признался в своей гнусной деятельности. Более того, он помог завлечь своих заграничных шефов, прятавшихся под личиной аккредитованных в Москве дипломатов, в ловушку, раскрыв такие факты и приведя такие детали, что тем на первом же перекрестном допросе ничего другого не оставалось, как каяться в грехах. Когда все, что требовалось, было выяснено и оставалось передать дело в суд, Внуский вдруг вновь захотел встретиться с генералом. Разговор, состоявшийся в тот день, неожиданно вышел за официальные рамки. Внуский, убедившись, что его поза политического противника Советской власти никого не ввела в заблуждение, подавленно смотрел на генерала воспаленно сверкающими глазами.
— Я который день ломаю голову и никак не могу догадаться, где и когда ошибся… Скажите, как вы вышли на меня? Что вам помогло?
— Улица Красивая, — усмехнулся Хаджумар.
— Улица Красивая? — поразился он. — Но это было так давно! И мне было тогда всего шесть лет! Причем здесь улица Красивая?
— Но вы там все-таки были? — спросил Хаджумар.
— Гостил у родственников.
— Но я вас почему-то не помню среди детворы…
Внуский ничего не понимал и молча ждал объяснений.
— Я в то время жил тоже на улице Красивой, — сказал Хаджумар. — Всех детей помню, а вас нет.
— Так я за два месяца лишь раз и вышел на улицу, — кисло усмехнулся Внуский. — Меня во Владикавказ привезли больным желтухой, а следом я подхватил еще и свинку. Так и провалялся все лето в постели.
Вот оно в чем дело! Хаджумар покачал головой: выходит, зря он винил свою память. Загадка легко расшифровывалась.
Генерал посмотрел на Внуского. Тот, осунувшийся, поднял на него глаза:
— Жена знает?
— Пока нет, — ответил Хаджумар. — Но узнает. И дочери тоже. Им тяжело придется. До конца жизни они будут нести клеймо позора, которым покрыли их вы, Внуский.
— Что тут поделаешь… — прошептал шпион и тут же зло добавил: — Разве родные чего-нибудь кроме разочарования несут своим близким? Каждый прожитый год, — это новые страдания и муки, которыми одаривают родители и дети друг друга. Или у вас не так?
— У меня не так, — коротко ответил Хаджумар.
Они помолчали. Потом Внуский сказал:
— Я понимаю, что вред, нанесенный мною, велик, и вы предадите меня смерти… Но… — Он несколько мгновений колебался, прежде чем предложить: — Если я вам открою шифр, вы сохраните моим детям честь?
— Шифр? Какой шифр? — не понял Хаджумар.
— Моего вклада в швейцарском банке!
— А-а… — только и сказал Хаджумар.
— Не притворяйтесь! — закричал Внуский. — Именно его вам не терпится узнать! — Он вдруг выпрямился. — Да, да, мой вклад в швейцарском банке — это богатство! Не желаете ли заполучить его? А взамен — девочкам моим не придется ежиться при мысли, кем был их отец. Я буду мертв, зато жена и дети избегут позора. Вы все можете! Скажем, инсценируете аварию. И зло уничтожено, и гуманность проявлена к несчастным детям, и шифр известен… — Он перевел взгляд на потолок. — Такой ценой купить покой жене и детям? Мне, значит, смерть, а все, ради чего я шел на риск, достанется вам? — Ноздри Внуского нервно задрожали: не увидел ли он перед собой банкноты, что лежат в огромном несгораемом сейфе банка, лежат в ожидании его, но теперь так и не дождутся? Не при этой ли мысли он пришел в бешенство? Внуский выдохнул из себя: — Нет! На такое не согласен!
Глядя на Внуского, Хаджумар молча ждал.
— Только в обмен на жизнь! — Внуский задрожал, в его охваченном страхом мозгу мелькнула надежда на то, что еще не все потеряно. — Жизнь! Хочу, хочу жить! Хочу!!! — Он провел руками по груди, широко вздохнул, точно уже получил помилование, но тут же стал прикидывать цену ее: — Мне жизнь, а я в обмен за нее должен назвать шифр моего вклада? Назову шифр, и через несколько дней ваш доверенный возьмет из банка деньги. Мои деньги! — Он круто повернулся к генералу. — Вы возьмете мои деньги и пустите их на ваши дела? Моя валюта пойдет на оборудование для завода?
— Ну столько не наберется, — усмехнулся Хаджумар. — Мы знаем щедрость шефов зарубежных разведор.
— Сколько бы ни было, но это МОИ ДЕНЬГИ! — закричал Внуский. — Они принадлежат МНЕ, И ТОЛЬКО МНЕ!
— Но и жизнь не чья-нибудь — тоже ваша, — напомнил генерал.
— Такой ценой?! Я назову шифр и опять стану одним из тех, у кого за душой ничего нет?! Человеком без вклада! Каких миллиарды! Нет! Нет! НИ ЗА ЧТО! Это МОИ ДЕНЬГИ! МОИ! И никому, кроме меня, КРОМЕ МЕНЯ, они не достанутся! НИКОМУ!..
Хаджумар встречал многих людей, готовых отдать жизнь. Умирая, они думали о Родине, о своих близких… Он видел и врагов, фанатически преданных идее, хотя бы тот же Кильтман со своей Дойчланд. Но чтобы человек променял Родину на жалкую кучку монет и не был в состоянии отдать их ради собственной жизни — с таким он сталкивался впервые. Ради чего этот впавший в истерику, обезумевший то ли от страха, то ли от жадности, а скорее всего, и от страха и от жадности тип коптил землю? Неужели только ради своих пошлых потребностей, только ради наживы?
Хаджумар непроизвольно задал себе вопрос: «А ради чего ты жил такой сложной и тяжелой жизнью, рисковал, страдал, сносил пытки? Ради чего годами не видел семью?» Ответа не было. «…Люблю — за что, не знаю сам…» — вспомнились лермонтовские строки.
…Дорога уносилась вверх, в поднебесье. Эти горы, молчком встречающие Хаджумара, это низкое небо, заглядывающее в узкое ущелье, этот щедрый воздух с запахом близких ледников, эти люди, карабкающиеся к застывшим на крутых склонах плоскокрышим хадзарам, — ради всего этого он готов и сегодня идти на любые страдания и муки, а если понадобится, то отдаст и жизнь… Избудет счастлив! Люди, его земляки, его соседи — никто не знает, на какой риск он шел, какие подвиги совершил, и, наверное, никогда не узнают этого. Но это не огорчает чего — он выбрал такую профессию, где даже тень человека хранит его тайны. И не ради славы он жил, ради нее — Родины, которая всегда в душе человека.
Машина карабкалась все выше и выше…
Вместо эпилога
Армии нашей Родины из года в год приходилось решать разные задачи. Но всегда ее глазами и ушами была разведка. Ей отдал большую часть своей жизни и главный герой этого романа. Я рассказал о нем то, что позволяют нынешнее время и законы ведомства, в котором он служил. Пройдут годы, и другие авторы дополнят мой рассказ десятками, сотнями эпизодов из удивительно яркой и богатой подвигами биографии нашего прославленного земляка.
Но прежде, чем ты, уважаемый читатель, закроешь книгу, я призываю тебя остаться еще несколько минут наедине с дорогим мне человеком — Хаджумаром Джиоровичем Мамсуровым. Взгляни еще раз в черты лица этого мужественного защитника Отчизны, его боевых товарищей. Верю: вместе с грустью при мысли, что его уже нет в живых, рядом с нами, непременно возникнет и другое чувство — великая гордость за соотечественника.
Илья Миронович Шатуновский
Закатившаяся звезда

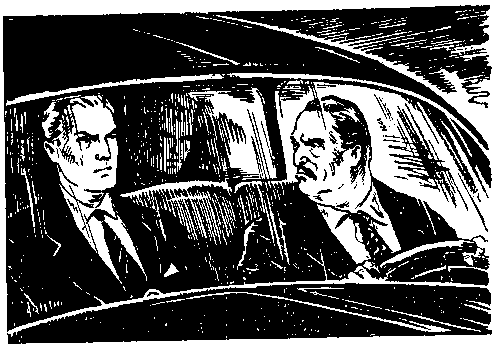
Глава первая
СОТРУДНИКИ «БЮРО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ»
Лиловый «шевроле» свернул с автострады, ведущей из Мюнхена, и, не сбавляя скорости, помчался по асфальтированной дороге. За стеклами машины мозаичными квадратами проплывали крестьянские делянки, чахлые лесочки, мелькали разноцветные черепичные крыши сельских построек. Голубыми пятнами на вязкой рыжей земле проступали водоемы. В них, шумно плескаясь, плавали гуси. Перед рассветом прошел обильный дождь, и сейчас под арками автомобильных мостов картаво пели свои неумолчные песня бурные весенние ручейки. Да, весна властно вступала в свои права. Она разбросала по деревьям тугие почки, наполнила воздух медовыми запахами, свежестью…
За рулем американского лимузина сидел пожилой, необычно тучный мужчина. Его жесткие фельдфебельские усы обвисли до самой челюсти, под которой складками расползся второй подбородок. Мясистый нос и густые, взлохмаченные брови делали лицо человека, сидящего за рулем, еще более некрасивым, даже отталкивающим.
- Не мешало бы перекусить. Как вы полагаете, «Анди»? - называя своего соседа не по фамилии, а по кличке, произнес толстяк.
«Анди», большеголовый кряжестый детина, оперся щекой о свою огромную, словно вылитую из бронзы, ладонь и о чем-то сосредоточенно думал.
- Нужно позавтракать, - не дожидаясь ответа, повторил толстяк, причмокивая языком.- Да и мальчики, наверное, проголодались.
«Мальчики» - трое мужчин, размещавшихся на задних сиденьях - дружно поддержали говорившего:
- Да, вы травы, господин Кулл. Пора закусить!
У маленького дорожного ресторанчика Кулл резко притормозил. Он нажал большим пальцем на сигнал сирены и не снимал его до тех пор, пока из дверей не выскочил кельнер:
- Что угодно господам?
- Жареную курицу и что-нибудь выпить. Быстро! - распорядился Кулл.
- Может быть, господа соизволят пройти в зал? - кельнер угодливо схватился за ручку двери.
- Мы позавтракаем здесь. Курицу подайте побыстрее: у нас мало времени,-повторил Кулл и в нетерпении забарабанил пальцами по стеклу, давая понять, что разговор окончен.
Кулл говорил на чистом немецком языке, но по его развязной манере разговора и необычному желанию-завтракать в машине - кельнер догадался, что .видит перед собою гостя из-за океана.
- Хорошо, мистер, - послушно промолвил немец.
Кулл подождал, пока кельнер скрылся в высоких стеклянных дверях ресторана, и обернулся к людям, сидящим сзади:
- Ну, как вам понравилась наша прогулка?
- Все было очень мило, господин Кулл.
«Мило! - горько усмехнулся про себя «Анди». - В самый разгар работы неожиданно прилетает из Вашингтона этот Кулл и все переворачивает вверх тормашками. Семь дней беспробудного пьянства в ночных притонах Гамбурга и Мюнхена. Целых семь дней, когда столько дел!»
- Да, перед дальней дорогой не мешает немного отдохнуть и встряхнуться, - словно отвечая на тайные мысли «Анди», заметил Кулл. - Трудные годы войны научили нас каждую свободную минуту умело использовать для развлечений.
Между тем у машины с целым подносом яств и напитков появился кельнер. Кулл бесцеремонно взял в руки курицу, надломил ножку, принюхался и брезгливо фыркнул:
- Мы торопимся, но это не значит, что нас можно кормить сырятиной! Потрудитесь подержать курицу над огнем еще п;ять минут. Да смотрите, не пережарьте!
Кельнер, покорно склонив голову, выслушал замечание и молча удалился.
- И когда в этой стране научатся готовить птицу! - ворчал Кулл.
Впрочем, выпив три рюмки коньяка, он подобрел и, оглядывая курицу, побывавшую еще раз на вертеле, нашел ее пригодной к употреблению.
«Весь он в этом, - подумал «Анди».-Привередлив, чванлив, нагл и оригинален до чудачества. Интересно, зачем все-таки он сюда приехал? Ведь не для того же, чтобы пьянствовать и бражничать».
Коньяк не помешал Куллу безукоризненно вести машину на предельной скорости, и вскоре «шевроле» влетел в тихий курортный городок Кемптен. Попетляв по его узким мостовым, автомобиль остановился на улице Амхохенвег, у дома № 3.
Городские власти Кемптена были поставлены в известность, что в этом доме помещается американское Бюро научно-технических переводов. Конечно, когда речь идет об американских учреждениях, западногерманские власти становятся крайне нелюбопытными. Однако, если бы бургомистр пожелал, он мог бы без труда узнать, что в дом № 3 по улице Амхохенвег не поступает никакой служебной корреспонденции, что бюро не выполняет ни одного заказа на переводы. Да и люди редко выходящие из дома на улицу, мало напоминают клерков.
Цветные занавески во всю ширину окон скрывают от посторонних глаз все, что делается в доме. Впрочем, дом этот стоит на самой окраине города и подле него почти никогда не видно прохожих. Правда, раньше неподалеку находился детский туберкулезный диспансер. Однако как только в дом № 3 въехали новые хозяева, диспансер был закрыт, о чем свидетельствовали две крест-накрест прибитые доски на массивных воротах…
Кулл вынул ключ из кармана плаща, отомкнул замок и первым прошел внутрь дома. В большой комнате, куда вошли Кулл и его спутники, находилось человек восемь мужчин. При виде Кулла и «Анди» они повскакали с мест и вытянулись. Штатские костюмы, в которые были одеты обитатели дома, не могли скрыть их безукоризненной армейской выправки.
- Сидите, господа, - приветствовал их Кулл. - Сегодня вы еще можете отдыхать. Работа у нас начнется завтра в восемь утра, как обычно. Расписание уже составлено?
- Да, господин полковник, - ответил невысокий сухощавый брюнет. - Все сделано, как вы распорядились.
- Ну и отлично! Занимайтесь своими делами, господа. Если кому нужно в город, можете быть свободными до двенадцати часов. Что же касается нас, то мы предпочитаем немедленно отойти ко сну.
…Наутро, после завтрака, Кулл потребовал к себе «Анди». Полковник принял его в небольшой комнате, назначение которой несведущему человеку определить было бы довольно трудно. В углу на маленьком столике стояли три портативных передатчика, рядом на треноге- какой-то аппарат, напоминающий теодолит. На стенах комнаты были развешены топографические карты, схемы.
- Пора поговорить о деле, - оказал полковник, усаживаясь в мягкое кресло, знаком приглашая сесть и «Анди». - Меня прежде всего интересует степень подготовленности курсантов.
Лицо Кулла приобрело деловой и сосредоточенный вид. На нем не было и следа утомленности после только что совершенного путешествия, после семи ночей, проведенных в ресторанах, дансингах и притонах. Да, «Анди» знал, что этот влиятельный полковник из Вашингтона был человеком дела.
«Анди», прежде чем ответить, поудобнее устроился в кресле.
- Как я уже докладывал в первый день вашего приезда, «Герберт», «Борис» и «Имант» подготовлены к самостоятельной работе. Однако нужно еще время, чтобы обеспечить полный успех акции.
- В Вашингтоне придерживаются иного мнения на этот счет, -сухо заметил Кулл.- Считают, что надо поторопиться. Акция «Ейч» ждет своей реализации. Я, собственно, и прибыл сюда, чтобы возглавить последний этап работы.
И хотя полковник не сказал этого, «Анди» понял, что его отстраняют от руководства.
- Вы уже, надеюсь, составили задания всем троим? - спросил полковник.
- Да, конечно.
- Передайте все материалы мне, - предложил Кулл. - Боюсь, что задания придется серьезно .изменить, сообразуясь с новыми инструкциями. Но это я возьму на себя.


Глава вторая
КТО КУРИЛ СИГАРЕТУ «КЕМЛ»?
1
Колхозное стадо лениво двигалось по лесной опушке. Копыта коров, расплескивая лужицы дождевой воды, месили липкую грязь. Молодые , березки роняли на землю свои невесомые золотистые листья. Под скупым осенним солнцем уже поблекла, пожелтела трава, и колхозный пастух Мартиньш Лиепа подумал, что совсем уж скоро коров поставят в стойла нового хлева. А ему, старику, не мешает .подлечить измученные ревматизмом суставы. Сколько раз председатель колхоза брался выхлопотать ему путевку в грязелечебницу
Кемери, что на Рижском взморье. Но Мартиньш все отшучивался: «Нет, не пришла еще пора для капитального ремонта. Поработаю годок-другой, тогда поглядим…»
А в эту осень старый пастух почувствовал, что, наконец, надо отдохнуть и подлечиться. Ох, как надо! Вот сегодня всю ночь шел дождь, и всю ночь не давали покоя ноющие суставы. Да, годы брали свое…
Рядом с пастухом шел сынишка колхозного агронома Янцис. На нем были большие, не по ноге, резиновые сапоги и мохнатая шапка. Лицо мальчугана светилось радостью и гордостью. Еще бы! Не было такого мальчишки на всех окрестных хуторах, который бы не счел для себя большой честью попасти колхозное стадо вместе с дедушкой Мартиньшем.
Да, не каждого брал он с собой в лес. Но только поначалу старый пастух кажется таким строгим и несговорчивым. А на самом деле дедушка Мартиньш совсем не такой. Никто лучше его не может указать в лесу грибные места или поймать в силки птицу, или вырезать свистульку из сырых прутьев. А как начнет старик рассказывать про Перемышль, где он сидел в окопах еще в империалистическую войну, - заслушаешься! До чего же много интересного повидал на своем веку дедушка Мартиньш!
Все мальчишки знают, что у старого пастуха есть Георгиевские кресты. Ими дедушка Мартиньш очень гордится и никому не дает в руки. Мартиньш Лиепа награжден еще медалью «Партизану Отечественной войны». Во время фашистской оккупации отряды народных мстителей держали через старика связь, на чердаке его дома укрывались раненые бойцы. И о тех днях Лиепа мог рассказать много интересного, если его, разумеется, хорошенько попросить…
Осталась позади лесная опушка. Стадо двигалось по узкой дорожке, которая, петляла по балкам, выбегала на большой холм и скрывалась за его высоким гребнем. Кончался короткий осенний день; на верхушки сосен опускались мутные сумерки. Лес казался безлюдным, пустынным.
И вдруг на просеку торопливо вышел человек, огляделся. Заметив .пастухов, он издал прерывистый звук, отдаленно напоминающий крик испуганной птицы, и тут же исчез в чаще. Затем вдалеке между деревьями мелькнула еще одна человеческая тень.
И хотя .все это произошло в какое-то мгновение, Лиепа заметил, что человек, выходивший на «просеку, был одет в короткую кожаную куртку. Обратил внимание на незнакомца и Янцис.
- Дедушка, не нас ли он напугался? Чего это он так? - тревожно опросил мальчуган.
Встреча с незнакомым человеком насторожила старика не меньше, чем Янциса. От леса, где шло колхозное стадо, до границы было не более двадцати километров. В этих местах Лиепа родился и состарился, он знал всех жителей окрестных хуторов не только в лицо, но и по имени. Но человека в кожаной куртке он видел впервые.
Стадо прошло вперед, и теперь старый пастух и его маленький подпасок поравнялись с соснами, за которыми скрылся человек в кожаной куртке.
- Смотри, дедушка Мартиньш, сигарета, и еще курится! - воскликнул Янцис. Мальчуган разворошил ногой кучку желтых листьев и протянул старику окурок.
Лиепа послюнявил указательный «палец, затушил огонек и стал деловито разглядывать сигарету. На ней он заметил синюю надпись «САМЕL».
- Такие сигареты как будто бы в нашем раймаге не продаются,-покачал головой старик, бережно заворачивая окурок в носовой платок…
Ночью Лиепа опал плохо. Он ворочался, вздыхал и даже два раза выходил на крыльцо.
- Что с тобой? - обеспокоенно спрашивала жена.
- Зубы разболелись, - первый раз за все время супружеской жизни соврал Мартиньш.- Завтра поеду в Айзпуте, покажусь врачу…
Утром старый пастух разыскал Янциса и сказал:
- Собирайся-ка, мальчуган, в дорогу. Нам с тобой (поговорить кое с кем надо о том, что мы видели вчера в лесу.
…До районного центра они добрались на колхозном грузовике, примостившись в кузове среди бидонов с молоком. На площади они попросили остановить машину и распрощались с шофером. Спустя пять минут пастух и его маленький «подпасок уже сидели в кабинете райуполномоченного КГБ, майора Стуриса.
До прихода Мартиньша Лиепы и Янциса майор что-то писал, теперь же он спрятал авторучку в карман и приветливо посмотрел на старика с мальчуганом.
- Что хорошего скажете, товарищи? - опросил Стурис.
Пастух развязал носовой платок, вытащил сигарету и начал:
- Вчера мы с Янцисом пасли стадо…
Майор внимательно выслушал рассказ старика.
- Так вы говорите, неизвестных было двое? - попросил уточнить Стурис.
- Мы видели только одного, - ответил пастух. - Но, заметив нас, этот человек крикнул по-птичьи: похоже, что он кому-то подавал сигнал.
- Вы сможете узнать незнакомца, если встретите его еще раз?
- Пожалуй, узнал бы, - сказал Лиепа.
- И я тоже, - поддакнул Янцис. - На нем кожаная куртка, как у летчика, только без мехового воротника, на ногах ботинки. Кепка у него в клеточку. Ростом он не то чтоб маленький, но пониже дедушки Мартиньша будет.
Майор Стурис еще раз взглянул на окурок:
- Спасибо, что пришли, товарищи. Мы постараемся узнать, что за люди вам повстречались в лесу.
Когда посетители вышли из кабинета, рай-уполномоченный КГБ позвонил на пограничную заставу:
- Это майор Стурис. Здравствуйте, товарищ капитан. Скажите, не была ли нарушена в эти дни граница? В нашем районе появились неизвестные.
- Вполне возможно, - ответил начальник погранзаставы. - Погода, сами видите, какая стоит: дожди, туманы. На море шторм. Вчера обнаружен на песчаной отмели неясный отпечаток, напоминающий след. Сейчас этот отпечаток изучается. О результатах экспертизы сообщим вам немедленно…
2
Майор Стурис в этот день должен был уходить в отпуск. Билеты до Сочи были на руках, и жена собирала чемоданы. Воображение уже рисовало дальний скалистый берег, силуэты горделивых кипарисов, винтообразную дорогу на Ахун-гору, изумрудную гладь озера Рица.
Вместе с супругами Стурис до Риги должен был ехать и лейтенант Лидумс, молодой работник республиканского Комитета госбезопасности, проходивший стажировку в Айзпутском районе.
Майор, собственно, и забежал на работу лишь для того, чтобы дать письменный отзыв о своем стажере. Лейтенант только недавно закончил училище, но на практике сумел показать себя с самой лучшей стороны. Что ж, с годами из Лидумса должен был получиться настоящий чекист. Об этом Стурис с полной уверенностью писал в своем отзыве…
Теперь Стурис, заметив недописанный листок бумаги, подумал, что заканчивать отзыв пока рановато. Визит пастухов и разговор с начальником погранзаставы заставили майора насторожиться. Кто знает, как могли повернуться события! Майор решил задержать Лидумса и отложить свой отпуск.
Правда, предстояло не особенно приятное объяснение с супругой. Однако за пятнадцать лет совместной жизни она привыкла ко всяким неожиданностям и уже не роптала на свою беспокойную кочевую жизнь. Стурис черкнул записку жене, в которой просил ее пойти на вокзал и сдать билеты. «Появились неотложные дела», - объяснял он.
В дверь кабинета просунулась чья-то вихрастая голова:
- Разрешите, товарищ майор?
- Да, да, заходите, Лидумс. Вы мне как раз нужны.
К столу .подошел высокий смуглолицый молодой человек.
- Прощальные визиты наношу, - сказал Лидумс. - Совсем немного пробыл у вас, а столько знакомых появилось! Сейчас я из райкома комсомола. На прощанье мне поручение дали: «Прочти, - говорят,- в колхозе лекцию, ведь она у тебя готова»… Я вам не буду нужен вечером, товарищ майор?
- Видите ли, лейтенант, - сказал Стурис,- в Ригу мы с вами завтра не поедем. Вы сожалели, что вам не пришлось быть в настоящем деле. Не так ли?
- Да, было такое…
- Этот случай вам как будто представляется. В нашем районе появились нарушители границы. Так что лекцию придется отменить.
…В середине дня майор Стурис «получил еще одно сообщение, подтверждающее слова старого пастуха. В шести километрах от того леса, где Мартиньш Лиепа и Янцис видели неизвестного, на берегу небольшого озера, колхозницы заметили двух торопливо идущих людей. Действительно, один из них был в кожаной куртке, другой, одетый в полупальто, очень напоминал колхозного бригадира Эверта. Женщины находились далеко от берега и утверждать, что это был именно Эверт, не брались. «Но очень похож на бригадира», - говорили они.
И вот теперь майор Стурис и лейтенант Лидумс сопоставляли два сообщения. Сомнений быть не могло - в обоих случаях действовали одни и те же люди.
- Очевидно, нарушителей границы по крайней мере двое, - размышлял вслух майор.- Но при чем же здесь Эверт, известный на всю республику -полевод? Это непонятно. - Стурис задумался. - Знаете что, лейтенант,- сказал он после недолгой паузы, - не стоит, пожалуй, отменять лекции. Поезжайте в колхоз и непременно побывайте у Эверта. Ведь вы с ним, кажется, знакомы?..
…В назначенный час в сельском клубе собрались не только комсомольцы, но и люди постарше. Лейтенант прошел на сцену, оглядел зал и в предпоследнем ряду заметил Эверта. Как и все, бригадир с интересом ожидал на-чала лекции.
Лидумс не раз выступал перед колхозниками, и всегда успешно.
Вот и сейчас, едва начав говорить, Лидумс почувствовал, что ему удалось завладеть аудиторией. Написанный конспект лекции не сковывал его - держался он свободно, говорил легко, плавно.
По тому, как долго аплодировали колхозники, Лидумс понял: лекция удалась.
Выходя из клуба, уже на улице, Лидумс встретился с бригадиром.
- Здравствуйте, товарищ лектор - Эверт приветливо протянул лейтенанту свою широкую шероховатую ладонь. - Устали, наверное, после выступления? Зайдемте ко мне, кофе попьем, я вас грибами жареными угощу - сам собирал.
Лидумс почувствовал, что в самом деле проголодался, и отказываться не стал.
Грибы у бригадира, действительно, были восхитительные. Сочные, свежие, они словно таяли во рту. Лейтенант съел почти целую сковородку.
Поблагодарив гостеприимного хозяина, он спросил:
- Скажите, а куда ©ы ходите по грибы? Мне все больше попадаются лисички, а у вас, я смотрю, одни белые.
- Да в тот самый лес, где наш дед Лиепа стадо па-сет. Вчера я принес домой целую корзину.
- Неужели сами набрали, без помощников?
- Помощники тут не нужны, - улыбнулся Эверт: - гриб ватаги боится. - Бригадир заметил, что лейтенант полез в карман за папиросами.-Курить хотите? Сейчас заграничными вас- угощу.
Эверт открыл дверцу шкафа и достал пачку сигарет «Кемл».
Лидумс взял сигарету, спросил:
- Откуда у вас такие?
- Племянник подарил. Он в Балтийском пароходстве механиком работает. В загранплаванье ходит.
Лейтенант вспомнил, что, действительно, совсем недавно приезжал в село моряк из Ленинграда…
В райцентр Лидумс вернулся поздним вечером. Но Стурис был еще на работе. Лейтенант передал ему свой разговор с Эвертом и заключил:
- Эверт тут не при чем. Хотя совпадение просто удивительное. Бригадир не отрицает, что был в лесу, а американские сигареты я сам у него курил. Конечно, иностранные сигареты в наших приморских местах, куда приходят корабли со всего света, не такая уж редкость…
Пока Лидумс был в колхозе, Стурис получил донесение с погранзаставы. В нем говорилось, что два дня назад граница действительно была нарушена.
Стурис побывал у секретаря райкома партии, связался с райисполкомом. Весь районный актив был поставлен в известность о том, что в окрестностях появились нарушители.
Была предупреждена милиция. Оперативные группы выходили в ночь прочесывать близлежащие леса.
Но поиски не давали результатов. Человек в кожаной куртке и тот, другой, что очень похож на бригадира Эверта, не были обнаружены ни в лесах, ни на дорогах, ни на хуторах Нарушители, как видно, исчезли из Айзпутского района.
Два следующих дня прошли спокойно.
А третий принес новости.
3
На рассвете стрелковая рота капитана Полякова вышла на тактические занятия в леса, окружавшие со всех сторон небольшой хутор Друвас. Этот район капитан выбрал не случайно. Рельеф здешней местности был сложным: лесистые холмы, заболоченные балки, извилистые, крутые тропки. Занятия, проходившие в этих условиях, давали возможность молодым бойцам - солдатам первого года службы - получить хорошую тактическую и физическую подготовку.
Капитан собрал командиров взводов, положил перед ними на траве свой планшет:
- «Противник» силой до двух взводов пехоты укрепился на высоте с отметкой в девяносто три метра. Он окопался и занял круговую оборону. У него четыре пулеметных гнезда, а на обратном склоне высоты спрятаны минометы. Наша задача - подойти незаметно к этой высоте и внезапным ударом выбить «противника» с занимаемых позиций. Рассредоточивайте бойцов по балкам. Два взвода наступают из леса, один проходит через болота. Приказ ясен? Тогда по местам.
Командиры взводов объяснили солдатам задачу, и через пятнадцать минут рота поднялась в атаку.
Капитан находился на командном пункте, укрытом в чащобе, и наблюдал, как действуют его подразделения.
«Хорошо идут! - отметил Поляков. - Стремительно, и главное -пока еще не заметно для «врага».
Второй взвод (это был лучший взвод роты), наступавший через болота, первым приблизился к холму. Не обнаруженные «противником» бойцы достигли гребня высоты и, поднявшись во весь рост, с криком «ура» бросились в штыковую атаку.
И тут, на гребне, взвод неожиданно сбился в кучу, солдаты суматошно забегали, а младший лейтенант Клоков, отличный, дисциплинированный офицер, замахал руками:
- Товарищ капитан, идите сюда!
Полякову пришлось покинуть командный пункт. «Что случилось?» - недовольно подумал он, направляясь к высоте.
Когда командир роты взобрался на холм, его глазам открылась неожиданная картина. Среди густых деревьев стояла натянутая брезентовая палатка военного образца. Поляков заглянул внутрь и увидел на траве планшет с топографическими картами и несколько заряженных обойм к пистолету «браунинг». За палаткой в траве чернели поленья затухшего костра;над ним висел котелок с супом из концентратов. Возле костра сушились разложенные на бумаге пачки советских сторублевок, финских марок и шведских крон.
- Ничего не трогать, обыскать высоту! - приказал командир роты. - А вы, младший лейтенант, немедленно свяжитесь с уполномоченным КГБ.
Клоков бросил отрывистое «слушаюсь», выбежал на дорогу, остановил попутную машину и умчался в город.
На высоту подошли остальные два взвода и также включились в поиск. Под развесистым старым дубом солдаты нашли батарейную радиостанцию, антенна которой была заброшена на ветки дерева. Поляков нагнулся над передатчиком и заметил надпись на английском языке.
- «Тайп», - прочел он и добавил: - американский аппарат.
Через два часа на самый гребень высоты вскарабкался вездеход «ГАЗ-69». Из него выпрыгнули Стурис, Лидумс и проводник служебной собаки старшина Прувер. Чекисты тут же осмотрели и сфотографировали все найденные вещи.
- Похоже, что ваши солдаты невзначай спугнули тех самых лиц, которых мы разыскиваем,- сказал Полякову майор Стурис.- Теперь далеко не уйдут. Старшина, выпускайте собаку!
Проводник подвел овчарку к палатке, дал ей понюхать планшет с картами, пачки денег и спустил с поводка. Собака залилась отчаянным лаем, шерсть на ее хребте ощетинилась. Но овчарка сделала всего два шага - и остановилась, беспомощно повизгивая.
- След потерян, - огорченно сказал майор.- И немудрено: шел дождь. Да к тому же на этом пятачке топталась целая рота солдат. Ну, ничего, теперь они далеко не уйдут, - повторил Стурис.
4
Весь день бойцы стрелковой роты и оперативные группы прочесывали леса вокруг хутора Друвас, пытаясь напасть на следы неизвестных. Наблюдение велось за дорогами, хуторами, железнодорожными станциями. Операцию возглавлял майор Стурис. Он натравлял весь поиск так, чтобы ни один метр земли не оставался вне поля зрения.
Поиском занималась и груша экспертов. Только искали они следы не в лесных чащах и не на берегах болот, а в научной лаборатории Комитета госбезопасности в Риге. То, что скрыли лес, балки и болота, должны были рассказать вещи, брошенные нарушителями на высоте с отметкой в девяносто три метра.
Все это шпионское снаряжение сразу же было доставлено в Ригу с нарочным. Начальник одного из оперативных отделов Комитета подполковник Алкснис доложил о случившемся в Москву, а вещи передал на экспертизу.
И вот сейчас они были аккуратно разложены в лаборатории. Пол устилали топографические карты, отпечатанные на тонком штапельном полотне, в углу стоял алюминиевый котелок, на столе - портативный приемник, передатчик, выпрямитель и преобразователь тока, батареи питания, антенна. Опытным специалистам они должны были рассказать больше, чем иной словоохотливый собеседник. Но пока своими этикетками - «Маdе in USА» они сообщили лишь то, что изготовлены в Соединенных Штатах. Вещи молчали. Их нужно было заставить заговорить.
Эксперты закончили детальнейший осмотр аппаратуры и перешли к топографическим картам. Надписи на них были сделаны на английском языке. Карты казались совсем новыми. Но если ими пользовались, то должны остаться хоть какие-нибудь следы!
Это был кропотливый и утомительный труд. Каждый сантиметр доброго десятка карт эксперты подолгу разглядывали через сильные увеличительные стекла. И вдруг их лица посветлели.
Карта Кандавского района была совершенно чистой и только возле точки, означавшей хутор Дреймани, были видны едва заметные следы от -прикосновения ногтя.
Это открытие было настолько важным, что руководитель экспертной группы пригласил в лабораторию подполковника Алксниса.
Эксперты дали ему карту Кандавского района и лупу.
- Обратите внимание на хутор Дреймани. Видите пятнышко? Сюда неоднократно тыкали пальцем. Не значит ли это, что нарушители интересовались хутором и, очевидно, держали сюда путь? Не могут ли они здесь появиться, если скроются от погони?
- Рассуждение верное, - подтвердил подполковник. - Все новости сразу же передавайте в Кандаву. Я еду туда.
Перед тем как сесть в машину, Алкснис связался по телефону с кандавоким уполномоченным- капитаном Янсоном.
- Уточните, кто проживает на хуторе Дреймани, - распорядился подполковник. Затем Алкснис вызвал к аппарату майора Стуриса: - Вы знаете в лицо бригадира Эверта?
- Я знаком с ним уже пять лет, - ответил Стурис.
- Тогда срочно выезжайте в Кандаву. Я тоже буду там.
В Кандаву вездеход подполковника прибыл ранним утром. Городок еще не просыпался, и узкие крутые улочки Кандавы были пустынными и темными. Только из окна кабинета здешнего уполномоченного КГБ капитана Янсона лился оранжевый свет настольной лампы. Стурис был уже здесь. Откинувшись на спинку стула, он крепко спал - сказывались две тревожные ночи. От стука захлопнувшейся двери Стурис проснулся.
- Отдыхали? - опросил, здороваясь, подполковник. - Да, теперь спать придется урывками. Вы знаете Эверта, на которого похож один из нарушителей границы, вам легче будет его опознать. Поэтому я вас и вызвал сюда.
Подполковник Алкснис был старый, опытный чекист. Алкснису перевалило уже за пятьдесят, но на вид ему никак нельзя было дать больше сорока. Он не старел «ни телом, ни духом», как говорили о нем друзья. Подполковник был таким же сильным, энергичным, волевым, как и двадцать лет назад, когда с ним познакомился только что пришедший в органы госбезопасности Стурис…
- Ну, какие у вас новости?- спросил Алкснис.
Капитан Янсон располагал новыми важными сведениями. О них он рассказал Стурису и теперь докладывал подполковнику.
Ночью по дороге, ведущей из Кабиле в Сабиле, грузовую машину местного заготпункта остановил неизвестный. Он попросил подвезти его до Сабиле, но, не доезжая пятнадцати километров, вылез из кузова и ушел в лес. Неизвестный дал водителю пятьдесят рублей. Тот удивился. Пятьдесят рублей за такую маленькую услугу мог дать только человек, абсолютно не знакомый со здешней жизнью. Пассажир был одет в короткую кожаную куртку.
- Прекрасно! - воскликнул Алкснис, радуясь, что данные экспертизы подтверждаются.- Нарушитель идет на хутор Дреймани. Но к кому? Вы установили, капитан, кто проживает на этом хуторе?
- Да, конечно, - ответил Янсон, - на хуторе живет Фрицис Лагздиньш, в прошлом кулак. Я знаком с ним довольно хорошо. В годы оккупации в его хозяйстве работали советские военнопленные. На этот счет мой предшественник объяснялся с ним еще в сорок пятом году. Женат на крестьянке из бедной семьи, она доярка. В другом доме на хуторе проживает сестра Фрициса, Айна.
- А больше у Фрициса нет родственников?
- Постараюсь выяснить, - сказал Янсон.
К середине дня капитан навел справки и узнал, что у Лагздиньша есть еще два двоюродных брата и четыре племянника.
- Нужно проверить, что это за люди,- распорядился подполковник.
…Ночью Алкснис листал свежие материалы. Четыре племянника и два брата Фрициса Лагздиньша жили и честно трудились в различных городах Латвии. Но оказалось, что у Фрициса был еще один двоюродный брат. Племянник Лагздиньша, шофер рижского таксомоторного парка, сказал, что его дядя Альфред Риекстиньш служил в гитлеровской армии, а после окончания войны пропал без вести.
Эти сведения и заинтересовали чекистов. - Если этот Риекстиньш служил у фашистов, то о нем должны быть хоть какие-то сведения в наших архивах, - заметил Алкснис.
Запросили Ригу. Вскоре пришел ответ. В пакет, помимо сообщения, была вложена фотокарточка молодого человека с вытянутым лицом и округлыми глазами. Человек был одет в форму эсэсовца. А в сообщении говорилось: «Изменник Родины Риекстиньш Альфред служил унтер-офицером в гитлеровской армии, награжден «Рыцарским крестом». После окончания войны бежал в Швецию. Занимался антисоветской деятельностью в лагерях для перемещенных лиц. Три года назад завербован американской разведкой, исчез из Швеции и, по неточным данным, обучался в шпионской школе в Западной Германии».
- Полагаю, что этот эсэсовец и человек в кожаной куртке - одно и то же лицо, - прочитав сообщение из Риги, сказал подполковник.- На хутор Риекстиньша нужно пропустить. Вероятно, туда придут и его друзья. Вспугивать их не стоит. За хутором надо установить самое тщательное наблюдение…


Глава третья
КОГДА ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…
1
Перед председателем -колхоза стояло пятеро студентов, только что приехавших из Риги.
- Значит, нам в помощь - картошку копать? Очень рад, - сказал председатель.- Урожай нынче богатый. Что ж, сегодня отдохните после дороги, а завтра с утра - в поле. Устраивайтесь, где вам понравится. В каждом доме вас встретят хорошо.
- Ну, ребята, пошли размещаться! - Старший в группе, Карлис, взял в руки свой небольшой чемодан…
Наезженная дорожка вывела студентов к хутору Дреймани. Хутор был расположен на холме. Между двумя каменными домами блестело зеркало маленького, почти игрушечного пруда, обсаженного молодыми деревьями. Студенты обошли один из домов и оказались на крохотном дворике. Дворик упирался в хлев, сложенный из крупных нетесаных камней. Рядом с хлевом был виден полуразрушенный сарай, набитый до -самого верха колотыми дровами. За хлевом начиналась пашня.
Карлис подошел к массивной двери и постучался. Ему никто не ответил. Тогда студенты двинулись огородом к соседнему дому. Не успели они -подойти к нему, .как на пороге показалась старуха.
- Нельзя ли у вас остановиться, бабушка? Мы - студенты, приехали в колхоз картошку копать.
- Ну что ж, заходите, - пригласила хозяйка,- только у меня тесновато, поместитесь ли впятером?
Комната и в самом деле оказалась небольшой. Студенты посовещались.
- Тут, действительно, не очень удобно,- заключил Карлис, - да и до поля далеко. Так что извините, бабушка, - поищем где-нибудь поближе…
…А перед утром на хутор Дреймани пришел еще один гость. Он пренебрег наезженной дорожкой - напрямик пересек поле, прошел огородами и тихонько постучал в окошко к Фрицису Лагздиньшу. В комнате зажегся свет. Затем отворилась дверь, и на пороге «показал-ся заспанный хозяин. Он прищурил свои подслеповатые глаза, пытаясь разглядеть пришедшего. И вдруг Лагздиньш изумленно воскликнул:
- Это ты, Альфред? Вот так встреча! А я-то признаться, думал, что тебя и нет уже на этом свете. Ну заходи же.
Но Альфред все еще топтался у двери.
- Здравствуй, Фрицис. Я тоже тебя не рассчитывал увидеть живым и здоровым. Ты в тюрьме не сидел?
- Нет, а что?
- Да я просто так, - сказал Альфред.- Ну, как жена, дети?
- Все, слава богу, живы, - ответил хозяин и захлопотал: - Так заходи же, чего ты стоишь на пороге. Сейчас подниму жену, сына, пошлю за Айной. Вот радость-то!
- Не стоит их тревожить. Поздно, - запротестовал Альфред. - Да и мне, признаться, спать что-то хочется.
Он испытующе взглянул на Лагздиньша и спросил:
- А не боишься меня оставить на ночь? Ведь ты не знаешь, откуда я взялся.
- Полно тебе, Альфред, - обиделся хозяин,- ты же мне брат.
- Ну, ну, я пошутил, - продолжал Альфред.- Я освободился из заключения, все документы у меня в порядке. Только не говори никому, что я пришел. Даже жене. А то начнутся расспросы- что да как… Не к чему все вспоминать. Кстати, ты не завел дружбы с коммунистами? - криво усмехнувшись, спросил гость.
 Фрицис грязно выругался. Альфред расхохотался.
- Молодец, братишка! Я так и думал. Знаешь что, а нельзя ли у тебя в сарае поспать? Только дай мне чем-нибудь накрыться. В моей куртке будет свежо.
Желание брата показалось Фрицису странным. Но он не стал пускаться в расспросы.
- На сеновале много соломы, - сказал Фрицис. - Там подушка, одеяло. Летом сам опал, да все еще не приберу в дом. Ну ступай, раз тебе так нравится. Смотри только не прогадай- ночи теперь холодные. - Он пожелал гостю спокойной ночи и вернулся в дом.
До рассвета Лагздиньша мучили сомнения, а утром он, захватив молока, яблок и хлеба, поспешил на сеновал. Альфред уже проснулся, лежал и курил в кулак. Фрицис присел рядом.
- Ну, как спалось? - спросил он.
- Ничего, спасибо.
- Знаешь что, Альфред, - осторожно начал Лагздиньш,- как-то непохоже, что ты по-доброму освободился из тюрьмы. Чего бы ты тогда стал ночевать в сарае? Скажи-ка мне правду. Неужели не доверяешь?
- Я вернулся из-за границы,- глядя в упор на брата, сказал Альфред.
- Ну, это другое дело. Я так и думал. А чего тебе не жилось на западе? Или скучал без коммунистов? Зачем явился сюда?
- Затем, чтобы тебе и таким, как ты, вернуть землю и все добро, которое отняли коммунисты.
Фрицис подумал и сказал:
- А не много ли ты на себя берешь, Альфред? Власть здесь у нас крепкая.
- Нам помогут большие люди из Соединенных Штатов. Американцы хотят освободить Латвию от коммунистов.
- Американцы!-протянул Лагздиньш.- А вернут ли они нам землю? Или они сами захватят ее, а нас обложат налогами? Не слышал, какой они собираются установить налог?
- Да в налоге ли дело? Ведь ты же настоящий латыш! - вспылил Альфред и тут же осекся: - Словом, обо всем этом я сам слышал краем уха. За что купил, за то и продаю. А тебе надо идти в дом, а то жена хватится. Приходи, как стемнеет. Поговорим…
Вечером Лагздиньш продолжал допытываться у брата:
- Скажи, что все-таки обещают американцы? Будет ли при них лучше? Ведь не задаром же они нам будут помогать. Благодетелей нет. Чего же они хотят?
- Американцы хотят, чтобы Латвии была свободной, - отвечал Альфред. - Они нам помогут. Перед самой войной сюда забросят много людей. Они взорвут мосты, парализуют транспорт, освободят заключенных, начнут уничтожать коммунистов. А нам здесь надо создать свою тайную организацию, которая бы провела кое-какую подготовительную работу. А когда начнется война…
- А если она не начнется? -перебил осторожный Фрицис. - Что тогда? Тогда всю организацию переловят и посадят. И тут уж никакие американцы не спасут.
- Война будет! - безапелляционно заявил Альфред. - Об этом говорят большие люди в Америке. Нам дадут деньги. Много денег. - Альфред расстегнул пояс. - Ну, сколько тебе надо: тысячу, две, .пять? Говори!
Альфред вытащил толстую пачку сторублевок. У Фрициса захватило дух. Альфред потряс пачкой и снова спрятал ее в карман.
- Конечно, даром давать деньги никто не будет. Нужно работать. Так кого же в вашей округе можно будет .привлечь в такую организацию?
Лагздиньш припомнил, что километрах в пятидесяти от хутора Дреймани живет бывший легионер, который на войне потерял глаз.
- Живет он неважно, - пояснил Фрицис,- поэтому к советской власти настроен враждебно.
- Ты можешь съездить за ним? - оживился Альфред. - Я хочу его видеть.
Лагздиньш замялся. Такое поручение пугало его.
Фрицис грязно выругался. Альфред расхохотался.
- Молодец, братишка! Я так и думал. Знаешь что, а нельзя ли у тебя в сарае поспать? Только дай мне чем-нибудь накрыться. В моей куртке будет свежо.
Желание брата показалось Фрицису странным. Но он не стал пускаться в расспросы.
- На сеновале много соломы, - сказал Фрицис. - Там подушка, одеяло. Летом сам опал, да все еще не приберу в дом. Ну ступай, раз тебе так нравится. Смотри только не прогадай- ночи теперь холодные. - Он пожелал гостю спокойной ночи и вернулся в дом.
До рассвета Лагздиньша мучили сомнения, а утром он, захватив молока, яблок и хлеба, поспешил на сеновал. Альфред уже проснулся, лежал и курил в кулак. Фрицис присел рядом.
- Ну, как спалось? - спросил он.
- Ничего, спасибо.
- Знаешь что, Альфред, - осторожно начал Лагздиньш,- как-то непохоже, что ты по-доброму освободился из тюрьмы. Чего бы ты тогда стал ночевать в сарае? Скажи-ка мне правду. Неужели не доверяешь?
- Я вернулся из-за границы,- глядя в упор на брата, сказал Альфред.
- Ну, это другое дело. Я так и думал. А чего тебе не жилось на западе? Или скучал без коммунистов? Зачем явился сюда?
- Затем, чтобы тебе и таким, как ты, вернуть землю и все добро, которое отняли коммунисты.
Фрицис подумал и сказал:
- А не много ли ты на себя берешь, Альфред? Власть здесь у нас крепкая.
- Нам помогут большие люди из Соединенных Штатов. Американцы хотят освободить Латвию от коммунистов.
- Американцы!-протянул Лагздиньш.- А вернут ли они нам землю? Или они сами захватят ее, а нас обложат налогами? Не слышал, какой они собираются установить налог?
- Да в налоге ли дело? Ведь ты же настоящий латыш! - вспылил Альфред и тут же осекся: - Словом, обо всем этом я сам слышал краем уха. За что купил, за то и продаю. А тебе надо идти в дом, а то жена хватится. Приходи, как стемнеет. Поговорим…
Вечером Лагздиньш продолжал допытываться у брата:
- Скажи, что все-таки обещают американцы? Будет ли при них лучше? Ведь не задаром же они нам будут помогать. Благодетелей нет. Чего же они хотят?
- Американцы хотят, чтобы Латвии была свободной, - отвечал Альфред. - Они нам помогут. Перед самой войной сюда забросят много людей. Они взорвут мосты, парализуют транспорт, освободят заключенных, начнут уничтожать коммунистов. А нам здесь надо создать свою тайную организацию, которая бы провела кое-какую подготовительную работу. А когда начнется война…
- А если она не начнется? -перебил осторожный Фрицис. - Что тогда? Тогда всю организацию переловят и посадят. И тут уж никакие американцы не спасут.
- Война будет! - безапелляционно заявил Альфред. - Об этом говорят большие люди в Америке. Нам дадут деньги. Много денег. - Альфред расстегнул пояс. - Ну, сколько тебе надо: тысячу, две, .пять? Говори!
Альфред вытащил толстую пачку сторублевок. У Фрициса захватило дух. Альфред потряс пачкой и снова спрятал ее в карман.
- Конечно, даром давать деньги никто не будет. Нужно работать. Так кого же в вашей округе можно будет .привлечь в такую организацию?
Лагздиньш припомнил, что километрах в пятидесяти от хутора Дреймани живет бывший легионер, который на войне потерял глаз.
- Живет он неважно, - пояснил Фрицис,- поэтому к советской власти настроен враждебно.
- Ты можешь съездить за ним? - оживился Альфред. - Я хочу его видеть.
Лагздиньш замялся. Такое поручение пугало его.
 - У меня болят ноги,- соврал он. - Я приведу его как-нибудь в другой раз. Давай немного подождем. Как бы не вызвать подозрений,
- Ну ладно, может быть, ты и прав, - недовольно согласился брат. Альфред понимал, что в его положении глупо . Приказывать. - Да, у меня есть просьба к тебе: сходи, пожалуйста, в магазин. Купи пальто и кепку. Мне надо переодеться.
Лагздиньш взял деньги и ушел. Вскоре он принес все, о чем его просил брат, но был очень взволнован. В магазине Фрицис встретил милиционера. Участковый, видя, что он выбирает пальто значительно большего размера, чем на себя, удивился и поинтересовался, кому это он покупает обнову.
- Как бы не было плохо, - беспокоился Лагздиньш.
Они распили пол-литра «водки. Но на душе у бывшего кулака не стало веселее.
- Уходи, - посоветовал он Альфреду. - Дождись ночи и уходи. Далеко ли до беды?
- Мне нужно отсидеться несколько дней. Потом уйду, - хмуро проговорил Альфред.- А милиционера ты не бойся - это простое любопытство. Ведь не будет он следить за каждым, кто покупает пальто себе не впору. Ты же не украл, а купил.
Но эти доводы не успокоили Лагздиньша. Да, он ненавидел коммунистов. Они отобрали у него землю, скот. Фрицис готов был -помогать любой власти, которая уничтожит советский строй. Но где она, эта власть? Альфред, который прячется у него на сеновале? Нет, нечего ему соваться в пекло. Если бы началась война, тогда другое дело, Можно было бы на что-нибудь рассчитывать. Но сейчас…
- Знаешь что, уходи, - повторил Фрицис.- Чем черт не шутит! И тебя не спасу, и сам попадусь. У меня жена, дети.
- Вот и борись, чтоб им жилось лучше! Что же ты, за чужой спиной хочешь отсидеться? Готовенькое на блюдечке не поднесут, - без особенного воодушевления сказал Альфред.
- Ну, хоть перейди в сарай с рожью. Там надежнее скрываться, - посоветовал Фрицис.- Еду тебе будет носить Айна. А если что, то ты меня не видел, и я тебя не встречал. Мало ли кто может забраться в мой сарай без спроса… Как стемнеет, так и переходи.
- Ладно, - нехотя согласился Альфред.- Только -подумай, как связаться с твоим одноглазым легионером.
Но Фрицису было уже не до легионера. Его била нервная дрожь - он с трудом спустился с сеновала. Конечно, Альфреда ищут. Иначе зачем же ему прятаться и переодеваться? А если .ищут, то догадаются, для кого он, Фрицис, покупал пальто и кепку…
С наступлением темноты Альфред перебрался в сарай и зарылся в ржаных снопах. Ночью сквозь полудрему он услышал шаги. Альфред осторожно приподнял сноп и различил в темноте женскую фигуру. Женщина поставила на землю тарелку, завернутую в тряпицу, и удалилась. Альфред достал тарелку. Тут были яйца, сало, хлеб. Он поужинал, спрятал посуду в снопы и уснул.
- У меня болят ноги,- соврал он. - Я приведу его как-нибудь в другой раз. Давай немного подождем. Как бы не вызвать подозрений,
- Ну ладно, может быть, ты и прав, - недовольно согласился брат. Альфред понимал, что в его положении глупо . Приказывать. - Да, у меня есть просьба к тебе: сходи, пожалуйста, в магазин. Купи пальто и кепку. Мне надо переодеться.
Лагздиньш взял деньги и ушел. Вскоре он принес все, о чем его просил брат, но был очень взволнован. В магазине Фрицис встретил милиционера. Участковый, видя, что он выбирает пальто значительно большего размера, чем на себя, удивился и поинтересовался, кому это он покупает обнову.
- Как бы не было плохо, - беспокоился Лагздиньш.
Они распили пол-литра «водки. Но на душе у бывшего кулака не стало веселее.
- Уходи, - посоветовал он Альфреду. - Дождись ночи и уходи. Далеко ли до беды?
- Мне нужно отсидеться несколько дней. Потом уйду, - хмуро проговорил Альфред.- А милиционера ты не бойся - это простое любопытство. Ведь не будет он следить за каждым, кто покупает пальто себе не впору. Ты же не украл, а купил.
Но эти доводы не успокоили Лагздиньша. Да, он ненавидел коммунистов. Они отобрали у него землю, скот. Фрицис готов был -помогать любой власти, которая уничтожит советский строй. Но где она, эта власть? Альфред, который прячется у него на сеновале? Нет, нечего ему соваться в пекло. Если бы началась война, тогда другое дело, Можно было бы на что-нибудь рассчитывать. Но сейчас…
- Знаешь что, уходи, - повторил Фрицис.- Чем черт не шутит! И тебя не спасу, и сам попадусь. У меня жена, дети.
- Вот и борись, чтоб им жилось лучше! Что же ты, за чужой спиной хочешь отсидеться? Готовенькое на блюдечке не поднесут, - без особенного воодушевления сказал Альфред.
- Ну, хоть перейди в сарай с рожью. Там надежнее скрываться, - посоветовал Фрицис.- Еду тебе будет носить Айна. А если что, то ты меня не видел, и я тебя не встречал. Мало ли кто может забраться в мой сарай без спроса… Как стемнеет, так и переходи.
- Ладно, - нехотя согласился Альфред.- Только -подумай, как связаться с твоим одноглазым легионером.
Но Фрицису было уже не до легионера. Его била нервная дрожь - он с трудом спустился с сеновала. Конечно, Альфреда ищут. Иначе зачем же ему прятаться и переодеваться? А если .ищут, то догадаются, для кого он, Фрицис, покупал пальто и кепку…
С наступлением темноты Альфред перебрался в сарай и зарылся в ржаных снопах. Ночью сквозь полудрему он услышал шаги. Альфред осторожно приподнял сноп и различил в темноте женскую фигуру. Женщина поставила на землю тарелку, завернутую в тряпицу, и удалилась. Альфред достал тарелку. Тут были яйца, сало, хлеб. Он поужинал, спрятал посуду в снопы и уснул.
2
Рижские студенты работали в колхозе очень старательно, от зари до зари. Конечно, им нелегко было с непривычки ходить весь день за картофелекопалкой и собирать картошку в большие плетеные корзины. Первое время сильно ломило в .пояснице: работать приходилось -согнувшись. Но уже на третий день студенты собирали картофеля не меньше, чем лучшие колхозники.
Председатель сельхозартели не раз отмечал трудолюбие и старательность юношей. Вот почему он был несколько удивлен, когда старший группы студентов, Карлис, попросил отпустить его пораньше с работы, так как ему надо съездить в Сабиле по личным делам.
- Что ж, раз надо-поезжайте,- сказал председатель.
Карлис передал свою корзину товарищам, соскоблил щепкой налипшую грязь с ботинок и торопливо зашагал по обочине дороги.
У поворота его догнал вездеход. Карлис поднял руку. «Газик» остановился, и студент быстро вскочил на сиденье.
- Здравствуйте, Лидумс, - обратился к студенту подполковник. - Какие новости на хуторе?
- Доброго здоровья, товарищ подполковник. На хуторе все по-старому. Наш подопечный все еще -прячется в сарае. Его двоюродная сестра каждую ночь носит ему еду. Думаю, что он «скоро уйдет.
- Я тоже так думаю, - сказал Алкснис.- Пора его брать.
Машина уже въехала в городок и загромыхала по булыжной мостовой. На перекрестке вездеход остановился. Лидумс вышел.
- Ну отдыхайте, лейтенант, - сказал ему Алкснис и шутливо добавил: - Вы свое дело сделали, товарищ студент Карлис.
…Под вечер на хутор Дреймани влетел вездеход. В нем сидели подполковник Алкснис, майор Стурис и капитан Янсон. Фрицис, заметив приезжих, вышел из дома.
- Здравствуйте, хозяин. Скажите, не заходил ли в эти дни на хутор -кто-нибудь из -посторонних? - спросил Алкснис.
Фрицис пожал плечами:
- Да нет, никого я не видел. Чужих на хуторе нет.
- Все же нам придется самим убедиться в этом, - сказал Алкснис. - Вот ордер на обыск, выданный прокурором. - Он .показал разрешение.
Офицеры направились к сараю. Подполковник приоткрыл дверь и крикнул:
- Есть ли тут кто-нибудь? Выходите!
Ему никто не ответил.
Подполковник взял вилы, повернул их тупым концом вниз и стал прощупывать рожь. Вилы уперлись во что-то твердое, послышался шум разбитого стекла.
- Посуда,- определил он. - А ну, товарищи, растаскивайте снопы.
Из ржи прогремел выстрел. Стреляли не целясь, на звук голоса. Пуля прошла рядом со щекой Алксниса.
- Выходите, сопротивление бесполезно! - крикнул подполковник.
Снопы задвигались. Сначала показались поднятые руки - в одной был зажат пистолет- потом высунулась голова.
- Сдаюсь… - прохрипел Альфред.
- Бросайте оружие! - приказал Алкснис.
Шпион по-кошачьи извернулся, направил пистолет на Алксниса и истошно закричал:
- Ты тоже умрешь!
Почти одновременно прогремело три выстрела. Альфред споткнулся, выронил из рук пистолет и уткнулся головой в сноп. Когда Алкснис нагнулся к шпиону, тот был уже мертв.
Чекисты обыскали сарай. В снопах они обнаружили деньги, шифры, яды… В кармане убитого было найдено незапечатанное письмо.
«Дорогая Софья, - говорилось в нем. - Писем от тебя все нет. Живем мы хорошо. Люди возвращаются на родину, и никто их не преследует. Не верь тому, что говорят вам там, на Западе. В Мюнхене ты пропадешь одна. Толь-
ко здесь ты найдешь свою счастливую звезду. Возвращайся к нам, дорогая».
- Вероятно, тайнопись, - сказал подполковник.- Надо проверить…
 …Через неделю Алкснис проводил оперативное совещание.
- Письмо, которое мы нашли у Риекстиньша, действительно содержало тайнописный текст, - сообщил подполковник. - Вот он:
…Через неделю Алкснис проводил оперативное совещание.
- Письмо, которое мы нашли у Риекстиньша, действительно содержало тайнописный текст, - сообщил подполковник. - Вот он:
Продолжаю путь. Условия очень трудные. Люди изменились. Действую с большой осторожностью, так как столкнулся с солдатами. Возможно, напали на мой след. Собираюсь в ближайшее время приступить к реализации акции «Ейч».
Вот что скрывается за «дорогой Софьей» и «счастливой звездой», - продолжал Алкснис, откладывая письмо в сторону. - Звезда Риекстиньша закатилась. Но те, кто пришли с ним, попытаются осуществить свои замыслы. Наша операция на этом, разумеется, не заканчивается,- заключил подполковник. - Будем ее отныне называть условно «Звездой»… или, пожалуй, точнее - «Закатившейся звездой».


Глава четвертая
ОДИНОЧЕСТВО
1
- Нет, ты сначала скажи, где пропадал все годы, почему не написал ни строчки?
- Разве ты не рада брату? Если я тебя стесню, то, может, мне лучше уйти?
- Ну что ты мелешь! Как тебе не стыдно! - Интересная полная женщина схватила за руку пришедшего, точно боялась, что он и в самом деле исчезнет. - Заходи.
Мужчина вошел не сразу . Он еще раз пристально оглядел сестру и спросил:
- Ты не замужем, Мильда?
- Тебе бы стоило поинтересоваться этим раньше, - укоризненно бросила сестра. - Замуж я не выходила.
Мужчина осторожно шагнул в дверь. Комната, куда он вошел, освещалась настольной лам-пой. У окна стояла деревянная кровать, между нею и платяным шкафом - посредине комнаты - стол и три стула.
Мильда села на разобранную постель:
- Ну, расскажи, где ты был все это время, почему не давал о себе знать?
- Неужели это так срочно? Я только -что с поезда и всего полчаса в Риге. К тому же я голоден, - раздраженно заметил брат.
Мильда ушла в кухню. Через несколько минут на столе появилась тарелка мятой картошки и кусок холодной свинины.
- Вот все, что у меня есть. Не обижайся - ты же не предупредил о приезде, как это принято у людей.
Брат жадно набросился на еду, и вскоре в тарелке не осталось ни крошки. Мильда повторила вопрос:
- Ну, рассказывай, что с тобой было после того, как ты удрал с немцами?
- Что было?-переспросил брат и задумался.- Было плохо, чуть ноги не протянул. Долго не мог найти работы. Спал в бараках, а то и прямо под открытым небом.
- Чего же ты сразу не вернулся?
- Боялся, что посадят в тюрьму. Но потом все же решил идти с повинной. Перешел в восточный Берлин, явился к советскому консулу.
- И тебя простили, Эдвин?
- Как видишь. Только я теперь не Эдвин, и фамилия у меня другая. Меня зовут Петерис Янович Приедитис. Не осмелился сказать консулу в Берлине свою настоящую фамилию. Опасался, что вспомнят сорок четвертый год. В остальном все у меня в порядке. Я уже немного работал в Ленинграде - привезли нас туда на пароходе из Ростока. Немного приоделся, скопил деньги на дорогу до Риги.
Мильда насторожилась:
- А может быть, тебе все же лучше пойти и рассказать, что ты изменил фамилию? Как бы не было хуже. Могут узнать об этом и без тебя.
- Да нет, стоит ли волноваться из-за пустяка.
- Пустяк ли?
- Ну чего ты беспокоишься? - рассердился Приедитис. - Мне же виднее. Я не враг сам себе.
Мильда вздохнула:
- Ох, опять все начинается сначала. Почему ты не хочешь жить, как все люди? Тебе надо побыстрее устраиваться на работу. Я тебе .помогать не смогу. Я получаю всего шестьсот рублей.
- Конечно, я буду работать. Только доживу у тебя немного, огляжусь, если не возражаешь. Как теперь прописывают, скажи? Нужно ли являться в милицию лично? Надолго ли отбирают паспорт?
- Чего ты беспокоишься? - вопросом на вопрос ответила Мильда. - Ты же сам только что сказал, что с документами у тебя все в порядке - ведь ты уже работал в Ленинграде.
- Да, конечно, - подтвердил Приедитис и, чтобы скрыть свою растерянность, быстро переменил тему разговора: - Мильда, а цела ли моя скрипка?
- Да, конечно. Я ее не продала даже в трудные годы. Ты же знаешь, что это подарок нашего покойного отца.
Приедитис полез в шкаф и достал скрипку. Он бережно стряхнул пыль, провел пальцем по струнам, которые родили тихий, задумчивый аккорд. Приедитис улыбнулся. Эта улыбка напомнила Мильде славного, застенчивого мальчишку, каким был ее брат двадцать лет назад. Он так хорошо играл на скрипке и так великолепно рисовал. Но что с ним стало? Как он испортил себе жизнь!
Приедитис погладил скрипку, положил ее на прежнее место и, словно читая мысли сестры, сказал:
- Нет, Мильда, мне не придется больше копать землю и спать в бараках. Я буду художником. Я буду писать хорошие картины, и люди будут ими любоваться…
Мильда постелила брату на полу, потушила свет и легла в постель. Но сон не приходил. Мильда прислушивалась к неровному дыханию брата, который почему-то решил спать, не раздеваясь. Он ворочался, вздрагивал и жадно курил под одеялом. Потом вскочил и осторожно подошел к окну.
- Что с тобой, Эдвин?
Тот встрепенулся:
- Ничего. Мне показалось, что кто-то оста-новился на улице возле нашего окна… И потом, я прошу больше никогда не называть меня Эдвином. Ты ведь знаешь, как меня теперь зовут.
Брат был теперь совсем не таким, как полчаса назад, когда держал в руках скрипку. Перед Мильдой стоял совсем другой человек- злой, испуганный, с бледным, перекошенным от страха лицом…
Весь следующий день Приедитис провел дома. Вернувшись с работы, Мильда застала брата сидящим все в той же позе, что и утром, когда она уходила в свое ателье.
- Ты что? Так никуда и не ходил?
- Да что-то не тянет… - задумчиво ответил Приедитис. - Хочется привыкнуть, что у меня, наконец, есть крыша над головой.
Но вечером у Приедитиса кончились сигареты. Он сбегал на угол в табачный ларек и тут же вернулся назад. Второй раз он вышел из дома только через три дня и немного прошелся по городу. С этого вечера Приедитис стал отлучаться все чаще и чаще.
Мильда заметила, что брат заметно повеселел. Вечерами он брал скрипку и играл задорные латышские мелодии. Однажды Приедитис вернулся домой изрядно выпившим.
- Я устроился работать художником! - радостно сообщил он…
Через полумесяца, придя со службы домой, Мильда увидела на столе кремовый торт и бутылку портвейна.
- Сестричка, выпьем с моей первой получки.
Мильда была счастлива. Ушли из сердца тревоги и подозрения, рожденные той страшной первой ночью. Эдвин начинал новую жизнь. И Мильда была уверена, что теперь брата ожидает запоздавшее счастье…
2
С той поры, как на хуторе Дреймани был убит американский шпион Альфред Риекстиньш, прошел год. Тогда лейтенант Лидумс считал, что органам госбезопасности быстро удастся захватить, обезвредить и других шпионов. Но этого не случилось. Сообщники Риекстиньша исчезли, не оставив никаких следов.
Временами Лидумсу казалось, что подполковник Алкснис слишком спокойно относится ко всей этой истории. «Ведь он сам говорил, что Риекстиньш пришел не один, - думал лейтенант. - Так что же он мешкает? Нужно поднять всех на ноги и продолжать поиски». Искать! Но как, где?
…Вскоре после операции на хуторе Лидумс завершил стажировку в Айзпутском районе и вернулся в Ригу. Майору Стурису было теперь что писать в отзыве о своем стажере. С помощью рижских студентов Лидумс прекрасно справился с заданием, наблюдая за хутором Дреймани. Теперь Лидумс работал в оперативном отделе подполковника Алксниса. Начальник отдела был доволен своим молодым сотрудником - за это время лейтенант выполнил немало ответственных заданий…
Мысль о том, что американский шпион пробрался в Латвию и теперь живет среди честных людей, дышит с ними одним воздухом и делает свое черное дело, не давала Лидумсу покоя. В свободные минуты он еще и еще раз склонялся над картами, брошенными нарушителями на высоте близ хутора Друвас, разглядывал шпионское снаряжение, найденное при убитом Риекстиньше.
Лидумс надеялся найти что-нибудь, что прояснило бы обстоятельства дела. Но все эти вещи и документы были в свое время досконально изучены специалистами, и получить какие-либо новые данные не удавалось. Но Лидумс не отступался.
И вот сейчас, придя с докладом к Алкснису и решив все текущие дела, лейтенант задержался в кабинете начальника отдела.
- Товарищ подполковник, неужели прошлогоднее дело о нарушении границы мы так и положим в архив? - спросил Лидумс.
Подполковник улыбнулся:
- А как вы сами думаете, товарищ лейтенант?
Лидумс нахмурил брови:
- Мне кажется, нужно что-то предпринимать.
- А что именно?
- Я много размышлял над этим делом, и мне кажется, что стоит вплотную заняться бригадиром Эвертом из Айзпутского района. Ведь есть же показания двух колхозниц, что на берегу лесного озера вместе с человеком в кожаной куртке - Риекстиньшем был и Эверт.
- Насколько я помню, тогда не утверждалось, что попутчиком Риекстиньша был именно Эверт. Говорилось, что попутчик был очень похож на бригадира. А это не одно и то же. И потом, Лидумс, вы же сами тогда говорили с Эвертом.
- Это как раз меня и беспокоит, - отвечал Лидумс. - Ведь, кроме меня, больше никто не разговаривал с бригадиром. Не обманул ли меня Эверт, не ввел ли в заблуждение, не сбил ли с толку? Предположим, с Риекстиньшем был не бригадир, а кто-то другой, на него очень похожий. Но разве можно считать совпадением, что нарушители границы и Эверт курили в тот день один и тот же сорт сигарет? Да и потом Эверт не отрицал, что был в лесу. Вот я и думаю: может быть, стоит еще раз прощупать бригадира?
- А что это даст? - спросил подполковник и сам же ответил: - Ничего. Эверт тогда прекрасно знал, что мы искали нарушителей границы. Если бы он мог или хотел чем-нибудь нам помочь, он бы помог нам еще год назад. Но он не сделал этого. Либо он сам ничего не знал, либо не пожелал ничего рассказывать. О чем же сейчас с ним говорить?
Подполковник взглянул на Лидумса, но тот промолчал.
- И потом скажу вам откровенно, - добавил Алкснис, - у меня с трудом укладывается в голове, что Эверт мог иметь какие-то отношения с Риекстиньшем. По всей вероятности, они не были даже знакомы. Эверт воевал в Советской Армии, и когда демобилизовался, го Риекстиньш был уже на Западе. Но предположим, что Эверт встречал Риекстиньша у границы. А для чего? Оружием, продовольствием, документами, картами Риекстиньша снабдили американцы, и он не испытывал ни в чем недостатка. Может быть, Эверт должен был проводить Риекстиньша куда-нибудь, скажем, до хутора Дреймани. Почему же тогда Эверт не пошел с ним дальше? Словом, Риекстиньшу не было никакой нужды встречаться с Эвертом близ границы… И наконец самое главное. Что может быть общего между Эвертом, бывшим фронтовиком, мастером высоких урожаев, орденоносцем и изменником Родины, фашистским прихвостнем и американским наймитом Риекстиньшем?
- Ну, а куда тогда делся второй нарушитель границы? - воскликнул Лидумс.
Подполковник рассмеялся:
- Простите, Лидумс. Вы в который раз спрашиваете меня об этом? Наверное, в двадцать пятый. И в двадцать пятый раз я вам вынужден ответить: не знаю. Но знаю одно: шпион, пробравшийся к нам вместе с Риекстиньшем, никакой активности не проявляет. Может быть, американская разведка решила до времени законсервировать его. Но когда-нибудь он же зашевелится! И тогда-то мы о нем обязательно услышим. Нам еще предстоит большая работа, лейтенант Лидумс.
3
Под кистью Петериса Приедитиса рождались унылые, мрачные пейзажи - художник хандрил. Стены комнаты были увешаны осенними этюдами. На них повторялся один и тот же мотив: дождливый день, тусклое, плачущее небо, зыбкое болото, пожелтевший сентябрьский лес.
Приедитис был задумчив, неразговорчив.
- Что с тобою, братишка? - не раз спрашивала его Мильда.
- Я уже говорил: скоро выставка моих работ. Это ведь серьезный экзамен!
- Не волнуйся, я верю, что все будет хорошо,- успокаивала его Мильда.
Но Приедитис врал сестре. Он не боялся выставки, потому что никто не собирался ее устраивать. Выставку он выдумал для сестры. Но врал он ей не только в этом. Приедитис никуда не поступал работать. А зарплата?
Ему приходилось брать деньги у женщины и говорить Мильде, что он их заработал. Уже целый год Приедитис жил на средства своей давнишней знакомой Веры Книксонс, портнихи, работающей на дому. Но что было делать? К кому обратиться? В этом большом городе, где люди вечно торопятся - не ходят, а бегут по улицам, поглощенные своим делом,- кто мог вспомнить о нем, безвестном бродяге? О нем могла помнить только женщина, которая любила его первой девичьей любовью. Это было пятнадцать лет назад. Да, тогда худенькая белошвейка с улицы Бривибас собиралась за него замуж. Она даже сшила свадебное платье. Но он обманул Веру, исчез, искалечил ей жизнь. И вот теперь нужно было вдруг снова встать на ее пути. И врать, что все пятнадцать лет разлуки любил ее, думал о ней, заронить в ее душе новые надежды.
Мильда была решительно против этих встреч. Она считала, что брату нужна другая жена. Ну кто не знает, что Вера легкомысленна, безрассудна… Милая, доверчивая Мильда! Как она вскрикнула, когда он неожиданно появился на пороге. Он сказал, что репатриировался из Западной Германии. И она поверила…
Приедитис бросил кисть и отодвинул ‹ногой мольберт. Как это все противно - разыгрывать перед сестрой роль неудачника, прикидываться перед Верой влюбленным! И сколько лет ему еще придется быть не самим собой, таиться, вздрагивать от каждого стука, ходить по улицам оглядываясь?..
4
Тяжелое чувство ожидания беды охватило Приедитиса в ту самую минуту, когда он вместе с «Имантом» перешел советскую границу. Это было год назад. С первых же шагов на латышской земле они почувствовали, что идут по самому краю бездны.
Этот путь Приедитис будет помнить всегда. Еще там, в пограничном лесу, «Имант» вышел на просеку, чтобы оглядеться, и тотчас же прыгнул назад, закричав, что идет стадо. Они долго бежали по лесу, пока не спрятались в густых кустах. «Имант» долго ломал голову над тем, заметили ли его пастухи или нет. Но в лесу было тихо. Только крупные капли дождя, зарядившего еще с прошлой ночи, стучали барабанной дробью о пожелтевшие листья берез.
Ночью они решили облегчить свою поклажу. Приедитис зарыл радиостанцию, «Имант»- автомат, боеприпасы, аппарат для наводки самолетов. Идти стало легче. На рассвете они вышли к небольшому лесному озеру. Пока они пытались определиться по карте и компасу, на противоположном берегу показались женщины. И опять они бросились в лес, и опять прятались весь день, накрывшись плащ-палаткой.
Когда стемнело, они двинулись в путь. На лесной дороге они увидели путевую стрелку с указателем «Айзпуте». Но сколько километров было до этого городка, разглядеть не удалось, а чиркнуть спичкой боялись.
Еще один день они провалялись в лесу. Перекусили шоколадом и сухими концентратами. И опять шел этот проклятый дождь и дул холодный порывистый ветер, пронизывающий до самых костей. Как был прав «Борис», когда доказывал, что начинать работу осенью невозможно! Но полковник Кулл и так затянул подготовку. На карту была поставлена его карьера, поэтому он настоял, и они пошли.
Приедитис хорошо помнит, что тогда они все время говорили о «Борисе». Он должен был в ту же ночь перейти границу и, соединившись с ними, дойти до реки Вента. Там, в лесу, они долго подавали условные свистки, но никто не откликался. Они прождали «Бориса» двенадцать часов, как это было условлено, и тронулись в путь одни.
На высотке, где был устроен следующий привал, они окончательно решили, что «Бориса» ожидать бесполезно. Эта высотка мало чем отличалась от других лесистых холмов. На ее пологой вершине, плотно прижавшись друг к другу, стояли молодые деревья, ветви которых переплелись с лозами высокого кустарника в один золотистый живой клубок. Здесь, в чаще, «Имант» решил поставить палатку, развести костер и обсушиться.
«Мне надоела сухомятка», - сказал тогда «Имант». Приедитис возражал ему, боялся, что заметят огонь костра. Они даже поссорились. «Имант» .все же развел костер и стал варить в котелке мясной бульон, а он съел солоноватые кубики и улегся спать.
Когда он проснулся, то увидел, что «Имант» лежит на плащ-палатке и возится над зашифровкой радиограммы: наступал последний обусловленный срок для передачи ее в разведцентр. Что писал «Имант», он не знал. Им были даны разные шифры. Потом «Имант» отправился подыскивать место, где бы можно было забросить антенну. Он исчез в кустах, но тут же вернулся и испуганно сообщил, что по оврагу идут солдаты.
Они не успели убрать палатку, спрятать разложенные у костра деньги и карты. Мешкать было некогда.
Приедитис был сильнее «Иманта». Он мог бежать очень быстро, делая широкие шаги, перепрыгивая через пни и канавы. Сначала Приедитис чувствовал за спиной горячее дыхание товарища, потом он различал лишь топот тяжелых солдатских ботинок «Иманта», а дальше не слышал уже ничего…
Приедитис бежал до тех пор, пока не упал и не почувствовал, что силы оставили его. Он заполз в канаву. У него не было теперь ни плащ-палатки, ни карт, ни продуктов. При нем осталось лишь то, что было зашито в поясе. А там хранилось самое основное: адреса, шифры, расписание радиосвязи, яд, средства тайнописи, полторы тысячи советских денег и документы на имя Петериса Яновича Приедитиса.
Да, у него были деньги, но он боялся заходить на хутора - там могла быть засада. Целую неделю, пока шел до Риги, он питался лишь морковью да свеклой, которую воровал с полей. На пятую ночь у какой-то мельницы он перешел вброд реку Венту. До Венты они должны были идти втроем. А добрался он один.
Приедитис твердо решил остановиться у сестры. Американская разведка категорически запрещала появляться у родственников. Но отправляться по выданным Куллом адресам Приедитис не решился. Он боялся этих незнакомых людей, он устал, измучился и даже в маленьких детях, беззаботно игравших на улице, ему мерещились чекисты. Стоило ли преодолевать этот тяжелый, изнурительный путь через леса и болота, бежать от солдат и питаться сырыми овощами, чтобы сразу же на него донесли? Людей он не любил, не верил им. Никому. И он пошел к сестре…
С той поры Приедитис проделывал путь от Риги до пограничного леска, где была спрятана радиоаппаратура, еще двенадцать раз. Каждый месяц по восемнадцатым числам он выкапывал из-под старой березы приемник и прослушивал радиопередачи из разведцентра. Стоит ли говорить, сколько страху он натерпелся за эти двенадцать путешествий!

5
Приедитис положил в шкаф недописанный этюд и убрал краски. Подошел к вешалке, снял пальто. Он твердо решил взять приемник из леса домой. Конечно, это будет опасно. Но разве не опаснее каждый раз работать в лесу?
Приедитис осторожно запер дверь и вышел на улицу.
Спустя час он сидел у окна вагона и смотрел, как впереди, в черных клубах паровозного дыма, догорает закат. В вагоне почти не было пассажиров. Никто не заводил с ним разговора, не навязывался в собеседники, как это часто бывает в дороге, и Приедитис был наедине со своими думами. А думы - тяжелые, тревожные - все время лезли в голову. Они были рождены не столько страхом, сколько сознанием неотвратимости катастрофы, ожиданием неминуемой беды. Но Приедитис понимал, что нельзя опускать руки. Нужно работать…
В подвале своего дома, в углу, за развалившимся диваном, выкинутым кем-то из жильцов еще с десяток лет назад, он оборудовал тайник. В нем будет удобнее и безопаснее хранить радиоаппаратуру. Ведь и Мильда может обратить внимание, что по восемнадцатым числам он никогда не ночует дома.
Решение было, конечно, правильным, и он сообщил Куллу, чтобы передачи перенесли на. дневные часы. Но будет ли от этого какой-нибудь прок?..
…Вот уже год он пишет в разведцентр и слушает его ответы в эфире. Но все это только одни разговоры.
Почти год назад Приедитис послал за океан свое первое сообщение. Дождавшись, когда Мильда уйдет на работу, он извлек из пояса таблетку специальных чернил для тайнописи и кадр фотопленки. На нем был запечатлен невинный морской пейзаж. Приедитис поднес к пленке увеличительное стекло. Сквозь волны проступили слова. Это был адрес, по которому надо было писать для разведцентра.
Приедитис достал листок бумаги и шариковой авторучкой написал письмо. В нем он настойчиво убеждал какую-то Анну вернуться на родину. Такое содержание было рекомендовано американскими инструкторами. Затем Приедитис бросил таблетку в рюмку кипяченой воды, размешал раствор чертежным пером и между строк стал писать тайный текст:
«Добрался до Риги благополучно. Прописался, подозрений ни у кого не вызываю. С «Имантом» и «Борисом» связи не имею. Шлите деньги, без них не могу начинать работу».
Закончив писать, Приедитис в течение нескольких минут подержал лист над паром кипящего чайника. Потом положил письмо в книгу, а на нее поставил утюг, чтобы выровнялась бумага. На конверте, в графе «адрес отправителя» он, заглянув в газету, поставил фамилию и имя женщины, дававшей объявление о разводе.
В ночь на восемнадцатое Приедитис был в лесу. Сеанс начался точно в назначенное время. Он принял сообщение, набросал колонку цифр и спряталаппаратуру. Приехав домой, достал таблицу и расшифровал текст.
«Поздравляем с благополучным прибытием,- передал разведцентр. - Приступайте к выполнению задания. Родина не забудет ваших трудов».
О деньгах и адресах «Иманта» и «Бориса» в ответе не было ни слова. Приедитис в сердцах выругался. Стоило ли тащиться за добрую сотню километров, чтобы получить ничего не говорящий ответ!
Впрочем, первое время Приедитис пытался сам связаться с «Имантом» и «Борисом». Несколько раз он приходил на перекресток улиц Бривибас и Елизабетес, к рекламному столбу, и все никак не решался вынуть карандаш. Но делать что-то было все же надо и однажды, выбрав момент, когда у афиш никого не было, написал четыре цифры: «2818». К этому столбу обязательно должны подойти «Имант» и «Борис», если только они в Риге. Так было условлено. Они знают, что нужно подчеркнуть цифры тремя черточками. Этим они сообщили бы, что придут сюда 27 числа в 17 часов. От чисел, означающих дату и время встречи, полагалось вычесть по единице.
Приедитис наведывался сюда каждый день, однако никто не подчеркивал его надпись. После двадцать седьмого он назначил явку на новый срок, но и этот срок прошел, и следующий…
Приедитис все посылал и посылал письма в разведцентр - требовал деньги, просил выслать новые документы, адреса. Иногда в письмах он разражался бранью: «Почему не связываете меня с «Имантом» и «Борисом»? Или вы все еще продолжаете проверку, которую начали в Мюнхене? Но я вам не подопытный кролик!»
Это был вопль отчаяния.
Но разведцентр отвечал вопросом на вопрос:
«Почему не передаете агентурных данных? Когда, наконец, приступите к реализации акции «Ейч»?»
Приедитис догадывался, что ему не дадут денег, пока он не начнет выполнять задание. Но Приедитис их просил, умолял. Он жаловался, что живет на средства женщины, которая болеет чахоткой, что не имеет приличного костюма, не может в праздник выпить бутылку вина.
«Работайте над акцией «Ейч», - отвечали ему американцы.
Работать над акцией’ «Ейч»? Это значит, он должен подобрать одного человека из местных жителей и с его помощью уточнять расположение военных аэродромов, типы самолетов и размеры взлетных площадок, выяснять пропускную способность железных дорог и мостов, описывать портовые сооружения, узнавать, какие заказы размещаются на рижских заводах, искать связи с антисоветски настроенными элементами.
Нет, Приедитис не трус. Если б с ним кто-нибудь. был рядом, хотя бы этот щуплый «Имант», он, не страшась, пошел бы на все, даже на смерть. Но он одинок. Он не решался заводить знакомства, ходить по улицам, появляться вблизи военных объектов.
Временами его охватывала мания преследования. Ему казалось, что за ним наблюдают, что кто-то копается в его чемодане, когда его нет дома. Он даже начинал шпионить за Мильдой, не ходит ли она в милицию, КГБ. Тогда Приедитис заставлял себя логически мыслить. Если его разоблачили, то почему же он тогда не арестован? Нет, его не могли выследить. Никто у него ничего не спрашивал, не проверял документов. Но потом минутное спокойствие сменялось приступами сомнений, и он принимался опять анализировать каждый свой шаг…
…Поезд подходил к Айзпуте. Приедитис сошел на станции, потолкался в буфете и, никем не замеченный, ушел в лес.
6
Утром Петерис Приедитис вернулся из Айзпутского района в Ригу.
В его небольшом чемоданчике лежал приемник, выпрямитель и преобразователь тока. Он спустился в подвал и в углу, за развалившимся диваном, спрятал вещи.
Приедитис облегченно вздохнул. Дело сделано, теперь не надо каждый раз тащиться в лес, чтобы слушать передачи разведцентра. Достаточно только спуститься в подвал…
Всю обратную дорогу он обдумывал сегодняшнее сообщение разведцентра. Оно было необычным. Вашингтон передавал, что скоро ему будет устроена встреча с человеком, который поступит в его распоряжение. Приедитис обрадовался. Вдвоем работать куда безопаснее. Но кто этот человек? «Борис», «Имант» или еще кто-нибудь другой, пробравшийся через границу? Нет, это было загадкой, которую раньше времени не разгадаешь.
…Приедитис отряхнул костюм, на который налипла паутина, и стал подниматься по земляным ступеням.
Только он вошел в коридор, как из своей комнаты выскочила соседка. Ее Приедитис терпеть не мог. Она была любопытна, сварлива, и, кроме того, присутствие в квартире постороннего человека настораживало и беспокоило Приедитиса.
Соседка загадочно улыбнулась:
- Петерис Янович, вам письмо. Нет, так не отдам. Танцуйте!
Приедитис испуганно посмотрел на женщину. Нет ли здесь какой-нибудь ловушки?
- Мне? Письмо? - удивленно переспросил он. Приедитис и в самом деле не мог сообразить, кто ему мог писать.
- Да, зам. Из Москвы. От гражданина Андерсона. Вот тут на конверте все написано.
Приедитис пожал плечами:
- Это ошибка. Я такого человека не знаю.
Соседке стало даже неловко.
- Ну, словом, нате, - разочарованно протянула она, отдавая толстый конверт. - Вижу, танцевать вы все равно не будете.
Приедитис осторожно, точно это было лезвие опасной бритвы, взял письмо и заперся в комнате на ключ. Он еще раз взглянул на конверт. Письмо, действительно, было адресовано ему. «Но от кого?»
Разорвав конверт, он обнаружил там деньги. Сердце Приедитиса ёкнуло. Конечно же, это оттуда! Он пересчитал хрустящие бумажки. Денег было немного, всего четыреста двадцать рублей. Но почему четыреста двадцать, а не пятьсот, например? «Неужели Кулл высчитал с меня федеральный налог?» - пришла в голову нелепая мысль.
Он не сразу заметил что в конверт еще вложена записка:
«Дорогой Петерис Янович! Как мы условились, я продал твои часы. Высылаю вырученные деньги. Жду от тебя известий. Жму руку. Привет. Андерсон».
Радостное чувство, охватившее было Приедитиса, сменилось тревогой, едва он подумал о соседке. Не иначе, эта любопытная женщина не удержалась, распечатала письмо, увидела деньги и прочитала записку. Он выругал себя за то, что неосмотрительно разорвал конверт. Теперь нельзя было узнать, вскрывали ли его раньше или нет. Приедитис в волнении зашагал по комнате. Потом он сбегал в магазин, принес пол-литра водки и, не закусывая, выпил граненый стакан. «Ну, а если она все-таки заглянула .в конверт? Пожалуй, надо пойти к ней, потолковать, а то еще подумает черт знает что».
Приедитис выпил еще полстакана, снял со стены небольшой этюд и направился к ней.
Соседка гладила. Увидев Приедитиса, она поставила утюг на конфорку:
- Ну как, прочитали письмо? Вам?
«Интересуется! Конечно, заглядывала внутрь»,- решил Приедитис. Он почувствовал, что водка сильно ударила в голову.
- Да, прочитал, - сказал он, - так, пустяки. Вот я вам свою картинку принес. Принимаете подарок?
- Да что с вами, Петерис Янович! - засмущалась соседка:-Никогда не дарили и вдруг… Ну спасибо. Очень милый этюд.
- А письмецо, знаете, мне старый товарищ написал. Я даже не поверил, что это он. Часы мои он продал года полтора назад. А теперь деньги решил выслать.
- Честный человек, - сказала соседка,- не зажулил.
- Честный, - подтвердил Приедитис.
- Ну что ж, деньги теперь получите…
Приедитис не спускал с нее глаз. «Прикидывается или нет»? - думал он.
- А товарищ мой и деньги прислал. В письме. Четыреста двадцать рублей.
- В простом письме? И не пропали?
- Чего же им пропадать? На почте у нас писем не вскрывают.
Приедитис спохватился, что спьяну может наболтать лишнего, и вернулся к себе, прилег.
Вечером он проснулся с больной головой. Допил остаток водки. Стало легче. И сразу же вспомнил о злополучном письме: «Убедил ли я эту старую ведьму в том, что здесь нет ничего странного?»
Приедитис пошел на кухню, где стряпала соседка, и вновь осторожно повел разговор о письме…
Эта навязчивость Приедитиса переполнила чашу терпения старой женщины. «Чего это он все время пристает со своим письмом? Наверное, тут что-нибудь нечисто». Уже давно она собиралась зайти в милицию и поделиться своими подозрениями в отношении соседа.
И вот наутро по дороге на рынок она зашла к заместителю начальника отделения милиции.
- В нашей квартире живет какая-то темная личность. Рисует разные картинки и, по моему глубокому убеждению, нигде не работает. Куда он девает эти картины? Продает их, наверное, по спекулятивным ценам на базаре. А вчера узнаю, что этот тип через своего посредника сбывает в Москве какие-то часы. Конечно, спекулирует! На что же он иначе живет? Сестра у него машинистка, много ли зарабатывает? Раньше она говорила, что у нее совсем нет родных. А год назад вдруг неизвестно откуда появляется родной брат. А может быть, он не брат ей вовсе?
- Погодите, - остановил ее старший лейтенант. - Давайте по порядку. Как его фамилия?
- Приедитис Петерис Янович… А вчера он получил какое-то странное письмо из Москвы, в котором были деньги. От гражданина Андерсона, который живет на улице Горького, 23 Адрес я сама прочитала на конверте.
Старший лейтенант попросил женщину письменно изложить суть своего заявления и пообещал поинтересоваться Приедитисом…
На следующий день в Москву был послан запрос о гражданине Андерсоне, проживающем по улице Горького, 23. Милиция навела справки и о Приедитисе. Домоуправление подтвердило, что этот человек нигде не работает, рисует на дому и что приехал он из Ленинграда, где работал на фанерном заводе. Показалось странным: прессовщик фанерного завода вдруг переквалифицировался в вольные художники. Послали запрос и в Ленинград.
Ответы на оба запроса пришли почти одновременно. Ленинград сообщал, что Петерис Янович Приедитис действительно работал на фанерном заводе, но он умер несколько лег назад, и его прах сожжен в крематории. Из Москвы написали, что в доме № 23 по улице Горького гражданин Андерсон не проживает. Там находится драматический театр имени Станиславского.


Глава пятая
СЕМЕ-СЧАСТЛИВЧИКУ НЕ ПОВЕЗЛО…
1
Такую завидную кличку Сема Зильберман получил потому, что судьба питала особую благосклонность к его скромной и ничем особенно не примечательной особе. Вот уже семь лет он совершал поступки, пресекаемые уголовным кодексом, и ни разу не попадался. Сема-счастливчик и кодекс существовали и действовали параллельно, не приходя в соприкосновение друг с другом.
Сема «работал» только на вокзалах и в поездах: он ленился забираться в карманы, которые содержали менее ста рублей. А на вокзалах в карманах пассажиров лежали сотни, а то и тысячи. И потом Сема-счастливчик был немного психологом. Он понимал, что люди, ставшие пассажирами, немного теряют голову. Они становятся предрасположенными к продолжительному сну, неумеренной еде, общительности и ротозейству.
Постоянно прописанный на Подоле в Киеве, Сема-счастливчик, как только расцветали акации, отправлялся в вояжи. Муза дальних странствий влекла его на маленькие приморские станции, куда уплывали деньги из больших городов.
Вот, собственно, какими судьбами оказался Сема-счастливчик на Рижском взморье. Сема не любил тратить время на раскачку. Он сразу же приступил к «работе».
…На маленькой железнодорожной станции рижский поезд стоит всего три минуты. Сема выбежал из буфета и, дожевывая на ходу бутерброд, вскочил на подножку.
В тамбуре он увидел молодого человека, который, сжимая в зубах сигарету, беспокойно поглядывал в окно.
- Не угостите ли папироской, коллега? - обратился к нему Сема-счастливчик.
Молодой человек, занятый своими мыслями, вздрогнул, торопливо полез в карман. Сначала он извлек бумажник, переложил его в плащ, затем вытащил пачку сигарет.
- Нервничаете? - участливо спросил Сема-счастливчик, прикуривая и дружески придерживая молодого человека за талию. - К невесте, небось, едете? Но жениться не торопитесь, не советую. Простите, вы не бывали в Киеве?
Молодой человек ничего не ответил и повернулся к окну.
Сема-счастливчик не любил невежливых людей. Он холодно попрощался, открыл дверь вагона и тут же заперся в туалете.
- Интересно, сколько денег носит при себе этот невоспитанный юноша? - подумал вслух Сема-счастливчик.
При этом он взмахнул рукой так, словно намеревался пуститься в пляс. Из рукава выскочил бумажник. Сема заглянул внутрь.
- Ого! - воскликнул он, пересчитывая пачку сторублевок. - Восемьсот карбованцев.
Он открыл другое отделение бумажника и вынул оттуда военный билет.
«Неужели мама не говорила ему, что документы нужно хранить отдельно от денег?» - подумал Сема-счастливчик.
Он спрятал деньги и военный билет в карман, а пустой бумажник выбросил в окно. Насвистывая «Киевский вальс», Сема выбежал из туалета. Молодой человек, угостивший его сигаретой, уже прошел в вагон. Он сидел возле самой двери и по-прежнему курил. Весь его вид говорил о том, что он еще не подозревает о пропаже. Сема-счастливчик отыскал свободное место у окна и углубился в чтение газеты.
В вагон вошел контролер. Молодой человек достал билет из нагрудного кармана, предъявил его контролеру. Тот щелкнул щипчиками и проследовал дальше. Наконец очередь дошла до Семы-счастливчика.
- Ваш билет.
- Это вы мне? - осведомился Сема и равнодушно зевнул.
- Предъявите билет, - повторил контролер.
Сема вытащил из кармана сторублевку, свернул ее трубочкой и протянул железнодорожнику:
- Я вас очень прошу о небольшой любезности: купите мне билет сами и вышлите его по почте. А сдачу можете прокутить с приятелями.
Контролера возмутил наглый ответ безбилетного пассажира, и он вызвал милиционера:
- Разберитесь, пожалуйста, на каком основании этот тип предлагает мне взятку.
Милиционер потребовал, чтобы Сема предъявил документы. И тут Сема-счастливчик смекнул, что дело может кончиться плохо. Он неожиданно вскочил на ноги, оттолкнул милиционера и попытался пробраться к двери. Милиционер успел схватить Сему за руку. Вор ударил его ногой и побежал к выходу. Милиционер кинулся за ним…
В то же мгновенье сидевший у двери молодой человек выскочил в тамбур и, не раздумывая, выпрыгнул из поезда…
Все ахнули, а пожилой мужчина даже рванулся к стоп-крану. Но выйти в проход ему не удалось. Кто-то из пассажиров подставил бегущему Семе-счастливчику ногу, и он брякнулся на пол. К нему подоспели милиционер и кондуктор. В проходе образовалась пробка.
Словом, на следующей остановке Сему-счастливчика доставили в дежурную комнату милиции. Здесь у него отобрали восемьсот рублей и военный билет на имя Юрия Николаевича Ванагса. Милиционер взглянул на фотографию владельца билета и узнал в ней молодого человека, который совершил такой безрассудный поступок.
Начальник отделения определил Сему-счастливчика в камеру до выяснения личности. А военный билет, недолго раздумывая, направил в тот военкомат города Риги, где, согласно отметке, состоял на учете его владелец - Юрий Николаевич Ванагс.
2
Пакет с военным билетом Ванагса вскрыл начальник четвертой части военкомата, капитан Белкин.
- Ну и парень, - покачал головой капитан. - Ротозей!
Капитан вызвал секретаршу:
- Уточните по учетному листу домашний адрес Ванагса Юрия Николаевича, он потерял военный билет. И пошлите ему повестку. Пусть явится для объяснения.
Секретарша возвратилась нескоро.
- Товарищ капитан, у нас нет учетной карточки Ванагса.
- А вы хорошо посмотрели?
- Все перерыла два раза. А когда он поставлен на учет?
Капитан открыл один из последних листочков билета:
- Да совсем недавно. Двадцать седьмого прошлого месяца.
- Двадцать седьмого? - переспросила секретарша. - Это когда я уже возвратилась из отпуска. Что тогда у нас было? - Она подошла к настольному календарю, перелистала странички. - Так двадцать седьмого была пятница!- воскликнула женщина. - А по пятницам приема не бывает. В этот день он никак не мог стать на учет.
Капитан посмотрел на листок календаря, потом еще раз заглянул в военный билет, почесал затылок:
- Хм, действительно странно. Ну хорошо. Вы свободны. Я разберусь.
Капитан позвонил в адресный стол:
- Будьте добры, скажите, пожалуйста, по какому адресу проживает гражданин Ванагс Юрий Николаевич, уроженец города Елгавы, 1929 года рождения?
Капитана попросили немного подождать у телефона. Через несколько минут звонкий девичий голос ответил:
- Вы слушаете? Такого гражданина в Риге нет, не прописан.
- Как не прописан? - переспросил капитан, но в трубке уже раздавались короткие гудки.
Капитан удивился еще больше. Человек, не прописанный в Риге, поставлен на учет в военкомате, причем в такой день, когда не было приема.
«Тут какая-то липа», - подумал капитан.
Загадочный военный билет был отправлен с нарочным в Комитет госбезопасности и оказался у подполковника Алксниса.
…Подполковник внимательно разглядывал билет Юрия Николаевича Ванагса. Внешне документ не вызывал никаких подозрений. От других военных билетов он не отличался ни размерами, ни цветом обложки, ни шрифтом букв, ни количеством страниц.
С фотографии, заверенной круглой печатью военкомата, глядело на подполковника приятное лицо молодого человека лет двадцати шести.
Словом, внешне военный билет казался самым настоящим. И в то же время этот симпатичный молодой человек, что, чуть сжав губы, застенчиво улыбался с фотографии, в жизни был, вероятно, далеко не таким. По каким-то, пока не известным для Алксниса причинам он раздобыл фальшивый билет и, лишившись его, выпрыгнул с поезда, шедшего на полном ходу…
Подполковник пригласил к себе руководителя экспертной группы.
- Я прошу вас проверить этот документ, - сказал он эксперту. - Взгляните, какие в нем безукоризненные штампы и печати. Не правда ли? А между тем они поддельные. Кустарным способом этого достигнуть нельзя.
Вскоре Алкснис получил результаты эспертизы. Они были настолько поразительными, что подполковник решил немедленно собрать работников отдела. Когда все были в сборе, Алкснис сказал:
- Я попросил вас зайти ко мне для того, чтобы сообщить важную новость. Не только печать и штампы, но и сам военный билет Ванагса оказался подложным. Химическим анализом установлено, что бумага иностранная, Но это еще не все. Самое главное то, что билет изготовлен из того же сорта бумаги и отпечатан на тех же полиграфических машинах, что и военный билет, найденный при убитом американском шпионе Риекстиньше на хуторе Дреймани год назад.
Присутствующие оживились. Алкснис подождал, пока уляжется легкий шум.
- Так что эта птица залетела к нам из того же гнезда, что и Риекстиньш. Помните, и тогда у нас было предположение, что Риекстиньш заброшен не один. И вот вам доказательство. Но опять здесь есть неясность. Тогда мы имели данные, что второй нарушитель внешне похож на бригадира Эверта. Но Эверту больше сорока, а Ванагс, как это видно по фотографии, почти в два раза моложе. Очевидно, в данном случае мы имеем дело с третьим лицом. Однако ясно одно: шпион ехал в Ригу, здесь у него какие-то дела, и он, конечно, не откажется от своих замыслов. Он приедет в Ригу, если еще не приехал. О нем мы знаем уже немало. Мы имеем его фотографию, известно также, что он скрывается под фамилией Вамагс. Рига город не маленький, но человек-не иголка, чтобы затеряться в нем бесследно.
Алкснис вынул из ящика письменного стола несколько отпечатков размером с открытку.
- Фотография Ванагса уже размножена в увеличенном виде, и вы ее получите сегодня же. Нам предстоит организовать наблюдения за вокзалами, гостиницами, столовыми - за всеми общественными местами, где может появиться Ванагс. Нужно оповестить милицию, связаться с больницами…
- С больницами? - удивленно переспросил Лидумс.
- Да, с больницами, - подтвердил подполковник.- Ванагс на полном ходу выпрыгнул из поезда. Наверняка он получил ушибы, если не вывихи или переломы. Он может обратиться за медицинской помощью. Задача ясна? Тогда не будем терять времени.
3
Лейтенант Лидумс получил задание вести наблюдение за вокзалом. Вот оно и наступило, то горячее время, о котором говорил ему подполковник.
Часы показывали начало двенадцатого, но на улице было хмуро, как в сумерках. Моросил дождь, и порывистый ветер с моря больно хлестал по лицу потоками водяных брызг.
До вокзала Лидумс решил пройтись пешком. Он спустился по улице Ленина до обелиска Свободы и берегом канала вышел к вокзальной площади. Лейтенант потолкался у справочного бюро, заглянул в билетные кассы, спустился в камеру хранения, прошелся мимо стоянки такси.
«Нужно встречать и провожать каждый поезд, - решил лейтенант. - Без дела Ванагс здесь крутиться, очевидно, не будет».
Лидумс купил перронный билет и вошел в здание вокзала. В зале ожидания он отыскал свободную скамейку и вынул из кармана пальто свежую газету. Он успел прочесть все четыре страницы, начиная от передовой и кон-чая происшествиями, прежде чем прибыл пригородный поезд.
Лидумс вышел на перрон. Навстречу ему двигалась шумная разношерстная толпа. Лейтенант внимательно оглядывал приезжих, но того, кого он искал, среди них не было.
Но вот людской поток на перроне поредел. Вагоны поезда опустели. И вдруг Лидумс заметил, как из предпоследнего вагона вышел человек, как две капли воды похожий на бригадира Эверта.
«Что за чудеса! - удивился Лидумс. - Где появляются шпионы, там неизменно присутствует эта личность».
Двойник Эверта нес большую плетеную корзину и желтый кожаный чемодан. Лидумс пошел навстречу и теперь готов был поклясться, что перед ним сам Эверт, а не его двойник.
- Здравствуйте, товарищ бригадир,-громко произнес лейтенант, когда Эверт поравнялся с ним.
Бригадир поставил свою ношу на землю, повернулся, пристально поглядел на Лидумса. «Не узнаёт», - подумал лейтенант.
Но Эверт все же узнал его.
- А, лектор, добрый день, - улыбнулся бригадир. - Едва признал вас в штатском костюме. Давненько вы у нас не бывали! Вы что, демобилизовались?
- Да нет, служу, - ответил лейтенант. - Вышел встретить одного человека, да, видно, он не приехал… Давайте я вам корзину помогу поднести.
- ? Ну что же, спасибо, - не стал возражать Эверт.
При выходе на вокзальную площадь Лидумс остановился:
- Вам далеко, товарищ бригадир, может быть, такси взять?
- Да нет, совсем рядом. До гостиницы «Рига». Нас тут в министерство вызвали, на совещание полеводов,- объяснил Эверт.- В «Риге» товарищи из министерства номерок обещали заказать.
- Может быть, в гостиницу позвонить, узнать насчет номера? Что зря ходить и время тратить. Сейчас я звякну! - предложил Лидумс, а сам подумал: «Если он действительно на совещание приехал, то номер должен быть забронирован».
Лидумс забежал в телефонную будку, набрал номер гостиницы.
- Министерство сельского хозяйства должно было заказать номер для бригадира Эверта из Айзпутского района. Есть ли заявка?
- Сейчас взгляну, - ответил ему дежурный администратор. - Эверт, Эверт… Вы слушаете? Такой заявки к нам не поступало.
- Как же быть?
- Приходите-устроим, у нас есть свободные номера.
- Так, значит, запамятовали товарищи из министерства, -добродушно усмехнулся Эверт, выслушав лейтенанта. - Спасибо, товарищ лектор. Теперь я сам доберусь.
Бригадир взял в руки свою ношу и вскоре исчез в толпе.
Встреча с Эвертом всерьез смутила Лидумса. Номера для него не заказывали, хотя бригадир говорит, что вызван на совещание.
«Нужно позвонить в министерство», - решил Лидумс и снова зашел в телефонную будку. В справочной министерства лейтенанту сообщили номер телефона сотрудника, ведающего подготовкой к совещанию.
- Простите, вы вызывали в Ригу бригадира Эверта из Айзпутского района?- спросил Лидумс.
- Да, вызывали, а что?
- Тут какая-то неурядица вышла. Ему забыли заказать номер в гостинице. Хорошо, что там оказались свободные места.
- Неурядицы никакой нет, - объяснил работник министерства, - мы хотели заказывать номера, но выяснилось, что в гостиницах много свободных мест. На дворе осень, приезжих мало. Так что бронировать гостиницу не было нужды.
Лейтенант поблагодарил за справку и повесил трубку. Все как будто бы становилось на свои места.


Глава шестая
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЕМ
1
Ванагс упал на бок, перевернулся несколько раз и угодил в жидкую грязь дождевого рва. «Жив, - мелькнуло в голове. - Раз могу думать- значит жив!»
Решение выпрыгнуть из вагона созрело у него мгновенно, как только он увидел, что навязчивый человек, пристававший к нему с глупыми расспросами в тамбуре, милиционер и железнодорожный контролер бросились к нему…
Превозмогая боль в ключице, Ванагс приподнялся на локте и увидел, как за поворотом исчезают красные огоньки хвостового вагона. «Не остановились»,- обрадовался он.
Ванагс пополз по пашне туда, где на фоне синего звездного неба темнели верхушки леса. До чащи он добирался долго, может быть, часов пять. Здесь он и обнаружил, что у него нет ни военного билета, ни бумажника. Это испугало его еще больше. «Так я и знал, что комедия в поезде была разыграна лишь для того, чтобы схватить меня, - решил Ванагс.- Но как им удалось опознать меня и вытащить документы?»
Это было для него загадкой. Ванагс долго размышлял о таинственной пропаже, пока наконец не забылся…
Утром он почувствовал, что ушибы не так серьезны, как показалось вчера. Он поднялся и, припадая на больную ногу, пошел прочь. Надо было как можно дальше уйти от этого места. Ванагс решил пробираться в Елгаву. Там он никогда не бывал, а между тем в его документах значилось, что именно в этом городе он родился. Ванагсу нужно было хотя бы немного ознакомиться с Елгавой, чтобы невзначай не попасть впросак.
Соблюдая все меры предосторожности, Ванагс двигался только ночами, а днем, отсиживался в лесах. Лишь через семь дней он пришел в Елгаву. И только здесь, в Елгаве, стоя у развалин старинного екатерининского замка, Ванагс вспомнил, что наступило десятое число. Сегодня в шесть часов в Задвинье, у входа в Ботанический сад, он должен встре-титься с человеком, к которому идет. Но Ванагс решил не являться на встречу. Это опасно. Ведь его ищут, быть может, за ним уже следят.
Ванагс поехал в Бауску. Через день он появился в Риге, погулял у обелиска Свободы, а вечером уехал на пароходе в Ассари. Десять дней переезжал он из города в город, заметая следы.
Это были тяжелые дни. Ушиб на ключице превратился в большую гнойную язву. Ванагс коротал ночи в лесах под холодным дождливым небом. У него кончались последние деньги. Вернее, у него было много денег, но они были зарыты в далеком пограничном лесу, вместе с передатчиком, шифр-блокнотами, топографическими картами. Но идти туда он не решался.
Однако пора было подумать о том, как связаться с человеком, к которому он пришел. Там, на Западе, было условлено, что в случае, если связь не будет налажена, он, Ванагс, поместит в республиканской газете объявление о пропаже золотого кольца с драгоценным камнем. Через десять дней человек, которого он ищет, придет ровно в двенадцать часов к воротам Лесного кладбища.
Ванагс все откладывал посещение редакции. Он опасался появляться в официальном учреждении. Ведь его наверняка разыскивают чекисты. Ванагс успокаивал себя тем, что об этом не могут знать работники редакции. Не выдавая себя, он мог подписать объявление любой вымышленной фамилией, в которой дважды повторялась бы буква «В». Сообщник поймет сигнал и явится на встречу, «Подать текст объявления и уплатить деньги- дело всего каких-нибудь пяти минут. Найму такси. Машина будет ждать меня у подъезда. Чуть что -скроюсь», - решил он.
Но поместить объявление оказалось делом непростым. Девушка из приемной редактора отправила Ванагса в отдел писем. Заведующий отделом, очень любезный молодой человек, внимательно выслушал Ванагса.
- Должен вас огорчить,-сказал журналист. - Наша газета подобных объявлений не печатает. Розыском краденых и пропавших вещей занимается милиция.
Это было для Ванагса большой неожиданностью. Американские офицеры, инструктировавшие его перед дорогой, утверждали, что поместить подобное объявление не представляет никакого труда. «Тоже, знатоки»] - зле подумал он.
Ванагс попросил заведующего отделом сделать исключение. Он объяснил, что кольцо ему особенно дорого, так как является единственной памятью о матери.
- К сожалению, газета все же не сможет дать такое объявление,-сказал журналист. - Но мы постараемся вам помочь. Я сейчас свяжусь с работниками бюро находок милиции я от имени редакции попрошу их хорошенько поискать ваше кольцо.
Он потянулся к телефону. Ванагс вздрогнул. Помощь милиции в розыске несуществующего кольца никак не входила в его планы. Надо было как-то выкручиваться из этой нелепой истории.
- Ну, зачем вам беспокоиться! Я сам схожу в бюро находок.
- Помогать читателям - наш долг. Для этого мы тут и сидим.
С этими словами заведующий принялся набирать номер. Ванагс сорвался со стула, подбежал к письменному столу, схватился обеими руками за телефонную трубку:
- Право, не хочется вас утруждать. Да и милицию не стоит по пустякам беспокоить,- почти выкрикнул он.
Заведующий отделом писем в нерешительности повесил трубку:
- Как хотите…
Журналист заметил, как изменился в лице посетитель. Губы его дрожали, руки, не находя места, нервно мяли шляпу.
«Что-то тут не совсем чисто, - подумал, заведующий. - Какой-то странный визит, нелепая просьба, неожиданный испуг».
- Я попробую поговорить с ответственным секретарем о вашей просьбе, - стремясь выиграть время, сказал журналист. - Вы пока напишите заявление на имя редактора. Вот ручка, чернила. А я сейчас вернусь.
Журналист зашел в соседний отдел, плотно прикрыл за собой дверь и позвонил в милицию.
- Говорят из редакции. К нам явился подозрительный субъект - какой-то Вайвадс, хочет поместить объявление о пропавшем кольце, хотя даже первоклассники знают, что подобных объявлений газеты не печатают. Когда мы посоветовали ему обратиться в милицию, он смертельно испугался.
- Наш работник через несколько минут будет у вас, - ответил дежурный. - Постарайтесь задержать у себя этого гражданина.
- Это нетрудно, - заверил его журналист. - Посетитель сейчас пишет заявление.
Но заведующий ошибался. Его кабинет был уже пуст. Журналист подошел к окну и увидел, что странный посетитель стремительно выбежал из подъезда…
2
- Трогай! - крикнул Ванагс шоферу такси, вскакивая в машину.
- Куда?
- Прямо и поскорее. Я опаздываю.
«Победа» рванулась с места и помчалась по улице. «Неужели меня опознали? - подумал Ванагс. - Нет, должен уйти!»
- Куда вас везти? - повторил свой вопрос шофер.
- Я сказал, ехать прямо! - резко бросил Ванагс, косясь на шофера. И, нащупывая в кармане рукоятку пистолета, подумал: «Чуть что - прикончу».
Водитель равнодушно кивнул головой:
- Добро.
- Быстрее! Я же сказал, что опаздываю.
Такси летело по улице с предельной скоростью. Ванагс оглянулся и заметил, что за ними следуют две машины. «Погоня!» - похолодел Ванагс и, нагнувшись к шоферу, хрипло проговорил:
- Еще быстрее!
- Быстрее нельзя,- спокойно ответил тот.
- Я вам даю тройную плату.
Ванагс вытащил из кармана последнюю сторублевую бумажку и бросил водителю.
- Сворачивайте к Лесному кладбищу. Я забыл на кладбище сверток, - минуту спустя сказал Ванагс и подумал: «Там выскочу и уйду».
Такси свернуло в боковую улицу, долго петляло по переулкам и, наконец, вылетело на большую дорогу. Ванагс уже схватился за ручку дверцы, когда увидел, что из ворот Лесного кладбища вышли трое военных. Конечно, они могли оказаться здесь совершенно случайно. Более того, Ванагс был почти уверен, что это так: ведь никто, даже он сам, не знал, что окажется здесь. Но в его положении нельзя было рисковать.
- Едем прямо на аэродром, - сказал он.
- А сверток? - удивился шофер.
- Я же говорил, что тороплюсь.
- Да, но мы ехали совсем в другую сторону.
- Я плачу за проезд, какое вам дело? - грубо оборвал его Ванагс.
«Победа» развернулась.
- Ехать с той же скоростью!-приказал Ванагс.
Позади остался мост через Даугаву, за стеклом машины мелькали маленькие домики Задвинья.
- Скорее!-торопил Ванагс. - Я опаздываю на самолет.
Впрочем, пассажир тут же раздумал ехать на аэродром.
- Прямо по шоссе,-приказал он.
Машина уже выехала из Риги. Навстречу ей летели перелески, мелькали дачи, проносились со свистом автомобили. Но вот шоссе с обеих сторон обступил лес.
Шофера уже давно охватило беспокойство. Что это за подозрительный пассажир? Ехал на кладбище за каким-то свертком, потом вспомнил, что ему надо на аэродром, а теперь, никуда не заезжая, гонит за город. «Еще ограбит или отнимет машину. - испуганно подумал водитель. - Нет, от этого типа надо избавиться, и, как можно скорее. Но как? Проще всего нарушить правила движения: пусть подойдет милиционер, проверит его документы…»
На перекрестке, у регулировочного поста, шофер резко повернул руль, и машина со скрежетом остановилась на левой стороне шоссе. Раздался пронзительный авиеток. Водитель открыл дверцу и заторопился к регулировщику.
Ванагс не стал ждать развязки. Он выскочил из такси и исчез в густом кустарнике…
…Ванагс бежал по лесу, возвращаясь назад и делая петли, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Еще через час он вышел к железнодорожному полотну. Проходящий мимо товарный состав замедлил на повороте ход, и Ванагс вскочил на Подножку вагона.
Поезд шел на запад. Ванагс стоял в тамбуре, не выпуская из рук пистолета. «Работать невозможно, - думал Ванагс. - Что делать? Куда бежать? В Риге появляться нельзя - схватят. Нет; нужно пробираться к тайнику, выкапывать передатчик и обязательно связаться с разведцентром. Доложить, что выхода нет, что связь так и не налажена, спросить совета. И в любом случае уходить. Перебираться через границу».
От этого решения на душе у Ванагса стало легче. На станции Ауце он незаметно отстал от состава…
Ванагс вошел в деревянное здание вокзала, пошл воды из жестяного бака. Заглянул в комнату отдыха, понаблюдал, как двое железнодорожников играют на бильярде.
Затем он перекусил в буфете и, дождавшись ночи, ушел в лес.
…Четверо суток пробирался Ванагс к своему тайнику. В пограничном лесу, под старой березой, Ванагс в полночь откопал передатчик, несколько толстых пачек денег, шифр-блокноты. Кругом было тихо, и он чувствовал себя в полной безопасности.
И вдруг шпион услышал негромкий, но решительный окрик:
- Руки вверх!
Ванагсу показалось, что у него началась слуховая галлюцинация. Но окрик повторился. Шпион бросился бежать. Навстречу из-за дерева выскочил молоденький офицер. Не останавливаясь, Ванагс выстрелил. Человек, бегущий на него, упал. И в то же мгновение высокий крепкий офицер, неожиданно вынырнув из-за кустов, выбил у него пистолет, повалил на землю и больно сжал руки…
Ванагс был уверен, что ни одна живая душа не видит его. Между тем каждый его шаг был известен чекистам. Они следовали за ним неотступно с того самого момента, как он вскочил в такси у здания редакции…
Утром шпион предстал перед следователем.
- Назовите ваше настоящее имя, отчество и фамилию.
Шпион не стал изворачиваться. Его поймали с поличным. Игра была проиграна.
- Меня зовут Леонид Николаевич Зариньш, - ответил он.
- Какое задание вы имели от американской разведки?
- Я шел к человеку, которому должен был передать десять тысяч рублей и работать у него полгода радистом. Потом мне должны были дать самостоятельное задание.
- Где и когда была назначена явка?
- Десятого, у входа в Ботанический сад.
- Опишите приметы человека, с которым вы встречались.
- Я с ним не виделся, и кто он такой, не знаю. Я не пошел на встречу, так как после случая в поезде был уверен, что за мной следят и что я могу не только попасться сам, но и провалить другого агента.
- Расскажите, как вы стали американским шпионом…


Г лава седьмая
ОТВЕТ ГАРРИ ТРУМЭНА
1
Все началось с того, что в голове у студента электротехнического факультета Луизианского университета Леонида Зариньша возникла весьма оригинальная идея ниспровержения коммунизма. В небольшом американском городке Батен-Руже, где находился университет, к Зариньшу относились с повышенным интересом: он считался беженцем из СССР и поэтому учился на деньги из «благотворительного фонда», созданного американскими миллиардерами.
Как только Зариньш переплыл океан и оказался в Новом Орлеане, у него попросили интервью корреспонденты местных газет. В интервью Зариньш критиковал советские порядки и восхвалял американский образ жизни. Но о том и о другом он знал лишь понаслышке: в Америке Зариньш был только первый день, а в Советской Латвии прожил всего год: с тринадцати до четырнадцати лет. Затем Латвию оккупировали фашисты. В семнадцать лет он вместе со всеми своими родственниками бежал в Германию: у семейства Зариньш были все основания не дожидаться прихода советских войск.
Словом, о Советском Союзе Леонид Зариньш слышал лишь от своего отца, убежденного фашиста, который с первых же дней оккупации предложил гитлеровцам свои услуги.
В Луизианском университете никто, разумеется, не пытался открыть Зариньшу глаза на истинное положение вещей. Наоборот. В церкви священники произносили проповеди, полные клеветы на СССР. И студенты, по призыву своих духовных отцов, молились, чтобы господь помог американскому правительству уничтожить коммунизм.
По вечерам в университетском баре проводились шумные дискуссии. Здесь строились разные проекты уничтожения советского государства, реставрации капиталистических порядков в странах народной демократии. Желторотые демагоги, надувшись от важности, как мыльные пузыри, пытались убедить друг друга, что своими нелепыми, малограмотными речами они влияют на судьбы народов и государств.
К студентам приходили разные подозрительные лица, бывшие министры бывших буржуазных республик и монархий, которых освободившиеся народы вышвырнули из своих стран. Они рассказывали студентам об «ужасах», якобы творящихся за «железным занавесом». Вместе с ними студенты до утренней зари обсуждали статьи американских газет, трубящие на весь мир о неизбежности новой войны.
На одном из подобных сборищ выступил Леонид Зариньш. Он говорил о том, что Советский Союз настолько силен, что его невозможно победить в открытой войне.
- Лучше всего взорвать советский строй изнутри, путем шпионажа, диверсий и политических убийств, - заявил Зариньш.-Для этого нужно организовать широкую антикоммунистическую деятельность внутри СССР.
Выступивший вслед за Зариньшем беглый венгерский министр из правительства Хорти назвал эту мысль весьма оригинальной и остроумной.
Похвала бывшего министра воодушевила Зариньша, и он пустился в дальнейшие изыскания.
Долгое время Зариньш считал себя создателем новой, законченной теории уничтожения коммунизма. Но вот однажды он прочел одно из официальных выступлений тогдашнего президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэна. Прочел - и понял: Трумэн говорит, собственно, то же, что и он, Зариньш.
Тогда Зариньш написал обстоятельное письмо своему высокому единомышленнику.
Через полгода из секретариата президента пришел восторженный ответ. В нем говорилось, что господин Трумэн с удовольствием прочел письмо, нашел его заслуживающим внимания и передал специалистам, которыми оно будет детально и всесторонне изучено.
Еще через полтора года Зариньш окончил университет. Ему улыбнулось счастье. Он быстро нашел работу в лаборатории телефонного общества «Белл» и поселился в Нью-Йорке, в доме № 357 по 26-й улице Бруклина.
Молодой инженер уже стал забывать о письме, посланном им Трумэну. Но оказалось, что кое-кто все еще хорошо помнит его автора.
…Однажды от чертежной доски Зариньша оторвал телефонный звонок. Чей-то незнакомый голос назначил ему срочную встречу в конце улицы Таймс-стрит по очень важному и секретному делу.
В назначенный час озадаченный молодой инженер был на условленном перекрестке. По приметам, сообщенным ему по телефону, Зариньш узнал человека, добивавшегося с ним встречи. Незнакомец был одет в клетчатое пальто, а в руках держал кожаный портфель.
Уже окончился трудовой день. На улицы из банков и контор высыпали тысячи служащих. Диск солнца скрывался за громадами небоскребов и, словно на смену ему, над городом вспыхивало разноцветное электрическое зарево: загорались огни бесчисленных реклам.
Незнакомец пригласил Зариньша в ресторан, заказал пива.
- Здесь нам будет удобно побеседовать кое о чем, - сказал он.
Зариньш не притрагивался к вспененному пиву, с нетерпением ожидая, что скажет ему собеседник. Но тот медлил, пристально разглядывая молодого инженера. Разговор он начал издалека. Но с первых же его слов Зариньш понял, что человек в клетчатом пальто прекрасно осведомлен о многих событиях его жизни. Инженер долго не понимал, к чему клонит собеседник. Но вот человек в клетчатом пальто спросил его в упор:
- Вы писали письмо господину Трумэну? Не так ли? - и, не дожидаясь ответа, продолжал:- Это письмо у нас. Ваши мысли нам понравились. Думаем, что вы сможете нам немного помочь в осуществлении ваших же идей.
Человек в клетчатом пальто не стал больше играть в прятки и пояснил, что речь идет о выполнении задания американской разведки.
Зариньш опешил. Он никогда не мечтал быть ни солдатом, ни тем более шпионом. Он просто изложил свои мысли, соображения. И потом, это было так давно. Нет, он не намерен менять специальность. Он теперь инженер, имеет хорошее место, неплохо зарабатывает, у него собственная машина…
Незнакомец намекнул, что без содействия некоторых лиц, которые пока не желают, чтобы их имена были названы, он, Зариньш, не получил бы так быстро работы в телефонной компании «Белл». Но покровители - не благодетели. Они могут отвернуться от Зариньша: разве трудно уволить эмигранта и принять на его место настоящего американца?
Эту угрозу человек в клетчатом пальто произнес мягко, безнажима. Нет, он не думает, что Зариньшу реально грозит потеря места. Он просто обрисовал положение вещей для того, чтобы молодой инженер мог лучше оценить оказанную ему услугу.
- Мы уверены, что вы, господин Зариньш, настоящий латыш. Речь идет лишь об одном поручении. После этого вы вернетесь назад и будете по-прежнему работать инженером. Впрочем, вы сможете и не работать. Вам хорошо заплатят за ваш труд. Подумайте над этим, господин Зариньш.
Он обещал подумать.
При прощании незнакомец дал Зариньшу пухлую анкету, попросил ее заполнить и выслать в Вашингтон.
- Это вас ни к чему не обяжет,- заверил человек в клетчатом пальто.
Через несколько месяцев Зариньша пригласили приехать в столицу. На вокзале молодого инженера встретил все тот же человек в клетчатом пальто, привез в гостиницу и представил полковнику американской разведки Куллу. Затем незнакомец попрощался с Зариньшем и вышел. Человек в клетчатом пальто исчез навсегда. Больше инженер его никогда не встречал.
Теперь Зариньш имел дело с полковником Куллом, толстым усатым человеком.
- Я не латыш, я американец. Но когда я думаю о вашем несчастном народе, у меня сердце обливается кровью. Вы правильно писали господину президенту, что если взорвать коммунистический строй изнутри…
Зариньш оживился:
- Только бы тряхнуть эту советскую машину, все бы латыши встали…
Но Кулл не дал Зариньшу закончить его мысль.
- Вы плохо представляете Латвию, молодой человек. Ваш папа информировал вас слишком односторонне. Вы должны знать хотя бы из книг, что латышские стрелки были верной опорой Ленина во время Октябрьского переворота и гражданской войны. А красные партизаны в годы германской оккупации, а тысячи латышских коммунистов, которые будут защищать советский строй! Предстоит борьба, - продолжал полковник, - тяжелая борьба. Но победа должна остаться за такими людьми, как вы, господин Зариньш, за настоящими патриотами. В Латвии живут не только сторонники, но и противники советского режима, их надо попытаться сплотить, организовать, чтобы в случае возникновения войны войскам стран свободного мира было на кого опереться.
…И Зариньш дал согласие работать в американской разведке.
Несколько месяцев его никто не беспокоил. Зариньш понимал: разведка всесторонне изучает его кандидатуру.
Наконец он получил приказание уволиться под благовидным предлогом с работы, явиться в Вашингтон и поселиться в гостинице «Степлер». Здесь его должен встретить американский офицер по кличке «Дэйл» - один из преподавателей разведывательной школы, где он будет учиться.
2
На большом автомобильном шоссе Вашингтон- Лорел днем и ночью чувствуется близость столицы. Нескончаемым потоком движутся автомобили - тянутся многотонные грузовики, цистерны с молоком, заливаясь трелями сирен, обгоняют друг друга «студебеккеры», «форды», «доджи»…
Едущий по этой дороге не сразу обратит внимание на одинокую ферму Тейнтон, укрытую в молодом пролеске. Среди приземистых построек можно заметить двухэтажный дом и каменный гараж. На ферме - большой загон для скота, откуда никогда не доносится мычанье коров и блеянье овец: загон пуст.
В некотором отдалении, на холме, - еще один дом. В нем живет старый фермер Джордж. Вот уже несколько лет Джордж не пашет, не сеет и не пасет скот. Он убирает комнаты большого дома и стряпает для его обитателей.
Здесь, на ферме Тейнтон, расположенной совсем недалеко от Белого дома - резиденции американского правительства, - помещается одна из конспиративных квартир американской разведки, где готовятся шпионы и диверсанты для подрывной работы в СССР.
Так и сосуществуют они неподалеку друг от друга: Белый дом, который не прочь заявить о миролюбии, демократии, благоденствии и других хороших вещах. И, словно в подтверждение этих принципов,-шпионская школа, откуда выходят убийцы и отравители…
В один из зимних вечеров в двухэтажном доме на ферме Тейнтон появился новый жилец, молодой человек по кличке «Ленис». Его настоящую фамилию - Зариньш - в разведшколе знали всего два человека: полковник
Кулл и старший преподаватель «Анди».
В первый же вечер комендант разведшколы Майкл ознакомил «Лениса» с распорядком и показал ему его комнату. В ней стояли шкаф, стол, несколько стульев и две кровати.
- Возможно, к нам прибудет второй курсант,- пояснил Майкл.
Но тот, второй, так и не появился до конца обучения.
На следующее утро начались регулярные занятия. В половине седьмого «Анди» поднял «Лениса» с кровати и повел на зарядку. После завтрака появился джентльмен в фетровой шляпе-инструктор предмета, именовавшегося в школе «вскрытие замков». Джентльмен извлек из своих карманов набор отмычек и показал «Ленису» «чистую работу». Так инженер-электрик восполнил первый пробел в своем университетском образовании.
День за днем, с раннего утра до позднего вечера, инструкторы натаскивали Зариньша. Первые часы - работа на ключе: передача радиосигналов. Этому «Лениса» обучал Майкл. Высокий сухощавый капитан, по имени Боб, показывал курсанту приемы самбо. Другой офицер, Джон, обучал его фотографированию документов. Лысый старик Лео показывал, как надо подделывать подписи, изготовлять штампы и печати.
В разведшколе с «Денисом» вели занятия четырнадцать инструкторов, но больше всего уделял ему внимания старший преподаватель «Анди». Он учил «Лениса» стрелять из пистолета и автомата, вел топографию. «Анди» преподавал еще предмет «тайную службу». В программу этого предмета входило изучение структуры советских органов госбезопасности и милиции. Инструктор подробно объяснял своему ученику, как нужно вести себя на допросах, в случае ареста.
Из всех инструкторов разведшколы «Анди» был единственным латышом по происхождению, и «Лениса» невольно тянуло к своему земляку. Ему хотелось о многом поговорить с «Анди», но «Ленис» не имел права разговаривать с преподавателями на посторонние темы. Ему было также запрещено писать письма, выходить из школы без сопровождения инструкторов.
Прошла зима. Растаял снег, и на деревьях набухли почки. Март застал «Лениса» в военном городке Грег-Казарм. Здесь под руководством «Анди» «Ленис» продолжал практические занятия.
В казармах размещались американские военные части; в бетонированных гаражах были спрятаны танки и бронемашины; на полигонах тренировались десантники. Чтобы не вызывать подозрений, «Анди» и «Ленис» были одеты в форму американских военнослужащих.
В окрестных лесах «Ленис» учился ходить по азимуту, разводить невидимые костры, продолжал тренировки в стрельбе.
В конце лета обучение было закончено. «Анди» отобрал у Зариньша все конспекты и собственноручно сжег их.
- Теперь вам придется рассчитывать только на свою память, - сказал «Анди».
Полковник Кулл был уже в Вашингтоне. Он сочинил для Зариньша вымышленную биографию, так называемую «легенду». Эту биографию «Ленис» должен был выучить наизусть, со ©семи мельчайшими деталями, точно помнить имена, даты рождения, место работы выдуманных братьев и сестер.
…И вот наступил день отъезда. Утром к Зарииьшу явился врач, одетый в форму офицера американской армии. Он принес медикаменты и яд и объяснил, как ими пользоваться. Потом приходили другие люди, которые доставили радиостанцию, оружие, топографические карты, поддельные документы, деньги.
Шли последние сборы в дорогу. Да, Зариньш знал, что этот момент наступит. Он готовился к нему долго, тщательно. Но вдруг Зарияьшу стало невыносимо жутко. Почему все эти люди разговаривают с ним полушепотом, словно в комнате лежит покойник? Он вспомнил, что никто не говорил ему, как надо выбираться назад. Он был обречен, и всем это было ясно. Он должен сделать столько, сколько успеет.
Зариньш вспомнил отца, сестренку, которым он не имеет права послать даже прощальную весточку. Как опрометчиво он тогда поступил, написав это злополучное письмо американскому президенту, с которого все и началось! Все бы отдал он сейчас за то, чтобы вернуться в свою квартиру на 26-ю улицу Бруклина, занять свое место за чертежным столиком в телефонном обществе «Белл». Но пути назад уже не было…
Вечером с Вестоверского аэродрома, что под Вашингтоном, в воздух поднялся военный самолет. Он взял курс на Европу. В самолете находилось всего три пассажира:
Кулл, «Дейл» и Зариньш. Экипажу объяснили, что летят преподаватели иностранных языков, которые будут работать в штабе оккупационных войск в Западной Германии.
Самолет приземлился на аэродроме Франкфурта-на-Майне. Здесь «преподавателей» поджидал другой самолет, который доставил их в Мюнхен. На мюнхенском аэродроме они сели в армейский «джип». Американский сержант привез их на окраину города к дому, на котором не значился адрес. Они поднялись на второй этаж, вошли в пустую квартиру.
- Здесь заночуем, а завтра будем у самой границы, - сказал Кулл.
 На следующее утро они опять были на аэродроме. И опять их возили самолеты по разным городам, названия которых Зариньш не знал. Кулл менял самолеты, стараясь соблюсти как можно больше конспирации. Вечером они ехали на поезде, потом мчались на машине. А дальше Зариньш должен был уже следовать один…
На следующее утро они опять были на аэродроме. И опять их возили самолеты по разным городам, названия которых Зариньш не знал. Кулл менял самолеты, стараясь соблюсти как можно больше конспирации. Вечером они ехали на поезде, потом мчались на машине. А дальше Зариньш должен был уже следовать один…
3
Подполковник Алкснис работал над показаниями Зариньша, и его внимание все больше и больше приковывала к себе фигура человека, скрытого в дебрях американского шпионского центра под кличкой «Анди». Дело было не только в том, что он являлся одним из руководителей шпионской школы под Вашингтоном. На последнем допросе Зариньш показал, что американская разведка может направить «Анди» в СССР.
- Как-то после занятий по топографии «Анди» в минуту откровения сказал мне: «Возможно, судьба забросит меня опять в Ригу. Тогда мы с вами встретимся», - вспоминал Зариньш.
Подполковник открыл то место в показаниях Зариньша, где он описывает внешность старшего преподавателя. «Высокий, почти двухметрового роста, мужчина, лет сорока, широкоплечий, физически хорошо развит, волосы светлые, голова большая. Правильные черты лица». И далее: «Умеет себя держать в обществе: общителен и разговорчив, прекрасно танцует, нравится женщинам, спиртных напитков почти не употребляет».
Вот, собственно, и все. Подполковник прошелся по комнате, остановился у окна.
«Нужно еще раз поговорить с Зариньшем», - решил он.
Во второй половине дня в кабинет начальника оперативного отдела ввели арестованного. За неделю, что прошла с момента задержания, Зариньш заметно похудел, осунулся.
- Припомните, Зариньш, что вам еще известно об «Анди? - предложил Алкснис.
- Я рассказал то, что знал, - ответил арестованный.- Могу только поделиться своими соображениями на этот счет. Я еще там, на ферме Тейнтон, много думал о нем…
- Да, пожалуйста, - кивнул подполковник.
- Как я вам уже говорил, - начал Зариньш, - Кулл и «Анди» жили очень недружно. Полковник опасался, что «Анди» при его способностях может оттереть его, Кулла, на второй план. Однажды в моем присутствии Кулл подковырнул «Анди». Он спросил у него: «Вы, говорят, хорошо знаете Ригу? Тогда скажите, какой раньше в Риге существовал автомат?» «Анди» сказал, что не знает. Кулл засмеялся: «Автомат.- это рижская префектура. Когда публика бросала камни в окна второго этажа, из дверей первого выскакивали полицейские». «Анди» обиделся. Видно, он имел какое-то отношение к ульманисовской полиции.
«Правильное предположение», - отметил про себя подполковник.
- «Анди» хорошо знает Ригу, - продолжал Зариньш. - В разговорах он часто упоминал названия рижских ресторанов, улиц. Говорил он еще, что в молодости хорошо играл в футбол в какой-то приличной команде. Он, по-моему, учился на сельскохозяйственном факультете университета, но курса, кажется, не окончил…
Больше о своем инструкторе Зариньш ничего не знал. Однако и этих сведений было достаточно для того, чтобы попытаться установить личность «Анди».
«Стоит поворошить архивы, - решил Алкснис. - Может быть, что-нибудь и прояснится».
И вот работники государственного архива извлекли из старых шкафов пожелтевшие от времени личные дела всех рижских полицейских, начиная от постовых и кончая высокопоставленными чиновниками префектуры. Их было много, этих дел.
Сотрудники внимательно изучали анкеты, автобиографии. Некогда то, о чем сообщали эти полуистлевшие бумажки, было самой жизнью - выговоры, благодарности, продвижения по службе, интриги. Теперь же все это оказалось забытым, мертвым, ненужным, растревоженным и извлеченным на белый свет лишь для того, чтобы узнать имя полицейского, который учился в университете и хорошо играл в футбол.
День за днем листали работники архива документы, гора непросмотренных бумаг становилась все меньше…
И вот, наконец, сотрудники натолкнулись на личное дело участкового надзирателя 12 полицейского участка Риги Бромберга Леонида Петровича, уроженца хутора Урлес, Кандавской волости, сына крупного кулака. Это было единственное дело из всей груды документов, где подтвердились те скупые сведения об американском инструкторе «Анди», которые сообщил Зариньш.
В деле сохранилась фотография Бромберга двадцатилетней давности. И в молодом, безусом полицейском Зариньш узнал старшего преподавателя шпионской школы.
Объемистая папка рассказала о всей жизни «Анди»-Бромберга. Нашлись также люди, которые хорошо помнили полицейского 12 участка Риги.
Действительно, Бромберг не окончил университета: провалился на экзаменах. Тогда он вступил добровольцем в 6 рижский пехотный полк и, оставшись в нем на сверхсрочную, прослужил несколько лет. Вернувшись из армии, Бромберг поступил работать в «санитарный стол». Так назывался полицейский орган, который вел борьбу с незарегистрированными проститутками.
Младший полицейский Бромберг работал с огромным, пожалуй, даже излишним рвением. В архивах префектуры уцелел документ, из которого явствует, что Бромбергу объявлен выговор за слишком грубое обращение с задержанными. Однако этот выговор не помешал Бромбергу вступить в фашистскую партию, а вслед за этим и получить должность участкового надзирателя в 12 полицейском участке Риги. Здесь способности Бромберга проявились в полную силу. Избиение рабочих, слежка за коммунистами, облавы - во всех этих делах Бромберг показал себя с лучшей стороны.
Но вскоре пал антинародный режим, и Латвия стала советской.
Надо было начинать жизнь сначала. Бромберг устроился нормировщиком в прачечную на улице Вентспилс. Он пересчитывал белье, вздыхал об ушедших днях и с надеждой поглядывал на Запад, откуда доносились истошные вопли гитлеровских генералов.
В тот день, когда фашисты заняли Ригу,
Бромберг облачился в свой обветшалый полицейский мундир и явился к зданию префектуры. Здесь он встретил многих своих друзей, которые повылезали из нор на свет божий и теперь наперебой предлагали свои услуги немецкому коменданту. Фашисты удовлетворили просьбу Бромберга: он получил свое старое место участкового надзирателя. Точно борзой пес носился Бромберг по участку, выслеживая патриотов. Он принимал участие в расстрелах коммунистов и евреев в Бикерниекском лесу.
Бромберг всей душой был предан гитлеровцам, которые освободили его от грязной работы нормировщика прачечной и вернули дорогие его сердцу полицейские погоны.
В дни, когда немецкие армии подходили к Сталинграду, фашистские порядки казались Бромбергу вечными и незыблемыми. И единственное, что беспокоило Бромберга - это как бы его не обошли другие, расхватывая должности, чины и земельные угодья из рук оккупационных властей. Именно из этих соображений Бромберг вступил в легион СС и получил чин лейтенанта. Работа же у него осталась прежней: он арестовывал, истязал и убивал патриотов, в глубоком тылу боровшихся против оккупантов.
Когда советские войска вступили в Латвию, взвод, которым командовал Бромберг, уходил на фронт.
В фашистских частях царила полная неразбериха. В первый же день артиллеристы открыли огонь по своим, и осколком снаряда лейтенант был ранен.
В госпитале Бромберг начал понимать, что дни фашизма сочтены. Из госпиталя в часть Бромберг не вернулся. Он бежал к морю. 10 мая 1945 года, когда латышский народ праздновал великую победу, Бромберг на украденной у рыбаков моторной лодке «Лиго» бежал на шведский остров Готланд…
Вот что за человек скрывался теперь в американской разведке под кличкой «Анди».


Глава восьмая
ШПИОН ПРИХОДИТ С ПОВИННОЙ
1
В кабинете председателя Комитета госбезопасности Латвии шло совещание по операции «Закатившаяся звезда». Захват шпиона Зариньша, его предположения о готовящейся заброске «Анди» говорили о том, что американская разведка активизирует свою преступную подрывную деятельность, и генерал уделял «Закатившейся звезде» большое внимание. Он собрал ближайших помощников, чтобы поделиться своими соображениями на этот счет и выслушать их мнение.
- Клубок постепенно распутывается, - говорил генерал.- Бдительность простой женщины помогла нам взять в поле своего зрения человека, который выдает себя за ленинградского рабочего Приедитиса, умершего несколько лет назад. Вы помните, Зариньш показал, что шел к человеку, которому должен был передать десять тысяч рублей. Думаю, что Зариньш шел именно к этому лже-Приедитису. Но Зариньш с ним не успел связаться. И американская разведка все же пересылает ему немного денег простым письмом из Москвы. Лже-Приедитис никакой активности не проявляет, сидит, как правило, дома. Случаев выхода его в эфир нет. Конечно, можно задержать этого лже-Приедитиса за подделку документов. И, начав с этого, быстро установить его истинное лицо. Как вы думаете, товарищ подполковник?
- Мне кажется, надо подождать, - ответил Алкснис.
- Я тоже так думаю, - продолжал генерал.- После провала Зариньша американская разведка не успокоится. Она пришлет другого связного. Мне казалось бы целесообразным…
Но генералу не удалось закончить свою мысль. На столе зазвонил телефон. Он снял трубку.
Видно, генералу сообщили что-то важное. Он сосредоточенно слушал и лишь изредка бросал в трубку:
- Хорошо, продолжайте…
Окончив разговор, генерал обратился к присутствующим:
- Товарищи, придется прервать наше совещание. Подполковник Алкснис, спуститесь, пожалуйста, в приемную. Пришел какой-то заявитель и утверждает, что он является американским шпионом. Причем принес с собою вещественные доказательства…
Когда подполковник вошел в приемную, он увидел следующую картину. Посредине комнаты на полу лежала радиоаппаратура, миниатюрный фотоаппарат размером со спичечную коробку, карты, оружие, ампулы, в которых был яд.
- Этим меня снабдили американцы, - говорил взволнованный мужчина лет сорока. - Только советских денег я не принес, прожил. Дали они мне сорок пять тысяч.
Подполковник Алкснис попросил заявителя подробнее рассказать о себе.
- Я перешел границу более года назад. Одновременно должны были перейти границу еще два агента, но об их судьбе я ничего не знаю. С тех пор я живу в Латвии, но не выполнил ни одного задания американцев и даже не давал им знать о себе. Почему? Отвечу. В Западной Германии я считал, что моя родина несвободна, а мой народ несчастлив. Я не знал правды - ведь я покинул Латвию в сорок четвертом году. До этого я совершил преступление. Я, конечно, слышал об амнистии, объявленной Советским правительством, но думал, что это уловка, рассчитанная на то, чтобы выманить таких, как я, и сослать в Сибирь. Так говорили нам эмигрантские главари.
Человек попросил разрешения закурить, сделал несколько судорожных затяжек и продолжал:
- Когда я перешел границу, то решил присмотреться, как живут здесь люди, что происходит на родине. А присмотревшись, понял, что меня на Западе обманывали. Я поступил работать и сначала хотел скрыть, что я был американским шпионом «Борисом». Но потом меня начала грызть совесть. Я долго и мучительно раздумывал, наконец, решился - откопал все эти вещи и приехал сюда. Теперь я хочу рассказать все-все…
2
Историю своей жизни «Борис» излагал долго, несколько часов. Наконец-то он мог, не таясь, рассказать всю правду о себе. И на душе становилось легче, спокойнее…
Сначала «Борис» говорил о том, что Алкснис слышал уже от других: как попал в сети, искусно расставленные американской разведкой. Но вот в рассказе «Борис» упомянул имя «Анди». Подполковник насторожился. Значит, Бромберг имеет отношение не только к заброске шпиона Зариньша! Нет, «Анди» играл в американской разведке значительно большую роль, чем это можно было предположить вначале.
- Расскажите, как вы встретились с «Анди», - попросил Алкснис.
…Скорый поезд пришел в Аутобург без опозданий. На перроне сразу стало шумно: засуетились носильщики, загромыхали самоходные багажные тележки. Выйдя из вагона, «Борис» смешался с толпой и вошел в здание вокзала. Он без труда разыскал ресторан, занял, как было условлено, самый дальний от двери сто-лик и взял бутылку пива. Вскоре к нему подсел широкоплечий мужчина.
- Простите, пиво не горькое? - спросил он.
Да, именно так должен был сказать человек, которого он ждет.
- Горькое пиво бывает здесь только по субботам,- ответил «Борис».
- Здравствуйте, - сказал незнакомец. - Я «Анди», тот самый, в чье распоряжение вы теперь поступаете. Ну, как доехали?
- Ничего, спасибо, - ответил «Борис», наполняя пивом бокал.
«Анди» замолчал. Он внимательно разглядывал своего нового подопечного. Ему не надо было расспрашивать «Бориса», чтобы узнать, как он жил последнее время. Старый, потрепанный пиджак, из-под которого выглядывала несвежая рубашка, разорванные ботинки лучше слов говорили о нужде, испытываемой этим человеком.
- Жены у вас, конечно, нет? - спросил наконец «Анди».
- Нет.
- Это к лучшему.
- Да, пожалуй, - равнодушно согласился «Борис».
До Мюнхена они ехали в вагоне второго класса. «Борис» сосредоточенно поглядывал в окно, за которым мелькали встречные составы, полустанки, семафоры.
Только раз он обратился к своему спутнику:
- Это очень опасно?
- Что именно?
- То дело, которому я буду обучаться.
«Анди» полез в карман, достал пачку новеньких банковых билетов и, отсчитав семьсот марок, протянул «Борису»:
- Вот вам на месяц.
- Ясно,- сказал «Борис» и, понимая, что ответ на его вопрос уже последовал, отвернулся к окну.
В Мюнхене они долго тряслись в трамвае по ломаным переулкам, пока вагон не остановился у рыжего трехэтажного здания. «Анди» и «Борис» вошли в парадное и поднялись по лестнице.
- Вот здесь вы будете жить,- сказал «Анди», открывая дверь одной из квартир третьего этажа. - Выходить вам отсюда незачем. По телефону разговаривать тоже не стоит. Водка в шкафу есть, обед вам будут приносить. Располагайтесь, как дома. Когда вы потребуетесь, я вам позвоню.
С этими словами «Анди» удалился.
И побежали дни… С утра до вечера «Борис» лежал на диване и курил. В комнате было много книг, но читать не хотелось. Было скучно, тоскливо…
Когда томительное ожидание осточертело ему настолько, что он готов был бежать куда угодно, раздался телефонный звонок. «Борис» узнал голос «Анди»:
- С сегодняшнего дня не пейте. Завтра нужно пройти медицинскую комиссию…
«Анди» привез его на машине к проходной военного госпиталя, который охранялся американскими солдатами. Пропуск на них был уже заказан. Американские врачи несколько часов придирчиво осматривали «Бориса», прослушивали сердце, легкие, проверяли зрение и слух, определяли силу мышц и, в конце концов, признали его годным.
Но американцы придавали не менее важное значение другому обследованию - испытанию на так называемой «машине лжи». Через несколько дней «Анди» и «Борис» поехали на такси в район оперного театра. Машина долго петляла по закоулкам и, наконец, въехала во двор одноэтажного особняка, полускрытого густой стеной деревьев.
- «Анди» и «Борис» прошли в небольшую комнату. Здесь их ожидали трое американцев и человек, говорящий по-латышски, национальность которого «Борис» определить не смог. Американцы стояли вокруг блестящего ящика. На его верхней крышке были установлены вращающиеся барабаны. От аппарата отходили провода различного сечения. Это и была «машина лжи».
- Машина угадывает мысли, - объяснил через переводчика один из американцев. - Мы вам будем задавать вопросы, а вы отвечайте коротко: «да» или «нет». Аппарат покажет, на какие вопросы вы даете неправильные ответы.
«Борису» предложили снять пиджак и сесть на стул. На грудь ему наложили гофрированный шланг, концы которого подсоединялись к аппарату. Правую руку стянули надувной резиновой повязкой, а между большим и указательным пальцами вставили металлический зажим.
Во время работы аппарат мерно гудел, как включенный вентилятор. «Борису» задавали самые нелепые вопросы: «Хорошо ли вы сегодня покушали?»; «Не находите ли вы, что голубой цвет лучше всех остальных?»; «Купите ли вы какую-нибудь книгу, когда выйдете отсюда?»; «Не работаете ли на англичан?»
Затем руке дали немного отдохнуть и снова стали задавать вопросы. С перерывами проверка продолжалась часа два.
«Борис» не был дураком. Он понимал, что никакая машина не может угадывать человеческие мысли. Но все-таки те несколько дней, пока он ждал результата, провел в беспокойстве. Наконец сообщили, что он прошел проверку.
А вскоре «Анди» повез его в Кемптен. На вокзале их встретил американский офицер по кличке «Эрик». Он проводил их на улицу Амхохенвег, где помещалось «Бюро научно-технических переводов».
3
- Да, наша шпионская школа официально именовалась «Бюро научно-технических переводов». Сначала она помещалась в курортном городке Кемптен, а потом в целях конспирации была переведена в город Штернберг,- продолжал свой рассказ «Борис». - В школе я обучался еще с двумя латышами-эмигрантами, скомпрометировавшими себя, как и я, связями с фашистами в годы оккупации. Мои товарищи носили клички «Имант» и «Герберт». Их настоящих фамилий я не знаю до сих пор. Нам было запрещено рассказывать друг другу о своей прежней жизни.
Режим нашей школы был жестким. Занятия начинались с утра и кончались лишь поздним вечером. Нам строжайше запрещалось покидать помещение и выходить на улицу. Однако, не полагаясь на запрещение, комендант школы «Эрик», тот самый, что встречал нас на вокзале, после отбоя закрывал наши двери на ключ и передавал его дежурному офицеру.
Нас обучали американские офицеры «Боб», «Майкл», «Джон», «Алексис» и другие. Все они подчинялись старшему преподавателю «Анди». «Анди» составлял для нас расписание, инспектировал занятия, давал задания инструкторам, сам вел несколько предметов. «Анди» был латышом; очевидно раньше, он, как и я, жил в Латвии. Американцы очень дорожили «Анди», он был прекрасным инструктором шпионажа. «Анди» находил, что программы американских шпионских школ и инструкции, разработанные разведцентром, не учитывают специфики работы в СССР. «Анди» смело отходил от шаблона, предлагал методы, выработанные им самим.
Практические занятия мы проходили на аэродромах и в расположении американских военных частей под руководством своих инструкторов и армейских офицеров. Мы научились работать на ключе, как первоклассные радисты, ориентироваться по карте, фотографировать, подделывать печати и документы.
«Анди» считал нас уже вполне подготовленными для шпионской работы в Советском Союзе и стал разрабатывать нам оперативные задания и «легенды».
Именно в это время в школу прилетел из Вашингтона представитель разведцентра полковник Кулл.
Между Куллом и «Анди» с первого же дня началась глухая борьба. «Анди» считал себя, очевидно, несколько обиженным, что заброской нашей группы на территорию Советской Латвии будет руководить не он, а Кулл. Но с полковником было не легко бороться. Кулл имел крупные связи в Вашингтоне, и потом он был опытным разведчиком. Долгие годы Кулл изучал Латвию, ее города, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, быт жителей. По знанию Латвии в американском разведцентре с ним мог соперничать только «Анди». Кулл знал это. Он поэтому не любил и даже несколько побаивался его.
По приезде полковник отменил все задания, разработанные для нас «Анди». Он усадил «Анди» и нас, курсантов, в свой «шевроле» и повез в увеселительное путешествие по городам Западной Германии. Мы посещали ночные рестораны и притоны, пьянствовали. Очевидно, Кулл стремился завоевать наши симпатии и заручиться нашей поддержкой в его интригах против «Анди».
Всюду Кулл расплачивался сам. Впрочем, деньги, которые он тратил, принадлежали американской разведке. Значительную часть отпущенных ему денег Кулл, в конце концов, сэкономил и положил себе в карман. Из подобных «сбережений» Кулл сколачивал капитал, на который намеревался построить дом и заняться каким-то делом.
Вскоре после нашего возвращения «Анди» под благовидным предлогом был удален из разведшколы, и больше мы его не видели. В оставшееся время школой руководил Кулл. Он выработал для нас задания и сам провожал нас до границы.
На дворе стоял сентябрь. Я отказывался переходить границу, считал, что осень- крайне неудобное время для начала работы, и предлагал подождать до весны.
Но Кулл, видно и так затянувший подготовку, принялся нас уговаривать:
- Если вы откажетесь идти, это отразится на моей карьере. А что вы без меня? Я ручаюсь, что вы успешно вернетесь назад. Для этого вам нужно будет лишь перейти норвежскую или финскую границу или добраться морем до Швеции. На границе вас встретят мои люди. Вы явитесь в любое американское посольство, скажете: «Я человек от Пауля Декстера»- и вам будет гарантирована безопасность».
Я перешел границу и уже на территории Латвии должен был соединиться с «Имантом» и «Гербертом». Но к месту условленной встречи я не пошел, а направился прямо на свой родной хутор…


Глава девятая
ЧЕЛОВЕК В НОВОМ КОСТЮМЕ
1
Вторую неделю Лидумс лежал в хирургическом отделении госпиталя. Пуля, выпущенная Зариньшем, прошла сквозь голень левой ноги, слегка задев кость.
…Все произошло так быстро! Он кинулся наперерез бегущему шпиону. Но Зариньш успел выстрелить. В первые мгновения, когда неведомая сила опрокинула его на землю, Лидумс вовсе не ощутил никакой боли. Лейтенант еще не успел сообразить, что произошло с ним, когда Зариньш был схвачен и посажен в машину.
Подполковник Алкснис ремнем стянул Лидумсу раненую ногу чуть выше колена, чтобы остановить кровотечение. Он проводил лейтенанта в госпиталь и не ушел домой до тех пор, пока врачи не осмотрели рану и не признали ее неопасной.
Все эти дни подполковник навещал Лидумса. У его постели он неизменно заставал пожилую женщину в длинном старомодном платье. Чтобы не волновать мать, Лидумс сказал ей, что упал с турника в гимнастическом зале. В эту маленькую тайну были посвящены врачи и, конечно, подполковник.
Алкснис горячо, по-отцовски полюбил своего юного подчиненного. В душе старого чекиста сейчас боролись два чувства. С одной стороны, он никак не мог простить себе, что взял молодого лейтенанта на такую опасную операцию. Хорошо, что у Зариньша дрогнула рука, и он попал не туда, куда целился. А если бы случилось непоправимое, что сказал бы он, начальник и воспитатель Лидумса, этой седенькой женщине в длинном старомодном платье? Но, с другой стороны, где, как не в опасной операции закаляется, мужает человек, становится настоящим чекистом!
Сам Лидумс, конечно же. был горд, что ему удалось побывать в настоящей переделке. Лейтенанту не терпелось поскорее вернуться на работу, где, как ему казалось, - и не без оснований- начинаются самые интересные дела. Сейчас, когда ноющая боль в ноге улеглась, госпитальная обстановка стала особенно тяготить Лидумса. И он все чаще заговаривал с Алкснисом о выписке, расспрашивал о результатах следствия по делу Зариньша. Но подполковник всегда переводил разговор на другую тему. Только однажды Алкснис заметил:
- Не волнуйтесь, Лидумс. Работа от вас не убежит. Вы получите очень интересное и очень ответственное задание. Но о нем позже. А сейчас - поправляйтесь…
И вот, наконец, наступил день, когда Лидумс, все еще слегка припадая на левую ногу, вошел в кабинет подполковника Алксниса.
- Поздравляю вас с возвращением в строй, - сказал Алкснис, обнимая молодого человека. - Вот теперь можно поговорить и о делах. Присаживайтесь.
Он вынул из ящика письменного стола несколько фотографий и протянул их лейтенанту:
- Ну-ка, полюбуйтесь!
На фотографиях был изображен один и тот же мужчина лет сорока, удивительно похожий на бригадира Эверта.
- Это не Эверт! - воскликнул лейтенант, приподнимаясь со стула. - Но какое поразительное сходство!
- Да, почти двойники, - согласился подполковник.- Видите - вот и прояснилось, наконец, кто сопровождал Риекстиньша два года назад в том пограничном лесу.
- Но кто этот человек? - с нетерпением спросил Лидумс.
- Пока двойник Эверта только попал в поле нашего зрения. Многое еще предстоит выяснить. Но сейчас мне хочется поговорить о другом. Вы, Лидумс, все время придерживались мнения, что Эверт имеет самое непосредственное отношение к «Закатившейся звезде». Конечно, внешнее сходство между Эвертом и вот этим господином, - подполковник показал на фотографию, - удивительное. И курили они в тот день сигареты одного и того же сорта, и сейчас, когда мы разыскивали Ванагса - Зариньша, Эверт оказался в Риге. Но, помимо внешнего, случайного совпадения фактов, должна быть и внутренняя связь между ними. А такой связи в данном случае не было. Конечно, проверка и перепроверка в нашем деле никогда не мешает. Но чекист обязан быть более глубоким, более вдумчивым в своих выводах…
Лицо Лидумса покрылось красными пятнами. Подполковник заметил это.
- Расстраиваться вам нечего, Лидумс. Никакой оплошности вы не допустили. Вся эта история должна лишь помочь вам в будущем. А теперь, - Алкснис потянулся за пухлой папкой, - перейдем к новому заданию. Это особое поручение. Но думаю, что вы с ним успешно справитесь, Лидумс.
2
В ателье верхнего платья пришел элегантно одетый молодой человек.
- Я бы хотел сшить костюм, - обратился он к приемщице.
- На сегодня все заказы уже приняты.
Молодой человек огорчился:
- Как же быть? Завтра я уезжаю в командировку. Нельзя ли все-таки принять заказ сегодня? Разрешите я пройду к заведующему.
Но клиенту не повезло: заведующего на месте не оказалось. В конторе была лишь машинистка, полная розовощекая женщина. Молодой человек в нерешительности переступил с ноги на ногу и обратился к машинистке:
- Я к вам.
- Ко мне? - удивилась женщина и, прекратив выбивать пулеметные очереди на клавишах «Ундервуда», взглянула на незнакомого посетителя.
- Да, к вам, - повторил молодой человек. - Ищу у вас сочувствия. Мне надо сегодня во чтобы то ни стало заказать костюм. Замолвите за меня словечко. Ведь, я вижу, у вас добрая душа.
Машинистка растерянно улыбнулась:
- Не знаю, сумею ли я… Впрочем, давайте попытаемся. - И вместе с молодым человеком прошла в зал. - Катя, - обратилась она к приемщице, - что мы будем делать с этим настойчивым клиентом? Он так просит…
- А не попадет ли нам от заведующего? Ведь ты же, Мильда, знаешь наши порядки.
- Я думаю, что он и самого заведующего уговорил бы, - шутливо сказала Мильда.
- Ну, спасибо, девушки! - горячо, поблагодарил молодой человек и положил на стол перед приемщицей голубой отрез.
- О, у вас чистая английская шерсть! Почем брали метр?
Молодой человек слегка смутился:
- Видите ли, я не знаю. Отрез куплен за границей…
Девушка сжала в руках конец материала:
- Такая шерсть стоит у нас примерно триста пятьдесят рублей. Так и запишем, если не возражаете.
Молодой человек не возражал…
Через двадцать четыре дня костюм был готов.. Сшили его прекрасно, с учетом всех пожеланий заказчика. Словно предчувствуя, что иначе и не могло быть, молодой человек явился в ателье с большим букетом цветов. Он облачился в новый костюм, прошел в контору и протянул букет Мильде:
- Это вам.
Мильда с трудом узнала в этом молодом человеке настойчивого заказчика. Она уже накинула чехол на пишущую машинку и собиралась уходить. Было без пяти шесть.
- Ну что вы, право… - смутилась Мильда.
- Я вам очень обязан,- горячо произнес молодой человек. - Если бы не ваше содействие… Нет, нет, не отказывайтесь от цветов. Вы их заслужили.
На улицу они вышли вместе. Молодой человек был очень словоохотлив. Через пять минут Мильда уже знала, что его зовут Фредисом, что в Риге у него квартира из трех комнат, а сам он работает заготовителем и часто бывает в командировках - в Москве и Ленинграде.
Они прошли пешком всю улицу Ленина, свернули на бульвар Райниса, перешли канал. У сквера, подле скульптурного фонтана, Мильда остановилась:
- Благодарю вас, Фредис. Тут я сажусь на четвертый трамвай.
- Так я вас провожу до дома!
- Нет-нет, не нужно, - запротестовала Мильда.
Фредис скорчил нарочито огорченную физиономию, всплеснул руками:
- Ну вот! А я думал, что в новом костюме буду просто неотразимым.
Мильда улыбнулась: молодой человек был в самом деле очень симпатичным. Новый костюм ладно облегал его стройную спортивную фигуру. У него было приятное лицо, мягкие белокурые волосы красиво обрамляли высокий чистый лоб.
- По-моему, вам огорчаться нечего. Девушки будут любить вас! - засмеялась Мильда. - Ну, вот и мой трамвай.
Она протянула руку. Фредис вздохнул:
- Что ж, придется вас отпустить. Только завтра я вас хочу видеть опять.
- Так скоро? - игриво бросила Мильда.- Шейте тогда у нас костюмы почаще.
Четвертый трамвай, подходя к остановке, замедлил бег. Мильда заторопилась.
- Завтра в половине седьмого я вас жду на этом же месте! - крикнул ей вдогонку Фредис.
Мильда обернулась:
- Завтра, не смогу. В субботу.
- Во сколько?
Уже с подножки вагона Мильда показала ему пять пальцев…
В субботу они снова встретились у фонтана. У Фредиса были билеты в кинотеатр «Айна». Сеанс окончился еще засветло. Молодые люди долго бродили по городу и закат встретили на берегу Даугавы…
С этого вечера они стали встречаться часто- вместе ходили в театр, в парк, на стадион. Фредис был чрезвычайно внимательным и предупредительным. У него водились деньги. Он щедро тратил их на Мильду.
Женщина часто ловила себя на мысли, что с нетерпением и даже некоторым волнением ожидает встреч с Фредисом. «Неужели я влюбилась?- тревожилась она. - Ведь Фредис так молод!» Конечно, брат не одобрит ее выбора. За последнее время он стал таким раздражительным, злым. Но ведь она не девочка. Да потом и брат тоже не считается с ее мнением. Сколько раз она просила, чтобы он перестал бывать у этой портнихи! Почему же она должна теперь полагаться на его вкус?
…Двадцать седьмого августа - день рождения Мильды. Как-то она сказала об этой дате Фредису. И он, оказывается, не забыл, даже намекнул, что приготовил подарок.
Накануне Мильда долго искала случая, чтобы поговорить с братом. Уже перед сном она робко сообщила ему, что встречается с одним человеком. Вопреки ее предчувствию, Приедитис воспринял это известие спокойно:
- Что ж, тебе рано записываться в монахини, ты еще молода. И кто же он?
- Завтра увидишь. Я его пригласила к нам.
Приедитис вздрогнул:
- Как? Ведь мы условились, что у нас не будет гостей.
- Ты знаешь, - виновато произнесла Мильда, - мне было так неловко… Он мне подарок купил и был уверен, что я приглашу его.
Приедитис подумал и сказал:
- Я завтра, пожалуй, пойду погуляю. Чего же я буду вам мешать…
- Только, ради бога, не делай этого! - испугалась Мильда. - Умоляю, побудь дома. А то он что-нибудь дурное подумает. Ну можешь ты что-нибудь сделать для своей сестры?
3
Дни бежали, похожие один на другой, как капли дождя, что беспрестанно моросил с утра до вечера. Наступила еще одна осень. Опустели парки, ветер пригнал с моря свинцовые тучи; они заволокли небо, нависли над городом. Прохожие облачились в плащи, калоши. На улицах стало пустынно, хмуро.
Хмуро было и на душе у Приедитиса. Он теперь совсем забросил свою кисть и садился за холст лишь тогда, когда к Мильде должен был придти Фредис. Все остальное время он лежал на кушетке и курил…
Явка, назначенная разведцентром у Ботанического сада, не состоялась. Почему, Приедитис не знал. Потом он долго следил за газетами, ища объявления о пропаже золотого кольца с драгоценным камнем. Но объявление не появлялось, и Приедитис, наконец, понял, что встречи не будет.
Теперь Приедитис думал только об одном - как бы бежать из этого чужого города. Чужого, несмотря на то, что в нем он родился и вырос. Бежать куда угодно - в Гамбург, Гетеборг, Копенгаген или даже на Фаррерские острова. Туда, где можно будет ходить по улицам, не оглядываясь, и ложиться спать, не опасаюсь, что следующее утро ты встретишь в тюрьме.
Нет, нет, бежать, только бежать! Приедитис уже не просил у американцев денег. Он знал, что денег они больше не пришлют. Нет, ценой такого страха, который пережил, когда получил из Москвы те четыреста двадцать рублей, он не согласен получать и тысячи. Да и не нужны ему никакие деньги. Зачем они? Чтобы кутить в ресторанах, шить дорогие костюмы, тратиться на женщин? В другое время он бы, конечно, не отказался от всего этого. Но сейчас… Приедитис знал, что не найдет успокоения ни на веселых вечеринках, ни на черноморских курортах, нигде…
Сейчас ему нужны только надежные документы, с которыми он мог бы безбоязненно выехать за границу или в крайнем случае оказаться в пограничной полосе. А там… Приедитис хорошо помнил, что говорил при прощании Кулл: надо явиться в американское посольство любой соседней страны и передать послу привет от Пауля Декстера…
Письма Приедитиса в разведцентр начинались одной и той же фразой: «Пришлите документы, не дайте мне пропасть в этой стране». А Кулл и «Анди» настаивали на выполнении акции «Ейч».
Наконец его настоятельные просьбы тронули черствые сердца, этих людей. Разведцентр дал согласие на его возвращение в Западную Германию, но толькопри одном условии - если он подготовит себе замену.
Это тоже было нелегким делом, но Приедитис ухватился за предложение разведцентра, как утопающий хватается за соломинку. Эта соломинка могла превратиться в лодку, катер или самолет - она не даст ему утонуть, вынесет в другой мир…
Теперь Приедитис все больше и больше присматривался к Фредису. Приедитис припоминал все его слова, все поступки с того самого вечера, когда он впервые увидел поклонника сестры.
Тогда Фредис явился в новом щегольском костюме, сшитом из настоящей английской шерсти, и принес в подарок Мильде хрустальную вазу, которая стоила по крайней мере пятьсот рублей. Мильда не хотела принимать такой дорогой подарок. Фредис расхвастался и сказал, что это для него сущие пустяки. Он пил много, но было видно, что в этом деле практика у него небольшая. Когда бутылка портвейна, которую купила Мильда, была опорожнена, они пошли в магазин и взяли пол-литра водки. По дороге Приедитис поинтересовался, где он раздобыл такой великолепный костюм. Фредис по секрету сообщил, что материал ему привез дядя, который репатриировался из Дании.
- А ведь он работал там простым штукатуром. - И многозначительно добавил: - Штукатуры в Дании не так уж плохо живут.
В воскресенье они ездили втроем на взморье. Фредис опять сорил деньгами. За все он брался платить сам. Уже дома Мильда сказала брату, что не понимает, откуда у Фредиса бывают такие большие деньги.
- Он же заготовитель, - спокойно пояснил Приедитис. - Очевидно, заготавливает что-нибудь и для себя. В наше время каждой устраивается, как умеет.
Фредис часто наведывался к ним домой, он по-прежнему был, как видно, неравнодушен к Мильде. Но сестре он нравился все меньше и меньше…
Потом Фредис исчез на целый месяц. Появился он как-то вечером в старом, потрепанном костюме.
- Английский пришлось продать, - с грустью сообщил Фредис. - Меня уволили с работы.
- Я так и знала, что этим должно было кончиться, - вздохнула Мильда.
Фредис, однако, не пал духом. Он затевал обмен квартирами, намереваясь выгодно реализовать излишки своей жилплощади. Но дело где-то застопорилось, и Фредис ходил без денег, ругая волокитчиков и бюрократов. Приедитису приходилось выкраивать из своего бюджета несколько рублей, чтобы покормить Фредиса в столовой.
- Ничего, старина, мы сочтемся, - говорил Фредис. - Мне бы только получить разрешение на обмен. И считай, что тысяч двенадцать у меня в кармане.
Фредис бодрился, но было видно, что без денег он чувствует себя прескверно - жить скромно он не привык. Мильда совсем охладела к Фредису, и теперь он появлялся у них дома не столько ради сестры, сколько из-за брата. У Приедитиса не было не только друзей, но и знакомых. Его тянуло к Фредису. В его присутствии он чувствовал себя спокойнее, забывал про свои тягостные думы…
Бывший заготовитель стал пить. С «получки» Приедитис покупал пол-литра водки, и
они сидели за рюмкой весь вечер. Иногда Фредис оставался ночевать. Тогда Мильда уходила к соседке, а утром принималась стыдить брата.
Приедитис пожимал плечами:
- Это же не мой знакомый, а твой.
Когда Приедитис получил задание из разведцентра подготовить себе замену, то он сразу подумал о Фредисе. Эта кандидатура показалась ему подходящей; к тому же другого выбора попросту не было.
Приедитис понемногу стал прощупывать бывшего заготовителя. Делал это он неторопливо, осторожно.
Однажды Приедитис признался, что долго прожил в Западной Германии, Фредис попросил рассказать, как живут люди на Западе, и верно ли говорит его дядя, что там не так уже плохо.
Фредис внимательно слушал своего приятеля, а тот недомолвками, отдельными намеками давал ему понять, что и жизнь и порядки в западных странах лучше. Потом как-то Приедитис откровенно пожалел, чго вернулся на родину.
- Там бы мы не сидели без денег, как здесь, - заметил он.
Фредис сказал, что ему судить трудно, так как за границей он не бывал. Но очень хотел бы попасть туда хотя бы в качестве туриста.
- Вот обменяю квартиру - и поеду. Деньги будут.
- На Западе нужны доллары, - уточнил Приедитис. - Но их тоже можно заработать, если вести себя по-умному.
Дальше этого Приедитис пока не пошел. Однако в очередном послании в разведцентр сообщил, что агент подобран. Врал ли он? Лишь отчасти. Приедитис был уверен, что этот юнец медленно, но верно идет в расставленные для него сети.


Глава десятая
«АНДИ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
1
Генерал теперь вплотную занялся операцией «Закатившаяся звезда». Сведения, которые сообщил пришедший с повинной «Борис», не оставляли сомнения в том, что лже-Приедитис является не кем иным, как американским шпионом «Гербертом».
За «Гербертом» было установлено тщательное наблюдение. Стало известно, что он встречается с бывшим заготовителем, неким Фредисом, снятым с работы за жульнические махинации. Ожидалось, что «Герберт» в ближайшее время будет склонять его к сотрудничеству в американской разведке.
Дело облегчалось тем, что Рига по парал-дельным каналам принимала указания американского шпионского центра, адресованные «Герберту». Однако регулярное прослушивание радиопередач из Вашингтона проливало мало света на истинные намерения и планы американской разведки. Шпионский центр относился к «Герберту» настороженно и ругал его за бездеятельность. Но для каких заданий будет завербован Фредис, кто должен придти в нашу страну вслед за Зариньшем, что собирается предпринять «Герберт» - все это надо предугадать, чтобы пресечь замыслы врага. Надо было принять все меры, чтобы секретные сведения не стали известны шпионам, не просочились через границу.
Да, это напоминало шахматную игру, в которой нужно на много ходов вперед разгадать намерения противника, расстроить его планы и вместе с тем скрыть от него свои расчеты, сбить с толку и внезапным маневром заставить сложить оружие. Над этим работали генерал, подполковник Алкснис и ряд других офицеров Комитета.
…А по ту сторону океана над другим краем невидимой шахматной доски склонили головы офицеры американской разведки. Они тоже тщательно анализировали свои ходы, стремились проникнуть в тайны противника. Это был умный, опытный, вероломный враг.
В тот самый день, когда на улице Ленина в Риге генерал намечал очередные мероприятия «Закатившейся звезды», в Вашингтоне один из видных руководителей американской разведки слушал доклад о реализации акции «Ейч».
Это был лысый сгорбленный старик, за плечами которого стоял тридцатилетний опыт шпионской работы. Шеф пригласил к себе только Кулла и «Анди». Он и не скрывал того, что был недоволен. Не первый раз шеф слушал Кулла и «Анди» - сообщения о том, как выполняется акция «Ейч». Но дело практически не продвигалось.
- На «Лениса» нет никаких надежд - он наверняка схвачен. Вне всякого сомнения! - Шеф зло выругался.
Кулл и «Анди» молчали. Десятки тысяч долларов тратила американская разведка на подготовку и снаряжение каждого шпиона, и все эти деньги вылетали в трубу, не дав пользы и на цент. Из всех засланных в Латвию шпионов уцелел лишь «Герберт», но проку от него было очень мало.
Шеф еще раз принялся читать сообщение «Герберта».
- Полюбуйтесь, каков герой! Его интересуют только деньги, словно он пишет своему папаше. Видите ли, ему надоела Рига. Он думает, что по возвращении его будут кормить сендвичами. А где же работа? Этот «Герберт» еще может побежать в КГБ и расплакаться. Что вы думаете по этому поводу, полковник?
- Думаю, что пока не побежит, - ответил Кулл. - Мы пообещали отозвать его назад, если он подготовит другого агента. Он этому верит и старается изо всех сил, а в последнем сообщении «Герберт» утверждает, что агент у него подобран.
- Что это за человек? - спросил шеф.
- Торговый служащий Фредис, - ответил Кулл. - У него что-то случилось на работе. Недавно его уволили.
Кандидатура Фредиса показалась шефу неудачной. Жулики, уголовники, пропойцы на виду у милиции, и потом от них все равно мало толку. Нужны люди видные, авторитетные, имеющие широкий круг знакомств. Но их не так-то легко заполучить, и с этим надо было считаться.
- Что еще известно об этом Фредисе? - поинтересовался шеф.
- Из сообщений «Герберта» известно, что дядя Фредиса недавно возвратился из Дании. Мы наводили справки. Действительно такой человек в Дании проживал и выехал на родину в пятьдесят пятом году.
Шеф покривился:
- Ну, теперь этот дядя расскажет своему племяннику черт знает что.
- Нет, этот дядя как будто бы жалеет, что приехал в Ригу, - сказал «Анди». - И потом Фредис влюблен по уши в сестру «Герберта». Так что «Герберт» держит его прочно.
Шеф открыл ящик с сигарами, угостил Кулла и «Анди».
- Все это не то! - раздраженно произнес старик.-Я собственно, пригласил вас сюда вот зачем. Руководство считает, что после стольких неудач нужно послать в Латвию человека, который был бы максимально гарантирован от провала. Акция «Ейч» ждет своей реализации. Я не думаю, чтобы этот «Герберт» оказался способным на что-нибудь дельное. С ним попутно надо будет тоже разобраться. Он все-таки знает немало - в этом его несчастье. Мы намерены, - продолжал шеф, - послать в Латвию опытного работника, пусть даже самого необходимого нам здесь человека.
Кулл и «Анди» внимательно смотрели на шефа, который прохаживался по мягкому ковру. Старик подошел к «Анди», положил руку на его плечо.
- Учитывая ваш опыт и подготовку,-медленно проговорил он, - мы решили доверить это дело вам, господин Бромберг.
Ни один мускул на лице «Анди» не выдал того, что он пережил в этот момент. Он, конечно, знал, что рано или поздно ему придется идти в Латвию, но не думал, что это случится так скоро. «Анди» взглянул на Кулла и заметил, что полковник прячет в усах довольную улыбку. Конечно, тут не обошлось без козней полковника. Он все время стоял на дороге у Кулла, так же как Кулл на его дороге, и кому-то нужно было отойти в сторону.
Шеф все еще не снимал руки с плеча «Анди».
- Вы знаете, господин Бромберг, как вами дорожит разведцентр, как вы необходимы здесь. Но вы вернетесь и еще поработаете. Дел у нас много. Но сейчас, поймите, нет другого выхода. Предстоит работа особого рода. У вас, господин Бромберг, много связей среди латышских националистов. Вам поручается создать на территории Латвии нелегальную резидентуру. Вы должны будете проверить и доложить нам о причинах провала ранее заброшенных в СССР агентов. Мы снабдим вас новейшей аппаратурой. - продолжал уговаривать «Анди» шеф. - Мы дадим вам столько денег, сколько потребуется. Мы примем все меры к тому, чтобы даже самая возможность вашего провала была полностью исключена. Что вы скажете, господин Бромберг?
- Я готов в путь, - коротко ответил «Анди».
- Нет, не так сразу, - улыбнулся шеф.- Погуляйте, отдохните.
2
«Анди» безмятежно развлекался. О предстоящей работе он старался не думать. Нужно было набраться сил, как следует отдохнуть. Поначалу он хотел провести отпуск в Нью-Йорке. Но каменные громады домов, теснившие не только землю, но, казалось, и небо, подавляли, угнетающе действовали на психику. Однообразные, донельзя похожие друг на друга улицы навевали тоску. С самого утра они отдавали себя во власть ревущих, стонущих, мечущихся автомашин. С высоты шестнадцатого этажа машины напоминали саранчу, густо осевшую на поле…
«Анди» поехал в Бостон, оттуда - в Чикаго и там понял, что в больших, шумных городах ему не отдохнуть. Потянуло куда-нибудь в лесную глухомань или на берег океана. Что ж, когда есть доллары, в Америке все доступно.
Он осмотрел ниагарский водопад, остановился ненадолго в Атлантик-сити. Отсюда экспресс унес его в Нордфок. Здесь он и провел остаток своего отпуска.
Но пора было приниматься за дела. «Анди» поселился в Вашингтоне, в доме № 1914 по улице «И», у певицы мисс Мими. Он был вдвое старше хозяйки. Но «Анди» хорошо сохранился и выглядел моложе своих лет. Его работа, поминутно требующая напряжения, полной физической и умственной нагрузки, еще не наложила на его лице печати утомления и старости. И потом у него водились доллары. Всего этого оказалось достаточно, чтобы добиться любви мисс Мими.
Вечерами, когда певица уходила на концерт, «Анди» садился за работу. Слова выливались на бумагу с необычайной легкостью. То, о чем он писал, было плодом многолетних раздумий, наблюдений, опыта. «Анди» писал труд о шпионаже. Он так и назывался: «Организация шпионской службы на территории противника». В нем «Анди» вспоминал весь свой путь в американской разведке. Путь от мелкого, заурядного осведомителя, доносившего на своих товарищей в лагерях для перемещенных лиц, - до кресла официального работника разведцентра…
Кулл прочитал работу залпом, оживился и похвалил «Анди»:
- Поздравляю! Это по-настоящему здорово.
Полковник восторгался вовсе не потому, что его радовал успех подчиненного. Он поставил свою подпись рядом с подписью Бромберга.
Это должно было поддержать его пошатнувшийся после стольких неудач авторитет в глазах высшего начальства.
А «Анди» уже думал о другом. Как-то ночью, вернувшись с концерта, мисс Мими обнаружила, что ее квартирант отсутствует. Напрасно она ожидала его на следующий день. Из дома № 1914 по улице «И» «Анди» исчез бесследно и навсегда.
…В то время как мисс Мими, возмущенная мужским вероломством, горевала, «Анди» начал готовиться к большой и сложной акции. Теперь он жил в вашингтонской гостинице «Анаполис». «Анди» изучал топографические карты, совместно со специалистами подбирал рецепты средств тайнописи, изучал экономику Советской Латвии.
Целый год готовился Бромберг к заброске в СССР. Казалось, он и так уже давно знал все, что нужно для этой акции. Ведь за год сам «Анди» из зеленого новичка делал шпиона. Но ни разведцентр, ни «Анди» не хотели торопиться. Нужно было учесть все, казалось бы самые несущественные мелочи, продумать каждый свой шаг на советской земле. В специальных лабораториях изготавливалась для него аппаратура, фабриковались надежные документы.
«Анди» работал настойчиво, кропотливо. Он никогда не был слишком самоуверенным и хорошо понимал, что предела для совершенства не существует. Вечерами он читал советские журналы, газеты, книги, слушал радио Риги и Москвы. Точно взыскательный, не терпящий фальши актер, «Анди» вживался в новую роль - роль рядового советского человека, со всеми его взглядами, понятиями, нормами поведения, привычками. Кто знает, сколько лет предстояло Бромбергу играть эту роль.
Весной «Анди» уехал из Вашингтона на военный полигон Фродбраг. Отсюда должен был начаться его путь через океан, через Европу - к границам Советской Латвии…
3
Ночь застала Бромберга в густом сосновом бору. Он сбросил с плеч тяжелый вещевой мешок, который уже порядком натер ему спину, и присел отдохнуть на бруствер полуразвалившегося окопа. «Анди» жадно глотнул бодрящий ночной воздух, насыщенный ароматом хвои. Он припал к земле, и шероховатый ползучий вереск больно ужалил его в щеку. Но путнику показалось, что лица его коснулись нежные материнские руки: он почувствовал дыхание родины. И темная безлунная ночь, и неласковый вереск, покрывший лесную болотную землю, и мохнатые ветви сосен, трепетавшие под порывами ветра, - эти приметы родной природы были знакомы ему с детства.
Тринадцать лет он видел латышскую землю только во сне. Крыши чужих городов предоставляли ему ночлег, он ел чужой хлеб, слышал чужую речь. Все эти годы он думал о родной земле, мечтал о свиданье с нею. И вот долгожданный час настал. К добру ли?
- «Анди» снял неуклюжий, тупоносый ботинок и стал массировать распухшую стопу. Надо же было так некстати оступиться и вывихнуть сустав! Но нет, это не вывело его из строя. Долголетние тренировки приучили его легко переносить боль. И если бы пришлось, он мог сейчас вскочить на ноги и бежать пять, десять, пятнадцать километров - столько, сколько нужно, чтобы уйти от погони. Но кругом было тихо. Только скрипнул не выдержавший напора ветра полусгнивший сук, да вскрикнула разбуженная этим звуком птица.
Бромберг аккуратно срезал дерн со дна окопа и стал копать яму, выбрасывая вынутую землю в расстеленную плащ-палатку. В яму он выложил из вещмешка портативный передатчик, запасные лампы, оружие, боеприпасы, деньги. Потом тщательно замаскировал яму дерном, а землю из плащ-палатки высыпал в кусты.
 Бромберг полез в карман за спичками, чтобы прикурить погасшую сигарету, и вместо коробки вытащил пластмассовую трубочку, на которой была наклеена крошечная бумажка с надписью: «Пейзон». Много лет он поучал других, что, когда уже нет никакого выхода, надо положить таблетку этого препарата в рот и лишь слегка сжать ее зубами. Смерть наступает мгновенно и совершенно безболезненно.
«Анди» усмехнулся. Это средство может пригодиться кому угодно, только не ему. Он-то всегда найдет выход. Сколько раз он сам показывал своим ученикам в разведшколах, как нужно разводить костры, чтобы не было видно ни дыма, ни отблесков огня, как мастерить ходули и идти на них, чтобы не оставить следов на пашне или на снегу, как обмануть пограничников и сбить с толку служебных собак. Бромберг размахнулся и кинул яд в болотистую лужицу. Нет, яд ему абсолютно не нужен. Скоро он вернется к этому старому окопу, выкопает передатчик и пошлет в разведцентр всего две буквы: «ОМ». Это будет означать, что он удачно перешел границу и находится в полной безопасности.
Собственно, ничего иного и не могут ждать от него там, за океаном. Иначе не возлагали бы на него таких больших надежд в разведывательном центре. И потом у него были деньги, много денег - четыреста пятьдесят тысяч рублей и еще польская, шведская, финская валюта…
Кончалась короткая летняя ночь. Верхушки сосен порозовели.
Бромберг вскипятил кружку воды, побрился. Старый офицер, он любил во всем дисциплину и порядок. Теперь он почувствовал себя еще бодрее.
«Анди» шагал по пролескам до тех пор, пока не услышал далекий гудок паровоза. То была станция Кемери. В кустах Бромберг зарыл топографическую карту, компас, бинокль. Теперь, когда он точно вышел к станции, все это было не нужно. При нем не осталось ни одной американской вещи. В руках «Анди» нес книгу «Подпольный обком действует», изданную в Риге на латышском языке, из кармана торчал номер газеты «Циня», а во рту дымилась сигарета «Дукат».
Уже совсем рассвело, когда Бромберг добрался до станции. В зале ожидания и под легким стеклянным навесом перрона было много людей. Из здешнего грязевого санатория уезжала большая группа отдыхающих. Они шутили, смеялись. Кого-то провожали с большим букетом цветов, кому-то жали руки, желали счастливого пути.
Бромберг купил билет до Риги, вышел на перрон, отыскал свободное место на скамейке. Только сейчас он понял, как устал за эти бессонные, тревожные ночи. Он откинул голову на спинку скамейки. Веки его становились все тяжелее и тяжелее…
- Гражданин, вы что, спите?
Бромберг очнулся от полудремы и понял, что вопрос обращен к нему. Он не открывал глаз, стремясь выгадать несколько мгновений. Неужели это все? Неужели сейчас схватят? Он пожалел, что был так самоуверен там, в лесу.
- Гражданин, проснитесь!
Кто-то тронул его за плечо. Бромберг приоткрыл глаза и увидел, что перед ним стоит молоденький железнодорожник.
- Вы так и поезд проспите, - улыбнулся паренек, показывая на пути, куда была уже подана электричка.
У Бромберга отлегло от сердца.
- Да, да, спасибо! - поблагодарил он молодого человека и побежал к поезду.
Поднимаясь на подножку, он оглянулся, помахал рукой любезному железнодорожнику и прошел в вагон.
Электропоезд шел по Рижскому взморью. Справа блестела, искрясь на солнце, голубая лента реки, слева тянулись деревянные дачи. Они то скрывались по самые остроконечные крыши в зеленых пролесках и садах, то выскакивали опять к дороге.
Бромберг мог бы поклясться, что никто в американской разведке не знает так хорошо Латвию, как он. Даже полковник Кулл, который при случае любит прихвастнуть, что является знатоком Советской Прибалтики. Да, в Вашингтоне Бромбергу казалось, что он прекрасно знает Латвию. Но сейчас… Он оглядел пассажиров вагона, потом перевел взгляд на свои неуклюжие ботинки, дешевые штаны и потрепанный белый плащ. Не надо быть знатоком Латвии, чтобы увидеть, что на фоне окружающих он, Бромберг, выглядит чуть ли не оборванцем. А ведь ему казалось, что средний рижанин должен носить примерно такой костюм, как у него.
«Еще примут за бродягу», - подумал «Анди».
За переплетениями железнодорожных путей и приземистыми складскими строениями показалось двухэтажное красное здание. Это была станция Засулаукс. Бромберг спрыгнул с подножки и пошел по перрону. Здесь уже начиналась Рига. Бромберг обогнул здание вокзала и вышел к трамвайному кругу-конечной остановке маршрута № 2. Он вскочил в маленький синий трамвайчик и остался стоять в открытом тамбуре.
Легкий предутренний туман еще засиделся в зеленых верхушках парковых деревьев. По улицам, разбрызгивая водяные струи, медленно двигались моечные машины; открывались двери продовольственных магазинов; торопливой рабочей походкой по тротуарам шли люди. Город начинал свой трудовой день.
Бромберг сошел в центре. Он бродил по проспекту Райниса, по улицам Ленина, Суворова, Кр. Барона, заходил в магазины, толкался у газетных витрин, останавливался у корпусов новых домов, приглядывался к прохожим. Другому, может быть, мало что рассказала бы такая короткая прогулка. Но от наметанного взгляда Бромберга не ускользнула ни одна деталь. И все это в десять раз убедительнее, чем шпионские донесения, которые он читал еще там, в разведцентре, рассказало ему, как изменилась жизнь в Риге. Бромберг понял, что работать будет намного сложнее, чем он ожидал.
- Тем хуже для них! - еле слышно прошептал Бромберг.
Слепая злоба вспыхнула в груди и сжала сердце. Ему ненавистны были эти люди. И железнодорожник, что испугал его до смерти на платформе Кемери, и веселые студенты, сидевшие за соседним столиком в кафе «Даугава», и задумчивая пара влюбленных, что стояла на мосту через канал, - все, кто радуется той жизни, которую он ненавидит.
Что же, Бромберг покажет, на что он способен! Пусть сгорает от зависти этот Кулл: теперь-то ему не удастся стать соавтором его трудов.
«Анди» спохватился и подумал, что слишком долго стоит у подъезда новой гостиницы «Рига». В ней ему все равно не жить.
Он снова отправился бродить по городу.
Начали сгущаться сумерки. Пора подумать и о ночлеге. У Бромберга было немало старых знакомых. С одними он работал в полиции, с другими служил в фашистской армии. Он знал их тайны и мог поймать в такие крепкие сети, откуда им не вырваться. Бромберг сумел бы заставить их делать все, что захочет: он верил в силу своей мертвой хватки. Однако надо было повременить с визитами, навести дополнительные справки о своих знакомых.
В универмаге «Анди» купил приличные полуботинки и пиджак. Потом он зашел в аптеку за бинтами и, дождавшись темноты, сел в трамвай, идущий в Шмерли.
Бикерниекский лес, куда приехал Бромберг, был хорошо ему знаком. В этом лесу, за корпусами туберкулезного санатория, по приказу гитлеровского коменданта он расстреливал коммунистов, пленных красноармейцев и евреев. Да, те времена, когда он мог рассчитаться сполна с ненавистными ему людьми, прошли. Но они вернутся. Ради этого он и сидит сегодня здесь, все в том же Бикерниекском лесу…
Бромберг одел новый пиджак, а старый закопал в канаве. Ушибленная нога, натруженная за день, ныла еще больше. Он снова принялся массировать посиневшую стопу, а потом крепко стянул ее бинтом. Боль несколько утихла. Бромберг расстелил плащ-палатку. Задремал.
…Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Определенного плана на день у него не было. Нужно, пожалуй, еще поболтаться по городу, приглядеться к ритму его жизни, кое-что узнать о старых знакомых.
«Анди» отправился на Красноармейскую улицу. Здесь в двухэтажном деревянном доме жил его старый друг, бывший офицер буржуазной армии, с которым после установления Советской власти он работал в прачечной на улице Вентспилс. Товарищу пришлось тогда еще тяжелее, чем ему. Бывший офицер стал ночным сторожем. Конечно, старый товарищ мог бы приютить Бромберга.
Бромберг подошел к знакомому подъезду, взглянул на список жильцов. Но фамилия друга в нем не значилась. «Анди» не стал расспрашивать соседей - это было опасно: мало ли что с ним могло случиться.
За завтраком в дешевом кафе Бромберг вспомнил о хорошенькой хозяйке магазина, которая пятнадцать лет назад была безумно влюблена в лейтенанта войск СС. Он немного погулял и отправился на десятом трамвае до конечной остановки: Бромберг хорошо помнил тот маленький бакалейный магазин.
Но его опять постигла неудача. Он сошел с трамвая - и не узнал знакомых мест. Здесь когда-то кончался город, теперь же вокруг высились корпуса новых многоэтажных домов. А магазинчик тот, наверно, снесли. Он обошел другие магазины. В них работали десятки продавщиц, но среди них не было той, которую он искал.
И снова «Анди» принялся бродить по улицам.
- Бромберг, ты ли это?-услышал он вдруг радостный возглас за спиной.
Бромберг оглянулся. Его догонял толстый мужчина, в котором он признал своего школьного товарища и сокурсника по университету. Толстяк схватил его за руку и увлек в буфет:
- Пойдем, пойдем, надо выпить за встречу.
Они взяли по бутылке пива. Собеседник наполнил стаканы и начал рассказывать о себе:
- Работаю инженером. Строю новую ТЭЦ. Сейчас бьемся над тем, чтобы удешевить стоимость строительства. Что ты скажешь, если нам удастся сэкономить эдак миллиончика полтора, а? - инженер засмеялся и толкнул Бромберга в бок.
- Здорово, - без всякого воодушевления сказал тот.
- Да, время идет! - продолжал словоохотливый инженер. - Дети уже подросли. Дочка в консерватории учится, по радио дважды выступала. А сын десятилетку окончил, слесарем на ВЭФе работает. Что ж, детьми доволен. Дочь комсомолка, а парень мой вот уже скоро год - кандидат партии.
«И чему он только радуется?» - недоуменно подумал «Анди». Нет, с этим человеком ему абсолютно не о чем говорить. Бромберг подозвал официантку и расплатился.
- Торопишься? - разочарованно спросил инженер. - Ну давай посидим еще с полчасика. Потолкуем.
- Я, действительно, очень тороплюсь, - ответил Бромберг. - Мне сегодня нужно уладить еще кое-какие дела в горсовете.
- Так ты что, на советской работе?
- Да, почти, - усмехнулся «Анди» и попрощался.
Бромберг долго еще думал об этой случайной встрече. Как меняются люди! Ведь этот инженер получил образование еще в старое время. Он ходил в костел, читал фашистские книги и газеты. Чем же его привлекли на свою сторону коммунисты? А, может быть, он и сам теперь коммунист? Что же произошло на этой земле, откуда он бежал тринадцать лет назад фашистским лейтенантом, а вернулся американским шпионом?
Суть этих изменений Бромберг понять не мог.
Бромберг полез в карман за спичками, чтобы прикурить погасшую сигарету, и вместо коробки вытащил пластмассовую трубочку, на которой была наклеена крошечная бумажка с надписью: «Пейзон». Много лет он поучал других, что, когда уже нет никакого выхода, надо положить таблетку этого препарата в рот и лишь слегка сжать ее зубами. Смерть наступает мгновенно и совершенно безболезненно.
«Анди» усмехнулся. Это средство может пригодиться кому угодно, только не ему. Он-то всегда найдет выход. Сколько раз он сам показывал своим ученикам в разведшколах, как нужно разводить костры, чтобы не было видно ни дыма, ни отблесков огня, как мастерить ходули и идти на них, чтобы не оставить следов на пашне или на снегу, как обмануть пограничников и сбить с толку служебных собак. Бромберг размахнулся и кинул яд в болотистую лужицу. Нет, яд ему абсолютно не нужен. Скоро он вернется к этому старому окопу, выкопает передатчик и пошлет в разведцентр всего две буквы: «ОМ». Это будет означать, что он удачно перешел границу и находится в полной безопасности.
Собственно, ничего иного и не могут ждать от него там, за океаном. Иначе не возлагали бы на него таких больших надежд в разведывательном центре. И потом у него были деньги, много денег - четыреста пятьдесят тысяч рублей и еще польская, шведская, финская валюта…
Кончалась короткая летняя ночь. Верхушки сосен порозовели.
Бромберг вскипятил кружку воды, побрился. Старый офицер, он любил во всем дисциплину и порядок. Теперь он почувствовал себя еще бодрее.
«Анди» шагал по пролескам до тех пор, пока не услышал далекий гудок паровоза. То была станция Кемери. В кустах Бромберг зарыл топографическую карту, компас, бинокль. Теперь, когда он точно вышел к станции, все это было не нужно. При нем не осталось ни одной американской вещи. В руках «Анди» нес книгу «Подпольный обком действует», изданную в Риге на латышском языке, из кармана торчал номер газеты «Циня», а во рту дымилась сигарета «Дукат».
Уже совсем рассвело, когда Бромберг добрался до станции. В зале ожидания и под легким стеклянным навесом перрона было много людей. Из здешнего грязевого санатория уезжала большая группа отдыхающих. Они шутили, смеялись. Кого-то провожали с большим букетом цветов, кому-то жали руки, желали счастливого пути.
Бромберг купил билет до Риги, вышел на перрон, отыскал свободное место на скамейке. Только сейчас он понял, как устал за эти бессонные, тревожные ночи. Он откинул голову на спинку скамейки. Веки его становились все тяжелее и тяжелее…
- Гражданин, вы что, спите?
Бромберг очнулся от полудремы и понял, что вопрос обращен к нему. Он не открывал глаз, стремясь выгадать несколько мгновений. Неужели это все? Неужели сейчас схватят? Он пожалел, что был так самоуверен там, в лесу.
- Гражданин, проснитесь!
Кто-то тронул его за плечо. Бромберг приоткрыл глаза и увидел, что перед ним стоит молоденький железнодорожник.
- Вы так и поезд проспите, - улыбнулся паренек, показывая на пути, куда была уже подана электричка.
У Бромберга отлегло от сердца.
- Да, да, спасибо! - поблагодарил он молодого человека и побежал к поезду.
Поднимаясь на подножку, он оглянулся, помахал рукой любезному железнодорожнику и прошел в вагон.
Электропоезд шел по Рижскому взморью. Справа блестела, искрясь на солнце, голубая лента реки, слева тянулись деревянные дачи. Они то скрывались по самые остроконечные крыши в зеленых пролесках и садах, то выскакивали опять к дороге.
Бромберг мог бы поклясться, что никто в американской разведке не знает так хорошо Латвию, как он. Даже полковник Кулл, который при случае любит прихвастнуть, что является знатоком Советской Прибалтики. Да, в Вашингтоне Бромбергу казалось, что он прекрасно знает Латвию. Но сейчас… Он оглядел пассажиров вагона, потом перевел взгляд на свои неуклюжие ботинки, дешевые штаны и потрепанный белый плащ. Не надо быть знатоком Латвии, чтобы увидеть, что на фоне окружающих он, Бромберг, выглядит чуть ли не оборванцем. А ведь ему казалось, что средний рижанин должен носить примерно такой костюм, как у него.
«Еще примут за бродягу», - подумал «Анди».
За переплетениями железнодорожных путей и приземистыми складскими строениями показалось двухэтажное красное здание. Это была станция Засулаукс. Бромберг спрыгнул с подножки и пошел по перрону. Здесь уже начиналась Рига. Бромберг обогнул здание вокзала и вышел к трамвайному кругу-конечной остановке маршрута № 2. Он вскочил в маленький синий трамвайчик и остался стоять в открытом тамбуре.
Легкий предутренний туман еще засиделся в зеленых верхушках парковых деревьев. По улицам, разбрызгивая водяные струи, медленно двигались моечные машины; открывались двери продовольственных магазинов; торопливой рабочей походкой по тротуарам шли люди. Город начинал свой трудовой день.
Бромберг сошел в центре. Он бродил по проспекту Райниса, по улицам Ленина, Суворова, Кр. Барона, заходил в магазины, толкался у газетных витрин, останавливался у корпусов новых домов, приглядывался к прохожим. Другому, может быть, мало что рассказала бы такая короткая прогулка. Но от наметанного взгляда Бромберга не ускользнула ни одна деталь. И все это в десять раз убедительнее, чем шпионские донесения, которые он читал еще там, в разведцентре, рассказало ему, как изменилась жизнь в Риге. Бромберг понял, что работать будет намного сложнее, чем он ожидал.
- Тем хуже для них! - еле слышно прошептал Бромберг.
Слепая злоба вспыхнула в груди и сжала сердце. Ему ненавистны были эти люди. И железнодорожник, что испугал его до смерти на платформе Кемери, и веселые студенты, сидевшие за соседним столиком в кафе «Даугава», и задумчивая пара влюбленных, что стояла на мосту через канал, - все, кто радуется той жизни, которую он ненавидит.
Что же, Бромберг покажет, на что он способен! Пусть сгорает от зависти этот Кулл: теперь-то ему не удастся стать соавтором его трудов.
«Анди» спохватился и подумал, что слишком долго стоит у подъезда новой гостиницы «Рига». В ней ему все равно не жить.
Он снова отправился бродить по городу.
Начали сгущаться сумерки. Пора подумать и о ночлеге. У Бромберга было немало старых знакомых. С одними он работал в полиции, с другими служил в фашистской армии. Он знал их тайны и мог поймать в такие крепкие сети, откуда им не вырваться. Бромберг сумел бы заставить их делать все, что захочет: он верил в силу своей мертвой хватки. Однако надо было повременить с визитами, навести дополнительные справки о своих знакомых.
В универмаге «Анди» купил приличные полуботинки и пиджак. Потом он зашел в аптеку за бинтами и, дождавшись темноты, сел в трамвай, идущий в Шмерли.
Бикерниекский лес, куда приехал Бромберг, был хорошо ему знаком. В этом лесу, за корпусами туберкулезного санатория, по приказу гитлеровского коменданта он расстреливал коммунистов, пленных красноармейцев и евреев. Да, те времена, когда он мог рассчитаться сполна с ненавистными ему людьми, прошли. Но они вернутся. Ради этого он и сидит сегодня здесь, все в том же Бикерниекском лесу…
Бромберг одел новый пиджак, а старый закопал в канаве. Ушибленная нога, натруженная за день, ныла еще больше. Он снова принялся массировать посиневшую стопу, а потом крепко стянул ее бинтом. Боль несколько утихла. Бромберг расстелил плащ-палатку. Задремал.
…Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Определенного плана на день у него не было. Нужно, пожалуй, еще поболтаться по городу, приглядеться к ритму его жизни, кое-что узнать о старых знакомых.
«Анди» отправился на Красноармейскую улицу. Здесь в двухэтажном деревянном доме жил его старый друг, бывший офицер буржуазной армии, с которым после установления Советской власти он работал в прачечной на улице Вентспилс. Товарищу пришлось тогда еще тяжелее, чем ему. Бывший офицер стал ночным сторожем. Конечно, старый товарищ мог бы приютить Бромберга.
Бромберг подошел к знакомому подъезду, взглянул на список жильцов. Но фамилия друга в нем не значилась. «Анди» не стал расспрашивать соседей - это было опасно: мало ли что с ним могло случиться.
За завтраком в дешевом кафе Бромберг вспомнил о хорошенькой хозяйке магазина, которая пятнадцать лет назад была безумно влюблена в лейтенанта войск СС. Он немного погулял и отправился на десятом трамвае до конечной остановки: Бромберг хорошо помнил тот маленький бакалейный магазин.
Но его опять постигла неудача. Он сошел с трамвая - и не узнал знакомых мест. Здесь когда-то кончался город, теперь же вокруг высились корпуса новых многоэтажных домов. А магазинчик тот, наверно, снесли. Он обошел другие магазины. В них работали десятки продавщиц, но среди них не было той, которую он искал.
И снова «Анди» принялся бродить по улицам.
- Бромберг, ты ли это?-услышал он вдруг радостный возглас за спиной.
Бромберг оглянулся. Его догонял толстый мужчина, в котором он признал своего школьного товарища и сокурсника по университету. Толстяк схватил его за руку и увлек в буфет:
- Пойдем, пойдем, надо выпить за встречу.
Они взяли по бутылке пива. Собеседник наполнил стаканы и начал рассказывать о себе:
- Работаю инженером. Строю новую ТЭЦ. Сейчас бьемся над тем, чтобы удешевить стоимость строительства. Что ты скажешь, если нам удастся сэкономить эдак миллиончика полтора, а? - инженер засмеялся и толкнул Бромберга в бок.
- Здорово, - без всякого воодушевления сказал тот.
- Да, время идет! - продолжал словоохотливый инженер. - Дети уже подросли. Дочка в консерватории учится, по радио дважды выступала. А сын десятилетку окончил, слесарем на ВЭФе работает. Что ж, детьми доволен. Дочь комсомолка, а парень мой вот уже скоро год - кандидат партии.
«И чему он только радуется?» - недоуменно подумал «Анди». Нет, с этим человеком ему абсолютно не о чем говорить. Бромберг подозвал официантку и расплатился.
- Торопишься? - разочарованно спросил инженер. - Ну давай посидим еще с полчасика. Потолкуем.
- Я, действительно, очень тороплюсь, - ответил Бромберг. - Мне сегодня нужно уладить еще кое-какие дела в горсовете.
- Так ты что, на советской работе?
- Да, почти, - усмехнулся «Анди» и попрощался.
Бромберг долго еще думал об этой случайной встрече. Как меняются люди! Ведь этот инженер получил образование еще в старое время. Он ходил в костел, читал фашистские книги и газеты. Чем же его привлекли на свою сторону коммунисты? А, может быть, он и сам теперь коммунист? Что же произошло на этой земле, откуда он бежал тринадцать лет назад фашистским лейтенантом, а вернулся американским шпионом?
Суть этих изменений Бромберг понять не мог.


Глава одиннадцатая
ПОСЛЕДНЯЯ ЯВКА
1
Приедитис-«Герберт» хорошенько прощупал Фредиса и убедился, что бывший заготовитель согласен на все, если ему щедро заплатить и пообещать легкую жизнь.
- С твоими хозяйственными способностями и твоим размахом нужно жить только на Западе,- сказал как-то «Герберт».
- Там бы я развернулся! - согласился Фредис. - Не то что здесь, где собственную комнату продать невозможно.
Да, «Герберт» подвел его уже к самому краю пропасти и нужно лишь небольшое усилие, чтобы столкнуть его вниз. Но для этого «Герберту» надо было открыть свои карты, показать свое настоящее лицо. Фредиса можно было взять врасплох, сообщив, что вот уже скоро год, как он водит дружбу с американским шпионом. Конечно, он никуда не денется, не побежит доносить. Слишком далеко зашел этот милый мальчик. Но сделать последний шаг «Герберт» не решался. Откладывал со дня на день, тянул.
А тянуть было уже нельзя. Несколько раз разведцентр запрашивал его, может ли он спрятать одного человека в надежном месте. Кто-то собирается сюда, не иначе. И тот, кто собирается, должен привезти ему документы для бегства за границу в обмен на Фредиса. Значит, к этому времени новый агент должен быть завербован. Пусть Фредис влезет в его шкуру и примет удар, который предназначается ему, «Герберту». А самому бежать…
«Герберт» писал в разведцентр, что убежище есть. Он считал, что можно спрятать шпиона на квартире у Фредиса, которую ему все еще никак не удалось поменять.
Вот и сейчас, когда они зашли в столовую, которая находилась в подвале под зданием Аэрофлота, Фредис жаловался, что потерял всякую надежду получить деньги за квартиру. В столовой было пусто. «Теперь - или никогда», - подумал «Герберт». Он понимал, что будет говорить совсем не то, чему можно поверить. Но ничего более убедительного «Герберт» придумать не мог. Отчаяние, которое его охватило, было плохим советчиком.
- Знаешь, Фредис, - сказал «Герберт»,- мы можем с тобой уйти на Запад. Только нам нужно кое-что сделать для одного человека, который поможет нам перейти границу. Я кое в чем ему уже услужил. Теперь очередь за тобой.
- Скажи, а мне за это не попадет? - Фредис бросил на «Герберта» такой простодушный взгляд, каким смотрит теленок на мясника, когда тот ведет его на убой.
- Риск, конечно, будет, - сказал Приедитис.- Но есть во имя чего рисковать. За небольшую услугу ты можешь получить пятьдесят тысяч.
В глазах у Фредиса вспыхнул алчный огонек:
- Пятьдесят тысяч!
- Да. Так ты хочешь их заработать? Тогда я познакомлю тебя с этим человеком…
«Герберт» проводил Фредиса до трамвайной остановки. Потом вернулся домой. Он спустился в подвал, осторожно отодвинул старый диван, вынул из тайника приемник, принес в комнату. Вскоре должен был начаться очередной радиосеанс. «Герберт» воткнул вилку в штепсель, надел наушники. Послышалось прерывистое тиканье морзянки. «Герберт» схватил карандаш, стал записывать цифры. Потом достал из-за пояса шифр-блокнот. Сообщение было неожиданным: человек, о котором так долго шла речь, прибыл. Разведцентр назначал ему явку…
Десять ночей «Герберт» не мог сомкнуть глаз. В его жизни наступали большие перемены. Но какие? Что скажет ему человек, при-шедший оттуда? Неужели Кулл и «Анди» сдержали свое слово и решили вернуть его? Если это так, то он передаст Фредиса, и вскоре будет на Западе.
«Герберт» думал о Мильде. Ей снова на долгие годы придется остаться одной. Огорчится ли она? Наверное, не очень. Сестра боится его, не доверяет. Она, конечно, не знает, что творилось в его душе все это время. Но ее сердце чувствовало беду, - пропасть отчуждения все время лежала между ними. Нет, Мильде без него будет легче, спокойнее.
Иногда «Герберта» охватывало отчаяние. А что если этот человек к нему не придет, как тот, которого он год назад так и не дождался у входа в Ботанический сад?
…Наконец наступил назначенный день. «Герберту» не сиделось дома, и он с самого утра принялся бродить по городу. Он шагал по тенистым паркам, пересекал площади. Мимо него проносились машины, шли люди. Но «Герберт» не замечал ничего - ни людей, ни машин, ни ослепительного солнца, ни мостов над Даугавой, ни шпилей горделивых древних соборов. В этом городе ему ничего не было дорого, ничто его здесь не удерживало…
…Время тащилось сегодня так утомительно долго, так нудно!
Явка была назначена в полдень на Лесном кладбище. «Герберт» пришел сюда четверть двенадцатого. На кладбище благоухали цветы, легкий ветерок едва зашевелил кроны деревьев, выстроившихся вдоль дорожек. Здесь, на этом кладбище, среди молчаливых могил и склепов, должна решиться его участь.
«Герберт» прошел по широкой дорожке в дальний угол кладбища и остановился у памятника президенту Янису Чаксте. Было без четверти двенадцать. Ровно в полдень сюда должен придти человек с нотной папкой. «Герберт» обошел памятник и спрятался в густых кустах. Отсюда он, оставаясь невидимым, мог наблюдать за всем, что делается у памятника. Мало ли что может случиться! Нагрянули же тогда солдаты на высоту с отметкой в девяносто три метра…
Без трех минут двенадцать к памятнику подошла экскурсия. Худенькая девушка с университетским значком на лацкане жакета начала объяснения. «Герберт» отчетливо слышал каждое ее слово. Он напряженно, до боли в глазах, вглядывался в лица людей. И вдруг в толпе он заметил человека с нотной папкой. «Герберт» чуть не вскрикнул от удивления. Это был «Анди», его инструктор и учитель! «Анди» стоял рядом с экскурсоводом и как ни в чем не бывало слушал ее.
Экскурсанты пошли дальше. «Анди» отстал от группы, нагнулся и сделал вид, что у него развязался шнурок ботинка. «Герберт» видел, что «Анди» ждет его, но выйти из укрытия не решался. Он боялся, как бы в толпе экскурсантов не оказались чекисты. «Анди» постоял у памятника еще минут десять и неторопливо пошел прочь…
 Они встретились через три дня на лесной дороге в Шмерли. Здесь разведцентр дублировал явку на случай, если свидание на Лесном кладбище не состоится.
- Я был тогда на кладбище,-сказал «Герберт».- Только не решился подойти, кругом был народ: опасался засады.
«Анди» протянул руку:
- Что ж, ты поступил разумно. Ну рассказывай, как живешь.
«Герберт» принялся изливать своему шефу все, что накопилось на душе. Он говорил и про тревожные ночи, и про страх, преследовавший его повсюду, и про страшную нужду, в которой жил эти годы.
Но «Анди» не стал его слушать.
- Такая у нас работа. Ведь мы ехали не в Ниццу. Поговорим о деле. - «Анди» полез в карман и вытащил черный пакет. - Вот десять тысяч. Возьми их себе. Но это не награда. Пока ты работал плохо. Это аванс в счет будущей работы.
Все надежды «Герберта» рухнули. У него потемнело в глазах, задрожали колени.
- Как, еще оставаться? Ты не привез мне документов?
- Уйдем вместе. Через год-полтора, не раньше. Нельзя же возвращаться с пустыми руками. Даром тебя на Западе кормить никто не будет. Я же тебе сказал: тобой в разведцентре не особенно довольны.
«Герберт» понял, что возражать бесполезно.
- Хорошо, я слушаю твои указания, «Анди».
- Ну вот, это другой разговор, - улыбнулся Бромберг. - Но мы его продолжим в следующий раз. О времени нашей встречи ты прочтешь через четыре дня на афише Русского драматического театра. А завтра пришли мне своего Фредиса.
«Анди» назвал место явки и пароль.
Они простились и разошлись.
«Герберт» на минутку забежал к Фредису- сообщить, что его хочет видеть человек «оттуда»…
…По дороге домой «Герберт» купил бутылку водки и, войдя в свою комнату, запер дверь на ключ. Он снял плащ, кинул пачку денег, полученную от «Анди» на стол. Сколько раз он просил, умолял разведцентр, чтобы ему прислали деньги! И вот они у него. Но зачем ему деньги, если все начинается снова. Все - и бессонные ночи, и страх, и томительное ожидание катастрофы! Что же ему еще ждать от жизни?
«Герберт» залпом выпил стакан водки. Потом достал листок бумаги, ручку и сел писать записку Мильде. Размашисто вывел имя сестры, поставил восклицательный знак и задумался. Потом смял бумажку, бросил ее под стол и достал новый лист. Он написал несколько слов, зачеркнул, что-то написал снова и снова порвал написанное. Да и зачем писать? Разве это можно объяснить словами? Что делать, если нет никаких надежд, если жизнь становится страшнее смерти…
«Герберт» встал, спотыкаясь прошелся по комнате. Затем нагнулся, оторвал брус паркета. Достал ампулу, положил ее в рот и сжал зубами. Он покачнулся, потом тяжело повалился на стол, разметав сторублевые бумажки. Смерть наступила мгновенно, не успев наложить маску ужаса на его лицо.
Теперь «Герберту» было легко и спокойно.
Они встретились через три дня на лесной дороге в Шмерли. Здесь разведцентр дублировал явку на случай, если свидание на Лесном кладбище не состоится.
- Я был тогда на кладбище,-сказал «Герберт».- Только не решился подойти, кругом был народ: опасался засады.
«Анди» протянул руку:
- Что ж, ты поступил разумно. Ну рассказывай, как живешь.
«Герберт» принялся изливать своему шефу все, что накопилось на душе. Он говорил и про тревожные ночи, и про страх, преследовавший его повсюду, и про страшную нужду, в которой жил эти годы.
Но «Анди» не стал его слушать.
- Такая у нас работа. Ведь мы ехали не в Ниццу. Поговорим о деле. - «Анди» полез в карман и вытащил черный пакет. - Вот десять тысяч. Возьми их себе. Но это не награда. Пока ты работал плохо. Это аванс в счет будущей работы.
Все надежды «Герберта» рухнули. У него потемнело в глазах, задрожали колени.
- Как, еще оставаться? Ты не привез мне документов?
- Уйдем вместе. Через год-полтора, не раньше. Нельзя же возвращаться с пустыми руками. Даром тебя на Западе кормить никто не будет. Я же тебе сказал: тобой в разведцентре не особенно довольны.
«Герберт» понял, что возражать бесполезно.
- Хорошо, я слушаю твои указания, «Анди».
- Ну вот, это другой разговор, - улыбнулся Бромберг. - Но мы его продолжим в следующий раз. О времени нашей встречи ты прочтешь через четыре дня на афише Русского драматического театра. А завтра пришли мне своего Фредиса.
«Анди» назвал место явки и пароль.
Они простились и разошлись.
«Герберт» на минутку забежал к Фредису- сообщить, что его хочет видеть человек «оттуда»…
…По дороге домой «Герберт» купил бутылку водки и, войдя в свою комнату, запер дверь на ключ. Он снял плащ, кинул пачку денег, полученную от «Анди» на стол. Сколько раз он просил, умолял разведцентр, чтобы ему прислали деньги! И вот они у него. Но зачем ему деньги, если все начинается снова. Все - и бессонные ночи, и страх, и томительное ожидание катастрофы! Что же ему еще ждать от жизни?
«Герберт» залпом выпил стакан водки. Потом достал листок бумаги, ручку и сел писать записку Мильде. Размашисто вывел имя сестры, поставил восклицательный знак и задумался. Потом смял бумажку, бросил ее под стол и достал новый лист. Он написал несколько слов, зачеркнул, что-то написал снова и снова порвал написанное. Да и зачем писать? Разве это можно объяснить словами? Что делать, если нет никаких надежд, если жизнь становится страшнее смерти…
«Герберт» встал, спотыкаясь прошелся по комнате. Затем нагнулся, оторвал брус паркета. Достал ампулу, положил ее в рот и сжал зубами. Он покачнулся, потом тяжело повалился на стол, разметав сторублевые бумажки. Смерть наступила мгновенно, не успев наложить маску ужаса на его лицо.
Теперь «Герберту» было легко и спокойно.
2
«Анди» не допустил никакой ошибки, пробираясь в глубь Латвии. Никто не видел сполохов от костра, который он разводил в лесу, он не сболтнул ничего лишнего. Он действовал осторожно, обдуманно - так, как подсказывал ему многолетний опыт.
И все же каждый шаг Бромберга был известен. Его могли задержать на границе, в лесу, на Лесном кладбище - всюду, где он появлялся. И не только потому, что один из жителей Риги, встретивший на улице бывшего полицейского и гитлеровского офицера, тут же сообщил об этом в КГБ. Это не было случайностью. Найти пристанище и поддержку на советской земле Бромберг не мог. Игра, которую он вел вместе со своими заокеанскими партне-рами, в любом случае должна была закончиться их поражением. И если Бромберг все еще разгуливал на свободе, то это зависело вовсе не от него.
 …В назначенный час Фредис стоял под Большими часами. Как и было условлено, в одной руке он держал шарф, в другой игрушечного медвежонка. Фредис внимательно глядел по сторонам, но так и не заметил, как подле него очутился высокий, грузный мужчина.
- Простите, - обратился он к Фредису,- где здесь парикмахерская?
Фредис, чтобы не забыть положенный ответ, много раз повторял его про себя.
- За углом, - торопливо проговорил он, - но в ней неважно бреют.
- Здравствуйте, Фредис. Я тот, кого вы ждете, - сказал «Анди» и молча, знаком предложил следовать за ним.
Шли они долго, пока не оказались в пустынном переулке.
- Вот здесь можно и поговорить. Вы курите? - «Анди» протянул Фредису пачку сигарет.
Они закурили. «Анди» присматривался к Фредису. У юноши было открытое, мужественное лицо; крепкие мускулы проступали сквозь легкую рубашку. «Анди» подумал, что у молодого человека, стоящего перед ним, вероятно, сильная воля и хорошие нервы.
Бромберг был достаточно опытен, чтоб не предвидеть и еще один вариант. Тот ли это человек, о котором говорил «Герберт», не подослан ли он чекистами? Что ж, если и подослан, то тем хуже для них. И на этот случай у него был продуман план действий…
- Вы что, Фредис, хорошо знаете Петериса Яновича Приедитиса? - спросил «Анди».
- Да, это мой друг, - ответил Фредис.- Когда я лишился работы, Петерис Янович поддержал меня. Кроме него, в Риге у меня нет ни родных, ни друзей.
- А сейчас вы работаете? - осведомился Бромберг.
- Работу по душе я найти пока еще не смог, - уныло заметил Фредис.
- Это плохо. Вам нужно поскорее устраиваться на службу. - «Анди» взглянул на часы.- Ну хорошо, Фредис, я пойду. О месте и времени следующей встречи я вам дам знать дополнительно.
- Ну зачем же нам так скоро расставаться? - простодушно сказал Фредис.-Мы еще не обо всем поговорили. Не так ли, господин Бромберг?
«Анди» сначала показалось, что он ослышался. Откуда этот человек мог знать его настоящую фамилию? Ведь и «Герберту» она была неизвестна. И вдруг «Анди» понял, что произошло что-то страшное. Он сделал шаг назад.
- Ни с места! - приказал Фредис. - Сопротивление бессмысленно. - В руках у Фредиса сверкнула сталь пистолета.
«Анди» увидел, что рядом с ними останавливаются две «победы».
- Спокойнее, господин Бромберг, - произнес Фредис, - машины поданы. Нашу беседу мы продолжим в другом месте.
…В назначенный час Фредис стоял под Большими часами. Как и было условлено, в одной руке он держал шарф, в другой игрушечного медвежонка. Фредис внимательно глядел по сторонам, но так и не заметил, как подле него очутился высокий, грузный мужчина.
- Простите, - обратился он к Фредису,- где здесь парикмахерская?
Фредис, чтобы не забыть положенный ответ, много раз повторял его про себя.
- За углом, - торопливо проговорил он, - но в ней неважно бреют.
- Здравствуйте, Фредис. Я тот, кого вы ждете, - сказал «Анди» и молча, знаком предложил следовать за ним.
Шли они долго, пока не оказались в пустынном переулке.
- Вот здесь можно и поговорить. Вы курите? - «Анди» протянул Фредису пачку сигарет.
Они закурили. «Анди» присматривался к Фредису. У юноши было открытое, мужественное лицо; крепкие мускулы проступали сквозь легкую рубашку. «Анди» подумал, что у молодого человека, стоящего перед ним, вероятно, сильная воля и хорошие нервы.
Бромберг был достаточно опытен, чтоб не предвидеть и еще один вариант. Тот ли это человек, о котором говорил «Герберт», не подослан ли он чекистами? Что ж, если и подослан, то тем хуже для них. И на этот случай у него был продуман план действий…
- Вы что, Фредис, хорошо знаете Петериса Яновича Приедитиса? - спросил «Анди».
- Да, это мой друг, - ответил Фредис.- Когда я лишился работы, Петерис Янович поддержал меня. Кроме него, в Риге у меня нет ни родных, ни друзей.
- А сейчас вы работаете? - осведомился Бромберг.
- Работу по душе я найти пока еще не смог, - уныло заметил Фредис.
- Это плохо. Вам нужно поскорее устраиваться на службу. - «Анди» взглянул на часы.- Ну хорошо, Фредис, я пойду. О месте и времени следующей встречи я вам дам знать дополнительно.
- Ну зачем же нам так скоро расставаться? - простодушно сказал Фредис.-Мы еще не обо всем поговорили. Не так ли, господин Бромберг?
«Анди» сначала показалось, что он ослышался. Откуда этот человек мог знать его настоящую фамилию? Ведь и «Герберту» она была неизвестна. И вдруг «Анди» понял, что произошло что-то страшное. Он сделал шаг назад.
- Ни с места! - приказал Фредис. - Сопротивление бессмысленно. - В руках у Фредиса сверкнула сталь пистолета.
«Анди» увидел, что рядом с ними останавливаются две «победы».
- Спокойнее, господин Бромберг, - произнес Фредис, - машины поданы. Нашу беседу мы продолжим в другом месте.


ПОСЛЕСЛОВИЕ
- Ну вот, теперь можно и ехать. Кажется, мы ничего не забыли.
Подполковник Алкснис помог Лидумсу уложить в машину небольшой чемодан, рюкзак, надувную резиновую лодку и сел за руль. Машина тронулась…
На этот раз поездка двух чекистов не имела никакого отношения к «Закатившейся звезде». Операция успешно завершилась. Последний из пяти шпионов, засланных американской разведкой в Советскую Латвию, - Бромберг- теперь обстоятельно отвечал на вопросы следователей. Показания Бромберга-«Анди» заняли несколько пухлых томов. «Анди» много знал о работе американской разведки - в несколько раз больше, чем обычный шпион. Он рассказывал о ее методах, планах, о шифрах, которыми пользуются американские шпионы…
- Сколько же времени мы собирались с вами в отпуск, Лидумс? - Подполковник повернулся к своему молодому попутчику. - Если не ошибаюсь, у вас пропала вторая путевка еще до того, как вы стали Фредисом и начали водить дружбу с Мильдой и ее братцем.
Лейтенант смутился:
- Вы знаете, товарищ подполковник, я так привык к имени Фредис, что мое настоящее имя порою кажется мне псевдонимом.
- Что ж, это в порядке вещей, - заметил Алкснис. - Ведь вы столько месяцев играли эту роль. Но давайте, лейтенант, условимся: весь отпуск о делах не говорить.
Как ни старался Лидумс думать о предстоящем отдыхе, о Рижском взморье, он все время ловил себя на том, что мысли его возвращаются к памятным событиям последних лет, к суровым и опасным операциям, в которых он возмужал, стал настоящим чекистом.
… Рига уже засыпала. Шли последние троллейбусы. Улицы пустели. И сердце Лидумса наполнялось гордостью и радостью, оттого что ему доверено охранять покой и сон этого большого трудового города.

Шульман Илья
Человека преследует тень
Эта книга повествует о людях в синих шинелях, стоящих на страже социалистической законности, о бесстрашных работниках милиции, чей труд порою недооценивается, а норою становится предметом необоснованных упреков.
Автор повести — журналист Илья Шульман, несколько лет проработавший в Магаданской области, рассказывает о беспокойных буднях одного милицейского коллектива, который с помощью честных советских людей ликвидирует шайку преступников, похищавших золото.
ПРОЛОГ

Даже в этот знойный полдень, когда каштаны боялись шевельнуть своими широкими темно-зелеными листьями, а разомлевший от жары асфальт легко оседал под каблуками пешеходов, одесские улицы были шумны и многолюдны.
Многоцветный поток пешеходов, не умещаясь на широких тротуарах, пестрыми струями растекался по скверам и садам. Он врывался в магазины, кинотеатры, наполнял приглушенным гулом залы музеев, расплескивался морем в огромных чашах стадионов.
Из невидимых репродукторов лилась популярная песенка ансамбля «Дружба», а старыйчистильщик сапог на Дерибасовской, не обращая никакого внимания на голос Эдиты Пьеха, пел свою песню:
Мы все хватаем звездочки с небес,77
+++-
Наш город гениальностью известен...
Наверно, он пел ее уже много лет, потому что прохожие улыбались ему, как старому знакомому, а заказчики уважительно пожимали его огромную волосатую руку, протягивая которую он всегда почему-то прищелкивал языком.
Этот чудесный уголок, уже более полутора веков ласково именуемый Дерибасовской в честь основателя крепости, а затем и города де Рибаса, вероятно, не имеет себе равных даже в Одессе. Здесь все радует человеческий взор: цветы, люди, палатки и магазины, кокетливо заслоненные от солнца нарядными тентами, ослепительные автомашины, бесшумно замирающие на перекрестках длинной чередой...
— Мамочка, мама, смотри, даже цветы нам улыбаются! — громко кричал розовощекий мальчуган в легкой бело-голубой матроске и тянул при этом к клумбе с левкоями смущенную молодую женщину.
Группа черных от загара мальчишек в причудливых картонных шлемах, с деревянными мечами в руках неприветливо разглядывала стоявшего на тротуаре паренька.
— Не трогать мирного странника! — решительно скомандовал чубатый вожак, и вся ватага, обтекая паренька, с громким кличем понеслась дальше.
Через минуту мальчишки свернули на Пушкинскую, где каштаны, склонившись друг к другу, почти заслоняли, от жгучего солнца улицу. Возле ресторана босоногое войско замедлило бег. Здесь было особенно многолюдно, и ребята усиленно заработали локтями, пробивая себе путь. Неожиданно вожак задел концом меча фару стоящей у бровки тротуара автомашины «ЗИМ». Узорчатое стекла брызгами рассыпалось по мостовой...
Ватага мгновенно рассеялась в людском потоке, и лишь стройный мальчик лет двенадцати с растрепанными волосами остался на месте. Его руку уже крепко сжимал своей сильной ладонью милиционер.
— Отпустил бы мальчонку, — вступился за виновника происшествия высокий гражданин. — Нечаянно он. С кем не бывает?
— Купит хозяин своему «ЗИМу» новые «очки», — весело поддержал усатый рослый моряк в кремовой фуражке с «капустой». Он даже потянул мальчика на себя голой до локтя рукой с множеством татуировок. Но милиционер был неумолим. Несколько смущенный всеобщим вниманием, он хмурил выгоревшие от солнца брови и, настойчиво повторяя обычное в этих случаях: «Граждане, расходитесь!», — искал глазами владельца роскошного «ЗИМа». Но тот не давал о себе знать.
— Пропал! Хозяин машины пропал! — весело прокричал кто-то из толпы.
— Такое только в нашем городе бывает, — пояснял молодой девушке словоохотливый старичок. — Только в Одессе лопаются меридианы и автомашины сдаются в «Стол находок», как дамские сумочки...
— Нет, такое и у нас не часто, — возразил старичку военный.
И никто из зевак, вероятно, не обратил внимания на старенькую мышиного цвета «Победу», остановившуюся на другой стороне улицы, и на двух молодых мужчин в модных клетчатых рубашках, которые вылезли из нее, неторопливо приблизились к толпе, постояли немного, прислушиваясь к пересудам, а затем отошли в сторону и занялись изучением меню, висевшего в красивой рамке у входа в ресторан.
— Я, пожалуй, зайду, Гриша, — сказал тот, что постарше, и, сунув руки в карманы светлых брюк, исчез в прохладной полутьме вестибюля.
В ресторане было сравнительно немноголюдно. Подвешенный к потолку огромный пропеллер, мерно покачиваясь, навевал прохладу.
Зеркало отражало ряды столиков, пустующую в эти дневные часы эстраду, проход на кухню и в служебные помещения. Пригладив ладонью густую вьющуюся шевелюру, посетитель, не останавливаясь, прошел мимо столиков и официанта в коридор и остановился перед обитой белой жестью дверью с надписью: «Выход во двор».
— Так и должно было быть, — ни к кому не обращаясь, сказал мужчина.
Тем же путем, через полупустой зал, он возвратился к своему товарищу и тронув его за рукав:
— Едем, Гриша. Его уже здесь нет. Что-то заподозрил, бросил автомобиль и — через двор...
Не обращая внимания на толпу, «ЗИМ» и милиционера, они вновь перешли улицу и сели в машину.
— Это наша ошибка, — сказал старший, нажимая на стартер. — Грубая и непростительная. Надо было одному сразу же заходить в ресторан, а другому контролировать двор.
Младший молчал. Только, когда «Победа» плавно сдвинулась с места, нерешительно спросил:
— Может, милиционера предупредить, чтобы зря не ждал владельца «ЗИМа»?
— Не надо. Тут есть товарищи из угрозыска, они доведут дело с машиной до конца.
На ветровое стекло, увеличиваясь в размерах, бежали красивые светлые дома, нарядные люди. Южный портовый город, торопясь навстречу своему яркому, радостному завтра, жил шумной кипучей жизнью, не обращая никакого внимания на маленькую старую «Победу» и сидящих в ней сосредоточенных людей — капитана милиции Дмитрия Ильичева и лейтенанта Григория Доронова.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В край вечной мерзлоты лето приходит поздно. К исходу мая, когда на прилавках столичных магазинов уже появляется черешня, а на юге буйно зацветает акация, здесь, на северных склонах сопок, еще лежит потемневший снег. Наполняются русла бесчисленных речек и ключей, но ветви вечнозеленого стланика пока прижаты к земле. Потом они очнутся от долгого оцепенения и поднимут свои широкопалые руки навстречу солнцу, приветствуя пробуждение жизни. А пока суровы и неприветливы сопки. Лишь ненадолго заглядывает солнце в глубокие расселины между ними, и тогда снег отбрасывает фиолетовые отблески.
По широкой автомобильной трассе, пересекающей небольшое утыканное стволами хилых лиственниц плато, торопятся машины.
Только они, да, пожалуй, еще тонкий дымок над нехитрым маленьким срубом и оживляют этот пустынный пейзаж.
Впрочем, если приглядеться, то можно заметить удаляющегося от трассы человека. Человек идет неторопливо, тяжело переставляя ноги и сгибаясь под тяжестью большого заплечного мешка.
Обойдя бесконечные отвалы гали, оставленные, судя по всему, старателями, человек скрылся в расселине между двумя лысыми сопками и в том месте, где небольшая, но, очевидно, бурная в дни весеннего половодья река образовала тугую петлю, остановился и сбросил на землю свою ношу. Развязав мешок, человек достал топор, несколькими точными ударами свалил и разрубил ствол сухой лиственницы, затем разложил два больших костра. Теперь можно отдохнуть.
Тридцать лет уже выходит в тайгу Степан Гудов. И всегда задолго до того, как солнце и вода успевают растопить каменное от холода одеяло, которым укрыты золотоносные пески. Зачем попусту терять время, надеясь на солнце, если можно отогреть землю кострами. Ишь, как весело потрескивает в огне сухое дерево...

Гудов долго и с видимым наслаждением пьет чай, такой же черный, как и круглый котел, в котором он кипит. Потом закуривает и погружается в раздумье...
Поднимется солнце, догорят костры, и, отбросив в сторону головни, он начнет копать оттаявший грунт. Когда лопата будет наталкиваться на валуны, в ход пойдет кайло, потом снова лопата. И так — час, второй, третий, пока металл не встретится с вечной мерзлотой. Тогда опять разжигай костер.
В таком напряжении пройдут все дни до тех пор, пока солнце, наконец, не нагонит верховую воду и земля не станет мягкой. Тогда дорожи, старатель, каждой минутой времени. Горячая эта пора — промывка песков...
Гудов подбросил в костер охапку смолистых поленьев, и к его лицу волной подступило тепло.
«Чу! Кто бы это?..»
Где-то шелохнулись раздвинутые ветки. Гудов осторожно обернулся на шорох и посмотрел по сторонам. Ах, вот оно что! На старателя в упор, не мигая, смотрели круглые глаза. Серая птица, размером с небольшую курицу, стояла в нескольких шагах от костра.
У Гудова — ни ружья, ни винтовки. А «находка путника», как прозвали на Севере эту птицу, снова бесстрашно придвинулась к нему, перепрыгнув на другую кочку. Старому таежнику известно, что эта птица не боится человека, подпускает его совсем близко. Быстро сняв с себя узкий кожаный ремешок, он сделал петлю и привязал ее к длинной палке. Птица по-прежнему смотрела на человека своими удивленными круглыми глазами.
Гудов медленно протянул вперед палку, продвинулся на шаг, затем на полшага. Птица вытянула голову, будто хотела заглянуть в ременную петлю... Резкий рывок — и вот уже она бьется в руках старателя.
— Спасибо! — не то себе, не то птице сказал Гудов. — Хорош обед?..
Кто-кто, а уж он, Степан Гудов, хорошо знает повадки зверя и птицы, прочно запали в его память не видимые случайному человеку таежные тропинки и тропы.
Впрочем, хорошо знает он и людей. По глазам может определить Гудов, что прячется в скрытой душе старателя: горе или жадное притворство, которым прикрыта удача. Сам он тоже сторонился когда-то людей, чувствовал себя спокойным только в одиночестве.
Но так было давно, когда одни люди всю жизнь охотились за золотом, а другие — за ними. Рано или поздно погибали и те и другие. Редкую удачу топили в спирте, отдавали за любовь случайным женщинам.
Теперь все изменилось. На помощь золотодобытчикам пришли машины, много машин, и живут люди уже не в холодном зимовье, где пол и потолок из накатника, а в добротных домах с электричеством и радио.
И старатель теперь уже не заброшенный в тайге человек. Сейчас у каждого старателя на руках карта отведенного ему участка, и он знает, сколько золота возьмет с кубометра добытых песков.
Да и отношение к золоту теперь другое. Перестало оно быть «желтым дьяволом», губившим людей. Как и другие старатели, Гудов во время сезона много трудился, а возвратившись в поселок, с довольной улыбкой высыпал золотой песок на обшитый белой жестью стол приисковой кассы.
— Крупными или мелкими купюрами «отоварить»? — всегда спрашивал кассир.
Но Гудов отказывался от наличности, отдавая предпочтение счету в сберегательной кассе. Правда, злые языки поговаривали, что «на случай» у промывальщика лежит в кованом сундуке толстая пачка денег, но Гудов, не терпевший разговоров на эту тему, на вопросы товарищей хмурился и не отвечал.
Родных у Степана Кузьмича не было, семьи тоже. Вероятно, потому так неубедительно звучали его угрозы уехать после окончания промывки «на материк», купить дачу где-нибудь на берегу Черного моря и жениться на молодой женщине... лет сорока пяти. О своем намерении уехать он говорил каждую весну, но проходило лето, затем осень, и Степан Кузьмич оставался на месте, не лишая своих друзей возможности зайти к нему в дни больших праздников на угощение, обычно состоящее из особым образом настоенного спирта и холодца, готовить который Гудов любил сам.
С людьми Степан Кузьмич сходился трудно, но уж если сходился, то привязывался к ним крепко, на всю жизнь, и помогал всем, чем мог: добрым советом, опытом, деньгами.
Однажды заведующий «Золотопродснабом» попросил его пустить на время в одну из двух маленьких комнат нового заведующего столовой. Гудов долго и громко бранился, отстаивая свое право «пожить с удобствами», но, узнав, что в крошечной приисковой гостинице уже живут две семьи с маленькими ребятишками, сдался и даже помог приезжему перетащить вещи.
Уступив негаданному жильцу комнату, окна которой выходили на южную сторону, Степан Кузьмич с сомнением оглядел новенькие хромовые сапоги приезжего и покачал большой, давно уже начавшей лысеть головой:
— Не для нас это. Невского проспекта здесь еще нет. Ты, паря, яловые купи да валенки тридцатого размера, а не то пропадешь.
Оглянувшись с порога, он еще раз посмотрел на блестящий хром и буркнул в усы:
— Если нет денег, я дам. Говори, не стесняйся...
Постоялец, назвавшийся Ковачем, обладал легким, незлобным нравом, знал великое множество прибауток и быстро завоевал расположение старика. Одного только не одобрял в Коваче Степан Кузьмич — его пристрастия к спиртному.
— Климат такой, иначе нельзя! — отшучивался Ковач в ответ на укоризненные взгляды Гудова.
— Ты, паря, другому про то расскажи. Пей чай, он лучше греет, — назидательно советовал Гудов, а про себя думал: «Вот приедет семья, тогда не до выпивок тебе будет».
Совсем недавно к Ковачу приехала сестра Анна, и Гудов с удивлением для себя отметил, что его холостяцкая квартира может быть уютной, если ее убирают женские руки, а любимый им грубый холодец не имеет ничего общего с действительно вкусными блюдами, приготовленными ею. Кузьмич привык жить один и не замечая своего одиночества, но и ему было приятно от сознания, что какая-то живая душа заботится о нем.
Гудов помогал Анне собирать посылки для ее сына. Когда Кузьмич со словами «сыну от Гудова» укладывал в ящик новенькую шелковую рубашку или смену теплого белья, Анна крепко жала своими маленькими пальцами его грубую руку и тихо говорила: «Спасибо!» Кто отец мальчика и где он, она никогда не рассказывала, впрочем, об этом Степан Кузьмич и не спрашивал.
Как-то в шутку Ковач сказал, что не прочь бы выдать сестру за старателя, но Гудов бросил на него такой уничтожающий взгляд, что заведующий столовой никогда больше к этой теме не осмеливался вернуться.
Непонятно было только Степану Кузьмичу, почему Анна отказывается пойти на прииск сполосчицей или, на худой конец, в столовую к брату. «Ведь в деньгах-то нуждается, — размышлял он, — и сынишку содержать надо».
Пробовал и не однажды поговорить об этом с Анной, но всякий раз она жаловалась на слабое сердце и глядела на него блестящими черными глазами, будто призывая послушать это сердце. Гудов растерянно замолкал, не зная, как держать себя с этой тихой, непонятной женщиной, а сам думал: «Как же она, бедняжка, толчется-то весь день на ногах с таким сердцем?»
Как-то Ковач и Анна попросили Гудова показать «настоящее золото». Кузьмич насупился, сказал, что золото у него бывает только по дороге из тайги до кассы и лучше его вообще не видеть.
Ковач удивился, стал возражать. Как всегда энергичный, живой и немножко навеселе, он достал старую потрепанную книжицу и стал громко читать различные высказывания великих людей о благородном металле.
— «Золото — солнечные лучи, упавшие на землю! Это царь металлов, сияние земли и украшение мира!»
— «Золото самое совершенное и ценное, что создала природа после человека!»
Слушая восклицания Ковача и глядя на загоревшиеся глаза его сестры, Гудов чувствовал раздражение. В его груди что-то начинало клокотать, грубые, широкие ладони помимо воли сжимались в кулаки. Он не хотел обидеть этих милых, так мало знающих жизнь людей, но не мог не возразить против всей этой чепухи.
— Ты, паря, другое прочти, — с трудом выговорил Степан Кузьмич. — Не то читаешь!..
Он встал, высокий, прямой и чуть сутулый, быстро прошел в свою комнату, и оттуда сразу же послышался тонкий писк открываемой дверцы книжного шкафа.
— Вот, читай, — сунул он Ковачу книгу и добавил: — Да погромче, паря!
Ковач удивленно посмотрел на Кузьмича, на сестру, повертел в руках томик Ленина и стал читать вслух раскрытую Гудовым страницу:
— «Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».
Ковач громко расхохотался:
— Ой, не могу! Кузьмич меня политграмоте учит!
Анна поднялась, порываясь что-то сказать, но промолчала и только выжидательно переводила глаза с Гудова на брата, с брата на Гудова. «О чем хотела сказать?» — чуть было не спросил Степан Кузьмич, но не решился и ушел к себе.
Поздно вечером, когда он вышел покурить на крыльцо, рядом с ним оказалась Анна.
— Ты прости, Кузьмич, нас с братом... Нехорошие мы, а ты такой... надежный и сильный.
Анна заплакала, и Гудов, утешая ее, вдруг обнял маленькую вздрагивающую женщину. Так и стояли они, пока не закашлял на соседнем крыльце сосед — механик драги.
Анна тихонько отстранилась и ушла в дом мягкими, неслышными шагами, а Кузьмич долго еще стоял один и по шорохам, доносившимся из дома, старался догадаться, что делает сейчас эта ставшая ему вдруг близкой молчаливая женщина.
О ней и о событиях последних недель думал старатель в далекой тайге, ожидая, когда костер отогреет землю, чтобы пройти шурф еще на ладонь.
— А-у-у! — донеслось откуда-то издалека. — А-у-у!..
Гудов насторожился, накрыл курткой тряпицу с горстью золота, сделал несколько шагов в сторону звука.
— Кузь-мич-ч! — уже ясно услышал он и пошел вперед, волнуясь, приглаживая свои упрямые седые волосы, по краям лысины.
— Ой, Кузьмич, слава богу! Думала, что не найду, — одним дыханием выпалила запыхавшаяся Анна.
Она подошла к Гудову и ткнулась лбом в его жесткие короткие усы.
— Уехал брат за продуктами, а одной так плохо!
— Ладно уж, — только и оказал Гудов, когда она неторопливо расстелила салфетку и стала расставлять на ней тарелочки и баночки с едой.
Было совсем темно, когда они кончили есть.
— Проводить до дороги, что ли?
— Не надо...
Не глядя на нее, Степан Кузьмич наломал мягкого пахучего стланика, набросал поверх него одежду, покрыл одеялом.
Пока Анна раздевалась, Гудов рубил и бросал в огонь смолистые ветки. Пламя тревожно взмывало в воздух, рассыпая жаркие снопы искр и освещая покорную, ждущую его женщину...
Рано утром Анна засобиралась домой. Она нервно, рывками расчесывала густые каштановые волосы, от которых веяло теплом и свежей хвоей. Собравшись, подошла к Кузьмичу и, как накануне, прижалась теплым лбом к щетине его усов. Затем осторожно сняла со своего плеча его тяжелую руку и пошла вперед быстрыми шагами. Отойдя немного, остановилась, попросила:
— Если не жалко, Кузьмич, дай немного золота на зубы... Ты все равно его сдашь. А мы заплатим, хорошо заплатим...
Оттолкнув деньги, он сунул ей в маленькую теплую ладонь тряпицу с намытым за все эти дни золотом, и она пошла прочь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«Хоть топор вешай, — думал Губанов, оглядывая кабинет начальника рудника. — Наверно, в такой обстановке и родилась эта поговорка».
В сизом папиросном дыму плавала люстра с тремя лампами; лица сидящих в креслах людей казались серыми, голоса звучали глухо. Один за другим выступали солидные и серьезные люди, каждый по-своему объясняя снижение содержания золота в руде. Слова многих были аргументированы, подтверждались лабораторными анализами, карточками фотохронометражных наблюдений и схемами предполагаемых отклонений золотоносной жилы.
Старший инженер по труду Василий Губанов, в прошлом кузнец, а затем забойщик, слушал членов комиссии с интересом и каждый раз согласно покрякивал, когда, «разносили» предыдущего оратора. Его инженерное чутье и большой опыт рабочего-горняка подсказывали, что поиски идут не в том направлении, что вызов специалистов из Северска и стремление научно обосновать срыв выполнения государственного плана напрасны. Своими твердыми как камень руками он проходил первые метры горных выработок здесь, на руднике, этими руками держал он сегодня ночью двухпудовый перфоратор, обуривая самый последний погонный метр забоя, убеждаясь, что руда та же и золотая жилка вьется в направлении, указанном маркшейдерами.
Доводы членов комиссии были вески, предположения обоснованны, но Губанов им не верил. Своими сомнениями он поделился сегодня с начальником рудника и парторгом, но они не пришли к какому-нибудь выводу.
Как и следовало ожидать, мнения участников совещания разошлись. Ясно было одно: за последние недели золота добыто меньше, чем за предыдущие. Загадка, а как ее разгадать, Губанов не знал.
Кряжистый, очень тяжелый для своего среднего роста, он вышел, прихрамывая, на улицу, где стоял его мотоцикл «ИЖ-49», В память о войне у Губанова, кроме наград, остался протез вместо нижней части правой ноги, но это не мешало ему купаться в ледяной воде горных ручьев и любить спорт. С мотоциклом он не расставался никогда, пользовался им независимо от того, нужно ли было проехать два квартала до конторы или сто километров до отдаленного участка.
Мотоцикл завелся сразу же. Глухо рокоча, он упрямо пополз вверх по крутой горной дороге...
По обе стороны главной улицы районного центра тихо покачивались яркие гирлянды электрических огней. Отдельными громадами выделялись здания Дома Советов, Дворца культуры, школы-интерната. Во Дворце шел концерт, а в кинотеатре показывали никому не наскучившего «Чапаева».
Друг и помощник Чапая — Петька — только что произнес свое знаменитое: «Тихо! Чапай думать будет!», когда кто-то тронул Ильичева за плечо и сказал шепотом:
— Спрашивают вас, товарищ капитан...
Ильичев поднялся и под бормотание недовольных зрителей пробрался к выходу, провожаемый контролершей с фонариком в руках.
На улице Дмитрий сразу же увидел широкую фигуру Губанова.
— Василь Михайлович!
— Дима!
Друзья обнялись. Тридцатитрехлетний капитан милиции Ильичев почувствовал себя слабым мальчишкой в мускулистых руках сорокапятилетаего Губанова.
— В гости или что случилось? — сразу, как только схлынула первая радость встречи, спросил Ильичев.
— Ночь длинная, все узнаешь, — как всегда немного запинаясь при волнении, уклончиво ответил Губанов, толкая перед собой мотоцикл по направлению к соседнему дому: там жил заместитель начальника районного отдела.
— Жену в кино оставил?
— В кино... Пусть досмотрит, мы и без нее на стол соберем!
— Эльза, встречай гостей! — с порога крикнул Ильичев, и к Губанову метнулась красавица овчарка.
Узнав уже бывавшего в доме человека, она тут же положила ему лапы на плечи и, заглядывая в его лицо своими умными глазами, ласково вильнула хвостом.
Хозяин и гость засмеялись, довольные традиционной шуткой общей любимицы.
— Тс-с! Дочка-то спит, а мы шум поднимаем, — хватился Губанов.
— Спит, — подтвердил Дмитрий. — Она у нас к шуму привычная. Так что симфонический концерт состоится!
— Починил магнитофон?
— Починил!
Дмитрий помог Губанову раздеться, сбросил свой пиджак й, оставшись в тенниске, задорно тряхнул курчавой головой.
— Может, поборемся?
Оба снова засмеялись, по прошлому опыту зная отлично, что ловкому Дмитрию, пусть и спортсмену-разряднику, не устоять против медвежьей силы медлительного, будто отлитого из чугуна Губанова.
В детской крепко спала разрумянившаяся с белыми курчавыми волосами дочка Ильичева — Леночка. И на ее сонное личико со всех сторон смотрели такие же необыкновенно курчавые куклы. Громко тикал будильник со светящимися стрелками.
В столовой, служившей одновременно кабинетом и гостиной, было тесно от круглого стола и множества книг, магнитофона, пианино и приемника. Это были самые любимые вещи Дмитрия, и жене Симе не разрешалось здесь хозяйничать.
— Понимаешь, Дима, неприятное дело у нас, — заговорил Губанов, не ожидая расспросов. — План мы не выполняем, в прорыве рудник. Золота в руде будто меньше стало. Заседаем, обсуждаем, гипотезы придумываем. Комиссия к нам приехала из Северска, у нее свои предположения. А я слушаю всех по очереди и думаю: не по твоей ли это части?
И Губанов подробно рассказал другу о работе рудника, о своих наблюдениях и сомнениях.
— Выводы делать рано, — выслушав Губанова, сказал Ильичев. — Но предположения у тебя реальны.
— Значит, ты нам поможешь?
— Помогу.
— Я и не сомневался, — обрадовался Губанов.
Он вышел в коридор, где висело его пальто, и вернулся с бутылкой шампанского.
— Вот! Другого ведь ты не пьешь, знаю.
Осторожно, без шума открыв бутылку, Губанов налил искристую жидкость в бокалы:
— За нашу дружбу!
Губанов и Ильичев сдружились недавно, как-то сразу и навсегда.
Сближала их любовь к музыке и бесконечное уважение к книге. И познакомились они даже на читательской конференции.
— Скажи, Дима, — заговорил Губанов, пододвигая поближе свой стул и ставя поудобнее ногу, — почему ты стал милиционером? Музыку понимаешь, образование у тебя хорошее, книг осиливаешь столько; читал бы лекции, дальше учился, а ты в милицию...
— У каждого свое, — попробовал отшутиться Ильичев. — Без всего этого, — он обвел рукой комнату, — из меня настоящего работника милиции и не вышло бы!
— Нет, ты все-таки скажи, — настаивал Губанов. — Ты мне теперь друг, через тебя я стал всю милицию уважать, но все равно объясни, как тебя занесло в милицию?
— Ладно, расскажу. Только интересно ли?
— Интересно. Говори.
Дмитрий задумался.
— В армии я был, служил уже последний год. Как-то, помню, увольнительную получил, билет взял в филармонию на хоры, самый дешевый. Слушал Шестую симфонию Чайковского. Музыка небесная. И настроение после нее такое, что хоть пой на улице от восторга. А тут... она.
— Девушка?
— Девушка, конечно! Тоже с галерки, и глаза у нее, вижу, горят, как, наверно, и у меня.
— Красивая?
— Нет, не так красивая, как хорошая! Ясная вся, простая... Провожал я ее часа два, не смейся: жила она далеко.
Запомнил дом. Квартиру она сама сказала. Обещал зайти. Когда распрощались, слышу, по радио так вежливо говорят: «Спокойной ночи, товарищи! Спокойной ночи!»
А мне через весь город топать, и срок увольнительной уже истек. Транспорт в ночную пору почти не ходил, так я вышел на середину улицы и — форсированным маршем: сто метров шагом, сто — бегом.
— Прости, но при чем же здесь милиция?

— Вот тут и началась моя с ней дружба... Слышу, машина сзади идет. Грузовая, с огромной скоростью. Обернулся — фары «газика», а сзади пляшет свет мотоцикла. Несутся как сумасшедшие. «Погоня, — думаю, — убегает кто-то на грузовой!» Размышлять тут некогда, интуиция сработала; расставил руки — и навстречу автомобилю. Шофер тормознул, машина вильнула в сторону и, проскочив мимо меня, опять полный ход набирает. Успел я только двумя руками за борт ухватиться. Забросило меня в кузов или сам прыгнул — не знаю. Тогда уже начал спокойно соображать. Снял шинель, подполз на четвереньках и, перебросив ее через кабину, аккуратно так ветровое стекло шинелью завесил.
Машина сразу остановилась: не видно ничего впереди.
— Ну и молодец!
— Мне так и милиционеры тогда сказали, которые сзади на мотоцикле гнались. Они сразу с двух сторон к кабине: «Руки вверх! Слезайте, граждане, приехали!»
Я им помог двоих, что в кабине были, в отделение доставить. А когда к себе в казарму добрался, уже рассветало. Меня, конечно, сразу на «губу». Первый раз за всю службу.
На другой день дежурный по гауптвахте газету вечернюю показывает. Написали там, что неизвестный солдат, рискуя жизнью, помог милиции задержать двух опасных преступников. И название заметки: «Неизвестный герой». Я дежурному и говорю: «Так это ведь я, Димка Ильичев!»
Тот от меня бегом к командиру...
Пригласил меня тогда начальник городского отдела милиции, которому всю эту историю рассказали, долго водил по своему музею, а потом и предложил после армии идти в милицию работать. И показалось мне тогда дело это таким интересным, умным, что я сразу решился.
— И не ошибся?
— Нет! Сколько бы раз ни выбирал — так же решил бы!
Позднее учился в специальной школе, потом приехал на Дальний Восток.
— А та девушка как же?
— А та девушка... сейчас из кино придет, — с улыбкой закончил рассказ Ильичев.
— Вот оно как обернулось! Тогда, конечно, жалеть не о чем. Повезло тебе, Дима.
— Нет, совсем не прав ты, Василь Михайлович. Главное направление я верно выбрал — и в работе и в... семейных делах.
— Ну, ладно-ладно, не обижайся. Знаешь ведь, уважаю и тебя и Симу крепко. Бог с ней, с твоей милицией, раз тебе по душе. Любишь свое дело, глаза у тебя горят, когда о нем говоришь. А это главное.
Губанов встал, подошел к Ильичеву, обнял за плечи.
— Прости, я мужик, Дима, хоть и инженер, душа у меня простая, грубая. Так что извини, если сказал не то...
— Что ты, Василь Михайлович, все верно сказано, обижаться не на что.
— Пожалуй, мне пора. Сима придет из кино, обними ее от моего имени. А дочке вот шоколадку отдашь. Да скажи, что от дяди Васи!
— Есть, сказать от дяди Васи! — весело отрапортовал Дмитрий и хотел что-то добавить, но резко зазвонил телефон, и он взял трубку.
— Ильичев слушает... Да-да, узнал... Говори, я пойму... Что-о?! Повтори еще раз... Все ясно. Откуда? Знаю, раз говорю. Ты выезжай, а я иду в отдел, там поговорим.
Ильичев повесил трубку и повернулся к Губанову. Заговорил медленно, будто нехотя:
— Вот как получается... Вовремя ты ко мне приехал. Сейчас звонил от вас начальник ОБХСС. Только что закончилась съемка золота. Опять килограмм металла недобрали.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Новый дробильщик сразу всем понравился. Он был весел, трудолюбив, охотно соглашался после смены помочь, если шла крупная руда и ее не успевали пропустить через пасть камнедробилки. Не скрывая своего невежества в вопросах извлечения золота, бродил по фабрике, задавая всем самые неожиданные вопросы. Умел он слушать людей и сам вечно держал наготове острую меткую шутку. Оказалось, что он любит музыку и даже пробует писать стихи. Узнав, что душ на фабрике часто портится, а начальник жилкомхоза Попов не может его наладить и обижается, если об этом говорят на собрании или в рудкоме, новый дробильщик моментально подобрал на пианино в красном уголке мелодию и под общий смех пропел вошедшему Попову куплет:
Что ж ты можешь, Попов, ожидать,
Провожая клиента немытого?
Будут жалобы только от нас,
А на большее ты не рассчитывай!
На третий день уже каждый рабочий фабрики считал новичка своим другом, а группа демобилизованных солдат — ватага хороших парней-комсомольцев, приехавших на Север год назад, — усиленно переманивала его в свое общежитие, обещая сохранить старшинское звание, которое новичок, по его словам, носил в армии.
В субботу он сам предложил начальнику фабрики свою помощь в проведении очередной так называемой генеральной съемки золота, предусматривающей разборку механизмов и снятие крупных деталей бегунных чаш, в которых дробится руда. Такие съемки проводили обычно раз в месяц, их старались приурочить к концу очередного отчетного периода, потому что каждая генеральная съемка давала дополнительно два, а то и три дневных плана по золоту.
Новичок старался больше всех: первым подставлял плечо под самые тяжелые броневые плиты, не боялся серых холодных брызг, которыми окатывали ремонтников уходящие в отвалы эфелей «хвосты» — истертая в порошок порода, растворенная в воде.
Когда разборка чаш закончилась и промывальщик начал осторожно стряхивать и обмывать водой шершавые резиновые коврики с тусклыми песчинками металла, новичок внимательно следил за его ловкими привычными движениями и даже попросил разрешения подойти поближе посмотреть настоящее золото. Он вслух удивлялся, как это промывальщик два часа подряд держит руки в ледяной воде и почему золотники оседают в карманах шлюзов, а не уносятся в эфеля.
Съемка закончилась, золото понесли обжигать в электрическую печь, очищать от амальгамы — обволакивающей песчинки ртути.
Домой веселый дробильщик пошел вместе с промывальщиком, который по дороге сетовал, что руда пошла плохая, золота в ней меньше и план трещит по всем швам.
Новичок на этот раз почему-то молчал, не отпускал обычных шуток и шел немного в стороне, чуть сзади. Когда подошли к поселку, он вдруг как-то сразу рывком взял промывальщика под руку, да так, что у того хрустнуло в плече и при попытке повернуться полоснула острая режущая боль.
— Ты что? Спятил?
— Тихо, детка! Иди прямо, улыбайся, разговаривай. — И опять хрустнуло в плече, обожгло. — Понял? Чтоб людей хороших такой гадостью, как ты, не тревожить.
Тот сник и не решился протестовать...
Так они и шли через поселок рядом, будто в обнимку.
Дробильщик, весело размахивая свободной рукой, что-то рассказывал и, кажется, смеялся... Промывальщик, ничего не слышал, шел как во сне.
Возле столовой их встретили двое парней, пригласили в стоявшую рядом машину. Там они помогли промывальщику освободить карманы и бережно отцепили подвешенный на шнурке тяжелый мешочек величиной с кулак.
Новичок-дробильщик зашел в кабинет директора, рудника, вежливо извинился и положил на стол удостоверение.
Не обращая внимания на документ, директор бросил пытливый взор на стоявшего перед ним человека:
— Простите, мы где-то встречались... Кажется, в районе?
— Да. Капитан милиции Ильичев. Поработал немного у вас на фабрике.
— Это вы... дробильщиком?
Директор растерянно рассматривал перемазанные резиновые сапоги, забрызганную характерной серой грязью спецовку, спутанную волнистую шевелюру этого молодого улыбающегося человека с хорошими теплыми глазами.
— Вы... действительно больше похожи на рабочего фабрики, чем на капитана! — не удержался он, тоже уже улыбаясь.
— Вы уж, пожалуйста, извините, что пришлось обмануть и вас, и рабочих фабрики... Они ни при чем. Народ у вас золотой! Но бывает, что одна ложка дегтя бочку меда испортит!
— Да вы садитесь, — с опозданием пригласил директор рудника.
— Спасибо, потом! А пока... пока ученым скажите, чтобы ехали домой. Нашли мы в чем дело. Промывальщика вашего берем с собой, а изъятое золото взвесим и сдадим в банк, как положено. Изъяли порядочно.
— Ну-у?
— Да. Теперь остается узнать, для кого он старался.
Уже в дверях Ильичев, обернувшись, попросил:
— Пусть на меня начальник ЖКО Попов не обижается за песенку... Все-таки на пользу: сегодня душ уже работает! Обо мне пока говорить никому не надо. Когда-нибудь потом.
— Простите, вы очень торопитесь?
— Да, наша работа по этому делу только еще начинается.
...Задержанный с золотом промывальщик повел себя на допросе неожиданно:
— Виноват кругом... Просить прощения не буду. Дозвольте только еще золотишко сдать, которое я прибрал...
Было уже поздно, почти ночь, но Ильичев, возглавив оперативную группу, снова выехал на рудник.
Не доезжая до фабрики, машина остановилась.
— Здесь, — громко сказал промывальщик.
Он уверенно, не ожидая, пока ему посветят фонариком, пошел к мосту через ручей. Ильичев шел рядом, Доронов — чуть сбоку, остальные — сзади. Промывальщик, согнувшись, полез под мост в узкое пространство, хорошо освещенное лучами карманных фонарей. Отодвинул большой валун, другой, еще несколько...
«За нос водит? — подумал Ильичев. — Но зачем?»
Человек продолжал греметь валунами в студеной воде. Наконец он выпрямился, протянул темного стекла бутылку, чем-то плотно набитую и залепленную.
— Вот и все...
Доронов принял из его рук бутылку и не удержался:
— Ого!
Бутылка весила много, непонятно много.
Открывали ее уже в райотделе. Из узкого горлышка посыпалось серое, похожее на опилки, которые остаются у слесарных тисков после обработки металла, золото. Эксперт, только взглянув, сразу подтвердил:
— Золото... Не успели отжечь...
Ильичев вызвал задержанного.
— Рассказывайте, как вы до такой жизни дошли.
— Нечего говорить.
— Это напрасно. Поступили вы правильно, вернули золото государству. Смелый, честный поступок. Будьте же честным до конца, помогите найти преступников. Я хотел бы верить, что вы попали к ним случайно и у вас есть силы вернуться на прямую дорогу.
Промывальщик слушал внимательно, думал.
— Я жду, — напомнил Ильичев.
— Не знаю я их. Попутали меня, вот и... свихнулся. Оправданий мне нет. А знаю только одного — «Свечой» кличут...
На все фотографии, которые ему показывали, промывальщик отрицательно мотал головой.
— Да-а, трудно с вами разговаривать, — протянув Ильичев. — Не жалеете себя, хуже делаете!
— Знаю. Только мне все равно, — равнодушно согласился тот. — Золото, что взял, все отдал. Обещал за ним Свеча приехать. Больше ничего не знаю, — хоть стреляйте меня вы, хоть он...
То же было и на втором допросе и на третьем.
— Теряем мы время, — говорил Ильичев начальнику ОБХСС Романову. — Каждый час дорог! Придет Свеча за золотом, не найдет своего помощника — и поминай как звали!
Осторожный Романов молчал, догадываясь о рискованном плане Ильичева. Ему, привыкшему много раз все взвешивать, прежде чем принять ответственное решение, была по душе смелость Ильичева. Но он сам никогда бы не пошел на подобный риск...
Ильичев посмотрел Романову прямо в глаза.
— А что если... отпустить промывальщика? Домой, под подписку? Учитывая честный поступок.
Глаза Романова улыбнулись. А Ильичев продолжал:
— Отпустим и присмотрим за ним, подождем, пока Свеча придет. Да что ты молчишь, Владимир?
— Поддержать такой эксперимент не имею права, а возражать... не могу! Смелость города берет. А у тебя ее на двоих хватит.
— Ну, это слишком! Я все-таки попробую попросить благословения сверху.
— Уйдет — будете нести ответственность, самую суровую, — предупредили Ильичева из областного управления. — А вообще заниматься такими опытами опасно.
Дмитрий и сам это знал, но решился.
Подробно проинструктировав двух оперативных работников и послав их вперед для наблюдения, Ильичев попросил привести задержанного.
Тот остановился посреди комнаты, глядя на пол.
— Садитесь, закуривайте.
— Зря вы все это. Ничего не знаю. Хоть стреляйте.
— Вот заладил одно: не знаю. Вижу, что не знаешь!
Промывальщик испуганно поднял голову, опасаясь чего-то нового, неожиданного. Но капитан спокойно сидел, вертя в руках его паспорт.
— Садитесь, пишите расписку, что обязуетесь никуда не выезжать без ведома милиции. Пишите!
Перо медленно скрипело, тихо позванивала крышка чернильницы, дрожал стол.
— Готово? Берите паспорт, езжайте домой, только смотрите! — Ну-ну, что расчувствовались? Идите! А со Свечой больше связываться не надо. И не бойтесь его: такие только пугать умеют.
— Боюсь... — вдруг прошептал промывальщик, глядя вперед круглыми от страха глазами. — Боюсь...
Ильичев почувствовал в душе отвращение к этому человеку. «Запуган или притворяется?» — раздумывал он, еще раз окидывая задержанного внимательным взглядом. Затем торопливо бросил:
— Идите, дежурный посадит вас на попутную машину...
Последующие события наполнили будни районного отдела новой тревогой. На другой день Ильичеву доложили о самоубийстве отпущенного им промывальщика. Застрелился он из охотничьего ружья на берегу горной речушки неподалеку от поселка. Единственная нить, с помощью которой Ильичев рассчитывал размотать весь клубок, неожиданно оборвалась. Было досадно за допущенный просчет, так осложнивший все дело.
Капитан только что вернулся из штаба народной дружины, где долго беседовал с рабочими и инженерами, когда к нему в кабинет вошел начальник ОБХСС Романов.
Сосредоточенный, спокойный, склонный к тонкому анализу событий и скрупулезной четкости во всем, он, пожалуй, больше походил на ученого, чем на милицейского работника. Ильичев ценил его умение делать глубокие правильные выводы.
— Совершенно ясно, что хищение золота — дело рук гастролеров, — неторопливо стал излагать свои мысли Романов. — Причем, если бы вся группа преступников, скупающих и продающих золото, действовала в нашем районе, все было бы проще. Мне думается, что перекупщицами руководят извне, откуда-то издалека...
Ильичев насторожился, почувствовав, что самое интересное Романов еще не сказал. И он не ошибся: интересное действительно было.
— Не нравится мне, Дмитрий, одна телеграмма. Принесла ее девушка-телеграфистка! Посмотри!
Дмитрий взял бланк и прочитал: «Вышли ботиночки размер 30 целую Саня». Отправитель С. Козлов.
Ну что тут особенного? Простая житейская просьбе, и почему вдруг рассудительный и умный Романов усмотрел в тексте телеграммы какой-то скрытый смысл?
— Посуди сам, Дмитрий, какая необходимость из Ленинграда обувь требовать, если у нас она в каждом магазине имеется? И на обратный адрес посмотри. Поселок-то наш указан, а «С. Козлова» у нас в районе нет! Николай, Ефрем, Владимир, два Александра, даже Мефодий есть, а вот имени, которое бы начиналось с буквы «С», нет.
— Оснований для проверки достаточно, — согласился Ильичев. — А для выводов мало! Может, имя этого Козлова Александр, а написал он на телеграфном бланке «Саня». А кого же он целует, кому телеграмма?
— Фамилия получателя знакомая: Полев.
— Что ты предполагаешь?
— Думаю, что это — «Полюшко-поле».
Ильичев удивленно посмотрел на рассудительного и уверенного Романова.
— Откуда же ты знаешь Полюшко-поле? Ведь ты в нашем районе сравнительно недавно.
— Немного знаю, даже видел. Говорили мне, что жил он не по средствам, пьянствовал и пытался покупать у старателей золото то «на зубок», то «на колечко» или просто «на память о Севере».
— Да, хитрый дядька, ключи к нему так и не сумели подобрать.
— А еще знаю, что у Полева в Ленинграде жена, а здесь он путался с другой женщиной, которая вылетела отсюда за несколько дней до него. Как хотите, а телеграмма эта адресована ему...
Дмитрий встал, подошел к начальнику ОБХСС и положил руку на его широкое плечо.
— Надо искать «Саню». Искать немедленно, сейчас же.
«Саню» помогла найти телеграфистка. Вечером в дежурке зазвонил телефон.
— Это я, товарищ дежурный, девушка с почты, — прерывисто шептал в телефон женский голос, — телеграммы я принимаю, понимаете? Телеграммы!
— Спокойнее, спокойнее! Все понял, «девушка с почты»! Дежурный по райотделу вас слушает. Только не торопитесь.
— Саня! Саня здесь! Тот, что телеграмму о ботиночках давал. Скажите скорее товарищу Романову. В ресторане он, один за столиком. Видела его, когда заходила за ужином...
Через несколько минут двое подвыпивших парней вошли в ресторан. Они подошли к столику, за которым сидел рыхлый средних лет человек с отвислыми щеками и старательно зачесанной через лысину прядью волос, поздоровались с ним как со старым знакомым и бесцеремонно уселись на свободные стулья. Человек бросил пронзительный взгляд на развязных парней, но ничего не сказал и занялся едой.
— О-о, коньячок! Лафит шато ля росс!
— Армянский, кажется, — не поняв, отрезал он и вылил остатки в свой фужер.
— Официант, меню! — застучали парни вилками по бокалам. — Быстрее, машина ждет!
Разглядывая меню, они громко спорили. Потом один из ребят сталрасспрашивать официанта:
— Икра кетовая есть?
— Есть, пожалуйста.
— А крабы?
— Баночку или порцию?
— Подожди, подожди. А шпроты?
— Имеются.
— Коньяк какой?
— Есть грузинский, украинский, армянский.
— Тогда два по сто русской водки и щи!
И громко захохотали, видимо, довольные, что потешились над официантом. Неожиданно к столику подошли наблюдавшие эту сцену ребята с красными повязками на рукаве.
— Народные дружинники! — отрекомендовался один и тихо добавил: — Надо потише, нарушаете порядок.
Выпившие парни зашумели еще громче:
— А-а, отдохнуть рабочему человеку нельзя! Мы деньги платим, мы и гуляем!
— Стыдно вам, как купчики, развоевались. Предъявите документы!
Парни покричали еще немного, но извлекли из карманов какие-то бумажки с печатями.
— А ваши документы, товарищ?
Доедавший свои щи рыхлый человек спокойно подал паспорт и как бы между прочим заметил:
— Я к ним не отношусь!
Дружинники вернули паспорт, посоветовали буянам вести себя потише и ушли.
Присмиревшие парни быстро доели щи, опрокинули по полстакана водки и бочком, чтобы никого не задеть, пробрались к выходу.
Человек с отвислыми щеками вновь остался один. Прихлебывая пиво, он глядел поверх людских голов, всецело занятый своими мыслями.
Выйдя на улицу, парни твердой походкой пересекли скверик и вошли со двора в здание райотдела милиции.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В поселке угольщиков всего две улицы. Они расходятся от Дома культуры в разные стороны, поднимаются к входам в шахты, потом падают в низины и снова возникают на другой стороне оврагов. Подальше от центра дома рассыпаны неряшливо и хаотично. Мешая друг другу, они лепятся к подножиям сопок, прячутся в редких рощицах лиственниц, отгораживаются от соседей капустными грядками и картофельной ботвой.
Дом мастера кирпичного завода Александра Серегина Романов нашел сразу.
Зная, что хозяин в этот час бывает на работе, смело постучался в дверь остекленной веранды.
— Кто там? — спросил выглянувший в сени большеголовый худенький мальчик с руками, перепачканными чем-то белым.
— Ты не бойся, я к папе зашел...
— А я и не боюсь! Заходите, дядя, заходите, — приветливо распахнул он дверь.
Романов вошел в комнату и чуть было не опрокинул ведро с известкой.
— Папе помогаю, — торопливо оказал мальчик, заметив недоуменный взгляд вошедшего, — печку белю.
— А ты чей?
— Серегин я. Папа — кирпичный мастер, может, слыхали?
Романов внимательно посмотрел на мальчика. Значит, верно говорили, что у кирпичного мастера есть ребенок. Он невольно опустил взгляд на перепачканные известью детские ноги и сказал с видимым удивлением:
— Ишь ты, вырос! Сапоги-то какой номер носишь?
— Тридцатый. Батя обещал новые купить.
— Вот как! — Романов помолчал, чтобы не выдать волнения. — Ну, а комнату мне не сдадите ли?
— Не знаю, папу спросите. Только он не любит чужих пускать.
— А-а! Ну ладно, я после зайду.
— Заходите, дядя. Заходите!
Домой Романов возвращался расстроенным. Начальник отдела кадров завода и участковый уполномоченный неплохо отозвались о кирпичном мастере: дело знает, спокойный, о сыне заботится, дом содержит в чистоте. Правда, пьет иногда, но это, видимо, с горя: год назад жену похоронил. Ни в каких дурных делах никогда не был замешан.
— И сын у него есть, — докладывал Романов Ильичеву. — Мальчишке лет восемь-девять, в школу ходит.
— И все же от своей версии я не отказываюсь, — твердо закончил он...
Мучительно медленно тянулись дни. Многие часы просиживал Романов над грудами документов, запросов и записей своих бесед с людьми, надеясь найти что-либо, подтверждающее связь Серегина с преступной средой. Но пока это не удавалось.
Ниточка появилась неожиданно. В районное почтовое отделение из Ленинграда поступил телеграфный перевод на имя Серегина.
— Будете перечислять на сберкнижку или аккредитивами? — вежливо спросила девушка, когда заметно полысевший человек протянул в окошко руку с паспортом и бланком перевода.
— Наличными! — ответил тот и улыбнулся, показав при этом редкие зубы.
— У нас такая сумма сейчас и не наберется!
— Не знаю, это ваше дело.
И еще раз улыбнулся.
Девушка подняла телефонную трубку, набрала номер и спросила звонким голосом:
— Это сберкасса? Вы не можете нам по ордеру дать немного денег? У нас на переводы не хватает.
Затем она тщательно пересчитала сторублевки в пачках, более мелкие купюры и нерешительно предложила еще раз:
— Может, часть на сберкнижку?
— Нет!
Стукнула дверь, и возле окошка рядом с Серегиным оказался невысокий молодой мужчина в расстегнутом пиджаке и матросской тельняшке. Взяв бланк перевода, он уселся за маленький столик у окна.
А девушка все подавала и подавала Серегину толстые пачки.
— Девять тысяч... двенадцать... пятнадцать... двадцать пять... тридцать тысяч!
Серегин с безразличным видом распихал деньги по карманам и вышел на улицу.
Человек в тельняшке кивком головы поблагодарил девушку и через минуту тоже покинул помещение почты...
— Теперь нам важно знать, как будут расходоваться эти деньги, — сказал Романов, выслушав рассказ оперуполномоченного Доронова. Он подшил в папку, где уже находилась копия серегинской телеграммы, дубликат телеграфного перевода на тридцать тысяч.
На другой день один из многочисленных запросов поведал Романову о том, что Серегин, вопреки «чистым» документам, был судим и содержался в камере предварительного заключения вместе с Полевым. Голубые глаза начальника ОБХСС сияли, он явно торжествовал: его предположение о причастии Полюшко-поле к хищению золота получило веское подтверждение.
— Ну что ж, посмотрим, что предпримет Серегин, — заключил Ильичев и без всякого перехода предложил: — Знаешь, Владимир, мы заслужили право на отдых. Неделю дома не были! Нет-нет, спать не будем. Мне прислали запись Первого концерта Чайковского в исполнении Вана Клиберна. Послушаем? Чудо делает этот «мальчик из Техаса»!..
ГЛАВА ПЯТАЯ
Стрелки часов показывали четверть одиннадцатого. По широкой Неве медленно полз расцвеченный сигнальными огнями пароход. Навстречу облакам, опираясь на золотой шпиль собора Петра и Павла, плыл в высоте ангел с распростертыми крыльями.
Лопаев шел, не слыша, что говорил ему Полев. Как в пору, когда был мальчишкой, вел он рукой по граниту парапета, опускался к воде по полукруглым лестницам, с наслаждением ощущал на своем лице холодные брызги.
То ли спутник понял настроение Лопаева, то ли убедился, что тот не слушает его, но он неожиданно окликнул шофера проезжавшего мимо такси и, когда машина остановилась, тронул за рукав Лопаева.
— Едем, Григорий Николаевич, в ресторан...
Они сели рядом. Полев удобно развалился и полез в карман за папиросами. Лопаев, прямой и мрачный, смотрел мимо шофера в ветровое стекло на бегущие навстречу, россыпи огней. Его взгляд, равно как и поза, был безразличен ко всему окружающему.
— Курите, помогает, — протянул папиросы Полев. Григорий Николаевич отрицательно покачал головой, но позу не изменил.
Вскоре такси остановилось возле Московского вокзала. Лопаев пошарил в карманах, но ничего в них не обнаружил и горько усмехнулся. Полев небрежно бросил на переднее сидение смятый четвертной.
— Сдачи не надо!..
В ресторане они заняли самый дальний столик в углу. Подозвав официанта, Полев заказал коньяк, шампанское, ликер и что-то из закусок. Когда все это перекочевало с подноса официанта на столик, он налил в бокал понемногу из всех трех бутылок и, тщательно перемешав содержимое, улыбнулся:
— Рекомендую: «Устрица пустыни».
Пил Полев маленькими глотками, с наслаждением смакуя напиток, в то время как Лопаев разом выливал в себя янтарный коньяк и торопливо тянулся к закускам:
— А я вас давненько знаю, Григорий Николаевич, — говорил Полев. — С тех пор, когда вы на драге работали. Честный вы человек, а что толку? Двадцать лет на Севере проработали; а денег-то ни гроша... И жена ваша всю жизнь в нетопленных конторках проторчала. Свежих огурцов, молока свежего вдоволь не ела, а теперь будет суп из соленой горбуши варить. Эх, Григорий Николаевич!..
Лопаев, вслушиваясь в эти слова, никак не мог сообразить, куда же клонит Полев. А тот продолжал:
— Пенсию оформлять надо. Езжайте-ка на Север, да и оформляйте документы. А на обратном пути посылочку захватите. Риска никакого, а деньги вперед плачу. Вот они, — приоткрыл Полев внутренний карман модного пиджака.
— Государство не пострадает, не ворованное золото повезете, старательское, — убеждал он. — Из этого золота врач зубы сделает... Опять людям польза! А за государство не бойтесь: оно свое возьмет...
Лицо и сильная шея Лопаева покраснели, на висках напряженно вздулись вены. Он понимал, что Полев несет чушь, что государство, всю жизнь платило ему и жене огромные деньги, позаботится оно и об их старости. А если действительно не было на Севере вдоволь свежих овощей и молока, то уж в остальном-то они никогда себе не отказывали. Что ни отпуск, то поездка на курорт, не задумываясь, покупали они дорогие пальто и костюмы, хрусталь и ковры.
Не было у Лопаева оснований обижаться на государство и на судьбу, не было. Но разве сможет он удивлять ресторанных официантов изощренностью своего вкуса, не имея в кармане тысяч, многих тысяч? На пенсию не разгуляешься, а от своих привычек он отказаться не может. Он не такой, как все, он имеет право жить. Широко и красиво...
Думая так, Лопаев почувствовал брезгливость к Полеву. Ему захотелось схватить его за лацканы пестрого дорогого пиджака и вышвырнуть в окно вместе с рамами, стеклами, шторами. Он постарался представить, как это могло бы выглядеть, и не удержался от улыбки.
— Чему вы улыбаетесь? — испуганно спросил Полев, отодвигаясь вместе со стулом.
— Деньгам, деньгам, которые у тебя в кармане и которые нужны мне. Деньги мне нужны, понял? Деньги, а не сказки. А что ты — сволочь и меня сволочью считаешь, я знаю.
Полев обозлился, заговорил быстро-быстро, срываясь с хриплого шепота на визгливые выкрики. Между его редкими зубами, покрытыми золотыми коронками, пробивалась слюна.
— Выходит, я — сволочь, а ты — честный! А кто подделал документы, чтоб занизить план? Кто подсунул опробщикам акт на отсутствие золота возле старого моста, а потом установил там списанный промывочный прибор? Вы, инженер-геолог Лопаев! Вот ваша честность. Целый год премии получал, обворовывал государство! Да не только обворовывал, мощности скрывал, экономической контрреволюцией занимался. Да за такое — тюрьма на всю жизнь!..
Это было уже слишком. Действительно, несколько лет назад Лопаев составил фиктивный акт об истощении полигона и подсунул его на подпись опробщикам, но он был уверен, что об этом никто не знает.
Лопаев залпом выпил бокал коньяка, но облегчения не почувствовал. Только новой волной поднялась ненависть к этому брызжущему слюной хитрому и подлому человеку.
— Гадина ты! — бросил он в лицо Полеву. — Гадина и сволочь! Но сейчас меня это устраивает. Покупай билет, давай деньги. Лечу!..
Тут же в ресторане Полев вручил «для начала» Лопаеву пять тысяч, пообещав остальные десять дать накануне отъезда, затем рассчитался с официантом и, растолкав по карманам нетронутые бутылки, тоном приказа сказал:
— Едем на Каменный остров, к моим курочкам!..
Не шатаясь, высокий и прямой, с гордо вскинутой поседевшей головой, Лопаев вышел из ресторана, миновал почти безлюдный зал ожидания и, очутившись на площади, направился к зеленевшим в отдалении лампочкам дежурных такси...
Через четверть часа они уже поднимались по узкой деревянной лестнице старого двухэтажного дома. Лопаев бывал здесь и без труда нашел нужную дверь. Им долго не открывали: вероятно, хозяева спали. Наконец за дверью засуетились; слышно было, как там что-то передвинули, уронили.
Дверь открыла изрядно помятая женщина лет пятидесяти, с дряблым лицом, покрытым толстым слоем крема и пудры. Бросились в глаза ее огромные, будто разодранные ноздри.
— Проходите, проходите, — залебезила она, пропуская мужчин в комнату, именуемую будуаром. — А мы уж и ума не приложим, где это вы пропали...
Через минуту в комнату вошла еще одна женщина — старшая дочь хозяйки квартиры Валентина. Несмотря на красивые глаза и густые волосы, она не была привлекательной. Ее лицо было безжизненно, чересчур вытянуто и напоминало отображение в кривом зеркале, а подсиненные ресницы и фиолетовые ногти подчеркивали бледность кожи.
Дорогое платье с глубоким вырезом на груди делало ее худой и плоской. «Где у других выпуклость, у нее — впадина», — подумал Лопаев, глядя на это откровенное декольте.
Щуря близорукие глаза, к гостям подошла средняя дочь Соня. Она выгодно отличалась от Валентины приятной полнотой ног, мягкостью движений и округлостью форм. Если бы не беспомощный взгляд вечно прищуренных глаз, ее даже можно было назвать красивой. Лопаев знал, что Соня мечтает стать продавщицей в ювелирном магазине. Как и мать, она уверена, что мужчины будут покупать только у нее. И кто знает, не найдется ли среди покупателей драгоценностей принц, который с восторгом предложит ей свою унизанную перстнями руку и пылкое, щедрое сердце.
Это мечты, а пака подслеповатой практикантке торговых курсов не удалось повстречать своего принца, впрочем, получить место продавца в ювелирном магазине тоже.
Младшая дочь Янина, жгучая брюнетка с красными, будто подрисованными щеками и капризными пухлыми губками, была привлекательней своих сестер. Обладая вкусом и изящной фигурой, она умела хорошо одеваться.
Заслышав мужские голоса в будуаре матери, Янина неторопливо вошла туда и, кокетливо улыбнувшись, протянула гостям руку для поцелуя.
Пока Валентина с матерью накрывали стол, позвякивая стеклом и приборами, Соня и Янина развлекали гостей.
Мужская часть обитателей квартиры в этих «приемах» не участвовала. Отец семейства, астмичный усталый человек, работавший кладовщиком большого обувного магазина на Невском, жил отдельно в тесной комнатушке и имел весьма смутное представление о всем происходящем в комнате жены.
Не был посвящен в тайны будуарной жизни и муж Валентины — толстый молчаливый музыкант из ресторанного оркестра. Правда, временами он пытался протестовать против частых ночных отлучек жены, но под потоком отборных ругательств, низвергаемых тещей, отступал, уходил с аккордеоном на кухню и долго наигрывал там мелодии, такие же грустные, как и его настроение.
Завели магнитофон, и сестры, успевшие опорожнить несколько рюмок коньяка, сорвались с мест и пустились в пляс под бешеную какофонию, воспроизводимую таинственным королем рок-н-ролла Эльвином Пресли.
Глядя на переламывающихся в танце женщин, Лопаев подумал, что к утру им уже будет мало пьяной тесноты этой комнаты и, повиснув на руках мужчин, они поволокутся по шаткой лестнице вниз к вызванным по телефону такси — мятые, жалкие, безразличные ко всему окружающему.
Пленка кончилась, сестры вспомнили о гостях и вернулись к столу. Опять зазвенело стекло, и на Лопаева надвинулась стройная черноволосая Янина.
— Душенька, Григорий Николаевич, — нашептывала она, — будьте как дома! — Ее высокая грудь оказалась совсем рядом, и у Лопаева перехватило дыхание. Неподдельная молодость Янины взволновала его, видавшего виды мужчину, чей сын был вдвое старше этой женщины, заставила на время забыть, какую огромную тяжесть взвалил он на свои плечи.
Время шло. Исчезали со стола опорожненные бутылки и появлялись новые, наполненные янтарным напитком. В комнату снова ворвались пронзительные звуки электробанджо, и Полев пригласил Янину танцевать. Неестественно улыбаясь, прижимая свое лицо к ее горящим щекам, он потоптался на месте и вдруг резко оттолкнул Янину от себя. Она изогнулась, раскинула руки, на мгновенье застыла в таком положении, затем, подхваченная Полевым, неестественно переломилась, хлестнула по полу прядями густых волос и выпрямилась.
Пока они танцевали, Лопаев опорожнял один бокал за другим. Пьянея, он пытался восстановить в памяти свой разговор с Полевым и не мог. Не удавалось даже вспомнить, сколько тот обещал ему за поездку на Север.
— Все равно поеду, — громко выкрикнул Лопаев, — мне нужны деньги!..
Его не стали расспрашивать, куда он намеревается поехать, его просто не слушали. Янина в изнеможении упала на тахту и лежала на ней, недвижимая и красивая, в то время как Валентина с матерью осаждали Полева. До Лопаева долетали обрывки их разговоров:
— Возьмите Валю с собой... Возьмите! Она будет звездой Одессы...
— Пусть ее берет муж! Ха-ха-ха!
— Пожалейте девочку... Ради меня!
— Мамочка, не принуждайте его. Он не понимает, он пьян! Сонька, брось свою книжку!
— «...но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами...»
— Душечка, будьте ее Артуром Греем!
— «...смертельно боясь всего — ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи, — она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!»
— Ну их к черту, возьмите в Одессу меня!..
— Здравствуй, дорогая, и прощай! — пропел полевский голос...
Заревел магнитофон, заглушая чей-то плач. Лопаеву стало плохо, он хотел выйти на улицу, но лестница встала на дыбы, и он сильно ударился обо что-то головой...
Очнулся Григорий Николаевич в незнакомой комнате. Полев уже был на ногах и откупоривал бутылку шампанского.
— Вот мы и проснулись, — весело сказал он, протягивая Лопаеву стакан искрящегося вина. — Это помогает...
Лопаев выпил и действительно почувствовал себя лучше.
— Эти... — поморщился он, подбирая подходящее слово, — дамы — наши «союзники»?
— Нет, они для развлечения за деньги. Хотя мать умеет держать язык за зубами. У нее можно кое-что оставлять: хранит вернее собаки. Иногда помогает сбывать золотые коронки. Ее родная сестра делала когда-то крупные дела. Познакомились мы в заключении. Я вышел, а ей еще сидеть и сидеть... Сестрицу она мне передала. За деньги, говорит, сделает все...
— Значит, торгует золотом и дочерьми?
Полев усмехнулся:
— Зачем так грубо? Просто хочет устроить своих девочек. Она даже считает, что мне нравится младшая.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Последнее время редко выпадали свободные вечера. Осунувшийся и озабоченный Ильичев возвращался домой поздно и сразу же заваливался спать. Привыкшая к его вниманию овчарка скучала. Но сегодня хозяин дома мог бы найти время и для своей любимицы. Собака лежала на коврике возле ног Ильичева, терпеливо ожидая, когда он отложит газеты и займется ею.
Внезапно овчарка встрепенулась, быстро перебежала комнату и замерла возле порога. Так бывало всегда, когда к дому подходил посторонний. Дмитрий осторожно выглянул в окно и увидел метрах в двух от двери невысокую мужскую фигуру. Погладив собаку, он спокойно открыл дверь:
— Заходите, чего же стали?
Фигура нерешительно подвинулась, вступила в полосу света, падающую из двери. За спиной Ильичева жарко дышала собака.
— Эльза, на место!
Собака неохотно отступила в глубь комнаты. Дмитрий присел на крыльцо, пригласил незнакомого парня со светлыми растрепанными волосами:
— Садись рядом и выкладывай свое дело. Да оставь ты свой пакет, никто не украдет!
Парень опустил руку, и Дмитрий понял, что никакого пакета у него нет, просто парень поддерживал здоровой рукой другую, обмотанную не то полотенцем, не то тряпкой.
— Ты ранен?
— Есть малость. Ножом меня пырнули.
— Кто?
— Не знаю...
— Идем! Напротив больница, там будем разговаривать.
— Никуда не пойду!
— Ну, это ты дома будешь капризничать. Пошли.
Дежурный врач быстро осмотрел рану и ловко наложил повязку.
— Ранение легкое: повреждена мышечная ткань, — сказал он, закончив перевязку, и добавил: — Вам повезло, молодой человек!
Парень нерешительно зашел вслед за Ильичевым в свободную комнату напротив перевязочной, сел на краешек стула и полез в карман за документами. Дмитрий остановил его:
— Не надо. Сначала рассказывай.
— С прииска я. Старатель. В прошлом году по комсомольской путевке приехал. Зарабатываю прилично, матери помогаю. Вчера на тыщу рублей золота сдал. За неделю намыл...
— Да ты говори, говори, не бойся.
— Уговаривает меня один человек золото продать. Говорит, что заплатит в два раза больше, чем в кассе. На зубы, мол, нужно.
— Ну, а ты?
Парень обиделся.
— Разве ж я на такое пойду? Чай, человек советский, да еще комсомолец... А на зубы золото в поликлиниках продают.
— Так ты ему и сказал?
— Так и сказал. Он дураком меня обозвал, а потом пугать стал: «Перо, говорит, тебе вставим. Нас много». Я ему: «Врешь, сукин сын! Это нас много!»
— Молодец парень!
— А потом уж я ему непотребное сказал. Словом, не выдержал...
— Надо было нам сообщить, — заметил Ильичев.
— Неловко, вроде, жаловаться.
— Чудак, это же не товарищ, а враг.
— Теперь-то понимаю. А тогда не сработало соображение.
— Ну, а как он тебе руку-то?
Парень смутился:
— Сам виноват. Когда он деньги мне предложил, я ему... р-раз!

Дмитрий не удержался от смеха.
— Дал я тогда крепко, он сразу же убрался. А сегодня выхожу из дому, а меня из-за угла ножом... Даже не рассмотрел в темноте кто.
— А разве не тот?
— Не-ет! Тот был здоровый, руки длинные и голова очень большая, а этот вроде поменьше.
— В лицо его узнаешь, если встретишь?
— Нет, не узнаю!
— А как же ты меня ночью разыскал? Почему не в милицию обратился?
— Видел я днем вас с дочкой на крыльце дома. Вот и решил идти прямо к вам. Небось дежурный такими серьезными делами не занимается...
— Верно, брат, дело серьезное! Ну, а зовут-то тебя как?
— Павел.
— Что же ты будешь делать, Павел, если опять придет тот головастый?
— Да я ему!..
— Постой, постой! Однажды это уже было, а что толку?
Парень помрачнел.
— Ну дашь ему по шее еще раз, а он тебя ножом опять ткнет. Или спугнешь его, а нам он, ой, как нужен!
— Понимаю, а смекнуть не могу. Что же мне делать?
— Хочешь оказать нам большую услугу?
— Ой, да вы еще спрашиваете!
— Не сдрейфишь?
— Не заробею! Все сделаю, честное комсомольское!
— Ну, тогда слушай внимательно...
На столе у Ильичева лежал большой список Лопаевых. «От кого же из них получил кирпичный мастер денежный перевод?» — размышлял Дмитрий. В обратном адресе значилось: «Лопаев Григорий Николаевич, Ленинград, Главный почтамт. До востребования».
В Ленинграде Григориев Николаевичей Лопаевых оказалось несколько десятков, в Москве — еще больше. Как вот тут найти нужного Лопаева? А найти его следовало непременно, в этом Дмитрий не сомневался.
— Опять не тот! — огорченно зачеркнул Доронов еще одну фамилию. — Год рождения 1921-й, демобилизовался из армии и вернулся в Ленинград неделю назад. Не подходит.
— Очень хорошо, — подхватил Ильичев. — Как у Ильфа и Петрова: «Наши шансы увеличились. Заседание продолжается...»
И они вновь углубились в документы.
— Этот! — уверенно выпалил Доронов, зачеркнув еще десяток фамилий. — Лопаев Григорий Николаевич, инженер-геолог. Работал в наших краях, прописался в Ленинграде год назад. Он!
— Может быть, но список будем смотреть до конца. Отложи его материалы в сторону.
Когда изучение списка было закончено, Ильичев приказал:
— Отправляй немедленно срочные запросы в областное управление внутренних дел, во все районные отделы области... Ленинград и Москву. Нам необходимы все данные, какие есть. Не забудь запросить предприятия, где работал Лопаев. Со всеми сведениями — ко мне!
Сведения начали поступать на другой день.
Ильичев с получением каждой новой бумажки все более мрачнел.
С прииска, где Лопаев несколько лет проработал начальником драги, пришла самая лучшая аттестация: «Волевой, опытный инженер-геолог, умелый организатор. Награжден грамотами за перевыполнение плана добычи золота...»
Администрация другого прииска сообщила, что Лопаев в бытность свою начальником участка проявил себя своевольным руководителем, грубил рабочим, что, однако, не мешало, его участку быть лучшим на прииске.
Все остальные служебные характеристики ничем не отличались от этих.
— Если по физиономии судить, — рассуждал Доронов, вертя в руках фотографию Лопаева, — то его впору министром назначать. Выгодная внешность. Странно, чтоб такой пошел на преступление. Зарабатывали с женой много, квартиру в Ленинграде сохранили. Сын в академии учится. Пенсию должен получить. Непонятно, что еще человеку нужно?
— Все это так, — резонно заметил Ильичев, — но заняться им надо. Мало ли какие мотивы могут тут быть!
На столе требовательно зазвонил телефон.
— Капитан Ильичев слушает!
Видимо, сообщали что-то очень важное, так как лицо Дмитрия посуровело, а пальцы левой руки стали что-то машинально выстукивать по столу.
— Спасибо, спасибо, дорогой! На чай приедем обязательно. А ты уж там встречай гостя получше!
Ильичев положил трубку на рычаг и, повернувшись к Доронову, сказал:
— Только что самолетом из Ленинграда прилетел инженер-геолог Лопаев...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Приисковый врач разрешил молодому старателю Павлу Алешкину выйти на работу.
— Только смотри, первые дни на левую руку сильно не нажимай, а то опять на бюллетень посажу! — пригрозил он.
Прыгая через ступеньки, Павел одним духом спустился вниз, на главную и единственную улицу поселка, и широко зашагал к конторе.
— Здоров, как бугай, — весело сообщил он в отделе кадров, сдавая больничный лист. — Утром подамся в тайгу, к своим ребятам! Небось они меня уже и с довольствия сняли.
— Не шути, — строго посмотрел поверх очков начальник отдела кадров. — Ты болел, а они от твоего имени золото сдавали.
— Ну?
— Вот тебе и «ну», — довольно передразнил Павла пожилой кадровик.
Ждать утра Павел не стал.
Прямо из конторы зашагал узкой тропой к распадку, где трудились товарищи. Отбиваясь от мошки, он прыгал по набухшим кочкам, не выбирая брода, зачерпывая голенищами холодную воду, переходил ручьи. На вершине перевала осмотрелся и быстро побежал вниз по узкой тропке, змейкой уходившей к шумному горному потоку.
Он шел уже третий час. Вот-вот впереди покажутся пирамиды пустой породы, а там до участка рукой подать. Уже и зимовье видно у подножия заросшей сопки. От него до места два километра...
Внезапно на пути зашевелились, закачались темно-зеленые мохнатые ветки стланика, хрустнул сучок, и перед Павлом вырос высокий человек с длинными руками и большой головой.
— Не оглядывайся, там тоже свои, — громко сказал человек. — Садись, толковать будем.
Павел послушно сел на валежину.
— Ну, одумался? Рука-то прошла?
— Прошла, на работу иду...
— Работа погодит. Слушай, последний раз говорю. В субботу принесешь мне золото. Плачу хорошо, вдвое против кассы. Все не приноси. В кассу сдавай часть, будто все как надо. Рассчитываюсь сразу. А не принесешь золото или пикнешь кому, тоже... сразу. Теперь знаешь, что я зря не говорю.
Павел молчал, настороженно поглядывая на этого страшного человека.
— Что не понял, спрашивай. Не увидимся долго. А пока вот тебе бумага, карандаш, пиши: я, такой-то, получил авансом за золото, которое покупает у меня Николай Свеча... Да-да, Николай Свеча... пятьсот рублей...
Павел писал медленно, никуда, кроме бумаги, не глядя. Пальцы слушались плохо, карандаш два раза ломался.
— А за то, что ты мне тогда съездил малость, я прощаю. Квиты мы... А смелых я люблю!
Павел поднял голову, хотел встать, но Свеча сунул руку в карман:
— Не дури! А то я из тебя мигом отбивную сделаю!
— Я ничего... Просто так...
— То-то! Это первый раз ты как дикая лошадь. Потом пообвыкнешь, еще друзьями будем!
Свеча внимательно прочитал написанную Павлом бумажку и сунул ее в карман.
— А песочек, который для меня отложишь, с собой не носи! С золотом недалеко и до беды... Я сам тебе скажу, куда принести. Ну, бери деньги. Не бойся, они настоящие!
Павел медленно запихнул мятые кредитки в карман и, буркнув на прощание что-то невразумительное, двинулся дальше.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мысль, что он попал в лапы опытного авантюриста, уже не угнетала Лопаева. Главное, он опять имел много денег. И Лопаев тратил их, не считая и не задумываясь о возможном возмездии. Он кочевал из одного ресторана в другой, ездил в компании сомнительных парней и девиц за город, поражал шоферов такси щедрыми «чаевыми».
— На Севере сто рублей — не деньги, — привычно говорил он, замечая при этом алчный блеск в глазах своих накрашенных попутчиц.
Правда, случались и неприятности. Стоило ему однажды пригласить в ресторан «Поплавок» двух девушек, судя по всему студенток, как они мгновенно возмутились и свернули в первую же аллею Кировских островов.
Потом немолодая скромная женщина с печальными глазами, которая после спектакля в театре эстрады согласилась подъехать с ним до дому на такси, остановила машину и вышла на безлюдной набережной Мойки, едва он попытался положить ей голову на плечо.
После этого Лопаев стал остерегаться незнакомых к все чаще ездил с Полевым в старый деревянный дом, где им всегда одинаково ласково улыбались и хозяйка квартиры и ее дочери.
Один раз они застали там прилизанного черноволосого юношу с мягкими кошачьими повадками.
Он любезно поздоровался с Лопаевым, но опасливо взглянул на Полева, который был явно недоволен этой встречей.
— Адика надо пожалеть, — засуетилась хозяйка. — Он, бедненький, провалил сегодня экзамен, его могут исключить из института.
— О-о! — закатил глаза Адик, и девицы наперебой стали тянуть его танцевать.
«Из молодых, да ранний! — зло подумал Лопаев, наблюдая, как тот обхаживал мать и пренебрежительно смотрел на дочерей. Этому не до гранита наук».
Когда после выпитого коньяка Лопаев почувствовал привычное безразличие ко всему происходящему, он услышал, как Полев тихо сказал юноше с прической Тарзана: «Тебе здесь делать нечего!» Тот сразу встал, перецеловал всем женщинам ручки, объясняя при этом, что его ждет «маман» и что он должен готовиться к экзаменам. От дверей он мило улыбнулся Лопаеву и послал всем несколько воздушных поцелуев...
Этот же вертлявый молодой человек неделю спустя провожал Лопаева. Когда объявили посадку на самолет, он передал геологу пачку денег и обратный билет, блеснув при этом широкой улыбкой:
— От шефа. Он желает вам счастливого путешествия!..
Загудели моторы, и самолет зарулил на взлетную полосу. Уже в воздухе Лопаев нащупал в кармане пиджака какой-то твердый предмет. Это была записная книжка Полева, невесть как оказавшаяся у него.
В книжке были записаны чьи-то телефоны и адреса. Вместо имен стояли инициалы. Впрочем, в адресах тоже трудно было разобраться: значились номера домов и названия улиц, города же не указывались. От скуки Лопаев стал гадать, где могла оказаться Пушкинская улица: в Москве, Ленинграде или Одессе? А Приморский бульвар?.. Попадались адреса, где по названиям улиц, можно было без труда установить, в каких городах они находятся: Крещатик, Дерибасовская, Арбат...
В пути Лопаев не пил. Голова опять стала ясной. Рослый, по-мужски красивый для своих пятидесяти с лишним лет, он твердо сошел по ступенькам трапа и направился в гостиницу.
Администратор аэродромной гостиницы, невысокая худенькая женщина, растерянно посмотрела на хорошо одетого, тщательно выбритого пожилого мужчину и развела руками:
— Извините, но отдельных номеров нет. У нас их два и оба заняты. Я вас в двухместный помещу, а потом, может быть, что-нибудь сделаем...
Она засеменила по коридору, открыла дверь номера, засуетилась возле кровати:
Лопаев поставил на пол сияющий лаком чемоданчик, бросил на стул широкое, светлое пальто, спросил:
— Телефон у вас где?
— В зале ожидания и у администратора. Пожалуйста, где вам удобнее.
Вернувшись в комнату администратора, Лопаев снял телефонную трубку и назвал номер. Ему ответил мужской голос.
— Отдел кадров? Здравствуйте! Лопаев. Да-да, я. Пенсию прилетел оформлять, прошу подготовить мне бумаги. Нет уж, сегодня не ждите. Завтра!..
Он заплатил администратору за неделю вперед и с аппетитом поужинал в уютной аэропортовской столовой. Когда вернулся в гостиницу, дверь номера была приоткрыта.
— А-а, директор! Мое вам!..
С соседней кровати навстречу Лопаеву поднялся неряшливо одетый молодой мужчина.
— Я не директор, — сухо оборвал Лопаев. — Я — геолог!
— И геолог — человек, — не унимался беззастенчивый сосед, обдавая Лопаева густым сивушным запахом. — А я — бурильщик!
Потом безо всякого перехода поманил Лопаева пальцем, показал на столик перед кроватью и спросил:
— Может, выпьешь, геолог, «Московской»?
Не получив ответа, мотнул головой, завалился прямо в одежде на кровать и вскоре захрапел.
Лопаев вышел на крыльцо, закурил. Северная летняя ночь показалась ему холодной. Откуда-то издалека доносился рокот бульдозера, временами по ту сторону летного поля виднелись светлячки автомобильных фар.
Почувствовав озноб, Лопаев вернулся в номер. Его сосед мирно спал, а Лопаеву уснуть не удавалось. Он долго ворочался с боку на бок, курил папиросу за папиросой, но сон не приходил. К тому же его лихорадило.
«Скорей бы уже утро», — подумал Лопаев. Такого с ним не случалось никогда: он боялся темноты...
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Перемена в Павле Алешкине взволновала его товарищей. Простой, общительный парень стал молчаливым, выбирал себе самые дальние участки, будто сторонился людей, по субботам в поселковом клубе больше не появлялся.
«Боится», — решили они и поручили соседу Павла по комнате поговорить об этом в милиции.
— Неладно с парнем, — заявил тот Ильичеву, — уж не запуган ли? Найти бы того бандюгу, наказать примерно...
— Найдем, обязательно найдем! — успокоил старателя Ильичев. — И не надо о Павле тревожиться. До беды не допустим...
А в это время Павел Алешкин медленно брел по тропе, ведущей с полигона к поселку. Он заметно осунулся, густые пышные волосы потеряли свой золотистый блеск. Рана на руке зажила и перестала беспокоить, но тревога, затаившаяся где-то глубоко в душе, не оставляла его ни днем ни ночью. Золотой песок, отложенный Павлом для передачи Свече, был надежно спрятан неподалеку от общежития, но всякий раз, когда Павел видел, как мимо того места проходили люди, у него пересыхало во рту и выступал на лбу пот. Ему казалось, что кто-нибудь обязательно найдет спрятанное золото и люди скажут Павлу: «Вор».
Даже матери своей он перестал писать. Да и как напишешь ей, если на душе у него нехорошо...
На подходе к поселку Павла догнал заведующий столовой Ковач.
— Что, паря, один? Меня пригласил бы, что ли, золото нести, дорого не возьму.
— Нет у меня золота...
— Нет и не надо! Я к золоту равнодушен. Другое дело — вино!..
Павел с завистью поглядел на веселого бесшабашного заведующего столовой. Живет же человек — ни забот, ни хлопот!
— А ты, Павел, почему хмурый? Зашел бы к нам, глядишь, и развеселили бы. Без хлопот живем — я, сеструха да промывальщик Гудов. Знаешь его?
— Знаю. Хороший человек, хоть и старый.
Ковач расхохотался:
— Как так: «хоть и старый»?
— Да я не про то. Не нудный он, как другие. А работать, поди, на прииске каждого инженера учил!
— Ну вот и заходи! У нас по-простому, без долгих сборов.
И Ковач весело засмеялся.
Подошли к дому Гудова.
— Так зайдем, что ли?
— Можно и зайти!
Павел вытер у двери сапоги, скинул запыленную брезентовую тужурку, шагнул через порог.
— Милости просим, — по-старинному поклонилась ему уже немолодая женщина с повязанными густыми волосами и блеснула глазами. — Всегда гостям рады!
— Сеструха моя, Нюрка, — пояснил Ковач. — А это — Павел, старатель. Самый молодой и красивый, — тут же добавил он и захохотал, глядя на смущенного парня.
Павел неловко сунул Ковачу деньги, и тот сразу ушел. Анна проворно захлопотала у маленького стола под чистой белой скатертью, зазвенела тарелками, стаканами, вилками. Получалось у нее все ладно, красиво, так, что Павел, засмотревшись, улыбнулся.
— Кузьмич-то у нас в тайге, не придет сегодня, — певуче затоварила женщина. — А вам небось приелось все столовское? Брат у меня в столовой работает, а все норовит дома закусить...
Стол был уже накрыт, когда вернулся Ковач.
— Ай да сестра! — воскликнул он, потирая руки. — Ну прямо колдунья! Как разукрасила...
Ловко выбив пробку, он разлил водку в стаканы: себе и Павлу до краев, сестре наполовину и загнусавил, умело подражая попу:
— Да простит господь бог грехи наши! И монаси ее приемлють!
Павел быстро выпил, зажмурился, поддел вилкой плотный соленый грибок.
— Закусывайте, закусывайте чем бог послал, — угощала женщина, придвигая к Павлу тарелки.
Павел жадно ел, стараясь заглушить действие спиртного. К тому же все действительно было вкусным. А Ковач между тем без умолку говорил и говорил:
— Любил я в детстве подшутить над попом, что у нас в селе жил. Никто его не уважал за распутство и пьянство. А уж злой был — ужас. Коли поймает в саду, пропал, паря. А мы все равно яблоки у него воровали. Ну так вот. Однажды мужики меня научили. Пойди, говорят, покайся всенародно, что яблоки воровал да на чердаке стекла из рогатки бил. Да сделай так... Ну и втолковали мне, что сделать надобно. Поцеловал я отцу Паисию руку: простите, говорю, готов признаться во всех грехах всенародно.
Вывел он меня на амвон, обращается к верующим: «Слушайте отрока! Глаголет его устами истина!»
Я, как меня мужики научили, во весь голос и брякнул: «Знайте, мужики, все ваши дети рыжие — отца Паисия заслуга!» Шум поднялся, свалка. Бить меня начали. Сам я так и не понял тогда, в чем дело.
Позже меня те же мужики пить научили, красть стали заставлять. Надо же, сколько на свете хороших людей, а я попал к таким...

— И крал?
— Крал. Отца с матерью не было, бабка из дому выгнала. Потому, паря, из меня человека не вышло!
Павел удивился: как это не вышло? Заведующим столовой работает, живет ничего... Опросил нерешительно:
— А жены, детей нет?
— Умерла жена. А новой не завел. И какая со мной жить будет? Пустоцвет я, только пить да байки рассказывать умею... Непутевый...
— Так вы бы попробовали... не пить.
— Э-э, куда там! Пей, паря, пока можешь, все равно жизнь пропащая.
Ковач опять потянулся к бутылке и, обнаружив, что она пустая, грубо крикнул:
— Нюрка!
Та тихонько вошла, остановилась, опустив глаза.
— Неси еще, Нюрка! Не видишь?
И Ковач длинно выругался.
— Как же это на сестру так, — попробовал вступиться за Анну Павел. — За что?
— Сестра... какая она мне сестра?..
Больше Ковач ничего не сказал. Былая его веселость исчезла. Теперь перед Павлом сидел грубый, обозленный чем-то человек.
Оживился он только тогда, когда Анна принесла вторую бутылку...
Улучив момент, когда Анна вышла, а Ковач, захлебываясь в пьяном плаче, уронил на стол голову, Павел осторожно вышел из комнаты. Нащупал у дверей свою куртку и, пошатываясь, побрел к дому.
«Стыдно пьяному ребятам показываться», — подумал он и, крепко держась двумя руками за лестницу, с трудом забрался на чердак общежития.
Проснулся он поздно. В комнате общежития его ждал Ковач.
Поздоровавшись с Павлом, он спросил:
— Должок принес, паря?
— Какой должок?
— Забыл уже? Я бы тоже рад забыть, да не получается! Смотри...
Ковач вынул из кармана бумажку, развернул ее, и Павел увидел расписку, которую он дал тогда Свече в лесу.
— Что, удивился? То-то, брат! Не горюй — привыкнешь! Это только поначалу страшно... Свеча тебе верит, говорит, что парень ты дельный. Придешь вечером в столовую, выберешь минуту, передашь золото мне. Заходи со двора.
Павел с недоумением смотрел на этого человека. Вот тебе и весельчак! Как же ошибаются в нем люди! За внешней нарочитой веселостью заведующий столовой прячет свою звериную сущность.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Когда Лопаев проснулся, его сосед был уже на ногах. Бурильщик долго извинялся за то, что накануне «на радостях» перебрал.
— На свадьбу к брату лечу, — объяснил он, — алмазы он добывает...
Бурильщик увязался с Лопаевым завтракать. Виновато выпил бокал шампанского, а потом стал восторженно рассказывать о своих друзьях, которых накануне где-то потерял.
Не огорчаясь молчанием геолога, он проводил его до автобусной остановки, дождался автобуса, идущего на прииск, и крикнул Лопаеву:
— Если не улечу, вечером встретимся!..
Маленький автобус быстро бежал по горной дороге, подскакивал на выбоинах, громко сигналил на крутых поворотах.
Обогнув очередную сопку, он покатился круто вниз, туда, где шумела среди валунов горная речка. Впереди открылась широкая долина. Между старыми, местами заросшими травой отвалами Лопаев увидел драгу. «Вот и здесь уже работает драга, — подумал геолог, — а когда-то пески тут тачками перевозили».
Автобус перебрался через речку и стал подниматься на единственную улицу поселка.
В отделе кадров его встретили радушно. Отложив все дела, подняли старые приказы, стали делать выписки.
— Вы посмотрите, дорогой Григорий Николаевич, — говорил начальник отдела кадров, перебирая бумаги, — как мы вперед шагнули! Прииск-то не узнаете: дома новые, школа-интернат, клуб. Народный театр имеем. Чехова, голубчик, ставить будем!..
Лопаев слушал безразлично, но постепенно энтузиазм начальника отдела кадров стал увлекать и его. Да и можно ли было оставаться равнодушным ко всему, что касалось прииска, где геолог проработал столько лет?!
— Вы, голубчик, производством поинтересуйтесь. Помните, раньше твердили: истощается золото, запасов нет... Дудки! Нашли запасы! Ну и люди, конечно, сейчас другие...
В кабинет нерешительно вошли двое рабочих. Их лица показались геологу знакомыми.
— Мы не помешали?
— Нет, нет, заходите. Характеристики готовы. — И, обращаясь к Лопаеву, начальник отдела кадров объяснил:
— В институт товарищи поступают. Заочно.
— Инженер нас знает. Работали мы у вас, Григорий Николаевич, помните?
Ну да, это те парии, которые никак не хотели идти на шурфовку полигонов, а рвались на драгу.
— Помню, как же! Вы еще хотели на другой прииск уйти, когда на драгу вас не пустил...
— Верно, — обрадовались оба. — Значит, помните!..
Лопаеву вдруг захотелось поговорить с этими добродушными парнями, похлопать их по-приятельски по плечам, но он смолчал и, не дождавшись, когда освободится начальник отдела кадров, вышел в коридор. Потолкавшись без дела в тесных комнатах приисковой конторы, геолог заглянул к кассиру, перебросился парой слов со знакомым электриком, угостил папиросами вахтера, служившего в этой должности с первого дня существования прииска, и пешком двинулся к районному центру.
— А у вас новый сосед, — любезно сообщила дежурная, когда геолог вошел в вестибюль гостиницы. — Спокойный, серьезный, в Москву в командировку летит.
В номере Лопаев увидел светловолосого плотного мужчину с большим выпуклым лбом и светлыми, чистыми глазами.
Он встал со стула, вежливо поздоровался, назвал себя и предложил геологу свежие газеты. Но Лопаев, не склонный продолжать разговор, наскоро разделся и лег в постель. Сосед почитал еще немного и тоже стал укладываться. Утром он сделал зарядку и тщательно вымылся до пояса студеной водой.
За завтраком съел булку со сливочным маслом и выпил два стакана какао.
— Сухарь, — подумал геолог. — От такого жена сбежит.
До прихода автобуса было еще много времени. Лопаев подошел к стоявшему в стороне легковому «газику» и открыл дверцу:
— До «Гордого» подбросишь?
— Некогда, самолет жду.
— Тут недалеко, а самолетов раньше двенадцати не будет.
— Не могу!.. — отговаривался шофер.
— Сколько? — спросил Лопаев, вынимая из кармана бумажник.
Водитель скосил глаза на крупные бумажки и сказал:
— Пятьдесят.
— Поехали!..
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Вечером у Ильичева собрались все оперативные работники. Такие летучие совещания последнее время проводились довольно часто. Быстро подводили итоги сделанному, намечали мероприятия на ближайшее время, и люди расходились по своим местам.
— Прошу еще раз всех продумать, все ли мы предусмотрели, не могли ли прозевать встречу Лопаева с кем-то из поставщиков, — обратился Ильичев к собравшимся, постучав карандашом по разложенной на столе карте района. — От самолета до гостиницы геолога провожал оперуполномоченный.
— Совершенно верно. Лопаев никуда не отходил, ни с кем не разговаривал.
— Потом его взял на себя Доронов, — продолжал анализировать капитан милиции.
— Точно, — поднялся с места человек, в котором Лопаев мог бы без труда узнать ночевавшего в его номере бурильщика, — Лопаев никуда не отлучался. Всю ночь курил, не спал. Я его проводил до автобуса и сдал двум нашим ребятам. Ночью в гостинице Лопаева «принял» Романов, а утром передал нашему шоферу, который довез его на «газике» до прииска...
— Что же выходит?
— Выходит, что инженер-геолог Лопаев действительно прибыл к нам для оформления пенсии! — заметил Романов, и на лицах милицейских работников появились улыбки.
— Нам сейчас не до шуток, — строго оборвал Ильичев. — Трое суток Лопаев находится на наших глазах, а расследование не продвинулось ни на шаг. С Лопаева глаз не спускать! Но это не значит, что мы можем отвлечь свое взимание хотя бы от одного человека, подозреваемого в хищении или продаже золота. Ясно?
— Ясно.
— Сейчас уже два часа ночи. Тот, кто имеет возможность отдыхать, пусть отдыхает. Остальные — за дело!
Через час Ильичев зашел к Романову обсудить только что полученное сообщение. Оказалось, что под кличкой «Свеча» скрывается рецидивист Огаркин, делами которого Ильичев и Романов интересовались давно.
— Страшен?
— Да-а!
С фотографии на них смотрел человек с изуродованным шрамом лицом, выпирающей нижней челюстью.
— Квазимодо, да и только!
— Да, матерый волк! Таких, как Огаркин, осталось не так уж много. Этот действительно может доставить немало хлопот!
— Слухи о нем разные, — добавил Романов, — поговаривают, что он осторожно скупает и перепродает золото. Имеет связи с «материком». Если это правда, то «работает» он ловко. Людям же твердит, что «завязал» окончательно. Я и сам был склонен думать, что подозревают его только из-за биографии, а тут — неожиданные новости...
— Как же теперь быть? Трогать Огаркина пока нельзя: улик у нас мало, выскользнет Свеча. А времени для обдумывания нет; завтра Огаркин улетает на «материк». Говорит, к врачам, на исследование, — сказал Ильичев.
— А может, «товар» повезет?
— Насколько нам известно, золота у него сейчас нет. Но оно может появиться...
— У меня есть план, товарищ капитан! — ясные, голубые глаза начальника ОБХСС смотрели прямо и твердо. — Разрешите действовать...
Как только диктор объявил о посадке, многолюдная пестрая толпа отлетающих и провожающих пришла в движение, заволновалась, зашумела.
— Берегите себя, папочка, — быть может, в двадцатый раз напутствовала молодая миловидная женщина худенького старичка в пенсне.
Шустрые черноволосые близнецы, которым вместе было едва ли более десяти лет, отчаянно вырывались из рук матери, стремясь поскорее забраться в «настоящий» самолет.
Огаркин, неуклюжий и громоздкий, держался в стороне от всех этих командированных и отпускников. Он последним вошел в кабину самолета и, заняв первое от входа место, откинул спинку кресла, удобно уселся и устало смежил глаза. Тяжелый «ИЛ» плавно оторвался от стартовой дорожки и, развернувшись над грядой сопок, взял курс на запад.
Мерно шумели двигатели. В кабине было уютно. Стюардесса разносила горячий кофе с пышными булочками, лимонад, конфеты. Постепенно пальто, плащи, пиджаки, жакеты переместились на общую вешалку в хвосте машины. Пассажиры сразу стали выглядеть по-домашнему.
А внизу тянулись похожие на застывшие волны горные хребты, поблескивали змейки извилистых таежных рек.
Когда высотомер показал три с половиной тысячи метров, из кабины выглянул второй пилот. Вероятно, он хотел узнать, как себя чувствуют пассажиры. По спокойным лицам спящих и бодрствующих было видно, что люди чувствуют себя хорошо.
Но вот мирно дремавший старичок беспокойно заворочался, оглядел кабину и стал что-то искать в своих многочисленных карманах. Потом, держась двумя руками за кресла, он прошел к вешалке, где среди других висело и его пальто.
— Часы... Часов нет, — стесняясь, сбивчиво объяснил старичок подошедшей стюардессе, протирая зачем-то пенсне.
— Может, дома оставили?
— Нет, что вы, из кармана исчезли...
— Посмотрите еще раз!
— Извольте сами взглянуть: нет часов...
Пассажиры выражали свое отношение к случившемуся по-разному.
— Пригрезилось старичку, — возмущалась немолодая дама, размахивая руками в кольцах.
— Черт знает что, — не удержался мужчина в форме горняка. — Не выпрыгнули же из самолета ни часы, ни вор!
— Вызвать милицию!
— Милицию вызвать трудно, — рассудительно заметил молодой парень в косоворотке. — На три с половиной километра поднялись мы над милицией!
— Путает старичок, — поддержал даму ее попутчик. — Ошиблись, папаша!
— Позволю вам возразить: часы действительно исчезли...
— Пусть нас, наконец, обыщут! — взорвался парень в косоворотке. — Воры мы, что ли?
— Верно, верно, — заволновались другие. — Пусть нас обыщут!
— А старика наказать за клевету! — визгливо заключила дама с кольцами.
Огаркин молчал. Его совершенно не тревожило случившееся, с полным безразличием глядел он на старичка и суетившуюся около него стюардессу. Однако, когда самолет подруливал к аэровокзалу, где его поджидал вызванный по радио наряд милиции, Огаркин подошел к плотному мужчине в полувоенном кителе, пристально посмотрел в его открытое добродушное лицо, будто вспоминая, где он его видел, и сказал:
— Передайте оперативникам. — пусть обыщут меня. Они вас послушают. — Потом тихо добавил: — Я ведь все понимаю...
Двое милиционеров пригласили Огаркина в дежурную комнату. Туда же носильщик доставил его багаж. Остальными пассажирами никто почему-то не стал интересоваться...
Вскоре Огаркин и плотный мужчина в полувоенном вновь появились на летном поле.
— Насчет часов у вас ловко вышло, — сказал улыбающийся Огаркин спутнику. — Хорошо придумали? Только я сразу понял, что все это разыграно для того, чтобы без шума пошарить у меня в вещичках. И вас я приметил, товарищ начальник!
Огаркина буквально распирало от удовольствия:
— За заботу обо мне спасибо! Теперь вы знаете, что золото я не везу. Не занимаюсь этим, бросил...
Романов тяжело переживал неудачу. Казалось, все было предусмотрено, продумано — и вдруг такой просчет.
— А враг оказался умнее, чем мы думали, — сказал Ильичев после доклада начальника ОБХСС. — Обошел нас Огаркин, не удалось «потушить» Свечу. Продолжает чадить...
— Если верны наши данные, Свеча должен скоро вернуться. Будем готовы его встретить.
— Ну, а что нового слышно о Лопаеве? — спросил Ильичев, обращаясь к Доронову.
— Инженер-геолог по-прежнему ездит по приискам и участкам, собирает документы для оформления пенсии. Никаких подозрительных встреч не наблюдалось.
— Может, совесть в нем заговорила? Потому и не решается пойти на преступление.
— Возможно. И такое бывает в наше время. Но мы не смеем поверить в его перерождение, пока не проверим десять, сто раз...
На другой день стало известно, что накануне своего отъезда Свеча-Огаркин пытался скупить у старателей золото, но потом почему-то перенес срок «аукциона» на первые числа июля.
— Если это правда, то скоро Свеча пожалует, — ни к кому не обращаясь, сказал Романов и оторвал от календаря листок, на котором значилось: «30 июня».
В открытые двери кабинета показался запыхавшийся Доронов.
— Разрешите...
— Входи-входи!
— Приехал... Огаркин — здесь! Только что вышел из самолета, сел в автобус. Я принял меры...
— Все правильно! Молодец! — похвалил начальник ОБХСС, и голубые глаза его заискрились задорным огоньком. — Держись, Свеча, теперь кто кого!..
Первым делом после возвращения из своей непродолжительной поездки на «материк» Огаркин посватался к сестре заведующего поселковой столовой. Он пришел в столовую в середине дня, вызвал Ковача и при всем народе поднес ему большую корзину с «материковскими» винами.
— Сестру свою, Анну, мне отдай. Хочу под старость пожить спокойно, нужна хозяйка. А это, — пнул Свеча ногою корзину, — тебе на пробу!
Со всех сторон посыпались шуточки, замечания, послышался смех.
— Шутить... не разрешаю! — бухнул по столу кулачищем Огаркин.
С огромной, по-бычьи склоненной головой, могучими ручищами, готовый броситься и раздавить всякого, кто осмелится ему перечить, он был страшен и омерзителен.
В маленькой столовой воцарилось молчание.
Огаркин выдернул из корзины несколько бутылок вина, поставил их на стол и тоном, не терпящим возражения, сказал:
— По древнему старательскому обычаю прошу по чарке за молодых... Пить всем!
Когда вино было выпито, Ковач задвинул корзину с бутылками под прилавок и тихо спросил:
— А если Степан Гудов из тайги вернется? Он Нюрку давно приглядывает.
Огаркин сделал жест двумя пальцами, будто переламывал что-то, и зло сплюнул в сторону.
— Свадьба через неделю. Потом уедем с Нюркой на «материк». Совсем... — бросил он и, не прощаясь, тяжелой походкой двинулся из помещения.
В условном месте Огаркина ждала весточка от Павла Алешкина: «Надо свидеться».
«Зачем это я ему понадобился?» — подумал Огаркин и решил, что парень без дела не стал бы его тревожить.
«Смел, да хватки нет, — размышлял Свеча. — Ладно, что пером его тогда царапнули легко. Нужный малец!»
Встретились они вечером за поселком на низком каменистом берегу речки. Здесь можно было не опасаться, что их разговор кто-либо подслушает: шум реки был надежной защитой.
Завидя Свечу, Алешкин обрадованно пошел ему навстречу.
— Наконец-то, Свеча... А я уже чего не подумал, пока ждал неделю...
— До Москвы летал. На лечение. Зачем понадобился? Говори.
— Покупатель есть. Верный человек из Одессы. Дает куда больше, чем ты! Каждый день ко мне ходит на полигон... Иностранцам продает...
Огаркин недоверчиво слушал, соображая.
— И ты... продал?
— Продал. Сначала малость для пробы, а потом все, что скопил. Денег у меня теперь тьма!
— Где деньги?
Парень отпрянул.
— Отберешь?!
— Не-ет! Не фальшивые ли?
— Хорошие, я за четыре сотни пиджак купил в магазине.
— Эх, дура! Зачем деньги показываешь? В кассе-то давно получал?
— Завтра получка.
— А ты перед получкой за четыре сотни вещь покупаешь! Люди подумают: откуда деньги?
— Не сообразил я, — испугался Павел. — Верно, ребята уже спрашивали.
— Тебе только такими делами и заниматься...
— Уж очень он просил. И покупатель такой толковый! Весы у него маленькие с собой, деньгами чемодан набит.
— Что же он, один работает?
— Один. Командировку показывал. Будто для консультации сюда. Зубопротезный техник. Зовут Жорой. Золота просит побольше, с мелочью возиться не хочет.
Огаркин присел на гладкий валун. «Что же делать? — думал он. — Человек от Полева еще не появлялся. В Москву он, Огаркин, слетал зря. Хорошо, что не взял с собой золото. Чутье не подвело. Было бы теперь дело. Раз интересуются им, стало быть, еще что-нибудь придумают, когда с Нюркой полетит. Совсем бы неплохо продать золото прямо здесь, на месте, перекупщику и — прощай Север».
Он заставил Павла еще раз подробно рассказать об одессите. Перебивал, переспрашивал. Что же это за чудак, который платит не хуже Полева?
— Погорит, — мрачно оказал он Алешкину. — Да это нас не касается. Пусть горит!
Огаркин долго наставлял парня, как надо вести себя с одесситом, что говорить ему.
— В случае чего... — Свеча коротко взмахнул огромной рукой. — Только не бей по шее, как тогда меня. Детство. И ножа не носи. Камень такой вот возьми в кулак и... по голове. Вот сюда, так вернее... Но это на крайний случай. Мокрыми делами теперь заниматься не резон.
Порешили на том, что через несколько дней Свеча сам встретится с одесситом.
— Где и в какой час — узнаешь позже... — Они расстались.
Два дня шел мелкий моросящий дождь. Перескакивая через лужи, с трудом вытягивая из липкой грязи ставшие пудовыми сапоги, Павел шел на встречу со Свечой. Полчаса назад Ковач передал Павлу ключ от кухонной кладовки, где, по словам заведующего столовой, ждал Николай Огаркин.
«Осторожный, — думал Алешкин, — даже меня остерегается».
Павел обошел небольшой домик столовой и хотел уже отомкнуть замок кладовки, но, услышав за собой легкое покашливание, обернулся. Возле кучи порожних ящиков и бочек в пальто с поднятым воротником стоял Свеча. Небрежным кивком он пригласил старателя следовать за ним, и они молча двинулись по неширокой улочке поселка. Только возле гостиницы Свеча спросил:
— Предупредил одессита?
— Да, будет в полдень.
— Ну, тогда уговори шофера подбросить нас до районного центра, — кивнул Свеча на стоявшую неподалеку «Победу». — Меня подберешь возле почты.
Шофер дремал, напялив кепку на глаза.
— До райцентра? — лениво переспросил он Павла. — А денег у тебя хватит?
— Хватит. На почте меня товарищ дожидается, он подсобит.
— Двести рублей, меньше не могу.
— Сто... Сто хватит.
— Вон, быка видишь? Вот и нанимай его за сто рублей.
— Сто пятьдесят, — не сдавался Павел.
— Двести.
Они еще беззлобно поспорили, поторговались, и шофер согласился на сто пятьдесят.
У почты в «Победу» подсел Свеча, и машина быстро побежала по извилистой, хорошо укатанной дороге.
Когда поднялись на перевал, где стоял передвижной домик дорожников, Свеча тронул за плечо шофера:
— Постой-ка. Надо бы к другу заглянуть. Дорожным мастером работает. А ты как? Со мной, может, останешься? Потом доберемся...
Павел растерялся:
— Не знаю, мне все равно.
— Ну, тогда заглянем, навестим мужика.
Шофер запротестовал:
— Брали машину до райцентра...
— Ладно, не горюй! За сколько сговорились-то? Сто пятьдесят? Отдай ему деньги, потом сочтемся.
Проводив взглядом скрывшуюся за поворотом «Победу», они двинулись следом за ней, но через полчаса пути свернули на узенькую тропочку, убегавшую в широкий распадок.
Наконец пришли на место.
— Стой здесь и жди этого Жору, — приказал Огаркин. — Я поднимусь повыше, вон к тем кустам. Пошлешь его туда. В случае чего, свистни в эту дудку кедровкой. Дуй просто, там все устроено...
В полдень со стороны автомобильной трассы показалась худощавая фигура Жоры из Одессы.
Увидев его узкие клетчатые брюки, рубашку навыпуск с разрезами по бокам и остроносые ботинки на толстом белом каучуке, Павел не сдержал улыбки.
— Почтение, мальчик! — поздоровался Жора и взмахнул желтым чемоданчиком. — А где же ваш папа?
Павел указал ему на то место, где находился Свеча.
— О! Все понятно.
Жора тряхнул длинными волосами и, широко расставляя тонкие ноги, стал карабкаться дальше. Огаркина он встретил так же весело:
— Вот и папа! Имею честь передать привет от сына. Он истосковался в одиночестве.
Поставил на землю желтый чемодан и, нисколько не смущаясь угрюмым видом Огаркина, продолжал в том же духе:
— Если будем знакомиться, то я — Жора. Вот мой паспорт, любуйтесь! Лучшая поликлиника на Приморском бульваре. Дантист... — И, растянув тонкие губы в улыбке, блеснул золотыми коронками. — С кем имею честь?
— Ладно, это нам не нужно, — сказал в ответ Огаркин. — У тебя есть деньги, у нас — товар.
— О, люблю деловых людей!
Жора запустил в чемодан руку с черным перстнем на мизинце, звонко щелкнул пальцем по бутылке с коньяком:
— Выдержанный! Высший сорт.
Наметанный глаз Огаркина успел заметить в чемоданчике толстые пачки сторублевых купюр.
Оба выпили из маленьких золоченых бокальчиков. Помолчали.
Первым на этот раз заговорил Огаркин:
— Вот что. Товар у нас есть, много товара. Только, цена нужна подходящая.
— Жора знает за цену! Вот, — одессит начертил на земле какую-то цифру, — за грамм.
Огаркин рукой зачеркнул эту цифру и написал другую.
Жора замахал руками:
— Если я так заплачу, что мне с этого будет?
И написал опять старую цифру.
Так и спорили они, стоя на корточках — худенький, похожий на пестрого попугая Жора и верзила Огаркин.
— Ты постой, не тарахти, — убеждал Жору Свеча. — Тебе и сказать-то ничего не успеешь...
— Какой бы я был одессит, если бы не мог говорить? Надо всегда иметь в запасе пару готовых фраз!
— Ладно, пес с тобой. Вот последняя цена.
И Огаркин нацарапал ногтем новую цифру.
— Что-о? — возмутился Жора. — Если вам нужна моя жизнь, вы можете ее получить. Но денег вы не получите, потому что дураков в Одессе нет. Не хочу через вашу глупость оставаться голым! Я тоже желаю заработать пару пустяков!..
Жора сыпал словами, а Огаркин упрямо чертил на земле одну и ту же цифру. Наконец одесситу наскучил спор, он махнул рукой и, согласившись на предложенную цену, полез за деньгами. Огаркин достал из сапога маленькую тряпицу, протянул:
— Здесь шестьсот грамм, остальное принесу в гостиницу завтра.
Жора мгновенно вскочил на ноги.
— Хо-хо! Есть с чего посмеяться! Отнесите эти граммы в кассу, а мне отдайте четыре килограмма. Берите деньги, давайте товар!
— Больше с собой нет. Остальное получишь завтра. Завтра возьму и деньги.
Вежливого чистюлю Жору будто прорвало. Не скупясь на выражения, он помянул всех святых, поклялся зачем-то Дерибасовской улицей, защелкнул чемоданчик, и вскоре его щуплая фигура запрыгала по распадку.
Подошел Павел.
— Не сговорились?
— Маху я дал, паря. Деловой хлопец попался, твоя правда!
Они спустились к дороге. Жоры нигде не было видно. Глядя на пылившую вдали грузовую машину, Огаркин не то себе, не то Павлу сказал:
— Прошвырнулся я. Дура!..
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
На другой день Павел неожиданно появился на квартире Свечи.
— Ты что... спятил? — зашипел Николай, выталкивая Павла во двор. — Забыл, что я тебе толковал? Провалить хочешь. Продался, падла!..
— Несчастье... несчастье, — зашептал Павел. — Скорее надо!
— Жди на повороте у старого гаража! Да не оглядывайся, суслик.
Павел дошел до покосившегося барака с забитыми окнами, некогда служившего гаражом, и присел в стороне на старую автомобильную раму. Вскоре показалась раскачивающаяся фигура Огаркина.
— Ну... ты что? Проклятый фраер... Как смел?!
— Авария... Машина перевернулась, а в ней — Жора...
— Постой, постой! Ты чего мелешь?
— Не мелкая, дело говорю. Жора в аварию попал, машина перевернулась.
— Чемодан цел?
— Не чемодан, Жора цел.
— Ну и пропади он, твой Жора! Чемодан где?
— С ним — в больнице.
Огаркин наморщил перерезанный поперечным шрамом лоб.
— А ты откуда знаешь?
— Звонил он, на почту меня вызывали...
— Ну?
— Я так понял, что за деньги ему страшно. Вдруг заглянет кто в чемодан. Вот и хочет он нам его передать.
— Ты что себя за человека считать начал? «На-ам!» Мне он деньги отдает, за мой товар! Понял?
— Понял. Только я тебе, Свеча, по-хорошему, а ты...
— Ладно, молчи! Не обижу, не бойся...
...Шофер попался лихой, стрелка спидометра прыгала между цифрами восемьдесят и девяносто. Внезапно «Победа» резко затормозила.
— Проверка документов, — заметил шофер и, обращаясь к подошедшему к машине старшему сержанту, спросил:
— Сбежал, что ли, кто?
— Ищем тут одного бородатого, — неохотно ответил старший сержант.
Он внимательно посмотрел документы шофера, мельком взглянул на раскрытый паспорт Огаркина и, буркнув: «все в порядке», попросил документы Павла.
У Павла документов с собой не оказалось.
— Придется остаться с нами, — развел руками старший сержант. — До выяснения личности.
— Да я ведь старатель. Павел Алешкин я! У вас бородатый бежал, а мне двадцать лет!
— Ничего не знаю. Служба!
Павел выбрался из машины, и «Победа» тронулась.
Огаркин облегченно вздохнул, локтем коснулся внутреннего кармана брезентовой куртки. «Цело золотишко-то, — подумал он. — Заберу у одессита чемодан и завтра вместе с Нюркой — на «материк».
Только бы этот чертов Степан из тайги не пришел. А то наделает старик хлопот, уцепится за Нюрку. Даром, что ли, ходит она к нему...».
За поворотом водитель резко затормозил: поперек дороги стояла грузовая машина. Внезапно дверцы «Победы» распахнулись, и чьи-то сильные руки сжали кисти рук Огаркина.
Не сопротивляясь, вышел он из машины и вздрогнул: ему улыбался широкоплечий, коренастый человек, тот самый, которого он совсем недавно так ловко провел.
— Вот и встретились, Свеча. Долго мы за тобой охотились, но не зря, — сказал Романов.
Доронов извлек из кармана Огаркина документы, немного денег, складной нож.
— А товар где? Э-э, как ты его надежно бережешь! В руках оперуполномоченного появился тяжелый кожаный кисет.
— Хорош подарочек! Все тут?
— Все!..
— Ну что ж, запишем: при задержании изъято золото... Вешай, Доронов. Сколько получилось?
— Вместе с мешком почти пять килограммов.
— Запишем: пять килограммов...
В райотделе Романова и Доронова с нетерпением ждал Ильичев.
— Поздравлю потом, — шепнул он. — А сейчас прямо в кабинет, комиссар Сизов приехал...
— Ох, не люблю с высоким начальством объясняться, — загрустил Романов.
— Чудак, ты нашего комиссара не знаешь! Он, брат, от младшего оперативного уполномоченного до начальника областного управления дошел. В оперативной работе он нам сто очков вперед даст. Золотой человек, так что не тушуйся!..
На пороге остановились, замерли, вытянув руки по швам.
— Товарищ начальник управления, по вашему приказанию... — начал было докладывать начальник ОБХСС, но комиссар перебил:
— Знаю, знаю! Все знаю! Здравствуй, Романов! Доронов, здравствуй! Здравствуйте, товарищи! Простите, что не со всеми еще знаком. Рассаживайтесь поудобнее, хвалитесь, как крупного маза[98] выловили...
Романов вначале говорил сдержанно, словно стесняясь, потом оживился, как будто заново переживал все подробности долгой трудной борьбы.
Комиссар внимательно слушал, что-то записывал, задавал вопросы.
— Значит, парнишка этот, Павел Алешкин, крепко помог?
— Крепко, смелый парень, умный, хотя из простых деревенских ребят. Комсомолец.
— И поверил Огаркин в него? Думал, сломал человека?
— Поверил.
— А идея подослать к Огаркину «одессита» чья?
— Общая.
— Точнее, Романова, — поправил Ильичев.
— Ну, а если бы в распадке, когда «Жора» Огаркина коньяком поил, было бы у Свечи все золото с собой, тогда как?
— Учитывали мы и этот вариант, товарищ комиссар. Если бы Свеча принес все золото, «Жора» надел бы на голову свою капроновую шляпу, которую вертел в руках. Мы ждали этого сигнала.
— Значит, знака не последовало?
— Да, слишком мало было у Огаркина золота. Вот и решил наш «Жора» отпустить его, чтоб потом взять со всем запасом. Теперь взяли...
— Ясно! Что ж, действовали хорошо! Считайте, что свою ошибку с промывальщиком наполовину искупили. Но Огаркин только скупал и перепродавал золото. На «материк» его вывозили другие. Надо найти остальных. И ясно, что такой матерый золотишник, как Свеча, никого не выдаст. Рассчитывать нам следует только на себя.
— Так точно, товарищ комиссар!
— Ваши соображения обсудим вечером, а сейчас пришлите ко мне этого паренька, Павла Алешкина.
— Он уже здесь.
— Так давайте его сюда!
Комиссар вышел из-за стола.
— Заходи, Павел, заходи и давай знакомиться.
— Алешкин, — тряхнул золотистым чубом парень и, оглядев исподтишка комиссара, улыбнулся. — Я думал, не такой вы...
— А какой же?
— В форме. Строгий такой и толстый.
Сизов расхохотался:
— Э, брат, я такой же простой человек, как и ты. Понял? Простой советский человек, только пост мне поручили побольше, чем тебе. Но у тебя еще все впереди! А за помощь спасибо тебе, Павел!
Вконец смущенный парень смотрел на комиссара милиции влажными от радостных слез глазами.
— С Ковачем держи себя осторожно, а про историю со Свечой забудь...
— Про какую такую историю? — озорно блеснули глаза Павла. — Не пойму, о чем вы...
Он засмеялся, крепко пожал протянутую руку, потом четко щелкнул каблуками:
— Разрешите быть свободным?
Сизов приветливо махнул рукой.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В то утро, когда Огаркин с Павлом поехали в районный центр, у заведующего столовой Ковача состоялось бурное объяснение с сестрой.
— Я к Кузьмичу, — сказала Анна, укладывая, как обычно, в корзину еду.
Ковач кинулся к двери.
— Ужели не пустишь? — неожиданно повысила голос тихая Анна. — Попробуй, не пусти!
Ковач оторопел.
— Ошалела ты, баба, что ли? Не смей!
— Пусть ошалела, — выкрикнула Анна. — Пусть со мной делают что угодно, не могу я больше так!
Ковач испуганно выглянул за дверь: не подслушивает ли кто-нибудь их разговор.
— Тихо! Погубишь всех, дура!
— Пусти, ирод! — вырвала Анна руку. — Небось я тоже человек...
Она горько, навзрыд заплакала.
«Что же теперь будет? — размышлял Ковач. — Ишь, как прилипла баба к Степану. Не простит мне этого Свеча, ни за что не простит...»
— Богатый он, — пробовал Ковач убедить Анну. — Тебя и сына обеспечит. Езжай по-хорошему, Нюра...
Анна перестала плакать, повязала волосы косынкой, выпрямилась и решительно двинулась на Ковача:
— Вот что я тебе скажу... Была я тебе и прислугой, и постелью, и сестрой. Сам ты меня послал к Гудову, а теперь хочешь отдать этой обезьяне. Пойми ты — человек же я все-таки, женщина! Привязалась к Степану Гудову, хоть он и старик. Так оставь хоть теперь меня в покое! Неужели всего тебе мало? Неужели и золота тебе мало, что Кузьмич даром мне отдал? Пожалей ты меня, бабу, пожалей!
Она оттолкнула Ковача от двери, вышла во двор, хлопнула калиткой и, не оглядываясь, торопливо зашагала по крутой каменистой дороге...
— Ты, Нюра! — удивился Гудов ее приходу. — Не обещала ведь нынче...
— А что, не ко времени?
Гудов радостно улыбнулся:
— Знаешь ведь, что всегда ты ко времени...
— Тогда и не спрашивай!
Анна подошла к нему, села на мягкий мох, взяла грубую большую руку.
— Теперь мне не страшно. Хороший ты, Кузьмич.
— Или дома что плохо? Может, сын заболел?
Анна прижалась лицом к перепачканной куртке старателя, закрыла глаза:
— Не надо, Кузьмич, не спрашивай.
Он молчал, стараясь не пошевельнуться, не потревожить эту доверчивую и такую близкую теперь ему измученную женщину.
Анна заговорила сама:
— Не могу я больше так, Кузьмич. Должна тебе все рассказать, душу облегчить. Научи меня, что делать, верю я тебе.
Не тот я человек, за которого ты меня принимаешь... И никакая я не сестра этого... Была я у немцев в плену, работать меня заставили... А потом, после войны, побоялась к себе домой возвращаться: стыдно было людям в очи глядеть. Вот и назвалась эвакуированной. Взяла имя двоюродной сестры, которая в войну погибла. И дали мне чистые документы.
— Ты... ты правду говоришь, Нюра?
— Не перебивай, Кузьмич. Хотела я вину перед людьми искупить, работала много, всем помогала. Потом замуж вышла, Сережка родился... Только все равно горько мне было, себя стыдно. Люди, думаю, меня человеком считают, а я кто? Так и жила в вечном страхе, только сыну и радовалась, Одно у меня в жизни счастье — он. Сказать обо всем мужу не решалась. Не такой он, чтобы понять это.
Анна помолчала немного, перебирая пальцами пуговицы на куртке Гудова.
— Потом самое страшное случилось. Встретила я этого... Да ты его не знаешь. Как обезьяна: рожа изрезана, руки ниже колен. Подкараулил меня на улице, затащил в темный двор, шепчет: «Знаю я тебя, у немцев ты в столовой работала, а я там конюхом был». И называет мое прежнее имя. Плохо мне стало. Пришла в себя, вижу домик какой-то, а надо мной обезьяна эта и еще Ковач склонились. Первый раз тогда увидела Ковача. Тихим он показался, вежливым. Все обезьяну уговаривал. Вот тогда-то и приказали мне приехать сюда, на Север. Ковач-то все успокаивал: «Будешь со мной, как с мужем жить». А тот, с обезьяньей рожей, стращал: «Слово скажешь или ослушаешься, выдадим, расстреляют тебя, дура, и останется сиротой сын позорной матери...»
Больше всего я боялась, что Сережке они всю жизнь через меня испортят. На все была готова, чтобы сына только не трогали.
— А муж?
— Рассказала мужу, да он и слушать не стал. Вон, говорит, немецкая проститутка! Только и упросила на коленях, чтоб сына не лишал и ничего не говорил.
— С ним, значит, живет сын?
— Нет, с его стариками. А муж уехал куда-то. Так и живу с «братцем», не вижу света белого, только о сыне и думаю.
— А того, что на обезьяну похож, встречаешь?
— Один только раз. Поймал меня вечером на дворе, схватил ручищами так, что сердце замерло.
— Постой, постой! А что же ты не ушла от них? Работать бы пошла, к людям ближе...
— Боюсь я. Станут всякие запросы делать: узнают про меня.
— Да ведь давно простили всех, кто у немцев работал!
По лицу Анны катились слезы, они капали с подбородка женщины на грубую куртку старателя, заслоняли от Гудова все окружающее. Глядя на ее вялые, по-детски дрожащие губы, на сползающую с головы тоненькую косынку, Степан никак не мог сообразить, что же сейчас делать, как помочь этой женщине?..
— А сегодня как же... — с трудом опросил он. — Как пришла?
— Ехать меня принуждает Ковач... с обезьяной. А я больше не могу. Будь что будет. К тебе пришла, ты первый меня пожалел, за человека посчитал...
В ночном небе трепетали далекие звезды. Временами свет некоторых из них становился ярче, временами вовсе исчезал, будто звезды замирали от страха, что однажды сорвутся с этой фантастической высоты и упадут.
«Боятся, как я, боятся», — подумала Анна. Ее усталой голове было покойно на сильной груди Гудова. Она задремала.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Так бывало всегда: стоило случиться какой-нибудь неприятности, как Александр Серегин начинал сетовать на свою неудачливость.
С раннего детства он жил мечтою о театре. В школьной самодеятельности не было большего энтузиаста, чем он. Родители считали его очень талантливым, учителя тоже желали ему большой сценической судьбы.
С легким сердцем поехал Серегин в Москву сдавать экзамены в театральный институт. Сдавал уверенно, держал себя свободно и... срезался.
— Не везет мне, — криво усмехнулся он на вопрос матери и ушел из дому.
А надо было что-то есть, где-то спать, думать о будущем. Александр подался в местный драматический театр, но директор, посочувствовав его желанию стать артистом, беспомощно развел руками.
Возвращаться домой Александру не хотелось. Он целыми днями бродил по небольшому приволжскому городку без денег и определенной цели. Ночевал то на вокзале, то на пристани. Однажды его глаза выхватили два слова объявления: «...обеспечиваются общежитием».
Серегин остановился, прочитал все объявление. Кирпичному заводу требовались рабочие. Через полчаса он уже беседовал с кадровиком завода. То ли ему удалось разжалобить этого пожилого человека, то ли здесь было принято каждого новичка окружать заботой, но Серегин получил небольшую ссуду на обзаведение и койку в рабочем общежитии.
Против ожидания, Серегин увлекся первой в его жизни работой. Он даже предложил что-то новое в технологии изготовления кирпича и был отмечен приказом по заводу. Вскоре ему приглянулась скромная машинистка с золотыми косами. Девушке тоже понравился ладный парень с глазами мечтателя. Они поженились. Молодожены с трудом сводили концы с концами, но были полны счастья и надежд.
Они назвали своего первенца Виктором.
По настоянию жены Серегин еще раз предложил свои, услуги местному театру. На этот раз отказа не последовало. Главный режиссер, видевший Александра в любительском спектакле, решил попробовать молодого парня «на настоящей сцене». Правда, первое время Александр, как он сам говорил жене, играл «стук в дверь» и «задние нога верблюда». Но после того как однажды на выездном спектакле ему пришлось подменить заболевшего актера, режиссер поручил Серегину ответственную роль.
Потом пришла известность. Александр играл главные роли почти во всех спектаклях и все реже ночевал дома. Он забыл самоотверженность своей верной, скромной жены, разглядел ее маленький рост и сутулость. Робкие жалобы на одиночество грубо обрывал.
Но самое страшное было в том, что Серегин стал пить. Вначале после премьер, потом после каждого спектакля.
Кончилось тем, что из театра Александра выставили.
— Такой уж я неудачник, — отмахнулся он от советов директора.
В тот же день, уложив свой немудреный багаж, Серегин уехал из города, не оставив жене и ребенку даже рубля!
Остановился он в районном центре, где ему предложили место руководителя кружка художественной самодеятельности при Доме культуры. Пить Александр не перестал, и зарплаты едва хватало на неделю. Он пытался занимать деньги в долг. Вначале это удавалось, потом люди стали ему отказывать.
Как-то вечером он бродил по клубу, испытывая неудержимую потребность забыться в пьяном угаре.
Взгляд Александра остановился на огромном занавесе. «Десятки метров прекрасного алого бархата на шелку», — мелькнуло в уме Серегина.
Дрожащими руками он ухватился за занавес, повис на нем и стал рывками тянуть на себя. Тяжелое полотнище долго не поддавалось, потом не выдержало и, сорванное с крючьев, мягко опустилось к ногам Серегина. Александр располосовал его столовым ножом и стал спешно запихивать в грязную матрацевку.
Крадучись, вышел он через черный ход, бросил ключ в снег и направился к железнодорожной станции.
Пассажирский поезд уже отходил от платформы. Последним усилием Серегин втолкнул в тамбур вагона свою тяжелую ношу и прыгнул сам.
Через полчаса Серегину удалось продать бархат какой-то разбитной бабенке и, вздрагивая под каждым встречным взглядом, он прошел в вагон-ресторан...
Под утро поезд остановился на большой станции. Кивнув на прощанье сонной проводнице, Серегин выставил на перрон тяжелые коричневые чемоданы, сошел сам и, подхватив чемоданы, двинулся навстречу ветру. Он шел неизвестно куда и зачем.
На привокзальной площади стоял милиционер.
«Остановит! Непременно остановит! — подумалось Александру. — Еще десять шагов... Еще пять...»
Милиционер не обратил внимания на сутулого человека с двумя чемоданами.
Возле первой освещенной парадной он остановился, вытер пот.
— Приезжий, верно?
Серегин испуганно обернулся. Перед ним стоял невысокий, просто одетый парень в ушанке.
— Давай помогу...
Парень подхватил один из чемоданов и весело зашагал рядом.
— Хорошо, что в наш город приехал! Нужны у нас люди: вон как город растет!
Он с гордостью кивнул на леса какой-то видневшейся неподалеку стройки.
— Новый театр строим. Ишь, какая красота! — И, обернувшись к Серегину, спросил: — Вам, верно, в гостиницу? Она за углом.
Он поставил на землю чемодан, протянул Александру руку и пошел через улицу широким упругим шагом.
«Мне бы вот так...» — подумал Серегин и с тоской посмотрел вслед этому уверенному парню.
Пока было безлюдно, Александр бродил по городу, изредка заходя в парадные, чтобы погреться. Но вот улицы стали наполняться людьми в брезентовых куртках и поношенных ватниках, все чаще и чаще встречались женщины с кошелками и авоськами.
«Когда-то и у меня было в жизни все решительно хорошо и удачно, — рассуждал Александр, — и я был нужен людям. А сейчас...»
Дежурный по управлению милиции очень удивился, увидев перед собой небрежно одетого, заросшего мужчину, который чуть ли не по-военному отрапортовал:
— Прибыл в ваше распоряжение...
Дежурный пожал плечами, бросил взгляд на чемоданы и пошутил:
— Так ведь у нас не гостиница. Ошиблись, товарищ.
— Нет, не ошибся!
Мужчина с трудом перевел дух, снял шапку и сел на стул.
— Вор я!.. Вор...
На суде преждевременно постаревший Серегин держался просто, без рисовки.
— Граждане судьи! Я виноват перед законом, перед обществом и перед семьей, которую я бросил. Любое наказание приму безропотно. В моем падении не виноват никто. Люди всегда хотели мне помочь, но я не нашел в себе ни воли, ни разума, чтобы стать человеком. Горько сожалею, что погряз в пьяном болоте...
После долгого перерыва, во время которого Серегин так и не решился посмотреть на сидящих в зале людей, вновь раздалось сурово-торжественное: «Суд идет!» Густой баритон председательствующего огласил приговор:
«Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... Серегина Александра... учитывая чистосердечное признание и явку с повинной... Считать меру наказания условной...»
«Условно... Как же это так?» — недоуменно спрашивал себя Серегин.
— Вы свободны, — сказал, обращаясь к нему, судья. — Свободны! Можете ехать к жене, устраиваться на работу.
Серегин все понял. По его лицу потекли слезы.
Через два месяца в народный суд пришло письмо Александра Серегина.
«Уважаемый товарищ судья! (Извините, что не знаю вашей фамилии, имени и отчества). Я виноват, что еще не написал вам ни разу с тех пор, как мы встретились с вами при таких печальных для меня обстоятельствах. Примите величайшее спасибо лично от меня и от моей семьи, которой вы вернули мужа и отца. Спасибо за то, что вы поступили так гуманно и поверили в доброе, что заложено в душе каждого человека. Я стремлюсь оправдать ваше доверие.
Работаю на кирпичном заводе, воспитываю сына и берегу жену, у которой отнял столько радости и здоровья. Живем в хорошем доме, любим друг друга, и мир кажется нам огромным и прекрасным. Спасибо от спасенного вами человека».
Да, Александр Серегин не лгал. Разыскав в одном из далеких северных поселков жену и сына, он обрел потерянную когда-то радость. Каждую свободную минуту отдавал семье.
Несчастье пришло внезапно. В ясный весенний день умерла жена.
Серегин по-прежнему работал на заводе, жил тихо, сторонился людей, целиком отдавая себя сыну. Тайком он стал снова пить. Пил чаще всего по ночам, когда сын спал. После таких ночей приходил на работу обрюзгший, злой, будто все вокруг, а не он сам были повинны в его неудачах.
Как-то в столовой одного из приисков, куда Серегина занесли служебные дела, к его столу подсел человек с удивительно знакомым лицом. Александр силился вспомнить, где видел этого человека. Незнакомец напомнил сам:
— В «гостинице» вместе были. В предвариловке... Артист ты, я помню.
У Серегина защемило сердце, стало мучительно больно и обидно.
— Кирпичи я теперь делаю, — только и выговорил он.
Человек, назвавший себя Полевым, стал говорить о загубленных талантах, людской несправедливости и зависти человеческой.
Потом они долго пили в маленькой комнатушке. На прощанье Полев сказал:
— Ладно, артист, помогу тебе. Вернешься ты на сцену. Будут у тебя деньги. Не все еще потеряно...
И вот они — деньги! Целых тридцать тысяч! Правда, принадлежат они не ему, Серегину. Кто-то должен за ними прийти. Потом эти тридцать превратятся в триста, и Серегин, получив свою треть, уедет с сыном из глухомани в большой город, а там... Что будет «там», Александр не мог себе представить.
Но шли недели, а за деньгами никто не приходил. Они лежали под бочкой, зажатые кирпичами, и не приносили ему никакой радости.
И Серегин ждал...
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Было уже поздно, когда Павел зашел в столовую. Он купил папиросы, конфеты и постоял еще несколько минут, разглядывая небогатую витрину буфета. Он надеялся увидеть заведующего.
Но Ковача не было. Спрашивать о нем Павел не решился и, выйдя на улицу, стал прогуливаться возле столовой. С минуты на минуту столовая должна была закрыться, а Ковач не появлялся.
Ждать дальше не имело смысла, и Павел пошел через весь поселок к домику Степана Гудова. Еще издали он увидел, что в доме старателя нет света.
— Вот те на! — удивился Павел, — Неужто никого нет?
В самом делена дверях гудовского дома висел большой замок.
Первым желанием Павла было бежать к Ильичеву. До районного центра недалеко... А вдруг Ковач следит за ним?
«Нельзя!» — твердо решил Павел и пошел в общежитие. Взяв книгу и поудобнее устроившись, стал читать. Спать не хотелось: давало знать нервное напряжение последних дней. Во втором часу ночи под окном послышались чьи-то шаги. Человек остановился и тотчас же стекло тоненько зазвенело от легкого стука.
— Кто там?
Молчание.
— Кто стучит?
Никакого ответа.
Павел распахнул дверь и вышел на крыльцо.
— Не шуми, свои, — услышал он чей-то шепот. — Кто у тебя в хате есть?
— Никого! Ребята сегодня на участке ночуют. Да кто это, никак не пойму?
Из темноты вышел Ковач. От него пахло спиртом, губы подергивались, дрожали.
«От волнения или от страха? — подумал Павел и с удовольствием решил: — От страха».
— Идем в дом. Свет потуши, — пробормотал Ковач. — Не застукали бы нас...
В комнате он тяжело опустился на кровать.
— Доигрались мы... Свеча пропал. Что, если взяли?
Готовый к этому, Павел ахнул:
— Как же он?
— Тебя нужно спросить. Вчера вы с ним куда-то ушли, с тех пор только я его и видел.
Обычно веселый, подвижной, Ковач был угрюм. Он тревожно глядел в темноту, дышал громко, с хрипом, говорил отрывистыми, короткими фразами.
— Ты что, домой не ходил? — спросил Павел.
— Нет. Нюрка к Гудову убежала. Поговорили мы с ней. Она как рехнулась.
— А она... знает?
— Кое-что знает. От Гудова два раза золото приносила. И про мою судимость ей известно. Может сгоряча дров наломать. Баба стихийная! Проболтается Гудову, что Свеча ее увезти хочет, тогда беда...
А Павел в этот момент думал:
«Уйдет сейчас Ковач, где его тогда искать? Как же я на глаза Романову появлюсь?»
Он зажег свет и спокойно сказал Ковачу:
— Зря мы с тобой паникуем и прячемся зря. Объел нас Свеча, деньги забрал и — ау!
— Пропади он с деньгами!
— Появился тут один покупатель. Не то из Ростова, не то из Одессы. Весь товар он у Свечи забрать хочет. Вот мы и поехали к нему вчера, да по дороге меня застава ссадила: паспорта не взял. Может, продал Свеча золото да и махнул на «материк».
Ковач повеселел.
— Тогда другой разговор! Лишь бы его не сцапали, а то и нас заложит.
— Разве такие, как Свеча, закладывают?
— Все хороши... Ну ладно, парень! Пойду в столовую. А то хватятся, что меня нет, шум поднимут.
Ковач ушел. Павел подошел к окну и увидел лицо Романова. Он весело «подмигнул и показал Павлу кулак с отогнутым большим пальцем.
Лицо и кулак Романова исчезли в темноте так же внезапно, как и появились.
«Теперь не уйдет Ковач, — облегченно подумал Алешкин. — Такая гниль в темноте светится!»
Он разобрал постель, умылся и лег спать.
А Романову и Ильичеву было не до сна. Проводив Ковача до дома Гудова и оставив для наблюдения одного из работников, они вернулись в отдел.
Их с нетерпением ожидал Доронов. Был он чем-то взволнован, и это не ускользнуло от зоркого взгляда Ильичева.
— В чем дело, Гриша?
— Степан Гудов пропал, товарищ капитан.
— Как?!
— Дома его нет.
— Так он же ночует на полигоне.
— Прошлую ночь ночевал, верно. И не один ночевал, а с женщиной. Это я точно установил.
— С сестрой Ковача?
— С ней. И пропали оба... Домой не приходили.
— Вот так дело! — протянул Ильичев. — Может, съездим на прииск? Здесь рядом.
— Надо ли?
— Надо!
Возле конторы прииска машина остановилась. Ильичев и Романов вышли из нее и постучались в закрытую изнутри дверь.
— Кому там понадобилось? — спросил вахтер.
— Откройте. Милиция!
— Открыть не могу. Идите к начальнику караула.
Пришлось доехать до помещения пожарной охраны, где находилась комната караула.
— Не будем тревожить вахтера конторы, — предложил Ильичев начальнику караула. — Вызовите сюда кассира золотоприемной кассы.
— Кассира?!
— Да, кассира. Только так, чтобы об этом знал только он один.
Прошло с полчаса, прежде чем в караульном помещении появился кассир.
— Кажется, Андрей Павлович? — спросил Ильичев.
— Верно! — удивился кассир. — Неужели помните?
— Помню.
— А меня, старика, простите: в лицо вас будто знаю, а так — запамятовал...
Ильичев показал свое удостоверение, извинился за ночное беспокойство.
— Ничего, поспать всегда успею, — словоохотливо отозвался кассир. — Работа у меня такая, приходится и ночью золото принимать, отправлять...
— У нас к вам, Андрей Павлович, вопрос. Только не для огласки. Вы Степана Гудова знаете?
— Гудова-то? Ну как же. Лет тридцать бок о бок прожили. И старались вместе, и на драге опять же рядом работали. Честный человек он, Степан. Жаль, все один да один. Неудачник...
— Так вот... пропал он!
— Гудов пропал? — переспросил кассир. Его высокий лоб мгновенно перепахали три глубокие морщины, густые брови тревожно шевельнулись, глаза стали стальными, недоверчивыми.
— Как же это? Ведь был он у меня вчера. Вот, как с вами, говорил с ним...
Ильичев и Романов переглянулись.
— Вчера?
— Ну да, вчера вечером, — подтвердил кассир. — В кассу ко мне заходил Степан.
— Зачем же он приходил?
— Известно зачем. Золото принес.
— И получил наличными?
— Нет, на свой счет записать велел.
Вопросы сыпались один за другим. Правда, спрашивал только Ильичев. Романов же молча делал в блокноте какие-то пометки. Так у них было заведено: если разговор вел один, другой в него не вмешивался. Он терпеливо ждал, пока кончит товарищ, и только тогда приступал к выяснению всего того, что, по его мнению, оставалось невыясненным.
— Та-ак!.. И ничего вы особенного в Гудове не заметили?
— Вроде бы нет. Хотя... постойте. Никогда прежде не приходил ко мне Степан с женщиной. А на этот раз ждала его на улице женщина.
— Кто же она? Вы ее знаете?
— А как же! Заведующего столовой сестра...
«Значит, прав был Доронов», — решил про себя Ильичев. Кассир продолжал:
— Вижу, торопится Степан. Не стал я его задерживать. Так и пошли они рядом.
— А куда пошли-то?
— Видел, что в поселковый Совет, а вот оттуда куда двинулись, не могу знать. Неужто беда стряслась какая...
— Вы уж не сердитесь на нас, что разбудили, — попросил Ильичев, — по важному делу побеспокоили. А о нашем разговоре никому ни слова.
— Знаю, знаю. Будьте покойны, надежду на меня имейте полную.
— Спокойной ночи, Андрей Павлович!
— Всего хорошего! — ответил кассир и вышел на улицу.
Лицо Романова оживилось, дрогнули в улыбке губы. Он уже хотел произнести обычное в подобных случаях: «Ну, что ты обо всем этом думаешь?», но Ильичев опередил его, решительно сказав:
— Придется будить товарищей из поселкового Совета. Они последними видели Гудова и Анну.
Председатель поселкового Совета явился быстро, будто заведомо ждал звонка из «караулки».
— Тебе чего не спится? — обратился он к начальнику караула, но сразу замолчал, увидев посторонних. — А-а, товарищ капитан, здравствуйте!
— Здравствуйте, мы вас на минутку.
— Пожалуйста! Сколько надо. У меня тоже есть к вам одно щекотливое дело...
Караульный начальник опять вышел.
— Случай у меня сегодня, товарищ капитан, совершенно необычный, — начал председатель поселкового Совета...
Рабочий день заканчивался. Хорошенькая, смешливая паспортистка уже взбивала перед маленьким зеркальцем свои и без того пышные волосы, а ее не по летам серьезная подруга — секретарь поселкового Совета — опечатывала сейф, как вдруг дверь комнаты широко распахнулась и на пороге появился Степан Гудов.
Прямой, высокий, с лысой головой, обрамленной лишь по краям жесткими волосами, он щурил глаза и не знал, куда деть свои большие мозолистые руки — то прятал их за спину, то выбрасывал перед собой.
— Вы ко мне, Степан Кузьмич? — спросил председатель.
— К вам, к вам!
— Что же у вас за дело?
Гудов помялся немного и, решившись, сказал:
— Записать нас надо. Женился я...
Председатель удивленно вскинул брови. Паспортистка оставила в покое свои волосы и с любопытством уставилась на посетителя.
— На ком же вы женитесь, Степан Кузьмич? — нарушил минутное молчание председатель поссовета. Гудов вместо ответа повернулся к двери, открыл ее и ввел в комнату невысокую женщину.
— Вот моя жена. Анной зовут..
Женщина, в которой председатель без труда узнал сестру заведующего столовой Ковача, поклонилась и звонким от волнения голосом произнесла:
— Хочу быть женою Степана Кузьмича перед всеми людьми. Перед богом я ему жена давно...
Председатель было принялся объяснять Степану и Анне, как полагается регистрировать браки по закону, но они так настойчиво упрашивали его «уважить и записать немедля», что он после некоторого колебания решил сделать исключение. «В конце концов, — рассудил председатель, — никто за такое не взыщет».
Молодоженов зарегистрировали, поздравили с законным браком, пожелали счастья. Паспортистка вновь поправила перед зеркалом прическу, и, весело кивнув Анне, девушки выпорхнули из комнаты.
Гудов попросил председателя поселкового Совета выслушать его по очень важному делу.
— Может, завтра, Степан Кузьмич, — предложил председатель. Но Гудов уперся: дело неотложное, медлить нельзя. Он встал, разгладил ладонью свои жесткие короткие усы и сказал:
— Прошу задержать нас как государственных преступников. Золото мы похитили.
Затем взял бумагу и медленно написал корявыми буквами: «Мы похитили золото. Просим наказать по закону, как заслужили». Расписался и передал ручку Анне...
— Как же вы поступили? — тревожно спросил Ильичев председателя поселкового Совета. — Задержали или отпустили?
— Вините меня, товарищ капитан, не решился задержать. Какой же из Степана Гудова вор, если он за тридцать лет крошки не взял? Не поверил я, но понять, хоть убейте, ничего не мог.
— Где же они сейчас?
— Дома у меня. К себе идти отказались. Вызывай, говорят, охрану. Вот я и решил их до утра оставить. Хорошо, что вы позвонили. А то хотел утром сам к вам ехать.
Ильичев, улыбаясь, посмотрел на Романова, потом повернулся к председателю поселкового Совета и ободряюще сказал:
— Поступили вы правильно. Все остальное мы выясним. Скажите Гудовым, пусть приедут в райотдел.
Облегченно вздохнув, председатель поссовета распрощался и заторопился домой. Вслед за ним покинули душное помещение караулки Ильичев и Романов.
Переступив порог кабинета начальника ОБХСС, Гудовы в нерешительности остановились у дверей. Анна мяла в руках цветастую косынку, а Степан Кузьмич теребил седые колючие усы.
— Да вы проходите, присаживайтесь, — пригласил Романов и совсем неожиданно поздравил Степана и Анну с законным браком.
Заметно оживившись, Анна тихо обронила:
— Знаете уже все...
— Нет, не все!
Романов говорил раздельно, обдумывая каждое слово.
— Вы очень виноваты перед Родиной. Вы отдали ее врагам золото. За это придется отвечать, хотя золото уже возвращено государству.
Анна и Кузьмич подняли головы.
— Да, мы нашли это золото. Оно находится в Государственном банке. Но мы должны еще найти всех людей, которые обкрадывают родину, скупают и перепродают золото и, возможно, имеют связь с заграницей.
Гудов возмущенно дернул головой.
— Вы этого можете и не знать, — продолжал Романов, — но нам-то известно, что часть скупленного или украденного золота переправляется за границу. Знаем мы также, что вы попали в эту историю случайно. Знаем и надеемся, что вы поможете нам найти самых главных преступников...
Внимательно слушал начальник ОБХСС исповедь Степана и Анны, Стараясь отыскать в их рассказах что-либо такое, что позволило бы нащупать связь Огаркина с «материком». Но было очевидно, что Гудовы знают очень мало.
Когда Анна со слезами рассказала про человека, по воле которого она оказалась на Севере, Романов достал из сейфа небольшую фотографию и показал ее женщине:
— Он?
— Он... — прошептала Анна побелевшими губами.
— Бояться его не надо. Он уже не причинит вам вреда...
— Ой, батюшки, наконец-то! — облегченно вздохнула Анна и нерешительно добавила: — И «братец» мой тоже с ним?
— Ковач пока на свободе. Он нам нужен... Но это к вам теперь отношения не имеет.
— Нет-нет, — заторопилась Анна. — Вы не подумайте...
— Напишите Ковачу записку, — предложил Романов. — Вы, Анна, напишите, что боитесь Огаркина и уезжаете с Гудовым на «материк». Сообщите, что зарегистрировались. А вы, Гудов, уведомьте Ковача, что еще приедете сюда, и попросите приглядеть за вещами.
— Вот и все, — довольно заметил Романов, когда записка была написана. — Придется пока вас задержать.
— Мы знаем...
— Нет, в тюрьму отправлять не будем. Это уж суд решит... Поживете пока тут. — И, уже обращаясь только к Анне, добавил: — На своего ребенка вы имеете все права. Никто не посмеет лишать ребенка матери.
Анне хотелось поблагодарить его, но она не решалась это сделать.
— Желаю, чтобы у вас все кончилось хорошо, — сказал в завершение разговора Романов. — Это правильно, что вы сами свою совесть очистили...
На этот раз Ковач сам разыскал Алешкина. Он пришел к нему на полигон и еще издали весело прокричал:
— Живем, Павел!
— Чему это ты радуешься? — удивился Павел, еще не забывший, каким жалким и испуганным был Ковач несколько дней назад.
— Нюрка с Гудовым уехала! Так лучше. Свеча вернется, с меня взятки гладки. Сбежала его невеста с возлюбленным. Ха-ха-ха-ха!..
— А от Свечи ничего?
— Ничего.
— Не врешь?
Ковач даже раскрыл рот от удивления:
— Никак тебе он нужен?..
— Нужен!
— Соскучился?
— По такому соскучишься... Век бы его не видеть. Но товар куда девать?
— Товар не пропадет! — убежденно, сказал Ковач. — Сам хозяин приедет или пришлет кого... Точно!
— Кто приедет?
— Это не наше дело. Береги товар, паря, купец найдется!
— Знаешь, а не говоришь, — обиделся Павел.
Ковач забожился:
— Не знаю, вот тебе... ей-ей!
— То-то.
— А ты, парень, не тужи. Нужны мы, и деньги у нас будут...
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
— Попробуем подвести итоги, — предложил Романов Ильичеву. — Кое-что уже сделано.
— Да, с Огаркиным мы закончили. Свою вину он признал полностью, можно передавать дело в суд. Об остальных ни слова. Гудовы нам дать ничего не могут....
— Остаются Ковач и Серегин, — подсказал Романов.
— Ковач и Серегин, — задумчиво повторил Ильичев. — А не кажется ли тебе странным, что Лопаев до сего времени не встретился с Серегиным? Деньги-то Серегину прислал Лопаев, должен же он за ними явиться...
— По логике должен, но пока не сделал ни одного шага для встречи с Серегиным. Не думаю, чтобы ему удалось нас обмануть.
— А может, выжидает, пока мы перестанем обращать на него внимание. Не прилетел же он за десять тысяч километров, чтобы пожить здесь в гостинице...
Зазвонил телефон.
— Ильичев слушает. Телеграмма? Очень хорошо! Пришлите немедленно.
Капитан положил трубку.
— Вот он, Владимир, долгожданный приз за наше терпение.
— Телеграмма из Ленинграда? — высказал предположение Романов.
— Нет, не отгадал! Гораздо нужнее для нас в этот момент.
На пороге появился дежурный.
— Товарищ капитан, срочный пакет.
— Давайте!
Ильичев отпустил дежурного, раскрыл конверт.
— На, читай, Владимир! Читай вслух.
— «Поселок Угольщиков. До востребования. Александру Серегину. Приезжай за посылкой. Лопаев».
Романов присвистнул:
— Неужели еще деньги привез?
— Едва ли. Просто условная шифровка.
— Тогда они все сейчас зашевелятся.
— Нам это на руку. Считай, что у нас с тобой начался государственный экзамен.
— Выдержим.
— Ну, добро.
— Только бы Полюшко-поле там в Ленинграде ничего не почуял. Пока он живет открыто: рестораны, женщины, загородные прогулки...
В кабинет неслышно вошла миловидная сухонькая женщина — секретарь отдела. Она молча положила на стол свежую почту, взяла папку с подписанными бумагами и также неслышно удалилась.
Ильичев перелистал почту, отобрал самое важное и стал читать.
Романов хотел было пойти уже к себе, но громкий возглас удивления заставил его задержаться.
— Везет же нам сегодня!.. На, читай!
Да, сообщение действительно было важное. Значит, Полев ничего не заметил. В противном случае не стал бы он взамен проданного старенького «Москвича» покупать роскошную легковую машину «ЗИМ».
— Ну, как наш Полюшко-поле? — спросил Ильичев Романова, когда тот дочитал бумагу.
Романов пожал плечами:
— Непонятно!
— Я думаю, Владимир, надо тебе срочно лететь в Ленинград. В любой день Полев может почувствовать неладное и исчезнуть. Тогда будет трудно его искать.
— Может, кто другой полетит?
— Нет, полетишь ты. И наверное не один. Я поговорю об этом сегодня с комиссаром.
Романов встал.
— Будет приказ — полечу.
— А пока, Владимир, проверь, все ли у нас готово. Я тоже проскочу в соседний поселок, поинтересуюсь Ковачем...
Был час обеденного перерыва. То и дело раскрывались двери поселковой столовой, и в маленький зал вваливались все новые и новые группы посетителей. Строители, приисковые рабочие и заезжие шофера приносили с собою острые запахи свежеструганных досок, бензина и солярки. Смешиваясь с пряным ароматом борща и жаркого, эти запахи щекотали гортань.
Черненькая официантка, воспользовавшись передышкой, поправляла косынку, когда ее требовательно подозвал к своему столу пожилой мужчина с густой копной волос.
В отличие от других этот мужчина ел не спеша, со вкусом. Девушка заметила это еще в тот день, когда впервые обслужила незнакомого посетителя.
— Я вас слушаю...
Мужчина отложил в сторону вилку, вытер губы бумажной салфеткой и с упреком сказал:
— У вас не умеют готовить шашлык. Пригласите ко мне заведующего.
Девушка недовольно передернула плечами и отправилась за заведующим. Через минуту Ковач уже стоял возле требовательного посетителя и выслушивал его упреки. Мужчина, отрекомендовавшийся инженером Лопаевым, говорил со знанием дела, как истинный гурман.
— Условий нет. Тесно, жаровню некуда поставить, — пытался оправдаться Ковач.
Он казался растерянным рядом с самоуверенным, знающим себе цену инженером.
— Организуйте условия, — поучал Лопаев. — Никто за вас работать не будет. Исподволь и сырые дрова загораются...
Ковач вскинул голову и недоуменно уставился на посетителя:
— Простите, я вас не понял...
Инженер презрительно усмехнулся.
— Не мудрено, что работать не умеете, если понимать разучились...
Ильичев, с увлечением поглощавший блины, слышал только обрывки разговора, но Ковача он видел хорошо. От него не ускользнуло выражение растерянности на лице заведующего столовой.
Однако Ковач быстро овладел собой и пригласил посетителя посмотреть кухню и служебные помещения.
— Увидите, как нам трудно в таких условиях...
Лопаев, снисходительно улыбаясь, надел белый халат и вслед за заведующим пошел на кухню.
«Началось, — подумал Ильичев. — Эх, узнать бы, о чем они сейчас говорят!»
Капитан милиции быстро утратил интерес к блинам и вышел на улицу. Через минуту к нему подошел Доронов.
— Разрешите прикурить!
— Пожалуйста.
Подавая спички, Ильичев тихо приказал:
— Наблюдай за выходом из кухни. Инженера возьми на себя...
И они разошлись в разные стороны.
Лопаев вышел через кухню и, не оглядываясь, зашагал к остановке автобуса.
«До чего же самоуверен! — удивился Ильичев. — Даже не обернется! Ишь, как себя натренировал!»
Доронова не было видно, но. капитан знал, что и он сейчас не сводит глаз с высокой фигуры Лопаева.
Вскоре к остановке подкатил маленький приисковый автобус. Забрав пассажиров, он двинулся в путь. В ту же минуту Доронов покинул свой наблюдательный пункт и, перескакивая через валуны и редкий кустарник, кинулся вниз по склону к тому месту, где дорога тугой петлей охватывала каменистую грудь сопки.

Садиться в автобус на остановке Доронов не захотел, опасаясь привлечь внимание Лопаева.
«Сяду на петле, — решил он, — там, где садятся гидромониторщики...»
Вот и дорога! Доронов перешел на шаг, отдышался, присел на камень и закурил. Неподалеку гудел гидромонитор, ворчала речушка. Наконец за поворотом послышался шум мотора. Доронов повернул голову и увидел грузовую машину.
«Где же автобус? — беспокойно подумал он. — Неужели не успел?»
Водитель грузовика притормозил машину и высунулся из кабины:
— Тебе куда?
— До райцентра! Подбрось, пожалуйста, опоздал я на автобус.
Шофер заулыбался:
— Садись, подвезу. Только на автобус ты не опоздал. Стоит автобус за поворотом: баллон спустил.
— А-а, вот оно что! Ну, тогда обожду. Спасибо, товарищ! Извини, что остановил.
Через несколько минут подошел автобус. Доронов сразу заметил сидящего у раскрытого окна инженера и с залихватской веселостью спросил шофера:
— Сегодня не дешевле?
Потом протянул деньги.
— До аэропорта...
В аэродромной гостинице к Лопаеву подошел человек с рыхлым лицом.
— Серегин! — тихо представился он и протянул руку.
Лопаев пожал жесткую потную ладонь, взял ключ от номера и, сопровождаемый Серегиным, зашагал по узенькому коридорчику. Пропустив Серегина, он вошел в номер и дважды повернул ключ изнутри.
Из гостиницы мастер кирпичного завода вышел через час.
Явно довольный результатами визита, он церемонно раскланялся с дежурным администратором, подарил несколько любезностей киоскерше и вышел на улицу.
Домой Серегин возвратился не сразу. Прежде он завернул в ресторан и распил там несколько бутылок марочного коньяка с веселыми молодыми геологами. Он прочитал им «Незнакомку» Блока, расплатился и, небрежно кивнув своим новым знакомым, вышел из ресторана.
Попутная машина доставила Серегина почти до самого дома. Было уже поздно, но спать он не лег. Его фигура то появлялась в окне, то исчезала где-то в глубине комнаты.
«Нервничает», — решил Романов, устраиваясь поудобнее на месте, выбранном для наблюдения. Ему очень хотелось спать, сказывалось огромное напряжение последних дней, глаза устало слипались, голова тяжело клонилась на грудь. Романов уже несколько раз ополаскивал лицо холодной водой из ручья, но легче не становилось.
А Серегин все ходил и ходил по комнате.
Часов около четырех тишину ночи нарушил шум мотоцикла. Владимир насторожился, подобрался поближе к дороге.
Серегин подошел к окну и отдернул занавеску.
Треск мотоцикла внезапно оборвался. В ту же минуту в окнах серегинского дома погас свет, а сам Серегин появился на крыльце. Он вполголоса спросил о чем-то владельца мотоцикла и, не дожидаясь ответа, сел на заднее сидение.
Взревел мотор, и мотоцикл рывком двинулся с места, оставляя за собой шлейф пыли.
До почты, где имелся телефон и возле которой стояла оперативная машина, Романов долетел одним духом.
— Станция, дайте поселок дорожников... Срочно... Поселок? Седьмой... Здравствуйте, Романов. Сейчас к вам подойдет мотоцикл со стороны угольного разреза. У мотоцикла не освещен задний номер. Задерживать не надо, но запомните номер и заставьте мотоциклиста при вас наладить свет. После этого подробно доложите обо всем дежурному по райотделу. Да, да, по телефону...
Романов повесил трубку и выбежал к машине. Мягко загудел стартер, и «газик» плавно покатился вниз в ту сторону, где несколько минут назад исчез мотоцикл.
В поселке дорожников, возле дома участкового уполномоченного, машина затормозила. Не выходя из нее, Романов нетерпеливо бросил подбежавшему младшему лейтенанту:
— Ну, как?
— Мотоцикла не было.
— Как не было?!
— Не появлялся. Дежурю на дороге с тех пор, как вы позвонили, а мотоцикла не видел.
— Плохо...
— Извините, но я не виноват...
— Это я не вам, себе.
— Может, что нужно?
— Нет, ничего. Впрочем, какие проселки отходят от этой дороги?
— Больше пяти. Два на открытые разработки, один на лесосеку и два — на горную трассу. Плохой путь, но ездить в сухую погоду можно. Кроме того, одна дорога ведет на старую шахту...
Романов развернулся и медленно поехал обратно к поселку угольщиков.
Он оставил машину на старом месте возле почты и осторожно пробрался на свой укромный наблюдательный пост...
Серегин вернулся домой часов около восьми утра. Он занес со двора охапку дров и пошел на кирпичный завод.
Нужно было начинать поиски мотоциклиста.
«Трудное это дело, — рассуждал про себя начальник ОБХСС. — У нас в районе больше двухсот мотоциклов...»
Сразу же после ухода Серегина Лопаев обратился к дежурному администратору гостиницы с вопросом:
— Когда же я дождусь обещанного мне отдельного номера?
Дежурная заволновалась:
— Вы уж не серчайте, все время занят номер. То из райисполкома заказывали, а сегодня из Северска звонили. Начальство едет.
Лопаев нахмурился.
— Уже второй день пустует отдельный номер напротив комнаты, где я сейчас живу.
— Так это же люкс. С гостиной и ванной. Семьдесят пять рублей в сутки.
— Дайте мне от него ключ. Вот вам за неделю вперед. А вот ключ от комнаты, где я жил. Можете селить там разных пьяниц..
— Почему же пьяниц? У нас народ спокойный. А если выпьет кто, так ведь в отпуск едут. С кем не бывает?!
Но Лопаев уже не слушал. Он перенес чемодан, пальто и несколько маленьких пакетов в люкс и запер за собой дверь.
«Оберегает себя от посторонних глаз или что-то заметил?» — ломал голову Ильичев.
Переселение Лопаева в отдельный номер явно усложняло действия опергруппы. В том, что инженер является главным связующим звеном между шайкой Огаркина и Полевого, теперь уже никто не сомневался. Значит, золото доставят ему. «Кто: Серегин или Ковач? — размышлял Ильичев, — а может, появится новый человек?..»
А Лопаеву в эту ночь не спалось. Он несколько раз выходил на крыльцо гостиницы и подолгу курил, поглядывая на мерцающие вдали огоньки поселка.
Выйдя на улицу в четвертый или пятый раз, инженер не стал закуривать, а быстро пересек открытую площадку перед гостиницей, юркнул в кусты и торопливо зашагал к центральной трассе. Затем он остановился, прислушался и растворился в темноте.
Через час инженер возвратился. Когда он вошел в полосу света, отбрасываемую в темноту открытой дверью, Доронову показалось, что карманы лопаевского пиджака сильно оттянуты чем-то тяжелым...
— Ваши выводы? — обратился к оперативным работникам Ильичев после того, как Доронов рассказал о ночных наблюдениях.
— Лопаев получил золото, — уверенно заявил Романов. — Если не все, то, во всяком случае, часть золота уже у него. Ночью на прогулку по бездорожью не ходят...
— Лопаев готовится к отбытию, — подтвердил Доронов. — Он встретился с Ковачем и Серегиным. Серегин по его поручению ездил куда-то с неизвестным мотоциклистом... Я тоже уверен, что сегодня ночью Лопаев взял из тайника золото.
Такого же мнения были и другие.
— Нужно решать, когда брать Лопаева: сейчас с тем, что у него есть, или подождать, когда он будет садиться в самолет. Прошу высказать свои соображения, — предложил Ильичев.
— Нужно ждать! — заявил Романов. — Возьмем сразу всех. И золото...
— Возражения есть? — перебил Ильичев. — Стало быть, ждем, товарищи!
Последние дни Ковач явно нервничал. Он дважды уже прибегал в общежитие Павла, но повидать молодого старателя не удавалось: Павел находился на полигоне.
— Срочно привезти парня, — распорядился Ильичев, узнав об этом. — Нужно узнать, зачем он понадобился Ковачу.
К вечеру Павел был уже в поселке и, будто невзначай, заглянул в столовую.
Увидев его, Ковач оживился и знаками показал, что ждет его у себя.
Павел неторопливо поужинал, перебросился шуткой со знакомыми ребятами, вышел на улицу и нырнул в калитку.
Дверь ему открыл сам Ковач.
— Скорее, паря, — потянул он Алешкина в свою каморку. — Слушай, товар твой нужен... Сегодня, сейчас же, а то опоздаешь...
Павел сделал вид, что не понимает.
— Да что ты, обалдел? — рассердился Ковач. — Хочешь продать, тащи товар мне.
— В тайге у меня припрятано, далеко...
— Слетай живо! Больше такого случая не будет, уплывет твое счастье.
Павел задумался.
— Ладно, согласен. Только ночью идти по тайте как?
— Дойдешь, не новичок! Ради такого на коленях доползешь.
— Попытаю, коль так. Но верно говоришь-то?
— Ну... как тебе? Божиться, что ли? Беги, неси товар. Только до рассвета успевай. Успеешь, — постучи в окно и жди, пока выйду. Ох, повезло же тебе, паря! Деньги получишь и езжай себе куда глаза глядят.
— А ты?
— Я? Что я... Золота у меня нет. Что с чужого стола перепадет, тому и рад. Останусь я... Ну, прощай, паря. Спеши, не оглядывайся!
Он проводил Алешкина до калитки и долго смотрел ему вслед, на узенькую тропку, которая через перевал уходила в тайгу...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
К вечеру поднялся ветер. Он разогнал облака и обнажил край неба, накаленный жарким закатом. Устраиваясь поудобнее в густом кустарнике неподалеку от дома кирпичного мастера, Романов вспомнил о сегодняшнем разговоре с Ильичевым.
«Прав, ну конечно же прав Дмитрий, — рассуждал он. — Появление нового действующего лица в этом многоактном спектакле — явление не случайное. Мотоциклист даст о себе знать еще...»
Было совсем тихо, только под самым боком бормотал о чем-то своем ручеек, да на другом конце поселка злобно переругивались собаки. Как и накануне, в окнах серегинского дома горел свет, но Серегин не появлялся.
«Неужели не ждет?» — подумал Романов...
Мотоциклист, лихо влетевший ночью в поселок Угольщиков, чуть было не врезался в вывернувшийся из-за угла самосвал. Пока он, отчаянно бранясь, метался, как ночная бабочка, в сильном свете автомобильных фар, Романов успел разглядеть номер мотоцикла.
«Молодец, Костя! — с благодарностью подумал оно водителе самосвала. — Не опоздал».
На этот раз Романов не досадовал на таинственное исчезновение Серегина. «К чему досадовать, — размышлял он, — если через полчаса мне будет известна личность этого мотоциклиста». И действительно, через полчаса Романов уже знал, что владельцем мотоцикла, на котором уехал Серегин, является бывший председатель старательской артели Лукин.
— Его сестра замужем за Полевым, — многозначительно обронил в телефонную трубку Ильичев.
Что же, не зря Доронов вылетел в Ленинград. Теперь-то Полюшко-поле не вывернется. Романов зябко потянулся и зашагал к дому Серегина.
А Серегин в это время был далеко от родного дома...
— Спорят о чем-то, товарищ капитан! — тихо доложил Ильичеву участковый уполномоченный. — А на столе — деньги в пачках...
«Сейчас выйдут, сядут на мотоцикл и — поминай, как звали!» — огорченно подумал Ильичев, глядя на ярко освещенные окна лукинского особняка. Затем, что-то решив, он ловко пополз к мотоциклу.
Минуты через три капитан возвратился к тому месту, где лежал участковый, и изложил план дальнейших действий:
— Теперь им придется добираться до основной трассы пешком. Нужно позаботиться, о «попутке» для них. Я пойду, а вы останетесь здесь. Следите за ними в оба. Ваш участок от дома Лукина до основной трассы.
— Ясно, товарищ капитан!
— Только себя не обнаруживать. Ни при каких условиях!
— Все понял!..
Вскоре в доме погас свет, и на пороге показались две фигуры: щупленький быстрый Лукин и широкий медлительный Серегин. Они постояли, прислушиваясь, и направились к мотоциклу. Лукин воткнул ключ, включил зажигание и рывком отвел вниз маленькую педаль. Мотор молчал. Лукин повторил все сначала, но двигатель упорно не заводился. Потратив четверть часа на поиски неисправности, они закатили мотоцикл во двор и, зло переругиваясь, быстро зашагали по ухабистой дороге к центральной трассе. Минут через двадцать они уже тряслись в пустом кузове подобравшей их трехтонки.
По обеим сторонам широкой трассы угадывались в темноте деревья, временами вспыхивали огни горняцких поселков, вырывая из тьмы то небольшие рубленые домики, то задранную к звездам стрелу экскаватора.
Было совсем светло, когда на дороге, связывающей районный центр с аэродромом, показался Серегин. Он шел не торопясь, изредка помахивая плетеной сумкой. Со стороны казалось, что этот человек забрел сюда совершенно случайно, прогуливаясь от нечего делать в окрестностях поселка.
Но вот на дороге со стороны аэропорта появился мужчина в светлом пальто, и Серегин, разом подобравшись, пошел быстрее.
«Лопаев»! — решил Ильичев и поднес к глазам бинокль.
Инженер Шагал широко, уверенно, как всегда задрав свою седеющую голову и засунув руки в большие накладные карманы пальто. Встретившись с Серегиным, он сразу же о чем-то заговорил, возбужденно жестикулируя. Серегин стал возражать. При этом он дважды ставил на землю и вновь поднимал плетеную сумку.
«Неужели осечка?! — тревожно размышлял Ильичев. — Судя по всему, сумка Серегина пуста... Нет, золото должно быть здесь...»
Никто из лежавших в засаде оперативников даже не шелохнулся, когда Серегин, перескочив через придорожный кювет, стал удаляться в сторону от дороги.
Вот он нагнулся среди густого кустарника и быстро положил что-то в сумку.
— Наконец-то!.. — облегченно вздохнул Ильичев и перевел бинокль на Лопаева. Инженер, казалось, совершенно забыл о Серегине. Он шел по направлению к аэропорту, шел торопливо, не оборачиваясь...
У километрового столба, где узенькая аэродромная дорога вливалась в широкую трассу, Серегин остановился. Здесь обычно ожидали попутные машины горняки, возвращавшиеся из района в приисковые поселки.
Кроме Серегина, тут уже была краснощекая девушка в зеленом пыльнике. Присев на маленький сундучок, она с аппетитом откусывала поочередно то от большого ломтя колбасы, то от батона.
— Не успела позавтракать, — смущенно сказала девушка, поймав косой серегинский взгляд.
— Далеко едете? — спросил Серегин.
— На «Вьюжный», — ответила она. — Работать там буду... А вон и машина...
Девушка торопливо засунула остатки хлеба и колбасы в карманы пыльника и подхватила сундучок. Серегин тоже поднял сумку и шагнул к машине, но выпрыгнувшие из кузова трехтонки парни, к великому удивлению девушки, вежливо предложили ему поставить сумку на землю и поднять руки.
Серегин сразу обмяк и чуть было не плюхнулся на землю.
— А теперь можете садиться в машину! — тоном приказа сказал Романов и передал Ильичеву тяжелую сумку.
— Ого! — взвесил капитан милиции в руке кошелку. — Вот так накупили!..
В райотделе сумку опорожнили. Из нее извлекли пакет, судя по упаковке, подготовленный к пересылке на большое расстояние. В пакете среди бумаг и тряпок насчитали одиннадцать маленьких узелков с россыпным золотом и несколько самородков. Тут же лежало никому конкретно не адресованное письмо, в котором автор сообщал о посылке золота, хвалил добычливое лето и сетовал на недостаток денег.
— «...Остальные пришлешь «артисту». Еще заход, и я сматываюсь...» — прочитал вслух Ильичев и, обращаясь к задержанному, спросил:
— Писали вы?
— Нет.
— А золото ваше?
— Нет, ничего не знаю...
Постепенно приходя в себя от неожиданности, Серегин начал рассказывать про какого-то Николая, который попросил его подержать у себя посылку до приезда инженера.
— Почему же Лопаев не взял у вас пакет? И зачем было прятать его в яме? Вы же приехали с пустой сумкой, а посылку подобрали в укромном месте недалеко от дороги.
— Так инженер велел.
— Почему Лопаев не взял пакет?
— Не знаю.
— Кому принадлежит это золото?
У Серегина снова потухли глаза. Облокотясь на стол, он упрямо повторил:
— Не знаю...
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Дальше все пошло своим чередом. Через полчаса милицейский «газик» подкатил к дверям аэропортовской гостиницы. Расталкивая ожидающих вылета пассажиров, Романов разглядел в толпе своих оперативников. Все были на местах: двое весело спорили о чем-то у входа в гостиницу, один листал журнал, сидя на скамейке под окнами люкса.
«Отлично! — с удовлетворением отметил про себя начальник ОБХСС. — Значит, Лопаев находится в номере».
— Внимание! Берем... — тихо обронил Романов, проходя мимо споривших. Они двинулись за ним по небольшому коридору. Не стучась, Романов рванул дверь люкса.
— Руки вверх!
Геолог смертельно побледнел, выронил газету и встал с вытянутыми руками.
Пока его обыскивали, он молчал, но затем начал бурно протестовать:
— Я так не оставлю! Сейчас не двадцатый год! В Москву напишу, всюду! Нападать с оружием на порядочного человека!
Из шкафа извлекли широкий пояс, сделанный специально для транспортировки золота, а на столе появилась записная книжка Полева с множеством адресов и телефонов...
На допросе Лопаев вел себя нервозно, обвинял милицию в терроризме, обещал жаловаться.
— Где золото?
— Какое золото? За кого вы меня принимаете? — шумел Лопаев.
— Где ваши сообщники? С кем вы работаете?
— Как вам не стыдно! Я здесь никого не знаю...
Когда ввели Серегина, Лопаев разом осекся и замолчал.
— Знаете этого человека? — спросил Серегина Ильичев.
— Знаю.
— Посылку должны были отдать ему?
— Ему.
— Он лжет! — не выдержал Лопаев. — Я его впервые вижу. Это провокация!
Вошел эксперт научно-технического отдела. Он положил перед Романовым фотографию, изображающую Лопаева и Серегина во время беседы на дороге к аэропорту. Была отчетливо видна даже лежащая на земле плетеная хозяйственная сумка. Их сняли из кабины проходившей мимо машины.
— Вы? — спросил Романов, протянув снимок инженеру.
— Я...
Он вдруг спохватился, запротестовал:
— Вы не имеете права сравнивать меня с ним! Я инженер, приехал оформлять пенсию, а это случайное знакомство...
— Золото, изъятое у Серегина, ваше?
— Ложь! Я не видел никакого золота!
— Может, и о переводе на тридцать тысяч вам ничего не известно. Почему же отправителем значится Лопаев Григорий Николаевич?
Этого геолог никак не ожидал. Не имело смысла все отрицать. Лопаев смахнул платком с лица крупные капли пота и заискивающе заговорил:
— Не мое золото. И деньги не мои... Меня просили привезти посылку... Мне только за проезд... Пенсия...
— Сколько вам дал Полев?
— Пятнадцать тысяч. — Он заговорил быстро, бессвязно:
— Все, все скажу... Только пожалейте... Помогу найти Полева и всех... Сын у меня в академии...
Романов с отвращением смотрел на этого жалкого, плачущего мужчину.
— Почему золото у Серегина не взяли?
— Боялся. Мне сказали, что Огаркин исчез... Сына жалко, — снова захныкал он. — Один он у меня...
— Кто вам сказал, что пропал Огаркин?
— Ковач, заведующий столовой на прииске.
Романов кивнул головой в сторону Лопаева.
— Уведите!
Когда инженера увели, спросил:
— Ковач уже у нас?
— Здесь! Билет покупал на самолет до Ленинграда на имя Лопаева.
— Сознался?
— Нет!
— Введите его.
Заведующий столовой осторожно опустился на кончик стула и растерянно смотрел на незнакомые лица.
— Ну, рассказывайте. Откуда у вас деньги, почему чужой паспорт?
— Из столовой я... заведующий...
— Уже знаем.
— Просил приезжий инженер билет купить. И деньги его. Угостил, конечно... Я и покупал...
— А где же этот инженер?
— Инженер?! — переспросил Ковач.
— Да!
— Пропал... Нету его.
— Паспорт вам оставил, деньги, а сам сбежал?
— Пропал... Второй день нет...
Вторично в кабинет ввели Лопаева.
— Он?
— Да!..
— Говорить будете?
— Буду. Все равно, конченый я человек, — чуть слышно проговорил Ковач и опустил голову.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Когда бывший председатель старательской артели переступил порог своего дома, он не узнал его. Все вещи были переставлены, на столе лежали пачки денег, на стульях сидели трое незнакомых мужчин.
Лукин интуитивно отступил назад и хотел было захлопнуть дверь, но сзади кто-то вежливо сказал:
— Заходите! Смелее. Вы у себя дома...
Лукин вошел, сел на предложенный ему стул и уставился на бумаги и деньги.
— Ваши деньги?
— Мои...
— Сколько здесь?
— Не знаю.
Лукин и в самом деле не знал, все ли деньги обнаружены или только часть из них.
— Откуда у вас столько?..
— Копил. Вся жизнь моя тут... Берег, отказывал себе во всем...
— А полный сарай пустых бутылок соседи вам нанесли?
— Старое это, не пью.
— Судя по этикеткам, половина бутылок опорожнена в этом году.
Лукин не мог прийти в себя от потрясения и не знал, что говорить.
— Так сколько у вас денег?
— Семнадцать...
— Нет, тридцать пять тысяч!
— Сорок пять, — поправил Ильичев.
— Забыл...
— А куда возили ночью золото с Серегиным, помните?
— Спрятали. Спрятали золото!..
Ильичев переглянулся с товарищами.
— Где?
— Далеко. В шурфе, возле затопленной шахты.
«Неужели не все золото взяли у Серегина и Лопаева? — мелькнула мысль у Ильичева. — Надо проверить».
— Поехали!..
Неподалеку от старой затопленной шахты Лукин попросил остановиться. Ткнув заскорузлым пальцем в засыпанный шурф, отрывисто сказал:
— Здесь зарыто...
По очереди стали рыть. Рыхлый грунт поддавался легко, но вскоре пошла галька и копать стало труднее. Часа через полтора лопата уткнулась в лед. Рыть дальше не было смысла.
— Лжете! — зло бросил Ильичев Лукину, который к этому времени сумел оправиться от потрясения и чувствовал себя гораздо уверенней.
— Упаси бог! Перепутал я... Кажется, в том шурфе... Пришлось снова браться за лопату. Прошел час, другой, начинало темнеть, а признаков золота не было.
«Время тянет, — понял Ильичев. — Надеется, что Лопаев успеет улететь».
— Опять не тот шурф? — спросил Ильичев, когда лопата вторично заскрежетала по льду.
— Не тот, — равнодушно подтвердил Лукин. — Память сдает...
— Продолжим завтра, — спокойно сказал Ильичев. — А вам придется эту ночь провести у нас.
В районный центр приехали поздно вечером. Ильичев познакомился с результатом допроса Лопаева, Серегина и Ковача, после чего приказал привести бывшего председателя старательской артели.
— Рассказывать будете? — спросил Ильичев.
— Буду, — угодливо улыбнулся худенький человек с большими торчащими ушами. — Ваше дело спрашивать, наше — отвечать.
— Где золото? Зачем вы нас возили к старым шурфам?
— Запамятовал адрес. Золота нету и не будет.
Он снова гаденько скривил рот.
— Сообщников назовете?
— Были — нету. Все вышли.
— Улетели сообщники с золотом?
— По щучьему веленью сплыли.
Капитан кивнул головой, и в комнату ввели Лопаева.
Еще не понимая, в чем дело, Лукин косо глянул через плечо и тут же пригнулся, будто хотел уклониться от удара.
— А-а! Будь ты проклят! — И разразился отборной бранью.
Лопаева вывели.
— Теперь говорить будете?
— Его, его золото! Моего ничего нет.
— Значит, изъятое у инженера золото не ваше?
— Не мое!
— А посылку упаковывали вы?
— Вы меня не ловите! Не знаю никаких посылок.
— И письмо в ней не ваше?
— Какое еще письмо?
Ильичев придвинул Лукину лист бумаги и ручку.
— Может, мы ошиблись, и вы здесь ни при чем. Пишите: про посылку и письмо ничего не знаю. И распишитесь.
Лукин внимательно посмотрел на капитана милиции и стал медленно писать. Поставив точку, отодвинул от себя бумагу.
— Вот и хорошо, — сказал Ильичев и вынул из папки найденное в посылке письмо.
— Стало быть, письмо не ваше?
— Нет.
— А кто же это вашим почерком пишет?
Побледневший Лукин понял, что проиграл.
— Давно с Полевым знакомы?
— Давно.
— Посылка и письмо ему?
— Ему.
— А зачем вы нас к шурфам возили?
— Думал, инженер умнее. Время ему сберегал.
— А вам-то какой от этого прок?..
На этот вопрос Лукин не ответил. Да и что он мог сказать?..
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
— Вот мы и сдали с тобой государственный экзамен, — с улыбкой сказал Ильичев Романову по дороге к стадиону. — Видишь, как вольготно зажили: даже на футбол выбрались.
— Да, — в тон ему заметил Романов. — Давно у нас не было такого выходного дня!
В светлых брюках, легкой тенниске без рукавов, с вьющимися пышными волосами и добрыми карими глазами капитан милиции выглядел сегодня совсем молодым и беззаботным. Даже его ровесник, широкий и плотный Романов, казался куда более солидным и степенным.
Они пришли ко второму тайму, когда счет уже был 2 : 0 в пользу молодой команды самого отдаленного в районе прииска.
— Эх, молодцы! — искренне восхищался Ильичев. — Ты посмотри, Владимир, сколько у них энергии! Да из таких ребят мастера спорта выйдут!
— А ты знаешь, что это за команда? — обернулся к товарищу Романов. — Это же команда танкистов!
И пояснил:
— Все одиннадцать — демобилизованные воины, комсомольцы. Закончили курсы механизаторов и сейчас работают машинистами бульдозеров и скреперов.
— Гол-л! — восторженно закричал Ильичев, и его голос потонул в всплесках аплодисментов и радостных восклицаниях болельщиков.
Шли домой веселые и возбужденные. Радовал теплый день, интересный футбольный матч и успешное завершение трудного и запутанного дела «золотишников».
— А ты не забыл, Владимир, что у нас с тобой задолженность? — спросил вдруг Ильичев. — Все сроки отправки работ в институт прошли. Ох, выгонят нас с тобой!..
— Я сегодня утром начал писать.
— Начал, говоришь, а я все еще собираюсь.
У кинотеатра «Шахтер» их нагнала взволнованная чем-то жена Ильичева.
— Что случилось, Сима?
— Разыскивают тебя. Ты срочно нужен.
Дмитрий обернулся к Романову:
— Кажется, придется юридическому институту еще подождать своего неорганизованного студента...
— Думаешь, новое задание?
— Откровенно говоря, я уже с утра собрал чемодан.
Сима грустно улыбнулась:
— Я ведь заметила твои «подпольные» действия. Белье потихоньку уложил, бритвенный прибор, полотенце, карманные шахматы. А чемодан забыл спрятать, оставил на диване. Вот так конспиратор!
— Вы на него, Сима, не нападайте. Просто наши методы против жен бессильны!
— А потом... у тебя гость, — добавила Сима.
— Губанов, — догадался Дмитрий. — Наконец-то! Кажется, целую вечность не виделись.
— Недели две, — поправила жена. — Но ведь вы не можете друг без друга. Вон он! Не утерпел, встречает, — показала Сима на радостно улыбающегося Губанова.
Тот шел им навстречу, слегка прихрамывая, широко раскинув руки.
— Береги, Дима, кости: обнимать буду! — весело предупредил Губанов. — Целый век не видались!
Сима, Романов и Ильичев весело рассмеялись. Не понимая, в чем дело, Губанов растерянно переводил свой взгляд с одного на другого.
— Только что Дмитрий слово в слово сказал это же, — пояснила Сима Губанову.
Тот понял и тоже расхохотался.
Уже в квартире Ильичева Губанов спросил:
— Куда это ты собрался, Дима?
— Пока еще не знаю.
— Все золото?
— Да, с той самой поры, как ты приезжал ко мне, дело это тянется.
Ильичев достал из бумажника фотографии.
— Узнаешь? Лопаев — бывший главный инженер. Ковач — заведующий столовой. А это — ваш промывальщик, что застрелился... С ними кончено: скоро суд. А этот тебе, наверное, совсем незнаком.
С фотографии на Губанова смотрел худой человек с длинной головой, сильно суженной книзу, и короткими волосами.
— Где-то мы встречались, — протянул Губанов. — Ну да, — вспомнил! Это Полев... начальник снабжения... Ловкий тип. На соседнем прииске он...
— Был он начальником снабжения, — поправил Ильичев. — Был! А теперь он по другой части пошел: золотом похищенным кой-кого снабжает...
— Ясно, — протянул Губанов. — Тоже «золотишник»?
— И самый крупный. Вот он какой снабженец, Полев! Искать теперь нужно его...
— Ну, не будем о нем сегодня.
Ильичев сложил в бумажник фотографии, встал.
— Ты прости, Василь Михайлович, я тебя оставлю с Симой. Мне на минутку в райотдел, документы получить. А потом я весь день в твоем распоряжении.
— Э-э, плохо дело! — огорчился Губанов. — Я ведь в отпуск. Через час самолет. Значит, не увидимся.
— Увидимся! Я бегом, туда и обратно. Жди!..
Через час Губанов улетел через Москву в Симферополь, а вечерним самолетом капитан милиции Дмитрий Ильичев отбыл в Ленинград.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Город на Неве всегда поражал Дмитрия своей особой неповторимой красотой. Приезжая сюда в отпуск, он днями бродил по набережным и мостам, любуясь чугунным кружевом оград, темно-зелеными парками островов, величавым Исаакием и хранительницей многих тайн — Петропавловской крепостью.
Вот и на этот раз Дмитрию захотелось остановить аэродромный автобус, смешаться с толпой ленинградцев и отдаться беспрерывному потоку, который понесет его по широким улицам, проспектам, где чуть ли не каждый дом — бесценный памятник истории.
Но сейчас он не имел права наслаждаться прелестями Северной Пальмиры. Ему предстояло трудное и опасное дело. «Да, «последний из могикан» пойдет на все, спасая свою шкуру, — размышлял Ильичев. — Нужно предусмотреть».
— Приехали, граждане пассажиры! Манежная площадь, — известила кондукторша автобуса.
Ильичев спустился по ступенькам и сразу же увидел Доронова.
— Наконец-то! — бросился он к капитану.
Они пошли пешком по шумному многоликому Невскому, и Дмитрий невольно подумал, как трудно будет найти в таком огромном городе среди миллионов людей одного человека, если у него есть причины таиться.
Скромная гостиница «Северная» вполне устраивала приезжих. Она не бросалась в глаза и в то же время находилась в самом центре города, на углу Невского проспекта, напротив Московского вокзала и станции метро «Площадь Восстания».
— Вот теперь рассказывай, как наши дела, — сказал Дмитрий, когда они остались вдвоем в небольшом уютном номере.
— Дома Полюшко-поле не живет уже неделю. Жена примирилась с мыслью, что у него есть другая.
— А уехать из города он не мог?
— Нет. Позавчера его видели на заправке: заправлял свой «ЗИМ». Залил всего двадцать литров. Для дальнего пути вроде бы маловато.
— Постовые милиционеры предупреждены?
— Еще вчера.
Ильичев задумался. «Куда же делся Полев? Конечно, следовало ожидать, что он, почуяв что-либо неладное, постарается скрыться. Но куда?»
— Гостиницы и рестораны под контролем?
— Все сделано. Если Полюшко-поле появится, нам сразу будет известно.
— Хорошо, Гриша! Ты отлично поработал! Но теперь у нас есть записная книжка Полева. Ее нашли у инженера Лопаева. А в ней — уйма адресов...
— Что же вы молчите?
— Всему свое время. Вот точные копии этой книжки. Сюда перенесено все. Один экземпляр тебе, другой мне, а третий — ленинградским товарищам. Надо им отправить немедленно.
— Тогда я бегу.
— Беги! И попроси для нас карту Ленинграда. А то мы знаем его, как туристы.
— Ясно! Разрешите идти?
— Иди!.. Нет постой... Мы с тобой сейчас штатские люди, проводим в Ленинграде отпуск. Так что забудь всякие официальные обращения.
— Будет выполнено! — Доронов улыбнулся и добавил: — Это последний раз, товарищ капитан...
Перед отъездом Дмитрий еще раз долго беседовал с инженером Лопаевым, пытаясь проникнуть в психологию этого человека. Тот отчетливо сознавал свою вину и с презрением говорил о Полеве. Кстати, он рассказал о буйных попойках, в которых, кроме Полева, участвовали какие-то женщины.
Лопаев уверял, что о золоте эти женщины ничего не знают, но их влечет «красивая жизнь» и они не прочь продать себя любому, кто хорошо заплатит.
Дмитрий пытался узнать, где живут эти женщины, у которых Лопаев бывал с Полевым, но инженер либо не помнил, либо не хотел сказать их адреса. Дмитрий уловил только из его рассказа, что попойки происходили в старом деревянном доме на Каменном острове.
«Не легко найти по такому адресу людей, которых ты не знаешь», — думал Дмитрий, обходя улицы Каменного острова. В одном дворе он попал на открытие детской площадки, в другом успел на собрание уличного комитета, обсуждавшее вопрос о «добрых соседях».
Участники собрания уже расходились, и Дмитрий присоединился к группе женщин, которые оживленно рассказывали что-то стройной белокурой девушке с блокнотом а руках.
— Мы выступим, вы не бойтесь, — говорили женщины. — Пусть попробуют от народа отмахнуться!
— Правильно, правильно! Выведем их на свет божий! — волновалась старушка в темном платке и теплых домашних туфлях. — Пусть-ка перед народом покраснеют!
— Ой, да вы даже не знаете, как это здорово! — с энтузиазмом подхватила девушка с блокнотом. — Да мы с вами... горы свернем!
Прощаясь, девушка оказала несколько приветливых теплых слов, а взволнованную старушку даже расцеловала.
— Простите, я опоздал, — обратился к владелице пышных белокурых волос Ильичев. — Если не секрет, чему вы так радуетесь?
— А вы тоже корреспондент? — обернулась она.
— Да, только я приезжий, с Дальнего Востока.
— А-а, — разочарованно протянула девушка. — А я думала... Понимаете, это же находка!
— Скажите же, наконец, — улыбнулся Дмитрий. — Чем вы так пылко восхищаетесь?
— Вы подумайте, как женщины за дело берутся! Сегодня на собрании они постановили: дружить всем жильцам коммунальных квартир! Не просто жить, а именно дружить. Шестнадцать человек выступило. Здорово, правда?
— Здорово!
— А теперь предлагают еще одно собрание. Название даже придумали: «Кто не работает — от стола долой!» Это о тех, кто не хочет служить обществу. Есть такие, к сожалению. Кто их знает, как они живут... По закону их к ответственности не привлечешь, вроде бы не за что, вот женщины и хотят спросить у них: «На что вы живете?». Газета «Известия» подобные вопросы давно поднимает...
Девушка увлеклась и, шагая рядом с Дмитрием, с волнением рассказывала о своих впечатлениях.
Когда дошли до автобусной остановки, она вспомнила:
— Ой, да мы еще не знакомы...
— Михайлов. Дмитрий Михайлов, — отрекомендовался Ильичев.
— Лена Шаптала.
— Знаете, товарищ корреспондент, все это очень интересно. И если у вас будет время, поможем им подготовить это собрание, а?
— Конечно, поможем, — обрадовалась девушка. — Приходите к нам в редакцию.
— Хорошо. Только вы еще раз поговорите с этими женщинами, узнайте имена тех, кто не работает или живет не по средствам. Телефон я ваш записал, Лена. Завтра позвоню... Кстати, у меня о Каменном острове было совершенно другое представление. Я ожидал увидеть старинные деревянные дома с резными наличниками, террасами, шпилями. А здесь почти все новые кирпичные здания...
— О, в блокаду мы все деревянные дома на дрова разобрали. Я тогда девчонкой была, но очень хорошо это помню...
— Все дома?
— Почти все. И на Охте, и за Нарвской заставой, и на островах. Здесь на Каменном острове один или два деревянных дома остались. Там, где мы сейчас были, только подальше. Как раз мои женщины и живут в таком деревянном доме.
Дмитрий с удовольствием пожал руку Лене.
— Значит, до завтра?
— До завтра!
Автобус увез белокурую девушку, а Дмитрий поймал такси и вернулся к дому, во дворе которого недавно проходило уличное собрание. За красивым каменным особняком с выступающими «фонариками» следовало несколько нарядных многоэтажных кирпичных зданий, почти на самом конце улицы стоял двухэтажный дом, обшитый «вагонкой».
Других деревянных зданий Дмитрий не увидел.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Прошло еще два дня, но Полев по-прежнему не давал о себе знать. Зато у разыскивавших его работников милиции появилось много дополнительных данных. Нашли двух зубопротезных техников, которые по очень дорогой цене ставили коронки из «своего» золота. Нашли человека, который значился в записной книжке Полева под именем Адик. Сын довольно крупного инженера, исключенный из института за неуспеваемость, он вел праздную жизнь и, подражая «золотой» молодежи Запада, был завсегдатаем ресторанов и танцевальных залов. Адик поражал девиц умением шиковать и невероятными костюмами.
— Этот юнец часто вертится возле ювелирного магазина. Правда, неясно, какова его роль: покупатель он или продавец, — сказали Ильичеву в Ленинградском угрозыске.
Дмитрий долго рассматривал фотографию черноволосого красавца с тонкими, презрительно сжатыми губами. Потом поделился с Дороновым своим планам.
— Может клюнуть, — одобрил тот. — Не опытный волк, не разберется. Только пустите меня вперед...
Ни в первое, ни во второе посещение ювелирного магазина Доронову не удалось увидеть среди посетителей юношу с прической Тарзана. Но третий визит принес удачу: Доронов заметил Адика на улице у входа в магазин. Тотчас же началось осуществление намеченного плана. Ильичев прошел мимо Адика в магазин и громко, так, что было слышно даже у дверей, спросил продавщицу:
— Пластинки для коронок у вас есть?
Специальных золотых пластинок не оказалось, и «огорченный» Дмитрий стал прицениваться к обручальным кольцам. Он требовал червонное золото и не соглашался на доводы продавцов, что коронки, изготовленные из золота 583-й пробы, гораздо практичнее и послужат дольше.
Ничего не купив, Дмитрий вышел на улицу. Он прошел весь квартал и готов был уже считать свой план провалившимся, когда его тронула за плечо миловидная девушка лет двадцати:
— Вы хотели купить на зубы...
— Да, но дают мне совсем не то! Ленинград, а на коронки золота не купишь, — посетовал Дмитрий.
— Мы с братом решили продать кольцо обручальное. Проба 96-я... Кольцо умершей матери... Сами понимаете, студенты, — виновато улыбнулась она.
Дмитрий обрадовался:
— На ловца и зверь! Давайте ваше кольцо.
— Подождите минутку. Сейчас придет брат. Только лучше зайти в парадную.
Дмитрий послушно последовал за девушкой, и почти сейчас же в парадную заскочил Адик.
«Ага, — удовлетворенно отметил про себя Ильичев. — Прилетела бабочка на огонек!»
Кольцо было большое и тяжелое, из мягкого ярко-желтого золота.
— Десять граммов, — вежливо объяснил Адик. — Можете взвесить. Золото червонное, 96-я проба.
Он вынул из кармана лупу и подал Дмитрию.
Стараясь выглядеть простачком, Ильичев долго вертел перед увеличительным стеклом кольцо. Он без труда определил, что проба фиктивная, но высокий процент золота не вызывал у него сомнения.
«Наше, — уверенно решил Ильичев, — с Севера!»
Он тянул время, обдумывая решение: «Задержать этого начинающего «золотишника»? Пожалуй, он сразу расхнычется и кое-что сообщит. Но может случиться иначе...».
— Да, такое кольцо на зубы жалко, — с сожалением сказал он. — Жене бы подарить. Жаль, большое...
— Большое, — согласился Адик. — Но могу предложить поменьше. У нас еще одно есть, сестра на память оставила. Только сговоримся ли?
Он назвал такую цену, что Дмитрий не на шутку возмутился. Вероятно, это отразилось на его лице, потому что вертлявый юнец улыбнулся:
— Единственная ценность. Память родителей...
Дмитрий предложил иную цену, но Адик стоял на своем:
— С такой пробой дешевле не найдете.
Договорились встретиться завтра в это же время. Ильичев был уверен, что у Адика при себе имеется несколько колец, но боязнь заронить подозрение удерживает его от немедленной сделки. Дмитрия отсрочка тоже устраивала. За эти сутки Гриша Доронов сумеет обнаружить что-либо интересное.

Они вышли из парадной, и Адик пожелал приезжему провинциалу «всяческих удач в этой большой деревне».
Трудную заботу об этом юнце взял на себя Доронов. Дмитрий поехал в редакцию.
— Здравствуйте, товарищ Михайлов, — порывисто поднялась ему навстречу вчерашняя знакомая. — Я уже говорила с редактором. Представьте, одобрил! Идею, конечно. Только, говорит, не ошибись! Иначе...
И она шутливо провела рукой по спадающим на плечи волнистым белокурым волосам.
— Ну, такую голову терять жалко! — в тон девушке ответил Дмитрий. — Лучше пусть возьмет мою.
Оба весело засмеялись. Девушка рассказала о сегодняшней встрече с женщинами из двухэтажного дома на Каменном острове.
— Предлагают они для примера одну семью. В ней пять человек, все взрослые, а работает один. Нелюдимые, всех ненавидят и боятся. Двери держат всегда на замке, а в щели подглядывают, норовят укусить.
— Как крысы...
— Так вы их знаете? — расширились карие глаза девушки.
— Нет, что вы, Лена!
— А вы их назвали...
— Крысы.
— Верно, они же Крысовы! — расхохоталась девушка. — Их в доме все так зовут. Нехорошо, но метко! Такие они, понимаете, чужие. Одеты во все самое лучшее, всегда у них гости, вино, музыка. А какая музыка! Буги-вуги и рок-н-ролл. Почему и на что они ведут такую жизнь? Мы не можем проходить мимо, вы согласны?
Дмитрий охотно согласился.
— Вот мы и проведем собрание на тему: «Кто не работает — от стола долой!» Вытащим эту семейку на круг и поглядим, что она собой представляет.
— Очень хорошо, — поддержал Дмитрий. — Вам, Лена, обязательно надо выступать в товарищеском суде общественным обвинителем. Вы так пылко отстаиваете свои убеждения...
— Да вы не шутите! — смутилась девушка.
— А я серьезно. Очень правильное задумали дело! Только вы не интересовались, с кем же пьянствуют эти Крысовы?
Девушка приуныла:
— Этого-то никто еще не знает! Говорят, приезжают к ним все пожилые, солидные...
Неожиданно Лена заразительно засмеялась.
— Вы что? — удивился Дмитрий.
— Ой, представляю! Пожилые... Наверно, толстые... Рок-н-ролл! Вот бы взглянуть!..
Она смеялась искренне, от души и заражала своим весельем Ильичева.
— Вы не сердитесь на меня, — спохватилась девушка. — Не могу удержаться, как подумаю.
— Что вы, Лена, это замечательно!
— Что?
— Что в вас задора столько, энергии, умения увлекаться.
— Вы правда так думаете?..
— Ну конечно! И мы с вами горы свернем! Только не сразу. Нам нужен рычаг и точка опоры. А прежде всего, мне хочется выяснить одну деталь, которая меня заинтересовала... Скажем, просто как путешественника, приезжего человека. Дом, в котором живут Крысовы, действительно один из двух деревянных, сохранившихся после войны?
— Простите, я ошиблась. Тогда я вам неверно сказала. Не один из двух, а единственный двухэтажный деревянный дом. Других таких на Каменном острове не осталось.
Успокаивая себя, Дмитрий привычным жестом стал тихонько похлопывать ладонью по колену.
— Окажите, Лена, а на каком этаже живут ваши Крысовы?
— На втором.
Сомнений быть не могло. Полев возил Лопаева именно в этот деревянный дом на Каменном острове...
Григорию Доронову пришлось на этот раз тяжело. Его подопечный, продежурив более часа возле ювелирного магазина, нырнул в людскую толпу и устремился по Невскому проспекту. Доронов лавировал следом за ним в шумном и пестром потоке, а когда Адик, свернув на Владимирский, юркнул в парадную, он, замерев у дверей, весь обратился в слух:
— Пять, шесть, семь... одиннадцать, двенадцать... тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять... сорок четыре...
Наконец, шаги замерли. Адик поднялся на сорок четыре ступеньки. Когда за ним захлопнулась дверь квартиры, Доронов стал неторопливо подниматься по лестнице.
— Двадцать пять... тридцать... сорок... сорок четыре! Прямо перед ним красовалась нарядная дощечка под стеклом, на которой золотыми буквами было выведено: «Зубной техник».
Доронов был удовлетворен. На всякий случай он поднялся на последний этаж, постоял там немного возле окна, спокойно спустившись вниз, вышел на улицу. Он знал теперь еще один адрес, который мог иметь прямое отношение к делу Полева.
Адик вышел из этого дома через полчаса и танцующей походкой двинулся по Невскому, что-то насвистывая и улыбаясь встречным девушкам. На углу Садовой он вдруг прыгнул на подножку переполненного автобуса. Доронову, пришлось мгновенно перебежать наискосок Невский, чтобы занять освободившееся такси. Он искренне огорчился, что доставил неприятную минуту старшему сержанту милиции, который энергично грозил ему пальцем из своей будки.
— Вам куда? — вежливо осведомился шофер.
— Мне... прямо! Вон за тем автобусом! Там — жена с ребенком... А я не успел...
На первой же автобусной остановке Доронов вновь увидел Адика. Тот выпрыгнул из автобуса, тряхнул черной гривой волос и, показывая встречным яркие золотые коронки, пересек проспект.
У ресторана «Восточный» он чуточку постоял и стал опускаться по ступенькам.
Окна ресторана находились вровень с панелью, и Доронов, разгуливая мимо них, пытался разглядеть сквозь тюлевые шторы зал. Ему показалось, что рядом с Адиком сидит та самая девушка, которую он видел возле ювелирного магазина.
Спустя четверть часа Григорий зашел в ресторан.
Оглушительно звучал небольшой восточный оркестр. Два зала, соединенные между собой переходом, были полны. Доронов с трудом нашел свободный стул и попросил разрешения сесть.
— Не можем! — торжественно заявил полный лысый грузин. — Не можем, товарищ, разрешить, пока не уважишь нас. Выпей, генацвали, наше вино!
Он протянул Доронову полный бокал легкого искристого и ароматного «Саперави».
Сидевшие за этим же столом молодые грузины одобрительно рассмеялись, когда Доронов, не торопясь выпил сухое вино и попросил у официанта бутылку такого же для его новых друзей.
Григорий с удовольствием шутил со своими случайными соседями, которые оказались туристами из Тбилиси, но не выпускал из виду столик возле оркестра, за которым сидели Адик и его подруга.
«А я думал, они еще «зеленые», — удивился Доронов тому, как ловко Адик разлил в рюмки коньяк.
Уже покинули ресторан веселые туристы из Тбилиси, скромно поужинала за этим же столом молодая пара, но Адик и его спутница, казалось, и не собирались уходить. Они попеременно подзывали к себе то лысоватого официанта, то сухощавого прилизанного руководителя оркестра, заказывали вино, закуски, музыку.
«Едва ли они пойдут теперь пешком, — подумал Григорий. — Ишь нагрузились...»
Наконец, Адик стал рассчитываться. Доронов отставил в сторону тарелку, быстро расплатился и вышел на улицу. Попросив шофера одного из стоявших на углу такси подождать, он зашел в телефонную будку, откуда хорошо были видны опустевший Невский и залитый светом вход в ресторан.
Показались Адик и девица, сопровождаемые швейцаром. Адик заметно покачивался из стороны в сторону, а висевшая на его руке девица изгибалась и истерично хохотала, запрокидывая голову.
Швейцар знаком подозвал черный «ЗИМ» и заботливо усадил в него молодых прожигателей жизни.
«Значит, они здесь — частые гости», — решил Доронов и попросил шофера следовать за «ЗИМом». (Он показал свое служебное удостоверение).
Машины выехали на набережную Невы.
— Можно бы тут постоять, — заметил шофер. — Они до Сенатской и обратно. Знаю... Я их дважды возил...
Григорий не рискнул последовать этому совету, но шофер оказался прав. «ЗИМ» обогнул памятник Петру Первому и, минуя Адмиралтейство, Мраморный дворец и Петропавловскую крепость, устремился на Каменный остров.
— Не заметят они нас, не думайте, — доверительно сообщил Дорохову водитель. — Они сидят сзади и целуются. У меня память хорошая, а глаз — наводчика. Из армии недавно.
Очевидно, бывший наводчик действительно обладал хорошей памятью, потому что он уверенно свернул в переулок и выехал к двухэтажному деревянному дому, как раз в тот момент, когда из «ЗИМа» высаживались пассажиры.
— Спасибо, товарищ, — расплачиваясь, поблагодарил Доронов, — На вашу скромность я надеюсь...
— Запишите фамилию, — не обиделся шофер. — Может, пригожусь когда.
— А я запомню, у меня тоже память ничего!..
Григорий обошел деревянное здание и облегченно вздохнул: другого выхода не было. «А вдруг Адик решит здесь ночевать», — невольно подумалось Доронову. — Тогда, брат, будешь гулять всю ночь под окнами, — сказал он себе и усмехнулся.
В двух окнах второго этажа вспыхнул яркий свет. Потом свет стал мягче: вероятно, на лампочку набросили что-то красное. Григорий услышал женский говор и громкий мужской смех, однако разобрать хотя бы отдельные слова не удавалось. Внезапно голоса заглушили стон электробанджо, резкий вой литавр и барабанный бой.
Григорий почувствовал сильное желание швырнуть чем-нибудь тяжелым в эти красные окна, растревожить грязное болото, вышвырнуть на улицу затаившуюся там пакость.
«Днем спекулируют и крадут, — думал он, — а вечером устраивают пьяные оргии. Какая мерзость!»
Заполночь наверху все затихло, красный свет в окнах погас, но Адик не появился.
Доронов осторожно прошел квартал, открыл стеклянную дверь будки телефона-автомата и, не спуская глаз с подъезда деревянного дома, набрал номер.
Ильичев ответил сразу. Выслушал краткий доклад, шутливо заметил:
— Значит ты, Гриша, весело проводишь время.
— Отлично! До часу ночи сидел в ресторане, а сейчас гуляю...
— Я тебе завидую, — прокричал в трубку Дмитрий. — Так завидую, что сейчас приеду к тебе.
— Вот это дружба! Я на такое и не рассчитывал.
— То-то! Не скучай, я быстро.
Доронов еще раз обошел двухэтажный дом. Тишина, на улицах — ни души. Издалека поползли по небу столбы света. Еще минута, и возле красивого каменного особняка остановилась машина.
— Дмитрий Михайлович, — подошел Доронов. — рад вас видеть!
— Здравствуй, Гриша, рассказывай, как у тебя дела?
Доронов подробно рассказал о событиях дня и ночи.
— А теперь, Гриша, я тебе кое-что сообщу. В этом доме частенько бывали Лопаев и Полюшко-поле. Не сомневаюсь, что они посещали ту же самую квартиру на втором этаже, где сейчас Адик.
Нужно узнать, не скрывается ли там Полев. Это — мое дело, — решительно сказал капитан. — А ты, Гриша, отправляйся отдыхать. Возвращайся к восьми утра, раньше Адик не проснется. Займешься им, а я пройдусь по квартирам с управдомом как представитель райжилуправления. В случае крайней необходимости произведу обыск. Разрешение у меня есть. Но это только в крайнем случае, а так постараюсь пока не пугать осиное гнездо. Нам нужно узнать, здесь ли Полев.
— А если он...
— Что?
— У такого может и огнестрельное оружие быть...
— Ничего, буду смотреть в оба. Дворника прихвачу, поставлю в коридоре. Присмотрит, чтобы из комнаты в комнату никто не перебегал.
— Может, не ездить мне в гостиницу? Что уж там осталось?
— Нет, нет, — возразил Ильичев, — двигай, Гриша. Машина в нашем распоряжении, ленинградские товарищи позаботились. А к восьми возвращайся.
— Все понятно. Раз приказываете, еду.
— Вот и хорошо. Спокойной ночи!
И Ильичев не спеша пошел по тротуару...
Адик покинул квартиру Крысовых только в одиннадцать часов утра.
К этому времени Ильичев уже обо всем договорился с управдомом, и они почти сразу же отправились «обследовать» квартиры второго этажа. Молодцеватый дворник на случай остался в коридоре.
В первой же квартире Дмитрию пришлось выслушать справедливые претензии немолодой уже женщины на недостаток жилой площади. Ее муж жаловался на беспокойных соседей.
— Только три ночи поспали спокойно. Сегодня опять хохот и музыка какая-то дикая до утра... Управдому вот жаловались — не помогает.
— Верно, — нерешительно подтвердил управдом. — Жаловались.
— Дети ночами не спят, вздрагивают, просыпаются. А главное — пять комнат у этих Крысовых, а гулянки все время в одной, что рядом с нами.
— Вы бы попросили их перенести свои праздники в другую комнату.
— Просили, да куда там!..
Ильичев решился спросить о главном.
— А кто же это в гости к ним ходит? Женщина пожала плечами:
— Бог их знает! Все больше пожилые. Они и ночуют тут, а случается, и живут. Из молодых частенько бывает чернявый такой парень. Тоже, видать, бездельник.
— Вы говорите, живут... это как же?
— Так и живут здесь неделями. Один даже машину свою держал на заднем дворе. Слава богу, уехал.
— Когда он уехал? Попробуйте вспомнить.
— Скажу, скажу... Сегодня суббота? Во вторник уехал. А раньше он все с таким высоким седым приходил. Тот, бывало, как напьется, так поет: «Почему ты мне не встретилась, юная, стройная...»
Управдому наскучило слушать жалобы женщины, и он вышел в коридор.
Ильичев, вынув из кармана фотографии Полева и Лопаева, спросил
— Этот... со своей машиной?
— Он, — удивилась женщина, — он самый!
— А седой, что песни пел, этот?
— Этот. Голову высоко задирает, на людей не смотрит, — добавила она. — Вы их знаете?
— Немного знаю. Нехорошие они люди. Но говорить об этом пока никому не надо.
— Что вы, не беспокойтесь!
Ильичев попрощался и вышел в коридор, где управдом что-то сердито выговаривал дворнику.
Они постучались к Крысовым. Им открыла блеклая пожилая женщина с широкими задранными вверх ноздрями:
— Проходите на кухню, напачкаете тут! Не видите, — ковры.
— Видим, — равнодушно отпарировал управдом. — Нам нужно посмотреть комнату. Можете убрать ковры.
Недовольная женщина свернула ковер и толкнула его в угол.
— Вот и управились, — не унимался управдом. — Теперь ширму уберите, а то не поймешь, что у вас.
За ширмой на столе высилась гора грязной посуды, пустые бутылки.
— Та-ак!.. — невозмутимо протянул управдом и деловито обстучал стены, подергал оконные рамы. Затем, не обращая внимания на клокотавшую яростью женщину, сказал:
— Пойдем дальше...
— Там спят девочки! — выпятила тощую грудь хозяйка квартиры.
— Мы подождем, а вы разбудите их: скоро двенадцать часов, — настойчиво попросил Ильичев.
Крысова пошла к «девочкам», и вскоре они появились в коридоре! Заспанные, с серыми лицами и спутанными волосами, они вызывали брезгливое отвращение. Узнав в черноволосой девице ту, что караулила вчера покупателей у ювелирного магазина, Ильичев отвернулся. Но девица, не взглянув на мужчин, торопливо шмыгнула в мамин будуар.
Управдом так же внимательно простукал стены и и остальных комнатах, затем поблагодарил за помощь, и они двинулись к выходу.
Дмитрий прощаться не стал.
«Еще увидимся, — с удовлетворением подумал он, — тогда и поговорим!»
Уже в коридоре сметливый управдом заметил Крысовой:
— Живете вольготно! Потеснить вас надо...
Что кричала им вслед эта женщина, они уже не слышали...
Дмитрий очень торопился. До назначенной встречи с Адиком оставалось полчаса. Нужно было успеть добраться до магазина радиотоваров, где назначена встреча.
Адика Ильичев заметил сразу. Засунув руки в карманы бутылочного цвета брюк, он пренебрежительно рассматривал витрину магазина.
— О-кэй! Опаздываете, — выговорил Адик.
— На полторы минуты.
— Точность — вежливость королей!
— Это я уже слыхал, — отрезал Ильичев.
— Вэри гуд! Инцидент исчерпан. Высокие договаривающиеся стороны переходят к следующему вопросу.
Вертлявый юнец направился в ту же парадную. Оглянувшись, Дмитрий увидел Доронова. Тот шел в двух шагах позади. Напротив парадной стояла «Победа».
— Может, сядем в машину?
— О, ваша? Неплохо для жителя тундры!
Дмитрий распахнул заднюю дверцу, пропустил Адика и сел рядом. В то же мгновение хлопнула передняя дверца: Доронов был за рулем.
— Зачем? — недовольно спросил Адик.
— Не волнуйтесь — свои, — улыбнулся Ильичев. — Небольшая прогулка с жителями тундры...
Через час капитан милиции уже закончил первый допрос спекулянта золотом.
Адика увели, а Ильичев с Дороновым и двумя работниками ленинградской милиции поехали на Каменный остров.
Женская половина семейства Крысовых была в сборе. Подслеповатая Соня, ворча, убирала комнаты, Янина возилась на кухне, а мать примеряла старшей дочери новое платье.
Появление работников милиции поразило их, как гром среди ясного дня. Несколько минут они не могли даже отвечать на самые простые вопросы. Мать очнулась первой и, рыдая, стала обвинять кого-то в издевательстве над «бедными женщинами». Потом она стихла и с явным страхом наблюдала за обыском.
Удалось найти несколько самородков под половицей за шкафом.
Дмитрий тщательно перелистал журналы мод, просмотрел старые фотографии и письма.
Интересного ничего, хотя...
В руках Ильичева оказались две квитанции на посылки. На каждой всего по два слова чернильным карандашом:
«Одесса — Полеву». «Минводы — Полеву».
Судя по датам, посылки отправлены два дня назад.
— Вам придется поехать с нами, — объявил Ильичев Крысовым. — В управлении разберемся...
— Все ясно, — подвел итог Ильичев после допроса Крысовых.
— Полюшко-поле в Одессе или на подъезде к ней. Получит посылку, реализует ее содержимое и отправится в Минеральные Воды. Нам надо срочно заканчивать здесь свои дела и — в путь!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Ни в одной из гостиниц фамилия Полева не значилась. Ильичев и Доронов сбились с ног, стараясь отыскать хоть какие-то признаки пребывания Полева в Одессе, но пока нм это не удавалось.
И вдруг звонок постового милиционера: «ЗИМ» с ленинградским номером прошел по Дерибасовской и свернул на Пушкинскую...
Через пять минут Ильичев и Доронов были уже под тенистыми каштанами Пушкинской улицы. «ЗИМ» стоял возле ресторана.
«Брать на улице, — решал Дмитрий, — удобнее и проще, но людей соберешь, поднимется шум. Зайти в ресторан?»
Но в зале Полева не оказалось. Не было его и в подсобных помещениях. Ткнувшись в дверь, которая вела во двор, Ильичев огорченно махнул рукой и вернулся на улицу к поджидавшему его Доронову.
— Стало быть, кинулся в Минеральные Воды, — предположил Доронов. — Едва ли он думает, что его могут искать и там.
— Возможно, Гриша. Сейчас мы посмотрим, что находится в изъятой посылке, сдадим ее содержимое в здешний угрозыск и вечером — в Минеральные Воды. Почта там уже предупреждена, посылку задержат. К тому же она может находиться еще в пути...
В посылке золота не оказалось. Небольшой ящик был почти полностью заполнен пачками денег.
Уже несколько часов Ильичев и Доронов находились в Минеральных Водах. Григорий дежурил на вокзале. Дмитрий — на аэродроме. Работники Минводской милиции, приданные им в помощь, занимались гостиницами и ресторанами.
Казалось, все было продумано, предусмотрено. Но капитан Ильичев волновался.
«Что если Полюшко-поле приедет автомашиной?»
Дмитрий позвонил в автоинспекцию, и на шоссе были выставлены контрольные посты.
Время тянулось мучительно медленно. Прибыл еще один самолет из Одессы, но Полева среди пассажиров не оказалось.
Чертовски хотелось есть, но Дмитрий не решился покинуть летное поле. «Бывают ведь случайные и дополнительные рейсы», — размышлял он. Вскоре подбежал младший лейтенант — старший аэропортовского милицейского поста. С трудом переводя дыхание, он протянул Ильичеву лист бумаги.
— Вот список пассажиров... Самолет только что вылетел из Адлера. Через сорок пять минут будет здесь.
Пассажиров в списке было пятнадцать. Пятым значился Полев.
Волнение сразу исчезло. Ильичев дал четкие указания своим помощникам, предупредил встречающего самолет дежурного по аэропорту и даже рабочих, которые подкатывают трап.
Никто и ничто не должно было помешать быстрому, незаметному для посторонней публики задержанию опасного преступника.
...Серебристая птица плавно приземлилась, пробежала до середины поля и медленно двинулась к аэровокзалу. Подали трап, и встречающие ринулись навстречу сходящим по ступенькам людям.
Ильичев и трое работников местного уголовного розыска стояли у выхода на летное поле. Дмитрий, внимательно вглядываясь в пассажиров, искал Полева.
— Одиннадцать... двенадцать, тринадцать, четырнадцать... — считал он.
Пятнадцатого — Полева — не было!
Дмитрий взбежал по трапу, слыша за собой взволнованное дыхание товарищей.
В пассажирском салоне никого не было. Не было посторонних и в пилотской кабине.
— Где еще один пассажир? — резко спросил Ильичев. Летчики с удивлением посмотрели на четверых возбужденных мужчин. Ильичев предъявил удостоверение.
— Извините, но у нас больше никого нет, — вежливо объяснил командир. — Из Адлера вылетело четырнадцать пассажиров. Пятнадцатый не явился, наверно, опоздал...
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
А за час до этого в Адлеровском аэропорту произошло следующее. За несколько минут до посадки почтенный на вид, немолодой, чуть прихрамывающий мужчина устроил в зале ожидания скандал. Он отказался взвешивать свой чемодан и, оттолкнув контролера, полез напролом к выходу на летное поле.
Подошел милиционер, но пассажир схватил его железными руками под мышки и, как легкую игрушку, отодвинул в сторону. Сила его рук произвела на молоденького милиционера такое, большое впечатление, что он, не решившись действовать в одиночку, пронзительно засвистел, призывая на помощь товарищей.
Подошли старшина милиции и оказавшийся в зале лейтенант. Скандалист сразу смирился и в сопровождении трех милиционеров покорно пошел в служебную комнату.

Как только дверь за ним закрылась и они оказались в стороне от любопытных взглядов, мужчина заволновался, вынул документы и, слегка заикаясь, заговорил:
— Извините, товарищи милиционеры, что я так себя вел. Я не хулиган, это умышленно, чтобы собрать вас... Я инженер с Севера, коммунист Василий Губанов. Вот мои документы. Нахожусь в отпуске. Там стоит Полев. Это опасный преступник, его ищут по всей стране. Берите его, а то улетит... Он — высокий, худой в светлом пиджаке и узких синих брюках. Я его знаю, видал...
Губанов говорил так горячо и так взволнованно, что лейтенант, не раздумывая, скомандовал:
— Старшина, со мной! А вы, — кивнул он Губанову, — подождите в диспетчерской...
Задержанный гражданин пытался сопротивляться, кричал, собирая публику, наотрез отказывался идти. Но работники милиции были решительны и настойчивы.
— Последний раз рекомендую идти добровольно, — тихо, но твердо сказал лейтенант.
И пассажир в светлом пиджаке, чувствуя по обе стороны от себя крепкие локти старшины и лейтенанта, зашагал к диспетчерской.
Там уже находился вызванный по телефону начальник городского отдела милиции.
— Ваши документы! — требовательно попросил майор.
Мужчина протянул паспорт.
— Толевский, — прочитал майор.
Губанов был поражен: неужели он ошибся, неужели это не Полев? Он видел его только один раз, если не считать фотографии, что показывал ему Ильичев.
— Странно, — сказал майор, переводя взгляд с паспорта на его владельца. — Разыскивается Давид Полев, а вы — Давид Толевский...
Человек нервно пожал плечами:
— Не понимаю, чем я не понравился вашим сотрудникам?
— Имя, отчество, год и место рождения сходятся, — спокойно говорил майор. — А фамилия совсем другая.
Он достал из кармана маленький флакончик с прозрачной жидкостью. Аккуратно намочил ватку и несколько раз провел ею по паспорту. На глазах у Губанова произошло превращение буквы «Т» в «П». Так же легко стерлось окончание фамилии. Осталось четкое: «Полев».
— Вы? — показал майор паспорт человеку в светлом пиджаке. — Наспех тушью дописали...
— Я... — едва слышно ответил Полев.
— Уведите! Машина с конвоем ждет.
Когда Полева увели, майор, улыбаясь, протянул руку Губанову.
— Спасибо вам, товарищ инженер! Действовали вы, как настоящий оперативный работник! Только, как это вы с ним встретились?
— В отпуске я. С Севера прилетел. Хотел было пароходом в Евпаторию, но в Одессе на аэродроме столкнулся с ним... Уйдет, думаю, а его ищут. Я какого-то носильщика за руку: «Выручай, брат, на Адлер надо хоть умри!» Хорошо, попался боевой. Идите, кричит, к самолету билет принесу?
— И успел?
— Успел! А мне новая задача: лечу и ломаю голову, как Полева задержать? Слышал, как стюардесса ему объясняла, что в Адлере он сразу же сможет пересесть на самолет до Минеральных Вод. Разве успеешь тут милицию вызвать? Вот и решил я хулигана изобразить. Вы уж на меня за эту затею не очень...
Вечером Ильичев и Доронов впервые за трое суток ужинали, поражая официантку своим необыкновенным аппетитом.
Рядом с ними сидел сияющий Губанов и время от времени похлопывал капитана по плечу.
— Вы не сердитесь, ребята, что я доставил вам столько тревожных минут, — говорил с улыбкой Василий Михайлович. — Разве мог я знать, что вы уже ждете самолет с Полевым в Минводах. Первый раз в жизни выполнял оперативное задание. Приехал отдыхать,а тут такое дело...
— Испортил нам запланированный финал, — засмеялся Ильичев.
Они помолчали, глядя на расстилающийся вокруг красивый пейзаж и нарядных людей.
— Хорошо здесь, — задумчиво сказал Ильичев, — а дома — лучше!
— Задание выполнено, можно и домой, — поддержал Доронов.
— Дмитрия уже ждет там Сима, я знаю, — заулыбался Губанов. — Ругать будет! Опять, скажет, пропал надолго.
— Будет, — согласился Ильичев. — За дело!
— А твою, Гриша, жену я еще и не знаю. Кто она?
— Холостой я.
— Так чего же ты загрустил? Смотри-ка, сразу нос повесил! Исправим ошибку, женим! Верно, Дима?
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
...Переполненный зал замер. Сотни людей ловили каждое слово председательствующего суда:
— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...
Застыло тревожное напряжение на лицах стоящих рядом Анны и Степана Гудовых, съежился, вобрав голову в плечи, Лопаев, трусливо оглянулся по сторонам Полев...
— ...принимая во внимание добровольную явку с повинной и ходатайство общественности прииска, считать меру наказания в отношении Гудовой Анны Севастьяновны и Гудова Степана Кузьмича условной...
— Нюра... Нюра... Ну, что ты?
Гудов неуклюже тормошил Анну за рукав простой серой кофточки, а женщина стояла, не шевелясь, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами и ничего не понимая.
— Свободны мы, Нюра. Простили нас!
Чтение приговора закончилось. Конвоиры повели заключенных. Худой и длинный Полев шел первым, ни на кого не глядя. Следом двигался Лопаев. Выглядел он совсем стариком. Переваливаясь, тяжело шагал похожий на гориллу Огаркин. Ковач и Серегин старались пройти зал быстро и незаметно, и только маленький уродливый Лукин что-то говорил конвоирам, требовал, грозил...

1
ВОМ — водный отдел милиции.
(обратно)
2
Ямщица — содержательница воровского притона.
(обратно)
3
ОББ — отдел борьбы с бандитизмом.
(обратно)
4
В 1942 году немцы, захватив ростовские и астраханские степи, вербовали себе сторонников из отбросов населения. Предатели, перешедшие к ним на службу, назывались легионерами.
(обратно)
5
Старики в степи и сейчас еще иной раз измеряют свой путь криками. Четыре крика — это примерно 700—900 метров, в зависимости от погоды.
(обратно)
6
Эргени — северо-западная, гористая часть прикаспийских степей. Здесь бандитам было бы легко скрыться.
(обратно)
7
Трусовский район — один из городских районов Астрахани.
(обратно)
8
Вервольф — оборотни.
(обратно)
9
«Гора ссылки», или «пастбище нищеты».
(обратно)
10
Оффис оф стратеджикал сервис — Бюро стратегических услуг — американская разведка.
(обратно)
11
В Ренсбурге (земля Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ) размещена ставка НАТО «Комландют» — командование сухопутными силами в Ютландии.
(обратно)
12
Паспорт (нем.).
(обратно)
13
Военно-строительная организация, которой командовал гитлеровский генерал Фриц Тодт.
(обратно)
14
Город Итон (графство Бекингемшир) расположен на Темзе, близ Лондона, известен старинным колледжем, основанным в 1440 году. Обучение в колледже проникнуто духом кастовости и шовинизма, направлено на воспитание будущих чиновников, верных слуг эксплуататорских классов.
(обратно)
15
Фешенебельный район в западной части Лондона.
(обратно)
16
Улица в Берлине, на которой размещалось главное управление сухопутных сил вермахта.
(обратно)
17
Контрольно-пропускной пункт железнодорожной станции Мариенборн на межзональной границе.
(обратно)
18
Или Зоо — Зоологический сад — железнодорожная станция в английском секторе Берлина.
(обратно)
19
Кличка английских солдат.
(обратно)
20
Английская разведывательная служба.
(обратно)
21
Либерально-демократическая партия.
(обратно)
22
Машины, оборудованные радиоустановкой.
(обратно)
23
Запрещено (нем.).
(обратно)
24
Американская разведка.
(обратно)
25
Крупный табачный фабрикант Америки. Сигары, выпускаемые фабриками Клея из кубинских табаков, считались лучшими в мире. В описываемый период Клей — генерал, военный комендант американского сектора Западного Берлина.
(обратно)
26
Марка виски.
(обратно)
27
Небольшая улица в Лондоне, где расположена официальная резиденция премьер-министра Англия.
(обратно)
28
Дом в Западном Берлине, где размещалась английская военная администрация.
(обратно)
29
Объединял кадровый офицерский состав СС и СД — службы безопасности.
(обратно)
30
Третий отдел верховного командования вооруженными силами Германии (сокращенно Третий ОКВ) — центр гитлеровской разведывательной службы, осуществлявший руководство контрразведкой. Начальником Третьего ОКВ с момента его создания и до февраля 1944 года был адмирал Канарис.
(обратно)
31
Бюро стратегических услуг (Оффис оф стратеджикал сервис — сокращенно OCC) — американская разведслужба. Возникла как таковая в 1941 году. К описываемому периоду была реорганизована в Центральное разведывательное управление — ЦРУ — (Сентрал интеллиджинс эдженси — сокращенно Си-Ай-Эй).
(обратно)
32
Марка автомобиля.
(обратно)
33
Кадровый состав войск СС на внутренней стороне левого предплечья имел вытатуированную букву, которая обозначала группу крови.
(обратно)
34
«Дункель» — дословно в переводе «темный».
(обратно)
35
Крайне реакционная профашистская организация, объединявшая бывших военнослужащих немецкой армии.
(обратно)
36
Метка, по которой отличались политические узники гитлеровских лагерей.
(обратно)
37
Звание в войсках «СС», равное фельдфебелю.
(обратно)
38
Руководитель отдела.
(обратно)
39
Уменьшительное имя Адольф.
(обратно)
40
После окончания Нюрнбергского процесса Т. Тейлор был уволен из американской армии, как «красный».
(обратно)
41
Криминальная полиция.
(обратно)
42
«Богемия» — шифр операции, которую провел геленовский агент в 1948 году, завербовав трех офицеров разведки чешского генерального штаба, в результате чего чехословацкой разведке был нанесен серьезный урон. Секретные документы, доставленные офицерами-изменниками, были переданы Си-Ай-Эй.
(обратно)
43
Отто Скорцени — оберштурмбанфюрер СД, организатор похищения Муссолини, которого арестовали итальянские партизаны. Военный преступник.
(обратно)
44
В Мадриде, на улице Гойи, помещается полицейское управление, где в послевоенный период нашли себе работу некоторые сотрудники абвера.
(обратно)
45
Советская военная администрация Германии.
(обратно)
46
Фотоаппарат для микрофотографии.
(обратно)
47
Газета, издаваемая антисоветскими белоэмигрантскими организациями.
(обратно)
48
Автомобиль, оборудованный радиостанцией.
(обратно)
49
Маленькая пивная.
(обратно)
50
Донован Уильям — бригадный генерал. С 1941 по 1947 год — руководитель американской разведки — Оффис оф стратеджикал сервис — Бюро стратегических услуг, сокращенно ОСС. В связи с законом 1947 года о национальной обороне ОСС было реорганизовано в Сентрал интеллидженс эдженси — Центральное разведывательное управление, сокращенно Си-Ай-Эй, или ЦРУ, которое возглавил бывший главный резидент ОСС в Европе Даллес.
(обратно)
51
Даллес Ален — руководил ЦРУ до сентября 1961 года.
(обратно)
52
Канарис Вильгельм — адмирал, начальник третьего отдела верховного командования вооруженных сил (ОКБ) — от «Оберкомандо дер вермахт» — иначе говоря, немецкой военной разведки.
(обратно)
53
Кальтенбруннер Эрнест — начальник РСХА — главного управления имперской безопасности, шеф полиции безопасности и службы безопасности, сокращенно СД.
(обратно)
54
Шифрованное наименование местонахождения штаба ОКХ.
(обратно)
55
Лютце — Зандлер — Гартенфельд.
(обратно)
56
Эрна.
(обратно)
57
Михаил.
(обратно)
58
Генри Стимсон — военный министр США во время войны.
(обратно)
59
«Ай-ай» — флотский жаргон ВМС США, означающее «так точно».
(обратно)
60
Кстати сказать, после войны Стимсон предлагал поделиться секретом атомного оружия с СССР, чтобы рассеять — вполне законные — подозрения Советского государства в отношении намерений американских атомных монополистов. Предложение Стимсона не было принято Трумэном, уже готовившим «холодную войну» против стран социализма.
(обратно)
61
Город в штате Мэриленд, где находится военно-морское училище ВМС США.
(обратно)
62
Когда наконец волей партии над страной засияло солнце ленинских норм, в 1953 году Игорь был посмертно реабилитирован, восстановлено его доброе имя, его поруганная честь коммуниста. Кончились дни нужды и лишений. В глазах людей Рада снова увидела уважение. Она вступила в ряды партии. И тут, когда огромное многолетнее напряжение прекратилось, властно заявила о себе болезнь. В 1955 году Рада Мелихова-Кедрова умерла…
(обратно)
63
Памятную записку.
(обратно)
64
Персонаж известного английского романа. Днем — добропорядочный доктор Джекил; ночью — Хайд, бандит и убийца. Много лет окружающие не знали, что этот врач ведет двойную жизнь.
(обратно)
65
Сокращение «хау ар ю» — «как вы поживаете?»
(обратно)
66
Юлдыз — звезда (турецк.).
(обратно)
67
Хурджин — сума из плотной домотканой материи.
(обратно)
68
агаруд (искаж.) — огород
(обратно)
69
Анда (тат.) — там
(обратно)
70
De gustibus non (est) disputandum (лат.) — о вкусах не спорят
(обратно)
71
Tempora mutantur (лат.) — времена меняются
(обратно)
72
Закоперщиком (перен., жарг.) — Тот, кто затевает какое-л. дело; зачинщик.
(обратно)
74
Тутек — высокогорная болезнь.
(обратно)
75
Кутасы — вьючные животные — яки.
(обратно)
76
Овринг — искусственная дорожка над пропастью.
(обратно)
77
Так назывались лица, отбывавшие воинскую повинность на основе льгот по образованию, установленных с целью подготовки офицеров запаса.
(обратно)
78
Один из районов Киева.
(обратно)
79
Впоследствии Е. Г. Евдокимов занимал ряд руководящих постов в органах ВЧК — ОГПУ. Он первый из чекистов за боевые заслуги был четырежды награжден орденами Красного Знамени. Дважды присваивалось ему звание почетного чекиста. В 1939 году трагически погиб, став жертвой клеветы и необоснованных репрессий, допущенных в период культа личности Сталина.
(обратно)
80
Д. М. Давыдов — почетный чекист, орденоносец, полковник в отставке — ныне проживает в Одессе.
(обратно)
81
Ныне И. Н. Гурвич — персональный пенсионер, проживает в Ленинграде.
(обратно)
82
А. И. Микоян в то время был секретарем Северо-Кавказского крайкома партии.
(обратно)
83
Крюйт-камера — помещение на корабле, где хранятся взрывчатые вещества (мор.).
(обратно)
84
Ваера — стальные тросы, которыми траулер тянет трал.
(обратно)
85
Нактоуз — деревянный шкафчик, на верхнем основании которого устанавливается судовой компас (мор.).
(обратно)
86
Обрез — днище железной бочки. Ставится в местах курения для окурков.
(обратно)
87
Локатор-репитер — локатор, дублирующий показания главного локатора.
(обратно)
88
Топляк — речники называют так полузатонувшие бревна, моряки — затонувшие корабли (жарг.).
(обратно)
89
КСП — контрольно-следовая полоса.
(обратно)
90
Шталаг — стационарный лагерь военнопленных (нем.).
(обратно)
91
ОКМ — гитлеровское Верховное командование военно-морских сил.
(обратно)
92
СМЕРШ — «Смерть шпионам!», органы военной контрразведки в период Великой Отечественной войны.
(обратно)
93
Слип — гладкий бетонный или деревянный пологий спуск с берега в воду. Делается и на корме рыболовных траулеров (морск.).
(обратно)
94
БЧ-2 — артиллерийская боевая часть корабельной службы.
(обратно)
95
ППСС — правила предупреждения столкновений судов.
(обратно)
96
Переметная сумка.
(обратно)
97
Кориандр (однолетнее травянистое растение, используемое в медицине и кулинарии).
(обратно)
98
Маз — старший вор.
(обратно)
Оглавление
Иван Сибирцев
ОТЦОВСКАЯ СКРИПКА В ФУТЛЯРЕ (сборник)
ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ОТЦОВСКАЯ СКРИПКА В ФУТЛЯРЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
Борис Силаев
ВОЛЧЬЯ ЯМА
Повести
ОБЯЗАН ЖИТЬ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
ВОЛЧЬЯ ЯМА
I часть
IІ часть
Смирнов Юрий
Переступить себя-Твой выстрел второй-Что ответил ему
Переступить себя
Твой выстрел — второй
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Что ответить ему
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Соловьёв А
Дважды украденная смерть
Повести
Магическое слово «Инюрколлегия»
Птица цвета ультрамарин
ПРОЛОГ
Глава первая
СТРАННЫЙ КЛИЕНТ
Глава вторая
ПАСПОРТ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
Глава третья
«СЮРПРИЗЫ» ИСЧЕЗНУВШЕГО БИЛЕТА
Глава четвертая
ТЕЛЕФОН ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
Глава пятая
ЗАГАДОЧНОЕ ПИСЬМО
Глава шестая
ДЕНЬ ПРИЯТНЫХ ЗНАКОМСТВ
Глава седьмая
ОПЕРАЦИЯ «ТРАНСФЕРТ»
Глава восьмая
ВИТЬКА, КЛЮЕВ, МУСКУЛ И ОСТАЛЬНЫЕ
Глава девятая
ИНОГДА ПОЛЕЗНО ПРИТВОРИТЬСЯ СПЯЩИМ
Глава десятая
ВЕРОНИКА: ВЕРА ИЛИ НИКА?
Глава одиннадцатая
ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ...
Глава двенадцатая
ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ
Глава тринадцатая
РОДСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
Глава четырнадцатая
ЕЩЕ ОБ ОДНОМ РОДСТВЕННОМ ВИЗИТЕ
Глава пятнадцатая
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ВЫСТЛАНА ДОРОГА В АД...
Глава шестнадцатая
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ГЕОГРАФИЮ
Глава семнадцатая
НИТОЧКИ ПОТЯНУЛИСЬ НА КАВКАЗ
Глава восемнадцатая
НА РАЗНЫХ ТОЧКАХ ВОЕННО-СУХУМСКОЙ ДОРОГИ
Глава девятнадцатая
ОПАСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ СТАРИННОГО ХРАМА
Глава двадцатая
ПРИМАНКА ДЛЯ ЗАПАДНИ
Глава двадцать первая
ПЕРЕВАЛ
Глава двадцать вторая
ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ
Цена шестой заповеди
Дважды украденная смерть
Загадка лесного тайника
Лучезар Станчев
Неверный шаг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Стоянов Л.
На крыше мира
САРЫТАШ
КАПИТАН МОРОЗ ПЫТАЕТСЯ РАЗГАДАТЬ ЗАГАДКУ
ДОРОГА
НА ФЕРМЕ
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ПОЖАР
ПОСЛЕ ПОЖАРА
САВЧЕНКО СТАНОВИТСЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ
БЫКОВ ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
ИРИНА
ЦОЙ
У ОРЛИНОГО ГНЕЗДА
НА НОВОМ МЕСТЕ
АКСИНЬЯ ИВАНОВНА
ЧЕН
НА ТОЙ СТОРОНЕ
СЕРЕЖА
ЦОЙ ВЕДЕТ
В САРЫТАШЕ
ОБВАЛ
ПАЛЬЦЕВ
БАКИР ОТПРАВЛЯЕТСЯ К РОЗАМАМАЕВУ, А САВЧЕНКО — НА ФЕРМУ
ЧЕРЕЗ ГОРЫ. НАХОДКА
ПУТЬ ОТКРЫТ!
СЛУЧАЙ НА ФЕРМЕ
ДОПРОС
«НЕ ВСЕГДА ИДИ НАВСТРЕЧУ СЧАСТЬЮ»
КОЗЫРЬ ДЖАБАРА
ВЕСНА НАСТУПИЛА
В ОШЕ
ЛИДИЯ
СОБЫТИЯ НА БОЛОТЕ
ИНОГДА ПРИЯТНО ОШИБИТЬСЯ
ПОЙМАННЫЙ ВОЛК
ПУТИ-ДОРОГИ
Владимир Сергеевич Сысоев
Первое задание
Приключенческая повесть
Художник Н. Горбунов
Полицаи
Покушение
Наташа
Бургомистр и Таня
За решёткой
Начальник штаба
Смерть провокатору!
Бой
«Изменник»
Военный комендант
Новый командир роты
Тяжёлый день
Ловушка
В отряде
Наташа
Расплата
Новый комендант
Очная ставка
Бургомистр даёт бой
Демель нервничает
Держись, Натка!
Выступаем немедленно
Настоящее счастье!
Сытин Александр
Контрабандисты Тянь-Шаня
Книга первая
БОРЬБА В ТЫЛУ
Глава I ПОРАЖЕНИЕ БУДАЯ
Глава II МАСЛАГАТ МУДРЕЦОВ
Глава III ЗУБЫ ШАКАЛОВ
Глава IV СНЫ БУДАЯ
Глава V ЗОЛОТОЙ РОТ
Глава VI ВЫСТУПЛЕНИЕ ОСЫ
Книга вторая
СКАЧКИ ШАГОМ
Глава I ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава II ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Глава III ЧЕРНЫЙ ЛЕДНИК
Глава IV ПЛЫВУЩИЕ БОЛОТА
Глава V ЖЕЛТЫЙ МРАК
Книга третья
БРОДЯЧИЕ ЖЕНИХИ
Глава I ХАН ЧЕРНЫХ УТЕСОВ
Глава II ПОИСКИ МАРИАНЫ
Глава III В СЕТЯХ БАЙЗАКА
Глава IV АЛЫ. СЫН ДЖАНТАЯ
Глава V КОЗЫРНЫЙ ТУЗ БАЙЗАКА
Книга четвертая
В ПЛЕНУ
Глава I СТАНОВИЩЕ БАЙЗАКА
Глава II ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛЫ
Глава III КУТЕРМА-БАЙГА
Глава IV РАЗГРОМ
Книга пятая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Глава I СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ
Глава II ОСЕННИЙ СУД
Глава III ОХОТНИКИ ЗА БАРМАКАМИ
Глава IV ПОБЕДА ОСЫ
Александр Константинович Тараданкин
Игорь Михайлович Фесенко
Второй раунд
Вместо пролога
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Тарианов Н.В.
Невидимые бои
Вместо предисловия
ДВА ГЕНЕРАЛА
Саймон докладывает президенту
Два генерала
Дроув «оживляет работу»
Муллард не хочет сражаться
«Бизнес» развертывается
Чурсин едет кататься
Подполковник Борисов вступает в дело
С поличным
СУДЬБА ЧЕКИСТА
Перед рассветом
Лицом к лицу
«Гражданин следователь»
Поединок
Провокация захлебывается
Камера 101
Есть счастье в битве
МИССИЯ УОТСОНА
Доброе утро
Уотсон едет в Москву
Стив «вживается»
Коса и камень
Полковник Борисов получает задание
Уотсон поднимает забрало
Жеромский ищет хозяина
Среди надгробий и эпитафий
Все становится на место
«Мгновение истины»
Адольф покидает Москву
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Карты на стол
Миссионер измены
Дом на набережной
Вашингтонские «пивовары»
Хвост и зубы старой лисы
Вкус яда
«Американцы в Париже»
Странная спекуляция
В беличьем колесе
Круг замыкается
Последние метры
На пороге возмездия
Варткес Арутюнович Тевекелян
Гранит не плавится
Из записок чекиста
Роман
Семья
Детство кончилось
По стопам отца
Боевое задание
Радости и беды
Поворот судьбы
Пришла любовь
Снова Чека
Учёба
Важное задание
Опять в пути
В приморском городе
Дело с картинами
Все средства хороши…
Человек ищет счастье
Жизнь идёт…
Испытание
Враги не дремлют
Родной человек
Крушение
Война
Снова в строю
Варткес Тевекелян
РЕКЛАМНОЕ БЮРО ГОСПОДИНА КОЧЕКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Эпилог
Зуфар Максумович Фаткудинов
Тайна стоит жизни
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
«Тайна стоит жизни»: путеводитель по книге
Хайнц Фивег
Пожар в лаборатории №1
Послесловие
Флоренцев В.
Незримый поединок
РАССКАЗЫ
НЕПОЙМАННЫЙ
ЛИДКА
ВСТРЕЧА
ОТЕЦ
АРКАНСУ
НЕЗРИМЫЙ ПОЕДИНОК
Повесть
1. ГЛУХАРЬ
2. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
3. ЧП
4. РАССКАЗ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ
5. ОЛЕЖКА
6. ОЛЕНЬЯ НОГА
7. «…ЛЕЙТЕНАНТ НОЧАМИ СНИТСЯ МНЕ…»
8. НАПАЛИ НА СЛЕД?
9. НЕУДАЧА
10. ВАЛЕРКУ НАДО СПАСАТЬ
11. ГЛУХАРЬ И ВАЛЕРКА
12. ГДЕ ЗОЛОТО РОЮТ В ГОРАХ…
13. ПОЕДИНОК
Фомин Фёдор
Записки старого чекиста
От автора
Жизнь солдатская
Я становлюсь Советским разведчиком
Опять поручик Яковлев
Вражеский шпион в штабе Красной армии
В гостях у агентов Петлюры
Ночная схватка
Китайские бойцы-чекисты
Борьба с контрреволюцией в Одессе
«Король» одесских грабителей
Разоблаченный враг
Против банд Махно и Григорьева
В руках у бандитов
Конец барона Грюнвальда
С помощью народа
В особом отделе 10-й армии
Матренинский женский монастырь
Дело генерала Слащева
Нетерпимость к ложным доносам
Конференции трудящихся
«Рыбаки»-шпионы
Границу на замок!
Подвиги героев-пограничников
На границе с буржуазной Эстонией
Манифест «царя Кирилла»
Пойманные с поличным
Борьба с валютчиками и контрабандистами
Из воспоминаний о В. Р. Менжинском
Память о Дзержинском
Иллюстрации
Черносвитов Владимир
Сейф командира «Флинка»
ПОДВИГ МИРНОГО ВРЕМЕНИ
ТАЙНЫЙ РЕЗОНАНС
ФАКЕЛ В МОРЕ. ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
ВНЕЗАПНЫЕ ВСТРЕЧИ И РАЗЛУКИ
ПОЛОСА ВОЛНЕНИЙ И НЕПРИЯТНОСТЕЙ
КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ — СТОЛЬКО СУДЕБ
У «СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ»
НЕЖДАННЫЙ ВИЗИТ. ДОСАДНАЯ ЖЕРТВА
БОРЬБА НА ФИНИШЕ. УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ
СЛЕДЫ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
ГВАРДИЯ НЕ СДАЕТСЯ!..
ЭПИЛОГ
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ
Георгий Черчесов
Под псевдонимом Ксанти
Слово к читателю
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Вместо эпилога
Илья Миронович Шатуновский
Закатившаяся звезда
Глава первая
СОТРУДНИКИ «БЮРО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ»
Глава вторая
КТО КУРИЛ СИГАРЕТУ «КЕМЛ»?
1
2
3
4
Глава третья
КОГДА ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…
1
2
Глава четвертая
ОДИНОЧЕСТВО
1
2
3
4
5
6
Глава пятая
СЕМЕ-СЧАСТЛИВЧИКУ НЕ ПОВЕЗЛО…
1
2
3
Глава шестая
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО С ДРАГОЦЕННЫМ КАМНЕМ
1
2
Г лава седьмая
ОТВЕТ ГАРРИ ТРУМЭНА
1
2
3
Глава восьмая
ШПИОН ПРИХОДИТ С ПОВИННОЙ
1
2
3
Глава девятая
ЧЕЛОВЕК В НОВОМ КОСТЮМЕ
1
2
3
Глава десятая
«АНДИ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
1
2
3
Глава одиннадцатая
ПОСЛЕДНЯЯ ЯВКА
1
2
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Шульман Илья
Человека преследует тень
ПРОЛОГ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
*** Примечания ***





 Андрей распахнул окно и закричал во двор со второго этажа, не дожидаясь приказа:
— Конво-о-ой! В седла-а!!
…Коней оставили с одним красноармейцем в переулке, а сами пошли проходными дворами. Кажется, Бондарю известны были тут все ходы и выходы. Он уверенно нырял в темные ворота, отодвигал в заборах доски, и Андрей с трудом поспевал за ним.
— Вот, — наконец сказал Бондарь и вытащил маузер. Они подождали остальных и стали медленно приближаться к четырехэтажному дому с подслеповатыми окнами и обрушившимися балконами. Дворовой фасад здания, сложенный из позеленевшего кирпича, казался крепостной стеной. Выгоревший от жары плющ вился кое-где по каменным выбоинам.
— По человеку — у нижних окон, — приказал Бондарь. — Остальные за мной…
Они взбежали на крыльцо и первое, что увидели, — это вывороченный из двери замок. Толкнули дверь, и она без скрипа распахнулась. Люди молча вошли в темноту коридора. В руке Бондаря вспыхнул крошечный огонек зажигалки. Он осветил какие-то ящики, мерцающие спицы велосипедного колеса и медный таз, лежащий в углу красным расплывчатым бликом.
Впереди была еще одна дверь. Ее распахнули ударом ноги, и, столкнувшись плечами, одновременно Андрей и Бондарь шагнули в комнату. И на мгновение ослепли от солнца. Прямо перед ними, во всю стену, — зеркальное стекло витрины. Лучи дробились в нем, и оно радужно сияло в стеклянных сучках, чуть желтое от пыли, с бледным смазанным отраженьем стоящих на противоположной стороне улицы домов и деревьев.
На полу были разбросаны черные конверты, фотобумага, в углу валялась тренога фотоаппарата.
— Черт, опоздали, — прошептал Бондарь.
Андрей подошел к бархатной шторе и распахнул ее рывком. Зазвенев кольцами, она тяжело сдвинулась к стене. За ней, в глубоком кожаном кресле лежал человек. Он точно спал, опустив лысую голову, на правом виске которой кровенела запекшаяся ссадина.
— Это он… Лещинский, — сказал Бондарь.
— Мертв… Вернее, убит, — Андрей тронул руку фотографа. Она была холодной, но еще мягкой. — Убийство произошло недавно… Каким-то тупым предметом… Возможно, ломиком.
— И, кажется, неожиданно, — согласился Бондарь. — Может быть, он спал… Или сидел задумавшись. Ударили из-за шторы.
Стараясь ничего не сдвинуть с места, Андрей подошел к парадной двери.
— Смотрите, — сказал он. — В двери торчит ключ. Убийца пробрался через черный ход.
Андрей повернул ключ и вышел на солнечную пустынную улицу. Его шаги гулко отдались в тишине каменного коридора, образованного высокими молчаливыми домами. Золотая вязь букв словно плавилась под лучами, жарко сплетаясь в слова: ФОТОАТЕЛЬЕ ЛЕЩИНСКОГО.
За зеркальным стеклом витрины на бархате лежали выцветшие портреты красавиц, мужчин с нафабренными усами. Покоробленные солнцем фотоснимки еще хранили блеклые отпечатки чьих-то жизней — напряженно таращили в объектив испуганные глаза невесты. Женихи чопорно держали за локотки своих будущих супружниц. На отороченных кружевами подушках болтали ногами толстые младенцы. И картинно сжимая в руках эфесы клинков, замерев в каменно-неподвижных позах, стояли бравые кавалеристы в буденовках. Суровые рабочие парни с выпущенными на лоб чубами держали на коленях гитары, шли в майских колоннах демонстрантов.
А чуть ниже — черными, залитыми тушью буквами:
Андрей распахнул окно и закричал во двор со второго этажа, не дожидаясь приказа:
— Конво-о-ой! В седла-а!!
…Коней оставили с одним красноармейцем в переулке, а сами пошли проходными дворами. Кажется, Бондарю известны были тут все ходы и выходы. Он уверенно нырял в темные ворота, отодвигал в заборах доски, и Андрей с трудом поспевал за ним.
— Вот, — наконец сказал Бондарь и вытащил маузер. Они подождали остальных и стали медленно приближаться к четырехэтажному дому с подслеповатыми окнами и обрушившимися балконами. Дворовой фасад здания, сложенный из позеленевшего кирпича, казался крепостной стеной. Выгоревший от жары плющ вился кое-где по каменным выбоинам.
— По человеку — у нижних окон, — приказал Бондарь. — Остальные за мной…
Они взбежали на крыльцо и первое, что увидели, — это вывороченный из двери замок. Толкнули дверь, и она без скрипа распахнулась. Люди молча вошли в темноту коридора. В руке Бондаря вспыхнул крошечный огонек зажигалки. Он осветил какие-то ящики, мерцающие спицы велосипедного колеса и медный таз, лежащий в углу красным расплывчатым бликом.
Впереди была еще одна дверь. Ее распахнули ударом ноги, и, столкнувшись плечами, одновременно Андрей и Бондарь шагнули в комнату. И на мгновение ослепли от солнца. Прямо перед ними, во всю стену, — зеркальное стекло витрины. Лучи дробились в нем, и оно радужно сияло в стеклянных сучках, чуть желтое от пыли, с бледным смазанным отраженьем стоящих на противоположной стороне улицы домов и деревьев.
На полу были разбросаны черные конверты, фотобумага, в углу валялась тренога фотоаппарата.
— Черт, опоздали, — прошептал Бондарь.
Андрей подошел к бархатной шторе и распахнул ее рывком. Зазвенев кольцами, она тяжело сдвинулась к стене. За ней, в глубоком кожаном кресле лежал человек. Он точно спал, опустив лысую голову, на правом виске которой кровенела запекшаяся ссадина.
— Это он… Лещинский, — сказал Бондарь.
— Мертв… Вернее, убит, — Андрей тронул руку фотографа. Она была холодной, но еще мягкой. — Убийство произошло недавно… Каким-то тупым предметом… Возможно, ломиком.
— И, кажется, неожиданно, — согласился Бондарь. — Может быть, он спал… Или сидел задумавшись. Ударили из-за шторы.
Стараясь ничего не сдвинуть с места, Андрей подошел к парадной двери.
— Смотрите, — сказал он. — В двери торчит ключ. Убийца пробрался через черный ход.
Андрей повернул ключ и вышел на солнечную пустынную улицу. Его шаги гулко отдались в тишине каменного коридора, образованного высокими молчаливыми домами. Золотая вязь букв словно плавилась под лучами, жарко сплетаясь в слова: ФОТОАТЕЛЬЕ ЛЕЩИНСКОГО.
За зеркальным стеклом витрины на бархате лежали выцветшие портреты красавиц, мужчин с нафабренными усами. Покоробленные солнцем фотоснимки еще хранили блеклые отпечатки чьих-то жизней — напряженно таращили в объектив испуганные глаза невесты. Женихи чопорно держали за локотки своих будущих супружниц. На отороченных кружевами подушках болтали ногами толстые младенцы. И картинно сжимая в руках эфесы клинков, замерев в каменно-неподвижных позах, стояли бравые кавалеристы в буденовках. Суровые рабочие парни с выпущенными на лоб чубами держали на коленях гитары, шли в майских колоннах демонстрантов.
А чуть ниже — черными, залитыми тушью буквами:
 Фиолетов медленно вышел из комнатушки и тут увидел, что люди, стоящие в коридоре, зовут его:
— Господин офицер, сюда, сюда, пожалуйста… Это здесь…
Поручик, миновав переодетых полицейских, вошел в большую и светлую комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был труп человека в нижнем белье. Он лежал на ковре, раскинув руки. Фиолетов осторожно перешагнул через труп и подошел к развороченному письменному столу. Он перебрал несколько конторских книг, отодвинул в сторону револьвер в желтой кобуре и, подняв со дна одного из выдвинутых ящиков тяжелую пачку денег, взвесил ее на ладони.
— Что тут произошло? — тихо спросил он. — И кто это?
— Пока сообщить ничего достоверного не можем, — ответил полицейский. — Возможно ограбление… Убийство с ограблением.
— Кого подозреваете?
— Исчез буфетчик. А убит хозяин заведения.
— Обычная история, — добавил кто-то. — Там, где деньги, всегда такое.
— Продолжайте, — кивнул головой Фиолетов и пошел к выходу, провожаемый полицейским, который торопливо говорил на ходу:
— Разбаловался народ… Жизнь человеческая им ни в копейку. Слабо караем. Вот, рассказывают, в Париже казнят гильотиной… такой нож на веревке. А мы вешаем… Гуманизм это!.. Никаких особенных мучений…
Фиолетов медленно вышел из комнатушки и тут увидел, что люди, стоящие в коридоре, зовут его:
— Господин офицер, сюда, сюда, пожалуйста… Это здесь…
Поручик, миновав переодетых полицейских, вошел в большую и светлую комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был труп человека в нижнем белье. Он лежал на ковре, раскинув руки. Фиолетов осторожно перешагнул через труп и подошел к развороченному письменному столу. Он перебрал несколько конторских книг, отодвинул в сторону револьвер в желтой кобуре и, подняв со дна одного из выдвинутых ящиков тяжелую пачку денег, взвесил ее на ладони.
— Что тут произошло? — тихо спросил он. — И кто это?
— Пока сообщить ничего достоверного не можем, — ответил полицейский. — Возможно ограбление… Убийство с ограблением.
— Кого подозреваете?
— Исчез буфетчик. А убит хозяин заведения.
— Обычная история, — добавил кто-то. — Там, где деньги, всегда такое.
— Продолжайте, — кивнул головой Фиолетов и пошел к выходу, провожаемый полицейским, который торопливо говорил на ходу:
— Разбаловался народ… Жизнь человеческая им ни в копейку. Слабо караем. Вот, рассказывают, в Париже казнят гильотиной… такой нож на веревке. А мы вешаем… Гуманизм это!.. Никаких особенных мучений…
 — Что?! — взревел тот и рванулся вбок. Шофер крутнул руль, и машина, ударившись об угол дома, накренилась, застыла. Завопив, Неудачник прыгнул через дверцу. Андрей упал на сиденье. Полковник выстрелил в него через плечо. Раз. Другой. Отшвырнув потерявшего сознание шофера, у которого кровь заливала лицо, он выбрался из покореженного железа и побежал по улице, оборачиваясь, то и дело вскидывая наган, чтобы выстрелить. Другой рукой Пясецкий прижимал альбом. Вдруг он метнулся к парадному входу, забарабнил в дверь кулаками.
— Откройте-е!!
Собрав все силы, не пригибаясь, Андрей бросился к нему. В домах кое-где вспыхнули огни. На балконах послышались испуганные голоса.
Пясецкий увидел Андрея и поднял наган. Гулко выхлестнуло пламя. Ударило в плечо. Андрей споткнулся и, падая, нажал на курок. Полковник рухнул с крыльца. Андрей поднялся на ноги и, чувствуя, как они дрожат и подгибаются, побежал к дому. В остановившихся глазах полковника было мучение. Он умирал.
Андрей поднял альбом. На соседней улице вспыхнули выстрелы.
— Назад! — закричал кто-то.
Дружеские руки подхватили Андрея и потащили в глубину проходного двора. Теряя сознание, Андрей узнал лицо Тучи.
В переулке осталась искореженная машина. Языки огня уже лизали помятое железо. Вот вспыхнула мягкая обивка. Грохнул, вскинув в темноту снопы искр, взорвавшийся бензобак. Светящиеся обломки разлетались по мостовой. Остов «форда» горел жарко, с треском и шипением. Пламя металось, и в каждом окне черных домов горел отсвет пожара.
Через несколько дней, 25 сентября 1919 года, в городе вспыхнуло вооруженное восстание. Рабочие отряды заняли вокзал, почту, осадили «Палас». Колонны шли с заводских окраин к центру, завалами баррикад отсекая белым войскам дороги к отступлению. Ветер с севера уже доносил артиллерийскую канонаду и дым горящих лесов…
Шел второй год гражданской войны.
— Что?! — взревел тот и рванулся вбок. Шофер крутнул руль, и машина, ударившись об угол дома, накренилась, застыла. Завопив, Неудачник прыгнул через дверцу. Андрей упал на сиденье. Полковник выстрелил в него через плечо. Раз. Другой. Отшвырнув потерявшего сознание шофера, у которого кровь заливала лицо, он выбрался из покореженного железа и побежал по улице, оборачиваясь, то и дело вскидывая наган, чтобы выстрелить. Другой рукой Пясецкий прижимал альбом. Вдруг он метнулся к парадному входу, забарабнил в дверь кулаками.
— Откройте-е!!
Собрав все силы, не пригибаясь, Андрей бросился к нему. В домах кое-где вспыхнули огни. На балконах послышались испуганные голоса.
Пясецкий увидел Андрея и поднял наган. Гулко выхлестнуло пламя. Ударило в плечо. Андрей споткнулся и, падая, нажал на курок. Полковник рухнул с крыльца. Андрей поднялся на ноги и, чувствуя, как они дрожат и подгибаются, побежал к дому. В остановившихся глазах полковника было мучение. Он умирал.
Андрей поднял альбом. На соседней улице вспыхнули выстрелы.
— Назад! — закричал кто-то.
Дружеские руки подхватили Андрея и потащили в глубину проходного двора. Теряя сознание, Андрей узнал лицо Тучи.
В переулке осталась искореженная машина. Языки огня уже лизали помятое железо. Вот вспыхнула мягкая обивка. Грохнул, вскинув в темноту снопы искр, взорвавшийся бензобак. Светящиеся обломки разлетались по мостовой. Остов «форда» горел жарко, с треском и шипением. Пламя металось, и в каждом окне черных домов горел отсвет пожара.
Через несколько дней, 25 сентября 1919 года, в городе вспыхнуло вооруженное восстание. Рабочие отряды заняли вокзал, почту, осадили «Палас». Колонны шли с заводских окраин к центру, завалами баррикад отсекая белым войскам дороги к отступлению. Ветер с севера уже доносил артиллерийскую канонаду и дым горящих лесов…
Шел второй год гражданской войны.

 Его разбудили какие-то крики и бешеный лай собак. Еще ничего не соображая, он выглянул из стога и увидел несущуюся по пустынной улице конную тройку, запряженную в легкую бричку, полную людей. В руках они держали смоляные факелы — языки огня метались в темноте, искры летели над дорогой. Тройка ворвалась во двор, люди посыпались из брички, сразу заполнив усадьбу громкими голосами, пьяным хохотом, шипящим пламенем и топотом лошадиных копыт. Несколько человек сразу кинулись в дверь хаты — она, как бубен, загудела под тяжелыми ударами, окна ее вспыхнули изнутри адским мерцанием, раздался звон стекла, стариковские вопли.
— Пропал, батько, городской хлопец! Нэмае… От, сволота, убег!!
Старик, задыхаясь в вороте рубахи, сжатой в кулаке бандита, пытался кричать, но только хрипел сдавленным голосом:
— Не знаю… Батько, ей богу… Вот те хрест! Сам ложил в хате!
Кто-то из бандитов, выйдя из хаты последним, ушел в темноту с факелом в руках, когда вернулся, начал оббивать землю с сапог.
— Батько, он в лес удрал… Из окошка выпрыгнул и ходу. Следы по огороду в сторону леса.
— А, черт, — выругался батько, — такого щенка упустили… А может, он где заховался? Поищите-ка его, хлопцы. Саблюками поштрыкайте вон тот стожок, а вдруг в сене ховается? И по лестнице на чердак… Не ленитесь, хлопцы, давай, давай…
Глоба видел с высоты весь двор — батько стоял у крыльца, один из бандитов держал возле него пылающий факел, и в свете огня Тихон узнал председателя сельсовета Корнева, только на этот раз он был в расшитой узорами украинской рубашке, на голове лихо сдвинутая набок кубанка, через плечо тонкий ремешок сабли в никелированных ножнах.
— Ничого, батько… Обшукали все скрозь — ничого нэмае…
— По коня-ям! — заорал Корнев и пошел к тройке пляшущих лошадей, на поводьях которых висел один из бандитов, с трудом удерживая их на месте.
— А ты, Охрип, смотри у меня! — Батько встал на коленях в бричке, подняв сжатый кулак. — Из-под земли достану… Замри и ни слова! Все! Гони-и!
Тройка рывком проскочила ворота и понеслась вдоль улицы, грохоча колесами, бросая во все стороны искры, под пьяный мужичий хохот.
Глоба просидел на стогу, затаившись, до начала рассвета. Словно из тумана, медленно проясняясь, начало выходить из темноты утреннее село. А теперь что делать? Бежать… А если все дороги перекрыты? Засады за каждым кустом…
На крыльцо вышел старик, долго кашлял в утренней тишине, потом начал сворачивать цигарку, выбил из кресала искру и прикурил от затлевшего трута. Потом поднял голову и тихо сказал:
— Да слезай же, сынку… Беда минула. Ты слышь, слезай… Меня не бойся.
Глоба настороженно сказал, не раздвигая перед собой скрывавшее его сено:
— Тут высоко…
— Это ты гарно придумал насчет лестницы, — одобрительно проговорил старик. — Голова кумекает. Ну слезай, я тебе подсоблю.
Старик поставил к стогу лестницу, и Глоба, спустившись во двор, с хмурым видом начал оббивать с себя соломинки.
— Я тебя тихонько выведу из села, а ты там уж сам чапай, — сказал старик. — И не приведи господи еще раз тут показаться…
— Так это, значит, сам Корнев? — усмехнулся Глоба. — Ну, чудеса…
— Забудь! — замахал руками в панике старик. — Не видел ты ничего! Мотай отседова, хлопец, пока голова цела! То такие тварюки, что родных отца-матери не пожалеют!
Больше этого старика Глоба никогда не видел — в то утро дед вывел его в лес и показал дорогу к городу. Привычно запуская пятерню под облезлую папаху, он сказал, тяжело вздохнув:
— Ну прощавай, парень. Добра тебе желаю. От распроклятая жизнь — в своей хате не хозяин. До каких же пор так будет?
Через три дня в Малую Казачку прибыл конный отряд. Корнев был арестован прямо в сельсовете. Правда, в скором времени ему удалось бежать…
Воспоминания… Отдохнув, Глоба запряг лошадь в линейку. Он ехал через село, вглядываясь в так знакомые ему хаты, — сколько раз он за эти годы проезжал тут, — встречные крестьяне здоровались с ним, узнавая уездное начальство. Тихон отвечал им, кончиками пальцев трогая козырек фуражки. Хата старика стояла с заколоченными окнами, она была совсем дряхлая, почерневшая от непогоды соломенная крыша провалилась внутрь. Глоба знал, что старик помер. На усадьбе трое мужиков тюкали топорами, гоня стружку вдоль длинных бревен — готовили венцы для нового дома.
И все-таки, каждый раз попадая в это село, Глоба чувствовал волнение, он знал, что пройдет и пять, и десять лет, а не забудет той ночи, когда метались по двору черные тени, плясали огни факелов и так страшно, до ужаса, было лежать в сене — каждая сухая травинка от неосторожного движения, казалось, лопалась с гулким треском.
То было первое задание, и оно особенно запомнилось, но и остальные оставили в душе глубокий след. Он входил в мятежные села как беспризорник — в лохмотьях, нечесаный, в завшивленном бушлате с позеленевшими пуговицами. Разбросанные в отдалении хутора видели его — мелкого торговца нитками и солью, развешенной по полфунта, в кульках из серой оберточной бумаги. Сколько раз его били, добиваясь, кто же он на самом деле, чего ему здесь надо. И он плакал, божился, клялся на чем свет стоит в своей глупой неосторожности. Не знал, мол, что тут палят из обрезов… Ему что белые, что зеленые или красные… Господи, товар-то не хапайте! Отдайте, дяденьки, по миру пустите… Соль, знаете, каких денег стоит?! Да за что вы меня, дяденьки…
Возвращаясь домой, в город, он узнавал, что еще один из семи не вернулся с задания. А потом Рагоза подолгу сидел с оставшимися в живых и объяснял им ошибку того… тело которого нашли в лесу… Подвешен на ременных вожжах… Весь исполосован ножами. Или пропал без вести, сгинул навсегда — под тем селом болота, топь засасывает без следа.
Воспоминания… Глоба снова катил среди полей. Далекий лес обрамлял кромку земли. Облака плыли по небу, громоздясь в пенные башни и пухлые острова с протаявшими голубыми окнами, похожими на полыньи, сквозь которые проглядывался солнце.
Часто ребята погибали по неосторожности. У одного в caпоге нашли маленький, дамский, браунинг. Зачем он его носил? Мальчишество? Почти безобидная, в перламутре, игрушка. Где он его достал? Может быть, выменял у кого-то за недельную пайку хлеба? Другого паренька бандиты заподозрили сразу — уж больно вызывающе он держался перед сельскими хлопцами, давая понять, что не чета им, деревенским телепням. Девчонки глазели на него с восторгом, а он, рисуясь, туманно намекал на значимость своей фигуры. Бандиты его пытали долго, и он, не выдержав, во всем признался. Чекиста застрелили, шайка ушла в леса — в ту далекую Волчью Яму. Но бывали иногда и случаи, когда за провал было винить некого. Как это случилось с Венькой Пуховым — самым тихим и незаметным пареньком из тех семерых. Натворив в селе такого, что даже у людей, видавших виды, волосы становились дыбом, банда собиралась уходить в глухую чащобу на зимовку. И Венька Пухов разрядил в главаря все пули из барабана револьвера. Тоже ведь был запрятан наган, вопреки всяким инструкциям и правилам. Но тут, это каждый понимал, другое дело. Венька на то сознательно пошел. Его убили, но и банда, лишившись зверя-атамана, разбрелась по селам.
Рассказывая об этом, Рагоза хмуро сказал, отворотясь в сторону:
— Это его ошибка. Да! И не возражайте мне!
Все сидели безмолвно.
— Это не входило в его задание.
— Для пользы дела, — пробормотал Тихон.
Рагоза ожег его гневным взглядом, впервые, сколько они его знали, закричал, потеряв обычную выдержку:
— За всех все не переделать! Каждому свое! Вы разведчики, у вас своя специфика! И надо уметь работать, не подставляя голову под пулю! Вам еще жить и жить! Черт бы вас побрал, я уже устал повторять!
…Вспоминая об этом, Глоба сейчас как-то по-иному глядит на все, что его окружает. Далекий лес… Уж побродил по его тропам, голодал, питался ягодой и кореньями. Находил провалившиеся от осенних дождей бандитские землянки, а рядом с ними полузаросшие травой холмы без креста. Кто там лежит? Сваленный пулей или же убийственной простудой? Бедный крестьянин, силой оторванный от родной хаты? Тоска по брошенным детям, жене и скотине съели его душу, и он испустил последний вздох на соломенной подстилке, окруженный пьяными товарищами, с безысходной тоской прислушиваясь к монотонно стучащим каплям дождя. Или тут нашел свой последний час горемыка-бобыль, соблазненный сытой разбойничьей жизнью, когда не сеешь, не жнешь, а кусок мяса и хлеб всегда на столе, да еще вдобавок стакан самогона? А может быть, здесь закопан сам главарь, отдавший богу душу? Подстреленный в последней перепалке, он долго лежал, вглядываясь в небо, синеющее между кривыми ветками крыши.
Но точно так же тут мог лежать наш разведчик — истерзанный, с перебитыми ребрами, топором раскроенной головой. Или лихой боец истребительного отряда, попавший в засаду… Долгие годы смерть бродит по лесам, свивает свои гнезда под вековыми дубами, ставит зарубки на теле земли у топких берегов безвестных речушек.
Не один раз Глоба замерзал среди сугробов, по которым волчьими стаями мела поземка. Скорчившись под шубейкой, глубоко сунув ладони в рукава, он часами брел к ближайшему селу, наверняка зная, что там бандиты.
Воспоминания… Глоба брел к селу, таща в мешке за плечами три чугунные сковородки, угольный утюг с деревянной ручкой, холщовый мешочек с гвоздями, шесть металлических скоб и кусок брезентового ремня, вырезанного из машинной трансмиссии. Под мышкой он держал рулон из трех листов мягкой жести. Ветер дул в спину, колотил снегом в железо, туго выворачивая его из рук. Ноги, обутые в дырявые опорки, закоченели совсем.
Когда за пургой увидел неясные силуэты хат, сил почти уже не стало. Из снежной кутерьмы вышли два мужика в собачьих тулупах, молча ухватили под локти и потащили куда-то, втолкнули в сени, отряхнули, оббили, сами сбросили тулупы на поленницу дров и открыли дверь, обитую мешковиной.
В ярко освещенной керосиновыми лампами комнате вокруг стола сидело несколько человек, молча играли в карты. Один из них, в белой ситцевой рубашке с распахнутым воротом, чисто выбритый, с распаренным, видно, после бани, лицом, положил карты и повернулся к вошедшим:
— Кто такой? — спросил он.
Глоба прислонился к стене, колотясь в ознобе, ноги его подкашивались, он не мог произнести ни слова. Железная труба нелепо торчала из-под руки.
— Поймали на околице, — доложил один из мужиков. — Пер, батько, по дороге напролом.
— Посадите его на лавку, — сказал батько. — Да влейте него самогона. Может, очухается.
Мужик взял стакан и стеклянным краем с трудом разжав челюсти Глобы. Тихон судорожно глотнул обжигающей жидкости, чуть не задохнувшись. Плывущий перед глазами туман начал рассеиваться, все вокруг стало приобретать четкость. Он ясно увидел полутемную хату с двумя пылающими лампами по концам стола, крошечное окно, забитое изморозью, мерцающую фольгу икон в правом углу. И самого батька-атамана — гладко выбритого, с ухоженными усиками и еще влажными после бани волосами, аккуратно расчесанными на косой пробор.
«Боже ты мой, — в ужасе подумал Глоба, сразу узнавая в сидящем напротив него человеке бывшего председателя сельсовета Корнева. Того самого, который тогда ночью, на бричке с факелами… — Чудом удалось вырваться из бандитских рук… А сейчас попался. Неужто узнает? Прошло больше года… Кто я для него? Мелькнул и пропал. Вот он мне запомнился на всю жизнь. Я его узнаю из тысячи… Не узнал. Кажется, пронесло…».
— Эк его повело, — насмешливо проговорил один из мужиков, глядя на посеревшее лицо Глобы.
— Идите, — махнул рукой батько, и мужики скрылись за дверью. Глоба рухнул в угол, загремев жестью и всеми своими сковородками.
— Тю, — проговорил кто-то из сидящих за столом, — да вин, як чугунный.
— Сдавай, — перебил его батько, уже не обращая на Глобу внимания. Они начали играть, молча, с азартом шлепая картами по столу. Наконец батько сказал, покосившись на Глобу:
— А ну, хлопцы, распотрошите его… Что за гусь к нам пожаловал?
Глоба уже чуть отошел, он начал с трудом подниматься на ноги, держась за стену и шатаясь. Мужик снял с него мешок и вывалил посреди комнаты сковородки, утюг, гвозди.
— Мама ридная, — засмеялся батько. — Ну, давай, рассказывай, парень. Кто такой, откудова притопал? Да не вздумай мухлять. Мы народ строгий. Сначала дай ему, Федор.
Мужик отложил в сторону пустой мешок, наотмашь ударил кулаком Глобу. Тихон отлетел в угол.
— Для задатка, — с удовлетворением сказал батько.
— На менку пришел, — отплевываясь кровью, пробормотал Глоба. — Хлеб нужен, пшено… Голодаем страшно. В городе жрать нечего. Помогите чем можете, Христа ради прошу…
— Оскудел рабочий класс, — довольным голосом провозгласил батько. — Крестьянство ограбил, опустошил села, теперь сам по миру пошел с протянутой рукой. Да мы нищим не подаем! Заслужить трэба!
— И не надо! — с отчаянием воскликнул Глоба, лихорадочно расстегивая пуговицы на шубейке. Он встал на колени и начал торопливо засовывать в мешок гремящие сковородки, утюг, скобы. Тихон почти плакал, собирая с пола свои вещи. — Катитесь вы подальше! Тоже, паразиты малахольные…
— Да он пьян, батько, — засмеялся кто-то. — Врезать ему еще?
— Нэ трэба, — батько с интересом глядел на Глобу, весело щурил глаза, кончиками пальцев трогая мягкие усы. — А что ты умеешь робыть?
— Я за жратву любое дело осилю, — ответил Глоба.
— Нам пидручный коваля нужен, — проговорил батько, задумчиво разглядывая стоящего перед ним парня. — Пойдешь? А по весне отпустим, куль зерна дадим.
— Что сам награбишь — то твое, — вставил стоящий рядом мужик.
Глоба сел на скамейку, стащил с головы шапчонку, долю вертел в руках, и вдруг с силой хлопнул ею об пол:
— А, где наше не пропадало! Погляжу хоть — что это за бандитская свобода. Иль она медом помазана, что за нее башку под пули подставляют?
— Ну вот и лады, — усмехнулся батько, — одной заботой меньше. Ты, как я погляжу, хлопец сообразительный. Быстро скумекал где что! Давай знакомиться — я батько Корень! Слышал о таком?
Глоба с испуганным недоверием поглядел на сидящего перед ним громадного мужчину с красивым розовым лицом и только пробормотал чуть слышно:
— А чего ж… Царь и бог…
— Вот то-то же, — жестко проговорил Корень. — Иди, там тебя покормят, а утром в лес, до ридной усадьбы.
Его разбудили какие-то крики и бешеный лай собак. Еще ничего не соображая, он выглянул из стога и увидел несущуюся по пустынной улице конную тройку, запряженную в легкую бричку, полную людей. В руках они держали смоляные факелы — языки огня метались в темноте, искры летели над дорогой. Тройка ворвалась во двор, люди посыпались из брички, сразу заполнив усадьбу громкими голосами, пьяным хохотом, шипящим пламенем и топотом лошадиных копыт. Несколько человек сразу кинулись в дверь хаты — она, как бубен, загудела под тяжелыми ударами, окна ее вспыхнули изнутри адским мерцанием, раздался звон стекла, стариковские вопли.
— Пропал, батько, городской хлопец! Нэмае… От, сволота, убег!!
Старик, задыхаясь в вороте рубахи, сжатой в кулаке бандита, пытался кричать, но только хрипел сдавленным голосом:
— Не знаю… Батько, ей богу… Вот те хрест! Сам ложил в хате!
Кто-то из бандитов, выйдя из хаты последним, ушел в темноту с факелом в руках, когда вернулся, начал оббивать землю с сапог.
— Батько, он в лес удрал… Из окошка выпрыгнул и ходу. Следы по огороду в сторону леса.
— А, черт, — выругался батько, — такого щенка упустили… А может, он где заховался? Поищите-ка его, хлопцы. Саблюками поштрыкайте вон тот стожок, а вдруг в сене ховается? И по лестнице на чердак… Не ленитесь, хлопцы, давай, давай…
Глоба видел с высоты весь двор — батько стоял у крыльца, один из бандитов держал возле него пылающий факел, и в свете огня Тихон узнал председателя сельсовета Корнева, только на этот раз он был в расшитой узорами украинской рубашке, на голове лихо сдвинутая набок кубанка, через плечо тонкий ремешок сабли в никелированных ножнах.
— Ничого, батько… Обшукали все скрозь — ничого нэмае…
— По коня-ям! — заорал Корнев и пошел к тройке пляшущих лошадей, на поводьях которых висел один из бандитов, с трудом удерживая их на месте.
— А ты, Охрип, смотри у меня! — Батько встал на коленях в бричке, подняв сжатый кулак. — Из-под земли достану… Замри и ни слова! Все! Гони-и!
Тройка рывком проскочила ворота и понеслась вдоль улицы, грохоча колесами, бросая во все стороны искры, под пьяный мужичий хохот.
Глоба просидел на стогу, затаившись, до начала рассвета. Словно из тумана, медленно проясняясь, начало выходить из темноты утреннее село. А теперь что делать? Бежать… А если все дороги перекрыты? Засады за каждым кустом…
На крыльцо вышел старик, долго кашлял в утренней тишине, потом начал сворачивать цигарку, выбил из кресала искру и прикурил от затлевшего трута. Потом поднял голову и тихо сказал:
— Да слезай же, сынку… Беда минула. Ты слышь, слезай… Меня не бойся.
Глоба настороженно сказал, не раздвигая перед собой скрывавшее его сено:
— Тут высоко…
— Это ты гарно придумал насчет лестницы, — одобрительно проговорил старик. — Голова кумекает. Ну слезай, я тебе подсоблю.
Старик поставил к стогу лестницу, и Глоба, спустившись во двор, с хмурым видом начал оббивать с себя соломинки.
— Я тебя тихонько выведу из села, а ты там уж сам чапай, — сказал старик. — И не приведи господи еще раз тут показаться…
— Так это, значит, сам Корнев? — усмехнулся Глоба. — Ну, чудеса…
— Забудь! — замахал руками в панике старик. — Не видел ты ничего! Мотай отседова, хлопец, пока голова цела! То такие тварюки, что родных отца-матери не пожалеют!
Больше этого старика Глоба никогда не видел — в то утро дед вывел его в лес и показал дорогу к городу. Привычно запуская пятерню под облезлую папаху, он сказал, тяжело вздохнув:
— Ну прощавай, парень. Добра тебе желаю. От распроклятая жизнь — в своей хате не хозяин. До каких же пор так будет?
Через три дня в Малую Казачку прибыл конный отряд. Корнев был арестован прямо в сельсовете. Правда, в скором времени ему удалось бежать…
Воспоминания… Отдохнув, Глоба запряг лошадь в линейку. Он ехал через село, вглядываясь в так знакомые ему хаты, — сколько раз он за эти годы проезжал тут, — встречные крестьяне здоровались с ним, узнавая уездное начальство. Тихон отвечал им, кончиками пальцев трогая козырек фуражки. Хата старика стояла с заколоченными окнами, она была совсем дряхлая, почерневшая от непогоды соломенная крыша провалилась внутрь. Глоба знал, что старик помер. На усадьбе трое мужиков тюкали топорами, гоня стружку вдоль длинных бревен — готовили венцы для нового дома.
И все-таки, каждый раз попадая в это село, Глоба чувствовал волнение, он знал, что пройдет и пять, и десять лет, а не забудет той ночи, когда метались по двору черные тени, плясали огни факелов и так страшно, до ужаса, было лежать в сене — каждая сухая травинка от неосторожного движения, казалось, лопалась с гулким треском.
То было первое задание, и оно особенно запомнилось, но и остальные оставили в душе глубокий след. Он входил в мятежные села как беспризорник — в лохмотьях, нечесаный, в завшивленном бушлате с позеленевшими пуговицами. Разбросанные в отдалении хутора видели его — мелкого торговца нитками и солью, развешенной по полфунта, в кульках из серой оберточной бумаги. Сколько раз его били, добиваясь, кто же он на самом деле, чего ему здесь надо. И он плакал, божился, клялся на чем свет стоит в своей глупой неосторожности. Не знал, мол, что тут палят из обрезов… Ему что белые, что зеленые или красные… Господи, товар-то не хапайте! Отдайте, дяденьки, по миру пустите… Соль, знаете, каких денег стоит?! Да за что вы меня, дяденьки…
Возвращаясь домой, в город, он узнавал, что еще один из семи не вернулся с задания. А потом Рагоза подолгу сидел с оставшимися в живых и объяснял им ошибку того… тело которого нашли в лесу… Подвешен на ременных вожжах… Весь исполосован ножами. Или пропал без вести, сгинул навсегда — под тем селом болота, топь засасывает без следа.
Воспоминания… Глоба снова катил среди полей. Далекий лес обрамлял кромку земли. Облака плыли по небу, громоздясь в пенные башни и пухлые острова с протаявшими голубыми окнами, похожими на полыньи, сквозь которые проглядывался солнце.
Часто ребята погибали по неосторожности. У одного в caпоге нашли маленький, дамский, браунинг. Зачем он его носил? Мальчишество? Почти безобидная, в перламутре, игрушка. Где он его достал? Может быть, выменял у кого-то за недельную пайку хлеба? Другого паренька бандиты заподозрили сразу — уж больно вызывающе он держался перед сельскими хлопцами, давая понять, что не чета им, деревенским телепням. Девчонки глазели на него с восторгом, а он, рисуясь, туманно намекал на значимость своей фигуры. Бандиты его пытали долго, и он, не выдержав, во всем признался. Чекиста застрелили, шайка ушла в леса — в ту далекую Волчью Яму. Но бывали иногда и случаи, когда за провал было винить некого. Как это случилось с Венькой Пуховым — самым тихим и незаметным пареньком из тех семерых. Натворив в селе такого, что даже у людей, видавших виды, волосы становились дыбом, банда собиралась уходить в глухую чащобу на зимовку. И Венька Пухов разрядил в главаря все пули из барабана револьвера. Тоже ведь был запрятан наган, вопреки всяким инструкциям и правилам. Но тут, это каждый понимал, другое дело. Венька на то сознательно пошел. Его убили, но и банда, лишившись зверя-атамана, разбрелась по селам.
Рассказывая об этом, Рагоза хмуро сказал, отворотясь в сторону:
— Это его ошибка. Да! И не возражайте мне!
Все сидели безмолвно.
— Это не входило в его задание.
— Для пользы дела, — пробормотал Тихон.
Рагоза ожег его гневным взглядом, впервые, сколько они его знали, закричал, потеряв обычную выдержку:
— За всех все не переделать! Каждому свое! Вы разведчики, у вас своя специфика! И надо уметь работать, не подставляя голову под пулю! Вам еще жить и жить! Черт бы вас побрал, я уже устал повторять!
…Вспоминая об этом, Глоба сейчас как-то по-иному глядит на все, что его окружает. Далекий лес… Уж побродил по его тропам, голодал, питался ягодой и кореньями. Находил провалившиеся от осенних дождей бандитские землянки, а рядом с ними полузаросшие травой холмы без креста. Кто там лежит? Сваленный пулей или же убийственной простудой? Бедный крестьянин, силой оторванный от родной хаты? Тоска по брошенным детям, жене и скотине съели его душу, и он испустил последний вздох на соломенной подстилке, окруженный пьяными товарищами, с безысходной тоской прислушиваясь к монотонно стучащим каплям дождя. Или тут нашел свой последний час горемыка-бобыль, соблазненный сытой разбойничьей жизнью, когда не сеешь, не жнешь, а кусок мяса и хлеб всегда на столе, да еще вдобавок стакан самогона? А может быть, здесь закопан сам главарь, отдавший богу душу? Подстреленный в последней перепалке, он долго лежал, вглядываясь в небо, синеющее между кривыми ветками крыши.
Но точно так же тут мог лежать наш разведчик — истерзанный, с перебитыми ребрами, топором раскроенной головой. Или лихой боец истребительного отряда, попавший в засаду… Долгие годы смерть бродит по лесам, свивает свои гнезда под вековыми дубами, ставит зарубки на теле земли у топких берегов безвестных речушек.
Не один раз Глоба замерзал среди сугробов, по которым волчьими стаями мела поземка. Скорчившись под шубейкой, глубоко сунув ладони в рукава, он часами брел к ближайшему селу, наверняка зная, что там бандиты.
Воспоминания… Глоба брел к селу, таща в мешке за плечами три чугунные сковородки, угольный утюг с деревянной ручкой, холщовый мешочек с гвоздями, шесть металлических скоб и кусок брезентового ремня, вырезанного из машинной трансмиссии. Под мышкой он держал рулон из трех листов мягкой жести. Ветер дул в спину, колотил снегом в железо, туго выворачивая его из рук. Ноги, обутые в дырявые опорки, закоченели совсем.
Когда за пургой увидел неясные силуэты хат, сил почти уже не стало. Из снежной кутерьмы вышли два мужика в собачьих тулупах, молча ухватили под локти и потащили куда-то, втолкнули в сени, отряхнули, оббили, сами сбросили тулупы на поленницу дров и открыли дверь, обитую мешковиной.
В ярко освещенной керосиновыми лампами комнате вокруг стола сидело несколько человек, молча играли в карты. Один из них, в белой ситцевой рубашке с распахнутым воротом, чисто выбритый, с распаренным, видно, после бани, лицом, положил карты и повернулся к вошедшим:
— Кто такой? — спросил он.
Глоба прислонился к стене, колотясь в ознобе, ноги его подкашивались, он не мог произнести ни слова. Железная труба нелепо торчала из-под руки.
— Поймали на околице, — доложил один из мужиков. — Пер, батько, по дороге напролом.
— Посадите его на лавку, — сказал батько. — Да влейте него самогона. Может, очухается.
Мужик взял стакан и стеклянным краем с трудом разжав челюсти Глобы. Тихон судорожно глотнул обжигающей жидкости, чуть не задохнувшись. Плывущий перед глазами туман начал рассеиваться, все вокруг стало приобретать четкость. Он ясно увидел полутемную хату с двумя пылающими лампами по концам стола, крошечное окно, забитое изморозью, мерцающую фольгу икон в правом углу. И самого батька-атамана — гладко выбритого, с ухоженными усиками и еще влажными после бани волосами, аккуратно расчесанными на косой пробор.
«Боже ты мой, — в ужасе подумал Глоба, сразу узнавая в сидящем напротив него человеке бывшего председателя сельсовета Корнева. Того самого, который тогда ночью, на бричке с факелами… — Чудом удалось вырваться из бандитских рук… А сейчас попался. Неужто узнает? Прошло больше года… Кто я для него? Мелькнул и пропал. Вот он мне запомнился на всю жизнь. Я его узнаю из тысячи… Не узнал. Кажется, пронесло…».
— Эк его повело, — насмешливо проговорил один из мужиков, глядя на посеревшее лицо Глобы.
— Идите, — махнул рукой батько, и мужики скрылись за дверью. Глоба рухнул в угол, загремев жестью и всеми своими сковородками.
— Тю, — проговорил кто-то из сидящих за столом, — да вин, як чугунный.
— Сдавай, — перебил его батько, уже не обращая на Глобу внимания. Они начали играть, молча, с азартом шлепая картами по столу. Наконец батько сказал, покосившись на Глобу:
— А ну, хлопцы, распотрошите его… Что за гусь к нам пожаловал?
Глоба уже чуть отошел, он начал с трудом подниматься на ноги, держась за стену и шатаясь. Мужик снял с него мешок и вывалил посреди комнаты сковородки, утюг, гвозди.
— Мама ридная, — засмеялся батько. — Ну, давай, рассказывай, парень. Кто такой, откудова притопал? Да не вздумай мухлять. Мы народ строгий. Сначала дай ему, Федор.
Мужик отложил в сторону пустой мешок, наотмашь ударил кулаком Глобу. Тихон отлетел в угол.
— Для задатка, — с удовлетворением сказал батько.
— На менку пришел, — отплевываясь кровью, пробормотал Глоба. — Хлеб нужен, пшено… Голодаем страшно. В городе жрать нечего. Помогите чем можете, Христа ради прошу…
— Оскудел рабочий класс, — довольным голосом провозгласил батько. — Крестьянство ограбил, опустошил села, теперь сам по миру пошел с протянутой рукой. Да мы нищим не подаем! Заслужить трэба!
— И не надо! — с отчаянием воскликнул Глоба, лихорадочно расстегивая пуговицы на шубейке. Он встал на колени и начал торопливо засовывать в мешок гремящие сковородки, утюг, скобы. Тихон почти плакал, собирая с пола свои вещи. — Катитесь вы подальше! Тоже, паразиты малахольные…
— Да он пьян, батько, — засмеялся кто-то. — Врезать ему еще?
— Нэ трэба, — батько с интересом глядел на Глобу, весело щурил глаза, кончиками пальцев трогая мягкие усы. — А что ты умеешь робыть?
— Я за жратву любое дело осилю, — ответил Глоба.
— Нам пидручный коваля нужен, — проговорил батько, задумчиво разглядывая стоящего перед ним парня. — Пойдешь? А по весне отпустим, куль зерна дадим.
— Что сам награбишь — то твое, — вставил стоящий рядом мужик.
Глоба сел на скамейку, стащил с головы шапчонку, долю вертел в руках, и вдруг с силой хлопнул ею об пол:
— А, где наше не пропадало! Погляжу хоть — что это за бандитская свобода. Иль она медом помазана, что за нее башку под пули подставляют?
— Ну вот и лады, — усмехнулся батько, — одной заботой меньше. Ты, как я погляжу, хлопец сообразительный. Быстро скумекал где что! Давай знакомиться — я батько Корень! Слышал о таком?
Глоба с испуганным недоверием поглядел на сидящего перед ним громадного мужчину с красивым розовым лицом и только пробормотал чуть слышно:
— А чего ж… Царь и бог…
— Вот то-то же, — жестко проговорил Корень. — Иди, там тебя покормят, а утром в лес, до ридной усадьбы.
 Запара вошел в самую тьму, остановился где-то возле ульев и неуверенным голосом бросил в темноту:
— Кто тут? Е тут кто?!
И вдруг яркий свет электрического фонаря ударил по нему сбоку. И в этом луче, словно вырезавшем в черноте желтую сияющую воронку, старик увидел прямо перед собой женщину. Она была в кожаной куртке, черные волосы ветер легко нес по воздуху. Чуть повернувшись к Запаре, она глядела на него из свечения какую-то долгую секунду, и старик почувствовал, как по его спине побежали мурашки страха.
Женщина шевельнулась, поднеся к губам ярко вспыхнувший огонек папироски, и сказала с ленивым равнодушием кому-то невидимому за лучом света:
— Шмаляй его. Чего ждать?
Сказала тому, кто сразу же шевельнулся в темноте за спиной Запары. И тогда старик, уже не понимая, что он делает, нажал на спусковой крючок дробовика. Выстрел ахнул, луч света судорожно метнулся к небу, раздался крик, ружье вывалилось из ослабевших рук Запары. Он ринулся в темноту. Бежал, не разбирая и не видя дороги, через кусты, падая и поднимаясь, наскакивая на стволы деревьев, оставляя на жестких ветках клочья одежды. В бессилии упал лицом в землю…
— Ну, а потом? — спросил Глоба. — Вы не вернулись?
— Утром я прибрел к хате, — вспоминая, Запара прикрыл ладонью глаза.
…Утром он побрел к хутору, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь к лесу. Иней оттаивал, роса блестела на пожухлой траве. Хата показалась среди деревьев — двор ее был безлюден, у будки валялась застреленная собака. Ступая по земле, словно по тонкому стволу, прикрывающем болото, испуганно озираясь, старик вошел в распахнутые жердяные ворота. Хата была ограблена, дверь сорвана с петель. На пасеке Запара увидел несколько расколотых ульев-колод, облепленных застывшим медом и побитыми заморозками мертвыми пчелами. Соты были вырезаны ножом — раздавленные в темноте сапогами, валялись возле ульев.
У ствола старой яблони Запара увидел следы крови. Он долго глядел на эти бурые мазки, которыми была испачкана трава, еще не понимая того, что здесь случилось ночью. Словно оглушило тем выстрелом — отшибло память и соображение, оставалось лишь воспоминание об ужасе. Это чувство, взорвавшееся внутри, до сих поргнездилось в каждой его клетке, вытеснив все остальное.
Движимый паникой, Запара быстро вошел в хату, торопливо собрал в узел то, что осталось из вещей, закинул за спину и, согнувшись под тяжестью, не прикрыв за собой сорванную с петель дверь, побежал по дороге от хутора…
— Чего вы боялись? — спросил Глоба.
— Я догадывался, что убил человека…
— А кто они были, как вы думаете?
— То бандиты батька Корня, кто же еще…
— А женщина?
— Жинка батька Корня… Слухи по селам шли, что они вместе лютуют. Они мне никогда б не простили. Я и сейчас все в окно гляжу. Не идут ли по мою душу? Такие, как батько Корень, из-под земли достанут. Корень был зверь лютый, но жинку свою любил.
— Крест видели?
— Тогда его еще не было. Значит, он стоит? На моей земле батько Корень поховав свою жинку…
— Хутор у вас покупает старый Мацько. Он что, разве не боится Корня?
— Он же не убивал. Мацько такой человек — он им хлеба дает, воды попить, но сам винтовку не возьмет ни за что, награбленного ему не нужно. Он все заробыть своими руками.
— Старый одинокий человек. Я его видел.
— То не гляди, — впервые слабо улыбнулся Запара, — в нем силы, как у бугая. Я тоже был когда-то — ого-го! та жыття трошкы пидтоптало.
— Он может иметь связь с бандитами? — перебил Глоба.
— Нет-нет! — воскликнул Запара. — То такой человек… Никому зла не желает. Вы только его не трогайте. И он будет с утра до вечера на земле горбатить.
— Мы с вами еще разберемся и с тем убийством, — сказал Глоба. — А пока о нашей встрече никому не говорите. Я для всех по-прежнему финагент. Дело идет о неуплате налогов. И вообще, молчите обо всем — о хуторе и том выстреле… Как бежали оттуда. Это в ваших же интересах. До свидания.
Он прошел через лавку, легким кивком ответив на прощальный поклон хозяина, и дверь за ним захлопнулась, звякнув подвешенным колокольчиком. Тихон пересек дорогу и оглянулся — в крошечном окошке, словно бы распятое перекрестьем рамы, виднелось прилипшее к стеклу бледное лицо Запары.
«Врет или говорит правду? — подумал с тревогой Глоба. — Уж больно все как-то просто… Случайный выстрел… Среди ночи едят мед, разломав колоду… И смерть атаманши… Крест над ее могилой. Врет старик или говорит правду?»
Запара вошел в самую тьму, остановился где-то возле ульев и неуверенным голосом бросил в темноту:
— Кто тут? Е тут кто?!
И вдруг яркий свет электрического фонаря ударил по нему сбоку. И в этом луче, словно вырезавшем в черноте желтую сияющую воронку, старик увидел прямо перед собой женщину. Она была в кожаной куртке, черные волосы ветер легко нес по воздуху. Чуть повернувшись к Запаре, она глядела на него из свечения какую-то долгую секунду, и старик почувствовал, как по его спине побежали мурашки страха.
Женщина шевельнулась, поднеся к губам ярко вспыхнувший огонек папироски, и сказала с ленивым равнодушием кому-то невидимому за лучом света:
— Шмаляй его. Чего ждать?
Сказала тому, кто сразу же шевельнулся в темноте за спиной Запары. И тогда старик, уже не понимая, что он делает, нажал на спусковой крючок дробовика. Выстрел ахнул, луч света судорожно метнулся к небу, раздался крик, ружье вывалилось из ослабевших рук Запары. Он ринулся в темноту. Бежал, не разбирая и не видя дороги, через кусты, падая и поднимаясь, наскакивая на стволы деревьев, оставляя на жестких ветках клочья одежды. В бессилии упал лицом в землю…
— Ну, а потом? — спросил Глоба. — Вы не вернулись?
— Утром я прибрел к хате, — вспоминая, Запара прикрыл ладонью глаза.
…Утром он побрел к хутору, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь к лесу. Иней оттаивал, роса блестела на пожухлой траве. Хата показалась среди деревьев — двор ее был безлюден, у будки валялась застреленная собака. Ступая по земле, словно по тонкому стволу, прикрывающем болото, испуганно озираясь, старик вошел в распахнутые жердяные ворота. Хата была ограблена, дверь сорвана с петель. На пасеке Запара увидел несколько расколотых ульев-колод, облепленных застывшим медом и побитыми заморозками мертвыми пчелами. Соты были вырезаны ножом — раздавленные в темноте сапогами, валялись возле ульев.
У ствола старой яблони Запара увидел следы крови. Он долго глядел на эти бурые мазки, которыми была испачкана трава, еще не понимая того, что здесь случилось ночью. Словно оглушило тем выстрелом — отшибло память и соображение, оставалось лишь воспоминание об ужасе. Это чувство, взорвавшееся внутри, до сих поргнездилось в каждой его клетке, вытеснив все остальное.
Движимый паникой, Запара быстро вошел в хату, торопливо собрал в узел то, что осталось из вещей, закинул за спину и, согнувшись под тяжестью, не прикрыв за собой сорванную с петель дверь, побежал по дороге от хутора…
— Чего вы боялись? — спросил Глоба.
— Я догадывался, что убил человека…
— А кто они были, как вы думаете?
— То бандиты батька Корня, кто же еще…
— А женщина?
— Жинка батька Корня… Слухи по селам шли, что они вместе лютуют. Они мне никогда б не простили. Я и сейчас все в окно гляжу. Не идут ли по мою душу? Такие, как батько Корень, из-под земли достанут. Корень был зверь лютый, но жинку свою любил.
— Крест видели?
— Тогда его еще не было. Значит, он стоит? На моей земле батько Корень поховав свою жинку…
— Хутор у вас покупает старый Мацько. Он что, разве не боится Корня?
— Он же не убивал. Мацько такой человек — он им хлеба дает, воды попить, но сам винтовку не возьмет ни за что, награбленного ему не нужно. Он все заробыть своими руками.
— Старый одинокий человек. Я его видел.
— То не гляди, — впервые слабо улыбнулся Запара, — в нем силы, как у бугая. Я тоже был когда-то — ого-го! та жыття трошкы пидтоптало.
— Он может иметь связь с бандитами? — перебил Глоба.
— Нет-нет! — воскликнул Запара. — То такой человек… Никому зла не желает. Вы только его не трогайте. И он будет с утра до вечера на земле горбатить.
— Мы с вами еще разберемся и с тем убийством, — сказал Глоба. — А пока о нашей встрече никому не говорите. Я для всех по-прежнему финагент. Дело идет о неуплате налогов. И вообще, молчите обо всем — о хуторе и том выстреле… Как бежали оттуда. Это в ваших же интересах. До свидания.
Он прошел через лавку, легким кивком ответив на прощальный поклон хозяина, и дверь за ним захлопнулась, звякнув подвешенным колокольчиком. Тихон пересек дорогу и оглянулся — в крошечном окошке, словно бы распятое перекрестьем рамы, виднелось прилипшее к стеклу бледное лицо Запары.
«Врет или говорит правду? — подумал с тревогой Глоба. — Уж больно все как-то просто… Случайный выстрел… Среди ночи едят мед, разломав колоду… И смерть атаманши… Крест над ее могилой. Врет старик или говорит правду?»



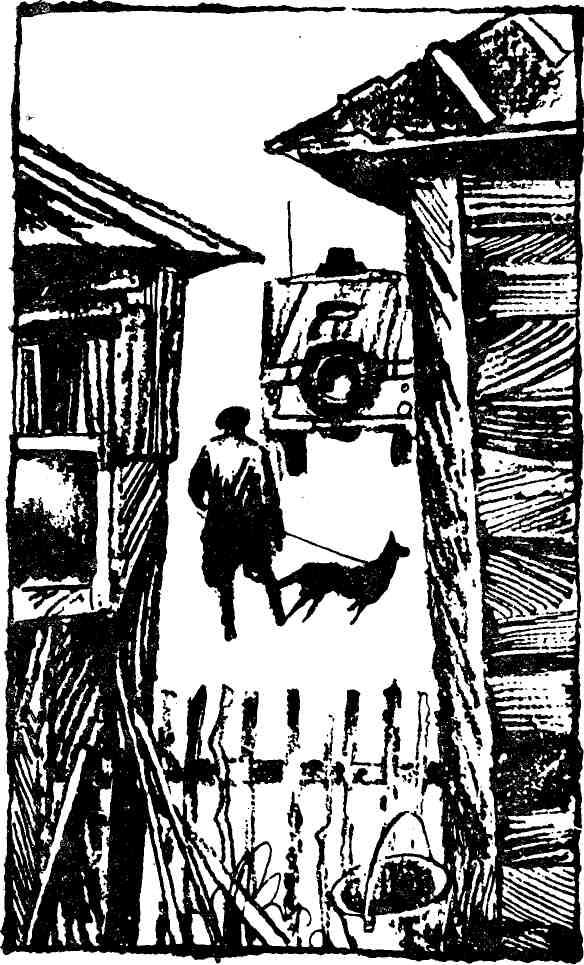























 Капитан вытащил из кармана стеклянные трубочки с отбитыми верхушками, посмотрел на них против солнца, понюхал, покачал головой и спрятал их обратно. Он был недоволен вчерашним днем. Чернова в Сарыташе не застал. А надо бы… Колхозная ферма на обширнейшем высокогорном пастбище Алая была по соседству с участком. Чернов шефствовал над ней, помогал автомашинами, электрифицировал ферму, хорошо знал люден. С ним не мешало посоветоваться…
Случай с падежом на ферме был необычным. За короткий срок, неделю, не больше, погибло несколько сот овец. Это произошло как раз перед тем, когда с фермы уже собирались перегонять скот на зимние пастбища в долины. Потом, так же неожиданно, как и начался, падеж сразу прекратился.
Капитан Мороз узнал об этом поздно. Почти двое суток он расспрашивал, осматривал, лазил по выпасам. И нигде никаких следов. Однако капитан настойчиво искал. Долгие годы службы в погранвойсках научили его безошибочно разбираться в событиях, замечать то, чего не замечали другие, и давать ему правильную оценку. Снова и снова ходил он по увядшей, объеденной овцами траве, лазил по обрывам, осматривал ручьи и загоны. Каждый оброненный пастухом предмет, каждая вмятина в трапе — всё тщательно рассматривалось им. И всё это было не то, чего он искал.
Но в последние минуты, когда он уже потерял надежду на удачное расследование, неподалеку от старого полуразрушенного склада, километрах в двух от фермы, у самого обрыва, он нашел эти две разбитые ампулы. Капитан внимательно осмотрел это место и установил, что кто-то поспешно бежал и при падении (очевидно, споткнулся о камни») выронил их. Дело было, по всем признакам, ночью. Гнались овчарки. Собачьи следы отчетливо сохранились. Бежать над таким крутым обрывом да еще ночью — опасно, нужно прекрасно знать дорогу, чтобы не свернуть шею. Значит, враг ее знал!
— Товарищ капитан! Кажется, наши по Алаю скачут! — прервал его размышления голос Лукаша.
Вдали полным карьером скакали всадники.
— Молодцы, ребята! — сказал капитан, посмотрев на ручные часы. — Поезжай, Лукаш, вперед и скажи старшине Соколову: остановки в Бордобе делать не будем, чтобы готовы были. Заночуем на Кизыларте. По дороге, пока светло, заглянем в ущелье.
Лукаш ускакал.
Капитан смотрел в бинокль на приближающихся пограничников, на черные, движущиеся но склону Алая пятна отар, на цепи гор, сверкающих в лучах солнца своими болоснежными шапками, на вершину пика Ленина, всю розовую и блестящую, и его охватило неизъяснимое ощущение простора, слияния с природой.
Па площадку, возле огромной остроконечной каменной глыбы, влетели двое пограничником, круто осадив взмыленных коней.
Задание выполнено, товарищ капитан! — взяв под козырек, доложил младший сержант Джумаев.
Ну, что там в Акбосаге? — спросил Мороз.
— Всё в порядке, товарищ капитан! С пакетом Федорчук приезжал. Газеты привез, последние сводки… В Сталинграде дерутся, в самом городе, товарищ капитан! Как же это? Эх! Туда бы… Руки чешутся фашистов бить!.. А под Киевом, говорит, партизанКовпак здорово немецкие части почистил!
— Нам и здесь хватает кого… чистить, Джумаев.
Когда капитан Мороз с двумя пограничниками подъезжал к Бордобе, у шоссе его уже ждали Лукаш и старшина Соколов с бойцами. Вокруг колодца стояли автомашины, возвращавшиеся в Ош. Шоферы наливали воду в разогретые радиаторы, поправляли серые брезенты, которыми был накрыт груз, и перебрасывались шутками с пограничниками.
Один шофер рассказывал:
— Еду я как-то ночью. Фары, будто прожекторы — далеко светят. А впереди по дороге два зайца бегут. Подержал я их на свету минут пять, налетел ну и… готовы. Встал с машины, одного за уши поднял, в кузов бросил. Подхожу, второго беру, поднял, а он, стервец, видно очухался, да как ахнет меня в ухо лапой, ну, братцы, так все звезды с неба и посыпались… Залепил мне да и был таков! Всю ночь в голове звенело. Вот заяц, братцы, так заяц!
— Ох, и врет же! — смеялись пограничники.
— Мое дело врать, а ваше — слушать, — невозмутимо отвечал шофер.
— Что, прямо на станцию? — спросил Мороз, показывая на машины.
Так точно, товарищ капитан! Груз по маршруту на Сталинград пойдет. Второй рейс делаем…
По нашей дороге сейчас много грузов идет туда, — с гордостью сказал кто-то из рабочих.
Капитан Мороз козырнул на прощанье веселым шоферам и отряд умчался в горы.
Шоссе серой змеей уползло вверх по ущелью. Слева стояли неприступные скалы, справа — глубокая пропасть, на дне которой, между камней, шумел мутный Кизыларт. Оттуда тянуло пронизывающей сыростью. Возле громадного, нависшего над дорогой выступа шоссе постепенно стало снижаться, подходить ближе к реке и теперь ее шум беспрерывно звенел и ушах.
Отряд свернул в ущелье, проскакал до поворота и остановился. В этом месте горы были словно расколоты множеством расщелин. Одна из них вела в довольно широкую впадину, в конце которой возвышалось плато с еще зеленой травой. Косые лучи заходящего солнца, пробиваясь меж гребней гор, ярко освещали его.
Это была уже граница с Китаем. Здесь по еле проходимым и неприметным тропкам когда-то пробирались контрабандисты. В советское время им пришлось отказаться от этого и изведанного. хотя и рискованного пути. Близко проходил Памирский тракт, по нему шло беспрерывное движение, а пограничники зорко следили за рубежом своей земли.
Капитан огляделся. По склонам всё выше взбирались тени, как будто кто-то закрывал горы темным занавесом. Только белоснежные вершины еще горели в огне заходящего солнца.
Получив распоряжение, отряд разделился. Старшина Соколов с тремя пограничникам» поскакал по дуге ущелья, ужа окутанного густыми сумерками. Младший сержант Джумаев с бойцами направился в узкую расщелину, с высоты которой падал ручей красивым, звенящим каскадом. Капитан двинулся в сторону плато, где любили пастись архары. Теперь, напуганные людьми, они появлялись здесь редко. Лукаш немного поотстал и, ослабив повода, медленно ехал поодаль. Тропка шла над самым обрывом, внизу которого журчал ручей.
Было очень тихо. Силуэты скал стали черными и зловещими. И в это время раздался выстрел. В тишине он был таким резким и неожиданным, что конь под капитаном шарахнулся в сторону и встал на дыбы. Грянули еще два выстрела и пули просвистели близко над головой Мороза. Конь сделал несколько сильных скачков вверх по склону, замотал головой и что-то теплое, липкое брызнуло на руку капитана. Резко дернув за повод, он заставил коня сделать прыжок за уступ скалы, где было безопаснее осмотреться. Сверху, на противоположной стороне обрыва, откуда стреляли, сорвался и с грохотом скатился камень. Было ясно, что кто-то уходит, стараясь скрыть следы после неудачного покушения.
— Товарищ капитан! Вы не ранены? — подскакал сзади испуганный Лукаш.
..Всю ночь отряд во главе с капитаном безуспешно рыскал по скалам. Тот, кто стрелял, видно, очень хорошо знал эти места.
Было уже совсем светло, когда отряд возвращался на заставу. Капитан молча ехал впереди, стараясь разобраться в событиях последних дней. Пало несколько сот овец. Заведующий фермой никого не подозревает. Судя по всему — отравление. Найдены только две ампулы. Если их больше не было — какой же это сильный яд! Конечно, это «оттуда»! В каком месте «он» сумел пробраться? Кто стрелял в горах? Тот самый или другой? Где он сейчас? Один, двое? Вот задача… Задача, которую надо решить как можно скорее.
Капитан вытащил из кармана стеклянные трубочки с отбитыми верхушками, посмотрел на них против солнца, понюхал, покачал головой и спрятал их обратно. Он был недоволен вчерашним днем. Чернова в Сарыташе не застал. А надо бы… Колхозная ферма на обширнейшем высокогорном пастбище Алая была по соседству с участком. Чернов шефствовал над ней, помогал автомашинами, электрифицировал ферму, хорошо знал люден. С ним не мешало посоветоваться…
Случай с падежом на ферме был необычным. За короткий срок, неделю, не больше, погибло несколько сот овец. Это произошло как раз перед тем, когда с фермы уже собирались перегонять скот на зимние пастбища в долины. Потом, так же неожиданно, как и начался, падеж сразу прекратился.
Капитан Мороз узнал об этом поздно. Почти двое суток он расспрашивал, осматривал, лазил по выпасам. И нигде никаких следов. Однако капитан настойчиво искал. Долгие годы службы в погранвойсках научили его безошибочно разбираться в событиях, замечать то, чего не замечали другие, и давать ему правильную оценку. Снова и снова ходил он по увядшей, объеденной овцами траве, лазил по обрывам, осматривал ручьи и загоны. Каждый оброненный пастухом предмет, каждая вмятина в трапе — всё тщательно рассматривалось им. И всё это было не то, чего он искал.
Но в последние минуты, когда он уже потерял надежду на удачное расследование, неподалеку от старого полуразрушенного склада, километрах в двух от фермы, у самого обрыва, он нашел эти две разбитые ампулы. Капитан внимательно осмотрел это место и установил, что кто-то поспешно бежал и при падении (очевидно, споткнулся о камни») выронил их. Дело было, по всем признакам, ночью. Гнались овчарки. Собачьи следы отчетливо сохранились. Бежать над таким крутым обрывом да еще ночью — опасно, нужно прекрасно знать дорогу, чтобы не свернуть шею. Значит, враг ее знал!
— Товарищ капитан! Кажется, наши по Алаю скачут! — прервал его размышления голос Лукаша.
Вдали полным карьером скакали всадники.
— Молодцы, ребята! — сказал капитан, посмотрев на ручные часы. — Поезжай, Лукаш, вперед и скажи старшине Соколову: остановки в Бордобе делать не будем, чтобы готовы были. Заночуем на Кизыларте. По дороге, пока светло, заглянем в ущелье.
Лукаш ускакал.
Капитан смотрел в бинокль на приближающихся пограничников, на черные, движущиеся но склону Алая пятна отар, на цепи гор, сверкающих в лучах солнца своими болоснежными шапками, на вершину пика Ленина, всю розовую и блестящую, и его охватило неизъяснимое ощущение простора, слияния с природой.
Па площадку, возле огромной остроконечной каменной глыбы, влетели двое пограничником, круто осадив взмыленных коней.
Задание выполнено, товарищ капитан! — взяв под козырек, доложил младший сержант Джумаев.
Ну, что там в Акбосаге? — спросил Мороз.
— Всё в порядке, товарищ капитан! С пакетом Федорчук приезжал. Газеты привез, последние сводки… В Сталинграде дерутся, в самом городе, товарищ капитан! Как же это? Эх! Туда бы… Руки чешутся фашистов бить!.. А под Киевом, говорит, партизанКовпак здорово немецкие части почистил!
— Нам и здесь хватает кого… чистить, Джумаев.
Когда капитан Мороз с двумя пограничниками подъезжал к Бордобе, у шоссе его уже ждали Лукаш и старшина Соколов с бойцами. Вокруг колодца стояли автомашины, возвращавшиеся в Ош. Шоферы наливали воду в разогретые радиаторы, поправляли серые брезенты, которыми был накрыт груз, и перебрасывались шутками с пограничниками.
Один шофер рассказывал:
— Еду я как-то ночью. Фары, будто прожекторы — далеко светят. А впереди по дороге два зайца бегут. Подержал я их на свету минут пять, налетел ну и… готовы. Встал с машины, одного за уши поднял, в кузов бросил. Подхожу, второго беру, поднял, а он, стервец, видно очухался, да как ахнет меня в ухо лапой, ну, братцы, так все звезды с неба и посыпались… Залепил мне да и был таков! Всю ночь в голове звенело. Вот заяц, братцы, так заяц!
— Ох, и врет же! — смеялись пограничники.
— Мое дело врать, а ваше — слушать, — невозмутимо отвечал шофер.
— Что, прямо на станцию? — спросил Мороз, показывая на машины.
Так точно, товарищ капитан! Груз по маршруту на Сталинград пойдет. Второй рейс делаем…
По нашей дороге сейчас много грузов идет туда, — с гордостью сказал кто-то из рабочих.
Капитан Мороз козырнул на прощанье веселым шоферам и отряд умчался в горы.
Шоссе серой змеей уползло вверх по ущелью. Слева стояли неприступные скалы, справа — глубокая пропасть, на дне которой, между камней, шумел мутный Кизыларт. Оттуда тянуло пронизывающей сыростью. Возле громадного, нависшего над дорогой выступа шоссе постепенно стало снижаться, подходить ближе к реке и теперь ее шум беспрерывно звенел и ушах.
Отряд свернул в ущелье, проскакал до поворота и остановился. В этом месте горы были словно расколоты множеством расщелин. Одна из них вела в довольно широкую впадину, в конце которой возвышалось плато с еще зеленой травой. Косые лучи заходящего солнца, пробиваясь меж гребней гор, ярко освещали его.
Это была уже граница с Китаем. Здесь по еле проходимым и неприметным тропкам когда-то пробирались контрабандисты. В советское время им пришлось отказаться от этого и изведанного. хотя и рискованного пути. Близко проходил Памирский тракт, по нему шло беспрерывное движение, а пограничники зорко следили за рубежом своей земли.
Капитан огляделся. По склонам всё выше взбирались тени, как будто кто-то закрывал горы темным занавесом. Только белоснежные вершины еще горели в огне заходящего солнца.
Получив распоряжение, отряд разделился. Старшина Соколов с тремя пограничникам» поскакал по дуге ущелья, ужа окутанного густыми сумерками. Младший сержант Джумаев с бойцами направился в узкую расщелину, с высоты которой падал ручей красивым, звенящим каскадом. Капитан двинулся в сторону плато, где любили пастись архары. Теперь, напуганные людьми, они появлялись здесь редко. Лукаш немного поотстал и, ослабив повода, медленно ехал поодаль. Тропка шла над самым обрывом, внизу которого журчал ручей.
Было очень тихо. Силуэты скал стали черными и зловещими. И в это время раздался выстрел. В тишине он был таким резким и неожиданным, что конь под капитаном шарахнулся в сторону и встал на дыбы. Грянули еще два выстрела и пули просвистели близко над головой Мороза. Конь сделал несколько сильных скачков вверх по склону, замотал головой и что-то теплое, липкое брызнуло на руку капитана. Резко дернув за повод, он заставил коня сделать прыжок за уступ скалы, где было безопаснее осмотреться. Сверху, на противоположной стороне обрыва, откуда стреляли, сорвался и с грохотом скатился камень. Было ясно, что кто-то уходит, стараясь скрыть следы после неудачного покушения.
— Товарищ капитан! Вы не ранены? — подскакал сзади испуганный Лукаш.
..Всю ночь отряд во главе с капитаном безуспешно рыскал по скалам. Тот, кто стрелял, видно, очень хорошо знал эти места.
Было уже совсем светло, когда отряд возвращался на заставу. Капитан молча ехал впереди, стараясь разобраться в событиях последних дней. Пало несколько сот овец. Заведующий фермой никого не подозревает. Судя по всему — отравление. Найдены только две ампулы. Если их больше не было — какой же это сильный яд! Конечно, это «оттуда»! В каком месте «он» сумел пробраться? Кто стрелял в горах? Тот самый или другой? Где он сейчас? Один, двое? Вот задача… Задача, которую надо решить как можно скорее.
 — Вот как! Абибулаев не поехал за камнем! — воскликнула возмущенная девушка. — Хорошо, я привезу камень…
— Нельзя, Фатима, этот участок надо закончить обязательно.
— Я ночью буду работать. Факел зажгу…
Савченко недоверчиво посмотрел на Фатиму, будто впервые увидел девушку. В полумраке блестели ее сосредоточенно-напряженные глаза, билась на ветру шелковая прядь растрепавшихся волос. Маленькие, но сильные руки уверенно держали руль. «Стоящая дивчина! Не ошибся парень…» — подумал Савченко, вспомнив об Исмаиле.
— Факел, — вскричал он, — зажечь факел!.. А ведь это — дело! Ты, девка, молодец! Хорошо придумала. Ну, я пойду погляжу на этого барина.
В палатке, кроме Абибулаева, который лежал на животе, уткнувшись носом в тюфяк, он застал Пулата. Стены палатки трепетали под напором ветра. Пулат, возбужденный, стоял над трактористом. Очевидно, они только что горячо поспорили.
— Ты что здесь делаешь, Пулат? — спросил Савченко. — Иди…
— Зачем — иди? — закричал тот. — Все работают, а он отлеживается…
— Помолчи, — глухо отозвался Абибулаев. — В такой погода хозяин собака жалеет, а ты гонишь…
Савченко вспыхнул.
— На фронте труднее приходится, да не сдаются, стоят насмерть. Ну, что ж, отлеживайся. Как-нибудь обойдемся и без тебя. Пошли, Пулат! — У порога Савченко остановился. — Посмотрел бы ты на Фатиму. Девушка, разве сравнить по силе с тобой, а как работает! Впрочем, тебе и не угнаться за ней. Я бы сгорел от стыда!
Больнее уязвить горячего, самолюбивого Абибулаева было невозможно. Он подскочил на тюфяке, словно его снизу шилом кольнули.
— Что ты меня стыдишь!..
Савченко не дослушал и вышел. Когда-то давно, в молодости ему случалось водить трактор и теперь он решился испытать свое умение. Но едва Савченко успел подойти к трактору, на него сзади налетел Абибулаев.
— Уходи! — закричал он еще издали, весь красный и взъерошенный. — Уходи! — задыхаясь от бега, снова выкрикнул Абибулаев, на ходу вскакивая на трактор. — Здесь мое место!..
— Ты же сказал, что не будешь работать?
— Иди по свой дело. Куда камень доставить?
— Ну, ладно… герой! На крутой поворот. Прокопычу подвезешь.
К ночи ураган немного утих. Дорожники успели укрепить размытый кусок кювета и залатать выбоины. В глубокой темноте, раздираемой ветром, факел на катке Фатимы озарял причудливые выступы скал и усталые, почерневшие лица людей.
Приехал Чернов. Узнав о случае с Абибулаевым, он гневно подумал: «Попробовал бы у меня отказаться! Зимой у Савченко двое каменщиков на лопату перейти не захотели… Д-да… Мягковат наш парторг. Этак он мне всех рабочих распустит». Когда все собрались в палатку, он так отчитал Абибулаева, что тот, чуть не плача, стал просить:
— Не буду, товарищ начальник! Клянусь алла… — запнулся он и загорелся, как кумач.-
Старый привычка, товарищ начальник, — начал он оправдываться под смех товарищей. — Честное комсомольское слово даю… — и, повернувшись в сторону Фатимы, встретил ее насмешливую улыбку и взгляд, от которого готов был сквозь землю провалиться.
Фатима стояла возле столика, улыбаясь каким-то своим мыслям. Большая, колеблющаяся тень от ее тонкой маленькой фигуры падала на стену палатки.
Владимир Константинович взглянул на девушку и ему вспомнилось с каким сомнением отнеслись в управлении к его ходатайству о приеме Фатимы на курсы трактористов, и с каким трудом еще так недавно он отстаивал ее, когда Фатиму хотели забрать у него и перевести на Гульчинский участок. Фатима была не только трактористкой. Она была прекрасным токарем, не раз выручая участок скоростной обточкой деталей.
— Фатима! Почему вы не ложитесь спать? Вы же устали. Завтра рано выезжаем.
— Разве я не остаюсь? Я еще не закончила работу.
— Абибулаев останется вместо вас, а вы поможете в мастерской. Вечером, кстати, побудете на собрании.
От Чернова не ускользнуло выражение радости, вспыхнувшее в глазах у Фатимы. «Ишь, как обрадовалась! — подумал он. — С Исмаилом увидится, соскучилась…» И эта радость чистой девичьей любви коснулась своей теплотой и его сердца.
— Вот как! Абибулаев не поехал за камнем! — воскликнула возмущенная девушка. — Хорошо, я привезу камень…
— Нельзя, Фатима, этот участок надо закончить обязательно.
— Я ночью буду работать. Факел зажгу…
Савченко недоверчиво посмотрел на Фатиму, будто впервые увидел девушку. В полумраке блестели ее сосредоточенно-напряженные глаза, билась на ветру шелковая прядь растрепавшихся волос. Маленькие, но сильные руки уверенно держали руль. «Стоящая дивчина! Не ошибся парень…» — подумал Савченко, вспомнив об Исмаиле.
— Факел, — вскричал он, — зажечь факел!.. А ведь это — дело! Ты, девка, молодец! Хорошо придумала. Ну, я пойду погляжу на этого барина.
В палатке, кроме Абибулаева, который лежал на животе, уткнувшись носом в тюфяк, он застал Пулата. Стены палатки трепетали под напором ветра. Пулат, возбужденный, стоял над трактористом. Очевидно, они только что горячо поспорили.
— Ты что здесь делаешь, Пулат? — спросил Савченко. — Иди…
— Зачем — иди? — закричал тот. — Все работают, а он отлеживается…
— Помолчи, — глухо отозвался Абибулаев. — В такой погода хозяин собака жалеет, а ты гонишь…
Савченко вспыхнул.
— На фронте труднее приходится, да не сдаются, стоят насмерть. Ну, что ж, отлеживайся. Как-нибудь обойдемся и без тебя. Пошли, Пулат! — У порога Савченко остановился. — Посмотрел бы ты на Фатиму. Девушка, разве сравнить по силе с тобой, а как работает! Впрочем, тебе и не угнаться за ней. Я бы сгорел от стыда!
Больнее уязвить горячего, самолюбивого Абибулаева было невозможно. Он подскочил на тюфяке, словно его снизу шилом кольнули.
— Что ты меня стыдишь!..
Савченко не дослушал и вышел. Когда-то давно, в молодости ему случалось водить трактор и теперь он решился испытать свое умение. Но едва Савченко успел подойти к трактору, на него сзади налетел Абибулаев.
— Уходи! — закричал он еще издали, весь красный и взъерошенный. — Уходи! — задыхаясь от бега, снова выкрикнул Абибулаев, на ходу вскакивая на трактор. — Здесь мое место!..
— Ты же сказал, что не будешь работать?
— Иди по свой дело. Куда камень доставить?
— Ну, ладно… герой! На крутой поворот. Прокопычу подвезешь.
К ночи ураган немного утих. Дорожники успели укрепить размытый кусок кювета и залатать выбоины. В глубокой темноте, раздираемой ветром, факел на катке Фатимы озарял причудливые выступы скал и усталые, почерневшие лица людей.
Приехал Чернов. Узнав о случае с Абибулаевым, он гневно подумал: «Попробовал бы у меня отказаться! Зимой у Савченко двое каменщиков на лопату перейти не захотели… Д-да… Мягковат наш парторг. Этак он мне всех рабочих распустит». Когда все собрались в палатку, он так отчитал Абибулаева, что тот, чуть не плача, стал просить:
— Не буду, товарищ начальник! Клянусь алла… — запнулся он и загорелся, как кумач.-
Старый привычка, товарищ начальник, — начал он оправдываться под смех товарищей. — Честное комсомольское слово даю… — и, повернувшись в сторону Фатимы, встретил ее насмешливую улыбку и взгляд, от которого готов был сквозь землю провалиться.
Фатима стояла возле столика, улыбаясь каким-то своим мыслям. Большая, колеблющаяся тень от ее тонкой маленькой фигуры падала на стену палатки.
Владимир Константинович взглянул на девушку и ему вспомнилось с каким сомнением отнеслись в управлении к его ходатайству о приеме Фатимы на курсы трактористов, и с каким трудом еще так недавно он отстаивал ее, когда Фатиму хотели забрать у него и перевести на Гульчинский участок. Фатима была не только трактористкой. Она была прекрасным токарем, не раз выручая участок скоростной обточкой деталей.
— Фатима! Почему вы не ложитесь спать? Вы же устали. Завтра рано выезжаем.
— Разве я не остаюсь? Я еще не закончила работу.
— Абибулаев останется вместо вас, а вы поможете в мастерской. Вечером, кстати, побудете на собрании.
От Чернова не ускользнуло выражение радости, вспыхнувшее в глазах у Фатимы. «Ишь, как обрадовалась! — подумал он. — С Исмаилом увидится, соскучилась…» И эта радость чистой девичьей любви коснулась своей теплотой и его сердца.
 Чернов вошел в дом. Внешне безучастно он наблюдал, как деятельно Казаков помогает собираться в дорогу его жене.
С горечью смотрел Владимир Константинович на возбужденное веселое лицо Лидии. Она была уже не здесь…
— Как ты думаешь, Володя, надеть мне боты? — беззаботно спросила она мимоходом и это было всё, о чем она нашла нужным посоветоваться с ним.
От глаз Чернова не ускользнуло, каким взглядом окидывает Казаков его жену. «Ишь, каким фертом вертится!» — неприязненно подумал он. Ему было противно смотреть на самодовольную, предупредительную улыбку этого человека, на его приторную вежливость, смотреть, как он надевает перчатки, обтягивая каждый палец; неприятно, как он всё время касается Лидии, принимая от нее свертки. Когда Лидия на минуту оставила их одних, Казаков изучающе глянул на Чернова.
— Владимир Константинович! Кроме докладной о пожаре, вы больше ничего не передаете начальнику дороги? — любезным тоном спросил он.
— Я просил бы подбросить нам сена.
— А может быть, вы всё-таки подумаете о предложении…
— Я уже сказал вам: мое нынешнее место меня удовлетворяет, — сухо ответил Чернов.
— Что ж дело ваше, растягивая слова, проговорил Казаков. — Смотрите, не прогадайте…
Чернов не ответил, вынул папиросу, закурил. Отсюда, где он сидел на диване, была видна часть спальни, туалетный столик, лицо Лидии, разгоревшееся, оживленное… Да, она красива. Ей радостно сейчас, что она уезжает. Уезжает на всю зиму. В своей белой пушистой шубке она кажется совсем юной. И Владимир Константинович на мгновение увидел в ней прежнюю Лиду…
Тогда был осенний прохладный вечер. Они вдвоем сидели на маленьком деревянном крылечке. На ней была накинута белая шубка и Лида зябко поводила плечами. И, как всегда, чуть насмешливо, но с какой-то неловкой улыбкой ома тогда сказала:
— Ты, может быть, не поверишь, по я еще никогда не любила.
— А меня? — спросил он, привлекая ее к себе.
Она высвободилась, положила руки ему на плечи и посмотрела прищуренными, смеющимися глазами.
Тебя? Тебя я люблю, как сумасшедшая! — И, засмеявшись, спрятала лицо у него на груди и долго не хотела поднять его.
А когда ом, с ласковой настойчивостью, откинул ее голову и заглянул ей в глаза, Лида была по-девичьи смущенная и счастливая! Да, тогда они были очень счастливы на том деревянном расшатанном крылечке. С тех пор это ощущение не повторялось никогда. Никогда больше Лидия не говорила, что она любит его, как сумасшедшая, и никогда больше не было у нее такого лица…
Может быть, он сам в этом виноват? Очерствел, привык к их сдержанным, холодноватым отношениям, сам никогда больше не говорил жене нежных слов?..
Лидия вышла из спальни. От нее пахло духами. Все втроем они сошли с крыльца к машине. Чернов снял с шубки прицепившуюся черную нитку и посмотрел на жену долгим, грустным взглядом.
— Тебе не будет холодно? Надела бы пуховый платок.
— Нет! Мне жарко, — возбужденно воскликнула она.
— Не беспокойтесь, Владимир Константинович. Я полностью отвечаю за доставку вашей супруги в целости и сохранности. Можете положиться, — расшаркался Казаков.
Чернов не взглянул в его сторону.
— Садитесь, Лидия Львовна! — раскрыл дверцу Казаков.
— Лида, ты, может быть, забыла что-нибудь в комнатах? — спросил Чернов, посмотрел жене в глаза.
— Нет, всё здесь, — сказала она, усаживаясь в машину.
Он думал, что Лидия догадается, войдет с ним на минуту в дом, чтобы попрощаться наедине. «Уезжает, с таким легким сердцем… Нет. Не любит она…» — горько усмехнулся про себя Чернов.
Лидия подала руку. А когда он, задержал ее, заглянул в глаза, она потянулась к нему, подставляя щеку. Владимир Константинович поцеловал ее и, выпрямившись, сказал:
— Ну… вот, значит.
— Что же ты привета не передаешь папе и маме?
— А? Да, да, конечно. Талочку крепко поцелуй за меня… — с оттенком грусти проговорил он.
А когда машина тронулась, он быстро сделал несколько шагов ей вслед и остановился, опустив голову.
«Ну, вот ты один теперь, как старый бобыль…» И, не заходя в свою квартиру, Владимир Константинович побрел к конторе.
Чернов вошел в дом. Внешне безучастно он наблюдал, как деятельно Казаков помогает собираться в дорогу его жене.
С горечью смотрел Владимир Константинович на возбужденное веселое лицо Лидии. Она была уже не здесь…
— Как ты думаешь, Володя, надеть мне боты? — беззаботно спросила она мимоходом и это было всё, о чем она нашла нужным посоветоваться с ним.
От глаз Чернова не ускользнуло, каким взглядом окидывает Казаков его жену. «Ишь, каким фертом вертится!» — неприязненно подумал он. Ему было противно смотреть на самодовольную, предупредительную улыбку этого человека, на его приторную вежливость, смотреть, как он надевает перчатки, обтягивая каждый палец; неприятно, как он всё время касается Лидии, принимая от нее свертки. Когда Лидия на минуту оставила их одних, Казаков изучающе глянул на Чернова.
— Владимир Константинович! Кроме докладной о пожаре, вы больше ничего не передаете начальнику дороги? — любезным тоном спросил он.
— Я просил бы подбросить нам сена.
— А может быть, вы всё-таки подумаете о предложении…
— Я уже сказал вам: мое нынешнее место меня удовлетворяет, — сухо ответил Чернов.
— Что ж дело ваше, растягивая слова, проговорил Казаков. — Смотрите, не прогадайте…
Чернов не ответил, вынул папиросу, закурил. Отсюда, где он сидел на диване, была видна часть спальни, туалетный столик, лицо Лидии, разгоревшееся, оживленное… Да, она красива. Ей радостно сейчас, что она уезжает. Уезжает на всю зиму. В своей белой пушистой шубке она кажется совсем юной. И Владимир Константинович на мгновение увидел в ней прежнюю Лиду…
Тогда был осенний прохладный вечер. Они вдвоем сидели на маленьком деревянном крылечке. На ней была накинута белая шубка и Лида зябко поводила плечами. И, как всегда, чуть насмешливо, но с какой-то неловкой улыбкой ома тогда сказала:
— Ты, может быть, не поверишь, по я еще никогда не любила.
— А меня? — спросил он, привлекая ее к себе.
Она высвободилась, положила руки ему на плечи и посмотрела прищуренными, смеющимися глазами.
Тебя? Тебя я люблю, как сумасшедшая! — И, засмеявшись, спрятала лицо у него на груди и долго не хотела поднять его.
А когда ом, с ласковой настойчивостью, откинул ее голову и заглянул ей в глаза, Лида была по-девичьи смущенная и счастливая! Да, тогда они были очень счастливы на том деревянном расшатанном крылечке. С тех пор это ощущение не повторялось никогда. Никогда больше Лидия не говорила, что она любит его, как сумасшедшая, и никогда больше не было у нее такого лица…
Может быть, он сам в этом виноват? Очерствел, привык к их сдержанным, холодноватым отношениям, сам никогда больше не говорил жене нежных слов?..
Лидия вышла из спальни. От нее пахло духами. Все втроем они сошли с крыльца к машине. Чернов снял с шубки прицепившуюся черную нитку и посмотрел на жену долгим, грустным взглядом.
— Тебе не будет холодно? Надела бы пуховый платок.
— Нет! Мне жарко, — возбужденно воскликнула она.
— Не беспокойтесь, Владимир Константинович. Я полностью отвечаю за доставку вашей супруги в целости и сохранности. Можете положиться, — расшаркался Казаков.
Чернов не взглянул в его сторону.
— Садитесь, Лидия Львовна! — раскрыл дверцу Казаков.
— Лида, ты, может быть, забыла что-нибудь в комнатах? — спросил Чернов, посмотрел жене в глаза.
— Нет, всё здесь, — сказала она, усаживаясь в машину.
Он думал, что Лидия догадается, войдет с ним на минуту в дом, чтобы попрощаться наедине. «Уезжает, с таким легким сердцем… Нет. Не любит она…» — горько усмехнулся про себя Чернов.
Лидия подала руку. А когда он, задержал ее, заглянул в глаза, она потянулась к нему, подставляя щеку. Владимир Константинович поцеловал ее и, выпрямившись, сказал:
— Ну… вот, значит.
— Что же ты привета не передаешь папе и маме?
— А? Да, да, конечно. Талочку крепко поцелуй за меня… — с оттенком грусти проговорил он.
А когда машина тронулась, он быстро сделал несколько шагов ей вслед и остановился, опустив голову.
«Ну, вот ты один теперь, как старый бобыль…» И, не заходя в свою квартиру, Владимир Константинович побрел к конторе.
 — Да, мастер, приходил. И кажется мне, подозревает он что-то…
— Ты так думаешь? Придется мне познакомиться с ним ближе…
На участке уже зажглись огни, когда Быков, возвращаясь с охоты, подошел к домику радиостанции. Дверь оказалась запертой изнутри. Быков постучал. Радист Пальцев открыл дверь и остановился на пороге, закашлявшись глухим, отрывистым кашлем. Его бросающуюся в глаза худобу дополняли впалые щеки с нездоровым румянцем и взгляд мрачно поблескивающих из глубоких орбит глаз Прежнего радиста призвали в армию и Пальцев только недавно заменил его. Неприветливого и молчаливого Пальцева чуждались в Сарыташе и, не зная его прошлого, относились с некоторым подозрением. Оборудование на радиостанции было старое, потрепанное, запчасти доставали с большими трудностями. Бесконечные неполадки тормозили работу, приходилось самому изобретать, сидеть по ночам. Пальцев никак не мог наладить регулярные передачи. «Чорт его знает, сапожника какого-то прислали, а не радиста, — ворчали рабочие. — Последних известий, и тех не послушаешь». Пальцев это слышал и еще больше замыкался в себе.
— Вы стучали? — посмотрел он на неожиданного гостя.
— Я.
— Что вам угодно?
— Гм… Мне ничего не угодно, — замялся Быков. — Я просто познакомиться зашел. Слышу, новый человек появился, вот и зашел.
— Сюда вход запрещен.
— Ну, что за формальности! — засмеялся гость и шагнул через порог.
— Позвольте…
— Видите ли, я радиолюбитель, тоже увлекаюсь… Зашел, как товарищ к товарищу, посмотреть, как у вас тут, послушать, — сказал Быков, усаживаясь на табуретку возле стола с приемником. — Вы, кажется, усилитель ремонтируете? О, да вы тут новшества вводите! Интересно…
— Руками нельзя трогать.
— Послушайте, Пальцев! Я вижу, вы нездоровы. На кой чорт, спрашивается, вы над этой петрушкой здоровье свое гробите? Просиживаете ночи напролет! Наладьте трансляцию — и хорошо. Пока здоров-ты всем нужен, а как заболел, никто не вспомнит!
— У вас есть ко мне какое-нибудь дело? — сухо спросил Пальцев.
— Да нет же! Говорю, так просто зашел.
Скучища тут. Каждому новому человеку радуешься.
Минуту они изучающие смотрели друг на друга.
— Курите? — прервав молчание, спросил Быков и протянул радисту коробку папирос.
— Нет. Здесь курить нельзя. И потом… вы меня отрываете от работы.
— Сейчас уйду. Не ожидал, что вы встретите так нелюбезно… Я же к вам по-хорошему! Зашел с охоты, посидеть, поговорить, радио послушать. А вы…
— Я нахожусь на службе, — хмуро буркнул Пальцев.
Быков поднялся. Радист поймал на себе его колючий, испытующий взгляд.
— Ну, что ж. Я ухожу.
«Строит из себя службиста, или в самом деле! такой? — раздумывал Быков, выходя на шоссе. — Ладно, разберемся». Не заходя на участок, он направился обратно к себе на перевал.
— Да, мастер, приходил. И кажется мне, подозревает он что-то…
— Ты так думаешь? Придется мне познакомиться с ним ближе…
На участке уже зажглись огни, когда Быков, возвращаясь с охоты, подошел к домику радиостанции. Дверь оказалась запертой изнутри. Быков постучал. Радист Пальцев открыл дверь и остановился на пороге, закашлявшись глухим, отрывистым кашлем. Его бросающуюся в глаза худобу дополняли впалые щеки с нездоровым румянцем и взгляд мрачно поблескивающих из глубоких орбит глаз Прежнего радиста призвали в армию и Пальцев только недавно заменил его. Неприветливого и молчаливого Пальцева чуждались в Сарыташе и, не зная его прошлого, относились с некоторым подозрением. Оборудование на радиостанции было старое, потрепанное, запчасти доставали с большими трудностями. Бесконечные неполадки тормозили работу, приходилось самому изобретать, сидеть по ночам. Пальцев никак не мог наладить регулярные передачи. «Чорт его знает, сапожника какого-то прислали, а не радиста, — ворчали рабочие. — Последних известий, и тех не послушаешь». Пальцев это слышал и еще больше замыкался в себе.
— Вы стучали? — посмотрел он на неожиданного гостя.
— Я.
— Что вам угодно?
— Гм… Мне ничего не угодно, — замялся Быков. — Я просто познакомиться зашел. Слышу, новый человек появился, вот и зашел.
— Сюда вход запрещен.
— Ну, что за формальности! — засмеялся гость и шагнул через порог.
— Позвольте…
— Видите ли, я радиолюбитель, тоже увлекаюсь… Зашел, как товарищ к товарищу, посмотреть, как у вас тут, послушать, — сказал Быков, усаживаясь на табуретку возле стола с приемником. — Вы, кажется, усилитель ремонтируете? О, да вы тут новшества вводите! Интересно…
— Руками нельзя трогать.
— Послушайте, Пальцев! Я вижу, вы нездоровы. На кой чорт, спрашивается, вы над этой петрушкой здоровье свое гробите? Просиживаете ночи напролет! Наладьте трансляцию — и хорошо. Пока здоров-ты всем нужен, а как заболел, никто не вспомнит!
— У вас есть ко мне какое-нибудь дело? — сухо спросил Пальцев.
— Да нет же! Говорю, так просто зашел.
Скучища тут. Каждому новому человеку радуешься.
Минуту они изучающие смотрели друг на друга.
— Курите? — прервав молчание, спросил Быков и протянул радисту коробку папирос.
— Нет. Здесь курить нельзя. И потом… вы меня отрываете от работы.
— Сейчас уйду. Не ожидал, что вы встретите так нелюбезно… Я же к вам по-хорошему! Зашел с охоты, посидеть, поговорить, радио послушать. А вы…
— Я нахожусь на службе, — хмуро буркнул Пальцев.
Быков поднялся. Радист поймал на себе его колючий, испытующий взгляд.
— Ну, что ж. Я ухожу.
«Строит из себя службиста, или в самом деле! такой? — раздумывал Быков, выходя на шоссе. — Ладно, разберемся». Не заходя на участок, он направился обратно к себе на перевал.

 Низко кланяясь, Цой поздоровался.
— Здравствуй, капитана! В гости к тебе пришел. Мало, мало месяц не приходил. Далеко возле Китая ходи Цой.
Ты опять за свое! — протягивая ему руку, укоризненно сказал капитан. — Смотри, Цой: границу переходить нельзя, раз живешь теперь у нас. Ты ведь это знаешь?
— Я в Китай не ходи, на охоте был…
— Ладно. Садись. Будем пить чай, расскажешь. Лукаш! Организуй-ка!..
Это был уже давно заведенный порядок. Когда Цой приходил к ним в гости, они садились на низенький мягкий диван за невысоким круглым столиком у внутренней стены кабинета. Лукаш приносил чай в фарфоровом чайнике, две расписные пиалы, кусковой сахар, лепешки. Крепкий, душистый чай освежает голову, делает мысли светлыми, ясными. Начинался «большой» разговор, в котором каждый раз Цой признавался капитану в своем проступке: «Я мало, мало граница не переходи! За архарами бегал». Просил прощения и тут же рассказывал о каком-нибудь случае с ним.
Цой снял шапку и положил ее на пол под стенку. Мягко ступая, он подошел вместе с капитаном к дивану и, усаживаясь, вполголоса сообщил:
— Капитана! Люди ходи в нашу сторону… Плохие люди. Мало, мало один день будут близко…
— Лукаш! — крикнул капитан Мороз в приоткрытую дверь. — Ко мне никого не пускать. Рассказывай, Цой, — обернулся он к старику.
И Цой рассказал вот что.
Возвращаясь с охоты домой только ему известными горными тропами, он наткнулся на группу людей. Среди них Цой узнал одного иностранца, которого часто встречал в городе Кашгаре, будучи еще проводником. У этого господина была своя машина и слуги. Важный начальник. К его дому часто приезжали большие китайские правители, гоминдановцы. Цой притаился в камнях, подполз совсем близко. Их было пять человек. Немного в стороне сидели два проводника-китайца. Цой их тоже хорошо знает. За деньги они могут спокойно убить человека. Разговор шел на русском и еще одном языке, который Цой понимает не хуже, чем русский. Из их слов он понял, что эти люди прибыли откуда-то из Маньчжурии Некоторые из них уже бывали здесь. Они вели разговор о какой-то экспедиции.
Лежа среди камней, Цой слышал всё от слова до слова. Долго пришлось лежать несколько часов… Потом иностранец с одним проводником вернулся обратно, а четыре остальных с другим проводником спустились в ущелье. Цою пришлось быть очень осторожным. Только ночью он смог продолжать свой путь. И время, и дорогу, по которой они будут идти, Цой хорошо знает.
— Шибко ходи, прямо бежал… Всех лови надо. Очень опасный люди!..
Цой неторопливо прожевал кусок лепешки и с наслаждении отхлебнул глоток чаю.
— Спасибо, Цой! Ты настоящий друг. Это очень важное сообщение- А теперь отдыхай… погости у нас. Лукаш!
— Подожди, капитана! Я тебе еще не всё сказал. Один русськи перешел раньше тех. Дорогу хорошо знает. В горах встретил его. Стрелял меня. Мало, мало в плечо не попал. Одет совсем как рабочий, с узелком.
— Рабочий? С узелком?
— Да, капитана.
— Хорошо. Спасибо, Цой. Большое спасибо!
Быстрыми шагами Мороз ходил по комната, напряженно обдумывал всё услышанное.
«Нет, «рабочий с узелком» не мог непосредственно участвовать в отравлении водоема. Цой встретил его всего два дня тому назад в горах, недалеко от границы. Кто-то из врагов уже раньше находился здесь. Надо тщательно присмотреться к людям на участке. И на ферме. Особенно на ферме…».
Капитан Мороз мрачно уставился в окно, на громоздившиеся горы. Плохо. Очень плохо. Враги переходят границу, а он, Мороз, оказался неспособным предотвратить это. До сих пор не пойман отравитель.
Оставив Цоя, Мороз быстро вышел из комнаты. Минут через десять отряд пограничников направился в горы, по дороге, указанной Цоем.
Капитан Мороз, одетый, тоже приготовившийся в путь, опять зашел в комнату, отпустил Цоя и позвонил в Сарыташ. Его соединили с Черновым.
— Владимир Константинович! Здравствуйте! Говорит Мороз. У вас на участке Кизыларт-Маркан-су ремонтируют дорогу? Заканчивают? Бригада Савченко? Открыли проезд машинам? Уже? Очень хорошо! Поздравляю! Да ничего… Что? Пожар? Каким образом?! Вот как? Хорошо, расскажете, при встрече… Я буду у вас.
Резким движением Мороз положил телефонную трубку. Нет! Он обшарит каждую щель в горах! Он не может спокойно дышать, жить, пока распоясавшиеся враги ходят на свободе! Сейчас много их ринулось на советскую землю! Но там, на фронте, бой идет в открытую, а здесь, в горах, каждый камень, каждый уступ может скрывать врага. Нужно искать, искать и — находить!..
Неужели они не перехватят «экспедицию», встреченную Цоем?
Мороз задумался, потом, вынув из ящика бумагу, стал торопливо писать письмо. «Если бригада Савченко еще на этом отрезке дороги, значит надо, чтобы он помог нам… Пусть начнет завтра работы как можно раньше. Так…» — соображал капитан, быстро записывая.
Запечатав письмо, он вызвал Джумаева.
— Вот, товарищ младший сержант, это письмо надо немедленно доставить в Сарыташ и вручить начальнику участка Чернову лично в руки. Седлай мотоцикл и… в дорогу. Понял?
— Так точно, товарищ капитан! — лихо щелкнул Джумаев каблуками. — Будет исполнено.
Низко кланяясь, Цой поздоровался.
— Здравствуй, капитана! В гости к тебе пришел. Мало, мало месяц не приходил. Далеко возле Китая ходи Цой.
Ты опять за свое! — протягивая ему руку, укоризненно сказал капитан. — Смотри, Цой: границу переходить нельзя, раз живешь теперь у нас. Ты ведь это знаешь?
— Я в Китай не ходи, на охоте был…
— Ладно. Садись. Будем пить чай, расскажешь. Лукаш! Организуй-ка!..
Это был уже давно заведенный порядок. Когда Цой приходил к ним в гости, они садились на низенький мягкий диван за невысоким круглым столиком у внутренней стены кабинета. Лукаш приносил чай в фарфоровом чайнике, две расписные пиалы, кусковой сахар, лепешки. Крепкий, душистый чай освежает голову, делает мысли светлыми, ясными. Начинался «большой» разговор, в котором каждый раз Цой признавался капитану в своем проступке: «Я мало, мало граница не переходи! За архарами бегал». Просил прощения и тут же рассказывал о каком-нибудь случае с ним.
Цой снял шапку и положил ее на пол под стенку. Мягко ступая, он подошел вместе с капитаном к дивану и, усаживаясь, вполголоса сообщил:
— Капитана! Люди ходи в нашу сторону… Плохие люди. Мало, мало один день будут близко…
— Лукаш! — крикнул капитан Мороз в приоткрытую дверь. — Ко мне никого не пускать. Рассказывай, Цой, — обернулся он к старику.
И Цой рассказал вот что.
Возвращаясь с охоты домой только ему известными горными тропами, он наткнулся на группу людей. Среди них Цой узнал одного иностранца, которого часто встречал в городе Кашгаре, будучи еще проводником. У этого господина была своя машина и слуги. Важный начальник. К его дому часто приезжали большие китайские правители, гоминдановцы. Цой притаился в камнях, подполз совсем близко. Их было пять человек. Немного в стороне сидели два проводника-китайца. Цой их тоже хорошо знает. За деньги они могут спокойно убить человека. Разговор шел на русском и еще одном языке, который Цой понимает не хуже, чем русский. Из их слов он понял, что эти люди прибыли откуда-то из Маньчжурии Некоторые из них уже бывали здесь. Они вели разговор о какой-то экспедиции.
Лежа среди камней, Цой слышал всё от слова до слова. Долго пришлось лежать несколько часов… Потом иностранец с одним проводником вернулся обратно, а четыре остальных с другим проводником спустились в ущелье. Цою пришлось быть очень осторожным. Только ночью он смог продолжать свой путь. И время, и дорогу, по которой они будут идти, Цой хорошо знает.
— Шибко ходи, прямо бежал… Всех лови надо. Очень опасный люди!..
Цой неторопливо прожевал кусок лепешки и с наслаждении отхлебнул глоток чаю.
— Спасибо, Цой! Ты настоящий друг. Это очень важное сообщение- А теперь отдыхай… погости у нас. Лукаш!
— Подожди, капитана! Я тебе еще не всё сказал. Один русськи перешел раньше тех. Дорогу хорошо знает. В горах встретил его. Стрелял меня. Мало, мало в плечо не попал. Одет совсем как рабочий, с узелком.
— Рабочий? С узелком?
— Да, капитана.
— Хорошо. Спасибо, Цой. Большое спасибо!
Быстрыми шагами Мороз ходил по комната, напряженно обдумывал всё услышанное.
«Нет, «рабочий с узелком» не мог непосредственно участвовать в отравлении водоема. Цой встретил его всего два дня тому назад в горах, недалеко от границы. Кто-то из врагов уже раньше находился здесь. Надо тщательно присмотреться к людям на участке. И на ферме. Особенно на ферме…».
Капитан Мороз мрачно уставился в окно, на громоздившиеся горы. Плохо. Очень плохо. Враги переходят границу, а он, Мороз, оказался неспособным предотвратить это. До сих пор не пойман отравитель.
Оставив Цоя, Мороз быстро вышел из комнаты. Минут через десять отряд пограничников направился в горы, по дороге, указанной Цоем.
Капитан Мороз, одетый, тоже приготовившийся в путь, опять зашел в комнату, отпустил Цоя и позвонил в Сарыташ. Его соединили с Черновым.
— Владимир Константинович! Здравствуйте! Говорит Мороз. У вас на участке Кизыларт-Маркан-су ремонтируют дорогу? Заканчивают? Бригада Савченко? Открыли проезд машинам? Уже? Очень хорошо! Поздравляю! Да ничего… Что? Пожар? Каким образом?! Вот как? Хорошо, расскажете, при встрече… Я буду у вас.
Резким движением Мороз положил телефонную трубку. Нет! Он обшарит каждую щель в горах! Он не может спокойно дышать, жить, пока распоясавшиеся враги ходят на свободе! Сейчас много их ринулось на советскую землю! Но там, на фронте, бой идет в открытую, а здесь, в горах, каждый камень, каждый уступ может скрывать врага. Нужно искать, искать и — находить!..
Неужели они не перехватят «экспедицию», встреченную Цоем?
Мороз задумался, потом, вынув из ящика бумагу, стал торопливо писать письмо. «Если бригада Савченко еще на этом отрезке дороги, значит надо, чтобы он помог нам… Пусть начнет завтра работы как можно раньше. Так…» — соображал капитан, быстро записывая.
Запечатав письмо, он вызвал Джумаева.
— Вот, товарищ младший сержант, это письмо надо немедленно доставить в Сарыташ и вручить начальнику участка Чернову лично в руки. Седлай мотоцикл и… в дорогу. Понял?
— Так точно, товарищ капитан! — лихо щелкнул Джумаев каблуками. — Будет исполнено.
 Всё ниже и ниже смельчаки. Капитан повис на руках и ищет ногой опору. Но что это! Зачем они спускаются по эту сторону выступа? Ведь их заметят! «Куда же вы?!» — чуть было не закричал Лукаш. Он не знал, что другого пути не было. Об этом капитан не сказал. Он сознательно шел на риск. «Кто не рискует, тот не побеждает!» — говорят военные. Бойцы замерли, следя глазами за каждым движением своих товарищей.
Всё ниже и ниже смельчаки. Капитан повис на руках и ищет ногой опору. Но что это! Зачем они спускаются по эту сторону выступа? Ведь их заметят! «Куда же вы?!» — чуть было не закричал Лукаш. Он не знал, что другого пути не было. Об этом капитан не сказал. Он сознательно шел на риск. «Кто не рискует, тот не побеждает!» — говорят военные. Бойцы замерли, следя глазами за каждым движением своих товарищей.
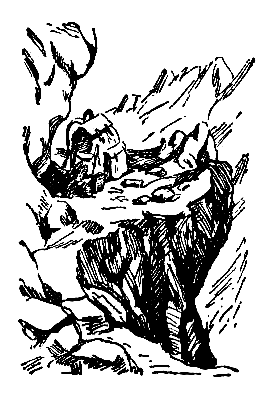 В это время на площадке послышались голоса, гулко стукнулась о камни консервная банка и в воздухе хлопнули один за другим три выстрела. Забыв об осторожности, пограничники бросились по тропинке к площадке. Никто из них не увидел, как капитан Мороз покачнулся и стал сползать вниз по крутому склону. Веревка натянулась, — Джумаев с трудом удерживал ее, боясь выпустить раненого капитана, и сам цеплялся за камни. Между бойцами и засевшими в укрытии врагами завязалась ожесточенная перестрелка.
…Расстреляв все патроны и увидев, очевидно, что деваться некуда, нарушители вышли с поднятыми руками на тропинку. Но их было… трое. Видимо, раненый капитан и Джумаев слишком поздно перекрыли выход из Орлиного гнезда и бородатый предводитель успел проскочить и скрыться в горах.
Капитан спешно послал двух человек в погоню. Но сумерки в горах сгущаются необычайно быстро. И вряд ли можно было в такой темноте рассчитывать на успех.
Начальник заставы был легко ранен в плечо. Лукаш очень искусно перевязал рану, повозился так долго и так жалостно причмокивал при этом языком, что капитану пришлось на него прикрикнуть.
На мосту пограничников встретили с нетерпением ожидавшие дорожники. Капитан пригласил их переночевать к себе на пост.
В Маркан-су добрались поздно. Но, несмотря на усталость после трудового дня и неожиданных волнений, многим не спалось. В большой просторной комнате люди лежали вповалку. Места на койках и скамьях хватило не всем. Расположились на полу, на постланных в ряд матрацах.
Пулат чувствовал себя героем. Он привел отряд, он помогал ловить диверсантов, он сразу догадался, что это люди подозрительные! Возбужденным шопотом Пулат делился с товарищами своими впечатлениями.
— Так бежал! Чуть мимо отряда не пробежал — такой разгон взял! Думал, остановиться не смогу!
Всю ночь шел снег. Утром, после горячего завтрака, приготовленного гостеприимными пограничниками, вся бригада во главе с Савченко приготовилась в обратный путь. Подвезти людей к месту вызвался на своей машине начальник заставы.
Перед тем, как ехать, капитан отвел Савченко в сторону.
— Так что вы думаете, Василий Иванович, о пожаре? — спросил он. — Что удалось установить?
Савченко замялся было, боясь показаться смешным в глазах капитана, и неохотно рассказал:
— Занялся было расследованием, да, видно, плохой из меня следователь. Эти крашеные спички имелись у многих людей. У приезжих.
— А в своих вы уверены?
Вопрос немного смутил Савченко.
В старых кадровых работниках — да, уверен. Новые… тоже как будто вполне надежные люди…
Он помолчал, перебирая в уме всех людей, работавших на участке. Ни о ком нельзя было подумать ничего дурного. А хорошо ли он знает всех людей своего участка?
— Вот что, Василий Иванович, — прервал молчание капитан. — Мы просим вас помочь нам. Понаблюдайте за фермой. Кто там останавливается, кто ходит туда из ваших людей, в какое время бывает. Только сделать это нужно, сами понимаете, осторожно…
Прощаясь, Мороз крепко пожал руку бригадиру дорожников.
В это время на площадке послышались голоса, гулко стукнулась о камни консервная банка и в воздухе хлопнули один за другим три выстрела. Забыв об осторожности, пограничники бросились по тропинке к площадке. Никто из них не увидел, как капитан Мороз покачнулся и стал сползать вниз по крутому склону. Веревка натянулась, — Джумаев с трудом удерживал ее, боясь выпустить раненого капитана, и сам цеплялся за камни. Между бойцами и засевшими в укрытии врагами завязалась ожесточенная перестрелка.
…Расстреляв все патроны и увидев, очевидно, что деваться некуда, нарушители вышли с поднятыми руками на тропинку. Но их было… трое. Видимо, раненый капитан и Джумаев слишком поздно перекрыли выход из Орлиного гнезда и бородатый предводитель успел проскочить и скрыться в горах.
Капитан спешно послал двух человек в погоню. Но сумерки в горах сгущаются необычайно быстро. И вряд ли можно было в такой темноте рассчитывать на успех.
Начальник заставы был легко ранен в плечо. Лукаш очень искусно перевязал рану, повозился так долго и так жалостно причмокивал при этом языком, что капитану пришлось на него прикрикнуть.
На мосту пограничников встретили с нетерпением ожидавшие дорожники. Капитан пригласил их переночевать к себе на пост.
В Маркан-су добрались поздно. Но, несмотря на усталость после трудового дня и неожиданных волнений, многим не спалось. В большой просторной комнате люди лежали вповалку. Места на койках и скамьях хватило не всем. Расположились на полу, на постланных в ряд матрацах.
Пулат чувствовал себя героем. Он привел отряд, он помогал ловить диверсантов, он сразу догадался, что это люди подозрительные! Возбужденным шопотом Пулат делился с товарищами своими впечатлениями.
— Так бежал! Чуть мимо отряда не пробежал — такой разгон взял! Думал, остановиться не смогу!
Всю ночь шел снег. Утром, после горячего завтрака, приготовленного гостеприимными пограничниками, вся бригада во главе с Савченко приготовилась в обратный путь. Подвезти людей к месту вызвался на своей машине начальник заставы.
Перед тем, как ехать, капитан отвел Савченко в сторону.
— Так что вы думаете, Василий Иванович, о пожаре? — спросил он. — Что удалось установить?
Савченко замялся было, боясь показаться смешным в глазах капитана, и неохотно рассказал:
— Занялся было расследованием, да, видно, плохой из меня следователь. Эти крашеные спички имелись у многих людей. У приезжих.
— А в своих вы уверены?
Вопрос немного смутил Савченко.
В старых кадровых работниках — да, уверен. Новые… тоже как будто вполне надежные люди…
Он помолчал, перебирая в уме всех людей, работавших на участке. Ни о ком нельзя было подумать ничего дурного. А хорошо ли он знает всех людей своего участка?
— Вот что, Василий Иванович, — прервал молчание капитан. — Мы просим вас помочь нам. Понаблюдайте за фермой. Кто там останавливается, кто ходит туда из ваших людей, в какое время бывает. Только сделать это нужно, сами понимаете, осторожно…
Прощаясь, Мороз крепко пожал руку бригадиру дорожников.
 Шатаясь, истекая кровью, Цой подошел к упавшему диверсанту, вырвал у него из рук пистолет, шагнул к краю выступа и, расстреляв в воздух все оставшиеся патроны, в надежде, что его услышат пограничники, упал без сознания…
Шатаясь, истекая кровью, Цой подошел к упавшему диверсанту, вырвал у него из рук пистолет, шагнул к краю выступа и, расстреляв в воздух все оставшиеся патроны, в надежде, что его услышат пограничники, упал без сознания…
 Эта мысль была приятна Елене Николаевне. Ощущение какой-то необычайной теплоты охватило ее. Они сидели втроем, пили молоко, болтали о пустяках. Потом Чена уложили на диван, н он, свернувшись в комочек, крепко уснул.
— Устал с дороги, — сказала Елена Николаевна, заботливо прикрывая его пуховым платком. — Мальчик, наверно, доставил вам много хлопот. Ведь на заставе за ним некому было смотреть?
— Как некому? А я?
— Вы?
— О, мы очень подружились! Мне даже грустно с ним расставаться… Я и не думал что так привяжусь к нему.
Капитан стал рассказывать о мальчике. Елена Николаевна налила по стакану крепкого чая. поставила варенье. Было уже поздно, но они не замечали этого. Впервые за всю свою холостяцкую жизнь Мороз испытывал сейчас какое-то особое, еще незнакомое ему чувство. Приятно было смотреть на эту женщину, следить за ее движениями, слушать се голос, ловить на себе взгляд ее зеленоватых глаз. Мороз сам себе удивлялся, что так долго засиделся, хотя ему нужно было еще повидаться с Черновым. Но он медлил, оттягивал расставанье.
— Скажите, Елена Николаевна, а как же Чей у вас всё же будет? Ведь в детском саду только дошкольники! И потом как у вас с питанием?
— Не беспокойтесь, Дмитрий Михайлович! Продуктами мы обеспечены. А что касается Чена, то у моей помощницы тоже мальчик, Сережа, такого же возраста, как и Чен. Только он сейчас болен. Я уверена, что они подружат и не будут скучать.
— Да? Вот и хорошо. Я вас прошу, вы уж присмотрите за моим Ченом?
— За вашим? Он теперь и мой тоже… — глаза Елены Николаевны заискрились. — Мне кажется, что я его уже полюбила…
— Ну, спасибо. — Капитан задержался на минутку. Он почувствовал вдруг желание попрощаться как-то теплее с этой женщиной, но вместо того сказал:-А архарьего мяса мы вам всё же доставим для подкрепления! — И, засмеявшись, он сбежал с крыльца.
Шагая через двор к конторе, Мороз улыбался: как никогда, ему было легко и радостно.
Уже поздно вечером начальник заставы сидел в конторе участка с Черновым и Савченко.
— Красные спички, Василий Иванович, не дают нам в руки никаких доказательств, — говорил капитан.
— Но все-таки… Нам удалось установить, что такие спички были только у приезжих, — возразил Савченко.
До сих пор он немножко гордился тем, что установил это именно он, а теперь, оказывается, его усилия ни к чему.
— Приезжих у вас на участке было в тот день человек двадцать пять, не так ли? Не будем же мы ставить под подозрение всех этих людей?
— Конечно, всех подозревать не станешь… — разочарованно пробормотал Савченко.
— Странно, — задумчиво продолжал капитан Мороз, — на ферме отравили овец, здесь же обнаружены ампулы и здесь же спички… Странно. Я вас как-то просил установить наблюдение за фермой. Как там?..
— На ферму мы послали двух каменщиков, сказал Чернов. — Там надо исправить печи и выложить перегородку в помещении склада. Работы им хватит недели на две.
Что за люди? Можно на них положиться? — спросил капитан.
— Вполне. Это неразлучные друзья: Савелии Шутов и старик Прокопыч.
— А-а, знаю их, — кивнул Мороз. — Ну, что ж, узнали они что-нибудь интересное?
— И ничего особенного, — сказал Савченко, — На ферме останавливаются иногда колхозники-животноводы, руководители колхозов, приезжал зоотехник из Оша, один раз ночевал председатель Мургабского райпотребсоюза Байбеков… У Салиева останавливался
— Байбеков? Он, кажется, был здесь и в день пожара… — вспомнил Чернов. — Тоже помогал тушить.
— Да, он был, — подтвердил Савченко.
Насколько я понимаю, у Байбекова никаких дел на ферме нет. Что он, в гости ездит к сторожу? — спросил Мороз.
Чернов и Савченко признались, что не интересовались, в каких он отношениях со сторожем фермы.
Надо поинтересоваться, — заметил Моим роз. — Скажите, пожалуй, вашим каменщикам, пусть понаблюдают. Только как бы они там не выдали себя!
— Нет, Прокопыч — хитрый старик
Начальник заставы поднялся.
— Как ваше плечо, Дмитрий Михайлович? — спросил Чернов.
— Пустяки. Зажило. — Капитан помрачнел. — А вот старика мы подобрали в плохом состоянии, Цоя… Умер вчера…
— Умер? М-да-а… Таким молодцом оказался старик! В его годы!
— Да, он помог нам поймать крупную дичь. Это была его месть, так он мне сказал… Жалко старика.
Не отдыхая, капитан Мороз этой же ночью уехал на заставу.
Эта мысль была приятна Елене Николаевне. Ощущение какой-то необычайной теплоты охватило ее. Они сидели втроем, пили молоко, болтали о пустяках. Потом Чена уложили на диван, н он, свернувшись в комочек, крепко уснул.
— Устал с дороги, — сказала Елена Николаевна, заботливо прикрывая его пуховым платком. — Мальчик, наверно, доставил вам много хлопот. Ведь на заставе за ним некому было смотреть?
— Как некому? А я?
— Вы?
— О, мы очень подружились! Мне даже грустно с ним расставаться… Я и не думал что так привяжусь к нему.
Капитан стал рассказывать о мальчике. Елена Николаевна налила по стакану крепкого чая. поставила варенье. Было уже поздно, но они не замечали этого. Впервые за всю свою холостяцкую жизнь Мороз испытывал сейчас какое-то особое, еще незнакомое ему чувство. Приятно было смотреть на эту женщину, следить за ее движениями, слушать се голос, ловить на себе взгляд ее зеленоватых глаз. Мороз сам себе удивлялся, что так долго засиделся, хотя ему нужно было еще повидаться с Черновым. Но он медлил, оттягивал расставанье.
— Скажите, Елена Николаевна, а как же Чей у вас всё же будет? Ведь в детском саду только дошкольники! И потом как у вас с питанием?
— Не беспокойтесь, Дмитрий Михайлович! Продуктами мы обеспечены. А что касается Чена, то у моей помощницы тоже мальчик, Сережа, такого же возраста, как и Чен. Только он сейчас болен. Я уверена, что они подружат и не будут скучать.
— Да? Вот и хорошо. Я вас прошу, вы уж присмотрите за моим Ченом?
— За вашим? Он теперь и мой тоже… — глаза Елены Николаевны заискрились. — Мне кажется, что я его уже полюбила…
— Ну, спасибо. — Капитан задержался на минутку. Он почувствовал вдруг желание попрощаться как-то теплее с этой женщиной, но вместо того сказал:-А архарьего мяса мы вам всё же доставим для подкрепления! — И, засмеявшись, он сбежал с крыльца.
Шагая через двор к конторе, Мороз улыбался: как никогда, ему было легко и радостно.
Уже поздно вечером начальник заставы сидел в конторе участка с Черновым и Савченко.
— Красные спички, Василий Иванович, не дают нам в руки никаких доказательств, — говорил капитан.
— Но все-таки… Нам удалось установить, что такие спички были только у приезжих, — возразил Савченко.
До сих пор он немножко гордился тем, что установил это именно он, а теперь, оказывается, его усилия ни к чему.
— Приезжих у вас на участке было в тот день человек двадцать пять, не так ли? Не будем же мы ставить под подозрение всех этих людей?
— Конечно, всех подозревать не станешь… — разочарованно пробормотал Савченко.
— Странно, — задумчиво продолжал капитан Мороз, — на ферме отравили овец, здесь же обнаружены ампулы и здесь же спички… Странно. Я вас как-то просил установить наблюдение за фермой. Как там?..
— На ферму мы послали двух каменщиков, сказал Чернов. — Там надо исправить печи и выложить перегородку в помещении склада. Работы им хватит недели на две.
Что за люди? Можно на них положиться? — спросил капитан.
— Вполне. Это неразлучные друзья: Савелии Шутов и старик Прокопыч.
— А-а, знаю их, — кивнул Мороз. — Ну, что ж, узнали они что-нибудь интересное?
— И ничего особенного, — сказал Савченко, — На ферме останавливаются иногда колхозники-животноводы, руководители колхозов, приезжал зоотехник из Оша, один раз ночевал председатель Мургабского райпотребсоюза Байбеков… У Салиева останавливался
— Байбеков? Он, кажется, был здесь и в день пожара… — вспомнил Чернов. — Тоже помогал тушить.
— Да, он был, — подтвердил Савченко.
Насколько я понимаю, у Байбекова никаких дел на ферме нет. Что он, в гости ездит к сторожу? — спросил Мороз.
Чернов и Савченко признались, что не интересовались, в каких он отношениях со сторожем фермы.
Надо поинтересоваться, — заметил Моим роз. — Скажите, пожалуй, вашим каменщикам, пусть понаблюдают. Только как бы они там не выдали себя!
— Нет, Прокопыч — хитрый старик
Начальник заставы поднялся.
— Как ваше плечо, Дмитрий Михайлович? — спросил Чернов.
— Пустяки. Зажило. — Капитан помрачнел. — А вот старика мы подобрали в плохом состоянии, Цоя… Умер вчера…
— Умер? М-да-а… Таким молодцом оказался старик! В его годы!
— Да, он помог нам поймать крупную дичь. Это была его месть, так он мне сказал… Жалко старика.
Не отдыхая, капитан Мороз этой же ночью уехал на заставу.
 Стояла мертвая тишина.
Ветер срывал мелкие снежинки и кружил их над ущельем. Все молча глядели на чудовищную массу снега и каждый боялся сказать первое слово.
— Спасибо, товарищ бригадир, — сказал, наконец, Пулату пожилой рабочий, — во-время ты нас отпустил отдохнуть, а то бы крышка! Как чувствовал. А вот Абибулаев с Рябцевым… не успели.
Раскапывать надо, а мы стоим, — горячо вскричал кто-то из молодых рабочих. — Может, они живы еще!
— Раскапывать, — горько повторил Пулат, — Да тут работы на месяц нашими силами.
— А где Быков? — спросил Чернов. — В Хатынарте сказали, что он ушел сюда. Разве он не приходил?
— Быков? Нет, не приходил.
— Не попал ли и мастер под эту шапку?
Все снова заволновались.
Чернов наконец овладел собой и собрался с мыслями. Распорядившись на всякий случай рыть тоннели в снегу, он вернулся с шофером к машине.
Люди дружно взялись за лопаты, хотя никто не верил, что можно остаться в живых под этой тысячетонной громадой.
Чернов приехал в Сарыташ поздно ночью. Там уже знали о несчастье. Савченко поднимал все население на расчистку обвала. Он молча посмотрел в осунувшееся лицо начальника участка.
— Я людей посылаю на подмогу, — сказал он. — Надо?
— Да, посылайте, — хмуро приказал Чернов. — Работы там… Ущелье засыпано почти на треть. Своими силами никак не обойтись.
— Абибулаев… там? — тихо спросил Савченко.
— Там… И Рябцев гоже.
— Вот как странно устроена жизнь, — с горечью продолжал Чернов. — Там погибли люди, а я сейчас думаю о другом: как бы дорогу открыть автоколонне. Не жестоко ли, Василий Иванович?
— Людей жаль, Владимир Константинович. Но и правительственное задание выполнить надо, — мягко отвечал Савченко. — Война…
Всю ночь сидели в маленьком кабинете Чернова. Думали, советовались, искали выход.
— Ну. гак что вы предлагаете, товарищи? — в который раз повторял Чернов, едва воцарялось молчание.
Бригадиры отводили в сторону уставшие, воспаленные глаза. Что можно предложить? Организовать расчистку ущелья собственными силами немыслимо — транспорта мало; рассчитывать на помощь машинами почти не приходится-ни погранзастава, ни Мургаб такой помощи предоставить не могут. К тому же много машин не удалось бы бросить сейчас в ущелье, они только загромоздили бы дорогу Нужны люди. Много людей! Без них ничего сделать нельзя. А где их взять?
— Все-таки надо послать машину на заставу, — предложил Савченко.
— Туда и обратно она проездит неделю, — угрюмо заметила Фатима.
При такой погоде — не меньше, — подтвердил мастер Аничкин.
Чернов рассуждал вслух.
Масса снега заняла по длине, примерно, метров двести и в высоту двадцать. Это тысяч шестьдесят кубических метров. Нужно не меньше пятисот человек, чтобы…
Пятьсот человек! — в отчаянии вскрикнула Фатима.
— Мы сможем мобилизовать человек семьдесят, — сказал Савченко.
— Да, пятьсот человек… — продолжал размышлять Чернов, — И работать им придется дней двадцать…
Чернов отложил карандаш и встал,
— Надо попытаться установить связь с Акбосагой, с мастером Розамамаевым.
— Но как же свяжешься? — недоумевал Аничкин. — Телефон не работает, очевидно, повредило обвалом, а пройти сейчас на ту сторону совершенно невозможно!
— Я это знаю. Надо поговорить с местными людьми, со стариками. Может быть, кто-нибудь знает дорогу в обход. Надо найти такую дорогу. И найти человека, который смог бы добраться до Розамамаева.
— Это очень трудная задача, — проговорил Савченко. — Но может быть, в самом деле…
— Всё, что нам сейчас предстоит сделать, — очень трудно. Но мы должны делать. Медлить нельзя ни минуты.
Вошел усталый, запорошенный снегом Пулат. Он только что пришел из ущелья. Все бросились к нему.
— Ну что?
Пулат безнадежно махнул рукой.
— Бесполезно. Еще копают, совесть велит…
Помолчав, Чернов спросил:
— Быкова до сих пор нет?
— Нет, — ответил Пулат. Когда рабочие садились в машину на перевале, он сказал им:
Вы поезжайте, а я через два часа тоже приеду к вам». Но он так и не приходил в ущелье.
— А на Хатынарте вы не спрашивали о нем?
— Спрашивал. Повариха говорит: был, взял узелок с едой и на лыжах пошел в ущелье.
— Странно. Может быть, вы разминулись с ним?
— Не могли мы разминуться… Дорога одна.
— Одна-то одна, а видать, всё-таки разминулись. Должно быть. тоже…
Савченко нахмурился и нервно зашагал по комнате.
— С рассветом — всем быть в ущелье, — приказал Чернов.
— Уже рассвет, Владимир Константинович, — заметил Аничкин.
Савченко сейчас был в таком состоянии, когда каждый нерв, каждый мускул были напряжены до предела. Ни спать, ни есть не хотелось. Он вышел во двор, вдохнул чистый морозный воздух. После прокуренной комнаты слегка кружилась голова. Было еще темно, хотя небо на востоке начинало бледнеть. Нигде не видно было огней, только в домике радиоузла сквозь ставни пробивался свет. «Что он там делает… этот тип? — с внезапно вспыхнувшим подозрением подумал Савченко. — Почему сидит ночами?»
Новый радист с первых же дней его приезда в Сарыташ не понравился ему. Молчаливый, угрюмый Пальцев почти ни с кем не общался. Он долго не мог наладить трансляцию последних известий и это многих злило.
Стояла мертвая тишина.
Ветер срывал мелкие снежинки и кружил их над ущельем. Все молча глядели на чудовищную массу снега и каждый боялся сказать первое слово.
— Спасибо, товарищ бригадир, — сказал, наконец, Пулату пожилой рабочий, — во-время ты нас отпустил отдохнуть, а то бы крышка! Как чувствовал. А вот Абибулаев с Рябцевым… не успели.
Раскапывать надо, а мы стоим, — горячо вскричал кто-то из молодых рабочих. — Может, они живы еще!
— Раскапывать, — горько повторил Пулат, — Да тут работы на месяц нашими силами.
— А где Быков? — спросил Чернов. — В Хатынарте сказали, что он ушел сюда. Разве он не приходил?
— Быков? Нет, не приходил.
— Не попал ли и мастер под эту шапку?
Все снова заволновались.
Чернов наконец овладел собой и собрался с мыслями. Распорядившись на всякий случай рыть тоннели в снегу, он вернулся с шофером к машине.
Люди дружно взялись за лопаты, хотя никто не верил, что можно остаться в живых под этой тысячетонной громадой.
Чернов приехал в Сарыташ поздно ночью. Там уже знали о несчастье. Савченко поднимал все население на расчистку обвала. Он молча посмотрел в осунувшееся лицо начальника участка.
— Я людей посылаю на подмогу, — сказал он. — Надо?
— Да, посылайте, — хмуро приказал Чернов. — Работы там… Ущелье засыпано почти на треть. Своими силами никак не обойтись.
— Абибулаев… там? — тихо спросил Савченко.
— Там… И Рябцев гоже.
— Вот как странно устроена жизнь, — с горечью продолжал Чернов. — Там погибли люди, а я сейчас думаю о другом: как бы дорогу открыть автоколонне. Не жестоко ли, Василий Иванович?
— Людей жаль, Владимир Константинович. Но и правительственное задание выполнить надо, — мягко отвечал Савченко. — Война…
Всю ночь сидели в маленьком кабинете Чернова. Думали, советовались, искали выход.
— Ну. гак что вы предлагаете, товарищи? — в который раз повторял Чернов, едва воцарялось молчание.
Бригадиры отводили в сторону уставшие, воспаленные глаза. Что можно предложить? Организовать расчистку ущелья собственными силами немыслимо — транспорта мало; рассчитывать на помощь машинами почти не приходится-ни погранзастава, ни Мургаб такой помощи предоставить не могут. К тому же много машин не удалось бы бросить сейчас в ущелье, они только загромоздили бы дорогу Нужны люди. Много людей! Без них ничего сделать нельзя. А где их взять?
— Все-таки надо послать машину на заставу, — предложил Савченко.
— Туда и обратно она проездит неделю, — угрюмо заметила Фатима.
При такой погоде — не меньше, — подтвердил мастер Аничкин.
Чернов рассуждал вслух.
Масса снега заняла по длине, примерно, метров двести и в высоту двадцать. Это тысяч шестьдесят кубических метров. Нужно не меньше пятисот человек, чтобы…
Пятьсот человек! — в отчаянии вскрикнула Фатима.
— Мы сможем мобилизовать человек семьдесят, — сказал Савченко.
— Да, пятьсот человек… — продолжал размышлять Чернов, — И работать им придется дней двадцать…
Чернов отложил карандаш и встал,
— Надо попытаться установить связь с Акбосагой, с мастером Розамамаевым.
— Но как же свяжешься? — недоумевал Аничкин. — Телефон не работает, очевидно, повредило обвалом, а пройти сейчас на ту сторону совершенно невозможно!
— Я это знаю. Надо поговорить с местными людьми, со стариками. Может быть, кто-нибудь знает дорогу в обход. Надо найти такую дорогу. И найти человека, который смог бы добраться до Розамамаева.
— Это очень трудная задача, — проговорил Савченко. — Но может быть, в самом деле…
— Всё, что нам сейчас предстоит сделать, — очень трудно. Но мы должны делать. Медлить нельзя ни минуты.
Вошел усталый, запорошенный снегом Пулат. Он только что пришел из ущелья. Все бросились к нему.
— Ну что?
Пулат безнадежно махнул рукой.
— Бесполезно. Еще копают, совесть велит…
Помолчав, Чернов спросил:
— Быкова до сих пор нет?
— Нет, — ответил Пулат. Когда рабочие садились в машину на перевале, он сказал им:
Вы поезжайте, а я через два часа тоже приеду к вам». Но он так и не приходил в ущелье.
— А на Хатынарте вы не спрашивали о нем?
— Спрашивал. Повариха говорит: был, взял узелок с едой и на лыжах пошел в ущелье.
— Странно. Может быть, вы разминулись с ним?
— Не могли мы разминуться… Дорога одна.
— Одна-то одна, а видать, всё-таки разминулись. Должно быть. тоже…
Савченко нахмурился и нервно зашагал по комнате.
— С рассветом — всем быть в ущелье, — приказал Чернов.
— Уже рассвет, Владимир Константинович, — заметил Аничкин.
Савченко сейчас был в таком состоянии, когда каждый нерв, каждый мускул были напряжены до предела. Ни спать, ни есть не хотелось. Он вышел во двор, вдохнул чистый морозный воздух. После прокуренной комнаты слегка кружилась голова. Было еще темно, хотя небо на востоке начинало бледнеть. Нигде не видно было огней, только в домике радиоузла сквозь ставни пробивался свет. «Что он там делает… этот тип? — с внезапно вспыхнувшим подозрением подумал Савченко. — Почему сидит ночами?»
Новый радист с первых же дней его приезда в Сарыташ не понравился ему. Молчаливый, угрюмый Пальцев почти ни с кем не общался. Он долго не мог наладить трансляцию последних известий и это многих злило.
 Было два часа ночи, когда Савченко возвращался с Хатынарта. Метель улеглась. Сквозь просветы между тучами пробивалась глубокая синева с крупными, мигающими звездами. Снег искрился, отсвечивая тысячами маленьких. зеленоватых звездочек. Казалось, нет конца пути в этой молчаливой ночи, укрывшей громады гор. Савченко любил такие минуты, когда можно побыть одному. Но сегодня он шел на лыжах с невеселыми мыслями. Работа в ущелье, как ни трудились люди, была совсем незначительная по сравнению с тем, что еще предстояло сделать. Пулат уехал в Мургаб и сквозь землю провалился, сколько дней ничего о нем не слышно. Бакир до сих пор не возвратился. Вдруг погиб старик! Что предпринять, если Бакир не добрался до Розамамаева? Какие бы трудности ни были, а колонне нужно очистить путь.
Савченко с маху ударил палками по насту и заскользил быстрее, подставляя ветру разгоряченное лицо. Еще издали он увидел в конторе, в кабинете Чернова свет. Не отдыхает начальник. Кажется, все за последние дни разучились спать.
Савченко вошел к Чернову с самыми невеселыми мыслями и от неожиданности застыл на пороге. За столом, напротив Владимира Константиновича сидел Бакир… В руке старика дымилась чашка чаю, оп жадно отхлебывал из нее и в промежутках о чем-то с трудом говорил. Лицо у него было изможденное, крайне усталое.
— Бакир! Ты вернулся? — Савченко подбежал, схватил старика за плечи.
— Вернулся, товарищ парторг. — Слабая улыбка сморщила лицо Бакира.
— Подожди, Василий Иванович, не тряси человека, — остановил Чернов. — Дай отдохнуть ему. Он только-что пришел, еле на ногах держится.
Савченко сел, не отрывая глаз от Бакира, с трудом удерживаясь от расспросов.
— Дошел ведь! Дошел до Розамамаева! — весело крикнул Чернов-
— Дошел?!
— На второй день был у Розамамаева, — слабым голосом пояснил Бакир. — Письмо в руки отдал. Мастер сразу по телефону звонить стал. В Суфи-курган. Ночью сам начальник из Оша с Розамамаевым говорил. Людей обещал утром машинами доставить. Прямо на Талдык.
— Ну, спасибо, отец. — Владимир Константинович крепко пожал руку старику. — А теперь, иди, отдохни! Ты сделал большое дело, Бакир! Постой! У меня тут, кажется, завтрак остался.
Чернов достал из кармана куртки сверток, развернул его и положил на стол два ломтика хлеба с маслом и кусок жареного мяса.
— Ешь, Бакир! Ешь, пожалуйста! — Владимир Константинович не знал как отблагодарить старика.
Бакир не стал отказываться. За эти двое суток он мало ел, больше глотал снег. Но теперь всё позади. Он дома.
И Бакир не спеша прихлебывал чай.
— Ну, товарищи, — сказал Чернов, — а теперь по домам- Уже третий час. Завтра с новыми силами за работу. А тебе, Бакир, мой приказ: отдыхать, пока не почувствуешь себя хорошо.
Они вышли из конторы.
Савченко помог Бакиру дойти до сторожки. Старик сильно хромал.
В сторожке было холодно. С того дня, как Бакир ушел в горы, сторожка оставалась не-топленной. Фатима неотрывно находилась в ущелье.
— Ты, Бакир, устраивайся, ложись! Я сам затоплю печь.
Старик лег на топчан и укрылся тулупом. Савченко разжег дрова — огонь весело заметался по сухой сосновой коре.
— Скажи, Бакир, ты сильно расшиб ногу? Может быть, позвать врача? Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, спасибо, бригадир. Нога пройдет. Не надо врача. Метель на вершине сильная была. Очень устал…
Савченко подбросил в печь дров. Ему очень хотелось еще раз услышать радостные вести.
— Значит, Розамамаев разговаривал по телефону с Ошем?
— Разговаривал.
И там обещали выслать утром людей?
Обещали. Обещали много людей.
Значит, в четверг или пятницу они могут быть п ущелье… — вслух размышлял Савченко.
— Да, вот еще. Совсем забыл. — Старик достал и подал ему рукавицу, — Нашел на склонах Талдыка, Зачем ей там быть? Где шел Бакир — там проходимой дороги нет-.. Кто-то торопился на лыжах, потерял.
— Савченко взял в руки рукавицу и вдруг до хруста в пальцах сжал кулаки.
— Где ты ее нашел? — глухо спросил он.
— Говорю же, на Талдыке. Может, не заметил бы, да как раз там упал, палку потерял, стал искать…
Но Савченко уже не слушал его. Он выбежал из сторожки и через несколько минут уже стучался в дом к Чернову. Тот еще не. успел улечься в кровать.
— Что, что случилось, Василий Иванович? — настороженно спросил он.
— А то, Владимир Константинович, что мои подозрения оправдываются. Вот Бакир нашел на Талдыке. — И он подал Чернову рукавицу.
— Извини, Василь Иваныч, но я что-то не понимаю тебя.
Рукавица-то Быкова, начальник. Я знаю это абсолютно точно. Не раз видел у него на руках. И в последний раз, когда на Хатынарг он отправлялся, стояли рядом, прикуривали. Тоже видел. У меня-то паршивенькие, еще, помню, позавидовал малость. А теперь она оказалась на Талдыке.
— Значит?
— Значит, Быков не погиб во время обвала!..
Было два часа ночи, когда Савченко возвращался с Хатынарта. Метель улеглась. Сквозь просветы между тучами пробивалась глубокая синева с крупными, мигающими звездами. Снег искрился, отсвечивая тысячами маленьких. зеленоватых звездочек. Казалось, нет конца пути в этой молчаливой ночи, укрывшей громады гор. Савченко любил такие минуты, когда можно побыть одному. Но сегодня он шел на лыжах с невеселыми мыслями. Работа в ущелье, как ни трудились люди, была совсем незначительная по сравнению с тем, что еще предстояло сделать. Пулат уехал в Мургаб и сквозь землю провалился, сколько дней ничего о нем не слышно. Бакир до сих пор не возвратился. Вдруг погиб старик! Что предпринять, если Бакир не добрался до Розамамаева? Какие бы трудности ни были, а колонне нужно очистить путь.
Савченко с маху ударил палками по насту и заскользил быстрее, подставляя ветру разгоряченное лицо. Еще издали он увидел в конторе, в кабинете Чернова свет. Не отдыхает начальник. Кажется, все за последние дни разучились спать.
Савченко вошел к Чернову с самыми невеселыми мыслями и от неожиданности застыл на пороге. За столом, напротив Владимира Константиновича сидел Бакир… В руке старика дымилась чашка чаю, оп жадно отхлебывал из нее и в промежутках о чем-то с трудом говорил. Лицо у него было изможденное, крайне усталое.
— Бакир! Ты вернулся? — Савченко подбежал, схватил старика за плечи.
— Вернулся, товарищ парторг. — Слабая улыбка сморщила лицо Бакира.
— Подожди, Василий Иванович, не тряси человека, — остановил Чернов. — Дай отдохнуть ему. Он только-что пришел, еле на ногах держится.
Савченко сел, не отрывая глаз от Бакира, с трудом удерживаясь от расспросов.
— Дошел ведь! Дошел до Розамамаева! — весело крикнул Чернов-
— Дошел?!
— На второй день был у Розамамаева, — слабым голосом пояснил Бакир. — Письмо в руки отдал. Мастер сразу по телефону звонить стал. В Суфи-курган. Ночью сам начальник из Оша с Розамамаевым говорил. Людей обещал утром машинами доставить. Прямо на Талдык.
— Ну, спасибо, отец. — Владимир Константинович крепко пожал руку старику. — А теперь, иди, отдохни! Ты сделал большое дело, Бакир! Постой! У меня тут, кажется, завтрак остался.
Чернов достал из кармана куртки сверток, развернул его и положил на стол два ломтика хлеба с маслом и кусок жареного мяса.
— Ешь, Бакир! Ешь, пожалуйста! — Владимир Константинович не знал как отблагодарить старика.
Бакир не стал отказываться. За эти двое суток он мало ел, больше глотал снег. Но теперь всё позади. Он дома.
И Бакир не спеша прихлебывал чай.
— Ну, товарищи, — сказал Чернов, — а теперь по домам- Уже третий час. Завтра с новыми силами за работу. А тебе, Бакир, мой приказ: отдыхать, пока не почувствуешь себя хорошо.
Они вышли из конторы.
Савченко помог Бакиру дойти до сторожки. Старик сильно хромал.
В сторожке было холодно. С того дня, как Бакир ушел в горы, сторожка оставалась не-топленной. Фатима неотрывно находилась в ущелье.
— Ты, Бакир, устраивайся, ложись! Я сам затоплю печь.
Старик лег на топчан и укрылся тулупом. Савченко разжег дрова — огонь весело заметался по сухой сосновой коре.
— Скажи, Бакир, ты сильно расшиб ногу? Может быть, позвать врача? Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, спасибо, бригадир. Нога пройдет. Не надо врача. Метель на вершине сильная была. Очень устал…
Савченко подбросил в печь дров. Ему очень хотелось еще раз услышать радостные вести.
— Значит, Розамамаев разговаривал по телефону с Ошем?
— Разговаривал.
И там обещали выслать утром людей?
Обещали. Обещали много людей.
Значит, в четверг или пятницу они могут быть п ущелье… — вслух размышлял Савченко.
— Да, вот еще. Совсем забыл. — Старик достал и подал ему рукавицу, — Нашел на склонах Талдыка, Зачем ей там быть? Где шел Бакир — там проходимой дороги нет-.. Кто-то торопился на лыжах, потерял.
— Савченко взял в руки рукавицу и вдруг до хруста в пальцах сжал кулаки.
— Где ты ее нашел? — глухо спросил он.
— Говорю же, на Талдыке. Может, не заметил бы, да как раз там упал, палку потерял, стал искать…
Но Савченко уже не слушал его. Он выбежал из сторожки и через несколько минут уже стучался в дом к Чернову. Тот еще не. успел улечься в кровать.
— Что, что случилось, Василий Иванович? — настороженно спросил он.
— А то, Владимир Константинович, что мои подозрения оправдываются. Вот Бакир нашел на Талдыке. — И он подал Чернову рукавицу.
— Извини, Василь Иваныч, но я что-то не понимаю тебя.
Рукавица-то Быкова, начальник. Я знаю это абсолютно точно. Не раз видел у него на руках. И в последний раз, когда на Хатынарг он отправлялся, стояли рядом, прикуривали. Тоже видел. У меня-то паршивенькие, еще, помню, позавидовал малость. А теперь она оказалась на Талдыке.
— Значит?
— Значит, Быков не погиб во время обвала!..
 Савелий незаметно подошел к углу сторожки. У спуска в расщелину сидели две собаки и поглядывали вслед хозяину. Нащупав в кармане кусок черствой лепешки, Савелий далеко отшвырнул его в сторону. Собаки набросились на приманку. Савелий осторожно стал спускаться по тропинке в расщелину, всматриваясь в темноту. Расщелина была узкая и извилистая. Добравшись до первого поворота, Савелий увидел Джабара и Байбекова шагах в десяти впереди себя. Они были так близко, что молодой каменщик от неожиданности отпрянул назад. Лед замерзшего ручья громко треснул у него под ногой и Байбеков с Джабаром резко повернулись. Деваться было некуда. Растерянный, весь на виду, стоял перед ними Савелий.
— Тебе что здесь надо? — заорал, бросаясь к нему, взбешенный Байбеков.
Еще ничего не успев сообразить, Савелий стоял и оторопело смотрел на искаженное злобой лицо Байбекова. Тот вплотную придвинулся к каменщику, схватив его за плечо. Опомнившись, Савелий с силой оттолкнул Байбекова и в ту же минуту в руке мургабского кооператора сверкнул нож.
— Мирза! Остановись! — вскрикнул Джабар.
Сторож подбежал, но было уже поздно.
Раскинув руки, Савелий без движения лежал на снегу.
— Чего стал?! — свирепо крикнул Байбеков. — Помоги тащить! В снег закопать надо…
Мысли запрыгали в голове Джабара. «Всё кончено… Значит я, Джабар тоже буду замешан в это дело. И если даже Мирзе удастся уйти, что я тогда скажу? Как оправдаюсь?!».
— Чего стоишь, как ишак?! — крикнул Байбеков.
Джабара била лихорадка. «Что. будет?! Ай-ай! Что будет? Пропал… Возьмут Байбекова… А меня, Джабара, разве помилуют?!»
Мирза наклонился к телу Савелия.
— Помоги…
Сторож быстро оглянулся. Неподалеку послышались шаги. «Каменщик! Старик…»
Ужас охватил Джабара…
Савелий незаметно подошел к углу сторожки. У спуска в расщелину сидели две собаки и поглядывали вслед хозяину. Нащупав в кармане кусок черствой лепешки, Савелий далеко отшвырнул его в сторону. Собаки набросились на приманку. Савелий осторожно стал спускаться по тропинке в расщелину, всматриваясь в темноту. Расщелина была узкая и извилистая. Добравшись до первого поворота, Савелий увидел Джабара и Байбекова шагах в десяти впереди себя. Они были так близко, что молодой каменщик от неожиданности отпрянул назад. Лед замерзшего ручья громко треснул у него под ногой и Байбеков с Джабаром резко повернулись. Деваться было некуда. Растерянный, весь на виду, стоял перед ними Савелий.
— Тебе что здесь надо? — заорал, бросаясь к нему, взбешенный Байбеков.
Еще ничего не успев сообразить, Савелий стоял и оторопело смотрел на искаженное злобой лицо Байбекова. Тот вплотную придвинулся к каменщику, схватив его за плечо. Опомнившись, Савелий с силой оттолкнул Байбекова и в ту же минуту в руке мургабского кооператора сверкнул нож.
— Мирза! Остановись! — вскрикнул Джабар.
Сторож подбежал, но было уже поздно.
Раскинув руки, Савелий без движения лежал на снегу.
— Чего стал?! — свирепо крикнул Байбеков. — Помоги тащить! В снег закопать надо…
Мысли запрыгали в голове Джабара. «Всё кончено… Значит я, Джабар тоже буду замешан в это дело. И если даже Мирзе удастся уйти, что я тогда скажу? Как оправдаюсь?!».
— Чего стоишь, как ишак?! — крикнул Байбеков.
Джабара била лихорадка. «Что. будет?! Ай-ай! Что будет? Пропал… Возьмут Байбекова… А меня, Джабара, разве помилуют?!»
Мирза наклонился к телу Савелия.
— Помоги…
Сторож быстро оглянулся. Неподалеку послышались шаги. «Каменщик! Старик…»
Ужас охватил Джабара…
 В кишлак Кокташ, крохотное селение, прижатое топью и дикими зарослями к подножью голых скал, добрались уже в густые сумерки. Над болотом стелился туман, его душные пары подползали к самому кишлаку. У крайней кибитки мелькали огоньки.
Капитана с отрядом встретил старшина Соколов.
— Ну, как дела? Докладывайте, Соколов, — с казал Мороз, когда они вошли в кибитку.
У очага на треноге висел котелок с кок-чаем. Капитан уселся по восточному обычаю на кошму, скрестив ноги.
— Всё спокойно, товарищ капитан. Диких кабанов попугали немного вчера…
— Неужели стрельбу подняли? — с досадой, строго спросил Мороз.
— Никак нет, товарищ капитан, всё тихо обошлось. Есть тут один бедовый парнишка, местность знает, что надо; так он их из лука пуганул. Здорово стреляет! На полета шагов, кабана ранил. В зарослях готового нашли. Ужинать будем — отведаете.
Капитан Мороз успокоился. Собственно, появиться здесь Быков еще не мог, если даже он и решил проскользнуть именно через эти места. В Араване видели его четверо суток назад.
За такой срок преодолеть такое расстояние, пробираясь малодоступными и опасными для жизни тропами, — невозможно.
Но если предположить, что ему удалось обмануть бдительность пограничников и в каком-то месте подъехать немного машиной, то в этом случае Быков мог быть и где-то неподалеку. Оставалось — смотреть в оба. Самое неприятное в этом было то, что капитан даже приблизительно не мог определить, когда Быкову вздумается переходить границу.
Время тянулось напряженно и нудно. Днем и ночью бойцы бродили по болоту, с трудом продираясь сквозь густой и высокий, почти в два человеческих роста, тростник. Ноги проваливались в вязкую топь, жесткие листья тростника больно хлестали по лицу.
Так прошло несколько дней. Мороз думал: неужели Быков решил пробраться где-то в другом месте? А вдруг он сумел каким-то тайным путем проскочить у них под самым носом?
В один из таких дней капитан Мороз и Лукаш, обутые в высокие болотные сапоги, набродились досыта по топи и вышли на каменистый островок отдохнуть.
Сбросив на землю плащи и поснимав фуражки, они принялись вытирать красные, вспотевшие лица. Огромная овчарка Джильда улеглась рядом.
Солнце жгло немилосердно. В зарослях тростника было до одури душно от затхлых испарений. Ноги ныли от усталости. Внимательно осматривая берег островка, Мороз вдруг заметил возле одного из камней неглубокую вмятину, будто кто-то в этом месте вдавил землю толстой палкой. В двух шагах дальше виднелась еще такая же вмятина.
— Джильда, сюда! — внутренне напрягаясь, негромко подозвал он собаку.
Подбежал Лукаш.
— Что за следы?
Собака вела себя спокойно. Следы были странные. Они проходили через весь островок и были расположены на расстоянии почти двух метров друг от друга.
— Что это такое? — спросил снова Лукаш.
Мороз взглянул на ординарца и ничего не сказал. Он сразу догадался, что это следы ходуль, но молодому бойцу еще не приходилось сталкиваться с такими вещами.
Они безуспешно пытались напустить на них Джильду. Собака равнодушно нюхала землю и особенного интереса к следам не проявляла.
Мороз еще раз осмотрелся. В другом конце островка лежал высокий камень. Капитан взобрался на него и осмотрелся вокруг. Отсюда была хорошо видна большая часть зарослей.
— Там дальше — тоже островок, — послышался сзади голос Лукаша.
— Да, есть. Попробуем к нему добраться, — сказал капитан.
С трудом пробираясь по топи, они вышли на берег островка, очень похожего на предыдущий. Следы пересекали и его, снова теряясь в воде.
Целый день капитан Мороз и Лукаш пробродили по болоту, утопая в мутной, вязкой топи, но ничего больше не нашли. Капитан нервничал. Он уже начал опасаться, что Быков успел проскочить через болото. А Соколов, прождав до вечера, забеспокоился, куда исчез начальник заставы с ординарцем, и выслал на розыски двух пограничников. Мороз передал им Джильду и приказ Соколову идти в обход, чтобы окружить все выходы из болота.
К ночи стало холодно. Сырость пробирала до костей. Сквозь испарения едва пробивался бледный свет луны.
Капитан Мороз и Лукаш притаились в засаде. Надо идти по следу. Но напрасно было бы искать его в такую темень, да еще в болоте. Теперь главная надежда была на слух.
Прошло часа три, как они вдвоем сидели без движения. Становилось совсем невмоготу. Одежда промокла. Хотелось курить и хоть немного расправить мышцы.
Руки сами собой крепко сжимали оружие.
— Ох, не могу больше, товарищ капитан, — прошептал Лукаш. — Хоть чуточку б поразмяться.
Мороз недовольно покосился на него, но ответить не успел, так как в эту самую минуту неподалеку в зарослях раздались выстрелы и крики.
Они оба мгновенно вскочили на ноги.
— Ну, вот теперь и разминайтесь, товарищ сержант, — резко сказал капитан.
Уже не скрываясь и не разбирая дороги, они побежали в ту сторону, откуда послышались выстрелы.
Их встретил старшина Соколов.
— Врага обнаружили, товарищ капитан! Двое их… Отстреливаться стали. В зарослях скрылись…
Старшина на ходу рассказал, что чуть повыше островка, где они впервые увидели следы, над самой речкой бойцы обнаружили в скале небольшой грот. Войти в него можно было только перейдя глубокую воду. Застигнутые врасплох, враги стали отстреливаться и ушли в заросли. Сейчас весь этот участок, куда они скрылись, окружен. В гроте нашли ходули, пустые консервные банки.
Капитан слушал и думал о том, что теперь осталось одно — терпеливо ждать.
Поднялся легкий ветер. Закачался, зашуршал тростник. Болото наполнилось таинственными ночными звуками. Чудились вздохи, какие-то надрывные, еле слышные стоны: это из почвы выходили на поверхность газы. Терся стеблем о стебель тростник.
До рассвета было еще далеко, но пограничники с удивлением заметили, что вокруг начинает быстро светлеть.
Запахло гарью. Заросли, окруженные бойцами, вдруг осветились бледно-розовым светом. Потом где-то. озарив водное пространство, в темное ночное небо вырвалось длинным высоким языком пламя.
— Пожар! Ах, мерзавцы! Тростник подожгли… — вскрикнул капитан — Следовать за мной!
Подгоняемый ветром огонь быстро распространялся. Густой дым стал застилать весь каменистый берег до самого подножья гор. Скорее туда! Пограничники задыхались. Сильно слезились глаза. Стало жарко. Позади слышался зловещий треск. Эго, настигая их, огонь пожирал заросли.
Приложив к лицу мокрые платки, по пояс в воде, брели они изо всех сил напрямик к берегу. Лукаш вдруг провалился в яму и ему с трудом помогли из нее выкарабкаться.
Джильда внезапно насторожилась и, резко рванувшись в сторону, бросилась в сплошную завесу дыма. Пограничники побежали за ней и увидели человека, отчаянно обороняющегося от собаки.
Но это был не Быков.
Оставив его под охраной старшины Соколова, Мороз, Лукаш и Джумаев быстро скрылись в дыму за Джильдой, рвавшейся по следу вперед. Они едва успевали за собакой.
Позади осталось озаренное пожаром болото.
Медленно наступал рассвет.
Идти становилось все труднее. Они были уже в горах, поднимались выше и выше по узкой извилистой тропе. За одним из поворотов они сразу попали в полосу света — над вершинами всплывала луна. Она висела в небе, круглая и красная, как фонарь. Тени под выступами скал стали еще чернее.
Неожиданно тропа оборвалась в пропасть. Идти дальше было некуда. Джильда заскулила и с остервенением принялась царапать лапами скалу, задирая морду.
Капитан взглянул наверх. Неожиданно оттуда с грохотом скатился камень, ударил собаку, и она, взвизгнув, исчезла в черноте пропасти. Мороз едва успел прижаться к скале, как еще несколько огромных камней, увлекая за собой целое облако щебня и пыли, пролетели мимо него.
Немного переждав, капитан обошел скалу с другой стороны. Ему было жаль Джильду, но сейчас надо было думать о другом.
— Ну, что ж, Джумаев, — сказал он. — Придется, брат, повторить нам «Орлиное гнездо». Держи конец… — И капитан принялся разматывать веревку.
Лукаш с замиранием сердца следил за двумя смельчаками. Они очень медленно продвигались к гранитной глыбе, за которой черным пятачком виднелась выемка в скале. Тень скрывала ее от глаз. Лукаш держал винтовку в руках, готовый послать меткую пулю, чуть только враг посягнет па жизнь его товарищей. Но скоро и капитан, и Джумаев скрылись за скалой и Лукаш потерял их из виду.
Было очень тихо, так тихо, что звенело в ушах. Только откуда-то снизу, из глубины пропасти, время от времени доносился глухой шум срывавшихся туда камней.
Крик, выстрел, другой… Лукаш сжал винтовку руками и чуть не заплакал от отчаяния. Он ничем не мог сейчас помочь. Он даже не знал, кто стрелял — там, наверху…
В кишлак Кокташ, крохотное селение, прижатое топью и дикими зарослями к подножью голых скал, добрались уже в густые сумерки. Над болотом стелился туман, его душные пары подползали к самому кишлаку. У крайней кибитки мелькали огоньки.
Капитана с отрядом встретил старшина Соколов.
— Ну, как дела? Докладывайте, Соколов, — с казал Мороз, когда они вошли в кибитку.
У очага на треноге висел котелок с кок-чаем. Капитан уселся по восточному обычаю на кошму, скрестив ноги.
— Всё спокойно, товарищ капитан. Диких кабанов попугали немного вчера…
— Неужели стрельбу подняли? — с досадой, строго спросил Мороз.
— Никак нет, товарищ капитан, всё тихо обошлось. Есть тут один бедовый парнишка, местность знает, что надо; так он их из лука пуганул. Здорово стреляет! На полета шагов, кабана ранил. В зарослях готового нашли. Ужинать будем — отведаете.
Капитан Мороз успокоился. Собственно, появиться здесь Быков еще не мог, если даже он и решил проскользнуть именно через эти места. В Араване видели его четверо суток назад.
За такой срок преодолеть такое расстояние, пробираясь малодоступными и опасными для жизни тропами, — невозможно.
Но если предположить, что ему удалось обмануть бдительность пограничников и в каком-то месте подъехать немного машиной, то в этом случае Быков мог быть и где-то неподалеку. Оставалось — смотреть в оба. Самое неприятное в этом было то, что капитан даже приблизительно не мог определить, когда Быкову вздумается переходить границу.
Время тянулось напряженно и нудно. Днем и ночью бойцы бродили по болоту, с трудом продираясь сквозь густой и высокий, почти в два человеческих роста, тростник. Ноги проваливались в вязкую топь, жесткие листья тростника больно хлестали по лицу.
Так прошло несколько дней. Мороз думал: неужели Быков решил пробраться где-то в другом месте? А вдруг он сумел каким-то тайным путем проскочить у них под самым носом?
В один из таких дней капитан Мороз и Лукаш, обутые в высокие болотные сапоги, набродились досыта по топи и вышли на каменистый островок отдохнуть.
Сбросив на землю плащи и поснимав фуражки, они принялись вытирать красные, вспотевшие лица. Огромная овчарка Джильда улеглась рядом.
Солнце жгло немилосердно. В зарослях тростника было до одури душно от затхлых испарений. Ноги ныли от усталости. Внимательно осматривая берег островка, Мороз вдруг заметил возле одного из камней неглубокую вмятину, будто кто-то в этом месте вдавил землю толстой палкой. В двух шагах дальше виднелась еще такая же вмятина.
— Джильда, сюда! — внутренне напрягаясь, негромко подозвал он собаку.
Подбежал Лукаш.
— Что за следы?
Собака вела себя спокойно. Следы были странные. Они проходили через весь островок и были расположены на расстоянии почти двух метров друг от друга.
— Что это такое? — спросил снова Лукаш.
Мороз взглянул на ординарца и ничего не сказал. Он сразу догадался, что это следы ходуль, но молодому бойцу еще не приходилось сталкиваться с такими вещами.
Они безуспешно пытались напустить на них Джильду. Собака равнодушно нюхала землю и особенного интереса к следам не проявляла.
Мороз еще раз осмотрелся. В другом конце островка лежал высокий камень. Капитан взобрался на него и осмотрелся вокруг. Отсюда была хорошо видна большая часть зарослей.
— Там дальше — тоже островок, — послышался сзади голос Лукаша.
— Да, есть. Попробуем к нему добраться, — сказал капитан.
С трудом пробираясь по топи, они вышли на берег островка, очень похожего на предыдущий. Следы пересекали и его, снова теряясь в воде.
Целый день капитан Мороз и Лукаш пробродили по болоту, утопая в мутной, вязкой топи, но ничего больше не нашли. Капитан нервничал. Он уже начал опасаться, что Быков успел проскочить через болото. А Соколов, прождав до вечера, забеспокоился, куда исчез начальник заставы с ординарцем, и выслал на розыски двух пограничников. Мороз передал им Джильду и приказ Соколову идти в обход, чтобы окружить все выходы из болота.
К ночи стало холодно. Сырость пробирала до костей. Сквозь испарения едва пробивался бледный свет луны.
Капитан Мороз и Лукаш притаились в засаде. Надо идти по следу. Но напрасно было бы искать его в такую темень, да еще в болоте. Теперь главная надежда была на слух.
Прошло часа три, как они вдвоем сидели без движения. Становилось совсем невмоготу. Одежда промокла. Хотелось курить и хоть немного расправить мышцы.
Руки сами собой крепко сжимали оружие.
— Ох, не могу больше, товарищ капитан, — прошептал Лукаш. — Хоть чуточку б поразмяться.
Мороз недовольно покосился на него, но ответить не успел, так как в эту самую минуту неподалеку в зарослях раздались выстрелы и крики.
Они оба мгновенно вскочили на ноги.
— Ну, вот теперь и разминайтесь, товарищ сержант, — резко сказал капитан.
Уже не скрываясь и не разбирая дороги, они побежали в ту сторону, откуда послышались выстрелы.
Их встретил старшина Соколов.
— Врага обнаружили, товарищ капитан! Двое их… Отстреливаться стали. В зарослях скрылись…
Старшина на ходу рассказал, что чуть повыше островка, где они впервые увидели следы, над самой речкой бойцы обнаружили в скале небольшой грот. Войти в него можно было только перейдя глубокую воду. Застигнутые врасплох, враги стали отстреливаться и ушли в заросли. Сейчас весь этот участок, куда они скрылись, окружен. В гроте нашли ходули, пустые консервные банки.
Капитан слушал и думал о том, что теперь осталось одно — терпеливо ждать.
Поднялся легкий ветер. Закачался, зашуршал тростник. Болото наполнилось таинственными ночными звуками. Чудились вздохи, какие-то надрывные, еле слышные стоны: это из почвы выходили на поверхность газы. Терся стеблем о стебель тростник.
До рассвета было еще далеко, но пограничники с удивлением заметили, что вокруг начинает быстро светлеть.
Запахло гарью. Заросли, окруженные бойцами, вдруг осветились бледно-розовым светом. Потом где-то. озарив водное пространство, в темное ночное небо вырвалось длинным высоким языком пламя.
— Пожар! Ах, мерзавцы! Тростник подожгли… — вскрикнул капитан — Следовать за мной!
Подгоняемый ветром огонь быстро распространялся. Густой дым стал застилать весь каменистый берег до самого подножья гор. Скорее туда! Пограничники задыхались. Сильно слезились глаза. Стало жарко. Позади слышался зловещий треск. Эго, настигая их, огонь пожирал заросли.
Приложив к лицу мокрые платки, по пояс в воде, брели они изо всех сил напрямик к берегу. Лукаш вдруг провалился в яму и ему с трудом помогли из нее выкарабкаться.
Джильда внезапно насторожилась и, резко рванувшись в сторону, бросилась в сплошную завесу дыма. Пограничники побежали за ней и увидели человека, отчаянно обороняющегося от собаки.
Но это был не Быков.
Оставив его под охраной старшины Соколова, Мороз, Лукаш и Джумаев быстро скрылись в дыму за Джильдой, рвавшейся по следу вперед. Они едва успевали за собакой.
Позади осталось озаренное пожаром болото.
Медленно наступал рассвет.
Идти становилось все труднее. Они были уже в горах, поднимались выше и выше по узкой извилистой тропе. За одним из поворотов они сразу попали в полосу света — над вершинами всплывала луна. Она висела в небе, круглая и красная, как фонарь. Тени под выступами скал стали еще чернее.
Неожиданно тропа оборвалась в пропасть. Идти дальше было некуда. Джильда заскулила и с остервенением принялась царапать лапами скалу, задирая морду.
Капитан взглянул наверх. Неожиданно оттуда с грохотом скатился камень, ударил собаку, и она, взвизгнув, исчезла в черноте пропасти. Мороз едва успел прижаться к скале, как еще несколько огромных камней, увлекая за собой целое облако щебня и пыли, пролетели мимо него.
Немного переждав, капитан обошел скалу с другой стороны. Ему было жаль Джильду, но сейчас надо было думать о другом.
— Ну, что ж, Джумаев, — сказал он. — Придется, брат, повторить нам «Орлиное гнездо». Держи конец… — И капитан принялся разматывать веревку.
Лукаш с замиранием сердца следил за двумя смельчаками. Они очень медленно продвигались к гранитной глыбе, за которой черным пятачком виднелась выемка в скале. Тень скрывала ее от глаз. Лукаш держал винтовку в руках, готовый послать меткую пулю, чуть только враг посягнет па жизнь его товарищей. Но скоро и капитан, и Джумаев скрылись за скалой и Лукаш потерял их из виду.
Было очень тихо, так тихо, что звенело в ушах. Только откуда-то снизу, из глубины пропасти, время от времени доносился глухой шум срывавшихся туда камней.
Крик, выстрел, другой… Лукаш сжал винтовку руками и чуть не заплакал от отчаяния. Он ничем не мог сейчас помочь. Он даже не знал, кто стрелял — там, наверху…
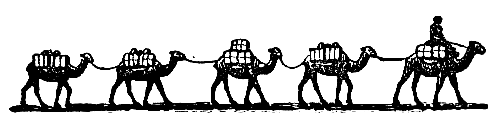 Воздух еле слышно стал наполняться мелодичными звуками. Словно волшебная музыка доносилась с гор. Казалось, будто кто-то неторопливо перебирал струны арфы. Скоро явственно стало слышно, что эти нежные серебристые звуки издают колокольчики, сотни колокольчиков и бубенцов.
— Караван! Мама! Караван! — крикнул Сережа, бросаясь с ватагой ребят к шоссе.
Женщины направились вслед за детьми.
Далеко наверху, из-за поворота показался маленький ослик, а за ним верблюды — один, другой, третий…
Они шли не торопясь, мерно покачивая горбатыми спинами, нагруженные мешками, тюками, ящиками. Вызванивали привязанные к шее колокольчики и бубенцы.
— Прямо сказочное зрелище! — воскликнула Елена Николаевна.
Действительно, застывшие в бледнеющих красках горы, серебряный рог месяца, первые звезды на глубоком, темно-синем, как бархат, небе, чистый, прозрачный воздух, тишина, и в этой тишине — непередаваемая музыка колокольчиков и бубенцов!
Караван казался бесконечным.
Воздух еле слышно стал наполняться мелодичными звуками. Словно волшебная музыка доносилась с гор. Казалось, будто кто-то неторопливо перебирал струны арфы. Скоро явственно стало слышно, что эти нежные серебристые звуки издают колокольчики, сотни колокольчиков и бубенцов.
— Караван! Мама! Караван! — крикнул Сережа, бросаясь с ватагой ребят к шоссе.
Женщины направились вслед за детьми.
Далеко наверху, из-за поворота показался маленький ослик, а за ним верблюды — один, другой, третий…
Они шли не торопясь, мерно покачивая горбатыми спинами, нагруженные мешками, тюками, ящиками. Вызванивали привязанные к шее колокольчики и бубенцы.
— Прямо сказочное зрелище! — воскликнула Елена Николаевна.
Действительно, застывшие в бледнеющих красках горы, серебряный рог месяца, первые звезды на глубоком, темно-синем, как бархат, небе, чистый, прозрачный воздух, тишина, и в этой тишине — непередаваемая музыка колокольчиков и бубенцов!
Караван казался бесконечным.
 Верблюды шли по десятку, соединенные вместе длинными поводьями. Впереди на маленьком осле восседал погонщик.
Первая группа верблюдов остановилась на зеленой лужайке сразу за Сарыташем. Животные осторожно опускались на землю, погонщики стали разбивать палатки, а караван всё тянулся по горной дороге и всё звенели колокольчики, нежно и грустно.
Ирина задумчиво смотрела туда, где, подернутые дымкой сумерек, шли верблюды. Ей было тяжело. Она думала о том, что пройдет немного времени и всё это станет воспоминанием. И этот чарующий вечер, и горы, и тишина, обволакивающая всё вокруг… Жизнь потечет по новому руслу В который уж раз?
Вероятно только что закончив работу, одетая в темно-синий комбинезон, из мастерских шла Фатима. В руках она держала письмо и на ходу читала его. Лицо девушки сияло такой нескрываемой радостью, что Елена Николаевна не удержалась от вопроса:
— Добрые вести, Фатима?
Девушка оторвалась от чтения, смущенно заулыбалась.
— Исмаил пишет, на фронте он. Жди, пишет, обязательно вернусь…
Ирина заметила, что Фатима говорит, а сама всем сердцем где-то далеко, возле милого.
— Счастливая, — прошептала она.
У поворота шоссе женщин нагнал Чернов. Елена Николаевна, как видно, не без умысла, заторопилась в детский сад и оставила Ирину вдвоем с Черновым.
— Мы не виделись целую вечность, — тихо проговорил он. — Мне сказали, что вы уезжаете? Это правда?
— Да… Я жду письма.
— Но ведь в Полтаве еще бои.
— Мы поедем пока в Пятигорск, к родственникам… Харьков уже освободили.
— Вы так торопитесь… Зачем? — голос Чернова прозвучал умоляюще.
— Я должна уехать, — наклонив голову, невнятно ответила Ирина.
— А если бы я попросил вас…
Ирина молча отвернулась. Но Чернов успел увидеть на ее лице выражение отчаяния и боли.
— Ирина Васильевна!.. Ведь вы не хотите уезжать. Скажите?! И потом… я так одинок…
— Вы не поняли себя… Не поняли ее… вашу жену… — слегка задыхаясь, сказала Ирина.
Чернов грустно покачал головой.
— У вас есть дочь, семья… и я должна уехать, потому что… вы видите почему?
Ирина порывисто прошептала последние слова и быстро пошла вперед, почти побежала.
— Ирина Васильевна! Ирина… — крикнул Чернов, бросаясь за ней.
Но она не оглянулась.
Аксинья Ивановна давно уже заметила, что с ее невесткой происходит что-то неладное. Она догадывалась об отношениях Ирины с Черновым еще с того времени как заболел Сережа. Аксинья Ивановна не подавала виду, что тайна невестки ей известна. Чернов нравился Аксинье Ивановне. Но о чем-то серьезном между ним и невесткой она не допускала мысли. Женатый человек, ребенок…
Заметив на глазах вошедшей Ирины слезы, Аксинья Ивановна вздохнула и тихо сказала:
— Дочка! Иди-ка сюда. Присядь.
— Что такое, мама?
— Скажи, милая, как перед попом, начальника любишь?
Краска залила всё лицо Ирины. Покраснели даже шея и кончики ушей. Она низко нагнула голову.
— Ну, что уж тут. Не чужая ведь! Не враг я тебе. А только, Ира, я так думаю, ничего из этого не выйдет. Он человек хороший, да ведь — женатый! Чего скрывать, жизни у него нету настоящей. А всё же муж да жена… Встретила это я его на днях, а он и спрашивает: «Были вы, мол, Аксинья Ивановна, в клубе? Жена выступала». Гордится ею. Вот то-то и оно. А пока узелочки не завязались крепко, давай уезжать…
Ирина Васильевна сидела и тихо плакала. Под конец, не в силах сдержаться, — разрыдалась.
— Ну, перестань, дочка. Не надо, милая! Сама молодая была, понимаю всё. Да только лучше сразу отрубить, чем мучиться…
Аксинья Ивановна гладила невестку по вздрагивающим плечам, голове и ласково приговаривала:
— Успокойся, милая! Поедем в родные края, еще счастье найдешь себе. Охо-хо!..
Как только пришло письмо от родственницы из Пятигорска, семья Дорошенко стала собираться в дорогу.
Радио приносило всё новые и новые радостные сообщения. Сережа влетал в столовую с ликующим криком:
— Бабушка! Таганрог освободили! Трофеев — ужас!! Скоро Полтаву освободим! — и убегал весь сияющий.
Наконец наступил день отъезда.
Аксинья Ивановна искоса поглядывала на невестку. Руки ее плохо слушались, она без надобности перекладывала вещи с места на место.
— Иди-ка лучше, милая, пройдись по воздуху или в детский сад ступай! Сама справлюсь. Посмотри-ка на себя! Сердце только надрываешь мне!..
Машина, нагруженная вещами, стояла во дворе. Аксинья Ивановна, расцеловавшись со всеми работниками столовой, подошла к Чернову.
— Ну, прощай, Константиныч! Спасибо за всё! — сказала она, целуясь и обнимаясь с ним по русскому обычаю троекратно и вытирая мокрые от слез глаза. — Жалко мне расставаться с тобой. Хороший ты человек, отзывчивый!
Аксинья Ивановна уселась в машине рядом с Сережей. Ирина, бледная, осунувшаяся, подошла к Чернову. У нее замерло сердце, перехватило дыхание.
— Прощайте… Владимир Константинович… — голос ее дрогнул. — Вспоминайте иногда…
Чернов с силой сжал ее руку, с тоской по-смотрел на нее… Чуть охрипшим голосом проговорил:
— Желаю вам счастья…
Ирина отошла. Но, садясь в машину, опять обернулась и уже не могла оторвать глаз от удрученного, постаревшего лица Чернова, от его слегка сгорбившейся высокой фигуры… Чернов поймал ее взгляд и грустно улыбнулся.
Машина тронулась и Сарыташ стал удаляться, опускаясь всё ниже и ниже.
Владимир Константинович круто повернулся и пошел в контору. Ему не хотелось сейчас никого видеть. По следом за ним вошел Савченко и возбужденно стал рассказывать.
Звонил подполковник Шестаков! Быкова таки приперли к стенке! Обвал устроил он. Хотел свалить всё на Байбекова, воспользоваться тем, что его уже нет в живых. Но Джабар всё выболтал. Отравление на ферме — дело рук Байбекова. Связь с «хозяевами» держал он. Он же давал задания своим подчиненным.
— Следствие закончено? — спросил Чернов.
— Нет, еще продолжается. Надо нам, Владимир Константинович, очень тщательно проверять наши кадры. Война, на дорогу идут всякие люди.
Савченко уселся, собираясь продолжать разговор, но, заметив, что Чернов расстроен, неловко замолчал.
— Привезли лес? — прервал молчание Владимир Константинович.
— Привезли. Хороший лес. Сухостой.
Савченко поднялся, нерешительно посмотрел на начальника. Что-то он не в себе, курит не переставая, молчит. Видно, в самом деле не ладится в семье. Только что встретил Лидию, та тоже заплаканная, встревоженная, спросила: уехали ли Дорошенки и где муж? Савченко подумал — не расспросить ли Чернова, но тут же отказался от своей мысли. Не умеет он распутывать эти семейные дела! Тут нужен тонкий подход. Пусть уж Варя действует.
Василий Иванович не рассказал, что, как выяснилось на следствии, Быков намеревался «убрать» и его, Савченко, потому что, сам того не зная, парторг больше всех мешал ему выполнять задания Байбекова. Но не успел.
— Ну, я пойду Пальцева проведаю, — поднялся он. — Уезжает он в санаторий.
— Я рад за него, — вышел из оцепенения Чернов. — Хороший человек. Пожелайте ему от моего имени здоровья… Окрепнет — пускай возвращается, рады будем…
Когда часа через три Савченко проходил мимо конторы, он увидел в окне Чернова. Тот стоял неподвижно и смотрел в окно на дорогу, убегающую в горы.
Осень стояла тихая и теплая, как и в прошлом году. Бакир говорит, что и нынче зима будет лютая, снежная. Старики-старожилы умеют точно определять погоду по приметам, только им одним известным.
В один из таких солнечных осенних дней Чернов добрался до перевала, остановился и посмотрел вниз. Вдоль наклонного плато вилась дорога. Сарыташ скрывался за поворотом в долине. Торжественно тихо было в горах. Чутким Слухом Владимир Константинович улавливал шорохи потревоженного ветерком щебня где-то далеко наверху.
Горы, горы. Суровые, недоступные, величественно прекрасные, манящие ввысь своими белоснежными вершинами. Вот он — Памир. Крыша мира! Можно часами стоять, смотреть, слушать нерушимое, завораживающее безмолвие.
В последнее время Чернов полюбил одинокие прогулки. Как только выдавалось свободное время, он уходил в горы.
Лидия опять уехала в Ош. Сказала — на три дня и посмотрела на него с загадочной улыбкой. Что ж, он уже привык быть один. Владимир Константинович пытался уверить себя, что отъезд Лидии ему безразличен, но это не удавалось. Он думал о жене. Считал дни. Сегодня был четвертый день. Конечно, она не приедет.
И, словно для того, чтобы опровергнуть это, из-за поворота совсем близко вынырнула машина. Чернов пошел навстречу, и вдруг сердце его радостно забилось. Сквозь запыленное стекло кабины он увидел улыбающееся лицо Лидии и на руках у нее Талочку.
Дрожащими от волнения руками он помог жене открыть дверцу кабины. Девочка обхватила его за шею и сразу выпалила новость:
— Папа! Я буду тут жить. Совсем! Мама сказала.
Чернов целовал раскрасневшееся, возбужденное личико дочери, подбрасывал ее в воздух. Они хохотали и перебивали друг друга.
— Вот я тебя сейчас заброшу вон на ту снежную гору! Ага, попалась! Держись!
Лидия со смущенной, чуть грустной улыбкой стояла в стороне.
— Осторожнее, Володя!
Чернов поставил дочь на землю и обернулся к жене.
— Я ждал тебя, Лида… — тихо сказал он.
г. Днепродзержинск.
Верблюды шли по десятку, соединенные вместе длинными поводьями. Впереди на маленьком осле восседал погонщик.
Первая группа верблюдов остановилась на зеленой лужайке сразу за Сарыташем. Животные осторожно опускались на землю, погонщики стали разбивать палатки, а караван всё тянулся по горной дороге и всё звенели колокольчики, нежно и грустно.
Ирина задумчиво смотрела туда, где, подернутые дымкой сумерек, шли верблюды. Ей было тяжело. Она думала о том, что пройдет немного времени и всё это станет воспоминанием. И этот чарующий вечер, и горы, и тишина, обволакивающая всё вокруг… Жизнь потечет по новому руслу В который уж раз?
Вероятно только что закончив работу, одетая в темно-синий комбинезон, из мастерских шла Фатима. В руках она держала письмо и на ходу читала его. Лицо девушки сияло такой нескрываемой радостью, что Елена Николаевна не удержалась от вопроса:
— Добрые вести, Фатима?
Девушка оторвалась от чтения, смущенно заулыбалась.
— Исмаил пишет, на фронте он. Жди, пишет, обязательно вернусь…
Ирина заметила, что Фатима говорит, а сама всем сердцем где-то далеко, возле милого.
— Счастливая, — прошептала она.
У поворота шоссе женщин нагнал Чернов. Елена Николаевна, как видно, не без умысла, заторопилась в детский сад и оставила Ирину вдвоем с Черновым.
— Мы не виделись целую вечность, — тихо проговорил он. — Мне сказали, что вы уезжаете? Это правда?
— Да… Я жду письма.
— Но ведь в Полтаве еще бои.
— Мы поедем пока в Пятигорск, к родственникам… Харьков уже освободили.
— Вы так торопитесь… Зачем? — голос Чернова прозвучал умоляюще.
— Я должна уехать, — наклонив голову, невнятно ответила Ирина.
— А если бы я попросил вас…
Ирина молча отвернулась. Но Чернов успел увидеть на ее лице выражение отчаяния и боли.
— Ирина Васильевна!.. Ведь вы не хотите уезжать. Скажите?! И потом… я так одинок…
— Вы не поняли себя… Не поняли ее… вашу жену… — слегка задыхаясь, сказала Ирина.
Чернов грустно покачал головой.
— У вас есть дочь, семья… и я должна уехать, потому что… вы видите почему?
Ирина порывисто прошептала последние слова и быстро пошла вперед, почти побежала.
— Ирина Васильевна! Ирина… — крикнул Чернов, бросаясь за ней.
Но она не оглянулась.
Аксинья Ивановна давно уже заметила, что с ее невесткой происходит что-то неладное. Она догадывалась об отношениях Ирины с Черновым еще с того времени как заболел Сережа. Аксинья Ивановна не подавала виду, что тайна невестки ей известна. Чернов нравился Аксинье Ивановне. Но о чем-то серьезном между ним и невесткой она не допускала мысли. Женатый человек, ребенок…
Заметив на глазах вошедшей Ирины слезы, Аксинья Ивановна вздохнула и тихо сказала:
— Дочка! Иди-ка сюда. Присядь.
— Что такое, мама?
— Скажи, милая, как перед попом, начальника любишь?
Краска залила всё лицо Ирины. Покраснели даже шея и кончики ушей. Она низко нагнула голову.
— Ну, что уж тут. Не чужая ведь! Не враг я тебе. А только, Ира, я так думаю, ничего из этого не выйдет. Он человек хороший, да ведь — женатый! Чего скрывать, жизни у него нету настоящей. А всё же муж да жена… Встретила это я его на днях, а он и спрашивает: «Были вы, мол, Аксинья Ивановна, в клубе? Жена выступала». Гордится ею. Вот то-то и оно. А пока узелочки не завязались крепко, давай уезжать…
Ирина Васильевна сидела и тихо плакала. Под конец, не в силах сдержаться, — разрыдалась.
— Ну, перестань, дочка. Не надо, милая! Сама молодая была, понимаю всё. Да только лучше сразу отрубить, чем мучиться…
Аксинья Ивановна гладила невестку по вздрагивающим плечам, голове и ласково приговаривала:
— Успокойся, милая! Поедем в родные края, еще счастье найдешь себе. Охо-хо!..
Как только пришло письмо от родственницы из Пятигорска, семья Дорошенко стала собираться в дорогу.
Радио приносило всё новые и новые радостные сообщения. Сережа влетал в столовую с ликующим криком:
— Бабушка! Таганрог освободили! Трофеев — ужас!! Скоро Полтаву освободим! — и убегал весь сияющий.
Наконец наступил день отъезда.
Аксинья Ивановна искоса поглядывала на невестку. Руки ее плохо слушались, она без надобности перекладывала вещи с места на место.
— Иди-ка лучше, милая, пройдись по воздуху или в детский сад ступай! Сама справлюсь. Посмотри-ка на себя! Сердце только надрываешь мне!..
Машина, нагруженная вещами, стояла во дворе. Аксинья Ивановна, расцеловавшись со всеми работниками столовой, подошла к Чернову.
— Ну, прощай, Константиныч! Спасибо за всё! — сказала она, целуясь и обнимаясь с ним по русскому обычаю троекратно и вытирая мокрые от слез глаза. — Жалко мне расставаться с тобой. Хороший ты человек, отзывчивый!
Аксинья Ивановна уселась в машине рядом с Сережей. Ирина, бледная, осунувшаяся, подошла к Чернову. У нее замерло сердце, перехватило дыхание.
— Прощайте… Владимир Константинович… — голос ее дрогнул. — Вспоминайте иногда…
Чернов с силой сжал ее руку, с тоской по-смотрел на нее… Чуть охрипшим голосом проговорил:
— Желаю вам счастья…
Ирина отошла. Но, садясь в машину, опять обернулась и уже не могла оторвать глаз от удрученного, постаревшего лица Чернова, от его слегка сгорбившейся высокой фигуры… Чернов поймал ее взгляд и грустно улыбнулся.
Машина тронулась и Сарыташ стал удаляться, опускаясь всё ниже и ниже.
Владимир Константинович круто повернулся и пошел в контору. Ему не хотелось сейчас никого видеть. По следом за ним вошел Савченко и возбужденно стал рассказывать.
Звонил подполковник Шестаков! Быкова таки приперли к стенке! Обвал устроил он. Хотел свалить всё на Байбекова, воспользоваться тем, что его уже нет в живых. Но Джабар всё выболтал. Отравление на ферме — дело рук Байбекова. Связь с «хозяевами» держал он. Он же давал задания своим подчиненным.
— Следствие закончено? — спросил Чернов.
— Нет, еще продолжается. Надо нам, Владимир Константинович, очень тщательно проверять наши кадры. Война, на дорогу идут всякие люди.
Савченко уселся, собираясь продолжать разговор, но, заметив, что Чернов расстроен, неловко замолчал.
— Привезли лес? — прервал молчание Владимир Константинович.
— Привезли. Хороший лес. Сухостой.
Савченко поднялся, нерешительно посмотрел на начальника. Что-то он не в себе, курит не переставая, молчит. Видно, в самом деле не ладится в семье. Только что встретил Лидию, та тоже заплаканная, встревоженная, спросила: уехали ли Дорошенки и где муж? Савченко подумал — не расспросить ли Чернова, но тут же отказался от своей мысли. Не умеет он распутывать эти семейные дела! Тут нужен тонкий подход. Пусть уж Варя действует.
Василий Иванович не рассказал, что, как выяснилось на следствии, Быков намеревался «убрать» и его, Савченко, потому что, сам того не зная, парторг больше всех мешал ему выполнять задания Байбекова. Но не успел.
— Ну, я пойду Пальцева проведаю, — поднялся он. — Уезжает он в санаторий.
— Я рад за него, — вышел из оцепенения Чернов. — Хороший человек. Пожелайте ему от моего имени здоровья… Окрепнет — пускай возвращается, рады будем…
Когда часа через три Савченко проходил мимо конторы, он увидел в окне Чернова. Тот стоял неподвижно и смотрел в окно на дорогу, убегающую в горы.
Осень стояла тихая и теплая, как и в прошлом году. Бакир говорит, что и нынче зима будет лютая, снежная. Старики-старожилы умеют точно определять погоду по приметам, только им одним известным.
В один из таких солнечных осенних дней Чернов добрался до перевала, остановился и посмотрел вниз. Вдоль наклонного плато вилась дорога. Сарыташ скрывался за поворотом в долине. Торжественно тихо было в горах. Чутким Слухом Владимир Константинович улавливал шорохи потревоженного ветерком щебня где-то далеко наверху.
Горы, горы. Суровые, недоступные, величественно прекрасные, манящие ввысь своими белоснежными вершинами. Вот он — Памир. Крыша мира! Можно часами стоять, смотреть, слушать нерушимое, завораживающее безмолвие.
В последнее время Чернов полюбил одинокие прогулки. Как только выдавалось свободное время, он уходил в горы.
Лидия опять уехала в Ош. Сказала — на три дня и посмотрела на него с загадочной улыбкой. Что ж, он уже привык быть один. Владимир Константинович пытался уверить себя, что отъезд Лидии ему безразличен, но это не удавалось. Он думал о жене. Считал дни. Сегодня был четвертый день. Конечно, она не приедет.
И, словно для того, чтобы опровергнуть это, из-за поворота совсем близко вынырнула машина. Чернов пошел навстречу, и вдруг сердце его радостно забилось. Сквозь запыленное стекло кабины он увидел улыбающееся лицо Лидии и на руках у нее Талочку.
Дрожащими от волнения руками он помог жене открыть дверцу кабины. Девочка обхватила его за шею и сразу выпалила новость:
— Папа! Я буду тут жить. Совсем! Мама сказала.
Чернов целовал раскрасневшееся, возбужденное личико дочери, подбрасывал ее в воздух. Они хохотали и перебивали друг друга.
— Вот я тебя сейчас заброшу вон на ту снежную гору! Ага, попалась! Держись!
Лидия со смущенной, чуть грустной улыбкой стояла в стороне.
— Осторожнее, Володя!
Чернов поставил дочь на землю и обернулся к жене.
— Я ждал тебя, Лида… — тихо сказал он.
г. Днепродзержинск.

 — Отставить! — громко скомандовал Коновалов и загородил собой арестованного. — Орлы! Семеро одного не боитесь! Обыскать!
Под телогрейкой у задержанного обнаружили пачку свежих советских листовок.
Коновалов не сильно толкнул парня в плечо и, обращаясь к Сергею и Виктору, которые всю эту сцену простояли без движения, строго сказал:
— Этого чемпиона по прыжкам и бегу — в гестапо! Пусть он там почитает свои листовки!
По дороге Виктор многозначительно поглядывал на Сергея, но тот делал вид, что не замечает этого. Тогда Виктор сильно толкнул его в бок, кивнув в сторону арестованного. Сергей не успел оглянуться, как неожиданно заговорил незнакомец:
— Что, иуды, много вам платят за измену?
— Ещё что спросишь? — зло, не своим голосом сказал Сергей. — Поумнее можешь?
— Смотри-ка, ещё обижаются, — удивлённо протянул парень. — Ястребы из курятника! Сколько вас таких на фунт сушёных?
— Дурень ты! Подпольщик липовый! Листовки мог выбросить в саду… Лезет на рожон! Балда!
Послышались торопливые шаги, и впереди показалась тёмная фигура. Но тут же она метнулась в сторону и скрылась за углом.
— Упустили, — насмешливо сказал арестованный.
— Нам одного хватит, — ответил Сергей.
Ещё немного прошли молча. Сгустилась темнота. Тишиной дышала улица.
Сергей подтолкнул парня в спину:
— Иди!
— Куда это — «иди»? — не оборачиваясь и неуверенно спросил он.
— На кудыкино поле, чемпион! И не думай, что один ты на свете человек!
Парень обернулся и с недоверием посмотрел на полицейских.
— Иди, иди, — подтвердил Виктор, оглядываясь по сторонам. В его руках тускло блеснул нож, и обрывки верёвки неслышно упали на дорогу.
Ошеломлённый парень медленно растирал вспухшие кисти рук.
— Ну, иди. — Виктор радостно и широко улыбнулся.
Даже в полумраке парень разглядел эту открытую, добрую улыбку и окончательно поверил в своё освобождение. Он внимательно посмотрел на конвоиров.
— Что, запоминаешь?
— А как же, без этого нельзя! Начальство и хороших людей нужно знать в лицо! — И быстро пошёл вдоль улицы. Но через несколько шагов остановился, оглянулся и тихо, восторженно выпалил: — А что я дурак — это точно! До встречи!
И таинственным призраком растаял в темноте.
Ждали они день за днём — подойдут, дадут знать о себе подпольщики. Ругали себя последними словами на чём свет стоит — растерялись, не договорились тогда же о связи…
Две недели прошло с того вечера. Виктор нервничал, а Сергей рассудительно успокаивал:
— Не бесись, не всё сразу. Не разрешают ему, не доверяют нам. Подумаешь — отпустили! Ну и что? Может, мы задание имеем от гестапо втереться к ним в доверие? Там не дураки сидят. Чудо какое — отпустили! Скажи спасибо, если они нас хоть на заметку возьмут, проверят как следует, а уж потом…
Виктор понимал, что его друг прав. Подвига они не совершили. Даже риска почти не было. В таких облавах всегда понатаскают сотни людей и сразу же больше половины отпустят. Командир взвода на другой же день как-то нехотя спросил Виктора:
— Отвели?
— Так точно!
— Вот и молодцы.
Виктору показалось, что они поняли друг друга. Может быть, только показалось.
Долго Виктор не мог заснуть — тревожили воспоминания. То виделась падающая, судорожно взмахивающая большими крыльями, обречённая птица, то появилось разбитое лицо парня с листовками, то слышался тихий, торопливый голос умирающего командира полка: «Не будьте простачками, не ждите у моря погоды — под лежачий камень вода не течёт. Сейчас в мире заварилась такая каша, что человек в нём, как крупинка в полковом котле: убери одну — каши меньше не станет. Но и без копейки рубля не будет. Короче говоря, каждый должен сделать для победы всё, что в его силах».
Ещё вспоминались дом, школа и черноглазая озорная девчонка… Где-то ты теперь, что думаешь обо мне? Люба — Любушка, Любушка-голубушка…
И почему-то вслед за Любой возникла юная переводчица из комендатуры, но не прыгающая и смеющаяся, а серьёзная, со строгим взглядом тёмных, пронизывающих глаз… Легко перехватило дыхание, слеза покатилась по щеке. «Кисель вишнёвый», — глубоко вздохнув, тихо прошептал Виктор и, зябко вздрогнув, решил при первой же возможности убежать в лес, к партизанам. Это решение немного успокоило, и он наконец уснул.
— Отставить! — громко скомандовал Коновалов и загородил собой арестованного. — Орлы! Семеро одного не боитесь! Обыскать!
Под телогрейкой у задержанного обнаружили пачку свежих советских листовок.
Коновалов не сильно толкнул парня в плечо и, обращаясь к Сергею и Виктору, которые всю эту сцену простояли без движения, строго сказал:
— Этого чемпиона по прыжкам и бегу — в гестапо! Пусть он там почитает свои листовки!
По дороге Виктор многозначительно поглядывал на Сергея, но тот делал вид, что не замечает этого. Тогда Виктор сильно толкнул его в бок, кивнув в сторону арестованного. Сергей не успел оглянуться, как неожиданно заговорил незнакомец:
— Что, иуды, много вам платят за измену?
— Ещё что спросишь? — зло, не своим голосом сказал Сергей. — Поумнее можешь?
— Смотри-ка, ещё обижаются, — удивлённо протянул парень. — Ястребы из курятника! Сколько вас таких на фунт сушёных?
— Дурень ты! Подпольщик липовый! Листовки мог выбросить в саду… Лезет на рожон! Балда!
Послышались торопливые шаги, и впереди показалась тёмная фигура. Но тут же она метнулась в сторону и скрылась за углом.
— Упустили, — насмешливо сказал арестованный.
— Нам одного хватит, — ответил Сергей.
Ещё немного прошли молча. Сгустилась темнота. Тишиной дышала улица.
Сергей подтолкнул парня в спину:
— Иди!
— Куда это — «иди»? — не оборачиваясь и неуверенно спросил он.
— На кудыкино поле, чемпион! И не думай, что один ты на свете человек!
Парень обернулся и с недоверием посмотрел на полицейских.
— Иди, иди, — подтвердил Виктор, оглядываясь по сторонам. В его руках тускло блеснул нож, и обрывки верёвки неслышно упали на дорогу.
Ошеломлённый парень медленно растирал вспухшие кисти рук.
— Ну, иди. — Виктор радостно и широко улыбнулся.
Даже в полумраке парень разглядел эту открытую, добрую улыбку и окончательно поверил в своё освобождение. Он внимательно посмотрел на конвоиров.
— Что, запоминаешь?
— А как же, без этого нельзя! Начальство и хороших людей нужно знать в лицо! — И быстро пошёл вдоль улицы. Но через несколько шагов остановился, оглянулся и тихо, восторженно выпалил: — А что я дурак — это точно! До встречи!
И таинственным призраком растаял в темноте.
Ждали они день за днём — подойдут, дадут знать о себе подпольщики. Ругали себя последними словами на чём свет стоит — растерялись, не договорились тогда же о связи…
Две недели прошло с того вечера. Виктор нервничал, а Сергей рассудительно успокаивал:
— Не бесись, не всё сразу. Не разрешают ему, не доверяют нам. Подумаешь — отпустили! Ну и что? Может, мы задание имеем от гестапо втереться к ним в доверие? Там не дураки сидят. Чудо какое — отпустили! Скажи спасибо, если они нас хоть на заметку возьмут, проверят как следует, а уж потом…
Виктор понимал, что его друг прав. Подвига они не совершили. Даже риска почти не было. В таких облавах всегда понатаскают сотни людей и сразу же больше половины отпустят. Командир взвода на другой же день как-то нехотя спросил Виктора:
— Отвели?
— Так точно!
— Вот и молодцы.
Виктору показалось, что они поняли друг друга. Может быть, только показалось.
Долго Виктор не мог заснуть — тревожили воспоминания. То виделась падающая, судорожно взмахивающая большими крыльями, обречённая птица, то появилось разбитое лицо парня с листовками, то слышался тихий, торопливый голос умирающего командира полка: «Не будьте простачками, не ждите у моря погоды — под лежачий камень вода не течёт. Сейчас в мире заварилась такая каша, что человек в нём, как крупинка в полковом котле: убери одну — каши меньше не станет. Но и без копейки рубля не будет. Короче говоря, каждый должен сделать для победы всё, что в его силах».
Ещё вспоминались дом, школа и черноглазая озорная девчонка… Где-то ты теперь, что думаешь обо мне? Люба — Любушка, Любушка-голубушка…
И почему-то вслед за Любой возникла юная переводчица из комендатуры, но не прыгающая и смеющаяся, а серьёзная, со строгим взглядом тёмных, пронизывающих глаз… Легко перехватило дыхание, слеза покатилась по щеке. «Кисель вишнёвый», — глубоко вздохнув, тихо прошептал Виктор и, зябко вздрогнув, решил при первой же возможности убежать в лес, к партизанам. Это решение немного успокоило, и он наконец уснул.
 — Твоя настоящая фамилия? — раздался хорошо поставленный баритон, принадлежавший, видимо, тому прохожему, который первым набросился на неё.
— А придуманная мной, — сказала она, чтобы выиграть хоть немного времени, — вам известна?
— Конечно.
— А другой у меня, к сожалению, нет.
— Почему — к сожалению?
— Тогда я могла бы удовлетворить ваше любопытство.
— Не умничай!
— Я буду стараться.
— Нам всё про тебя известно.
— А мне нет.
— Не дерзи.
— Вам могу посоветовать то же.
— Как твоя фамилия?
— Я уже сказала.
— Повтори ещё раз.
Наташа не ответила. Страх прошёл. Мысли бежали чёткие и ясные. «Кто они? Что им нужно?» Вспомнила слова полковника Снегирёва: «Осторожность — твоё главное, а иногда и единственное оружие. Ты должна остерегаться всех — и врагов, и своих. Свои люди иногда бывают для разведчика опаснее, чем враги. Ведь ты для них — изменник! Правды о тебе не должны знать ни свои, ни враги. И в этом заключается дополнительная трудность твоего и так тяжёлого положения».
— Будешь отвечать?
— Кому?
— Это не важно.
— Для вас — может быть, для меня — очень.
— Мы советские патриоты, которым поручено судить тебя за измену Родине.
— Кто поручил? — с вызовом спросила Наташа.
— Подпольный центр.
— Судите, — сказала Наташа и поняла всё. Это очередной фокус Демеля: проверка, дешёвая и грубая, рассчитанная на глупцов. Неужели и Шварц согласился подвергнуть её этому испытанию? Едва ли! Начальник гестапо по такому пустяку мог и не посоветоваться с комендантом.
— Развяжите меня, — строго сказала Наташа.
— Хорошо и так, — пропел баритон.
— Орлы, — с насмешкой и горечью сказала Наташа, — на одну девчонку трое, и сами дрожат как осиновые листы от страха.
— Это не есть страх, а осторожность, — раздался голос, который убедил Наташу в правильности её предположения. Голос принадлежал Гердеру. Наташа сразу узнала этот голос, хотя он и был сильно изменён.
— Чего же вам бояться? — весело спросила Наташа.
— Вопросы будем задавать мы.
— А я не буду на них отвечать, пока вы не развяжете меня. Интересная получится беседа.
Наступила пауза. Где-то в глубине дома хлёстко хлопнула дверь.
Наташа почувствовала, как чьи-то грубые руки торопливо, но осторожно развязывают верёвку на ногах.
— Теперь руки, — сказала она с той интонацией, по которой нельзя было понять, просит она или приказывает. Сказала и с удовольствием пошевельнула затёкшими ногами.
— Отставить! — выдохнул Гердер.
— Буду молчать, — обиженно промолвила Наташа.
— Хорошо, мы развяжем и руки, но повязку с глаз вы снимать не будете.
Ей развязали руки.
— Что толкнуло вас на измену?
— Я не считаю себя изменником.
— Но вы изменили Родине!
— Нет!
— Как это понимать?
— У каждого своя родина.
— Не умничай, — прогудел баритон, — как ты будешь в глаза смотреть людям?
— А я в вашей повязке щеголять буду.
— Какую нужно иметь силу воли, чтобы перед смертью шутить! — с угрозой и иронией проговорил обладатель красивого баритона.
— Я тронута вашим комплиментом.
— Довольно шуток, — с раздражением сказал Гердер. — Почему вы пошли на службу к немцам?
— Это моё личное дело.
— Положим, это совсем не так, — опять запел баритон.
— Кроме того, служу не одна я. И они хорошо платят — нужно же как-то жить.
— Это не оправдание. Вы работаете в военной комендатуре, принимаете прямое участие в мероприятиях против советского народа, открыто помогаете немцам!
— Вы говорите со мной таким тоном, как будто такие, хрупкие и немощные женщины, как я, а не вы, богатыри-мужчины, виноваты в нашествии немцев на русскую землю.
— Мы боремся, мы не сложили оружия!
— Против кого?
— Против фашистов!
— Где уж вам, — с издёвкой, насмешливо сказала Наташа, — вы боитесь пикнуть, когда видите немецкого солдата.
— Это ты брось, — с угрозой ответил баритон, — тебе не помогут твои увёртки. Ты забыла о чести и совести русской женщины — ты находишься в любовной связи с майором Шварцем!
— А любовь не разбирается ни в политике, ни в национальностях.
— Вы его любите? — спросил Гердер.
— Это не ваше дело!
— Отвечайте на вопрос!
— Подайте команду. О любви очень удобно говорить, приняв стойку «смирно».
— Дело ясное, — процедил баритон.
— Чем вы занимаетесь в комендатуре? — опять спросил Гердер.
— Работой.
— Конкретнее.
— Перевожу. Что ещё?
— Какие секреты вам доверяет комендант?
— Ничего он мне не доверяет!
— А если подумать.
— Я всегда думаю.
— А всё же.
— Что он мне может доверить? Немцы не дураки — это известно каждому.
— А мы, по-твоему, дураки?
— Есть истины настолько очевидные, что они не нуждаются в подтверждении.
— Что? — закричал баритон. — Ты не забывайся!
— Вы — тоже! Если вам поручили меня судить — судите! Мне надоела пустая болтовня. Я с презрением отвергаю ваши пылкие заботы о моей морали и совести.
— Смотри, какая! Не боится. Посмотрим, как ты запоёшь сейчас.
— Не пугайте!
— Тогда слушай: за измену Родине и народу подпольный суд советских патриотов приговорил тебя к высшей мере наказания — смертной казни через повешение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведён в исполнение немедленно.
— Глупо! — выкрикнула Наташа. — Мерзко и глупо. За меня одну майор Шварц утром расстреляет сотню человек! Хорошие же вы патриоты!
— Хитра, — насмешливо сказал баритон.
— Нет, это не хитрость. Так оно и будет, как я сказала!
— А почему ты так уверена, что из-за тебя Шварц арестует заложников? Ты — русская.
— Он любит меня! И если что-либо со мной случится, все вы будете висеть на телеграфных столбах!
— Ого, — удивился баритон, — девушка-то с острыми коготками.
— Но повесить нам её всё-таки придётся, — вступил третий, который до этого молчал.
— Вешайте! — истерично закричала Наташа. — Вы ни на что другое не способны! От виселиц вам не будет легче!
— Довольно, — по-немецки сказал Демель. — Наташа, снимите повязку и примите мои глубокие извинения и искреннее восхищение вами. Простите нас, надеюсь, мы не были очень грубы? Ещё раз простите великодушно. Что делать — долг службы. Откровенно говоря, я знал заранее, чем всё это кончится, и в душе был против этой акции.
— Твоя настоящая фамилия? — раздался хорошо поставленный баритон, принадлежавший, видимо, тому прохожему, который первым набросился на неё.
— А придуманная мной, — сказала она, чтобы выиграть хоть немного времени, — вам известна?
— Конечно.
— А другой у меня, к сожалению, нет.
— Почему — к сожалению?
— Тогда я могла бы удовлетворить ваше любопытство.
— Не умничай!
— Я буду стараться.
— Нам всё про тебя известно.
— А мне нет.
— Не дерзи.
— Вам могу посоветовать то же.
— Как твоя фамилия?
— Я уже сказала.
— Повтори ещё раз.
Наташа не ответила. Страх прошёл. Мысли бежали чёткие и ясные. «Кто они? Что им нужно?» Вспомнила слова полковника Снегирёва: «Осторожность — твоё главное, а иногда и единственное оружие. Ты должна остерегаться всех — и врагов, и своих. Свои люди иногда бывают для разведчика опаснее, чем враги. Ведь ты для них — изменник! Правды о тебе не должны знать ни свои, ни враги. И в этом заключается дополнительная трудность твоего и так тяжёлого положения».
— Будешь отвечать?
— Кому?
— Это не важно.
— Для вас — может быть, для меня — очень.
— Мы советские патриоты, которым поручено судить тебя за измену Родине.
— Кто поручил? — с вызовом спросила Наташа.
— Подпольный центр.
— Судите, — сказала Наташа и поняла всё. Это очередной фокус Демеля: проверка, дешёвая и грубая, рассчитанная на глупцов. Неужели и Шварц согласился подвергнуть её этому испытанию? Едва ли! Начальник гестапо по такому пустяку мог и не посоветоваться с комендантом.
— Развяжите меня, — строго сказала Наташа.
— Хорошо и так, — пропел баритон.
— Орлы, — с насмешкой и горечью сказала Наташа, — на одну девчонку трое, и сами дрожат как осиновые листы от страха.
— Это не есть страх, а осторожность, — раздался голос, который убедил Наташу в правильности её предположения. Голос принадлежал Гердеру. Наташа сразу узнала этот голос, хотя он и был сильно изменён.
— Чего же вам бояться? — весело спросила Наташа.
— Вопросы будем задавать мы.
— А я не буду на них отвечать, пока вы не развяжете меня. Интересная получится беседа.
Наступила пауза. Где-то в глубине дома хлёстко хлопнула дверь.
Наташа почувствовала, как чьи-то грубые руки торопливо, но осторожно развязывают верёвку на ногах.
— Теперь руки, — сказала она с той интонацией, по которой нельзя было понять, просит она или приказывает. Сказала и с удовольствием пошевельнула затёкшими ногами.
— Отставить! — выдохнул Гердер.
— Буду молчать, — обиженно промолвила Наташа.
— Хорошо, мы развяжем и руки, но повязку с глаз вы снимать не будете.
Ей развязали руки.
— Что толкнуло вас на измену?
— Я не считаю себя изменником.
— Но вы изменили Родине!
— Нет!
— Как это понимать?
— У каждого своя родина.
— Не умничай, — прогудел баритон, — как ты будешь в глаза смотреть людям?
— А я в вашей повязке щеголять буду.
— Какую нужно иметь силу воли, чтобы перед смертью шутить! — с угрозой и иронией проговорил обладатель красивого баритона.
— Я тронута вашим комплиментом.
— Довольно шуток, — с раздражением сказал Гердер. — Почему вы пошли на службу к немцам?
— Это моё личное дело.
— Положим, это совсем не так, — опять запел баритон.
— Кроме того, служу не одна я. И они хорошо платят — нужно же как-то жить.
— Это не оправдание. Вы работаете в военной комендатуре, принимаете прямое участие в мероприятиях против советского народа, открыто помогаете немцам!
— Вы говорите со мной таким тоном, как будто такие, хрупкие и немощные женщины, как я, а не вы, богатыри-мужчины, виноваты в нашествии немцев на русскую землю.
— Мы боремся, мы не сложили оружия!
— Против кого?
— Против фашистов!
— Где уж вам, — с издёвкой, насмешливо сказала Наташа, — вы боитесь пикнуть, когда видите немецкого солдата.
— Это ты брось, — с угрозой ответил баритон, — тебе не помогут твои увёртки. Ты забыла о чести и совести русской женщины — ты находишься в любовной связи с майором Шварцем!
— А любовь не разбирается ни в политике, ни в национальностях.
— Вы его любите? — спросил Гердер.
— Это не ваше дело!
— Отвечайте на вопрос!
— Подайте команду. О любви очень удобно говорить, приняв стойку «смирно».
— Дело ясное, — процедил баритон.
— Чем вы занимаетесь в комендатуре? — опять спросил Гердер.
— Работой.
— Конкретнее.
— Перевожу. Что ещё?
— Какие секреты вам доверяет комендант?
— Ничего он мне не доверяет!
— А если подумать.
— Я всегда думаю.
— А всё же.
— Что он мне может доверить? Немцы не дураки — это известно каждому.
— А мы, по-твоему, дураки?
— Есть истины настолько очевидные, что они не нуждаются в подтверждении.
— Что? — закричал баритон. — Ты не забывайся!
— Вы — тоже! Если вам поручили меня судить — судите! Мне надоела пустая болтовня. Я с презрением отвергаю ваши пылкие заботы о моей морали и совести.
— Смотри, какая! Не боится. Посмотрим, как ты запоёшь сейчас.
— Не пугайте!
— Тогда слушай: за измену Родине и народу подпольный суд советских патриотов приговорил тебя к высшей мере наказания — смертной казни через повешение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведён в исполнение немедленно.
— Глупо! — выкрикнула Наташа. — Мерзко и глупо. За меня одну майор Шварц утром расстреляет сотню человек! Хорошие же вы патриоты!
— Хитра, — насмешливо сказал баритон.
— Нет, это не хитрость. Так оно и будет, как я сказала!
— А почему ты так уверена, что из-за тебя Шварц арестует заложников? Ты — русская.
— Он любит меня! И если что-либо со мной случится, все вы будете висеть на телеграфных столбах!
— Ого, — удивился баритон, — девушка-то с острыми коготками.
— Но повесить нам её всё-таки придётся, — вступил третий, который до этого молчал.
— Вешайте! — истерично закричала Наташа. — Вы ни на что другое не способны! От виселиц вам не будет легче!
— Довольно, — по-немецки сказал Демель. — Наташа, снимите повязку и примите мои глубокие извинения и искреннее восхищение вами. Простите нас, надеюсь, мы не были очень грубы? Ещё раз простите великодушно. Что делать — долг службы. Откровенно говоря, я знал заранее, чем всё это кончится, и в душе был против этой акции.
 Наташа не спускала глаз с коменданта. Голова работала ясно: «Никакие уговоры не помогут. Зверь уже открыл пасть и прыгнул. Отброшены мишура и притворство, мнимое благородство завоевателя. Проявилось во всей своей красе истинное лицо бандита и садиста».
— Брось свою игрушку, — усмехнулся Ганс.
— Почему же «игрушка»? Я отлично запомнила ваши уроки. В этой «игрушке» вполне достаточно сил, чтобы навсегда остудить ваши скромные желания.
— Дура!
— Вы очень любезны.
— Брось пистолет, тебе говорят!
— Спрячьте свой!
— Стрелять буду!
— Я успею сделать то же.
— Упрямая русская корова!
— Неправда! Сами десятки раз восхищались моей фигурой.
— Чёрт бы тебя взял с твоей фигурой! Брось пистолет!
— Повторяетесь. Это не оригинально. Видимо, вы уже ничего не сможете придумать. Лучше послушайте моё предложение.
— Ну?
Растерянный, с размазанной по лицу грязью, Шварц был смешон и жалок.
— Прежде всего, — сказала Наташа, — вам необходимо умыться. Во-вторых, прекратите командовать. Я не солдат, а женщина, и люблю ласку, а вы, как морской пират, пытаетесь взять меня на абордаж. Если выполните эти условия, тогда у нас, поверьте мне, появится возможность провести время намного приятнее и интереснее… Не пугайте меня, пожалуйста. Вы же сами прекрасно знаете, что этого не требуется. И повежливее — у меня врождённое отвращение к насилию, я его не переношу.
— Отдай пистолет, — неуверенно попросил Шварц.
— Пожалуйста, — сказала Наташа смиренно, — хотя и невежливо отбирать свои подарки.
Шварц взял из её рук пистолет, разрядил и тут же вернул обратно.
— Отвернитесь, — тоном, с которым обращаются к ребёнку, сказала Наташа, — потушите свет, я приведу себя в порядок.
— Идёмте в спальню.
— Нет, мне здесь больше нравится, — улыбаясь, ответила Наташа.
— Хорошо, но раздевайтесь при свете, — упрямо произнёс Ганс.
— Однако вы трусоваты, — спокойно сказала Наташа.
— Просто осторожен.
— Тогда прикажите своим солдатам отойти от дверей, они подслушивают.
— Что? — Шварц резко толкнул дверь, но за ней никого не оказалось.
Тем временем Наташа не торопясь расстегнула кофточку, сняла её и повесила на спинку стула.
Ганс стоял с пистолетом в руке и всё ещё недоверчиво смотрел на неё.
Она подняла глаза, озорные искорки вспыхнули в глубине.
— Вы не памятник Фридриху Великому, — с улыбкой, нежно проворковала Наташа, — поскорее приходите в себя и помогите расстегнуть пуговочки на платье, — она показала рукой себе на спину.
Ганс подошёл к ней, крепко обнял и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась, а трепетно всем телом прижалась к нему. Только теперь он поверил ей. Положив пистолет на край стола, он дрожащей рукой торопливо расстегнул пуговки на её платье и буквально впился долгим поцелуем в белую шею. Наташа встрепенулась, и Ганс услышал страстный шёпот:
— Потуши свет и раздевайся сам. — И начала снимать с себя платье.
Голос её был робок, и вся она была беззащитной и слабой, покорившейся его мужской воле. И эта слабость явилась той силой, которая окончательно заставила поверить ей.
Да и как он мог сомневаться. Женщина всегда остаётся женщиной. Одна ломается больше, другая меньше, а результат всегда один. Ганс не торопясь снял портупею, китель и шагнул к выключателю.
Свою ошибку он понял слишком поздно. Сзади раздался характерный щелчок предохранителя парабеллума. Всё ещё ничего не понимая, он быстро обернулся и увидел Наташу с пистолетом, направленным на него.
— Что за глупости! Брось пистолет, эти фокусы не для детей! — резко крикнул он.
— Ни с места! — тихо, полушёпотом, но так твёрдо произнесла Наташа, что Шварц замер. — Если ты, болван, сделаешь ещё хоть один шаг, я продырявлю твою глупую башку, как гнилую тыкву!
— Ты что, с ума сошла?
— Нет, я в своём уме, а вам придётся спуститься с небес на землю и проветрить свежим воздухом свою пустую голову.
Всю ненависть, накопленную за многие дни вынужденных унижений, вкладывала она в свои слова. Ганс слушал, глупо разинув рот от неожиданности и страха.
— Не надо так шутить, Наташа!
— Грязная фашистская свинья, — продолжала Наташа, — как ты мог подумать, что я влюбилась в тебя? Что есть в тебе человеческого? Надутый индюк! Бандит с большой дороги, пакостный и трусливый, как ощипанная ворона!
Шварц понял, что это уже не шутки. Стрелять она не посмеет — за дверью автоматчики. Необходимо как-то успокоить её, выиграть время, а потом… Надутого индюка и ощипанную ворону он ей не простит, какая бы раскрасавица она ни была!
— Что с вами? — вкрадчиво, нежно спросил он.
— Объясняюсь в любви, вы ведь ждали этого.
Шварц не мог отвести взгляда от дула пистолета.
— Наташа, вас обидела моя грубость. Это была неудачная солдатская шутка. Извините меня и давайте всё сделаем, как вы хотите. Желание женщины, да ещё такой, как вы, для меня закон! Конечно, я был неправ.
Он потянулся дрожащей рукой к графину, зазвенел стакан, громко булькнула вода.
Наташа плохо слушала лепет Ганса, и его красноречие пропало даром. Отступать ей было некуда: живой майор Шварц означал её смерть, но и мёртвый он почти не оставлял ей шансов на спасение: два автоматчика, два полицая — многовато! Но всё-таки мёртвый Шварц был лучше.
— Я люблю тебя, Наташа, — с дрожью в голосе сказал он.
— Я советский человек, мы — смертельные враги, — жёстко сказала Наташа, — и наши личные отношения не имеют никакого значения! Кроме того, в этих отношениях вы насквозь пропитаны ложью и гадостью.
Ганс растерялся. Он понял, что последние слова Наташи были его приговором. С трудом он оторвал взгляд от дула пистолета и посмотрел в лицо Наташи. Глаза её были бездонными, беспощадными. Что ты думал раньше, Ганс? Как пренебрежительно-невнимателен был по отношению к Наташе! И как глубоко прав Демель!
— Боже мой, — прошептал Шварц. — Наташа, милая моя! Обещаю тебе, мы поженимся.
Он ещё на что-то надеялся. Не верил, что перед ним была не его простодушная, преданная ему, готовая на всё ради него Наташа. Он умолял, просил, и ему казалось, что он говорит правду… Себя он, кажется, убедил, но её…
— Ничтожество!
— Я клянусь честью…
— Честь? — удивлённо спросила она.
— Я готов… — промолвил он, но, увидев что-то новое в её глазах, остановился. Пауза была короткой. В следующее мгновение майор Шварц, убедившись окончательно, что пощады от Наташи не будет, закричал громко и истерично:
— Ко мне, быстро!
Призыв его относился к солдатам. Он потонул в грохоте выстрела. Наташа выстрелила Гансу в лицо.
Бравый завоеватель, майор непобедимой германской армии, военный комендант города Лесное свалился на пол медленно и мягко.
Дверь в комнату из коридора быстро отворилась, и на пороге возник немецкий солдат с автоматом.
Не раздумывая, Наташа выстрелила в упор, и солдат по инерции упал грудью на стол. Зазвенели бьющиеся бутылки, рюмки, тарелки.
У Наташи пересохло во рту, мысли бежали быстрые и ясные: «Ещё солдат и полицаи, надежды на спасение практически нет!»
Что-то дрогнуло у неё внутри, и толчок этот сообщился рукам. Но это была не слабость. Наташа ещё крепче сжала рукоятку пистолета.
В наполненную пороховым дымом комнату ворвался второй солдат и, ничего не видя толком, не понимая, что происходит, послал слепую очередь вперёд…
Наташа почувствовала сильный толчок в предплечье правой руки. Превозмогая боль, она нажала на спусковой крючок парабеллума.
Солдат падал, не выпуская из рук автомата, и тот плевал пулями, пока не кончились патроны в магазине.
На стене покачивалась золочёная массивная рама, чудом удержавшись на одном гвозде.
Тупо-оловянная физиономия фюрера, до неузнаваемости изрешечённая автоматными пулями, строго взирала на царивший в комнате беспорядок.
Наташа не спускала глаз с коменданта. Голова работала ясно: «Никакие уговоры не помогут. Зверь уже открыл пасть и прыгнул. Отброшены мишура и притворство, мнимое благородство завоевателя. Проявилось во всей своей красе истинное лицо бандита и садиста».
— Брось свою игрушку, — усмехнулся Ганс.
— Почему же «игрушка»? Я отлично запомнила ваши уроки. В этой «игрушке» вполне достаточно сил, чтобы навсегда остудить ваши скромные желания.
— Дура!
— Вы очень любезны.
— Брось пистолет, тебе говорят!
— Спрячьте свой!
— Стрелять буду!
— Я успею сделать то же.
— Упрямая русская корова!
— Неправда! Сами десятки раз восхищались моей фигурой.
— Чёрт бы тебя взял с твоей фигурой! Брось пистолет!
— Повторяетесь. Это не оригинально. Видимо, вы уже ничего не сможете придумать. Лучше послушайте моё предложение.
— Ну?
Растерянный, с размазанной по лицу грязью, Шварц был смешон и жалок.
— Прежде всего, — сказала Наташа, — вам необходимо умыться. Во-вторых, прекратите командовать. Я не солдат, а женщина, и люблю ласку, а вы, как морской пират, пытаетесь взять меня на абордаж. Если выполните эти условия, тогда у нас, поверьте мне, появится возможность провести время намного приятнее и интереснее… Не пугайте меня, пожалуйста. Вы же сами прекрасно знаете, что этого не требуется. И повежливее — у меня врождённое отвращение к насилию, я его не переношу.
— Отдай пистолет, — неуверенно попросил Шварц.
— Пожалуйста, — сказала Наташа смиренно, — хотя и невежливо отбирать свои подарки.
Шварц взял из её рук пистолет, разрядил и тут же вернул обратно.
— Отвернитесь, — тоном, с которым обращаются к ребёнку, сказала Наташа, — потушите свет, я приведу себя в порядок.
— Идёмте в спальню.
— Нет, мне здесь больше нравится, — улыбаясь, ответила Наташа.
— Хорошо, но раздевайтесь при свете, — упрямо произнёс Ганс.
— Однако вы трусоваты, — спокойно сказала Наташа.
— Просто осторожен.
— Тогда прикажите своим солдатам отойти от дверей, они подслушивают.
— Что? — Шварц резко толкнул дверь, но за ней никого не оказалось.
Тем временем Наташа не торопясь расстегнула кофточку, сняла её и повесила на спинку стула.
Ганс стоял с пистолетом в руке и всё ещё недоверчиво смотрел на неё.
Она подняла глаза, озорные искорки вспыхнули в глубине.
— Вы не памятник Фридриху Великому, — с улыбкой, нежно проворковала Наташа, — поскорее приходите в себя и помогите расстегнуть пуговочки на платье, — она показала рукой себе на спину.
Ганс подошёл к ней, крепко обнял и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась, а трепетно всем телом прижалась к нему. Только теперь он поверил ей. Положив пистолет на край стола, он дрожащей рукой торопливо расстегнул пуговки на её платье и буквально впился долгим поцелуем в белую шею. Наташа встрепенулась, и Ганс услышал страстный шёпот:
— Потуши свет и раздевайся сам. — И начала снимать с себя платье.
Голос её был робок, и вся она была беззащитной и слабой, покорившейся его мужской воле. И эта слабость явилась той силой, которая окончательно заставила поверить ей.
Да и как он мог сомневаться. Женщина всегда остаётся женщиной. Одна ломается больше, другая меньше, а результат всегда один. Ганс не торопясь снял портупею, китель и шагнул к выключателю.
Свою ошибку он понял слишком поздно. Сзади раздался характерный щелчок предохранителя парабеллума. Всё ещё ничего не понимая, он быстро обернулся и увидел Наташу с пистолетом, направленным на него.
— Что за глупости! Брось пистолет, эти фокусы не для детей! — резко крикнул он.
— Ни с места! — тихо, полушёпотом, но так твёрдо произнесла Наташа, что Шварц замер. — Если ты, болван, сделаешь ещё хоть один шаг, я продырявлю твою глупую башку, как гнилую тыкву!
— Ты что, с ума сошла?
— Нет, я в своём уме, а вам придётся спуститься с небес на землю и проветрить свежим воздухом свою пустую голову.
Всю ненависть, накопленную за многие дни вынужденных унижений, вкладывала она в свои слова. Ганс слушал, глупо разинув рот от неожиданности и страха.
— Не надо так шутить, Наташа!
— Грязная фашистская свинья, — продолжала Наташа, — как ты мог подумать, что я влюбилась в тебя? Что есть в тебе человеческого? Надутый индюк! Бандит с большой дороги, пакостный и трусливый, как ощипанная ворона!
Шварц понял, что это уже не шутки. Стрелять она не посмеет — за дверью автоматчики. Необходимо как-то успокоить её, выиграть время, а потом… Надутого индюка и ощипанную ворону он ей не простит, какая бы раскрасавица она ни была!
— Что с вами? — вкрадчиво, нежно спросил он.
— Объясняюсь в любви, вы ведь ждали этого.
Шварц не мог отвести взгляда от дула пистолета.
— Наташа, вас обидела моя грубость. Это была неудачная солдатская шутка. Извините меня и давайте всё сделаем, как вы хотите. Желание женщины, да ещё такой, как вы, для меня закон! Конечно, я был неправ.
Он потянулся дрожащей рукой к графину, зазвенел стакан, громко булькнула вода.
Наташа плохо слушала лепет Ганса, и его красноречие пропало даром. Отступать ей было некуда: живой майор Шварц означал её смерть, но и мёртвый он почти не оставлял ей шансов на спасение: два автоматчика, два полицая — многовато! Но всё-таки мёртвый Шварц был лучше.
— Я люблю тебя, Наташа, — с дрожью в голосе сказал он.
— Я советский человек, мы — смертельные враги, — жёстко сказала Наташа, — и наши личные отношения не имеют никакого значения! Кроме того, в этих отношениях вы насквозь пропитаны ложью и гадостью.
Ганс растерялся. Он понял, что последние слова Наташи были его приговором. С трудом он оторвал взгляд от дула пистолета и посмотрел в лицо Наташи. Глаза её были бездонными, беспощадными. Что ты думал раньше, Ганс? Как пренебрежительно-невнимателен был по отношению к Наташе! И как глубоко прав Демель!
— Боже мой, — прошептал Шварц. — Наташа, милая моя! Обещаю тебе, мы поженимся.
Он ещё на что-то надеялся. Не верил, что перед ним была не его простодушная, преданная ему, готовая на всё ради него Наташа. Он умолял, просил, и ему казалось, что он говорит правду… Себя он, кажется, убедил, но её…
— Ничтожество!
— Я клянусь честью…
— Честь? — удивлённо спросила она.
— Я готов… — промолвил он, но, увидев что-то новое в её глазах, остановился. Пауза была короткой. В следующее мгновение майор Шварц, убедившись окончательно, что пощады от Наташи не будет, закричал громко и истерично:
— Ко мне, быстро!
Призыв его относился к солдатам. Он потонул в грохоте выстрела. Наташа выстрелила Гансу в лицо.
Бравый завоеватель, майор непобедимой германской армии, военный комендант города Лесное свалился на пол медленно и мягко.
Дверь в комнату из коридора быстро отворилась, и на пороге возник немецкий солдат с автоматом.
Не раздумывая, Наташа выстрелила в упор, и солдат по инерции упал грудью на стол. Зазвенели бьющиеся бутылки, рюмки, тарелки.
У Наташи пересохло во рту, мысли бежали быстрые и ясные: «Ещё солдат и полицаи, надежды на спасение практически нет!»
Что-то дрогнуло у неё внутри, и толчок этот сообщился рукам. Но это была не слабость. Наташа ещё крепче сжала рукоятку пистолета.
В наполненную пороховым дымом комнату ворвался второй солдат и, ничего не видя толком, не понимая, что происходит, послал слепую очередь вперёд…
Наташа почувствовала сильный толчок в предплечье правой руки. Превозмогая боль, она нажала на спусковой крючок парабеллума.
Солдат падал, не выпуская из рук автомата, и тот плевал пулями, пока не кончились патроны в магазине.
На стене покачивалась золочёная массивная рама, чудом удержавшись на одном гвозде.
Тупо-оловянная физиономия фюрера, до неузнаваемости изрешечённая автоматными пулями, строго взирала на царивший в комнате беспорядок.
 У толстой сосны стоят Тихон и Таня. Она тоже сильно изменилась того, как попала в отряд, — повзрослела, обрела уверенность… Вот и сейчас она вся наполнена жизнью, глаза счастливые. А рядом берёзки — молодые, стройные, скромные девушки молчаливо собрались стайкой в тесный кружок. Замёрзли бедняжки в лёгоньких беленьких платьицах.
А чуть поодаль тёмные ветки густого кустарника на фоне бело-голубого снежного покрова кажутся причудливой паутиной.
Но Тихон, как и все влюблённые, не способен наблюдать и анализировать. Он до краёв наполнен сомнениями, тревогами и смутной радостью.
Сегодня ночью, окончательно измученный, он твёрдо решил объясниться. Пусть будет, что будет, — или пан или пропал! А Таня всё давно поняла, ей радостно и страшно.
— Тиша, что ты надулся, как индюк? — спрашивает она, стараясь казаться равнодушной.
Тихон вздрогнул:
— Чего придумала!
Он хочет сказать те значительные, важные слова, но губы будто склеились, и Таня окончательно захватывает инициативу.
— Тиша, — просит она, — расскажи, как вы с Сашей вчера троих фрицев уложили.
Тихон замер. Напоминание о Саше пулей ударяет его в грудь. Славный паренёк Сашок, любит он и Тихона и Таню. Они с Таней друзья, учились в одном классе, вместе увлекаются музыкой, всё о чём-то шепчутся…
— Тиша, что ты сегодня какой-то…
— Ну, какой? — с болью спрашивает он.
— Не такой какой-то: всё молчишь. Ну, расскажи, пожалуйста, как вы их поймали. С другими говоришь — не остановишь, а со мной молчишь. Почему это?
Таня мягко издевается. Она видит и понимает его состояние. В ней проснулась женщина — не может она отказать себе в удовольствии продлить наслаждение, которое она испытывает от сознания своей силы над Тихоном. Он любит её, и это так приятно и хорошо, что вызывает в ней лёгкое волнение. И сейчас ей нужно что-то говорить, чтоб не выдать себя.
— Опять ты молчишь, — с укором произносит она.
— Да чего говорить, не поймали мы их. Просто шли с Сашком, а они едут на мотоцикле. Пьяные, орут в три глотки. В гостях, видно, бывали. Сашок врубил тому, что за рулём сидел. Мотоцикл — вверх тормашками, фашисты разлетелись по дороге и лежат, как глухари. Мы тоже лежим… минуту, другую… Они не шевелятся. «Пойдём», — позвал я Сашу, а в это время один закопошился и поднимается. Потом второй…
— А кто их?
— Сашок.
— А почему не ты? — прошептала Таня.
— Он молодой, пусть тренируется, — с обидой ответил Тихон.
Таня посмотрела на Тихона ласково, и он почувствовал, как тёплая волна счастья захватила его. Он крепко взял её руку, пожал и отпустил тут же. И вдруг в каком-то необъяснимом порыве горячо зашептал:
— Таня, Танечка! Снегурочка моя милая!
Но в её остановившихся глазах погас свет. Она удивлённо и испуганно посмотрела на Тихона, как-то сразу сникла и, озябшая, беззащитно нежная, умоляюще проговорила:
— Не нужно.
— Почему? — задохнувшись, спросил он и увидел, как помрачнело её лицо.
Она тревожно затихла, не ответила, отдёрнула руку и, повернувшись, медленно пошла от него по узенькой снежной тропинке.
— Таня! Танечка!
Тихон догнал её и неловко взял за плечи.
— Отстань!
Она повернула к нему строгое, напряжённое лицо, и столько горя, злобы увидел Тихон, что у него защемило в груди.
— Танечка, что с тобой?
— Что тебе нужно?
Перед Тихоном было чужое, незнакомое лицо.
— Почему ты так? — вымолвил он, и сам не узнал своего голоса. — Разве я обидел тебя? Я люблю! Я не могу жить без тебя, я дышу только тобой! Танечка! Родная моя!
Он говорил уже не думая, слова лились, как вода, пробившая, наконец, преграду. Он не выбирал их и не руководил собой.
— Ну, что ты смотришь? Не веришь? Люблю! Сам не знаю, что со мною стало. Люблю и всё! Исстрадался весь! Места себе не нахожу! Вот — видишь?
Таня увидела, почувствовала правду, и радость, живая и непобедимая, овладевала ею, взгляд опять потеплел. Она неуверенно и смущённо пожала ему руку, беспокойно-вопросительно подняла глаза, будто оценивая, можно ли в нём в тяжёлую минуту найти защиту.
Но вдруг опять по лицу пробежала мрачная тень.
— Не нужно, Тиша, не говори ничего!
— Почему?
— Нельзя!
— Но я люблю тебя! Люблю! Ангел ты мой ненаглядный!
— Не нужно, не хочу!
— Танечка!
— Не могу я!
Он смотрел в её по-детски наивное, доброе лицо и не замечал в нём той решительности, которая была в голосе. Он понял: что-то мучит её, какое-то горе или опасность, а он лезет со своими чувствами. Тихону стало стыдно, жаль и её, и себя… Он слышал частое дыхание Тани. И вдруг, не отдавая себе отчёта, обнял её и прижал к себе. Она сникла, не противясь, мягкая, бессильная и… равнодушная. Крупные слёзы бежали по щекам, падали на полушубок, но Тихон ничего не видел.
— Танечка, на всю жизнь! Ты поверь мне. Я так люблю тебя!
И замер. Ждёт.
Но она не ответила. Только плечи слегка вздрогнули.
Он ещё крепче прижал её к себе и в какой-то миг почувствовал, как она вся напряглась, устремилась к нему.
Всего один миг, который порой человеку не может заменить целая вечность. Улетучились сомнения — она любит! Но что-то тревожит её.
— Что с тобой, глазёнушка моя голубенькая? Скажи мне, что с тобой, ясноглазочка моя? Может, кто обидел?
Таня положила голову ему на плечо и смотрела влюблёнными глазами.
Тихон задохнулся от счастья, затих и долго, долго, будто изучая, не отводил взгляда от её лица.
Таня немного успокоилась и сказала, мучительно подбирая слова:
— Ты хороший. Ты даже сам не знаешь, какой ты хороший!
— Танечка!
— Подожди. Ты думаешь… Я знаю… Верю… Нет, не то! Я тоже люблю тебя! Как-то сразу полюбила, как ты… Но я не могу, не имею права!
— Почему? — простонал Тихон.
— Хорошо, я скажу тебе, но… этот разговор у нас будет последним.
— Да что с тобой? Какая-то ты…
— Какая?
— Не знаю я, не могу понять.
— Хорошо, — решительно сказала Таня, — сейчас будешь знать. Ты видел старшего лейтенанта Гердера, следователя гестапо?
— Знаком с ним…
— Ну вот. Недавно он пришёл к нам домой… Я была одна… Начал приставать…
Таня вопросительно посмотрела на Тихона Он молчал, но взгляд его выражал вопрос. И она слабым голосом продолжала:
— Он ударил меня по голове… Я потеряла сознание… Ничего не помнила…
— Ну! — Тихон даже привстал на носках.
— И всё, — тихо ответила Таня. — В эту же ночь я ушла в отряд. Вот…
Тихона объял гнев, он не мог промолвить ни слова. А она, взволнованная и решительная, с вызовом смотрела на него.
Он продолжал стоять, ни на что не реагируя.
Тогда Таня, пытаясь подавить горькую улыбку и сдерживая подступившие слёзы, медленно пошла к лагерю.
Тихон не заметил её ухода.
И только тогда, когда Таня ушла уже далеко, он бросился за ней. Тихон бежал быстро, как ветер, она была нужна ему сейчас же, немедленно, иначе могло разрушиться всё, разрушиться так, что уже никогда потом нельзя поправить.
И он догнал её. Задохнувшись от быстрого бега и волнения, выпалил:
— Это ничего не значит! Теперь я люблю тебя ещё больше! Ты мой ангел небесный! Родная моя, единственная, самая чистая и прекрасная!
Она смотрела испуганно, но радость светилась в её глазах.
— Танечка, — отвечая на её взгляд, тихо и почти спокойно сказал Тихон, — поверь, я убью его!
У толстой сосны стоят Тихон и Таня. Она тоже сильно изменилась того, как попала в отряд, — повзрослела, обрела уверенность… Вот и сейчас она вся наполнена жизнью, глаза счастливые. А рядом берёзки — молодые, стройные, скромные девушки молчаливо собрались стайкой в тесный кружок. Замёрзли бедняжки в лёгоньких беленьких платьицах.
А чуть поодаль тёмные ветки густого кустарника на фоне бело-голубого снежного покрова кажутся причудливой паутиной.
Но Тихон, как и все влюблённые, не способен наблюдать и анализировать. Он до краёв наполнен сомнениями, тревогами и смутной радостью.
Сегодня ночью, окончательно измученный, он твёрдо решил объясниться. Пусть будет, что будет, — или пан или пропал! А Таня всё давно поняла, ей радостно и страшно.
— Тиша, что ты надулся, как индюк? — спрашивает она, стараясь казаться равнодушной.
Тихон вздрогнул:
— Чего придумала!
Он хочет сказать те значительные, важные слова, но губы будто склеились, и Таня окончательно захватывает инициативу.
— Тиша, — просит она, — расскажи, как вы с Сашей вчера троих фрицев уложили.
Тихон замер. Напоминание о Саше пулей ударяет его в грудь. Славный паренёк Сашок, любит он и Тихона и Таню. Они с Таней друзья, учились в одном классе, вместе увлекаются музыкой, всё о чём-то шепчутся…
— Тиша, что ты сегодня какой-то…
— Ну, какой? — с болью спрашивает он.
— Не такой какой-то: всё молчишь. Ну, расскажи, пожалуйста, как вы их поймали. С другими говоришь — не остановишь, а со мной молчишь. Почему это?
Таня мягко издевается. Она видит и понимает его состояние. В ней проснулась женщина — не может она отказать себе в удовольствии продлить наслаждение, которое она испытывает от сознания своей силы над Тихоном. Он любит её, и это так приятно и хорошо, что вызывает в ней лёгкое волнение. И сейчас ей нужно что-то говорить, чтоб не выдать себя.
— Опять ты молчишь, — с укором произносит она.
— Да чего говорить, не поймали мы их. Просто шли с Сашком, а они едут на мотоцикле. Пьяные, орут в три глотки. В гостях, видно, бывали. Сашок врубил тому, что за рулём сидел. Мотоцикл — вверх тормашками, фашисты разлетелись по дороге и лежат, как глухари. Мы тоже лежим… минуту, другую… Они не шевелятся. «Пойдём», — позвал я Сашу, а в это время один закопошился и поднимается. Потом второй…
— А кто их?
— Сашок.
— А почему не ты? — прошептала Таня.
— Он молодой, пусть тренируется, — с обидой ответил Тихон.
Таня посмотрела на Тихона ласково, и он почувствовал, как тёплая волна счастья захватила его. Он крепко взял её руку, пожал и отпустил тут же. И вдруг в каком-то необъяснимом порыве горячо зашептал:
— Таня, Танечка! Снегурочка моя милая!
Но в её остановившихся глазах погас свет. Она удивлённо и испуганно посмотрела на Тихона, как-то сразу сникла и, озябшая, беззащитно нежная, умоляюще проговорила:
— Не нужно.
— Почему? — задохнувшись, спросил он и увидел, как помрачнело её лицо.
Она тревожно затихла, не ответила, отдёрнула руку и, повернувшись, медленно пошла от него по узенькой снежной тропинке.
— Таня! Танечка!
Тихон догнал её и неловко взял за плечи.
— Отстань!
Она повернула к нему строгое, напряжённое лицо, и столько горя, злобы увидел Тихон, что у него защемило в груди.
— Танечка, что с тобой?
— Что тебе нужно?
Перед Тихоном было чужое, незнакомое лицо.
— Почему ты так? — вымолвил он, и сам не узнал своего голоса. — Разве я обидел тебя? Я люблю! Я не могу жить без тебя, я дышу только тобой! Танечка! Родная моя!
Он говорил уже не думая, слова лились, как вода, пробившая, наконец, преграду. Он не выбирал их и не руководил собой.
— Ну, что ты смотришь? Не веришь? Люблю! Сам не знаю, что со мною стало. Люблю и всё! Исстрадался весь! Места себе не нахожу! Вот — видишь?
Таня увидела, почувствовала правду, и радость, живая и непобедимая, овладевала ею, взгляд опять потеплел. Она неуверенно и смущённо пожала ему руку, беспокойно-вопросительно подняла глаза, будто оценивая, можно ли в нём в тяжёлую минуту найти защиту.
Но вдруг опять по лицу пробежала мрачная тень.
— Не нужно, Тиша, не говори ничего!
— Почему?
— Нельзя!
— Но я люблю тебя! Люблю! Ангел ты мой ненаглядный!
— Не нужно, не хочу!
— Танечка!
— Не могу я!
Он смотрел в её по-детски наивное, доброе лицо и не замечал в нём той решительности, которая была в голосе. Он понял: что-то мучит её, какое-то горе или опасность, а он лезет со своими чувствами. Тихону стало стыдно, жаль и её, и себя… Он слышал частое дыхание Тани. И вдруг, не отдавая себе отчёта, обнял её и прижал к себе. Она сникла, не противясь, мягкая, бессильная и… равнодушная. Крупные слёзы бежали по щекам, падали на полушубок, но Тихон ничего не видел.
— Танечка, на всю жизнь! Ты поверь мне. Я так люблю тебя!
И замер. Ждёт.
Но она не ответила. Только плечи слегка вздрогнули.
Он ещё крепче прижал её к себе и в какой-то миг почувствовал, как она вся напряглась, устремилась к нему.
Всего один миг, который порой человеку не может заменить целая вечность. Улетучились сомнения — она любит! Но что-то тревожит её.
— Что с тобой, глазёнушка моя голубенькая? Скажи мне, что с тобой, ясноглазочка моя? Может, кто обидел?
Таня положила голову ему на плечо и смотрела влюблёнными глазами.
Тихон задохнулся от счастья, затих и долго, долго, будто изучая, не отводил взгляда от её лица.
Таня немного успокоилась и сказала, мучительно подбирая слова:
— Ты хороший. Ты даже сам не знаешь, какой ты хороший!
— Танечка!
— Подожди. Ты думаешь… Я знаю… Верю… Нет, не то! Я тоже люблю тебя! Как-то сразу полюбила, как ты… Но я не могу, не имею права!
— Почему? — простонал Тихон.
— Хорошо, я скажу тебе, но… этот разговор у нас будет последним.
— Да что с тобой? Какая-то ты…
— Какая?
— Не знаю я, не могу понять.
— Хорошо, — решительно сказала Таня, — сейчас будешь знать. Ты видел старшего лейтенанта Гердера, следователя гестапо?
— Знаком с ним…
— Ну вот. Недавно он пришёл к нам домой… Я была одна… Начал приставать…
Таня вопросительно посмотрела на Тихона Он молчал, но взгляд его выражал вопрос. И она слабым голосом продолжала:
— Он ударил меня по голове… Я потеряла сознание… Ничего не помнила…
— Ну! — Тихон даже привстал на носках.
— И всё, — тихо ответила Таня. — В эту же ночь я ушла в отряд. Вот…
Тихона объял гнев, он не мог промолвить ни слова. А она, взволнованная и решительная, с вызовом смотрела на него.
Он продолжал стоять, ни на что не реагируя.
Тогда Таня, пытаясь подавить горькую улыбку и сдерживая подступившие слёзы, медленно пошла к лагерю.
Тихон не заметил её ухода.
И только тогда, когда Таня ушла уже далеко, он бросился за ней. Тихон бежал быстро, как ветер, она была нужна ему сейчас же, немедленно, иначе могло разрушиться всё, разрушиться так, что уже никогда потом нельзя поправить.
И он догнал её. Задохнувшись от быстрого бега и волнения, выпалил:
— Это ничего не значит! Теперь я люблю тебя ещё больше! Ты мой ангел небесный! Родная моя, единственная, самая чистая и прекрасная!
Она смотрела испуганно, но радость светилась в её глазах.
— Танечка, — отвечая на её взгляд, тихо и почти спокойно сказал Тихон, — поверь, я убью его!
 Гердер стоял в нижнем белье, растеряв надменность и лоск, жалкий беспомощный, и тупо, по-бычьи смотрел на неожиданных гостей. Наконец до него дошёл смысл этой сцены. Он мелко задрожал, смазливое лицо его исказилось гримасой ужаса, большие, круглые глаза увлажнились, стали жалкими и пустыми. Он что-то заговорил, сбивчиво и торопливо.
— Как боров, — злобно сказал Тихон.
Гердер не расслышал, что сказал этот русский страшный парень, но по интонации понял, что пощады ему не будет. Он заговорил ещё быстрее, прося и убеждая, но никто его не понимал.
— От такого монолога, пожалуй, рехнуться можно, — опять промолвил Тихон и решительно шагнул к Гердеру…
Провожая партизан, уже на крыльце Кирилл Тимофеевич неожиданно сказал:
— Спасибо вам, ребята. Так их, гадов! Собаке — собачья смерть! Не всё им над нами измываться! Есть и у нас орлы! Мои тоже где-то воюют. А может быть, и головы сложили. А я уже не могу, старый совсем стал. А хочется вместе со всеми. Не сломить им русского человека! Не сломить! Душа горит! Душа, она молодая, а сил нет. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Руки и ноги служить не хотят. Ивану — командиру вашему — привет от меня передайте. Так и скажите: привет от Кирилла Тимофеевича. Он знает.
— А как вы теперь выкрутитесь? — спросил Виктор, махнув рукой в сторону дома.
— Эге-ге, мне не страшно. Уйду к сестре — вон, через сад живёт. Я там часто ночую. В гестапо об этом знают. А утром, пораньше, побегу сообщу… и вся недолга! Что они мне сделают?
— Нет, так нельзя, — сказал Виктор, — не поверят они вам. Лучше минут через пятнадцать — двадцать идите в гестапо и расскажите правду. Так будет лучше. И не стесняйтесь, расписывайте нас, как есть.
— Тревогу поднимут, облаву устроят, — нерешительно проговорил Кирилл Тимофеевич.
— Это не страшно. Отсюда до леса — рукой подать, пусть ищут ветра в поле, а мы в это время будем уже далеко.
— Стойте, ребята. Тогда вы мне на память какой ни есть синячок поставьте. Для отвода глаз.
— Не требуется, — рассудительно проговорил Тихон. — Нереально будет. У вас такой возраст и состояние здоровья, что в драку ввязываться ни к чему.
— И то верно, — согласился Кирилл Тимофеевич. — До встречи, ребята!
…Часовой у гестапо задержал перепуганного, трясущегося старика. С трудом сдерживая кашель, притопывая старыми, подшитыми валенками, он густо сыпал непонятные русские слова. Однако и в этой чужой для него речи солдат ясно расслышал имя старшего лейтенанта Гердера, несколько раз произнесённое странным стариком. Часовой вызвал начальника караула.
Через пять минут в гарнизоне была объявлена боевая тревога.
Гердер стоял в нижнем белье, растеряв надменность и лоск, жалкий беспомощный, и тупо, по-бычьи смотрел на неожиданных гостей. Наконец до него дошёл смысл этой сцены. Он мелко задрожал, смазливое лицо его исказилось гримасой ужаса, большие, круглые глаза увлажнились, стали жалкими и пустыми. Он что-то заговорил, сбивчиво и торопливо.
— Как боров, — злобно сказал Тихон.
Гердер не расслышал, что сказал этот русский страшный парень, но по интонации понял, что пощады ему не будет. Он заговорил ещё быстрее, прося и убеждая, но никто его не понимал.
— От такого монолога, пожалуй, рехнуться можно, — опять промолвил Тихон и решительно шагнул к Гердеру…
Провожая партизан, уже на крыльце Кирилл Тимофеевич неожиданно сказал:
— Спасибо вам, ребята. Так их, гадов! Собаке — собачья смерть! Не всё им над нами измываться! Есть и у нас орлы! Мои тоже где-то воюют. А может быть, и головы сложили. А я уже не могу, старый совсем стал. А хочется вместе со всеми. Не сломить им русского человека! Не сломить! Душа горит! Душа, она молодая, а сил нет. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Руки и ноги служить не хотят. Ивану — командиру вашему — привет от меня передайте. Так и скажите: привет от Кирилла Тимофеевича. Он знает.
— А как вы теперь выкрутитесь? — спросил Виктор, махнув рукой в сторону дома.
— Эге-ге, мне не страшно. Уйду к сестре — вон, через сад живёт. Я там часто ночую. В гестапо об этом знают. А утром, пораньше, побегу сообщу… и вся недолга! Что они мне сделают?
— Нет, так нельзя, — сказал Виктор, — не поверят они вам. Лучше минут через пятнадцать — двадцать идите в гестапо и расскажите правду. Так будет лучше. И не стесняйтесь, расписывайте нас, как есть.
— Тревогу поднимут, облаву устроят, — нерешительно проговорил Кирилл Тимофеевич.
— Это не страшно. Отсюда до леса — рукой подать, пусть ищут ветра в поле, а мы в это время будем уже далеко.
— Стойте, ребята. Тогда вы мне на память какой ни есть синячок поставьте. Для отвода глаз.
— Не требуется, — рассудительно проговорил Тихон. — Нереально будет. У вас такой возраст и состояние здоровья, что в драку ввязываться ни к чему.
— И то верно, — согласился Кирилл Тимофеевич. — До встречи, ребята!
…Часовой у гестапо задержал перепуганного, трясущегося старика. С трудом сдерживая кашель, притопывая старыми, подшитыми валенками, он густо сыпал непонятные русские слова. Однако и в этой чужой для него речи солдат ясно расслышал имя старшего лейтенанта Гердера, несколько раз произнесённое странным стариком. Часовой вызвал начальника караула.
Через пять минут в гарнизоне была объявлена боевая тревога.
 Михаил Петрович долго целился и, как учил его Николай, плавно нажал спусковой крючок.
Фельдфебель, взмахнув руками, рухнул с крыльца в сугроб.
Раздался второй выстрел, и упал один из солдат.
— Назад! — громко крикнул офицер и резко прыгнул за угол дома.
По окну ударили длинные автоматные очереди — звук выстрелов смешался со звоном бьющегося стекла.
Михаила Петровича словно толкнули, будто тяжёлым булыжником ударило в грудь. Потемнело в глазах. Ослабели ноги. В сердце что-то загорелось, обжигая всё вокруг… Но было совсем не больно и не страшно.
— Гранаты, — подумал он вслух, — обязательно гранаты! — И удерживаясь одной рукой за подоконник, другой потянулся к наволочке…
— Эй, русс, выходи!
И опять тихо.
— Русская свинья! Быстро! — громко крикнул офицер из-за угла. — Сопротивление бесполезно!
Немного выждав, офицер снова выкрикнул «выходи», но ему опять никто не ответил.
— Всё, готов, — тихо сказал офицер и уже на всякий случай прокричал ещё раз, резко и громко: — Выходи, русская свинья! — И, не дождавшись ответа, смело вышел из-за укрытия.
— Вперёд!
Трупы солдата и фельдфебеля отнесли в сторону. Дверь была крепкая, и, для того чтобы её выбить, притащили из сарая длинное берёзовое бревно. За него ухватились сразу шестеро. После нескольких сильных ударов дверь начала сдавать. Ещё один, два раза — и гестаповцы ворвутся в дом…
И в это время из разбитого окна вылетели одна за другой две ручные гранаты… Взрывы разметали фашистов, сорвали с петель дверь…
Вход в дом был свободен, но желающих войти в него сразу не оказалось. Солдаты были убиты наповал, а офицер, раненный в живот целым роем осколков, в горячке сделал отчаянное усилие отползти от крыльца, высоко поднял голову и тут же замертво уткнулся лицом в снег.
Опять стало тихо.
Но вот на улице раздался рёв автомобильного мотора. У дома бургомистра остановилась тяжёлая машина, и через её борта скатились два десятка солдат. Из кабины появился сам майор Демель. Он отворил калитку, заглянул в глубь двора и раздражённо крикнул:
— Чёрт бы вас побрал! Что здесь происходит, с кем вы ведёте этот бой? Рихтер!
К нему приблизился солдат и быстро, испуганным голосом доложил:
— Старший лейтенант убит!
— Фельдфебеля ко мне!
— Тоже убит!
— Болваны! Что их там — целая рота?
— Никак нет! Один или двое!
Демель послал солдат цепью. Они шли с автоматами наизготовку… всё ближе и ближе к тёмным проёмам двери и окна.
Дом молчал.
Послышалась команда — сотни пуль полетели вперёд, как маленькие обезумевшие пчёлы…
Солдаты вошли в дом. Кто-то повернул выключатель — стало светло. Майор Демель прошёл в комнату и увидел у окна убитого, лежащего вниз лицом. Кисть правой руки крепко сжимала рукоятку гранаты. Пистолет и ещё несколько гранат валялись на полу.
— Очень жаль, — негромко сказал Демель, — наш разговор мог бы получиться весьма занимательным.
Неторопливо закурив сигарету, он приказал повернуть убитого на спину. На Демеля уставились мёртвые, остекленелые глаза бургомистра.
— Что это? — в ужасе закричал Демель. — Где капитан Крылов? Обыскать дом! Он должен быть здесь!
В голове гестаповца не укладывалось, что тихий, запуганный человек, каким он знал бургомистра, способен был выдержать целый бой, пойти на смерть.
Михаил Петрович долго целился и, как учил его Николай, плавно нажал спусковой крючок.
Фельдфебель, взмахнув руками, рухнул с крыльца в сугроб.
Раздался второй выстрел, и упал один из солдат.
— Назад! — громко крикнул офицер и резко прыгнул за угол дома.
По окну ударили длинные автоматные очереди — звук выстрелов смешался со звоном бьющегося стекла.
Михаила Петровича словно толкнули, будто тяжёлым булыжником ударило в грудь. Потемнело в глазах. Ослабели ноги. В сердце что-то загорелось, обжигая всё вокруг… Но было совсем не больно и не страшно.
— Гранаты, — подумал он вслух, — обязательно гранаты! — И удерживаясь одной рукой за подоконник, другой потянулся к наволочке…
— Эй, русс, выходи!
И опять тихо.
— Русская свинья! Быстро! — громко крикнул офицер из-за угла. — Сопротивление бесполезно!
Немного выждав, офицер снова выкрикнул «выходи», но ему опять никто не ответил.
— Всё, готов, — тихо сказал офицер и уже на всякий случай прокричал ещё раз, резко и громко: — Выходи, русская свинья! — И, не дождавшись ответа, смело вышел из-за укрытия.
— Вперёд!
Трупы солдата и фельдфебеля отнесли в сторону. Дверь была крепкая, и, для того чтобы её выбить, притащили из сарая длинное берёзовое бревно. За него ухватились сразу шестеро. После нескольких сильных ударов дверь начала сдавать. Ещё один, два раза — и гестаповцы ворвутся в дом…
И в это время из разбитого окна вылетели одна за другой две ручные гранаты… Взрывы разметали фашистов, сорвали с петель дверь…
Вход в дом был свободен, но желающих войти в него сразу не оказалось. Солдаты были убиты наповал, а офицер, раненный в живот целым роем осколков, в горячке сделал отчаянное усилие отползти от крыльца, высоко поднял голову и тут же замертво уткнулся лицом в снег.
Опять стало тихо.
Но вот на улице раздался рёв автомобильного мотора. У дома бургомистра остановилась тяжёлая машина, и через её борта скатились два десятка солдат. Из кабины появился сам майор Демель. Он отворил калитку, заглянул в глубь двора и раздражённо крикнул:
— Чёрт бы вас побрал! Что здесь происходит, с кем вы ведёте этот бой? Рихтер!
К нему приблизился солдат и быстро, испуганным голосом доложил:
— Старший лейтенант убит!
— Фельдфебеля ко мне!
— Тоже убит!
— Болваны! Что их там — целая рота?
— Никак нет! Один или двое!
Демель послал солдат цепью. Они шли с автоматами наизготовку… всё ближе и ближе к тёмным проёмам двери и окна.
Дом молчал.
Послышалась команда — сотни пуль полетели вперёд, как маленькие обезумевшие пчёлы…
Солдаты вошли в дом. Кто-то повернул выключатель — стало светло. Майор Демель прошёл в комнату и увидел у окна убитого, лежащего вниз лицом. Кисть правой руки крепко сжимала рукоятку гранаты. Пистолет и ещё несколько гранат валялись на полу.
— Очень жаль, — негромко сказал Демель, — наш разговор мог бы получиться весьма занимательным.
Неторопливо закурив сигарету, он приказал повернуть убитого на спину. На Демеля уставились мёртвые, остекленелые глаза бургомистра.
— Что это? — в ужасе закричал Демель. — Где капитан Крылов? Обыскать дом! Он должен быть здесь!
В голове гестаповца не укладывалось, что тихий, запуганный человек, каким он знал бургомистра, способен был выдержать целый бой, пойти на смерть.
 Не ожидавшая нападения, обескровленная в первые же минуты рота заметалась, бросилась назад и нарвалась на засаду. Фашисты в панике разбегались по дворам, садам, забирались в сараи… но их везде находила смерть. Казалось, всё население городка взялось за оружие.
Очень скоро рота полностью была уничтожена.
Фашисты зловеще притихли. Только потеряв в бою целую роту, командир карательного батальона понял, что перед ним не «случайный сброд», а хорошо организованная боевая единица. На «ура» её не возьмёшь. Это крайне усложняло обстановку: имея конкретную задачу уничтожить партизанский отряд, каратели вынуждены были ввязаться в бой с подпольщиками, бывшими полицейскими и ещё какими-то непонятными, неизвестно откуда появившимися боевыми группами в городе. Командир батальона приказал привести в боевую готовность все силы и средства и немедленно готовиться к наступлению.
Николай, воодушевлённый первым успехом, хотел немедленно поднять бойцов в наступление, однако Иван Фёдорович вежливо, но твёрдо сказал:
— Нет! Этого делать нельзя! Наш успех — результат грубого просчёта противника. Он недооценил нас. Теперь мы можем повторить его ошибку.
Наступила пауза.
Наташа с большим интересом наблюдала за мужем. Но вот Николай спокойно спросил:
— Что же делать?
— Я предлагаю, — осторожно начал Иван Фёдорович, — основным силам, не медля ни минуты и оставив по пути небольшие группы прикрытия, выйти в район старых казарм. Там и займём оборону.
— Оставить город?
— Да.
Николай вскочил, широко зашагал по кабинету и недоуменно пожал плечами:
— Зачем же тогда мы затеяли всё это?
— Но только не за тем, чтобы вести длительный бой с регулярными фашистскими войсками в центре города.
— Вы же сами сказали…
— Да, я согласен и теперь. Разве я отказываюсь от боя? Нет! Я только предлагаю перенести его в место, удобное для нас. Кроме того, нельзя забывать о жителях. Зачем лишние жертвы?
После большой паузы Николай повернулся к Антонову и решительно отдал приказание:
— Немедленно во все подразделения направить посыльных. С позиций незаметно сняться! Садами, огородами отойти к казармам. Не мешкать! Без шума и сутолоки! Мы уходим через пятнадцать минут!
Антонов быстро вышел.
Иван Фёдорович крепко пожал руку Николаю.
Не ожидавшая нападения, обескровленная в первые же минуты рота заметалась, бросилась назад и нарвалась на засаду. Фашисты в панике разбегались по дворам, садам, забирались в сараи… но их везде находила смерть. Казалось, всё население городка взялось за оружие.
Очень скоро рота полностью была уничтожена.
Фашисты зловеще притихли. Только потеряв в бою целую роту, командир карательного батальона понял, что перед ним не «случайный сброд», а хорошо организованная боевая единица. На «ура» её не возьмёшь. Это крайне усложняло обстановку: имея конкретную задачу уничтожить партизанский отряд, каратели вынуждены были ввязаться в бой с подпольщиками, бывшими полицейскими и ещё какими-то непонятными, неизвестно откуда появившимися боевыми группами в городе. Командир батальона приказал привести в боевую готовность все силы и средства и немедленно готовиться к наступлению.
Николай, воодушевлённый первым успехом, хотел немедленно поднять бойцов в наступление, однако Иван Фёдорович вежливо, но твёрдо сказал:
— Нет! Этого делать нельзя! Наш успех — результат грубого просчёта противника. Он недооценил нас. Теперь мы можем повторить его ошибку.
Наступила пауза.
Наташа с большим интересом наблюдала за мужем. Но вот Николай спокойно спросил:
— Что же делать?
— Я предлагаю, — осторожно начал Иван Фёдорович, — основным силам, не медля ни минуты и оставив по пути небольшие группы прикрытия, выйти в район старых казарм. Там и займём оборону.
— Оставить город?
— Да.
Николай вскочил, широко зашагал по кабинету и недоуменно пожал плечами:
— Зачем же тогда мы затеяли всё это?
— Но только не за тем, чтобы вести длительный бой с регулярными фашистскими войсками в центре города.
— Вы же сами сказали…
— Да, я согласен и теперь. Разве я отказываюсь от боя? Нет! Я только предлагаю перенести его в место, удобное для нас. Кроме того, нельзя забывать о жителях. Зачем лишние жертвы?
После большой паузы Николай повернулся к Антонову и решительно отдал приказание:
— Немедленно во все подразделения направить посыльных. С позиций незаметно сняться! Садами, огородами отойти к казармам. Не мешкать! Без шума и сутолоки! Мы уходим через пятнадцать минут!
Антонов быстро вышел.
Иван Фёдорович крепко пожал руку Николаю.






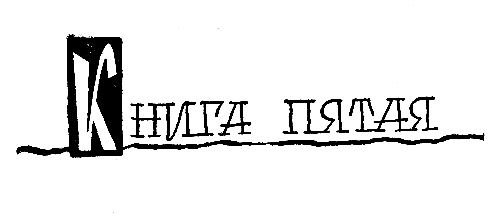





































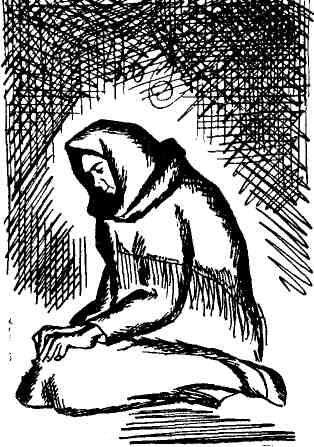







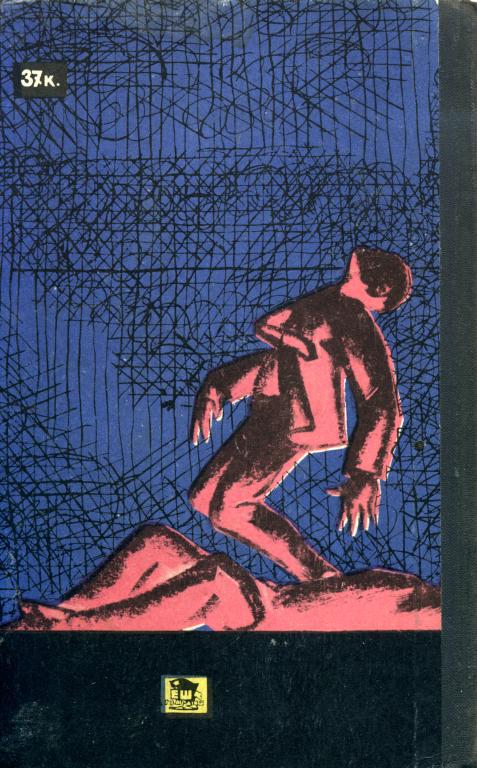
 Ф. Т. Фомин
Ф. Т. Фомин
 Ф. Т. Фомин в годы гражданской воины
Ф. Т. Фомин в годы гражданской воины
 Грамота Почетного чекиста, подписанная Ф. Э. Дзержинским
Грамота Почетного чекиста, подписанная Ф. Э. Дзержинским
 Аркадий Борисович Кушнарев
Аркадий Борисович Кушнарев
 Ефим Георгиевич Евдокимов
Ефим Георгиевич Евдокимов
 Давид Моисеевич Давыдов
Давид Моисеевич Давыдов
 Ян Борисович Гамарник
Ян Борисович Гамарник
 Герой-пограничник Андрей Коробицын
Герой-пограничник Андрей Коробицын
 Вячеслав Рудольфович Менжинский
Вячеслав Рудольфович Менжинский
 Ф. Э. Дзержинский с женой Софьей Сигизмундовной на даче под Москвой (1923 г.)
Ф. Э. Дзержинский с женой Софьей Сигизмундовной на даче под Москвой (1923 г.)




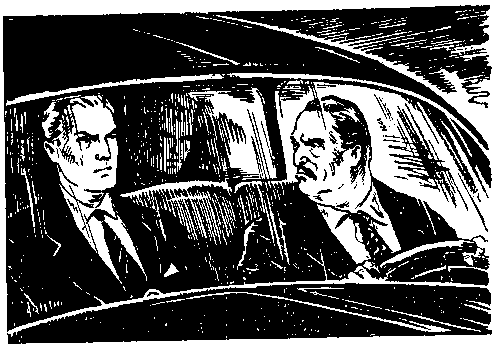




 Фрицис грязно выругался. Альфред расхохотался.
- Молодец, братишка! Я так и думал. Знаешь что, а нельзя ли у тебя в сарае поспать? Только дай мне чем-нибудь накрыться. В моей куртке будет свежо.
Желание брата показалось Фрицису странным. Но он не стал пускаться в расспросы.
- На сеновале много соломы, - сказал Фрицис. - Там подушка, одеяло. Летом сам опал, да все еще не приберу в дом. Ну ступай, раз тебе так нравится. Смотри только не прогадай- ночи теперь холодные. - Он пожелал гостю спокойной ночи и вернулся в дом.
До рассвета Лагздиньша мучили сомнения, а утром он, захватив молока, яблок и хлеба, поспешил на сеновал. Альфред уже проснулся, лежал и курил в кулак. Фрицис присел рядом.
- Ну, как спалось? - спросил он.
- Ничего, спасибо.
- Знаешь что, Альфред, - осторожно начал Лагздиньш,- как-то непохоже, что ты по-доброму освободился из тюрьмы. Чего бы ты тогда стал ночевать в сарае? Скажи-ка мне правду. Неужели не доверяешь?
- Я вернулся из-за границы,- глядя в упор на брата, сказал Альфред.
- Ну, это другое дело. Я так и думал. А чего тебе не жилось на западе? Или скучал без коммунистов? Зачем явился сюда?
- Затем, чтобы тебе и таким, как ты, вернуть землю и все добро, которое отняли коммунисты.
Фрицис подумал и сказал:
- А не много ли ты на себя берешь, Альфред? Власть здесь у нас крепкая.
- Нам помогут большие люди из Соединенных Штатов. Американцы хотят освободить Латвию от коммунистов.
- Американцы!-протянул Лагздиньш.- А вернут ли они нам землю? Или они сами захватят ее, а нас обложат налогами? Не слышал, какой они собираются установить налог?
- Да в налоге ли дело? Ведь ты же настоящий латыш! - вспылил Альфред и тут же осекся: - Словом, обо всем этом я сам слышал краем уха. За что купил, за то и продаю. А тебе надо идти в дом, а то жена хватится. Приходи, как стемнеет. Поговорим…
Вечером Лагздиньш продолжал допытываться у брата:
- Скажи, что все-таки обещают американцы? Будет ли при них лучше? Ведь не задаром же они нам будут помогать. Благодетелей нет. Чего же они хотят?
- Американцы хотят, чтобы Латвии была свободной, - отвечал Альфред. - Они нам помогут. Перед самой войной сюда забросят много людей. Они взорвут мосты, парализуют транспорт, освободят заключенных, начнут уничтожать коммунистов. А нам здесь надо создать свою тайную организацию, которая бы провела кое-какую подготовительную работу. А когда начнется война…
- А если она не начнется? -перебил осторожный Фрицис. - Что тогда? Тогда всю организацию переловят и посадят. И тут уж никакие американцы не спасут.
- Война будет! - безапелляционно заявил Альфред. - Об этом говорят большие люди в Америке. Нам дадут деньги. Много денег. - Альфред расстегнул пояс. - Ну, сколько тебе надо: тысячу, две, .пять? Говори!
Альфред вытащил толстую пачку сторублевок. У Фрициса захватило дух. Альфред потряс пачкой и снова спрятал ее в карман.
- Конечно, даром давать деньги никто не будет. Нужно работать. Так кого же в вашей округе можно будет .привлечь в такую организацию?
Лагздиньш припомнил, что километрах в пятидесяти от хутора Дреймани живет бывший легионер, который на войне потерял глаз.
- Живет он неважно, - пояснил Фрицис,- поэтому к советской власти настроен враждебно.
- Ты можешь съездить за ним? - оживился Альфред. - Я хочу его видеть.
Лагздиньш замялся. Такое поручение пугало его.
Фрицис грязно выругался. Альфред расхохотался.
- Молодец, братишка! Я так и думал. Знаешь что, а нельзя ли у тебя в сарае поспать? Только дай мне чем-нибудь накрыться. В моей куртке будет свежо.
Желание брата показалось Фрицису странным. Но он не стал пускаться в расспросы.
- На сеновале много соломы, - сказал Фрицис. - Там подушка, одеяло. Летом сам опал, да все еще не приберу в дом. Ну ступай, раз тебе так нравится. Смотри только не прогадай- ночи теперь холодные. - Он пожелал гостю спокойной ночи и вернулся в дом.
До рассвета Лагздиньша мучили сомнения, а утром он, захватив молока, яблок и хлеба, поспешил на сеновал. Альфред уже проснулся, лежал и курил в кулак. Фрицис присел рядом.
- Ну, как спалось? - спросил он.
- Ничего, спасибо.
- Знаешь что, Альфред, - осторожно начал Лагздиньш,- как-то непохоже, что ты по-доброму освободился из тюрьмы. Чего бы ты тогда стал ночевать в сарае? Скажи-ка мне правду. Неужели не доверяешь?
- Я вернулся из-за границы,- глядя в упор на брата, сказал Альфред.
- Ну, это другое дело. Я так и думал. А чего тебе не жилось на западе? Или скучал без коммунистов? Зачем явился сюда?
- Затем, чтобы тебе и таким, как ты, вернуть землю и все добро, которое отняли коммунисты.
Фрицис подумал и сказал:
- А не много ли ты на себя берешь, Альфред? Власть здесь у нас крепкая.
- Нам помогут большие люди из Соединенных Штатов. Американцы хотят освободить Латвию от коммунистов.
- Американцы!-протянул Лагздиньш.- А вернут ли они нам землю? Или они сами захватят ее, а нас обложат налогами? Не слышал, какой они собираются установить налог?
- Да в налоге ли дело? Ведь ты же настоящий латыш! - вспылил Альфред и тут же осекся: - Словом, обо всем этом я сам слышал краем уха. За что купил, за то и продаю. А тебе надо идти в дом, а то жена хватится. Приходи, как стемнеет. Поговорим…
Вечером Лагздиньш продолжал допытываться у брата:
- Скажи, что все-таки обещают американцы? Будет ли при них лучше? Ведь не задаром же они нам будут помогать. Благодетелей нет. Чего же они хотят?
- Американцы хотят, чтобы Латвии была свободной, - отвечал Альфред. - Они нам помогут. Перед самой войной сюда забросят много людей. Они взорвут мосты, парализуют транспорт, освободят заключенных, начнут уничтожать коммунистов. А нам здесь надо создать свою тайную организацию, которая бы провела кое-какую подготовительную работу. А когда начнется война…
- А если она не начнется? -перебил осторожный Фрицис. - Что тогда? Тогда всю организацию переловят и посадят. И тут уж никакие американцы не спасут.
- Война будет! - безапелляционно заявил Альфред. - Об этом говорят большие люди в Америке. Нам дадут деньги. Много денег. - Альфред расстегнул пояс. - Ну, сколько тебе надо: тысячу, две, .пять? Говори!
Альфред вытащил толстую пачку сторублевок. У Фрициса захватило дух. Альфред потряс пачкой и снова спрятал ее в карман.
- Конечно, даром давать деньги никто не будет. Нужно работать. Так кого же в вашей округе можно будет .привлечь в такую организацию?
Лагздиньш припомнил, что километрах в пятидесяти от хутора Дреймани живет бывший легионер, который на войне потерял глаз.
- Живет он неважно, - пояснил Фрицис,- поэтому к советской власти настроен враждебно.
- Ты можешь съездить за ним? - оживился Альфред. - Я хочу его видеть.
Лагздиньш замялся. Такое поручение пугало его.
 - У меня болят ноги,- соврал он. - Я приведу его как-нибудь в другой раз. Давай немного подождем. Как бы не вызвать подозрений,
- Ну ладно, может быть, ты и прав, - недовольно согласился брат. Альфред понимал, что в его положении глупо . Приказывать. - Да, у меня есть просьба к тебе: сходи, пожалуйста, в магазин. Купи пальто и кепку. Мне надо переодеться.
Лагздиньш взял деньги и ушел. Вскоре он принес все, о чем его просил брат, но был очень взволнован. В магазине Фрицис встретил милиционера. Участковый, видя, что он выбирает пальто значительно большего размера, чем на себя, удивился и поинтересовался, кому это он покупает обнову.
- Как бы не было плохо, - беспокоился Лагздиньш.
Они распили пол-литра «водки. Но на душе у бывшего кулака не стало веселее.
- Уходи, - посоветовал он Альфреду. - Дождись ночи и уходи. Далеко ли до беды?
- Мне нужно отсидеться несколько дней. Потом уйду, - хмуро проговорил Альфред.- А милиционера ты не бойся - это простое любопытство. Ведь не будет он следить за каждым, кто покупает пальто себе не впору. Ты же не украл, а купил.
Но эти доводы не успокоили Лагздиньша. Да, он ненавидел коммунистов. Они отобрали у него землю, скот. Фрицис готов был -помогать любой власти, которая уничтожит советский строй. Но где она, эта власть? Альфред, который прячется у него на сеновале? Нет, нечего ему соваться в пекло. Если бы началась война, тогда другое дело, Можно было бы на что-нибудь рассчитывать. Но сейчас…
- Знаешь что, уходи, - повторил Фрицис.- Чем черт не шутит! И тебя не спасу, и сам попадусь. У меня жена, дети.
- Вот и борись, чтоб им жилось лучше! Что же ты, за чужой спиной хочешь отсидеться? Готовенькое на блюдечке не поднесут, - без особенного воодушевления сказал Альфред.
- Ну, хоть перейди в сарай с рожью. Там надежнее скрываться, - посоветовал Фрицис.- Еду тебе будет носить Айна. А если что, то ты меня не видел, и я тебя не встречал. Мало ли кто может забраться в мой сарай без спроса… Как стемнеет, так и переходи.
- Ладно, - нехотя согласился Альфред.- Только -подумай, как связаться с твоим одноглазым легионером.
Но Фрицису было уже не до легионера. Его била нервная дрожь - он с трудом спустился с сеновала. Конечно, Альфреда ищут. Иначе зачем же ему прятаться и переодеваться? А если .ищут, то догадаются, для кого он, Фрицис, покупал пальто и кепку…
С наступлением темноты Альфред перебрался в сарай и зарылся в ржаных снопах. Ночью сквозь полудрему он услышал шаги. Альфред осторожно приподнял сноп и различил в темноте женскую фигуру. Женщина поставила на землю тарелку, завернутую в тряпицу, и удалилась. Альфред достал тарелку. Тут были яйца, сало, хлеб. Он поужинал, спрятал посуду в снопы и уснул.
- У меня болят ноги,- соврал он. - Я приведу его как-нибудь в другой раз. Давай немного подождем. Как бы не вызвать подозрений,
- Ну ладно, может быть, ты и прав, - недовольно согласился брат. Альфред понимал, что в его положении глупо . Приказывать. - Да, у меня есть просьба к тебе: сходи, пожалуйста, в магазин. Купи пальто и кепку. Мне надо переодеться.
Лагздиньш взял деньги и ушел. Вскоре он принес все, о чем его просил брат, но был очень взволнован. В магазине Фрицис встретил милиционера. Участковый, видя, что он выбирает пальто значительно большего размера, чем на себя, удивился и поинтересовался, кому это он покупает обнову.
- Как бы не было плохо, - беспокоился Лагздиньш.
Они распили пол-литра «водки. Но на душе у бывшего кулака не стало веселее.
- Уходи, - посоветовал он Альфреду. - Дождись ночи и уходи. Далеко ли до беды?
- Мне нужно отсидеться несколько дней. Потом уйду, - хмуро проговорил Альфред.- А милиционера ты не бойся - это простое любопытство. Ведь не будет он следить за каждым, кто покупает пальто себе не впору. Ты же не украл, а купил.
Но эти доводы не успокоили Лагздиньша. Да, он ненавидел коммунистов. Они отобрали у него землю, скот. Фрицис готов был -помогать любой власти, которая уничтожит советский строй. Но где она, эта власть? Альфред, который прячется у него на сеновале? Нет, нечего ему соваться в пекло. Если бы началась война, тогда другое дело, Можно было бы на что-нибудь рассчитывать. Но сейчас…
- Знаешь что, уходи, - повторил Фрицис.- Чем черт не шутит! И тебя не спасу, и сам попадусь. У меня жена, дети.
- Вот и борись, чтоб им жилось лучше! Что же ты, за чужой спиной хочешь отсидеться? Готовенькое на блюдечке не поднесут, - без особенного воодушевления сказал Альфред.
- Ну, хоть перейди в сарай с рожью. Там надежнее скрываться, - посоветовал Фрицис.- Еду тебе будет носить Айна. А если что, то ты меня не видел, и я тебя не встречал. Мало ли кто может забраться в мой сарай без спроса… Как стемнеет, так и переходи.
- Ладно, - нехотя согласился Альфред.- Только -подумай, как связаться с твоим одноглазым легионером.
Но Фрицису было уже не до легионера. Его била нервная дрожь - он с трудом спустился с сеновала. Конечно, Альфреда ищут. Иначе зачем же ему прятаться и переодеваться? А если .ищут, то догадаются, для кого он, Фрицис, покупал пальто и кепку…
С наступлением темноты Альфред перебрался в сарай и зарылся в ржаных снопах. Ночью сквозь полудрему он услышал шаги. Альфред осторожно приподнял сноп и различил в темноте женскую фигуру. Женщина поставила на землю тарелку, завернутую в тряпицу, и удалилась. Альфред достал тарелку. Тут были яйца, сало, хлеб. Он поужинал, спрятал посуду в снопы и уснул.
 …Через неделю Алкснис проводил оперативное совещание.
- Письмо, которое мы нашли у Риекстиньша, действительно содержало тайнописный текст, - сообщил подполковник. - Вот он:
…Через неделю Алкснис проводил оперативное совещание.
- Письмо, которое мы нашли у Риекстиньша, действительно содержало тайнописный текст, - сообщил подполковник. - Вот он:









 На следующее утро они опять были на аэродроме. И опять их возили самолеты по разным городам, названия которых Зариньш не знал. Кулл менял самолеты, стараясь соблюсти как можно больше конспирации. Вечером они ехали на поезде, потом мчались на машине. А дальше Зариньш должен был уже следовать один…
На следующее утро они опять были на аэродроме. И опять их возили самолеты по разным городам, названия которых Зариньш не знал. Кулл менял самолеты, стараясь соблюсти как можно больше конспирации. Вечером они ехали на поезде, потом мчались на машине. А дальше Зариньш должен был уже следовать один…






 Бромберг полез в карман за спичками, чтобы прикурить погасшую сигарету, и вместо коробки вытащил пластмассовую трубочку, на которой была наклеена крошечная бумажка с надписью: «Пейзон». Много лет он поучал других, что, когда уже нет никакого выхода, надо положить таблетку этого препарата в рот и лишь слегка сжать ее зубами. Смерть наступает мгновенно и совершенно безболезненно.
«Анди» усмехнулся. Это средство может пригодиться кому угодно, только не ему. Он-то всегда найдет выход. Сколько раз он сам показывал своим ученикам в разведшколах, как нужно разводить костры, чтобы не было видно ни дыма, ни отблесков огня, как мастерить ходули и идти на них, чтобы не оставить следов на пашне или на снегу, как обмануть пограничников и сбить с толку служебных собак. Бромберг размахнулся и кинул яд в болотистую лужицу. Нет, яд ему абсолютно не нужен. Скоро он вернется к этому старому окопу, выкопает передатчик и пошлет в разведцентр всего две буквы: «ОМ». Это будет означать, что он удачно перешел границу и находится в полной безопасности.
Собственно, ничего иного и не могут ждать от него там, за океаном. Иначе не возлагали бы на него таких больших надежд в разведывательном центре. И потом у него были деньги, много денег - четыреста пятьдесят тысяч рублей и еще польская, шведская, финская валюта…
Кончалась короткая летняя ночь. Верхушки сосен порозовели.
Бромберг вскипятил кружку воды, побрился. Старый офицер, он любил во всем дисциплину и порядок. Теперь он почувствовал себя еще бодрее.
«Анди» шагал по пролескам до тех пор, пока не услышал далекий гудок паровоза. То была станция Кемери. В кустах Бромберг зарыл топографическую карту, компас, бинокль. Теперь, когда он точно вышел к станции, все это было не нужно. При нем не осталось ни одной американской вещи. В руках «Анди» нес книгу «Подпольный обком действует», изданную в Риге на латышском языке, из кармана торчал номер газеты «Циня», а во рту дымилась сигарета «Дукат».
Уже совсем рассвело, когда Бромберг добрался до станции. В зале ожидания и под легким стеклянным навесом перрона было много людей. Из здешнего грязевого санатория уезжала большая группа отдыхающих. Они шутили, смеялись. Кого-то провожали с большим букетом цветов, кому-то жали руки, желали счастливого пути.
Бромберг купил билет до Риги, вышел на перрон, отыскал свободное место на скамейке. Только сейчас он понял, как устал за эти бессонные, тревожные ночи. Он откинул голову на спинку скамейки. Веки его становились все тяжелее и тяжелее…
- Гражданин, вы что, спите?
Бромберг очнулся от полудремы и понял, что вопрос обращен к нему. Он не открывал глаз, стремясь выгадать несколько мгновений. Неужели это все? Неужели сейчас схватят? Он пожалел, что был так самоуверен там, в лесу.
- Гражданин, проснитесь!
Кто-то тронул его за плечо. Бромберг приоткрыл глаза и увидел, что перед ним стоит молоденький железнодорожник.
- Вы так и поезд проспите, - улыбнулся паренек, показывая на пути, куда была уже подана электричка.
У Бромберга отлегло от сердца.
- Да, да, спасибо! - поблагодарил он молодого человека и побежал к поезду.
Поднимаясь на подножку, он оглянулся, помахал рукой любезному железнодорожнику и прошел в вагон.
Электропоезд шел по Рижскому взморью. Справа блестела, искрясь на солнце, голубая лента реки, слева тянулись деревянные дачи. Они то скрывались по самые остроконечные крыши в зеленых пролесках и садах, то выскакивали опять к дороге.
Бромберг мог бы поклясться, что никто в американской разведке не знает так хорошо Латвию, как он. Даже полковник Кулл, который при случае любит прихвастнуть, что является знатоком Советской Прибалтики. Да, в Вашингтоне Бромбергу казалось, что он прекрасно знает Латвию. Но сейчас… Он оглядел пассажиров вагона, потом перевел взгляд на свои неуклюжие ботинки, дешевые штаны и потрепанный белый плащ. Не надо быть знатоком Латвии, чтобы увидеть, что на фоне окружающих он, Бромберг, выглядит чуть ли не оборванцем. А ведь ему казалось, что средний рижанин должен носить примерно такой костюм, как у него.
«Еще примут за бродягу», - подумал «Анди».
За переплетениями железнодорожных путей и приземистыми складскими строениями показалось двухэтажное красное здание. Это была станция Засулаукс. Бромберг спрыгнул с подножки и пошел по перрону. Здесь уже начиналась Рига. Бромберг обогнул здание вокзала и вышел к трамвайному кругу-конечной остановке маршрута № 2. Он вскочил в маленький синий трамвайчик и остался стоять в открытом тамбуре.
Легкий предутренний туман еще засиделся в зеленых верхушках парковых деревьев. По улицам, разбрызгивая водяные струи, медленно двигались моечные машины; открывались двери продовольственных магазинов; торопливой рабочей походкой по тротуарам шли люди. Город начинал свой трудовой день.
Бромберг сошел в центре. Он бродил по проспекту Райниса, по улицам Ленина, Суворова, Кр. Барона, заходил в магазины, толкался у газетных витрин, останавливался у корпусов новых домов, приглядывался к прохожим. Другому, может быть, мало что рассказала бы такая короткая прогулка. Но от наметанного взгляда Бромберга не ускользнула ни одна деталь. И все это в десять раз убедительнее, чем шпионские донесения, которые он читал еще там, в разведцентре, рассказало ему, как изменилась жизнь в Риге. Бромберг понял, что работать будет намного сложнее, чем он ожидал.
- Тем хуже для них! - еле слышно прошептал Бромберг.
Слепая злоба вспыхнула в груди и сжала сердце. Ему ненавистны были эти люди. И железнодорожник, что испугал его до смерти на платформе Кемери, и веселые студенты, сидевшие за соседним столиком в кафе «Даугава», и задумчивая пара влюбленных, что стояла на мосту через канал, - все, кто радуется той жизни, которую он ненавидит.
Что же, Бромберг покажет, на что он способен! Пусть сгорает от зависти этот Кулл: теперь-то ему не удастся стать соавтором его трудов.
«Анди» спохватился и подумал, что слишком долго стоит у подъезда новой гостиницы «Рига». В ней ему все равно не жить.
Он снова отправился бродить по городу.
Начали сгущаться сумерки. Пора подумать и о ночлеге. У Бромберга было немало старых знакомых. С одними он работал в полиции, с другими служил в фашистской армии. Он знал их тайны и мог поймать в такие крепкие сети, откуда им не вырваться. Бромберг сумел бы заставить их делать все, что захочет: он верил в силу своей мертвой хватки. Однако надо было повременить с визитами, навести дополнительные справки о своих знакомых.
В универмаге «Анди» купил приличные полуботинки и пиджак. Потом он зашел в аптеку за бинтами и, дождавшись темноты, сел в трамвай, идущий в Шмерли.
Бикерниекский лес, куда приехал Бромберг, был хорошо ему знаком. В этом лесу, за корпусами туберкулезного санатория, по приказу гитлеровского коменданта он расстреливал коммунистов, пленных красноармейцев и евреев. Да, те времена, когда он мог рассчитаться сполна с ненавистными ему людьми, прошли. Но они вернутся. Ради этого он и сидит сегодня здесь, все в том же Бикерниекском лесу…
Бромберг одел новый пиджак, а старый закопал в канаве. Ушибленная нога, натруженная за день, ныла еще больше. Он снова принялся массировать посиневшую стопу, а потом крепко стянул ее бинтом. Боль несколько утихла. Бромберг расстелил плащ-палатку. Задремал.
…Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Определенного плана на день у него не было. Нужно, пожалуй, еще поболтаться по городу, приглядеться к ритму его жизни, кое-что узнать о старых знакомых.
«Анди» отправился на Красноармейскую улицу. Здесь в двухэтажном деревянном доме жил его старый друг, бывший офицер буржуазной армии, с которым после установления Советской власти он работал в прачечной на улице Вентспилс. Товарищу пришлось тогда еще тяжелее, чем ему. Бывший офицер стал ночным сторожем. Конечно, старый товарищ мог бы приютить Бромберга.
Бромберг подошел к знакомому подъезду, взглянул на список жильцов. Но фамилия друга в нем не значилась. «Анди» не стал расспрашивать соседей - это было опасно: мало ли что с ним могло случиться.
За завтраком в дешевом кафе Бромберг вспомнил о хорошенькой хозяйке магазина, которая пятнадцать лет назад была безумно влюблена в лейтенанта войск СС. Он немного погулял и отправился на десятом трамвае до конечной остановки: Бромберг хорошо помнил тот маленький бакалейный магазин.
Но его опять постигла неудача. Он сошел с трамвая - и не узнал знакомых мест. Здесь когда-то кончался город, теперь же вокруг высились корпуса новых многоэтажных домов. А магазинчик тот, наверно, снесли. Он обошел другие магазины. В них работали десятки продавщиц, но среди них не было той, которую он искал.
И снова «Анди» принялся бродить по улицам.
- Бромберг, ты ли это?-услышал он вдруг радостный возглас за спиной.
Бромберг оглянулся. Его догонял толстый мужчина, в котором он признал своего школьного товарища и сокурсника по университету. Толстяк схватил его за руку и увлек в буфет:
- Пойдем, пойдем, надо выпить за встречу.
Они взяли по бутылке пива. Собеседник наполнил стаканы и начал рассказывать о себе:
- Работаю инженером. Строю новую ТЭЦ. Сейчас бьемся над тем, чтобы удешевить стоимость строительства. Что ты скажешь, если нам удастся сэкономить эдак миллиончика полтора, а? - инженер засмеялся и толкнул Бромберга в бок.
- Здорово, - без всякого воодушевления сказал тот.
- Да, время идет! - продолжал словоохотливый инженер. - Дети уже подросли. Дочка в консерватории учится, по радио дважды выступала. А сын десятилетку окончил, слесарем на ВЭФе работает. Что ж, детьми доволен. Дочь комсомолка, а парень мой вот уже скоро год - кандидат партии.
«И чему он только радуется?» - недоуменно подумал «Анди». Нет, с этим человеком ему абсолютно не о чем говорить. Бромберг подозвал официантку и расплатился.
- Торопишься? - разочарованно спросил инженер. - Ну давай посидим еще с полчасика. Потолкуем.
- Я, действительно, очень тороплюсь, - ответил Бромберг. - Мне сегодня нужно уладить еще кое-какие дела в горсовете.
- Так ты что, на советской работе?
- Да, почти, - усмехнулся «Анди» и попрощался.
Бромберг долго еще думал об этой случайной встрече. Как меняются люди! Ведь этот инженер получил образование еще в старое время. Он ходил в костел, читал фашистские книги и газеты. Чем же его привлекли на свою сторону коммунисты? А, может быть, он и сам теперь коммунист? Что же произошло на этой земле, откуда он бежал тринадцать лет назад фашистским лейтенантом, а вернулся американским шпионом?
Суть этих изменений Бромберг понять не мог.
Бромберг полез в карман за спичками, чтобы прикурить погасшую сигарету, и вместо коробки вытащил пластмассовую трубочку, на которой была наклеена крошечная бумажка с надписью: «Пейзон». Много лет он поучал других, что, когда уже нет никакого выхода, надо положить таблетку этого препарата в рот и лишь слегка сжать ее зубами. Смерть наступает мгновенно и совершенно безболезненно.
«Анди» усмехнулся. Это средство может пригодиться кому угодно, только не ему. Он-то всегда найдет выход. Сколько раз он сам показывал своим ученикам в разведшколах, как нужно разводить костры, чтобы не было видно ни дыма, ни отблесков огня, как мастерить ходули и идти на них, чтобы не оставить следов на пашне или на снегу, как обмануть пограничников и сбить с толку служебных собак. Бромберг размахнулся и кинул яд в болотистую лужицу. Нет, яд ему абсолютно не нужен. Скоро он вернется к этому старому окопу, выкопает передатчик и пошлет в разведцентр всего две буквы: «ОМ». Это будет означать, что он удачно перешел границу и находится в полной безопасности.
Собственно, ничего иного и не могут ждать от него там, за океаном. Иначе не возлагали бы на него таких больших надежд в разведывательном центре. И потом у него были деньги, много денег - четыреста пятьдесят тысяч рублей и еще польская, шведская, финская валюта…
Кончалась короткая летняя ночь. Верхушки сосен порозовели.
Бромберг вскипятил кружку воды, побрился. Старый офицер, он любил во всем дисциплину и порядок. Теперь он почувствовал себя еще бодрее.
«Анди» шагал по пролескам до тех пор, пока не услышал далекий гудок паровоза. То была станция Кемери. В кустах Бромберг зарыл топографическую карту, компас, бинокль. Теперь, когда он точно вышел к станции, все это было не нужно. При нем не осталось ни одной американской вещи. В руках «Анди» нес книгу «Подпольный обком действует», изданную в Риге на латышском языке, из кармана торчал номер газеты «Циня», а во рту дымилась сигарета «Дукат».
Уже совсем рассвело, когда Бромберг добрался до станции. В зале ожидания и под легким стеклянным навесом перрона было много людей. Из здешнего грязевого санатория уезжала большая группа отдыхающих. Они шутили, смеялись. Кого-то провожали с большим букетом цветов, кому-то жали руки, желали счастливого пути.
Бромберг купил билет до Риги, вышел на перрон, отыскал свободное место на скамейке. Только сейчас он понял, как устал за эти бессонные, тревожные ночи. Он откинул голову на спинку скамейки. Веки его становились все тяжелее и тяжелее…
- Гражданин, вы что, спите?
Бромберг очнулся от полудремы и понял, что вопрос обращен к нему. Он не открывал глаз, стремясь выгадать несколько мгновений. Неужели это все? Неужели сейчас схватят? Он пожалел, что был так самоуверен там, в лесу.
- Гражданин, проснитесь!
Кто-то тронул его за плечо. Бромберг приоткрыл глаза и увидел, что перед ним стоит молоденький железнодорожник.
- Вы так и поезд проспите, - улыбнулся паренек, показывая на пути, куда была уже подана электричка.
У Бромберга отлегло от сердца.
- Да, да, спасибо! - поблагодарил он молодого человека и побежал к поезду.
Поднимаясь на подножку, он оглянулся, помахал рукой любезному железнодорожнику и прошел в вагон.
Электропоезд шел по Рижскому взморью. Справа блестела, искрясь на солнце, голубая лента реки, слева тянулись деревянные дачи. Они то скрывались по самые остроконечные крыши в зеленых пролесках и садах, то выскакивали опять к дороге.
Бромберг мог бы поклясться, что никто в американской разведке не знает так хорошо Латвию, как он. Даже полковник Кулл, который при случае любит прихвастнуть, что является знатоком Советской Прибалтики. Да, в Вашингтоне Бромбергу казалось, что он прекрасно знает Латвию. Но сейчас… Он оглядел пассажиров вагона, потом перевел взгляд на свои неуклюжие ботинки, дешевые штаны и потрепанный белый плащ. Не надо быть знатоком Латвии, чтобы увидеть, что на фоне окружающих он, Бромберг, выглядит чуть ли не оборванцем. А ведь ему казалось, что средний рижанин должен носить примерно такой костюм, как у него.
«Еще примут за бродягу», - подумал «Анди».
За переплетениями железнодорожных путей и приземистыми складскими строениями показалось двухэтажное красное здание. Это была станция Засулаукс. Бромберг спрыгнул с подножки и пошел по перрону. Здесь уже начиналась Рига. Бромберг обогнул здание вокзала и вышел к трамвайному кругу-конечной остановке маршрута № 2. Он вскочил в маленький синий трамвайчик и остался стоять в открытом тамбуре.
Легкий предутренний туман еще засиделся в зеленых верхушках парковых деревьев. По улицам, разбрызгивая водяные струи, медленно двигались моечные машины; открывались двери продовольственных магазинов; торопливой рабочей походкой по тротуарам шли люди. Город начинал свой трудовой день.
Бромберг сошел в центре. Он бродил по проспекту Райниса, по улицам Ленина, Суворова, Кр. Барона, заходил в магазины, толкался у газетных витрин, останавливался у корпусов новых домов, приглядывался к прохожим. Другому, может быть, мало что рассказала бы такая короткая прогулка. Но от наметанного взгляда Бромберга не ускользнула ни одна деталь. И все это в десять раз убедительнее, чем шпионские донесения, которые он читал еще там, в разведцентре, рассказало ему, как изменилась жизнь в Риге. Бромберг понял, что работать будет намного сложнее, чем он ожидал.
- Тем хуже для них! - еле слышно прошептал Бромберг.
Слепая злоба вспыхнула в груди и сжала сердце. Ему ненавистны были эти люди. И железнодорожник, что испугал его до смерти на платформе Кемери, и веселые студенты, сидевшие за соседним столиком в кафе «Даугава», и задумчивая пара влюбленных, что стояла на мосту через канал, - все, кто радуется той жизни, которую он ненавидит.
Что же, Бромберг покажет, на что он способен! Пусть сгорает от зависти этот Кулл: теперь-то ему не удастся стать соавтором его трудов.
«Анди» спохватился и подумал, что слишком долго стоит у подъезда новой гостиницы «Рига». В ней ему все равно не жить.
Он снова отправился бродить по городу.
Начали сгущаться сумерки. Пора подумать и о ночлеге. У Бромберга было немало старых знакомых. С одними он работал в полиции, с другими служил в фашистской армии. Он знал их тайны и мог поймать в такие крепкие сети, откуда им не вырваться. Бромберг сумел бы заставить их делать все, что захочет: он верил в силу своей мертвой хватки. Однако надо было повременить с визитами, навести дополнительные справки о своих знакомых.
В универмаге «Анди» купил приличные полуботинки и пиджак. Потом он зашел в аптеку за бинтами и, дождавшись темноты, сел в трамвай, идущий в Шмерли.
Бикерниекский лес, куда приехал Бромберг, был хорошо ему знаком. В этом лесу, за корпусами туберкулезного санатория, по приказу гитлеровского коменданта он расстреливал коммунистов, пленных красноармейцев и евреев. Да, те времена, когда он мог рассчитаться сполна с ненавистными ему людьми, прошли. Но они вернутся. Ради этого он и сидит сегодня здесь, все в том же Бикерниекском лесу…
Бромберг одел новый пиджак, а старый закопал в канаве. Ушибленная нога, натруженная за день, ныла еще больше. Он снова принялся массировать посиневшую стопу, а потом крепко стянул ее бинтом. Боль несколько утихла. Бромберг расстелил плащ-палатку. Задремал.
…Когда он проснулся, солнце стояло уже высоко. Определенного плана на день у него не было. Нужно, пожалуй, еще поболтаться по городу, приглядеться к ритму его жизни, кое-что узнать о старых знакомых.
«Анди» отправился на Красноармейскую улицу. Здесь в двухэтажном деревянном доме жил его старый друг, бывший офицер буржуазной армии, с которым после установления Советской власти он работал в прачечной на улице Вентспилс. Товарищу пришлось тогда еще тяжелее, чем ему. Бывший офицер стал ночным сторожем. Конечно, старый товарищ мог бы приютить Бромберга.
Бромберг подошел к знакомому подъезду, взглянул на список жильцов. Но фамилия друга в нем не значилась. «Анди» не стал расспрашивать соседей - это было опасно: мало ли что с ним могло случиться.
За завтраком в дешевом кафе Бромберг вспомнил о хорошенькой хозяйке магазина, которая пятнадцать лет назад была безумно влюблена в лейтенанта войск СС. Он немного погулял и отправился на десятом трамвае до конечной остановки: Бромберг хорошо помнил тот маленький бакалейный магазин.
Но его опять постигла неудача. Он сошел с трамвая - и не узнал знакомых мест. Здесь когда-то кончался город, теперь же вокруг высились корпуса новых многоэтажных домов. А магазинчик тот, наверно, снесли. Он обошел другие магазины. В них работали десятки продавщиц, но среди них не было той, которую он искал.
И снова «Анди» принялся бродить по улицам.
- Бромберг, ты ли это?-услышал он вдруг радостный возглас за спиной.
Бромберг оглянулся. Его догонял толстый мужчина, в котором он признал своего школьного товарища и сокурсника по университету. Толстяк схватил его за руку и увлек в буфет:
- Пойдем, пойдем, надо выпить за встречу.
Они взяли по бутылке пива. Собеседник наполнил стаканы и начал рассказывать о себе:
- Работаю инженером. Строю новую ТЭЦ. Сейчас бьемся над тем, чтобы удешевить стоимость строительства. Что ты скажешь, если нам удастся сэкономить эдак миллиончика полтора, а? - инженер засмеялся и толкнул Бромберга в бок.
- Здорово, - без всякого воодушевления сказал тот.
- Да, время идет! - продолжал словоохотливый инженер. - Дети уже подросли. Дочка в консерватории учится, по радио дважды выступала. А сын десятилетку окончил, слесарем на ВЭФе работает. Что ж, детьми доволен. Дочь комсомолка, а парень мой вот уже скоро год - кандидат партии.
«И чему он только радуется?» - недоуменно подумал «Анди». Нет, с этим человеком ему абсолютно не о чем говорить. Бромберг подозвал официантку и расплатился.
- Торопишься? - разочарованно спросил инженер. - Ну давай посидим еще с полчасика. Потолкуем.
- Я, действительно, очень тороплюсь, - ответил Бромберг. - Мне сегодня нужно уладить еще кое-какие дела в горсовете.
- Так ты что, на советской работе?
- Да, почти, - усмехнулся «Анди» и попрощался.
Бромберг долго еще думал об этой случайной встрече. Как меняются люди! Ведь этот инженер получил образование еще в старое время. Он ходил в костел, читал фашистские книги и газеты. Чем же его привлекли на свою сторону коммунисты? А, может быть, он и сам теперь коммунист? Что же произошло на этой земле, откуда он бежал тринадцать лет назад фашистским лейтенантом, а вернулся американским шпионом?
Суть этих изменений Бромберг понять не мог.


 Они встретились через три дня на лесной дороге в Шмерли. Здесь разведцентр дублировал явку на случай, если свидание на Лесном кладбище не состоится.
- Я был тогда на кладбище,-сказал «Герберт».- Только не решился подойти, кругом был народ: опасался засады.
«Анди» протянул руку:
- Что ж, ты поступил разумно. Ну рассказывай, как живешь.
«Герберт» принялся изливать своему шефу все, что накопилось на душе. Он говорил и про тревожные ночи, и про страх, преследовавший его повсюду, и про страшную нужду, в которой жил эти годы.
Но «Анди» не стал его слушать.
- Такая у нас работа. Ведь мы ехали не в Ниццу. Поговорим о деле. - «Анди» полез в карман и вытащил черный пакет. - Вот десять тысяч. Возьми их себе. Но это не награда. Пока ты работал плохо. Это аванс в счет будущей работы.
Все надежды «Герберта» рухнули. У него потемнело в глазах, задрожали колени.
- Как, еще оставаться? Ты не привез мне документов?
- Уйдем вместе. Через год-полтора, не раньше. Нельзя же возвращаться с пустыми руками. Даром тебя на Западе кормить никто не будет. Я же тебе сказал: тобой в разведцентре не особенно довольны.
«Герберт» понял, что возражать бесполезно.
- Хорошо, я слушаю твои указания, «Анди».
- Ну вот, это другой разговор, - улыбнулся Бромберг. - Но мы его продолжим в следующий раз. О времени нашей встречи ты прочтешь через четыре дня на афише Русского драматического театра. А завтра пришли мне своего Фредиса.
«Анди» назвал место явки и пароль.
Они простились и разошлись.
«Герберт» на минутку забежал к Фредису- сообщить, что его хочет видеть человек «оттуда»…
…По дороге домой «Герберт» купил бутылку водки и, войдя в свою комнату, запер дверь на ключ. Он снял плащ, кинул пачку денег, полученную от «Анди» на стол. Сколько раз он просил, умолял разведцентр, чтобы ему прислали деньги! И вот они у него. Но зачем ему деньги, если все начинается снова. Все - и бессонные ночи, и страх, и томительное ожидание катастрофы! Что же ему еще ждать от жизни?
«Герберт» залпом выпил стакан водки. Потом достал листок бумаги, ручку и сел писать записку Мильде. Размашисто вывел имя сестры, поставил восклицательный знак и задумался. Потом смял бумажку, бросил ее под стол и достал новый лист. Он написал несколько слов, зачеркнул, что-то написал снова и снова порвал написанное. Да и зачем писать? Разве это можно объяснить словами? Что делать, если нет никаких надежд, если жизнь становится страшнее смерти…
«Герберт» встал, спотыкаясь прошелся по комнате. Затем нагнулся, оторвал брус паркета. Достал ампулу, положил ее в рот и сжал зубами. Он покачнулся, потом тяжело повалился на стол, разметав сторублевые бумажки. Смерть наступила мгновенно, не успев наложить маску ужаса на его лицо.
Теперь «Герберту» было легко и спокойно.
Они встретились через три дня на лесной дороге в Шмерли. Здесь разведцентр дублировал явку на случай, если свидание на Лесном кладбище не состоится.
- Я был тогда на кладбище,-сказал «Герберт».- Только не решился подойти, кругом был народ: опасался засады.
«Анди» протянул руку:
- Что ж, ты поступил разумно. Ну рассказывай, как живешь.
«Герберт» принялся изливать своему шефу все, что накопилось на душе. Он говорил и про тревожные ночи, и про страх, преследовавший его повсюду, и про страшную нужду, в которой жил эти годы.
Но «Анди» не стал его слушать.
- Такая у нас работа. Ведь мы ехали не в Ниццу. Поговорим о деле. - «Анди» полез в карман и вытащил черный пакет. - Вот десять тысяч. Возьми их себе. Но это не награда. Пока ты работал плохо. Это аванс в счет будущей работы.
Все надежды «Герберта» рухнули. У него потемнело в глазах, задрожали колени.
- Как, еще оставаться? Ты не привез мне документов?
- Уйдем вместе. Через год-полтора, не раньше. Нельзя же возвращаться с пустыми руками. Даром тебя на Западе кормить никто не будет. Я же тебе сказал: тобой в разведцентре не особенно довольны.
«Герберт» понял, что возражать бесполезно.
- Хорошо, я слушаю твои указания, «Анди».
- Ну вот, это другой разговор, - улыбнулся Бромберг. - Но мы его продолжим в следующий раз. О времени нашей встречи ты прочтешь через четыре дня на афише Русского драматического театра. А завтра пришли мне своего Фредиса.
«Анди» назвал место явки и пароль.
Они простились и разошлись.
«Герберт» на минутку забежал к Фредису- сообщить, что его хочет видеть человек «оттуда»…
…По дороге домой «Герберт» купил бутылку водки и, войдя в свою комнату, запер дверь на ключ. Он снял плащ, кинул пачку денег, полученную от «Анди» на стол. Сколько раз он просил, умолял разведцентр, чтобы ему прислали деньги! И вот они у него. Но зачем ему деньги, если все начинается снова. Все - и бессонные ночи, и страх, и томительное ожидание катастрофы! Что же ему еще ждать от жизни?
«Герберт» залпом выпил стакан водки. Потом достал листок бумаги, ручку и сел писать записку Мильде. Размашисто вывел имя сестры, поставил восклицательный знак и задумался. Потом смял бумажку, бросил ее под стол и достал новый лист. Он написал несколько слов, зачеркнул, что-то написал снова и снова порвал написанное. Да и зачем писать? Разве это можно объяснить словами? Что делать, если нет никаких надежд, если жизнь становится страшнее смерти…
«Герберт» встал, спотыкаясь прошелся по комнате. Затем нагнулся, оторвал брус паркета. Достал ампулу, положил ее в рот и сжал зубами. Он покачнулся, потом тяжело повалился на стол, разметав сторублевые бумажки. Смерть наступила мгновенно, не успев наложить маску ужаса на его лицо.
Теперь «Герберту» было легко и спокойно.
 …В назначенный час Фредис стоял под Большими часами. Как и было условлено, в одной руке он держал шарф, в другой игрушечного медвежонка. Фредис внимательно глядел по сторонам, но так и не заметил, как подле него очутился высокий, грузный мужчина.
- Простите, - обратился он к Фредису,- где здесь парикмахерская?
Фредис, чтобы не забыть положенный ответ, много раз повторял его про себя.
- За углом, - торопливо проговорил он, - но в ней неважно бреют.
- Здравствуйте, Фредис. Я тот, кого вы ждете, - сказал «Анди» и молча, знаком предложил следовать за ним.
Шли они долго, пока не оказались в пустынном переулке.
- Вот здесь можно и поговорить. Вы курите? - «Анди» протянул Фредису пачку сигарет.
Они закурили. «Анди» присматривался к Фредису. У юноши было открытое, мужественное лицо; крепкие мускулы проступали сквозь легкую рубашку. «Анди» подумал, что у молодого человека, стоящего перед ним, вероятно, сильная воля и хорошие нервы.
Бромберг был достаточно опытен, чтоб не предвидеть и еще один вариант. Тот ли это человек, о котором говорил «Герберт», не подослан ли он чекистами? Что ж, если и подослан, то тем хуже для них. И на этот случай у него был продуман план действий…
- Вы что, Фредис, хорошо знаете Петериса Яновича Приедитиса? - спросил «Анди».
- Да, это мой друг, - ответил Фредис.- Когда я лишился работы, Петерис Янович поддержал меня. Кроме него, в Риге у меня нет ни родных, ни друзей.
- А сейчас вы работаете? - осведомился Бромберг.
- Работу по душе я найти пока еще не смог, - уныло заметил Фредис.
- Это плохо. Вам нужно поскорее устраиваться на службу. - «Анди» взглянул на часы.- Ну хорошо, Фредис, я пойду. О месте и времени следующей встречи я вам дам знать дополнительно.
- Ну зачем же нам так скоро расставаться? - простодушно сказал Фредис.-Мы еще не обо всем поговорили. Не так ли, господин Бромберг?
«Анди» сначала показалось, что он ослышался. Откуда этот человек мог знать его настоящую фамилию? Ведь и «Герберту» она была неизвестна. И вдруг «Анди» понял, что произошло что-то страшное. Он сделал шаг назад.
- Ни с места! - приказал Фредис. - Сопротивление бессмысленно. - В руках у Фредиса сверкнула сталь пистолета.
«Анди» увидел, что рядом с ними останавливаются две «победы».
- Спокойнее, господин Бромберг, - произнес Фредис, - машины поданы. Нашу беседу мы продолжим в другом месте.
…В назначенный час Фредис стоял под Большими часами. Как и было условлено, в одной руке он держал шарф, в другой игрушечного медвежонка. Фредис внимательно глядел по сторонам, но так и не заметил, как подле него очутился высокий, грузный мужчина.
- Простите, - обратился он к Фредису,- где здесь парикмахерская?
Фредис, чтобы не забыть положенный ответ, много раз повторял его про себя.
- За углом, - торопливо проговорил он, - но в ней неважно бреют.
- Здравствуйте, Фредис. Я тот, кого вы ждете, - сказал «Анди» и молча, знаком предложил следовать за ним.
Шли они долго, пока не оказались в пустынном переулке.
- Вот здесь можно и поговорить. Вы курите? - «Анди» протянул Фредису пачку сигарет.
Они закурили. «Анди» присматривался к Фредису. У юноши было открытое, мужественное лицо; крепкие мускулы проступали сквозь легкую рубашку. «Анди» подумал, что у молодого человека, стоящего перед ним, вероятно, сильная воля и хорошие нервы.
Бромберг был достаточно опытен, чтоб не предвидеть и еще один вариант. Тот ли это человек, о котором говорил «Герберт», не подослан ли он чекистами? Что ж, если и подослан, то тем хуже для них. И на этот случай у него был продуман план действий…
- Вы что, Фредис, хорошо знаете Петериса Яновича Приедитиса? - спросил «Анди».
- Да, это мой друг, - ответил Фредис.- Когда я лишился работы, Петерис Янович поддержал меня. Кроме него, в Риге у меня нет ни родных, ни друзей.
- А сейчас вы работаете? - осведомился Бромберг.
- Работу по душе я найти пока еще не смог, - уныло заметил Фредис.
- Это плохо. Вам нужно поскорее устраиваться на службу. - «Анди» взглянул на часы.- Ну хорошо, Фредис, я пойду. О месте и времени следующей встречи я вам дам знать дополнительно.
- Ну зачем же нам так скоро расставаться? - простодушно сказал Фредис.-Мы еще не обо всем поговорили. Не так ли, господин Бромберг?
«Анди» сначала показалось, что он ослышался. Откуда этот человек мог знать его настоящую фамилию? Ведь и «Герберту» она была неизвестна. И вдруг «Анди» понял, что произошло что-то страшное. Он сделал шаг назад.
- Ни с места! - приказал Фредис. - Сопротивление бессмысленно. - В руках у Фредиса сверкнула сталь пистолета.
«Анди» увидел, что рядом с ними останавливаются две «победы».
- Спокойнее, господин Бромберг, - произнес Фредис, - машины поданы. Нашу беседу мы продолжим в другом месте.











