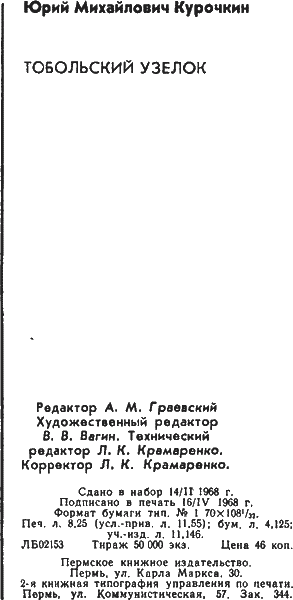Ю. Курочкин
Тобольский узелок

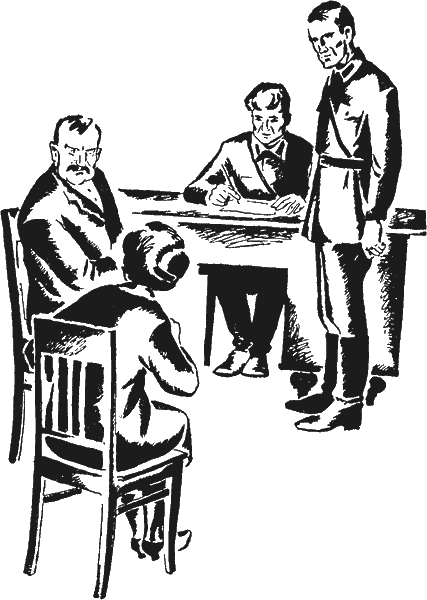
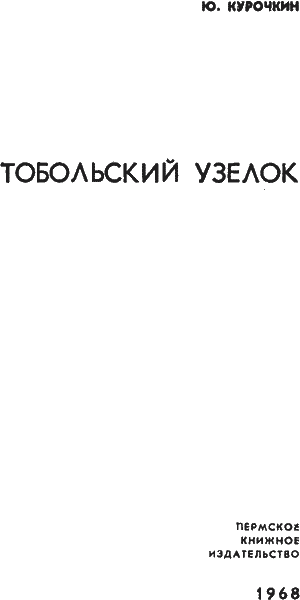
ОТ АВТОРА

Изложенная здесь история одной операции, проведенной уральскими чекистами в начале 1930-х годов, не претендует, однако, на документальную хронику ее. Время не сохранило многих подробностей, без которых немыслима полная документальность. Поэтому автор счел себя вправе прибегнуть иногда к смещению событий во времени и в пространстве, к вольной трактовке сцен, свидетелей которых уже нет в живых, к домыслу фактов, возможно, имевших место, но не зафиксированных в документах; наконец — позволил себе представить облик и характер действующих лиц (естественно, в документах не отраженные) такими, какими их подсказывал ход событий, но которые, возможно, на самом деле были иными. В связи с этим автор вынужден был изменить имена многих действующих лиц.
ПРОЛОГ
— Пиши… Головные шпильки с бриллиантами, по тридцати шести каратов каждая, две штуки по триста пятьдесят тысяч, — диктовал Блиновских, принимая из рук Колташева тонкие металлические стерженьки, увенчанные сверкающими самоцветами. — Так, Данилыч?
— Точно будет, — согласился Колташев.
— Триста пятьдесят… тысяч?! — переспросил Михеев, оторвавшись от описи. — Такая-то фитюлька?
— Какая же это фитюлька! — укоризненно взглянул на него Блиновских. — Голубой алмаз великолепной огранки. Уникум, можно сказать… Фитюлька! — фыркнул он, подмигнув Колташеву. — Скажет тоже…
Колташев и Блиновских снисходительно похихикали.
— Пиши, — продолжал Блиновских, принимая от Колташева очередную вещицу. — Головные булавки с бриллиантами и жемчугом… Шляпные булавки с изумрудами… Шпилька кунцитовая… Опять булавка, в форме якоря… А вот тебе еще «фитюлька». Прикинь-ка ее, Данилыч.
Колташев поколдовал над булавкой с крупным бриллиантом, величиной с лесной орех-лещину, и, беззвучно пошептав что-то про себя, доложил:
— Сорок четыре карата, однако. Баской уж больно, — не удержался он от похвалы, поворачивая на свету блещущий цветными искрами кристалл.
— Выходит, тысяч семьсот стоит, — резюмировал Блиновских. — Так и пиши…
Удерживая легкую дрожь пальцев, Михеев послушно проставил в описи очередную цифру. Ахать он больше не решался.
Вот уже который день они сидят с утра до ночи за столом, освобожденным от всего лишнего, в кабинете Михеева на третьем этаже здания Полномочного представительства ОГПУ по Уралу. Он, Михеев, и двое экспертов.
Эксперты… Михеев невольно усмехнулся, вспомнив первую встречу с ними: так не вязался их вид с его представлением об экспертах, людях, по его мнению, высокоученых, импозантных, с холеными профессорскими бородками и золотыми очками. А тут…
— Звали? Колташев я. Кондратий Данилович, — представился, тщательно закрыв за собой дверь и остановившись у порога, невысокий старичок с широкой седой бородой и расчесанными надвое седыми же, стриженными под горшок, волосами.
Он чинно подал лопаточкой свою маленькую жесткую ладошку, пристроил в угол березовый, видавший виды бадожок и сел на предложенный ему стул. Поправив узкие, в железной оправе очки со связанными назади ниткой кончиками дужек, он изучающе оглядел, не поворачивая головы — одними глазами, — комнату и лишь потом остановил взгляд на Михееве: готов-де слушать, что скажете?
— А где же другой… эксперт? — спросил тот, тоже усаживаясь.
— Петр-то Акимыч? А в коридоре он. Думали, может, по раздельности нас надо, вот и решили по очереди. По старшинству, значит. Петьку-то я еще маленьким знавал, почтение оказывает. Мне-то уж восьмой десяток доходит, а ему седьмой все еще.
Михеев выглянул в коридор. Недалеко от дверей, пристроившись на краешке дивана, сидел худощавый, костистый и очень сутулый человек с плоской соломенной шляпой в руках и с потертым кожаным чемоданчиком у ног.
— Товарищ Блиновских?
— Я буду, — встрепенулся тот и поспешил, чуть заметно прихрамывая, к стоявшему в дверях Михееву.
Он был, конечно, моложе Колташева, но морщинистее и желтее лицом. Зато франтоватее, что ли. Колташев — в обычной ситцевой косоворотке под серой рабочей курткой, в сатиновых, заправленных в носки штанах. А Блиновских — в бывшей некогда добротной пиджачной паре, в штиблетах с резинкой на боку и при галстуке — старомодном самовязе с булавкой. Его крупные рабочие руки с задубелыми коричневыми подушечками пальцев как-то не вязались с нарядом мелкого чиновника дореволюционной поры.
Но не такими уж простачками, как казалось, были на самом деле деды. Колташев считался признанным авторитетом в минералогии. Долгая жизнь, целиком отданная уральскому камню, поискам самоцветов, сделала его знаменитым на весь край горщиком, выдающимся знатоком своего дела. С ним советовались академики Кокшаров, Вернадский, Ферсман, считали честью учиться у него профессора Крыжановский и Федоровский, его не раз приглашали на консультацию в Академию наук, и под протоколами ее ученых заседаний, рядом с подписями знаменитых ученых, можно видеть и его «приложение руки» — три жирных креста: горщик до старости оставался неграмотным.
Его друга, Петра Акимовича Блиновских, знали как «мастера — золотые руки». Талантливейший гранильщик, умевший глубоко проникнуть в «душу» камня, он на своем примитивном ручном станочке создавал такие шедевры ювелирного искусства, что слава о них шла в свое время по всей Европе. За «акимычевой гранью» охотились перекупщики и ювелиры, зная, что, дав за нее любую цену, не прогадают. Сам «поставщик двора его императорского величества» всемирно известный ювелир-художник Фаберже посылал на Урал тайных гонцов за поделками Петра Акимовича и не раз пытался сманить его к себе в мастерскую.
Вот с такими экспертами и предстояло поработать Михееву, чтобы описать и оценить найденный им, наконец, богатейший клад.
Деды выслушали Михеева внимательно, но спокойно, словно речь шла о рядовом, будничном деле. Так же спокойно, словно бы даже равнодушно, оглядели выставленные на стол коробки с драгоценностями. Лишь когда Михеев вывалил на стол сверкающий клубок золота и самоцветов, он уловил в глазах стариков, ни движением, ни возгласом не выдавших своего волнения, огонек удивления и восхищения — они-то понимали толк в этом.
Петр Акимович достал из своего чемоданчика складные весы с тонкими черепаховыми чашечками на никелированном коромысле, набор пинцетов и щипчиков, скляночки с какими-то жидкостями, кусочки замши, и михеевский стол приобрел вид уголка обычной кустарной мастерской. Дед Колташев протер платком очки. И оба, переглянувшись, враз деловито подвинулись к столу. Михеев достал заранее разграфленную ведомость для описи вещей.
Долго он потом вспоминал эти часы, проведенные ими в его маленьком кабинете, скупые отрывочные рассказы — воспоминания, которыми старики обменивались, не отрываясь от дела. Он любовался их уверенными, профессиональными движениями и приемами. С удивлением смотрел, как оживает невзрачный с первого взгляда, миниатюрный, прихотливой огранки камешек в грубоватых, плохо гнущихся пальцах, повинуясь еле уловимому повороту…
— Пиши. Цепь золотая с изумрудом и бриллиантовой осыпью, — диктовал Блиновских, поворачивая перед светом выложенную из коробки вещицу. — На сколько карат, думаешь, Кондратий Данилович, потянет?
— Пиши — восемнадцать, не прошибешься. Можешь не взвешивать, точно будет, — отвечал Колташев и, поиграв подвеской, добавлял ласково: — Наш, уральский. С Рефта.
— Будто уж точно с Рефта? Так и помечено? — пробовал шутливо подзадорить его Михеев.
— Помечено. Мать-земля метила, только не каждому видно… А ты не смейся. Владимир Ильич, профессор Крыжановский, этак-то у нас однажды преступника словил.
— Как так?
— А вот так. Приехал он как-то в одну партию. Народец там с бору да с сосенки, с большой дороги да с торной тропки, оторви да брось, словом. Однако не скажи — камень знают, народ по этой части бывалый. Ну, увидели они, что профессор приехал, и давай его вроде экзаменовать: «Откуда, мол, изумруд этот?» «А это, говорит, не изумруд вовсе. Берилл, говорит, с Адуя». Ну и прочее такое. Видят мужики, что профессор вроде кумекает, знает камень-то. Тогда один из них, угрюмый такой, молчун, и говорит: а вот это тебе, хоть ты и профессор, ни в жизнь не угадать — откуда. Новое, говорит, место нашел, никто еще не знает… Посмотрел Крыжановский камни, похмыкал, и так и сяк повертел, на мужика этак зорко глянул и спрашивает его: «Как они к тебе попали? Это, говорит, с Забайкалья аквамарины-то». Мужик с лица побледнел, забрал камни, сложил их в кисет и говорит: «Ничего ты не знаешь, профессор. Век я живу на Урале, никуда с него не уезжал. Наши камни, местные. А где нашел, не скажу». И ушел. Владимир Ильич сначала смутился будто, а потом — к начальнику партии. Стал документы смотреть. И, что ты думаешь, нашел ведь там бумагу, где сказано, что был тот мужик в Забайкалье. А зачем скрывает? Навели на том забайкальском руднике справки. Оттуда пишут: было у нас такое дело, контору ограбили, аквамарины марочные выкрали. Трое рабочих после этого убежали — их рук дело, значит. Среди них и тот, о ком запрашивали. Так вот и поймали субчика. Это тебе не хита наша горемычная, а самонастоящий грабитель.
…Хита, хитник. Забытые за ненадобностью слова. Так звали на старом Урале горщиков, промышлявших камни-самоцветы тайком, без оформления заявок на месторождение. Но что тут было хищнического и тем более хищного, Михеев понять не мог. Охота за камнем — это свободный поиск. На всю тайгу заявку не подашь, никакой мошны не хватит. Вот и промышляли тайно, храня каждый при себе приметы своих фартовых местечек.
Перед первой мировой войной, на съезде горщиков, созванном знатоком и любителем уральского камня художником Денисовым-Уральским, выяснилось, что 93 процента участников съезда привлекались к ответственности за хиту. Кто-то крикнул из зала, что из 150 участников не найдешь и десяти, которые не побывали бы в тюрьме.
Трудное это было дело, неблагодарное, и только лишь истинная любовь к камню двигала теми, кто не оставлял этого занятия. Хорошо, если «фартнет», тогда — кум королю. Можно коровенку купить, одежонку справить, прохудившуюся крышу починить. А если нет — соси лапу целый год, слушай, как ревут голодные ребятишки, смотри, как жена, роняя в квашню слезы, замешивает на них отруби с лебедой…
Да и пофартит если, сколько еще горя примешь с находкой! Тут же, как муха на мед, прилетит перекупщик, подпоит, заберет за гроши камни, а сам их продаст в городе за большие рубли. Избежишь перекупщика, сам в город пойдешь — еще больше намучаешься. Крупные дельцы-магазинщики, всякие там Липины да Баричевы, знали, как обвести мужика вокруг пальца. Так собьют цену, что и обратной дороги домой не оправдаешь — копейки какие-то выпросишь за добрый камень. А он, камень-то, через месяц-другой уже в Петербурге, а то и в Париже за сотни, да что сотни — за тысячи рублей идет у видных ювелиров.
А сколько вокруг ожидало мошенников, вымогателей, темных грабителей? Сколько горщиков осталось у своих закопушек в тайге с проломленными черепами, скольких в вечную кабалу обратили пауки-перекупщики!
Нет — не мед это дело, не мед. Недаром в сказках, легендах и песнях Урала самоцветные камни всегда сравниваются с застывшими слезами людскими!
— Кулон с аметистом бразильским. Хорош камень, да только наши, мурзинские, погуще цветом будут. Так, Данилыч?
— Так, так, Петя. А ты помнишь, как Сергей Хрисанфыч Южаков ожерелье из аметистов подбирал? Все с Ватихи да с Тальяна — копей Мурзинских… «Вот добуду, говорит, сюда, в леву сторону, еще два камня, и сам в Париж повезу, у них глаза на лоб полезут». Восемь лет подбирал.
— Диадема бриллиантовая с кунцитами, — продолжал Блиновских.
— Хороши бриллиантики, — задержал в руках Колташев драгоценное украшение. — Африканские, я думаю.
— Похоже, — поддержал Блиновских.
— А что, наших, уральских, не попадалось ли? — спросил Михеев.
— Наших — нет, — ответил Блннорских. — На Урале алмазов, можно сказать, нет. Вот, правда, Кондратий Данилович со мной не согласен по этой части.
— А как согласишься, если сам их находил, — с неожиданной для него живостью откликнулся Колташев. — Есть на Урале алмазы. Только мало их еще искали. Павлик Попов на Крестовоздвиженских промыслах еще в прошлом веке находил. Граф Шувалов на Нижегородской выставке шкатулочку с алмазами со своих уральских приисков показывал. Сам я на Положихе находил. Это еще Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк описывал…
— А ты расскажи, расскажи, — подзуживал его Блиновских.
— И расскажу. Не совру. Хоть и не все верят. А вот Александр Евгеньевич верит. Спроси Ферсмана-то, он скажет. А было, значит, так. Мыл я рубины на Положихе. Осенью. Да что осень — зима, считай, была, уже снег лежал, в варежках робил. Ну, отмыл я в ковше два камешка. Светлые, но на тяжеловес не похожие. Один — маленький, с карат, а то два, другой — много поболе. Карат, думаю, в сорок. Ну, я маленький-то кристалл — в рот, за щеку, чтобы не потерять. А большой куда? Много не думая — в варежку его, в напалок. Вечером пришел домой, трясу, трясу варежку — нет ничего. Смотрю: в напалке-то дыра. Потерял, значит. Потом маленький-то камень в Тагил снес, к Шорину Дмитрию Петровичу. Хорошая коллекция у него была, любил камень, знал его. Посмотрел он мою находку, кричит: «Где взял?» На Положихе, говорю. «Да ведь алмаз это, Кондратий!» Неуж, говорю, алмаз? Не попадало еще мне такого. «Алмаз, алмаз, точно тебе говорю». Тут-то я и пожалел, что большой камень потерял: шутка сказать — сорок карат! Дмитрий Петрович потом все это рассказал своему другу, Дмитрию Наркисовичу, а тот уж после в книге описал. Есть алмазы на Урале, есть. И сам еще не раз находил, но только уж махонькие, в дело не годные. А кристаллизации правильной — чистый октаэдр, восьмигранник значит.
— Пиши, — прервал его Блиновских, видимо, не раз слыхавший этот рассказ. — Пояс из мелкого жемчуга с одиннадцатью крупными рубинами, с осыпью из мелких бриллиантов и рубинов. Цена камней… Сейчас подсчитаем… Выходит — семьдесят пять тысяч записать надо.
— Славная опояска, толково сделана, — похвалил Колташев.
— …Колье бриллиантовое, с жемчугом и рубиновой подвеской. Пятьдесят тысяч… Давай, что там еще есть?…
Ожерелье царицы

Сегодня Патраков снова держал в руках это письмо. Пришло оно давно, больше года назад, но ему тогда так и не дали ход — начальство не сочло перспективным дело, о котором там говорилось. Однако Патраков оставил письмо у себя и нередко вечерком, закончив работу и уже собравшись домой, доставал его из папки и перечитывал фиолетовые строки, написанные на двух тетрадных листочках модным тогда в канцеляриях пером «рондо».
«Тов. Леткенс!
В бытность мою в 1923—24 годах в Тобольске, при ликвидации Ивановского женского монастыря (он от города в 6–7 верстах), мы обнаружили много спрятанных ценностей, закопанных в могилах, замурованных на колокольне и в подвалах и т. п. Среди найденного, помню, было немало имущества, принадлежащего семье последнего царя Николая Романова (белье, посуда, письма Распутина и др.). Большинство этого обнаружили с помощью самих же монашек, среди которых был антагонизм, что помогало нам. Нам сообщили тогда, что в монастыре спрятано и ожерелье бывшей царицы, его хранила в царской же шкатулке сама игуменья Дружинина. Но когда мы собрались к ней, оказалось, что она накануне скоропостижно умерла. Знала еще одна схимница, очень старая, спавшая вместо кровати в деревянном гробу, у нее вначале и хранила игуменья шкатулку. Но схимница была дряхлой, почти ничего не помнила, и от нее невозможно было добиться толку. Вскоре и она умерла. Так это дело и забылось, у нас хватало других хлопот — с бандитами и белым офицерьем, осевшим здесь со времен колчаковщины и организовывавшим восстания против Советской власти. Но сейчас, я думаю, надо бы об этом вспомнить и возобновить поиски — ожерелье очень ценное, за него можно получить много валюты, так нужной государству сейчас.
Вот и все. Желаю успеха.
В. Корецкий.
27 декабря 1931 года».
Письмо поступило в Свердловск из одного окружного отдела ОГПУ, где некогда работал автор, старый чекист, ныне инвалид и пенсионер.
— Беллетристика! — сказало Патракову начальство, когда он доложил о письме. — Тайны монастырского двора. Если уж они тогда, по горячим следам не нашли, то что можем найти мы через десяток лет? Сдайте в архив.
Патраков письмо в архив не сдал. Нередко перечитывал знакомые строки, будто ожидая, что между ними проявятся какие-то другие, которые сразу откроют все. И тогда останется только лишь взять перо и написать в левом верхнем углу резолюцию: «Т-щу такому-то. Приступить к разработке», заключив ее датой и привычным росчерком.
Конечно, зацепиться, как видно, совсем не за что. Игуменья и схимница унесли тайну клада с собой в могилу. Времени с тех пор прошло много. И если о кладе знал кто-то еще, то наверняка сумел перепрятать его или сбыть куда-то. Искать наугад? Это все равно, что искать иголку в стогу сена. В монастыре давно уже разместился детский дом, там все перестроено и перерыто. Вездесущая ребятня, безусловно, облазила все закоулки бывшей обители и нашла бы эту иголку не хуже группы чекистов. Старые монашки разбрелись по белу свету — где их теперь сыщешь. А если и найдешь — что они могут сказать? В тайну такую многих посвящать игуменья, конечно, не стала бы…
Нет, слишком маловероятна надежда на успех, очень уж неясны возможные пути поисков! Такой узелок не развяжешь.
И все же сдать письмо в архив не подымалась рука…
Сегодня Патраков держал письмо в руках не вечером, как обычно, а утром. Он только что просмотрел дела, принесенные ему на подпись, и одно из них отложил в сторону.
Стандартная коричневая папка с надписью «Хранить вечно». Протоколы допросов, очных ставок, справки, акты, повестки. За ними полгода упорной, кропотливой и, прямо сказать, иногда нудной работы, итог которой будничен и скуп, как трехстрочная заметка из газетной колонки «Происшествий»: «Разоблачена шайка расхитителей золота на Н-ском прииске. Похищенный металл сдан в Госбанк». Металл-то сдан, три кило золота тоже чего-то стоят, но суть не в этом, а в том, что наглухо закрыта лазейка, через которую он утекал.
Дело это Патраков знал в деталях и просматривать его, пожалуй, было незачем — так, формальность. Но внимание остановил лист первого допроса Анны Теленко-вой, привлеченной вначале в качестве соучастницы хранения похищенного золота. Ее надо освобождать до суда — она и в самом деле не знала, что в банках с медом, поставленных в ее погреб заезжим человеком, был не только мед. Но не в этом дело…
«До 1923 года была монахиней Ивановского монастыря в Тобольске» — гласила одна из первых строк ее жизнеописания.
Интересно, что она помнит из того времени?
Патраков позвонил, чтобы привели Теленкову.
Монашка оказалась румяной, живой, суетливой, не Так уж и старой («58 лет», — отметил про себя Патраков, заглянув в протокол), какой-то уютно-домашней и уж никак не испуганной, как это можно было предполагать.
— Что скажешь, батюшка? — спросила она, чинно усевшись на предложенный стул, и, привычным жестом поправив складки широкой темной юбки, приготовилась слушать.
— Да вот побеседовать хочу напослед.
— Будто все переговорено у нас с кем надо. Виновная я — судите, нет — выпускайте меня, рабу божию. О чем бы еще говорить-то?
— О монастыре хочу расспросить. Ты ведь, кажется, монашкой была?.. Ничего, что я на ты разговариваю? — доверительно наклонился к собеседнице Патраков. — Оба мы на возрасте, да и сама ты со мной по-простому.
Теленкова критически оглядела его редкий ежик седых волос с глубокими залысинами на лбу, резкие морщины на щеках и меж бровей, увечную левую руку с негнущимся указательным пальцем.
— Говори. Мы по-простому привыкли. А о монастыре… Была, батюшка, была. Хотела до конца дней своих в обители грехи замаливать, да вот не привел господь. В миру жить приходится.
— Остальные-то ваши монашки куда подевались?
— Кто их знает. Разбрелись по белу свету. Кого уж бог прибрал, кто у родни век доживает. А из молодых которые и замуж, прости их господи, повыскакивали. Ну да Христос им судья, пусть живут, кто как хочет. Все люди, все человеки, — философично заключила она.
— И вот что еще… Анна Матвеевна — так, кажется? — сверился снова с протоколом Патраков.
— Так-то так, да не совсем. Агриппина мне имя при пострижении дано. Так, значит, и зовут меня люди. А ты — как хочешь.
— Это что же, кличка вроде?
— Зачем кличка, — обиделась Теленкова. — Это в миру фамилия, прозвище. А у нас имя божье, православное. Фамилия говорит — чей ты, какой семьи. А мы, как постриг принимаем, от мира, от семьи отрекаемся. Фамилия уж тогда ни к чему. Одно имя, да и то новое, не то, что при крещении было дано.
— Понял, — серьезно заметил Патраков. — Но не в этом дело, Анна Матвеевна… Агриппиной-то мне все же звать тебя неудобно… Хочу спросить, не встречала ли кого из знакомых монахинь?
— А что? — улыбчиво прищурилась Теленкова. — Монастырь хочешь основать? Эти, как их там… кадры понадобились?
Патраков улыбнулся, дав понять, что оценил ее юмор.
— Понадобились, Анна Матвеевна.
— Тут я тебе, батюшка, не помощница. Сам посуди, около десяти лет живу за тридевять земель от Тобольского. В глуши. Никого наших тут нет, письменным делом не занимаюсь, где мне взять?
— Слыхала, может?
— Так ведь не всякому слуху верь. Мало ли что скажут… Баяли люди, что живы Препедигна, Селафаила, Агния… Мелания и Серафима преставились. Тонька Нелу-тевая замуж вышла. В самом Тобольске многие поныне живут.
— Фамилии их не вспомнишь?
— Где упомнить, и не знала николи. Редко кто знал. Разве что из одной деревни. Да кто в послушницах долго жил, про тех известно было.
«Вот и найди их теперь по этим кличкам!» — досадливо отметил про себя Патраков, складывая гармошкой кусок бумаги — дань давней привычке, нередко служившей для знакомых объектом шуток. Пробовал отвыкнуть — не получалось, это помогало сосредоточиться. Сложит рубчик за рубчиком, один к одному, в рифленую стопочку — думает. Не удалось — разгладит и снова складывает. А потом когда вроде получилось — выбросит в корзину, сцепит руки в замок на столе, выставив негнущийся палец, как штык, и уж про бумажку больше не вспоминает.
— А ты ценности монастырские прятала, Анна Матвеевна? — отбросил Патраков бумажку.
Теленкову вопрос не удивил. Ответила спокойно и даже досадливо, как о чем-то надоевшем.
— Кто их не прятал. Повеление настоятельницы — как ослушаешься? И я прятала. И многие другие тоже.
— Как же вы их прятали, куда?
— Так вот и прятали, носились, как кошки с котятами, прости господи, с места на место. Там закопаем, там замуруем, а потом выкопаем, размуруем да в другое место тащим. Сами запутались после, где что захоронено. А толку — чуть. Все равно Чека все нашла.
— Считаешь — все?
— Надо думать — все. Что сама Чека не нашла, другие показали. Особливо мать-казначея постаралась. Искать сейчас — дело пропащее. Все рыто-перерыто не по одному разу.
«И она тоже!» — уныло подумал Патраков.
— Кто это — мать-казначея?
— Ну, помощница игуменьи, что хозяйством всем ведает. Елшина, кажись, по фамилии, — сердито ответила Теленкова, но тут же оживилась, заалела старческим, в прожилках, румянцем на выпуклых, яблочком щечках и, сложив руки на коленях, как перед долгим рассказом, поведала: — Надо тебе сказать, когда Чека к нам пришла и стала у игуменьи ценности требовать, в обители раскол получился. Понимаешь? — округлила она глаза.
— Понимаю, — серьезно подтвердил Патраков.
— Так вот, игуменья все добро прятать велела, говорила, что большевикам ничего отдавать не надо, все равно старая власть придет. Многие держали ее сторону и слушались. А часть была несогласная. Говорили — надо отдать, от греха-де подальше, опять же голодным ребятам помощь. А на икону молиться и без золотого оклада можно. Христос тоже, мол, не любил этого… Заводилой у них, у матушкиных супротивниц, и была эта мать-казначея.
— Такая уж она сознательная?
— Она такая… — иронически протянула Теленкова. — Ей пальца в рот не клади. Ты думаешь, ей добра было не жалко? Еще как жалко-то. Да ведь знала, что все равно заберут его. А она отдаст, и на этом выслужится перед новой властью. Может, и настоятельницей поставят. И, что ты думаешь, поставили. Не власть, конечно, — архиерей. Опела она ему уши после смерти игуменьи, вот он и благословил казначею на ее место. Пройдоха, прости меня господи. И насчет добра, не думай, маху не даст. Пока одно указывала, другое про себя припрятывала. Да только и это потом нашли, — и она удовлетворенно поджала губы.
— Царских драгоценностей не бывало ли в монастыре?
— Как, поди, не бывало. Да мы, серота, до них не касались. Там свои люди были, доверенные.
— Кто же это?
— Кто их знает. Нам не докладывали. В монастыре закон на этот счет строгий — что кому поручено, то и делай, в чужие дела не суйся. Наше дело маленькое.
— Моя хата с краю? — усмехнулся Патраков.
— С краю, батюшка, с краю…
Отпустив Теленкову, Патраков надолго задумался, потом сложил письмо Корецкого и свои записи в отдельную папку и направился к начальству.
Час спустя он вернулся и, достав письмо, взялся за перо. Вывел в левом верхнем углу: «Тов. Михееву. Приступить к разработке. Патраков». И поставил дату.
В Управлении Михеев ходил в «среднячках». Считался исполнительным, грамотным, честным и когда нужно решительным, но не особенно энергичным — мягковатым, что ли, парнем. Он и сам несколько стеснялся своего мешковатого, сугубо штатского вида, сутулости, свойственной высоким и худым людям. Зато в способности разобраться в хитросплетениях противоречивых показаний, в умении извлечь за еле заметный кончик всю ниточку и распутать клубок — в этом был «не безнадежен», как говорил сдержанный на оценки Патраков.
В ГПУ Михеев пришел по путевке комсомола. Потеряв в голодном двадцать первом году отца и мать, он беспризорничал, попал в трудколонию, быстро освоился там стал помощником воспитателя, а потом и воспитателем, сменив на этом посту своего наставника, сгоревшего от застарелой чахотки одного из верных «солдат Дзержинского». С сыновней нежностью вспоминал Михеев этого чистого, неподкупной веры в революцию человека, выпрямившего его поковерканную в беспризорных скитаниях душу.
— Чекист, — говорил он Михееву, — это кристальная честность, беспредельная вера в победу Революции и готовность в любую минуту пожертвовать всем для нее. Надо, чтобы ты был таким, пусть это и нелегко. Значит — готовь себя к этому.
И Михеев готовился, хотя и считал, что стать таким, как его наставник, едва ли сможет. Однако на предложение пойти на оперативную работу, стать профессиональным чекистом, ответил радостным согласием.
Конечно, новая работа потребовала от Михеева настойчивой учебы «на ходу», но то, что он сумел получить в свое время от старого чекиста, было лучше многих курсов и надолго определило его линию поведения.
Особо серьезных дел за три года работы ему самостоятельно вести еще не приходилось, начальство не выделяло его. Патраков, по обычной своей сдержанности, не баловал похвалами, разве что иногда дольше, чем на других, задерживал на нем холодноватый, изучающий взгляд своих разноцветных — один серый, другой синеватый — глаз.
Поэтому Михеев, выслушав новое задание Патракова, прикидывал про себя — что это, свидетельство возросшего доверия к нему или вполне понятное решение свалить на «среднячка» дело, заранее признанное бесперспективным?
Патраков же был как обычно серьезен, но с особенным на этот раз старанием подгонял друг к другу рубчики бумажной гармошки.
— Дело непростое, — говорил он словно в раздумье. — Можно ткнуться в него, зайти в первый тупик и бросить. Так и так, мол, — дело темное, что мог сделал. И осудить за это будет трудно. А вот сможешь ли выше того, «что смог»? Здесь — надо. Хочу надеяться на успех. Уж очень было бы важно это сейчас — принести в валютный фонд страны такую… — он пощелкал пальцами, подбирая слово, — …весомую вещицу.
— Можно идти? — спросил Михеев, отреагировав на последовавшее за этим молчание начальника. — Когда ехать?
— Не торопитесь, — поморщился Патраков. — Может, вопросы есть? Они будут. Должны быть. Узелок сложный. С налету тут ничего не сделаешь. Возьмите книг, почитайте. О Тобольске, о монастырях, о Романовых. Вы ведь книгочей, я знаю. И письмо это обсосите. Наизусть запомните. Каждую строчку сто раз прочтите, представляйте себе — что за ней стоит, обстановку тех дней.
— Может быть, съездить к Корецкому?
— Умер он, — нахмурился Патраков. — Пока мы тут… Ну, ладно, идите. Через неделю поедете. Помощников не даю, там, если надо, возьмете на месте. Ясно?
— Ясно, — ответил Михеев и вышел со смутным чувством, что ему все-таки пока еще далеко не все ясно.
В Тобольске Михеев никогда не бывал, и этот город был для него просто одним из окружных центров обширнейшей Уральской области, раскинувшейся от Каспия до Ледовитого океана; пунктом, откуда поступали служебные бумаги и сводки, да изредка приезжали товарищи по работе.
Теперь же, напитавшись, по совету Патракова, кое-какой литературой, Михеев готовился встретить «знакомого незнакомца»: этот древнейший город Сибири был уже населен для него множеством знакомых лиц, вещей, событий.
Он видел стоящего на крутом холме у слияния Тобола и Иртыша татарского князька Кучума, злобно глядящего из-под козырька железного шлема на подплывающие из-за поворота струги Ермака.
Видел склонившегося над «Чертежной книгой Сибири» подьячего Семена Ремезова, создателя первой географии своего обширного края. Ставленника Великого Петра, воспитанника Киево-Могилянской академии, десятого Тобольского митрополита Филофея Лещинского— среди семинаристов, разучивающих под его руководством «комедийное действо», сочиненное на досуге самим архипастырем. Пленных шведов, участников Полтавской битвы, строящих крепостную стену и башни кремля. Слышал разноязыкий гул красочной толпы перед Меновым двором, видел яркую пестроту этого необычного торжища, где можно было встретить и скуластого китайца, сидящего на корточках перед штабельком зашитых в шкуры черных плит кирпичного чая, и одетого в оленью малицу вогулятина со связкой соболиных пупков в руках, и бородатого нижегородца с набором фряжских материй, и земгорских — восточных — купцов с еркецким товаром…
Видел ссыльного гвардейского офицера, недурного пииту и рисовальщика Панкратия Сумарокова, просматривающего только что отпечатанную в типографии купца Корнильева книжечку первенца провинциальной журналистики журнала со странным названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Видел застрявшего здесь по дороге в сибирскую ссылку, на далекий Илим, «государственного преступника» Александра Радищева, при свете сальной свечи записывающего свои дорожные впечатления. Видел собравшихся в уютном салоне жены декабриста Наталии Фонвизиной (как говорили — прототипа Татьяны Лариной) ее друзей — Александра Муравьева, Владимира Штейнгеля, Ивана Анненкова с супругой, большеокой красавицей Полиной Ледантю; долговязого Кюхлю с черными зонтиками на слепнущих глазах; читающего свои вирши молодого, но уже известного поэта Петра Ершова…
Видел кладбище со святыми для нас могилами — того же Кюхли, закончившего здесь многострадальные дни свои, его собратьев по мятежному декабрю — Барятинского, Муравьева, Башмакова, Вольфа, автора бессмертного «Конька-горбунка» Ершова, украинского поэта-революционера Грабовского…
На пристани Михеева встретили знакомый сотрудник, часто бывавший в Управлении, и молодой чернявый парень с лихо выпущенным из-под фуражки кудрявым чубом.
— Саидов, — отрекомендовался он. — Звать Сашей. Назначен вашим помощником. Не возражаете?
— А чего ж? — отозвался Михеев, отвечая на его крепкое рукопожатие.
Дружно стуча каблуками по широким деревянным тротуарам («наш тобольский асфальт», — назвал их Саидов), еще влажным от подтаявшего утреннего иней-ка, они направились к центру города. Михеев с любопытством осматривался по сторонам, полной грудью вдыхая весеннюю свежесть.
* * *
Саидов оказался толковым малым, живой и открытой натурой, энергичным и старательным, но несколько безалаберным. Типичный комсомолец двадцатых годов — простецкий в обращении, презиравший «всякие там фигли-мигли», вроде «хорошего тона», галстука и танцев, хотя был явно неравнодушен к своей внешности, старательно ухаживал за кудрявой, смолисто черной, действительно красивой шевелюрой и кокетливо поправлял скрипучую новенькую портупею. Был он невысок, но строен, с юношески гибкой тонкой талией; монгольскую скуластость липа, унаследованную от отца-татарина, пристанского грузчика, скрашивали большие темные глаза с длинными, по-детски загнутыми ресницами — дар матери-сибирячки.
При разговоре он не мог долго сидеть на одном месте вскакивал и, засунув руки в карманы, прохаживался по комнате, изредка присаживаясь то на угол стола, то на подоконник. Михеева удивляло, что он говорит без нужды громко, почти кричит, как-то нелепо размахивая руками, и продолжает говорить даже когда кашляет или жует. Руки его вечно липнут ко всему — не глядя, нашарит пепельницу, открутит винтик державки для ручек у письменного прибора, поколупает отогнувшийся уголок сукна на столе. Любит иногда, особенно при посторонних, напускать на себя таинственность, учреждение свое называет «органы», солидно понижая при этом голос.
А в общем-то славный, неглупый парень, и Михеев быстро сошелся с ним. Своим участием в ответственной операции Саидов был очень доволен, на Михеева смотрел с мальчишеским уважением и заботливо опекал его.
Жить Михеева устроили не в гостинице — там шел ремонт, а в доме, где квартировали работники милиции. Две комнаты в нем занимал разъездной инспектор окружного отдела, а маленькая угловая служила чем-то вроде комнаты для приезжих. В нее-то и поселили Михеева. Анисья Тихоновна, мать инспектора, приняла его под свое покровительство и заботы.
— И мне веселее будет, — встретила она Михеева. — Мой-то все в разъездах, одна да одна. Будем теперь вместе вечерами чаи гонять.
Наутро Саидов повел Михеева знакомиться с городом. Местный уроженец, он хорошо знал его, по-своему любил, хотя о старине, составлявшей одну из главных достопримечательностей города, отзывался пренебрежительно. Все старое выглядело в его глазах отжившим, ненужным, в лучшем случае подлежащим перестройке на новый лад. Однако, надо отдать ему должное, историю города он знал неплохо — по книгам, по богатой экспозиции известного по всей Западной Сибири музея, по рассказам старожилов, учителей. Толкование обо всем этом имел все же свое.
— Вот кремль наш, — говорил он Михееву, размахивая руками и цепляясь за его пуговицу. — Скажи ты мне, пожалуйста, отчего это так оставлено? «Москва, Кремль» — адрес-то какой! А тут — «Тобольск, кремль». Петрушка какая-то. Переименовать надо.
— Нельзя, — улыбнулся Михеев. — Это не имя нарицательное, а понятие. Ну, как крепость, например. Он и был когда-то крепостью. Детинец еще звали его. Не у вас одних, в Нижнем, в Казани, в Новгороде…
— А все же не то что-то, — не сдавался Саидов, но больше, пожалуй, для видимости.
Они почти до вечера ходили по городу, лишь изредка присаживаясь отдохнуть — то в парке, серо-зеленом от только что проклюнувшейся листвы, то на берегу Иртыша, у пристани, то на просторном, мощенном плитами дворе кремля. Слушая рассказы своего неутомимого спутника, Михеев «вживался» в Тобольск семнадцатого-во-семнадцатого годов, в ту пору, когда завязался «тобольский узелок» — дело, приведшее его сюда.
Как это примерно было?..
Вот по этим, щербатым от времени, скрипучим плахам пристани прошествовала 26 августа семнадцатого года семья последнего русского монарха, заработавшего за свое царствование титул Кровавого. Он еще не в силах был выйти из той роли, которую играл столько лет, и шел, как на привычном официальном шествии, во главе внушительной, пусть уже не такой блестящей, свиты — важный, невозмутимый, привычно вбирающий в себя сотни любопытных взглядов.
Обочь, справа, любимец-наследник, бледноватый, чистенький подросток в тонкошерстной солдатской форме, с ленивой походкой, уже познавший цену лести, славы, раболепного восхищения.
Чуть отстав от них, следовала «августейшая супруга», Александра Федоровна — надменная и чопорная, со злым пронзительным взглядом и брезгливой гримасой на тонких бледных губах. Вокруг нее чинной стайкой в модных английских костюмах — дочери.
Нагруженные «вещами первой необходимости» — чемоданами и чемоданчиками, корзинами и корзиночками, кофрами и баулами, портпледами и сумками, портфелями и ридикюлями, с палубы парохода потянулись камердинеры и камер-лакеи, камерюнгферы и няни, горничные и комнатные девушки, повара и официанты, парикмахеры и гардеробщики, кухонные служители и поварята, прислуга свиты, прислуга прислуги… Сорок… нет, скажем точнее — тридцать девять человек сошли вслед за царской семьей и свитой с парохода на пристань в качестве добровольных (на жалованье, конечно) спутников ссыльной царской семьи.
Пароход «Русь» выкинул на берег «русский императорский двор» и убрал сходни. А на реке, подавая причальные гудки, разворачивался к пристани еще один пароход — «Кормилец», с пузатой баржой «Тюмень» на буксире, — с дополнительной охраной и багажом.
Отказавшись от поданных экипажей, семья и свита пешим порядком направились к новой своей резиденции, бывшему губернаторскому дому. На долгих девять месяцев стал этот дом объектом любопытства обывателей, предметом хлопот и неусыпной бдительности новых властей.
Дом как дом, — осмотрел его Михеев, — каменный, двухэтажный, с полуподвальным цокольным этажом и деревянным балконом на торцовом фасаде. Пятнадцать комнат, при коридорной системе — совсем как какие-нибудь губернские «меблирашки» средней руки.
Все это уже далеко и ныне прочно забыто. Как и подробности жизненного калейдоскопа той поры. А кое-что стоило бы знать и помнить.
Трудно устанавливалась в городе Советская власть — лишь две недели спустя после Октябрьского штурма пришла о ней весть в Тобольск. Но и после этого городом по инерции правили представители Временного правительства и городская дума. Служа «Временному», городские воротилы мечтали о возврате монархии.
Купцы по-прежнему чувствовали себя хозяевами города, и хотя в заварившуюся кашу не лезли, настороженно ожидая развития событий, но исподволь пытались влиять на развитие их в свою пользу, не забывая, однако, повседневных коммерческих дел. Каки прежде, тянулись к причалам рыбной пристани караваны барж, груженных сельдью, нельмой, осетром. Шли вниз по Иртышу плоты с заготовленным за зиму «для англичан» золотым мачтовым леском, грохотали на ухабах городских мостовых обозы с маслом, мукой, пушниной, с мешками «сибирского разговору»— кедровых орешков.
А в гостиных местного чиновничьего бомонда все так же до хрипоты (то ли от речей, то ли от водки) спорили городские витии, выдвинувшиеся — за умение много и красно говорить — в представители правительства, в первые ряды губернских властей. Спорили до глубокой ночи, хотя и сходились в одном, в главном: основная опасность — красная зараза, при ней порядку не бывать. Александр Федорович Керенский, конечно, не гений, как писали о нем некие газетки, но — человек дела, и хоть сам социалист, эсер, но эсер эсеру рознь — с большевиками на коалицию не пойдет. Жаль вот — сбежал.
В архиерейском доме, у недавно назначенного епископа Гермогена, близкого дружка и ставленника покойного «старца» Распутина, под перезвон рюмок с монастырскими наливочками, епископальное начальство делило доходы, назначало и смещало провинциальных пастырей, приберегая для нужных людей выгодные местечки. Деловито обсуждали проблему дня — о посильной помощи и связях с императорским домом, о тактичном сохранении верности помазаннику божию и — дай-то бог! — о спасении его и августейшего семейства. Церковь — опора самодержавия, а самодержавие — куда денешься! — опора церкви.
А в харчевнях и на базарах пьяные бородачи-дезертиры в папахах из бумажной мерлушки, в изодранных и прожженных шинелях, то плача, то матерясь, орали привезенные из мазурских окопов лозунги — «Долой войну», «Землю и волю!», добавляя к ним свои, импровизированные — «В расход Николашку! К ногтю Сашку, распутинскую подстилку!» Смачно закусив огурцом поднесенный доброхотом лафитничек, уходили, покачиваясь, к себе на заимки — подальше от войны, подальше и от греха: как-нибудь и без нас справятся с построением новой жизни…
Те, кто понимал что к чему, кто не просто кричал «долой войну!», а знал, что за это еще надо бороться и бороться, — те долго не засиживались в стоявшем вдалеке отрешающих схваток Тобольске. Снарядив «сидора», снова ехали туда, куда звала их совесть, — сражаться за новую жизнь.
Обыватель — насторожившийся и притихший, испуганный отдаленным гулом грозных событий, жался по дворам, судачил втихую на врытых у ворот лавочках, вздыхая «Господи, пронеси!», хотя, что именно «пронеси», твердо не знал — то ли царя, то ли большевиков. Впрочем, все равно — лишь бы привычный покой, привычный достаток, привычная рюмка водки к обеду да варенье и медок к вечернему чаю, гусь к рождеству и поросенок к пасхе, пьяная трехдневная карусель в именины и недельная в свадьбу сына или дочери, привычная благолепная обедня в «своей» церкви — устоявшийся, от дедов ведущийся распорядок и настрой жизни, под который так хорошо ни о чем не думать, ни о чем не болеть, а пребывать в счастливом, без тревог, полусне…
Сложное было время. Его по одной странице учебника не поймешь, не охватишь всей мощи событий, величия и сложности эпохи.
— Вернемся в настоящее? — предложил Саидов. — Обед… впрочем, что обед — ужинать пора.
— Вернемся, — охотно согласился уставший Михеев.
* * *
Списки «личного состава» монастыря не сохранились, и Саидову, выполняя задание Михеева, пришлось изрядно помыкаться, чтобы
разыскать оставшихся в живых монахинь. Отчасти помогли в этом сохранившиеся в архиве Окротдела материалы 1923–1924 годов. По ним же удалось расшифровать некоторые «клички».
На свою долю Михеев оставил знакомство с самим бывшим монастырем.
Монастырь встретил его гамом ребячьих голосов, оживленной кутерьмой разнокалиберных, но одинаково одетых огольцов на просторном мощеном дворе, грязными, давно не беленными, с отбитой штукатуркой, стенами храмов, жилых корпусов и подсобных служб — в бывшей обители давно уже разместился детский дом.
Михеев в сопровождении завхоза, хмурого хромого человека в старой красноармейской шинели, обошел все помещения, дотошно осмотрел собор, облазив не только алтари, приделы и притворы, но и колокольню, исходил вдоль и поперек старое заброшенное кладбище, сад, огород. Даже древнюю каменную стену, окружавшую монастырь, обошел всю кругом, внимательно осматривая, только что не обнюхивая ее. Иногда, сверяясь с записями в блокноте, подолгу присматривался к чему-то. Путаясь в длинных полах шинели и припадая на больную ногу, завхоз молча следовал за ним, бряцая связками ключей.
Михеев понял, что никакие, даже самые дотошные поиски ничего не дадут — время стерло все признаки былых тайников, хранивших монастырское добро.
— Хозяйство большое, но запущенное, — вздохнув, сказал завхоз, когда они, окончив осмотр, уселись в его сводчатой комнатке с узким, похожим на бойницу, оконцем и закурили. — Денег много надо, чтоб привести все в порядок. А дают мало.
— Все же, я смотрю, что-то перестраивали, ремонтировали, — не то спрашивая, не то утверждая, заметил Михеев.
— Приходится. Изворачиваемся, как умеем.
— А не приходилось ли при этих ремонтах и перестройках находить какие-нибудь тайники с добром?
— И это было. Банку с медяками, помню, под полом в келье бывшей казначеи нашли. Ребятишки на кладбище могилу провалившуюся увидели, раскопали — а там ящик с крестиками медными да серебряными. В столовой, трапезной по-ихнему, когда дымоходы перекладывали, на нишу наткнулись. Деньги царские, кредитки, в шкатулке железной — пачками. Бумажки ребятам отдал — пусть играются. А шкатулка — вот она, вместо сейфа держу, только вот замок исправить все не могу.
Михеев с интересом посмотрел на массивную коричневую шкатулку, стоявшую на тумбочке.
— Да вот еще, — сказал завхоз, открывая шкатулку, — книжица там была. «Русские обители» называется. Тут и про нашу есть. Проглядываю иногда — любопытно. Сколько их, захребетников, в России было! Более тысячи, считай, монастырей. Больше ста тысяч дармоедов на шее народа сидело…
— А больше ничего не находили? — спросил Михеев, листая все еще хранившую запах ладана книгу.
— При мне нет. Я бы знал. Без меня, может? Слышал, раньше тут все вдоль и поперек перерыто было.
— Можно, я возьму у вас эту книгу на денек-другой? — попросил Михеев, прощаясь.
— Да хоть совсем возьмите, зачем мне она?
Вечером, перед сном, Михеев с любопытством просмотрел взятую у завхоза книгу. Чем-то невероятно далеким, совсем незнакомым и диковинным повеяло на него с закапанных воском страниц.
«А ведь всего пятнадцать лет прошло!» — удивленно отметил про себя Михеев.
В книге нашел он и страничку, посвященную интересовавшему его монастырю.
Тобольский Иоанно-Введенский (в просторечии — Ивановский) монастырь был основан в первые годы открытия Сибирской митрополии, то есть еще в допетровские времена, как оплот православной церкви на языческом Севере, как штаб миссионерской деятельности. Монахи этой обители на протяжении многих лет рьяно, не гнушаясь жестокостью методов, проводили массовую «кампанию» крещения северных народностей, обращая их в православие крестом и мечом. Особенно прославился крестительским азартом десятый тобольский митрополит Филофей, основное ядро крестовой рати которого составили монахи Ивановского монастыря. В яростном ослеплении они требовали у Петра дать им право казнить неверных лютой казнью. Согласия на это не получили, но насилия чинили и без царского разрешения — «до бога высоко, до царя далеко».
Расположенный на правом берегу Иртыша, вблизи крупного города, на перепутье важных торговых дорог, монастырь год от года богател и расширялся. Но в средине XIX века он неожиданно «изменил профиль» — из мужского стал женским. Дело в том, что к тому времени мужских обителей в крае развелось много, а женщинам «спасаться» от мирских соблазнов было негде.
Как прошла эта «реорганизация», теперь уже установить трудно, однако похоже, что братия не положила охулки на руку при дележе имущества. Скопленные за двухвековую историю монастыря ценности, очевидно, перебазировались вместе с их прежними владельцами. Иначе ничем не объяснить строк из исторической справки, написанной спустя полвека: «В настоящее время, несмотря на крайнюю бедность, бывшую до последних лет в обители…». Но понятие крайней бедности, видимо, было весьма относительным, ибо справка далее гласила: «…она теперь имеет величественный собор, вмещающий 4 тысячи человек, с обилием света и церковным благолепием».
Продолжая линию, проводимую ее предшественником, женская обитель также стала вскоре видным «агитпропцентром» православия. При ней действовала школа для детей местного духовенства (подготовка миссионерских кадров) и «приют для подготавливающихся к крещению инородцев и для школьного их образования». На дальнем Севере, на Конде, монастырь имел свое миссионерское отделение.
К моменту революции монастырь представлял собой целый городок с храмами и общежитиями, гостиницами, подсобными помещениями, мастерскими и обширным хозяйством. В банке на счету обители лежали крупные суммы доброхотных вкладов разных небедствующих благодетелей и отчисления от повседневных поборов с многочисленной толпы паломников, странниц, слетавшихся сюда чуть ли не со всей Западной Сибири. Приманиванию их помогала и собственная святыня — «чудотворная» икона Почаевской божьей матери, испытанное средство «привлечения средств населения».
Имелись у Ивановского монастыря и соратники — две мужские обители. Одна — верстах в тридцати от Тобольска при селе Абалакском, так называемый Абалакский монастырь, переведенный сюда из Невьянска в 1783 году и ставший знаменитым на всю Сибирь своей «чудотворной» иконой, о которой существовала целая литература с приложением «Летописи чудес». Другая обитель, самая древняя в крае (основана в 1627 году), находилась прямо в городе и тоже имела свою «чудотворную», но рангом пониже и меньшей известности. Зато Знаменский монастырь всегда был основной резиденцией митрополитов — высшего духовного начальства в крае — и поэтому милостями никогда обойден не был.
Вся эта армия воинствующих ревнителей православия неплохо преуспевала. Монашеская ряса и клобук мелькали в толпе тоболяков едва ли не чаще, чем зипуны и малахаи.
После революции духовные владыки Тобольска, встав во главе всех контрреволюционных планов и заговоров, интриг и провокаций, втянули в них и монастыри. Многочисленные «дела», сохранившиеся в местной Чека, убедительно свидетельствовали об этом.
* * *
Саидов, которого Михеев оставил наедине с грудой архивных дел, встретил его, довольно потирая руки.
— Как дела, дорогой? Нашел клад? А я тоже кое-что нашел. Давай, хвали заранее. Я похвалу люблю.
— Дела такие, что в монастырь можно больше не ездить, — ответил Михеев, усаживаясь за свой стол. — Если ехать, то только с планом, где этот клад зарыт. Как у разбойников, знаешь — десять шагов на восток, три сажени в сторону гнилою дерева и так далее… А что у тебя, за что хвалить-то?
— Вот адресочки Уже проверены. Получай первую партию.
«Адресочки-адресочками, а вот что они дадут?» — сразу поскучнев, подумал Михеев.
Они и в самом деле мало что дали — первые из разысканных Саидовым бывших «сестер христовых». Отнекивались, отмалчивались, ссылаясь то на плохую память, то на неосведомленность. Что какие-то ценности в монастыре прятались — не отрицали, но что именно и где, сказать не могли.
Иные из них утверждали, что царские драгоценности надо искать не в монастыре, а в другом месте. Один такой рассказ Михеев попросил Саидова записать, надеясь со временем разобраться — что тут сплетни и вымысел, а что правда.
«…В Знаменской церкви Тобольска служил иеромонах Феликс (Филикс по святцам). Лет пятидесяти, среднего роста, худенький, чернявый как цыган. Так его за глаза и звали Феликс-Цыган. Фамилии, конечно, никто не знал. Был очень плутоватый, охочий до баб. В Тобольске он обжулил многих. В 1919 году, когда умерла Чемодурова, вдова бывшего царского камердинера, Феликс как-то сумел заполучить все оставшиеся после нее ценности. Пытаясь соблазнить одну из монашек, показывал ей, еще в 1920 году, четверо или пятеро часов с царскими гербами и вензелем «Н.П.» Часы были с боем, цифры на них светились. Потом показывал круглое кожаное портмоне с тремя отделениями, наполненными до верху золотыми монетами — империалами, полуимпериалами и пятерками.
Когда белые отступали, Феликс ходил по тобольским купцам и предлагал им сохранить ценности у себя в Знаменском монастыре. У жены городского головы выманил таким путем шкатулку с драгоценностями. У купца одного — банку с золотом, запаянную. А после никому ничего не возвратил, сказал, что при обыске отобрали, хотя обыска у них в монастыре не было. Говорят, что к нему и какие-то царские драгоценности попали.
Где теперь Феликс, неизвестно. Из Тобольска он уехал в 1923–1924 году. Когда уехал, вытребовал к себе монашку Евсетию, свою любовницу. Потом стало известно, что Феликс отравил ее — слишком многое она про него знала. Такие штуки он и до этого проделывал, заметая следы. Зарезал монаха Иннокентия, говорили также, что и другой монах, Прокопий, скоропостижно умер не без его участия, да, похоже, и сам игумен, Павел Буров, который очень его боялся, — тоже. Его все привыкли бояться: при царе был связан с полицией, при белых — с контрразведкой, и всегда стращал: кого хочу предам, кого хочу — выручу.
Была еще в городе жена крупного торговца и пароходчика Голева. Он — богатый старик, а она из бедной семьи, молодая и красивая. Звали ее за бойкую жизнь попросту — Нюркой. Когда Романовых привезли, она метила поживиться от них чем-нибудь — бриллианты любила. Удалось ли ей это, неизвестно, но, когда она бросила Голева и, обокрав его, уехала с новым любовником в Омск, то бриллиантов у нее в шкатулке было немало. А потом в Омске у нее еще любовник был…»
— Тут уж ты перестарался, — смеясь, заметил Михеев, читая записи Саидова. — Зачем в протокол тащить всех ее любовников?
— А я знаю? — сам удивился Саидов, озорно хмыкнув. — Вдруг пригодится…
— Это верно, нам все может пригодиться, — задумчиво подтвердил Михеев.
* * *
А Саидов каждый день прибавлял к списку бывших монахинь новые имена. Подолгу рыскал по городу и окрестным деревням, устанавливая адреса, добывая сведения о бывших жилицах обители.
— Эка, сколько ты их откопал, можно заново монастырь создавать, — заметил ему, смеясь, Михеев. — Только игуменьи не хватает.
— Будет и игуменья, — довольно щурясь, успокоил его Саидов. — Дай только срок.
— Где ж ты ее возьмешь? Она ведь умерла.
— Одна умерла, а другая жива. Та, что сменила Дружинину. Липина ее фамилия.
— Так давай ее сюда, — обрадовался Михеев.
— Обожди, дай срок. Липина в Омске. Ее еще разыскивать надо. И доставить сюда.
— Даю, даю срок. Неделю хватит?
— Думаю, что раньше успеем. А пока давай работать с теми, что здесь, под боком. Только я смотрю, мямлишь ты с ними. Нас так не учили. Построже надо. Враги ведь. Что с ними нянчиться.
— Нельзя, Саша. Не все враги. Есть и просто заблудшие души, случайный элемент. Да и с врагом надо быть сдержанным, спокойным. Бить его логикой, а не жестокостью. Криком да грубостью ничего не докажешь, истины не добьешься.
— Ну, твое дело, — сказал Саидов, видимо, не очень убежденный в его правоте.
А «свидетели» тем временем шли и шли — по два-три в день доставлял их Саидов в кабинет Михеева. Однако в большинстве это были рядовые монахини, мало или вовсе не причастные к укрытию ценностей. Нового почти ничего они добавить не могли. Были и такие, что лишь путали Михеева, указывая на неизвестные якобы тайники которые на проверку оказывались ложными. Иные болтали невесть что о фантастических, никогда не существовавших драгоценностях, хранившихся будто бы в монастыре, но нетрудно было убедиться, что это лишь отголоски обывательских слухов, нараставших в свое время подобно снежному кому.
Встречались и фанатички, глубоко затаившие злобу и ненависть к «нехристям», разрушившим их привычный уклад. Они либо упорно отмалчивались, ссылаясь на незнание, либо прямо заявляли, что ничего не скажут, ибо отвечать не желают. Однако Михеев терпеливо, подолгу сидел с ними, пока не устанавливал, что и сказать-то им чего-нибудь нового, собственно говоря, нечего. А если и есть что, то незаметно для себя они так или иначе это выбалтывали в разговоре.
Особенно колоритной среди таких была Карпова — Селафаила по монастырю. Сухая, костистая старуха с фанатично горящими на длинном лошадином лице глазами, без единого зуба во рту — она явно стремилась «пострадать за веру». Даже на обычные вопросы отвечала злобно, с вызовом, прямясь на стуле, как на костре.
— Какую должность в монастыре вы занимали? — спрашивал ее Михеев.
— Келейницей была у матушки игуменьи, царство ей небесное, несчастьями убиенной. Накажет вас бог за ее святую душу.
Михеев, устав от обходных и наводящих вопросов, на которые никаких интересных ответов не получил, решил пойти напролом.
— Мы знаем, что при вашем участии в монастыре прятались драгоценности бывшей царской семьи, в частности — шкатулка с ожерельем царицы. Где они сейчас?
Селафаила, с загоревшимся взглядом, брызжа слюной из беззубого рта, закричала кликушески:
— В узилище пойду, огнь и пытку приму, а не скажу! В геенне огненной на том свете мучиться не хочу. Вам, безбожникам, тайну святую выдать? Жги меня, режь меня, ничего не узнаешь. Удостоюсь муки-мучен-ской с верою и любовью во имя отца и сына и духа святого, именем коих клятву давала…
— Большое ожерелье-то было? — перебил ее Михеев.
— Не было никакого ожерелья, враки это. А четки иерусалимские, с частицей креста Христова, святыню царицы-матушки, так захоронили, что вовек никому не найти. И не пытай лучше. Я не Препедигна-грешница, коей вечно гореть в аду, в смоле кипящей, клятву не нарушу.
— А что она сделала, Препедигна эта?
— Передала я ей от игуменьи узелок с золотом для укрытия. Тыщи на две, как сказали, рублей. А она, клятву нарушив, яко тать покусилась на добро обители, прикарманила. Говорит — украли. А кто на базаре за золото баретки новые покупал, спроси-ка у нее? То-то. В геенне ей место, греховоднице толстопузой. А меня — хоть режь, хоть жги… И о шкатулке царской не спрашивай, не скажу.
— О какой шкатулке? — насторожился Михеев.
— В которой четки святые хранились…
Михеев, улыбаясь, перемигнулся с Саидовым и прервал Селафаилу:
— Ладно, бабушка. Идите, отдыхайте. Резать и жечь мы вас не будем. Нет нужды.
Старуха растерянно посмотрела на него, затем перевела недоуменный взгляд на Саидова, словно прося перевести — о чем это ей говорят.
— Идите, идите, — встал, чтобы проводить ее, Саидов. — Идите с богом, отдыхайте.
Но Селафаила встала не сразу, все еще ожидая чего-то, не веря, что ничего более от нее не требуется.
— Кто бы эта такая — Препедигна? Имя-то какое, ни в жизнь не слыхал. Нет там ее в наших списках? — спросил Михеев, когда Селафаила вышла.
— Есть такая, — сказал, просмотрев свои списки, Саидов. — Только вот фамилии нет. Никак ие доищусь.
— А поискать надо. Даже без фамилии. Может, ее по фамилии-то до сих пор никто не зовет. И еще — что это за шкатулка царская? Только ли четки святые в ней хранились?
* * *
Царская шкатулка снова всплыла в несколько курьезном разговоре с другой келейницей игуменьи, древней старухой Чусовлянкиной.
— Агния мне имя дали, за кротость, — представилась она в ответ на вопрос об имени и фамилии, кротко глядя на Михеева тусклыми слезящимися глазами и держа ладошку ковшичком у уха.
— Долго вы в монастыре прожили? — спросил ее для начала разговора Михеев.
— Ой, долго.
— Лет двадцать?
— Двадцать, милый, двадцать, — кивала головой Агния.
— А может, тридцать? — улыбнулся Михеев.
— Тридцать, — охотно соглашалась бабка.
— Может, и больше?
— Кто его знает. Давно. С малолетства в обители.
— В каких вы там ролях были, в обители-то?
— В ролях не бывала, как можно! — испуганно отстранилась Агния. — Келейницей была я у матушки.
— Доверяли вам, значит?
— Доверяли, касатик. Волосы утром причесывала, постелю заправляла, в бане спину терла, перед сном иногда пятки чесать доверяли.
Саидов еле удерживал смех, несмотря на укоризненную мину Михеева.
— И тайны тоже доверяли?
— И тайны тоже.
— Какие же?
— А всякие. Сон какой привидится — расскажет, скоромное в пост при мне покушает, наливочку за пазухой принести доверит. Доверяли, милый, как не доверять, давно я при ней… — наставительно, как заблуждающемуся мальцу, объясняла Агния.
— Значит, знали вы и о том, как пряталось монастырское добро?
— Знали, как не знать.
— Вот и расскажите нам об этом.
— Что рассказывать-то?
— Ну — как прятала.
— Да я и не прятала вовсе. У меня своих делов хватало — в передней сидеть, доложить, кто пришел, подать что.
— А царского добра у игуменьи не хранилось какого-нибудь?
— Было и царское. Портреты были царские. За шкафом потом стояли, при новой-то власти…
— Я про другое, бабушка. Не было ли драгоценностей каких?
— Были и драгоценности. Панагия была, царицей посланная. Ложечка серебряная с вензелем царским — у послушницы отобрала, что певчей в царский дом ходила.
— Может, кольца были, броши, ожерелья, ну — бусы, что ли?..
— Бусы тоже были.
— Какие они с виду, из чего сделаны?
— Бусины кипарисовые, из креста Христова сделанные. В одной-то, большей, частица мощей святых. Тоже царицей даренное. Четки, по-нашему, называются.
— А из камней драгоценных не было ли чего? Говорят люди, что было, дескать.
— Чего не видала, того не видала, врать не буду. В шкатулке разве что у нее хранилось. Потайная шкатулочка, «Боже, царя храни» на ней вырезано и вензель государя.
Михеев и Саидов переглянулись.
— Где же она ее хранила?
— А за кивотом. Никого к ней не допускала. А глядела когда, так лишь в одиночестве. Окна завесит да при лампаде и разглядывает, перебирает.
— Пришлось, значить, видать — что там в ней было?
— Не довелось. Не любопытная я. Зайду не в пору, матушка зыркнет глазами, ну я и ходу назад, к себе в угол, от греха подальше. Видела, блестит что-то, а что — не пойму.
— На бусы не похоже?
— Может, и похоже, не разглядела.
— Куда ж она потом девалась, шкатулка-то?
— Кто ее знает. Только что после смерти игуменьи не нашли ее. Накануне еще была, знаю. Мать-казначея, что потом настоятельницей стала, все обшарила, много чего всякого нашла, а шкатулку — нет. Меня пытала, не знаю ли я. А я, говорю, почем знаю. Посмотри за кивотом, там была. Разворотила казначея кивот, а там пыль одна. Место, правда, знатко, где стояла шкатулка-то.
— Выходит, передала ее игуменья кому-то?
— Может, как не может.
— Кому, например?
— Вот уж и не знаю, что сказать. Мало кому она доверяла, игуменья-то наша. Недоверчивая была.
Разговор заходил в тупик — старуха в самом деле ничего не знала о передаче шкатулки в другие руки. Да и была ли она передана, не осталась ли где-то там же, в монастыре, укрытая той же игуменьей в новом месте? Видно было, что Агния ничего не собиралась скрывать, о тайнах она имела свое понятие — зачем скрывать то, в чем нет ничего плохого? Да и знать она, несмотря на близость к игуменье, могла немногое — нелюбопытная, кроткая, исполнительная слуга, с которой не церемонится, но и близко к тайнам не допускает ее хозяин.
Михеев поймал себя на том, что он с совершенно, казалось бы, неуместным чувством теплой жалости смотрит на эту сухонькую, глубоко согнутую старушку в стареньком дырявом платке, выцветшей латаной юбке, глухую и почти слепую — кроткое, беспомощное существо, жалкое в своей неприкаянности. У ног ее на ковровую дорожку натекла лужица грязи. Подошва одного из дряхлых опорков отстала, и в ощерившийся деревянными зубами просвет выглядывает голый желто-синий костлявый палец.
— Ну что ж, бабушка, спасибо и на том, что вспомнила. Далеко живете-то?
— Да ведь как тебе сказать. Тебе — близко, мне — далеко. Ползу-то я как улита.
Михеев наклонился к Саидову:
— Отправь-ка ты ее, пожалуйста, на вашей пролетке. Будь другом, сделай…
Саидов удивленно посмотрел на него, но отложил перо и, взяв старуху под локоть, повел ее к выходу.
Как на очень близкое к игуменье лицо монахини указывали на бывшую благочинную монастыря — Мезенцеву. Найти ее оказалось нетрудно, она никуда из Тобольска не выезжала.
«Я, Мезенцева Марфа Андреевна, по монастырю Рахиль, — записывал Саидов ее ответы на вопросы Михеева, — родилась в 1875 году, в селе Блинниково, в семье зажиточного крестьянина. Кроме земли и хозяйства, отец имел еще и торговую лавку. Я до двенадцати лет жила в семье, а потом переехала в Тобольск, к брату, занимавшемуся там мучной торговлей, и помогала ему управляться по дому. Восемнадцати лет ушла в монастырь…»
— Почему? — спросил в упор Михеев.
Мезенцева — высокая, статная, степенная и медлительная в движениях — повела на него темными, глубоко посаженными глазами.
— В те поры это не запрещалось.
— А все же? По своей или по чужой воле? Или случай толкнул? — настаивал Михеев, с интересом оглядывая ее скромную, но добротную и аккуратную одежду, не по возрасту свежее, почти без морщин лицо с крупным красивым ртом. «Красавица, наверное, в молодости была», — подумал он.
— По своей доброй воле, по собственному хотению, — ответила Мезенцева, но почему-то отвела глаза.
— Продолжайте, — предложил Михеев.
«…Когда брат женился, я, испросив родительского благословения, ушла в обитель. В 1915 году игуменья поставила меня хозяйкой монастырского подворья в Тобольске. На исходе 1920 года вернулась в монастырь, была рукоположена в благочинные…»
— Но ведь вы, кажется, до этого не были полноправной монахиней? — спросил Михеев, доставая из стопы папок на столе какое-то старинное «дело» с черным восьмиконечным, крестом на обложке. — До революции вы числились в белицах, то есть в послушницах.
Мезенцева проводила медленным цепким взглядом «дело», легшее перед Михеевым.
— Постриг я приняла в двадцатом году, — неохотно ответила она.
— Что же так поздно? Двадцать пять лет жили в монастыре, а постриг не принимали?
— Так уж Получилось, — вздохнула Мезенцева. — Думала, может, домой вернусь, мать у меня хворая, уход нужен.
Михеев молча перелистал «дело» и отложил его обратно в стопу папок.
— Дальше? — попросил он.
«…В монастыре я прожила до его закрытия, а после поступила в услужение к архиепископу Назарию. Когда он в 1930 году умер, жила в частных домах, зарабатывая тем, что услужала знакомым людям по хозяйству, а летом — на поле и в огороде…»
— Биография интересная, — заметил Михеев.
— Да уж какая есть, — спокойно отпарировала Мезенцева.
— А за что вы сидели, Марфа Андреевна?
— Кто не сидел, — также спокойно ответила Мезенцева. — От сумы да от тюрьмы не отказывайся. А за что, вам лучше знать.
— Ну, все же. Чтоб старые бумаги не ворошить, — потянулся опять Михеев к папкам.
— За имущество… обители, — с вызовом глядя на Михеева, ответила Мезенцева.
— Как это за имущество? Растратили, что ли, на своем подворье?
Мезенцева не приняла иронии.
— Прочитали в бумаге, что, значит, за сокрытие монастырского имущества и за сопротивление при его изъятии.
— Вот это понятнее, — захлопнул папку Михеев.
— Что ж тут понятного? — зло переспросила Мезенцева. — Свое прятали, не чужое.
— Свое? — не удержался Саидов. — Да была ли там вашего-то хоть кроха? Народное все… Народ нес, а вы у него последнюю медную копейку…
Мезенцева не удостоила его взглядом.
— Так за что все-таки посадили вас тогда? — повторил вопрос Михеев.
— Укрыли добро свое — утварь церковную, иконы, евангелия не сдали, как приказано было.
— А может, не только иконы и евангелия?
Мезенцева молчала — дескать, я все сказала.
— А серебро, ранее описанное, не прятали? — чувствуя, как в нем накипает злость, но сдерживая себя, откинулся на стуле Михеев. — А муку и сахар, что с подворья были привезены? В землю зарывали — пусть сгниет, да ребятишкам Поволжья не достанется, пусть пухнут с голоду — так? Что ж молчите, Марфа Андреевна?
— Как все, так и я, — угрюмо выдавила Мезенцева. — Отсидела, сколько положили, две недели, и ладно. Что, снова сажать будешь? За старое…
— Царскую шкатулку вы прятали?
— Нет, не я, — быстро, без раздумья ответила Мезенцева. — Я за муку да за сахар сидела.
Михеев удовлетворенно отметил — значит, шкатулка с ожерельем все же не миф. Была. А может, и есть еще… Мезенцева, однако, сидела спокойно, с непроницаемым лицом.
— А кто?
— Не знаю. Я на подворье была при царе-то.
— Зато когда изымали монастырские ценности, вы были там, в монастыре.
— А вот и нет, — словно поддразнивая Михеева, кивнула головой вбок Мезенцева. — Я в то время в обители не была. Отпустили меня в деревню, мать хоронить. Месяц там находилась.
— Эвон как, — усмехнулся Михеев.
— Можешь проверить. Книги церковные посмотри, запись об отпевании есть. В сельсовете справься, там сторожем старичок служит, соседом нашим тогда был, помнит.
— А за муку когда садили?
— Это уж после, когда вернулась.
— И о шкатулке больше не слыхали?
— Не слыхивала. А была она? — не то интересуясь, не то сомневаясь, спросила Мезенцева. — Если и была так…
— Что — так?
— Что с возу упало…
— То подобрать можно, — подхватил Михеев.
— Подбирай, если знаешь, где, — зло и насмешливо глянула ему в глаза Мезенцева.
— А вы знаете?
— А я и не теряла.
«Язычок остер!» — оценил про себя Михеев ее быстрые и находчивые ответы. Заглянув в составленный по допросам список знакомых игуменьи, спросил:
— Кто такой Томилов? Знали такого?
Мезенцева ответила не сразу. Казалось — думает, изучающе вглядываясь в Михеева.
— Нет, не припомню.
— Я напомню. У игуменьи частенько бывал.
— Я не келейница, у дверей ее не сидела. Кто там ходил к ней — где мне всех знать.
«Может, и в самом деле не знает?» — подумал Михеев.
— Не там ищешь, дорогой, — прервала его молчание Мезенцева. — Что ты меня словно по косточкам обсасываешь? Сказала тебе — непричастная я к этому. Верь, не прогадаешь.
— Где же, по-вашему, искать надо?
— У отца Алексея, вот где. А в обители все, что было спрятано, все найдено, не сумлевайся. Отец Алексей в большом доверии у царя был. Подарками царскими хвалился, да не в них дело. Шпага царевича у него хранилась, точно тебе говорю. Вся золотая, бриллиантами осыпанная. И еще что-то — не то ожерелья, не то корона царицына. Вот где щупать-то надо было. Так и увез с собой все добро — с верных слов говорю тебе, слушай меня… Пока вы там бедных монахинь за иконы какие-то таскали, отец Алексей — иерей хитрый, что и говорить, — благословлял вас за это, что не его, а нас, грешных, тормошите зазря…
— Что ж тогда не сказали властям, вам беспокойства, глядишь, не было бы.
— Не наше это дело. Не спрашивают, так не спля-сывай, так у нас говорят.
* * *
Отец Алексей. Домашний священник Романовых в Тобольске. Особо близкое к ним лицо. Пожалуй, ему могли доверять больше, чем какой-то незнакомой игуменье… Был смысл прислушаться к словам Мезенцевой. Саидов, которого Михеев спросил об отце Алексее, тоже слыхал раньше о нем, но к слухам о золотой шпаге и царской короне отнесся с сомнением — обывательской болтовни такого рода по Тобольску все эти годы ходило немало. Тем более, что отец Алексей до последних лет жил здесь же, в городе, как говорится, у всех на виду, и только лишь года два или три назад выехал в Омск к детям, где, говорят, и умер.
Однако вечером, докладывая в Свердловск о ходе работы, Михеев счел нужным сообщить об этом Патракову. Тот отнесся к сообщению как будто безразлично, только лишь предложил тут же уточнить «исходные данные» о семье попа.
На другой день Михеев имел возможность допросить Липину — она прибыла с утренним пароходом из Омска.
К сожалению, возлагавшихся на нее надежд Липина не оправдала. Эта ловкая в своем кругу интриганка, наглая и плутоватая, всю жизнь мечтавшая об игуменском клобуке, о власти, получила ее в конце-концов тогда, когда власть эта уже была призрачной и ни доходов, ни почестей особых не принесла ей. Еще какое-то время она была игуменьей доживавшего свои дни полуофициального монастыря с двумя-тремя десятками монахинь-полукалек, которым больше некуда было податься.
Еще не такая уж старая — подходило шестьдесят, — но неожиданно потерявшая «нить жизни», надежды, которыми жила, ради которых столько интриганила, она как-то сникла, слиняла. Из боевой прежде и крутой нравом влиятельной матери-казначеи, привыкшей и угодничать и командовать, эта бывшая «Ришелье в юбке» превратилась в скучную болтливую старуху, неопрятную и болезненную, с потухшим взглядом белесых глаз.
— Все, дорогие вы мои, все как есть, выложила я тогда Чека как на духу, — скрипела она, привалясь к столу. — Власть надо уважать, всякая власть от бога. С игуменьей я воевала, доказывала — сдать, мол, надо ценности-то. За то и потерпела, была отрешена от должности казначеи. Спасибо, преосвященный не утвердил унижение сие. Сама я ничегошеньки не укрывала, а про что знала, сообщила властям. А когда была рукоположена настоятельницей, не токмо что прятать — сама искала, чтоб передать по назначению.
— Очень вы, значит, преданы Советской власти? — невозмутимо спросил ее Михеев.
— Кого хочешь спроси, все скажут.
— Почему же тогда не сообщили никому об укрываемых в монастыре царских драгоценностях?
— Все как есть говорила. И о царской посуде, и о письмах зловредного старца Распутина…
— Ну, это, положим, нашли без вашей помощи. Я о драгоценностях говорю. Об шкатулке царской, например.
— А что, нашлась она? — чуть не привскочила на стуле Липина.
— Шкатулку помните?
— Бала такая, верно ты говоришь. Правду тебе скажу — искала ведь я ее в покоях игуменьи. Только — не нашла. В другие руки, видно, попала, хитнику какому-то. А ведь была, знаю. За неделю перед этим подглядела, куда она прячет ее.
— Значит, знали, что там есть драгоценности?
— Да как тебе сказать… Вот как дело-то было. Еще в девятнадцатом, при белых, пошла я как-то к игуменье по делам. Да мимо келейниц-то и шасть без предупреждения к ней в спальню. Смотрю, сидит это игуменья не одна, а с ней господин Волков, царский камердинер. Сидит и пишет что-то на листочке. Он и раньше у нас бывал, когда царь тут жил, в Тобольске… А промеж них, игуменьи и Волкова, на столе — шкатулка открытая. Что в ней есть, не разглядела я, не успела, игуменья шкатулку захлопнула и на меня сердито так посмотрела — чего тебе, дескать, надо? Только и видела, что сияние волшебное из шкатулки идет. А что сияет, не довелось рассмотреть. Я объясняю, по такому-то, мол, делу. А она рукой на меня машет: «Потом, потом. Не до тебя. Видишь, с человеком занята. Иконки ему в дорогу собираю, им у нас оставленные». А какие уж там иконки… Вот потом я все и тщилась узнать, что там, в шкатулке, было? Осталось там или господин Волков забрал.
— Так и не удалось узнать?
— Не удалось, родимый. Опоздала, видно, я. На крыльце я тогда стояла. Слышу — крики в покоях игуменьи. Я — туда. А навстречу Препедигна. Кричит: «Матушка преставилась». Прибежала я в спальню, а она уж, считай, совсем остывшая. Кругом беспорядок, будто шарил кто. Я — к киоту. Вынула икону, за которой, как видела, ставила игуменья шкатулку, а там пусто. То ли Препедигна, то ли до нее кто, только досталась кому-то, а не мне… Не обители, — поправилась, потупившись, Липина.
«И тут Препедигна, — отметил про себя Михеев. — Надо все же разыскать ее».
Липину он отпустил — нового она, судя по всему, сказать ничего не могла: зная многое, она не знала главного.
* * *
Известие об отце Алексее, по-видимому, вызвало у начальства интерес — Михеев получил распоряжение явиться в Свердловск со всеми данными о бывшем царском духовнике.
Михееву возвращаться не хотелось. Хотя внешне казалось, что он зашел в тупик — допрошены все, кого удалось найти, а дело ни на шаг не продвинулось к успеху. Разве только Препедигна… Да и было ли ожерелье-то? Быть может, это тоже только лишь один из обывательских слухов.
Но все же считать работу законченной он не хотел. Пока нет убедительных данных о том, что ожерелья не было, до тех пор, — думал Михеев, — заканчивать работу нельзя.
Саидов, узнав о вызове Михеева, нахмурился. Резко отодвинув в сторону конторские счеты, на которых подсчитывал приготовленные к сдаче комсомольские взносы, он не без ехидства заметил Михееву:
— Так, конечно, легче. Нетю, мол, и все.
— Что значит — нетю? — удивился Михеев.
— А это у меня сынишка так говорит, когда лень что-нибудь искать. Потеряет чулок и просит у матери — дай другой. Она ему — ты же, говорит, в той комнате где-то бросил его, поищи сам. Смотришь, пойдет, встанет в дверях, обведет взглядом стены и потолок и докладывает: нетю. Я уж знаю — лень искать. В других случаях, шайтан такой, правильно выговаривает: нет, нету.
Михеев улыбнулся, выслушав семейную притчу, но, положив руку на плечо Саидову, невесело сказал:
— А ожерелья-то все-таки нет. И следов к нему тоже.
— Почему нет? — замахал руками Саидов, бегая по комнате. — Следов много, только мы не знаем, какие из них ведут к цели. А потом… Больно уж ты мягок с ними, с монашками. Прижать бы их покрепче, кто-нибудь что-нибудь да и выложил бы.
— Что значит — покрепче? — вздохнул Михеев. — Пугать их, что ли? «Покрепче» я понимаю только лишь в одном смысле — покрепче логически строить допрос. Так знать все привходящие обстоятельства, так построить цепочку вопросов, чтобы человек неизбежно или бы сказал все, что знает, или бы соврал.
— Ага, вот видишь! — обрадованно закричал Саидов.
— Ничего не вижу. Вот и надо эту логическую цепочку вопросов строить так, чтобы ты мог твердо знать, когда он врет, а когда нет. И почему врет. Вот в этом мы с тобой, может, и оказались недостаточно крепки и умны.
— Значит, ты тоже считаешь, что продолжать дело бесполезно?
— Нет, не считаю. Но, честно скажу, как продолжать его — еще не знаю. Ты знаешь?
— Если тоже по-честному, как и ты — нет, — с улыбкой сознался Саидов, поигрывая костяшками на счетах. — Но, хоть наугад, а продолжать надо.
— Наугад — это плохо. Без системы поиск — не поиск. Вот и давай-ка осмыслим сейчас, что мы имеем.
— Давай, — согласился Саидов, снова усаживаясь за свой стол.
— Есть сигнал: в монастыре хранилось драгоценное ожерелье бывшей царицы…
— Так, — отложил Саидов косточку на счетах.
— Нет, ты не ту костяшку кладешь. Клади ту, что означает сотню.
Саидов сменил костяшку.
— Так вот, встает первый вопрос — было оно или не было? О том, что было, все говорят лишь с чужих слов, никто из опрошенных не может утверждать, что видел именно его. Документов на то, что ожерелье было в монастыре, тоже, конечно, не оставлено. Так? Значит из ста шансов половина — долой: пятьдесят за то, что оно было, пятьдесят — что не было.
Сбросив костяшку, Саидов отложил ниже пять других.
— Предположим — было, — продолжал Михеев. — Но сохранилось ли оно? Могло сохраниться. А могло и исчезнуть из тайника уже давно — времени-то ведь прошло не мало. Сбрасывай пятьдесят и клади двадцать пять…
— Оно могло исчезнуть из монастыря, но сохраниться в другом месте, — заметил Саидов, произведя на счетах операцию.
— Это уж другая версия. Важная, интересная, но не та. Ее мы рассмотрим отдельно. А пока пойдем дальше… Если ожерелье сохранилось, то доступно ли оно нам?
— Как это? — не понял Саидов.
— А так. Представь себе, что ют, кто знал тайник, умер или уехал. В таком случае лишь совершенно маловероятная случайность поможет натолкнуться на тайник. Практически учитывать ее нельзя.
— Двенадцать с половиной, — снова щелкнул Саидов костяшками.
— В другом случае мы имеем: и ожерелье все еще в монастыре, и есть на свете человек, который знает, где оно спрятано. Но двенадцать ли с половиной наших шансов из ста за успех? Нет, Саша, верных — меньше.
— Давай дальше, — предложил Саидов, недовольно глядя на счеты.
— Дальше так. Если и есть человек, знающий тайник, то в одном случае мы можем найти его, а в другом — нет. Ведь это может быть какое-то совсем незаметное, нами не предполагаемое лицо. Никто другой о нем не знает, сам он о себе, конечно, ничего не говорит. Может так быть?
— Может, — вздохнул Саидов, щелкая на счетах.
— Но вот, наконец, мы нашли человека, к которому сходятся все нити и мы можем доказать… понимаешь — доказать, что он участвовал в укрытии ожерелья. А ты уверен, что нам удастся в этом случае найти ожерелье? Я — нет. Он знает, что никто больше на свете не знает, где именно оно хранится. Может указать на ложный тайник и сказать, что ожерелье исчезло, кто-то уже нашел его. Может сказать, что он в свое время сам вскрыл тайник и передал ожерелье кому-то другому. Укажет на такого, кто давно умер или, скажем, уехал за границу, и попробуй опровергнуть это, уличить его во лжи.
— Уж только бы найти такого, — пробурчал Саидов.
— Значит, если мы и наткнемся на такого человека, это еще не полный успех, а возможная половина его. А сколько весит эта половина, Саша?
— Три целых и сто двадцать пять тысячных, — подвел итог Саидов.
— Вот эти три из ста и считай вероятностью успеха. Зато верными. Все остальное — может быть, а может и не быть. Три шанса. Тысячные можешь отбросить.
Саидов задумчиво курил, глядя на три костяшки, оставшиеся на счетах.
— Да… Малинин и Буренин. Арифметика.
— И логика. Хотя и примитивная. А теперь посмотрим, в чем состоят эти три шанса. Есть ли среди опрошенных нами человек, знающий тайну?
— Спрашиваешь. Знать бы…
— Кое-кого мы можем сразу вычеркнуть из списка — у кого алиби, у кого явная непричастность, у кого еще что. Но как из тех, кого можно подозревать, выбрать нужного, как уличить его?
— Чего там гадать — спрашивать и спрашивать, пока не скажут.
— Измором брать? Могут и в этом случае не сказать. Ты и знать не будешь — есть ему что сказать или нет. А время идет…
Михеев встал и с хрустом потянулся.
— На что ж ты тогда рассчитываешь? В чем они, твои три шанса?
— В чем? — переспросил Михеев. — Один в том, что кладохранитель — назовем его так — среди тех, кого мы нашли. Второй — среди тех, кого они назвали, но мы еще не разыскали. А третий — среди тех, кого и они не назвали, и мы еще не разыскали, а он есть и даже где-то, может быть, совсем рядом.
— Мудрено, — покрутил головой Саидов.
— Да, особенно если вспомнить, что у нас есть еще и вторая версия.
— Что ожерелье не в монастыре?
— И не у монашек.
— У отца Алексея, что ли? Болтовня, я думаю, это.
— Кто его знает… Проверить все же надо. Да и не он один мог быть кладохранителем. В этом направлении мы с тобой еще тоже не работали.
— Вот и давай работать, — оживился Саидов.
— А время? Знать бы, что идешь по правильному следу, наплевать бы и на время. А вдруг зря? Ведь всего-то у нас три шанса из ста. Год пройдет, пока все ниточки перепробуешь. Кто нам позволит год наугад работать?
— Черт-те что, — уныло согласился Саидов.
* * *
За день до отъезда Михеева неутомимый Саидов сумел-таки разыскать Препедигну. В миру она звалась Прасковьей Архиповной Мироновой.
…Дородная, расплывшаяся старуха в тяжелом ковровом — несмотря на теплую погоду — платке, заколотом под подбородком булавкой, вошла в кабинет тяжело дыша и отдуваясь, отчего ее нижняя губа то отвисала, то втягивалась в беззубый рот. Усевшись, уставила на Михеева вопросительно-настороженный взгляд узких с отечными веками глаз из-под кустистых, похожих на шевелящихся тараканов, бровей.
О себе Миронова рассказывала нехотя, словно не понимая, о чем ее спрашивают. О других же говорила охотно, с неожиданной для тучного человека живостью.
Михеев задал ей вопрос о близких знакомых игуменьи.
— Степаниду кривую запиши, она матушке мед с пасеки возила и бражку-медовуху. Николая Егорыча с пристани — большой вклад в монастырь когда-то внес, иконостас обновил тщанием своим, за что и был у игуменьи завсегда обласкан вниманием и молитвами, — диктовала она Саидову, как дьячку поминальник, тыча скрюченным пальцем в край стола. — Чегодаеву вдову, из города она, мадерцей снабжала матушку, а в прочем баба непутевая была, все знали… Томилова Василия Михалыча — икорку нам доставлял, лодки наши чинить своих людей посылал. Похоже, что деньги свои матушка ему в рост давала. Через Рахилю с подворья тобольского…
«Рахиль — это ведь, кажется, Мезенцева? — вспоминал Михеев. — Но она, как будто, отрицала свое знакомство с ним. Почему бы это? Кто из них врет?»
— Отец Алексей изредка захаживал, — продолжала Миронова, тыча пальцем и колыхаясь всем своим тучным телом. — Толкование мирских событий изъяснял матушке. Газетку иногда читал… Не знаю, кого тебе и назвать еще, всех, кого вспомнила, сказала.
— А Петропавловского Степана Антоновича не вспомнили?
— Такого не помню. Не всех ведь знала, где их всех-то знать.
— А вот он вас знал. Деньги, говорят, вы с ним прятали.
— Эку несуразицу на человека наплетут. Не знала я его, так как же прятать с ним что-то могла? Не говори уж ничо-то.
— Да ведь у нас это не франко-потолок взято, — ввернул Михеев входившее в моду словцо. — Вот послушайте-ка.
Он раскрыл одну из папок на заложенном бумажкой листе и не спеша, поглядывая после каждой фразы на Миронову, прочитал:
«Моя давняя знакомая, Препедигна, просила меня в 1923 году спрятать доверенные ей монастырские ценности — 1300 рублей в золотых монетах, серебряные ложки и прочее. Я сложил все это в железную банку и зарыл, в присутствии Препедигны, в лесу по дороге к Жуковке. А потом перепрятал все это в другое место, уже один. Здесь они и были найдены по моему указанию».
Миронова, слушая, оставалась
спокойной, только шумнее засопела, расслабив отвисшую нижнюю губу. Когда Михеев кончил читать, она сипло хохотнула.
— Ловишь? Умер он, батюшка, в двадцать пятом. Как бы он сказал тебе это? Не с того же света.
— А он это даже сам и записал. И не на том свете, а на этом. И еще до двадцать пятого года. Итак, во-первых, вы его знали?
— Может, и знала, да забыла.
— Во-вторых, ценности вы все же прятали, хотя раньше отрицали это.
Миронова молчала, выжидательно глядя на Михеева.
— В-третьих, вы с Петропавловским спрятали золотых монет на сумму в тысячу триста рублей, а получили для этого больше — две тысячи. В-четвертых… — перечислял Михеев, тыча пальцем в стол, как недавно тыкала Миронова. — Впрочем, давайте по порядку. Снова да ладом, как говорят. Вы же видите, что нам многое известно…
— Раз все тебе известно, так чего спрашиваешь? Пиши сам, — проворчала Миронова.
— Ну что ж, и запишу. Пишите, Саидов… Я, Миронова, признаюсь, что скрывала свое участие в укрывании ценностей. Дело было так… Может, все-таки лучше сама продолжишь?
— Что уж… Пиши, — наклонила голову Миронова, будто рассматривая свои пухлые, в переплетении вен, руки на коленях.
Саидов записывал.
— Дело было так. Когда закрывали монастырь, ко мне в келью пришла старая монашка. Ни имени ни фамилии ее сейчас не помню, знаю, что потом она умерла…
— Я напомню, — прервал ее Михеев. — Селафаилой ее звали.
— Ну, пусть — Селафаилой…
— И не умерла она. Зачем же хоронить живого человека?
— Нашли, значит?.. Пиши… Пришла старая монашка, по имени Селафаила, и передала мне узелок с золотыми монетами. По ее словам, там было на две тысячи рублей, но я не считала…
— Считала, Прасковья Архиповна, считала. Нехорошо обманывать. Стыдно это.
— Бросишь стыд, будешь сыт. Ну, пусть — считала, чтоб тебя, — рассерженно отмахнулась Миронова. — Ну отсыпала себе малость. Пить, есть, на черный день, на смертный час надо?
— На смертный час семьсот золотых рублей не многовато? — заметил Саидов.
Старуха метнула в его сторону сердитый взгляд и, не отвечая, продолжала:
— Золотых монет было на две тысячи рублей, но семьсот рублей я взяла себе и хранила на черный день…
— Понемногу тратя их, — подсказывал Михеев.
— Сначала я прятала сверток… — пытаясь не обращать на него внимания, продолжала Миронова.
— В шкатулке царской… — продолжал подсказывать Михеев.
— И это знаешь? — скривилась в подобии усмешки Миронова.
— В шкатулке этой, — отстукивал пальцем слова Михеев, — у игуменьи раньше хранились разные драгоценности, в том числе ожерелье бывшей царицы…
— Разные драгоценности, — в тон ему повторила Миронова, не замечая насторожившихся вдруг глаз Михеева.
— Вот так-то лучше, Миронова, — похвалил Саидов, положив перо и встряхивая затекшую кисть руки.
— И куда вы их потом девали? — спросил Михеев.
— А их там уже не было.
— Как не было? Вы же говорили, что были.
— Это ты говорил. Может, и были, откуда я знаю. Тебе виднее.
— Хитрите, Миронова?
— И ничего я не хитрю. Слыхала я, что было там у игуменьи какое-то царское добро, а сама не видала. Игуменья-то при мне померла. Одна я при ней была. Ну, и думаю, чего добру пропадать, лучше уж я схороню. Как зашлась матушка-то в кашле, посинела вся, пала на пол, я от страха бежать хотела, да смотрю — она уж не дышит. Ну, я и обшарила келейку. Нашла за киотом шкатулку, завернула ее в платок, а тут покажись мне, что идет кто-то. Я с испугу и выбросила ее в форточку, в сад. А потом уж побежала к людям — матушка, мол, преставилась!.. Ночью подобрала шкатулку-то, принесла к себе, открыла, а там вата белая да бисеру для вышивания пригоршни две. Лестовки у нас им разукрашивали.
— А может, и еще что-то было? С чего бы это игуменье бисер хранить за киотом?
— Вот как перед богом! — перекрестилась Миронова.
— Ну, бога-то вы, я смотрю, не очень боитесь. Вон на семьсот золотых рублей его нагрели…
— В чем грешна, в том грешна, а чужой грех на душу брать не хочу.
— Как теперь проверишь?..
— Можно проверить. Шкатулку так с той поры и не открывали. В том же платке завернутая лежит.
— Где? — удивился Михеев.
— В завозне у меня, в сундуке под лопотиной старой. Боюсь показывать — на ней «Боже, царя храни» вырезано.
* * *
В тот же день шкатулка, о которой было столько разговоров, нашлась. Она спокойно лежала на дне сундука в пристрое дома, где Миронова жила у сестры.
Похоже, что шкатулку действительно с тех пор не трогали — была она завернута в пропахший затхлостью платок с плотно слежавшимися складками. Внутри шкатулки, как и говорила Миронова, на слое пожелтевшей ваты лежала блестящая россыпь бисера.
— Вот тебе и ожерелье, вот тебе и сияние волшебное, — сказал Михеев, сердито захлопнув крышку и сдвинув шкатулку. — В этом, вероятно, и источник всех заблуждений.
Саидов, сидя на углу стола, хмуро рассматривал резную надпись: «Боже, царя храни». Старательно сделанная из грушевого дерева шкатулка была украшена не только этой надписью, но и многочисленной безвкусной резьбой. Флаги, короны, мечи, ленты, венки и пушки, взятые, несомненно, с ремесленных картинок лубочных изданий. Не верилось, что эта базарная вещица могла стоять в дворцовых палатах.
— Чепуха какая-то, — сплюнул Саидов. — Та ли все-таки это шкатулка? Давай спросим старуху еще раз.
— Давай.
Миронова, оказалось, знала и историю шкатулки.
Да, шкатулка никогда не стояла в царских палатах, хотя и называлась царской. Делал ее каторжник Хохлов в Томском остроге. По чьему-то совету он задумал изготовить и преподнести ее в дар наследнику престола, впоследствии ставшему царем, Николаю Романову, возвращавшемуся в 1891 году из августовской поездки на Дальний Восток.
Вояж этот был памятен Николаю. Над его злоключениями в Японии похохатывали в великосветских гостиных, шепотком злословили в кабаках, потешались в иностранных газетах и журналах и даже, напустив двусмысленного тумана, в некоторых русских изданиях. Дело в том, что наследнику-цесаревичу русского престола, сунувшемуся в городе Отсу куда-то без обычной в таких случаях свиты сопровождения, японский полицейский наставил шашкой на августейший лоб здоровенную шишку. Инцидент этот, скорее смешной, чем опасный, был выдан в официальных кругах за покушение на священную особу наследника, и в память «чудесного избавления от несчастья» по всей России служили молебны, закладывали храмы и монастыри.
Хохлов, в расчете на царскую милость, изготовил шкатулку с затейливой, но безвкусной резьбой, и с дозволения начальства решил преподнести ее Николаю, посетившему Томск на обратном пути из Японии. Конечно, через вторые руки. Подхалимствующие чиновники, рассчитывая обрадовать высокого гостя, попробовали почтительнейше вручить сие «свидетельство любви народной», но наследник, нервно дергавшийся при одном упоминании о «чудесном избавлении», брезгливо отодвинул пальцем, затянутым в перчатку, шкатулку в сторону и повернулся к ней спиной. Чиновники сконфуженно ретировались.
Непринятый дар, к которому, однако, прикоснулся царственный палец, забрал к себе местный архиепископ Макарий. Желая осчастливить старых знакомых, он при какой-то оказии переслал ее в Ивановский монастырь, к игуменье Дружининой. Там и хранилась шкатулка в почете под именем царской, хотя ее вернее было бы называть каторжной.
Все это подтверждалось заметками в местных газетах и рассказами старожилов, и основания не верить рассказу Мироновой не было.
Но куда девалось содержимое шкатулки, виданное Липиной и другими? Неужели там игуменья всегда хранила лишь бисер?
Миронова непритворно всплакнула, видя, что ей не верят, а оправдаться нечем. В стремлении доказать свою искренность, она даже решилась поведать о всех деталях своего участия в операции по укрытию монастырских ценностей, хотя об этом ее уже не спрашивали — ценности-то эти были потом все найдены.
Однако Михеев терпеливо выслушал, а Саидов старательно записал ее рассказ.
«В 1919 году, во время отступления белых, кажется в августе, меня и монашку-канцеляристку Серафиму Короткову вызвала к себе игуменья Дружинина. И сказала нам: «Надо спрятать ценное монастырское добро, чтобы уберечь его от Чека, когда придут красные. Я для этого нашла укромное местечко».
По ее указанию мы с Серафимой, втайне от других, перетащили ночью из покоев игуменьи в старую монастырскую церковь несколько каких-то коробок и кожаный мешок. В церкви имелась заброшенная лестница, о которой никто не знал. По ней мы и забрались в какое-то темное помещение. Там игуменья показала нам потайное место, обнаружить которое было очень трудно. Туда мы сложили все, что принесли, забросали старой рухлядью, замуровали вход и разрушили лестницу, будто ее и не было.
Кожаный мешок, который мне досталось нести, оказался очень тяжелым, пуда два с чем-нибудь, хотя и невелик по размерам. Что в нем находилось, я не знаю. Помню только, что игуменья сказала: «Вся ценность здесь, в этом мешке» и велела дать клятву, что мы никогда и никому, ни под каким видом, даже под страхом смерти, не выдадим тайну.
Больше я этого мешка не видела, но слыхала, что через некоторое время его перепрятали на новое место. Будто бы его зарыли в монастырском саду, в цветнике, под клумбой, что к стене на выход. Если заходить по задним воротам, то на правой стороне, недалеко от садовой решетки.
Как я узнала, игуменья применила хитрый порядок: одни только рыли или готовили тайник, другие — только прятали в него, а третьи — или, может, даже четвертые — перепрятывали. Это для того, чтобы запутать следы, если кто выдаст тайну.
И все же, после смерти игуменьи, узнав от кого-то о спрятанных разных монастырских ценностях и серебряной утвари, весом до восьми пудов, чекисты все это нашли и увезли. Искали тогда в саду, в малиннике, изрыли весь сад — копали канавы в разных направлениях. В те дни Серафима сказала мне: «Знаешь, ведь если бы они прокопали канаву на пол-аршина дальше, то нашли бы мешок, что мы с тобой прятали в церкви, а потом я перепрятывала. В нем и шкатулка царская была» Но когда мы с ней пошли смотреть это место, оказалось, что мешка уже там не было, его опять перепрятали, видимо тогда же, еще при игуменье».
Увы, все это было интересно, но бесполезно. В последние дни Саидов с помощниками несколько раз побывали в монастыре и облазили все его закоулки. Нашлось немало старых тайников, но все они были пустые.
— Не могла ли игуменья передать что-нибудь на сохранение отцу Алексею? Они, как вы говорите, знакомы были, — спросил Михеев Миронову на прощанье.
— Могла. Вполне могла. Если небольшое что. Только… — замялась Миронова.
— Что — только?
— Только едва ли передала. Ненадежный человек был отец Алексей. Бражник, картежник, жадный до чужого. Ему вон государь золотую шпагу наследника доверил на сохранение, а он, говорят, присвоил, не отдал слугам, когда пришли за нею. Слыхано ли дело — царя обокрасть! — горестно качала головой Миронова.
— Уж если бога можно на семьсот рублей нагреть, то чего же с царем церемониться? — не удержался от язвительной реплики Саидов.
* * *
Утром, собираясь к отъезду в своей уютной комнатке, к которой успел так привыкнуть за это время, Михеев по инерции все еще продолжал обдумывать: все ли он сделал, что мог, так ли сделал? Насколько распутался тугой тобольский узелок?
Начальство, посылая его, дало понять, что оно и само сознает малую вероятность успеха, но его, Михеева, задача — доказать эту маловероятность, чтобы больше не возвращаться к вопросу и с чистой совестью сдать письмо-сигнал в архив. Или же, наоборот, представить доказательства перспективности дела.
Что же он, Михеев, скажет там, в Свердловске?
Доказать маловероятность, а по сути дела, невозможность успеха не трудно. Но с чистой ли совестью он будет доказывать это? Ведь еще не все ниточки прощупаны, узелок не распутан. Существуют непреложные три шанса успеха. И вторая, совсем почти еще не троганная, версия. Нет, о невозможности он говорить не будет…
А о чем будет? О перспективности? Три шанса из ста на перспективность. Большего же он, к сожалению, представить ничего не может.
Так как же быть?.. А пусть вот так и будет — он скажет все так, как есть, отказавшись от мысли подбирать доказательства под какой-то заранее намеченный вывод. Маловероятность? Да. Но не невозможность. Перспективность? Гм… Как сказать… Но не полное отсутствие перспективы. Так он и скажет.
— Так и скажем! — произнес он вслух, бросив в чемодан платяную щетку и оглядывая комнату — не осталось ли чего своего.
— Ты мне? — окликнула его из кухни Анисья Тихоновна. Сквозь приоткрытую дверь оттуда доносился аппетитный запах отдыхающих после печи рыбных пирогов. Заботливая хозяйка готовила Михееву дорожные постряпушки.
— Это я сам с собой, Анисья Тихоновна, — весело откликнулся Михеев.
— Приятно, значит, поговорить с умным человеком?
— Вот именно, — согласился, улыбнувшись, Михеев.
Он скинул гимнастерку и взял стаканчик бритвенного прибора, собираясь пойти за горячей водой, но у дверей остановился — хлопнула входная дверь и со двора в кухню вошел кто-то посторонний.
— Доброго здоровья! — приветствовал хозяйку женский голос.
«Ну, раз женщина, значит, надолго», — подумал Михеев и, отойдя от двери, занялся принесенной утром газетой. Однако сосредоточиться не удалось — разговор сквозь неплотно прикрытую дверь был довольно хорошо слышен.
— Нет, милая моя, не могу, не проси, — убеждала гостью Анисья Тихоновна. — Я бы ничего, да сын не велел. Дом, говорит, казенный, неудобно это — брать нам что-нибудь на сохранение.
— Аты уважь. Сын-тоне узнает. Зачем ему знать… — негромко настаивала просительница. — Я в долгу не останусь.
Приглушенный голос ее показался Михееву знакомым, но гостья, по-видимому, сидела спиной к его комнате и ее речь он разбирал с трудом.
— Да господи, не надо нам ничего, что ты! А от Андрея своего я отродясь не таилась. Да и зачем это? Мало в Тобольске голбцев, что ли? Через весь город два мешка к нам повезешь, неуж ближе нет?
— Есть-то есть, да ведь здесь знакомее. Сколько лет жила, привыкла, — не сдавалась гостья.
Анисья Тихоновна дипломатично молчала, давая понять, что решения не изменит.
— Что, приехал сын-то? — спросила после выжидательной паузы гостья, указывая, очевидно, на комнату Михеева.
— Нет еще, на неделе жду. Гость там, Андрея знакомый.
«Умно конспиративничает Анисья Тихоновна, молодец! — отметил про себя с улыбкой Михеев. — Сыну следует, научилась».
— Ну, нельзя так нельзя, — заявила гостья, скрипнув стулом. — А согласишься, очень благодарная тебе буду, что уважила.
— Не обессудь, — вздохнула хозяйка.
Услышав стук захлопнутой двери, Михеев вышел в кухню.
— Что это за гостья у вас была?
— Знакомая одна. Картошку на семена купила, просится в голбец к нам. Раньше она когда-то здесь жила и привыкла, говорит, к старому месту. Я бы и пустила, да Андрей не велит. Ну, собрался? Пирожок-то уж остыл, дай, уложу тебе.
— Спасибо, Анисья Тихоновна. Напрасно вы это, пропитаюсь как-нибудь.
— Вот то-то и оно, что как-нибудь. Наживешь язву в желудке от пристанской да вокзальной снеди. Знаю я вашу жизнь перелетную. Мой-то тоже все в разъездах. Приедет — худущий, в чем душа держится…
Вечером Михеев, тепло попрощавшись со своей доброй хозяйкой, выехал на пристань.
Найдя на пароходе свою каюту, опустил створку окна, чтобы выветрить запах карболки после недавней дезинфекции, и постелил постель, надеясь сразу же уснуть. Но быстро — не удалось И долго ворочался, возвращаясь памятью то к одному, то к другому из впечатлений последних дней.
Как из якорного клюза, поползла длинная цепочка бессвязных мыслей-видений. Обелиск Ермака на крутом берегу… Николай Романов, разгуливающий по саду губернаторского дома… Бульвар против Управления, теперь уже, наверное, вовсю вскипевший зеленью… Анисья Тихоновна, заботливо укладывающая в его чемодан свои постряпушки…
Последнее, на чем остановилась цепочка, был голос женщины, услышанный утром за стеной, на кухне у Анисьи Тихоновны. «Где все-таки я его слыхал раньше?»— больше из любопытства, чем из нужды, вспоминал он. И наконец обрадованно вспомнил — это же голос Марфы Мезенцевой, как он не узнал его сразу! И, вспомнив, тут же заснул.
Шпага наследника

Патраков внимательно выслушал подробный доклад Михеева. Но когда тот заговорил о возвращении в Тобольск, молча достал из папки бумагу и подал ему. Из Омска сообщали, что во Владивостоке на черном рынке был задержан спекулянт-валютчик с золотом и бриллиантами. При допросе показал, что кольцо с бриллиантом он купил в Тюмени у преподавателя каких-то курсов Владимирова. Александр Владимиров, уроженец Тобольска, сын священника, отрицал это и на очной ставке с доставленным в Омск спекулянтом заявил, что видит его в первый раз, поэтому был отпущен, так как спекулянт признал, что мог и ошибиться.
— Так что же теперь? — все еще глядя в бумагу, спросил Михеев. — Версию с монастырем оставить совсем, ради этой — новой?
— А вы попробуйте связать их. Может быть, появится и третья, пугаться нечего.
— Конечно, нечего, — уныло согласился Михеев.
* * *
Сутки пути до Омска сулили обычную вагонную неприкаянность, при которой и интересная книга не читается дальше двадцатой-тридцатой страницы, и пейзажи, даже живописные, приедаются на второй-третий час пути, и когда после каждой большой станции невольно тянешься к расписанию, чтобы узнать, сколько осталось еще там, впереди, этого вынужденного безделья. Устроившись у окна, Михеев равнодушно поглядывал на равнинные зауральские перелески, на поймы нешироких рек с белой осыпью гусиных стай по берегам, на унылый пейзаж сибирской степи, где лишь горделивые изваяния ястребов на вершинах телеграфных столбов служили, казалось, единственными приметами живого. И, конечно же — куда денешься? — перебирал по привычке в памяти тот багаж сведений, с которым ему предстояло распутывать клубок нового дела.
…Отец Алексей — настоятель тобольской Благовещенской церкви Алексей Павлович Владимиров — был в свое время видной фигурой в духовном мире Тобольска. Известность его, и можно даже сказать, слава, началась с момента, когда в Тобольск привезли низложенного царя и его семью. Начальник охраны полковник Кобылинский и специально уполномоченный комиссар Временного правительства эсер Панкратов, не желая стеснять «царственных пленников» (по терминологии Панкратова) в отправлении религиозных обрядов, разрешили им проводить ежедневные службы при доме, где они жили, а по праздникам посещать церковь. Ближайшей — буквально в одном квартале — оказалась Благовещенская церковь. Она и была избрана для этой цели. А ее настоятель — отправителем служб и духовником Романовых. Милость, о которой скромный провинциальный протопоп прежде не мог и мечтать, вознесла его в собственных глазах. Рьяный монархист и ревнитель православия, он воспринял это как посвящение в рыцари русской монархии, как высокое назначение, накладывающее на него обязанности всячески облегчать непривычные для монарха условия содержания его и семьи в тобольском заключении, а, может, даже и — помоги господи! — содействовать ее освобождению.
Приняв назначение, он постарался как можно благолепнее обставить ритуал домашних и церковных служб. Через тобольское подворье женского монастыря вытребовал от игуменьи четырех молоденьких монашек на роли певчих и служек и закрепил их за собой для домашних служб. А в самой церкви хор, обычно реденький и безголосый, теперь заполнял правый клирос до степени базарной толчеи — обывателей, жаждавших поближе взглянуть на недоступное им доселе зрелище, хватало.
Как ни странно, попу в этом активно помогал комиссар Временного правительства Панкратов — человек, называвший себя социалистом, просидевший за участие в каком-то террористическом акте несколько лет в Шлиссельбурге и изведавший по милости царя сибирскую ссылку, но после низвержения самодержавия вдруг принявший роль почтительного охранителя спокойствия своего недавнего политического врага.
Вошедший в свою роль отец Алексей не ограничился отправлением служб, ради которых только и был допущен в дом, где содержалась семья Романовых и часть свиты. Часто видясь с ними, подолгу беседуя, принимая их исповеди, новоявленный духовник, естественно, сделался одним из доверенных лиц Николая и его окружения и вскоре стал негласным их связным. К нему невольно потянулись все те, кто хотел бы завязать связи с бывшим императором.
Николай и его семья полюбили услужливого попика, так расторопно служившего им не только при церковных службах, одаривали вниманием при каждом удобном случае. Проникся доверием к нему и епископ Гермоген, оценив усилия и преданность бойкого иерея. И не замедлил выручить его, когда тот (не без участия епископа) стал виновником громкого скандала и над ним нависла недвусмысленная угроза серьезной кары.
Еще 3 ноября, в день, отмечавшийся раньше в церковном календаре как праздник «восшествия на престол» Николая II, выход Романовых из церкви был оформлен с соблюдением всего старого ритуала «шествия их величеств»— с громогласным трезвоном колоколов и славословием. Охрана выразила неодобрение, но Панкратов и Кобылинский замяли дело.
Осмелев от безнаказанности, отец Алексей (не без санкции своего духовного начальства, конечно) тайно приволок в свою церковь из Абалакского монастыря высокочтимую религиозными фанатиками «чудотворную» икону. Приволок «вне очереди» — обычно ее приносили в город летом с особой торжественностью. Произошло и «чудо», совсем не ожидаемое верующими, — в соборе и на улицах появились листовки с призывом «помочь царю-батюшке и постоять за веру русскую, православную».
Икону выдворили обратно в Абалак, но отец Алексей уже вошел в раж. И зарвался. Через несколько дней, 6 декабря, в какой-то еще «царский праздник», кажется в день именин Николая, дьякон, по указанию настоятеля, широкогласно, щеголяя утробным рыком, как встарь, провозгласил столь необычное для данных обстоятельств «многолетие царствующему дому» с подробным перечислением полных титулов всех присутствующих представителей этого дома.
Этот номер уже не прошел. Отца Алексея и дьякона арестовали и потребовали к ответу. Быть бы беде, но выручил Гермоген. Убедив власти отдать ему незадачливых священнослужителей под домашний арест, он сплавил их в ближайший монастырь на покаяние и, выждав, когда пройдет шум, вернул к своим обязанностям. Властям же направил послание, составленное по всем правилам духовной казуистики и наполненное туманными философскими рассуждениями. В послании утверждалась невиновность отца Алексея, ибо — как писал хитромудрый епископ — «по данным священного писания, государственного права, церковных канонов и канонического права, а также по данным истории находящиеся вне управления своей страной бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответственных им титулов».
В Тобольском Совете (к этому времени созданном) махнули на это рукой — сложнее заботы были, — но за церковниками стали приглядывать построже. Отец Алексей и сам, поняв, что времена изменились и либеральничать с ним больше не будут, притих. Но вернее будет сказать — затаился. Ибо связи с Романовыми не оставил и с осторожностью продолжал служить им, чем мог.
Не мог ли он в это время взять на себя и такой вид помощи, как укрывание царских драгоценностей? Пожалуй — мог. Но именно это сейчас и предстояло выяснить.
* * *
Почти вся семья бывшего тобольского протоиерея оказалась в сборе — в Омске. Исключение составлял младший сын Семен, еще относительно молодой человек (не было и тридцати), по специальности бухгалтер, успевший попасть в тюрьму за растрату.
Жена отца Алексея, Лидия Ивановна — типичная провинциальная попадья, некогда с достоинством поддерживавшая свое положение «матушки» обширного прихода, к этому времени как бы слиняла, став, очевидно, не более как обычной бабушкой своих внучат. Испуганно мигая кроткими овечьими глазками, она заискивающе глядела на Михеева, склонив по-птичьи голову набок, и всем своим видом выражала полную готовность отвечать на все вопросы, как на исповеди.
Да, отец Алексей был близок к царской семье, — охотно подтвердила она, — получал подарки, выполнял какие-то поручения. Какие — ей не ведомо. Не очень-то доверял ей протопоп, считая свою подругу жизни придурковатой. Не стеснялся в подпитии сообщить об этом и посторонним людям. Мог походя наградить увесистым тычком своей желтоватой, не знающей труда пухлой длани за неосмотрительно сказанное где-то словцо.
Конечно, она была свидетельницей всех встреч в своем доме (все-таки хозяйка!), но до беседы допускалась редко: ее дело чаи разлить, закуску подать. И она разливала чаи, накладывала варенье, подавала закуску, ставила на стол бутылки с мутным самогоном, к которому отец Алексей был пристрастен и всегда имел в запасе (за что и отсидел в свое время, в двадцатые годы).
А что творилось вне этого мира застольно-гастрономических забот, ее благополучно обегало, благо любопытной она не была. В доме в те годы, как и всегда, был какой ни на есть достаток, дети, слава тебе господи, взрослые, образованные, умные.
Особенно старший. Алексей, пошедший по стопам отца и даже, пожалуй, обещавший перещеголять его. Кончил духовную академию, слыл весьма энергичным духовным деятелем, мастаком на проповеди, популярным в среде интеллигентных верующих. Лица, знавшие его в те годы, добавляли — религиозный фанатик, ярый монархист и реакционер.
Под стать ему попалась и женушка. Из «образованных» — кончила гимназию в Тобольске и высшие женские курсы во Вроцлаве, стала учительницей, но в фанатичной религиозности, веронетерпимости и преданности монархии не уступавшая муженьку.
Алексей, единомышленник и надежда отца, умер в 1919 году. Вдова его не пожелала покинуть семью, осталась в доме свекра, а потом даже последовала за ним в Омск, где к той поре другие сыновья, Егор и Александр, сумели акклиматизироваться и принять благообразный вид совслужащих.
Егор, тоже успевший кончить духовную академию, но не сумевший найти применение своему диплому, занимал скромный, но не безвыгодный по тем временам пост заведующего столовой. Александр, по молодости лет (в 1917 году ему было двадцать) оставшийся без академического чина, тоже заведовал учреждением, но по иной епархии — какими-то курсами на железной дороге.
С удивительной готовностью спешили отречься от умершего отца совслужащие из поповичей. Михееву даже противно было слушать их откровения, хотя он понимал, что для него-то это необходимо.
— Да, старик любил выпить, любил, ничего не скажешь, скрывать не буду, — вежливенько барабаня по колену пальцами, рассказывал Александр. — И в картишки перекинуться не по маленькой. На прихожанок, чего греха таить, заглядывался.
— Поп, он, знаете, поп и есть, — на другой день вторил ему Семен, вызванный по этому поводу из тюрьмы. — Жадненький до добра и скупенький. Поверите — мне, тогда еще юноше, ну, не последнего сорта, конечно, на карманные расходы приходилось таскать у него из конторки деньги. Чтоб выдал сам когда — не жди…
И бывший бухгалтер досадливо поглаживал свой стриженый затылок.
— А уж на подарки падок был! Точно знаю, не брезговал подарками от бывшего Николая Кровавого, этой гидры самодержавия. Вот позвольте, перечислю… Два яйца серебряных к пасхе, иконку Николая Чудотворца, блюдца с гербами из дворцового сервиза, пепельница фарфоровая императорского завода… А что касается ложечки чайной, тоже серебряной и тоже с вензелем императора, то… хе-хе… Не поручусь, что пастырь овец августейших не спер ее у них при случае. Особо хочу заметить, что перед увозом царской семьи в Екатеринбург отец Алексей получил в дар епитрахиль, вышитую Александрой Федоровной и ее дочерьми. Нет, нам с таким отцом, конечно, было не по пути…
Словно соревнуясь, братья не стеснялись в выражениях и оценках для отца. Он для них был неприятным пятном в анкете, пятном, от которого хотелось избавиться любой ценой. Любой, кроме своего благополучия, конечно. А благополучие, им казалось, как раз, может, от того и зависит — насколько много они накопают грязи в белье собственной семьи.
Так, Михеев узнал, например, что отец Алексей, приблизившись к царской семье, ободренный попустительством Панкратова и Кобылинского и местного эсеровского совета, не скрывал своих убеждений. Подвыпив однажды, он заявил прислуге графини Гендриковой, зашедшей к нему с каким-то поручением: «Скоро опять будет переворот и опять будет монархия. Я-то уж знаю». За этой пьяной похвальбой, возможно, крылось и что-то еще, кроме пустых надежд, где желаемое выдавалось за действительное. Вместе с Гермогеном и Каменщиковым — царским служащим, жившим на одном дворе с отцом Алексеем, они за бутылкой вина не раз обсуждали «мероприятия» по оказанию помощи царской семье и возможному ее освобождению.
Желая поведать о корыстолюбии и нещепетильности отца, сыновья сообщили о следующем случае. Зимой 1917–1918 годов к отцу приезжал зять Распутина Борис Соловьев и какой-то немец Файнштейн. Оба — с целью устроить побег царской семье. Посланцы имели с собой немалые деньги — для подкупа охраны и для всего прочего. Привезли также хороших папирос для Николая, пару брюк ему же, четыре шляпы и что-то еще из нарядов (для переодевания, может быть?). У Соловьева деньги были пачками рассованы везде — по карманам, за пазухой, даже за голенищами валенок. Часть их посланцы вручили отцу Алексею для передачи по назначению. Однако, поскольку визит был тайным, отец Алексей счел за лучшее оставить деньги у себя. Домашние, за исключением разве что попадьи, знали это. Сыновья делали вид, что не замечают.
Но использовать деньги с толком попу не довелось. Вскоре они потеряли ценность, удалось лишь купить рояль, никому в доме не нужный. Да и с тем в 1920-х годах пришлось расстаться — его в числе других вещей списали и продали за неуплату штрафа, наложенного за какие-то самогонные дела.
* * *
Хранил ли отец Алексей шпагу? Была ли она вообще? Или это только россказни обывателей?
Егор на вопрос о шпаге ответил неохотно, но спокойно, как о чем-то очень обычном и общеизвестном, хотя до вопроса Михеева о ней молчал.
— Слыхал дома, что кто-то из Романовых подарил отцу шпагу. Называли ее золотой, но я думаю, что никакая она не золотая, а позолоченная, материальной ценности не имеет, разве что в музей бы сгодилась. Так, безделушка…
С неохотой говорили о шпаге и другие домочадцы отца Алексея. Но — говорили. И, сличая их показания со своими тобольскими заметками, с выписками из литературы, Михеев примерно восстановил обстоятельства, при которых шпага попала к бывшему духовнику Романовых.
Конечно же, она была вынесена из губернаторского дома не для подношения в подарок попу, а для того, чтобы надежно спрятать ценную вещь до лучших времен.
Это совпало, по-видимому, с тем моментом, когда солдаты охраны, возмущенные чересчур вольным образом жизни Николая, его семьи и свиты, потребовали навести порядок, установить более строгий режим, соответствующий положению арестованных.
Председатель отрядного комитета охраны прапорщик Матвеев рассказывал, например, о таком эпизоде:
«Будучи дежурным офицером по отряду, около 11 вечера я вышел в коридор из комнаты дежурного, расположенного в нижнем этаже губернаторского дома. Этот коридор пересекается другим, выходящим к лестнице наверх, где жили Романовы. Выйдя в коридор, я услышал вверху необычный шум; надо сказать, что в этот день у Романовых был какой-то семейный праздник, и обед у них затянулся до поздней ночи, — шум все усиливался, и вскоре по лестнице сверху спустилась веселая компания, состоявшая из семьи Романовых и их свиты, разодетая в праздничные наряды. Впереди шел Николай, одетый в казачью форму с полковничьими погонами и черкесским кинжалом у пояса. Вся компания прошла в комнату преподавателя Гиббса, где и веселилась до 2-х часов ночи».
Этот случай переполнил чашу терпения солдат охраны, и они решили обыскать Романовых и отобрать у них все оружие. Удалось найти немного: у Николая забрали злополучный кинжал, с которым он щеголял накануне, у князя Долгорукова — шашку. Еще одна шашка нашлась… у учителя французского языка Жильяра, человека отнюдь не военного и даже не воинственного. Ясно было, что оружие в доме есть еще, но оно надежно припрятано.
16 января 1918 года общегарнизонное собрание солдат приняло постановление: всем солдатам и офицерам снять погоны и запретить носить их впредь. Поскольку Николай и его сын почти все время щеголяли в военной форме теперь уже не существовавших полков, охрана потребовала, чтобы и они сняли погоны.
Требование это встретило энергичное противодействие. Полковник Кобылинский, возмущенный «разнузданностью» солдат, уговаривал их «оставить царя в покое, не оскорблять его этим актом» и даже истерично грозил им английским королем и немецким императором, под опекой которых якобы находилась семья низложенного царя. Не помогло — солдаты предупредили, что применят силу, но свое решение проведут в жизнь. Николай, сварливо ворча, обещал выполнить его. Но в своих комнатах погоны носил по-прежнему, а выходя на прогулку, прятал их под буркой. Глядя на отца, продолжал эту игру и Алексей — он прикрывал погоны башлыком.
Пожалуй, именно в эти дни и была вынесена шпага — Николай понял, что пора своеволия для него прошла, солдаты заставят выполнять свои решения, гарантии от новых обысков нет и спрятанное в доме оружие может быть найдено.
Но почему же он решил укрыть в надежное место не все оружие, а лишь одну шпагу сына? Ведь вот свидетельствует же в своих воспоминаниях Авдеев — бывший комендант тобольского и екатеринбургского домов, где содержались в заключении Романовы, — что оружие сдано не было. Рассказывая о привезенном из Тобольска в Екатеринбург многочисленном багаже, о целой груде всевозможных чемоданов, чемоданчиков и саквояжей (только ключи от них весили около 20 фунтов), он добавляет, что однажды, при каких-то поисках, неожиданно «…был обнаружен целый чемодан холодного оружия: сабли, кинжалы, несколько полевых биноклей, что и было сдано в Областной исполком».
Словом, оружие было поблизости и никому не передавалось — все, кроме одной лишь шпаги наследника!
Почему — загадка нетрудная. Среди шпаг сиятельных особ бывали и такие, которые стоили целые состояния.
Шпага была вынесена из губернаторского дома для надежного хранения, как ценность, которая потом могла весьма пригодиться.
Отцу Алексею шпагу принес царский служитель, «писец» Каменщиков. Он жил у попа на квартире, во флигеле. Длинную куриную кормушку, в которой под слоем земли была уложена завернутая в тряпки драгоценная вещь, ему удалось пронести через комнату охраны довольно спокойно.
Отец Алексей, гордый оказанным ему доверием, принял шпагу с благоговением и тут же сунул ее за переборку в спальне. Временно, конечно, — такую вещь следовало спрятать подальше, находка ее при обыске могла принести значительные неприятности, куда больше, чем за скандал с «многолетием». И шпага, завернутая в тряпки, вскоре повисла на гвозде под стульчаком уборной.
Весной Романовых увезли в Екатеринбург. Уехал с ними и Каменщиков. Ажиотаж, вызванный пребыванием царской семьи в Тобольске, затих, город зажил прежней сонной жизнью. Вздохнул свободно и отец Алексей — слава богу, все обошлось, опасности миновали. Доверенные ему на хранение ценности пить-есть не просят, ну и пусть себе лежат до поры до времени — хозяева их отошли к всевышнему и ничего не потребуют.
Но, оказалось, потребовали. Вскоре вернулся Каменщиков. «И что нужно этой лисе в Тобольске? — думал протопоп. — Уж коль вырвался живым из пекла, так утекай куда подальше, а он нет — опять в Тобольск, где у него ни родных, ни знакомых, ни кола ни двора, да где, к тому же, еще все знают, что он был царским прислужником».
Каменщиков по приезде направился в женский монастырь и остановился там. А уж затем нанес визит своему старому квартирохозяину. Домашние помнили, что гость завел разговор и о доверенной попу шпаге.
Отец Алексей ответил, что «вещь» на месте. Даже продемонстрировал, достав из уборной. Но выдать ее отказался, ссылаясь на то, что у гостя нет ни от кого ни письменных, ни иных полномочий.
Каменщиков ушел несолоно хлебавши. Вскоре ему представился случай отплатить той же монетой. В город пришли белые. А за ними следом — эмиссары созданной при Сибирском правительстве «Особой следственной комиссии по расследованию обстоятельств убийства царской семьи». Всем, кто имел хоть какое-то отношение к пребыванию Романовых в Тобольске, пришлось пережить тревожные дни — следователей интересовали даже мелкие обиды, нанесенные «августейшим лицам». Искали они и то, что могло остаться из романовского имущества. Бывших приближенных царя таскали на допросы, устраивали обыски в их домах, собирали о них компрометирующие данные.
Не избежал сего и отец Алексей. Но что могли следователи предъявить ему, верному холую свергнутого царя, человеку, известному всем своей ненавистью к большевикам и преданностью монархии? Царские подарки? Так они же, наоборот, свидетельствовали лишь о монаршей милости и благоволении. И верно — подарки не тронули, хотя и переписали все их, до мелочи. Но после первого обыска последовал второй, еще более тщательный, продолжались и новые допросы. Попа даже посадили в кутузку. И тут только он понял — чему или, вернее, кому обязан этим: его настойчиво спрашивали о шпаге. А о ней знал только Каменщиков.
Шпагу не нашли. После визита Каменщикова отец Алексей перепрятал ее, инсценировав покражу, для чего даже выломал стенку уборной.
Следователю он намекнул, что о тайнике знал лишь один Каменщиков — надо же было как-то поквитаться. Отца Алексея выпустили.
А шпага тем временем преспокойно пребывала на новом месте — в иконостасе Благовещенской церкви.
Шпага считалась потерянной — одним поп говорил, что она украдена, другим — что взята при обыске белыми.
Как это нередко бывает, тайник обнаружили не поиски, а случай. Надо думать, не очень приятный отцу Алексею.
Как-то в церкви затеялся ремонт. Подновляя иконостас, рабочие, вопреки запрещению, разобрали его и обнаружили сверток со шпагой. Трапезник церкви, старик Василий, испуганный находкой, прибежал доложить о происшествии своему духовному начальству. Как был, в подряснике, простоволосый, натянув впопыхах чужие опорки, отец Алексей помчался в храм, вырвал сверток из рук изумленных рабочих и под удобным предлогом выгнал их. Вернувшись, он сказал обеспокоенной происшествием попадье: «Спрятал от греха подальше, так что теперь никто не найдет».
Весть о находке в церкви, конечно, не осталась тайной, но отец Алексей с досадой опровергал слухи, заметая следы, уверял, что в свертке был всего лишь серебряный церковный подсвечник. В какой-то степени это ему удалось, никто тревожить попа не стал.
Прошло еще несколько лет, и Благовещенскую церковь, многолетнюю резиденцию отца Алексея, закрыли. Ликвидируя дела ее, он, конечно, полез и в тайник — шпага лежала теперь под ступенями алтаря. Каково же было изумление начальника храма, когда он увидел, что заветного свертка там нет. Насколько это изумление было искренним, установить трудно — попадья, перед которой оно демонстрировалось, все принимала за чистую монету. Сыновья в тот год жили уже в Омске и довольствовались тем, что сказала мать. Но, кажется, не очень верили отцу, умевшему устраивать такие спектакли.
Как бы то ни было, в Омск шпага не попала. То ли ее в самом деле украли, то ли она осталась в Тобольске, хитро перепрятанной, то ли пропала в дороге.
Дело в том, что в дороге случилось непредвиденное происшествие. Решив переселиться в Омск, к детям, хотя и отрекавшимся от отца публично, но не терявшим с ним связи, оставшийся за штатом поп ликвидировал в Тобольске все свои дела и, нагрузившись солидным багажом, занял на пароходе хорошую каюту и уже предвкушал радость скорой встречи с сыновьями. Однако где-то на подходе к Таре он однажды лег вздремнуть и — не проснулся. Такой был еще крепкий мужик, на здоровье не жаловался, и на тебе. Наспех произведенное в Таре вскрытие установило причину: морфий. Попадья решила, что отец Алексей отравился. Недоумевала — почему? Никаких поводов к тому словно бы не было. Сыновья решили не давать почвы слухам и замяли это дело.
— А тогда, в Таре, у вас ничего из багажа не пропало? — спросил Михеев попадью.
— Как не пропало. В этакой-то суете. Корзина с посудой да футляр не то из-под скрипки, не то еще из-под чего — отец Алексей сам упаковывал.
— Как он умер?
— Сказали — отравился чем-то. Гулял по палубе, в буфете с кем-то посидел, выпил, по обычаю. Пришел потом в каюту, присел в уголок и в сон его потянуло. Через час глянула, а он не дышит.
— Не ехал ли с вами кто из знакомых?
— Нет, будто Разве в дороге кто подсел… После Тюмени с кем-то в буфете подолгу засиживаться стал, — раздумывала попадья. — Да не похоже, что знакомый, сказал бы мне. А сама я из каюточки не выходила, животом маялась: рыбку покушала несвежую.
* * *
Михееву было ясно, что если отец Алексей и имел что-нибудь из царского добра, то в Омск оно не попало. Разве только мелочь какая-то. Колечко с бриллиантом, проданное спекулянту одним из братьев-поповичей, еще ни о чем не говорило, такой «су пери к» был не в диво и тобольской купчихе. Обыск у Владимировых ничего не дал. Собранные сведения свидетельствовали, что братья жили скромно, для такой жизни хватало получаемого по службе жалованья. Скрывают? Но как это докажешь? Похоже, чо скрывать все-таки нечего…
Можно было бы уже и возвращаться домой, но Михеев нарочно оттягивал отъезд, выгадывая время для несколько необычного занятия.
Еще в первые дни после приезда в Омск он познакомился с одним из работников Управления, бывшим уральцем. Земляки быстро нашли общий язык, и новый знакомый Михеева взял его под свою опеку: помог освоиться с городом, разыскать нужных людей, не давал скучать в выходные дни — утаскивал его к себе домой, где после двух-трех часов шахматных сражений следовали неизменные рыбные пельмени, фирменное семейное блюдо, а потом чай с кисловатым рябиновым вареньем.
Он-то и свел его с человеком, уютный
домашний кабинетик которого надолго стал вторым служебным кабинетом Михеева.
Коровин, старый большевик и участник гражданской войны в Сибири, долгое время работал в Харбине, в Управлении Китайско-Восточной железной дороги. В Харбин, центр белогвардейской эмиграции на Дальнем Востоке, в те годы стекалось изрядное количество эмигрантской литературы, как местного издания, так и европейского — из Парижа, Берлина, Риги, Белграда, Праги, Константинополя. Воспоминания битых белогвардейских генералов и выгнанных царских министров, записки и дневники сиятельных царедворцев и дипломатов, колчаковских и деникинских контрразведчиков, кадетских и черносотенных лидеров, великосветских кокоток и авантюристов, всей этой нечисти, выметенной ветром революции из России и осевшей в закоулках Европы и Азии, — мутным потоком хлынули в книжные магазины и газетные киоски. Для иностранца это было занимательным чтивом, соперничающим с «Тайнами Мадридского двора» и приключениями Ната Пинкертона, а для самой эмиграции — ее животрепещущей историей, такой близкой и такой уже далекой.
Не беда, что они не могли не видеть в этих книжонках явного извращения фактов, свидетелями которых были они сами, злобных вымыслов и клеветы — в бессильной злобе ко всему «красному», они с охотой принимали желаемое за действительное.
Но было в этой литературе и много такого, что, несомненно, должно было заинтересовать будущего историка великой эпохи — вырвавшиеся сквозь зубы признания, фальшиво истолкованные, но непреложные факты, неприкрытые откровения людей, которым уже нечего больше терять.
Коровин, еще будучи комиссаром партизанской бригады, сумел по-своему оценить значение таких документов для пропагандистской работы и умело использовал белогвардейские газеты и листовки в своих докладах и выступлениях: партизаны от души хохотали над неумелыми выдумками белогвардейских писак. А потом зачитанный на митинге какой-нибудь изуверский приказ, взятый из колчаковской газетки, производил на них не меньшее впечатление, чем зажигательная речь, зовущая в бой.
Еще в эти годы Коровин мечтал когда-нибудь засесть за историю гражданской войны в Сибири, собирал для этого материалы, в том числе и белогвардейскую литературу. Когда давняя болезнь вынудила его оставить работу на КВЖД, он вернулся в родной Омск с чемоданом, набитым подобными изданиями, и стал нештатным сотрудником Истпарта, зарывшись с головой в собранные им материалы. Но болезнь прогрессировала, силы таяли, и Коровин с грустью сознавал, что дело, задуманное им еще в годы боев, ему едва ли удастся завершить. С тем большей охотой он предоставил возможность Михееву ознакомиться с собранными материалами.
Михеев понял, что напал на самый настоящий клад — пусть не прямо, а косвенно, но он мог пролить свет на многие темные стороны дела, которым он занимался.
Страница за страницей, стараясь не пропустить ни слова, как бы взвешивая каждую фразу, положив перед собой бумагу и карандаш, проштудировал он толстую (в 300 страниц со 144 иллюстрациями) книгу колчаковского следователя Н. Соколова «Убийство царской семьи», изданную в 1925 году в Берлине.
Назначенный Колчаком 5 февраля 1919 года руководить следствием по делу о расстреле Николая II, судейский чиновник Соколов, не в пример его предшественникам на этом посту, тянувшим без особого успеха следствие с 30 июля 1918 года, рьяно взялся за дело. И, можно сказать, посвятил ему всю свою дальнейшую жизнь, как сообщает об этом в книге и он сам и автор предисловия князь Н. Орлов. Соколов сумел поставить дело на широкую ногу — опросил сотни свидетелей, собрал и изучил тысячи документов, провел десятки научно-технических экспертиз, многочисленные тщательнейшие обыски и раскопки. Даже пуговица, оторвавшаяся от царских штанов и найденная потом в Ипатьевском доме, интересовала его как важное вещественное доказательство (доказательство чего — он и сам толком не знал), и он скрупулезно описывал ее, фотографировал и отдавал на экспертизу. В дни, когда колчаковцы начали свой великий драп на Восток и «освободителям России» было уже не до остатков царских штанов, о Соколове забыли и лишь пренебрежительно отмахивались от настырного следователя. Но он не сдавался, требуя к себе повседневного внимания, людей и средств для продолжения работы, возя за собой целый вагон «вещественных доказательств» и разных бумаг. Полусумасшедший фанатик, с явно расстроенной психикой, он мнил себя историческим лицом, коему суждено осветить одно из величайших дел эпохи. Увы, даже его сподвижники смеялись над ним, видя смехотворность его потуг выдать за эпохальное событие рядовой закономерный акт революционной неизбежности.
Даже в суматохе отступления, когда Соколову пришлось сменить сначала комфортабельный специальный поезд на отдельный вагон, потом вагон на отдельное купе (и тс слава богу!), а в конце концов и купе — на место из милости в чьем-то купе, он не уставал приставать к людям с допросами, истово скрипеть пером по ночам, лист за листом пополняя «дело», до которого никому уже не было никакого дела.
Возмущенный невниманием колчаковского командования к его усилиям, он слонялся по приемным салон-вагонов высоких представителей союзников, предлагая принять под свою опеку его архив, а когда те отмахивались от него, как от назойливой мухи, умолял о содействии разных титулованных представителей русской знати и рядовых, очумевших от ярости монархистов, играя на их «патриотических» чувствах. Умолял спасти собранные им материалы и его самого — вершителя исторической миссии. Увы, все, озабоченные более всего своей собственной судьбой, квалифицировали эту миссию не исторической, а — совершенно справедливо — истерической.
Не зная, на чем и как он будет завтра пробираться за границу, Соколов, обливаясь слезами, сам выбросил часть материалов. Еще какую-то часть незаметно выкинули, как барахло, его попутчики. Но — подкупом, лестью, далеко идущими обещаниями — Соколову удалось все же, с помощью какого-то офицера, близкого к остаткам колчаковского командования, вывезти осколки своего архива в Китайца затем и дальше — в Европу.
Уже потеряв понятие о времени и обстоятельствах, подогреваемый только собственной фанатичностью да нещедрой поддержкой злобных антисоветских листков, он продолжал «дело» — снова приглашал на допросы людей, снова проводил экспертизы, прибегая к «благотворительной» помощи научных лабораторий капиталистических фирм, имевших свои счеты с русской революцией. Шантажируя «разоблачениями», в Париже он призывал на допросы бежавших за границу видных деятелей Временного правительства — Керенского, князя Львова и Милюкова; родственника Романовых князя Феликса Юсупова; дочь лейб-медика Татьяну Боткину (Мельник); члена Государственной думы скандально-знаменитого Маркова-второго, известного в думе под кличкой «Ванька-Валяй»; учителя царских детей Пьера Жильяра и ставшую его женой бывшую няню царевен Теглеву; бывшего камердинера Волкова и многих еще других.
Но, пока Соколов в неистощимом усердии строчил лист за листом, пополняя уже донельзя распухшее «дело» тысячью никому не нужных подробностей, его соратники по эмиграции, увидев, что теперь на «деле» можно неплохо заработать, тоже не дремали. Те, кто еще недавно, в пору отступления, досадливо отмахивались от Соколова, преподнесли ему неожиданный сюрприз.
В 1920 году в Лондоне появилась книжонка бывшего корреспондента «Таймс» в России Роберта Вильтона. В пору гражданской войны он, по поручению союзного командования, следовал по пятам за комиссией Соколова и имел в копиях материалы следственного дела. Книжка называлась «Последние дни Романовых» и произвела сенсацию, выдержав к 1923 году пять изданий на английском, французском, немецком и русском языках.
В том же 1920 году в Харбине под грифом «ЦК конституционно-монархической партии» вышла книжица со слезливым названием «Венценосные великомученики», составленная, как значилось на обложке, «по подлинным материалам следственного производства», то есть по материалам того же Соколова.
И, наконец, последний, особенно больной удар.
Оставшись не у дел, без средств и без надежд на будущее, бывший главнокомандующий колчаковскими войсками генерал Дитерихс, руководивший в свое время работой Соколова, но ничем потом не помогший ему, тоже решил теперь погреть руки на выгодном деле. Имея в своем распоряжении копию следственного дела и сдобрив материалы его своими «разоблачениями», он выпустил в 1922 году на Дальнем Востоке увесистый двухтомник: «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». Первый том состоял из 441 страницы текста и 1 карты, второй, носивший подзаголовок «Материалы и мысли», был тоньше — имел 232 страницы.
Падкие на сенсацию желтые газетчики и издательства выпустили следом по материалам этого издания свои грязные книжонки — в Константинополе, в Харбине, в Белграде.
Соколов взвыл от досады — обокрали! Попробовал протестовать, но протест не был услышан. Тогда он сам стал готовить свой труд к печати. Но дождаться его выхода в свет не успел — умер, не стерпев огорчений. Через год, в 1925 году, его книга вышла. Но никаких новых, ожидаемых злобствующей эмиграцией острых разоблачений она не принесла — основное было уже опубликовано, детали мало кого интересовали. Тем более, что Соколов пытался играть в объективность, а обокравшие его предшественники не скупились на занимательные вымыслы.
Так, особенно бесцеремонен с фактами был Вильтон. В его визгливо-злобной книжонке можно было увидеть, например, довольно обычный снимок красного уголка с помостом для сцены и трибуной для докладов. Зато надпись под снимком гласила: «Красная инквизиция. Комната красных комиссаров в Перми, украшенная еврейскими надписями, портретами… В столе, который виден на помосте, нашли целый набор различных орудий пыток». Под «орудиями пыток», очевидно, разумелся председательский колокольчик, стоявший на столе.
Неприличие пасквильной брошюрки Вильтона было настолько скандальным, что респектабельный «Таймс» вынужден был удалить его из числа своих сотрудников (о чем Вильтон сам горделиво сообщил в предисловии).
Среди мемуаров, пенных приводимыми фактами, Михеев отметил записки Жильяра.
Со скрупулезной тщательностью — день за днем — описывал свою жизнь в Тобольске бывший учитель французского языка Пьер Жильяр в книжечке, крикливо озаглавленной «Трагическая судьба русской императорской фамилии». Вывезенный в Екатеринбург вместе с остальной царской челядью, он, пользуясь своим французским паспортом, сумел быстро перебраться через линию фронта, подступавшую вплотную к столице Урала, и спустя немного времени комфортабельно устроился в салоне поезда французской миссии при белом командовании.
На что-то надеясь, Жильяр оставался с миссией до конца ее пребывания в России. Примечательно, что, встретившись с ним в сентябре 1918 года в Екатеринбурге, Соколов прочно вцепился в него, как в одного из главных «свидетелей обвинения». Сняв несколько допросов в Екатеринбурге, он допрашивал Жильяра в марте и в августе 1919 года в Омске, в марте 1920 года — в Харбине и не оставил в покое даже в Париже — в апреле 1920 года снова допросил его.
Помимо подробного дневника, сохранившего интимные подробности жизни в Тобольске, лейб-гувернер, имевший в своем распоряжении хороший фотоаппарат с достаточным запасом пластинок к нему, не скупясь, фотографировал все, что только мог. Этими снимками он потом щедро иллюстрировал свои книги. Значительным количеством его снимков воспользовался для своего «дела» и Соколов. «Его Величество за любимым занятием — пилкой дров», «Августейшая семья на прогулке в саду губернаторского дома», «Государь-император с наследником на крыше оранжереи» — чем не сенсационные «доказательства зверств большевиков»?!
С брезгливостью листал Михеев страницы воспоминаний, записанных кем-то под диктовку сбежавшего за границу малограмотного камердинера царицы Александра Волкова — «Около царской семьи». Они были изданы с предисловием великой княгини Марии Павловны в Париже в 1928 году. Злобный старик, брызжа слюной, клеветал, не стесняясь, на все и вся, не заботясь о достоверности, — лишь бы укусить побольнее. Не уступала ему и дочь врача Боткина Татьяна Мельник в книжонке «Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после Революции» (издано в Белграде в 1921 году). О «Страницах из моей жизни» пресловутой Вырубовой, вышедших в 1923 году, и говорить нечего.
С интересом читалась комичная перепалка двух однофамильцев — офицера С. Маркова, посланного Вырубовой в Тобольск для организации побега Романовых, и «парламентского монархиста» Н. Марка-второго, пытавшегося организовать этот побег помимо Вырубовой, Смехотворная дискуссия эта, перекочевавшая с газетных и журнальных страниц даже в отдельные издания, разгорелась в 1928–1929 годах. Не стесняясь в выражениях, однофамильцы нападали друг на друга, обвиняя один другого в срыве такого исторического с их точки зрения мероприятия, как побег царской семьи.
И уж без смеха совсем нельзя было читать такое, например, сочинение, как «Смерть императора Николая второго. Драма в 4 действиях с прологом и эпилогом», изданное во Владивостоке в 1921 году.
Видя интерес Михеева к этой литературе, Коровин сетовал, что, к сожалению, этому обильному мутному потоку белогвардейской клеветы и дезинформации противостоял лишь очень небольшой список нашей, советской литературы по этому вопросу. Да и то в большинстве своем уже забытой — по малой тиражности и давности лет.
Главная среди них — книга уральского большевика, первого председателя Екатеринбургского совета, одного из организаторов Красной гвардии на Урале, Павла Быкова. По заданию Уралистпарта он в 1921 году написал для сборника «Рабочая революция на Урале. Эпизоды и факты.» большую статью «Последние дни последнего царя», построенную на подлинных документах, «на основе бесед с товарищами, принимавшими то или иное участие в событиях», на личных своих наблюдениях, на показаниях арестованных белых офицеров.
Успех статьи, вернее большого очерка, был велик. Сборник быстро разошелся и уже в те дни стал библиографической редкостью. Быков же продолжал собирать материалы, и в 1926 году Урал книга выпустила отдельным изданием его большой исторический очерк «Последние дни Романовых». К тому времени Быков обстоятельно ознакомился со всей белогвардейской литературой по Этому вопросу и в своей книге успешно полемизировал с ней, разоблачая ложь и подтасовку фактов.
Но книга Быкова, к сожалению, была и осталась первым и единственным обобщающим трудом советского историка на эту тему.
Правда, ее в какой-то степени дополняли некоторые публикации. Например, опубликованные в журнале «Былое» в 1924 году (№ 25 и 26) воспоминания В. Панкратова «С царем в Тобольске».
В 1917–1918 годах он являл собой странную фигуру. Почтительная забота его о «царственных пленниках» (его терминология!) вызвала сначала недоумение, а потом ненависть солдат охраны, с одной стороны, и — личную симпатию, перешедшую вскоре в уважительную дружбу, ярого монархиста, начальника охраны полковника Кобылинского. Неизменной симпатией и уважением пользовался он и у Николая, и у членов его семьи, не исключая и злобную, никому не доверявшую Александру.
Реабилитированный колчаковским следователем, пощаженный и Советской властью, Панкратов в мемуарах своих, написанных под свежим впечатлением в начале 1920-х годов, беспощадно разоблачает сам себя, свою незавидную роль при последних Романовых, но — не замечает этого.
Совсем иное значение имели записки бывшего коменданта «домов заключения» в Тобольске и Екатеринбурге большевика А. Д. Авдеева. Они так и назывались: «Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге. Из воспоминаний коменданта». И были напечатаны в 1928 году в журнале «Красная новь». Этот обстоятельный и достоверный отчет посланца Уралобкома и Уралсовета о событиях и обстановке тех дней — ценнейший документ для историка.
Записки Авдеева интересными и важными деталями дополняли отрывочные воспоминания бывшего члена Уралсовета В. А. Воробьева «Конец Романовых» (журнал «Прожектор», 1928 год, № 28) и «Последний переезд полковника Романова» Н. Немцова, бывшего председателя Тюменского губисполкома, руководившего организацией переезда Романовых из Тобольска в Екатеринбург (журнал «Красная нива», 1928 год, № 7).
С особым вниманием вчитывался Михеев в строки, которые могли пояснить — что же было или могло быть у Романовых с собой в Тобольске. Было ли ожерелье? Была ли шпага? Может быть, ничего этого не было, а разговоры о них — отголоски давних обывательских слухов? А может, было и что-то еще, что выпало из поля зрения, но представляло несомненный интерес?
Вещей из Царского Села было взято в Тобольск великое множество — переезжал в длительную, возможно, ссылку пусть низложенный, но император. И не один, а вместе с семьей, со свитой и прислугой. Царь, не потерявший еще надежды если не на реставрацию монархии, то хотя бы на почетное изгнание в другие страны — ведь история знает немало тому примеров. Правда, история знала и другие примеры — судьбу лишившихся головы Карла I, Людовика XVI, но о них лучше было не вспоминать.
Новоиспеченный министр-председатель, рядившийся в тогу социалиста-революционера, Александр Федорович Керенский не только не стеснял Романовых в дорожной экипировке, но даже заботливо проследил за тем, чтобы экипировка эта была капитальной. Отправляя «царственных пленников» в Тобольск, он наказывал начальнику охраны полковнику Кобылинскому: «Не забывайте, что это бывший император. Его семья ни в чем не должна нуждаться». Это засвидетельствовал в своей книге колчаковский следователь Соколов, вообще-то не имевший намерения обелять Керенского, которого он считал одним из виновников свержения монархии.
Хотя на сборы было дано лишь два дня (12 августа объявили об отъезде, а утром 14-го поезд уже отправился), дворцовая челядь сумела экипироваться обстоятельно. В Тобольск ушло два поезда, в которых значительное количество вагонов было загружено багажом. Немало грузов пришло в Тобольск за несколько приемов и позднее.
Комиссар Временного правительства Панкратов записывал в своих воспоминаниях:
«Из Петрограда были посланы разные принадлежности внутренней обстановки дома… ковры, драпри, занавеси и т. п. Все эти вещи были высокой ценности».
«Внутри дом был роскошно меблирован: помимо имевшейся губернаторской мебели… часть мебели была доставлена из Царского Села».
«Часть комнат полуподвального этажа были загружены большим количеством багажа — чемоданы, ящики и т. п., хотя в первом этаже специально для этого имелись две комнаты, так называемые шкафовые, которые в свою очередь также были доверху заложены вещами».
На столе в тобольском кабинете Николая «…лежало с десяток карманных часов и различных размеров трубки».
«Имеются ли у вас книги? — спросил я княжен. — Мы привезли свою библиотеку, — ответила одна из них».
Комендант тобольского и екатеринбургского домов, где содержались Романовы, тоже не мог не отметить обилия багажа.
«Всех ключей было фунтов 20 от всевозможных чемоданов, чемоданчиков, саквояжей и т. п. Шляпами ведал один слуга, ботинками — другой, бельем — третий, верхним платьем — четвертый…»
«При таких поисках однажды был обнаружен целый чемодан холодного оружия — сабли, кинжалы, несколько полевых биноклей… Однажды открыли один чемодан, набитый доверху стеками и тростями, другой — трубками для курения табака».
«В начале мая в Екатеринбург пришел (из Тобольска) и «необходимый ручной багаж», составлявший битком набитые два американских (пульмановских) вагона».
Конечно, при таких удобных условиях сборов в дорогу не были забыты в Царском Селе и драгоценности. Правда, самая главная часть их находилась на специальном хранении в Зимнем дворце и в руки Романовым не попала.
Но и «дома» — в Царском Селе — их было изрядно. На парадных приемах Александра и ее дочери блистали бриллиантами и жемчугами. Кое-чем располагали и мужчины, Николай и Алексей: усыпанные бриллиантами украшения, запонки, булавки и перстни с драгоценными камнями, уникальные часы и шпаги…
Одна из бывших горничных сообщала:
«Драгоценности в Царском Селе укладывали горничная — Елизавета Эрсберг и камер-юнгфера царицы, ее любимица, вывезенная с собой из Германии, Магдалина Занотти… Драгоценности дочерей хранились у них в именных коробках (у каждой своя), обитых кожей, размером больше четверти в ширину и в длину и с половину этого высотой. Все эти коробки они взяли с собой. Что в них было? Про все не вспомню, но — много. Каждый год в свой день рождения каждая дочь получала от родителей в подарок по одному бриллианту в десять карат и по одной жемчужине. А в день именин — еще одну большую жемчужину, с горошину величиной. Таким образом, каждая из дочерей получала в год по две жемчужины, почему ожерелья у них и были неодинаковыми — кто старше, у того и больше, длиннее. У самой царицы была, конечно, своя, особенно длинная нитка».
Из икон брали с собой те, что поценнее, с дорогими окладами, усыпанными драгоценными камнями.
Словом, добра в Тобольске было у Романовых изрядно. И о судьбе его они беспокоились.
Как утверждали свидетели, допрошенные Соколовым, Николай и Александра забеспокоились о судьбе драгоценностей еще в конце 1917 года, через три-четыре месяца после приезда. А в начале следующего года уже предпринимали энергичные усилия для того, чтобы надежно упрятать их на случай возможных перемен.
Драгоценности передавались верным людям с таким расчетом, чтобы иметь их поблизости, на случай этих перемен. Но наверняка не все сразу. Кое-что оставалось еще какое-то время при себе. А когда Николай с первой партией семейства (жена и одна из дочерей — Мария) отправились в Екатеринбург, эта часть драгоценностей, очевидно, была передана тем, кто остался (сын и три дочери). И кампания по укрытию сокровищ продолжалась.
«В Тобольске оставалось большое количество драгоценных камней… Надо было спасать эти вещи», — пишет Роберт Вильтон.
А как их «спасали»?
«Великие княжны, оставшиеся в Тобольске, — пишет он дальше, — были тайно, письмом камер-юнгферы Демидовой, предупреждены в этом смысле и принялись скрывать жемчужные ожерелья, бриллианты и другие драгоценные камни в своей одежде, зашивая их в лифчики, под видом пуговиц и т. д.».
Другой свидетель событий, Пьер Жильяр, дополняет:
«24 апреля от Александры Федоровны пришло (из Екатеринбурга) письмо… В очень осторожных выражениях она давала понять, что надо взять с собой при отъезде из Тобольска все драгоценности, но с большими предосторожностями. Она драгоценности называла условно лекарствами. Позднее на имя няни Теглевой пришло письмо от Демидовой. Нас извещали, как нужно поступить с драгоценностями, причем все они были названы «вещами Седнева» (лакей при детях)».
Теглева, допрошенная Соколовым, подтвердила это.
«Демидова писала мне: «Уложи, пожалуйста, хорошенько аптеку и посоветуйся об этом с Татищевым и Жильяром, потому что у нас эти вещи пострадали».
Дальше Теглева пояснила, как выполнялся этот наказ об «аптеке».
«Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна, положили драгоценности в вату и эту вату покрыли двумя лифчиками, а затем их сшили… В двух парных лифчиках были зашиты драгоценности Александры Федоровны (это подтверждает, что она их не брала с собой в Екатеринбург)… Один из таких парных лифчиков весил 4–5 фунтов… в другом столько же… Один надела Татьяна, другой Анастасия… Были зашиты бриллианты, изумруды, аметисты… Драгоценности княжен были таким же образом зашиты в двойной лифчик, и его надела Ольга… Кроме того, под блузки на тело они надели много жемчугов… Зашили мы драгоценности еще в шляпы княжен, между подкладкой и бархатом. Из драгоценностей этого рода помню большую нитку жемчуга и брошь с сапфиром и бриллиантами… У княжен были верхние синие костюмы из шевиота, на них пуговиц не было, а кушаки с двумя пуговицами. Мы их отпороли и вместо них вшили драгоценности, кажется бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком… Кроме того… были еще серые костюмы из английского трико… мы отпороли с них пуговицы и тоже пришили драгоценности».
И все же были ведь еще и такие драгоценности, которые в лифчик не зашьешь. Например, браслеты, диадемы, крупные колье, броши. Незаметно провезти их с собой трудно, пожалуй, даже невозможно. Значит, наиболее ценные вещи должны были остаться в Тобольске — такой вывод сделал для себя Михеев.
А те, что зашили? Зашить-то зашили, но — увезен ли? Кое-кому, несомненно, хотелось бы доказать, что — да, увезли. Ведь это отводило бы от них самих неприятные вопросы о дальнейшей судьбе драгоценностей. И поэтому таким свидетельствам безоговорочно верить не следует.
«Что-то не похоже, что увезли», — думал Михеев.
Письма из Екатеринбурга от уехавших тогда с первой партией Александры Федоровны и ее дочери Марии предупреждали оставшихся в Тобольске, что режим в Ипатьевском доме не шел в сравнение с тем, что был в доме тобольского губернатора. Здесь бывали обыски, иногда довольно обстоятельные. Сношения с внешним миром свелись к минимуму, чтобы не сказать — прекратились совсем.
Вот что писала Мария сестрам 27 апреля:
«Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены Областного комитета и спросили каждого из нас, сколько кто имеет за собой денег… все деньги изъяли в комнату на хранение, оставили каждому понемногу, выдали расписки. Предупреждают, что мы не гарантированы от новых обысков…»
Если бы даже удался побег (на что Романовы все еще рассчитывали), то не вернее ли было бы иметь драгоценности, эту лишнюю и очень опасную обузу, не при себе, а у верных людей в верном месте, откуда их легко было бы достать при надобности?
Об этом, в частности, пробалтывается и Роберт Вильтон в своей книге. Говоря об увезенных из Тобольска вслед за Романовыми вещах, он приводит важную деталь: в Тобольске-де из царских вещей не осталось почти ничего «за исключением некоторых драгоценностей, спасенных заботами адмирала Колчака и отправленных в Европу».
Тут этот желтый газетчик что-то намеренно путает. Адмирал Колчак, как известно, до Европы не добрался, не мог и отправить туда вещи. Зачем? Когда он шел вперед, то мечтал сам въехать в столицу на белом коне и восстановить монархию, а когда драпал на восток — не до царских реликвий было, дай бог ноги унести. Другое дело, что кто-то из колчаковской своры «спас» часть драгоценностей и увез их с собой в Европу, но уж, конечно, не в качестве реликвий — жрать-то на чужбине надо было. Сам Вильтон, с подозрительной неотвязностью следовавший везде за «следственной комиссией» Соколова, мог тоже не сплоховать при этом, жуликоватость его не составляла секрета.
Но, может, он намекал и на другого «спасителя», на зятя Распутина Бориса Соловьева, обосновавшегося на нелегальном положении в Тюмени на все время «тобольского сидения» Романовых и уполномоченного Вырубовой на организацию их побега.
Как свидетельствует Соколов, допрашивавший пойманного контрразведкой Соловьева в декабре 1919 года во Владивостоке, распутинский зятек, все время отсиживавшийся в Тюмени, бросился в Тобольск лишь тогда, когда оттуда отправилась последняя партия Романовых — Алексей с сестрами. В тот самый день, когда они проехали Тюмень! Как будто он только этого и дожидался.
Как пишет Соколов — «…Там он видел Анну Романову (горничную) и узнал от нее, где в Тобольске находятся царские драгоценности, часть которых была оставлена там».
Возможно, что Соловьев съездил не напрасно и кое-что попало ему в руки. Соколову, например, было известно, что он продал содержанке атамана Семенова за 50 тысяч рублей бриллиантовый кулон. Шаг, надо прямо сказать, рискованный — атаман Семенов, известный живодер и бандит, не гнушавшийся ни организованным, ни индивидуальным грабежом, узнай он об этом сразу же, не оставил бы Соловьева без внимания и выколотил бы из него все ценное, что тот имел.
А может, и выколотил? А может, другие выколотили — колчаковские контрразведчики, арестовавшие его во Владивостоке? Но, возможно, кроме этого кулона (может, даже и не романовского) у него ничего и не было?
* * *
Чем больше вчитывался Михеев в эту литературу, тем тверже убеждался в том, что какая-то часть ценностей, привезенных Романовыми из Царского Села, должна была остаться в Тобольске.
Возможно — очень большая часть. Едва ли дело обошлось только ожерельем и шпагой. И только ли женский монастырь и отец Алексей замешаны тут? Все данные «беллетристики» подводили к тому, что историю эту нужно копнуть глубже и шире.
И первый вопрос, который встал перед Михеевым, был именно глубинным, ведущим к фундаменту этой истории.
Зачем они прятали драгоценности?
Несмотря на его «странность», вопрос был весьма существенным. В самом деле, если прятали с одной целью, то клад следовало искать в одном месте, а если с другой целью, то — в другом.
Итак, почему Романовы решили спрятать драгоценности? — раздумывал он. — Ведь на них никто в Тобольске не покушался… В сотнях чемоданов можно было сохранить что угодно. Личным обыском Романовым пригрозили однажды, да и то для острастки… Александра Федоровна и ее дочери при выходах в церковь щеголяли диадемами и ожерельями. Дело, очевидно, в том, что драгоценности имели теперь иное значение — как компактный фонд средств, с помощью которого можно было на ходу расплачиваться за мелкие и крупные услуги. Тем более, что бумажные деньги в те дни обладали весьма эфемерной ценностью. Золото же в монетах найти в тот момент было трудно.
Но для чего им средства? Конечно, деньги нужны были и «дома» — для повседневного содержания семьи, свиты и челяди. Романовы привыкли жить широко. Вначале это им удавалось и в Тобольске. Да так, что иногда губернаторский дом оставлял жителей города без продуктов, скупая на базаре весь привоз. «Двор», численностью в 50–60 человек, умудрялся объедать 20-тысячный город!
Однако в феврале 1918 года широкой жизни пришел конец — поступило предписание Народного Комиссариата имуществ республики: ограничить Романовых в пользовании средствами, находившимися на их счетах в русских банках. На каждого члена семьи было разрешено расходовать не более 600 рублей в месяц. Это и на питание, и на содержание прислуги, и на все другие хозяйственные нужды. К тому же было приказано перевести всю семью и «двор» на солдатский паек.
В заграничных банках на личных счетах Романовых к моменту революции лежало 14 миллионов рублей, но попробуй, доберись до них.
Да, денежки, конечно, были нужны. Но — не менять же на базаре бриллиантовые кольца и броши на масло и мясо? Да и с «карманными деньгами» Романовы нашли выход из положения, выход, о котором охрана не знала. Оказывается, в Тобольск систематически приходили деньги, пересылаемые кружком Вырубовой и другими монархическими организациями. И деньги немалые — только заводчик Ярошинский передал для этой цели Вырубовой в разное время 175 тысяч рублей.
Нет, для «дома» денег хватало, драгоценности нужны были не для этого.
Вернее всего, цель была одна — приготовить их на случай побега. Ведь он мог быть организован так, что с собой не удалось бы взять не только чемодана, но и лишних подштанников — царя могли «похитить» по дороге в церковь, например.
* * *
Но была ли надежда на побег? Или это лишь домыслы и предположения, вызванные тревожной обстановкой тех дней?
О нет… Хотя белогвардейская печать впоследствии почти единодушно утверждала, что такого умысла не было, что не было ни мыслей о побеге у бывшего царя, ни чьих-то попыток к организации его.
Колчаковский следователь Соколов утверждал: «…эта вера (в побег) была основана на обмане, ибо следствием абсолютно точно доказано, что ни в Тюмени, ни в другом месте Тобольской губернии никаких офицерских групп, готовых освободить царскую семью, не было».
А «не готовые» были? Можно ведь понять и так…
Учитель Жильяр в своих записках хотя и признается, что склонял Николая к побегу, но тут же пытается реабилитировать его: дескать, император был против, ибо ставил два невыполнимых условия — «…он ни в коем случае не может допустить, чтобы семья разлучилась и чтобы пришлось покинуть страну».
Экий рыцарь! Но так ли это выглядело на самом деле?
Попытки были. И Николай был готов к побегу.
Начались они еще в то время, когда у власти стояло Временное правительство. А. Ф. Керенский в одной из своих «лекций», прочитанных в Париже в 1920-х годах, проболтался, что он и сам был причастен к этому. Оправдываясь перед белой эмиграцией за свои старые грехи, он уделил немало слов вопросу о том, почему ему не удалось спасти, то есть вовремя отправить за границу низвергнутого царя. По его словам выходило, что виноват в этом был не он, Керенский, а. Ллойд-Джордж, который сначала пригласил Николая в Англию, обещая ему там почетное убежище, а потом-де, под влиянием общественного мнения, перестал «настаивать» на этом приглашении.
В своей книге статей «Накануне», изданной в Париже в 1922 году, Керенский привел и некоторые подробности этой щекотливой истории.
Милюков, министр иностранных дел Временного правительства, по поручению Керенского вел переговоры с английским послом Бьюкененом. Посол сообщил, что Англия согласна принять семью Романовых и выделяет для переброски ее специальный крейсер. В официальной ноте Бьюкенена Милюкову это звучало так: «Король и правительство Его Величества будут счастливы предоставить императору России убежище в Англии». Вероятно, именно с этой нотой связана запись, сделанная в те дни Николаем в дневнике: «Разбирался в вещах и книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию».
Более того, в день, когда под нажимом масс Временное правительство вынуждено было принять решение об аресте Николая Романова и его жены, глава правительства князь Львов проявил себя беспардонным двурушником. Он (не без ведома Керенского, конечно) послал в ставку, где находился в тот день низложенный царь, телеграмму такого содержания: «Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в Царском Селе и для дальнейшего следования в Мурманск».
И в этом не постеснялся признаться Александр Федорович, незадачливый «временщик»! Лишь бы меньше улюлюкали вслед ему эмигранствующие монархисты, лишь бы сильные мира сего не признали его за сочувствующего большевикам.
Исполком Петросовета опередил радетелей бывшего царя. Узнав о телеграмме, Совет срочно, телеграфом же, известил все города о своем предписании: задержать Романовых, где бы они ни находились.
Но Временное правительство не оставило попыток переправить бывшего царя за границу. Уже после ухода Милюкова с поста министра иностранных дел его заместитель Терещенко с еще большей настойчивостью продолжал переговоры. Они закончились лишь тогда, когда все возможности были исчерпаны: в июне Лондон официально сообщил, что «до окончания войны выезд бывшего царя в пределы Британской империи невозможен» Августейший кузен Николая, Георг V, видя нарастающую угрозу всеобщего антимонархизма, почел за лучшее отречься от некогда «горячо любимого» двоюродного братца, попавшего в сложный переплет.
А в Царском Селе надеялись, ох как надеялись… Жильяр позднее писал: «Мы думали, что наше заключение в Царском Селе будет непродолжительным, и ждали отправления в Англию… Мы были всего только в нескольких часах езды от финляндской границы, и Петроград (читай — Петросовет) был единственным серьезным препятствием, а потому казалось, что, действуя решительно и тайно, можно было бы без большого труда достичь одного из финляндских портов и вывезти царскую семью за границу».
«Действуя решительно и тайно…» В том-то и дело, что если в таинственности недостатка не было, то решительности у «временщиков» явно не хватало…
Когда встал вопрос о переводе царской семьи в более безопасное место, то сами Романовы «рекомендовали» Керенскому отправить их в Ливадию. Что и говорить, удобное местечко! Особенно для побега морем. Но увы, Керенский уж не в силах был внять «рекомендации»— распоряжения Временного правительства все более и более контролировались Петросоветом.
Ясно, что Ллойд-Джордж, да и сам Керенский были, пожалуй, тут ни при чем. Побегу в Англию помешали отнюдь не они, а более серьезные и грозные обстоятельства, от них совсем не зависящие.
Сам Николай тоже вроде не отказывался от мысли о побеге за границу, как это утверждали Жильяр и Соколов. Сам же Соколов, забыв о логике, приводит в своей книге слова допрошенного им в 1920 году в Париже бывшего члена Государственной думы пресловутого Н. Е. Маркова-второго. Этот махровый черносотенец заявил: «В период царскосельского заключения (Романовых) я пытался вступить в общение с государем-императором. В записке, которую я послал при посредстве жены морского офицера Юлии Александровны Ден, очень преданной государыне-императрице, и одного из дворцовых служителей, я известил государя о желании послужить царской семье, сделать все возможное для облегчения ее участи, прося государя дать мне знать через Ден, одобряет ли он мои намерения, условно: посылкой иконы». И далее сообщает, что Николай «снизошел» — послал своему тезке образ Николая Угодника.
Так обстояло дело в период «царскосельского сидения». Но мысли о побеге не исчезли и в Тобольске.
Начальником охраны в Тобольск был назначен полковник Кобылинский, человек, не скрывавший своих монархических симпатий. Жильяр отзывался о нем так:
«Никто не подумал, что, несмотря на революцию и состоя, якобы, в противном лагере, он продолжал служить государю-императору верой и правдой, терпя грубости и нахальство охраны. Кобылинский сделал для царской семьи все что мог, и не его вина, если недальновидные монархисты-организаторы не обратились к нему — единственному человеку, который имел полную возможность организовать освобождение царской семьи и ждал только помощи извне, которой он сам не мог призвать, так как был под постоянным надзором враждебно настроенных солдат».
А такие организаторы «помощи извне», оказывается, имелись в достатке.
Один из первых и главных — его преосвященство тобольский епископ Гермоген, пройдоха, интриган и первостатейный жулик, близкий друг Распутина. Мать Николая, «вдовствующая императрица» Мария Федоровна, озабоченная судьбой сына, писала Гермогену вскоре после того, как Романовых привезли в Тобольск: «Владыка, ты носишь имя святого Гермогена, который боролся за Русь, — это предзнаменование… Теперь настал твой черед спасать родину… призывай, громи, обличай. Да прославится имя твое в спасении многострадальной России».
«Спасение России» она понимала лишь как спасение Николая.
Намекала она при этом на тезку тобольского владыки — канонизированного русской церковью второго патриарха всероссийского, подготовившего возведение на престол первого Романова в 1613 году.
Но если с Гермогена начался Дом Романовых, то на Гермогене же, пусть другом, он и кончился.
Тобольского епископа назначили в далекий сибирский город, чтобы не мозолить глаза врагам Распутина. Получив послание Марии Федоровны, он принялся ревностно доказывать свою идейную близость со святым Гермогеном. Именно к нему потянулись нити всех заговоров и помыслов о них. К нему, в первую очередь, шли на связь посланцы Вырубовой, Маркова-второго и других осатанелых монархистов, зачастили с визитами бывшие офицеры — то в форме, то без нее, то под вымышленными именами, а иногда и не скрывая своих фамилий.
Автор первого советского исследования о последних днях последнего царя уральский большевик П. М. Быков, сам непосредственно принимавший участие в этих событиях и хорошо знакомый с архивами того времени, писал на основании документов Чека, партийных и военных донесений:
«Большинство их (офицеров) приезжало, по-видимому, по подложным документам. Были, например, задержаны два офицера — «Кириллов» и «Мефодиев», приехавшие туда в отпуск с фронта на две недели. Задержаны были два офицера — братья Раевские (по документам). Один из них приехал в Тобольск раньше, и за ним было установлено наблюдение. Второй «брат» приехал позднее и сразу, ночью, не повидавшись с «братом», отправился к Гермогену. По выходе из архиерейского дома Раевского арестовали. При нем нашли удостоверение, выданное «Всероссийским братством православных христиан». На допросе он сообщил, что привез Гермогену письмо от Нестора, епископа Камчатского».
Позднее выяснилось, что привез он письмо не от Нестора, а от Марии Федоровны — то самое, с призывом «призывать, громить, обличать».
Гермогену, пожалуй, и не нужно было подсказывать — сам был с усами и с бородой. Еще до получения письма он организовал специальные церковные службы для семьи Романовых, пытаясь таким образом приучить охрану к частым и систематическим отлучкам царя и его семьи из «дома заключения». Пытался устроить (правда, безуспешно) их поездки в дальние монастыри.
И все это для того, чтобы под предлогом отлучек и путешествий создать благоприятную обстановку для побега.
А главное, он готовит «общественное мнение», «мобилизует настроения» обывателей — это ведь тоже может стать немаловажным. По конфиденциальному указанию в церкви, кроме обычных специальных служб, проводятся и необычные. В «день восшествия на престол» в Благовещенской церкви звонят «во вся», и этим трезвоном сопровождается весь ритуал «парадного выхода» Романовых и их свиты. В той же церкви вскоре вдруг появляется «чудотворная» икона из Абалакского монастыря — «Знамение божье». А в день именин Николая здесь за обедней с амвона возглашается громогласное многолетие царствующему (?!) дому, с присовокуплением всех бывших титулов императорской фамилии.
Помимо духовного фронта, Гермоген не обошел и мирской. Тогда в Тобольске заметной силой был «Союз фронтовиков», объединявший офицеров и унтер-офицеров из купеческих и кулацких сынков. Гермоген не упустил случая втереться в доверие и завязать связи — пригодится воды напиться. Главе этого Союза — авантюристу и провокатору Лепилину — он выделил для нужд
организации несколько тысяч рублей. Союз после этого стал готовой базой для проведения любой провокации по указанию заговорщика в архипастырской рясе.
Не бездействовали в это время и другие группы «друзей престола и отечества».
Тот же Марков-второй говорил Соколову в Париже: «В сентябре (1917 года) мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьей и, буде того потребуют обстоятельства, — увоза ее. Наш выбор пал на офицера Крымского полка, шефом которого была императрица, господина N. (между прочим, пасынка печально-известного ялтинского генерал-губернатора Думбадзе)… Он известил нас о своем прибытии в Тюмень… Мы стали обдумывать вопрос о посылке других офицеров в Тобольск».
А туда уже направились такие же посланцы от других групп, в частности от Вырубовой. Требовалась координация сил и методов. Но, сообщал далее Марков, Вырубова не захотела ни с кем делить славу «спасителя отечества» и дала понять, что она будет действовать самостоятельно. С ее чрезвычайными полномочиями в Тобольск в январе 1918 года поехал офицер Сергей Марков.
С обоими посланцами — марковским офицером N. и вырубовским офицером Марковым — получилось, однако, что-то непонятное. Первый из них, сообщив вскоре о своем прибытии в указанное место, замолчал и ничем больше не напоминал о себе. Другой посланец не сообщил о прибытии на место, но… в апреле вернулся. Что-то путанно болтал, хвастал о большой работе, проделанной им в Тобольске, и как вскоре выяснилось… в Тобольске вообще не был.
Ларчик раскрылся просто, но значительно позднее, года через два, когда секрет его уже никого не мог интересовать. Оказалось, что неудачи двух эмиссаров, как и некоторых других, направленных вслед за ними, были связаны с именем еще одного резидента монархистов, на которого хозяева возлагали особые надежды, — Бориса Соловьева.
Этот «особо надежный» резидент спутал все карты пославших его участников большой игры и попытку организации побега Романовых превратил в фарс. В конце концов, в декабре 1919 года он был схвачен во Владивостоке колчаковской контрразведкой как «большевистский агент».
Узнав об аресте Соловьева, вездесущий следователь Соколов добился свидания с ним. За несколько дней до того, как его «пустили в расход», Соловьев успел поведать историю своей жизни.
Сын видного в петербургской духовной камарилье человека — казначея святейшего Синода, Борис Николаевич Соловьев еще с 1915 года был связан с распутинским кружком, куда его ввел родитель, давний и близкий приятель «старца». То ли случай, то ли какой-то хитрый расчет привел юного распутинианца в дни Февральской революции в Таврический дворец, где он стал офицером для поручений при председателе Военной коллегии Думского комитета. Однако адъютант высокого чина, прапорщик 2-го пулеметного полка, связей со своим кружком не прервал Именно поэтому — за верность идеям и памяти старца — главари кружка решили направить своим резидентом в Тобольск вроде бы скомпрометировавшего себя службой Временному правительству прапорщика-адъютанта. В августе 1917 года он выехал в Тобольск.
В Сибирь Соловьев мчался буквально по пятам «царского поезда». С ходу пытался проникнуть к Гермогену, но это почему-то ему не удалось. Соловьев тут же исчез из Тобольска, но спустя некоторое время вдруг вынырнул к селе Покровском — на родине Распутина. И не кем-нибудь, а… зятем убиенного «старца». 5 октября дочь Распутина Матрена стала его женой, и молодая чета переселилась в Тюмень, где Соловьев стал жить под именем Станислава Корженевского.
Нельзя сказать, что этот брак был идиллически счастливым. Соколову удалось перехватить дневник Распутиной-Соловьевой, из которого явствовало, что хотя Матрена страстно обожала своего «душку-офицерика», он не платил ей взаимностью — супруги жили как кошка с собакой. Отнюдь не нежный муженек не брезговал рукоприкладством даже в дни медового месяца.
В Тюмени Соловьев обосновался не случайно. В Тобольске, относительно небольшом и отдаленном городке, где всякое новое липо на примете, действовать ему, не обращая на себя внимания, было бы невозможно. Тюмень же стояла на пути из России в Тобольск и представляла собой настоящий проходной двор на великом транссибирском пути — очень удобное обстоятельство для маскировки. А связь между Тюменью и Тобольском была довольно хорошей.
Как ни пытался после Соколов в своей книге «дезавуировать» роль Соловьева в сношениях с Романовыми, ему это не удалось.
Факты говорят, что именно через Соловьева шла вся переписка Тобольска с Петербургом. Шли письма, посылки, деньги. Основным адресатом в Тобольске была Александра Федоровна, в Петербурге — Вырубова. Роль посредников играли горничные царицы — Уткина и Романова. Они приехали в Тобольск позднее, поэтому в губернаторский дом их не допустили. Но, устроившись жить на частной квартире, они обрели другую выгоду — свободу и бесконтрольность.
Стоит заметить, что обе горничные были не просто слугами царицы, но и верными распутинианками, членами вырубовского кружка, конечно, на особом положении. Соколов выпытал у Соловьева, что деньги, посылаемые Вырубовой в Тобольск, передавались Уткиной и Романовой, а уж через них дальше, по назначению — Александре Федоровне. И большинство их (если не все целиком) прошли через руки Соловьева. Возможно, что основная часть денег прилипла к этим рукам.
Полномочный резидент монархистов, почуяв запах крупных денег, решил, что своя судьба ему ближе, и как показывали свидетели, «…иногда у него совсем не бывало денег, а иногда он откуда-то доставал их и сорил ими».
Живя в Тюмени, Соловьев служил форпостом связи тобольских «изгнанников» с их петербургскими друзьями, и все посланцы, зная это, не миновали его. А он сковывал все их действия и намерения, не желая передавать инициативу, а значит и средства, в другие руки.
Так оказался в дураках «канувший в воду» посланец Маркова-второго офицер N. Он «нашелся» лишь в ноябре 1918 года, когда с царской семьей все было покончено. Явившись к следователю Соколову, он доложил, что его сбил с толку Соловьев, приказав законспирироваться и не подавать о себе никаких вестей. Офицер послушался и под именем Сергея Соловьева устроился служить в какую-то воинскую часть тюменского гарнизона, где и прослужил четыре месяца, командуя эскадроном вплоть до вступления колчаковцев в Тюмень.
Другой посланец, уже от Вырубовой, Сергей Марков, выехав из Петербурга в январе 1918 года, уже в апреле вернулся обратно. Он, правда, сумел вручить Татищеву и Долгорукову деньги (25 тысяч), предназначенные для передачи Романовым, но больше ничего не сумел сделать — от дальнейших шагов его отговорил все тот же Борис Соловьев, он же Корженевский.
Романовы об этом тогда еще не знали. Жильяр записывал 17 марта 1918 года в дневнике: «…государь и государыня, несмотря на растущие со дня на день неприятности, все же надеются, что найдутся между оставшимися верными хоть несколько человек, которые попытаются их освободить. Никогда еще обстоятельства не складывались более благоприятно для побега, чем теперь. Ведь при участии полковника Кобылинского, на которого в этом деле заранее можно с уверенностью рассчитывать, так легко обмануть бдительность наших тюремщиков, особенно если принять во внимание, что эти люди… крайне халатно несут службу. Достаточно всего несколько стойких, сильных духом людей, которые бы планомерно и решительно вели дело извне. Мы уже неоднократно предпринимали шаги в этом направлении по отношению к императору, настаивая, чтобы он держался наготове на случай ожидаемой возможности».
И далее, спустя несколько дней:
«26 марта… Из Омска прибыл отряд красных, силою более 100 человек: в тобольском гарнизоне это первые солдаты-большевики. У нас отнята последняя надежда на побег. Но государыня говорит мне, что у нее есть причины думать, что среди этих солдат много бывших офицеров. Равным образом она утверждает, не указывая точно, откуда она это знает, что в Тюмени собралось 300 офицеров».
Дочь лейб-медика Боткина, Татьяна Мельник, жившая с отцом в то время в Тобольске, подтверждает, что к этому имелись основания. С ее слов Соколов записал:
«Надо отдать справедливость нашим монархистам, что они собирались организовать спасение их величеств… Петроградская и московская организации посылали многих своих членов в Тобольск и Тюмень, многие из них там даже жили по нескольку месяцев, скрываясь под чужим именем».
Обстановка для побега Романовых долгое время действительно была весьма благоприятной. В городе до начала 1918 года сохранялась власть комиссара Временного правительства и Городской думы. В Тобольском Совете сидели меньшевики и эсеры. Функционировал реакционный «Союз фронтовиков». Епископ Гермоген действовал на свободе до самого момента отправки Николая Романова в Екатеринбург; его арестовали только 28 апреля. Во главе охраны Романовых стояли «на все готовый» полковник Кобылинский и мямля-эсер Панкратов. Словом, бери сапоги в зубы и дуй до горы. Тем более, что где-то невдалеке, на Иртыше, все это время кого-то ждала до весны шхуна «Мария».
Лишь в марте обстановка начала меняться. 1 марта для Романовых и их свиты был введен усиленный режим, большая часть прислуги была снята со свободного положения в доме Корнилова и переселена в губернаторский дом под общую охрану. «Татищевым и Долгоруковым запретили шляться по городу, пообещав, в случае непослушания, прибить их», — свидетельствовал офицер охраны прапорщик Матвеев.
В первых же числах марта в Тобольск прибыл посланец екатеринбургских большевиков матрос П. Д. Хохряков, неделей позднее, из Екатеринбурга же, отряд Уралсовета, составленный из рабочих-большевиков Злоказовского завода, а 26 марта — тот самый отряд омичей под командованием Демьянова и Дегтярева, о котором так панически писал Жильяр в своем дневнике. Добавим, что 9 апреля Хохряков стал председателем Тобольского Совета и начал наводить в городе революционный порядок.
К тому времени Уралсовет тайно послал вооруженные отряды в далекие тылы Тобольска, перекрыв дороги на север, на восток и на запад (с юга имелся надежный щит — Тюмень). Но Романовы, конечно, ничего об этом не знали, продолжали лелеять мысли о побеге.
Вполне объяснимо, что драгоценности были их последней и очень крепкой надеждой на материальное обеспечение этого предприятия, и поэтому их следовало держать наготове. Именно в это время — в марте-апреле 1918 года — их, вероятно, и постарались вынести из губернаторского дома и поместить в какое-то новое, надежное, но близкое убежище.
* * *
Никто из Романовых сам вынести драгоценности «на волю», конечно, не мог.
Но — кто тогда мог это сделать? И куда он их девал? Сам ли он, этот посредник, выбрал тайник и спрятал в него ценности или передал кому-то? Кому?
На вопрос «кто?» можно было дать сотню ответов: свита, прислуга, тоболяки, имевшие доступ в губернаторский дом, — любой из них мог, теоретически, взять на себя эту миссию.
Но все-таки для одних это было легче, для других труднее, одни лица казались более подходящими для этой цели, другие — менее. Михеев взял приведенный в книге Соколова список тобольской свиты и челяди Романовых, дополнил его по другим источникам и попробовал оценить с этой точки зрения каждое имя. Генерал Татищев? Гм… Мог, но вероятностей все же мало — в марте восемнадцатого года он уже не располагал правом, как прежде, свободно ходить по городу. То же — князь Долгоруков. Доктор Боткин? Этот, пожалуй, мог — у него и дочь тут же неподалеку жила. Графиня Гендрикова тоже могла, ей очень доверяла Александра Федоровна. Мог Пьер Жильяр — он, имея заграничный паспорт, чувствовал себя свободнее других, беспрепятственно ходил по городу тогда, когда другим это было запрещено. Могли камердинеры, горничные, любимые лакеи. Мог даже полковник Кобылинский, хотя для него это вроде было бы неудобно…
Список вероятных лиц рос и рос. Но общий «реестр» поубавился, можно было с большой долей уверенности зачеркнуть в нем фамилии поваров, поварят и «кухонных служителей», не вылезавших из своего подвала и в комнаты не допускавшихся.
Поубавиться-то поубавилось, однако не на очень много. Список по-прежнему был велик. Как его сократить еще, чтобы методом исключения прийти к минимуму наиболее вероятных на эту роль фигур?
— Постой… — оборвал себя Михеев. — А нет ли кого из них сейчас в живых, где-то поблизости? Ведь жил же, оказывается, много лет после этого в Тобольске Каменщиков. Да, да — тот самый, что вынес шпагу наследника и передал ее отцу Алексею. Может, и еще кто-то, подобно ему, обретается под боком? Пусть даже и подальше — найти можно, игра стоит свеч.
Михеев по-новому пересмотрел свой список, вычеркивал тех, кого знал, что уже нет в живых. Список заметно поубавился. Выслав копию его Саидову. Михеев выехал в Свердловск.
Коричневая шкатулка

В эти дни, дни ожиданий и надежд, дорога от дома до Управления была для Михеева нелегкой.
Похрустывал под ногами ледок, застекливший ночью лужицы на булыжной мостовой. В глубине улицы громыхали телеги ломовиков, ленивой чередой тянувшихся к станции. Хлопали щеколды калиток, выпуская из дворов идущих на работу людей… Утро рядового рабочего дня. Каждый спешит занять свое место — за верстаком, у кузнечного горна, за станком, за баранкой автомашины, за письменным столом, за прилавком магазина. Вечером вернется домой, усталый, но довольный — он выполнил свой трудовой долг.
— А ты, Михеев? — спрашивал он себя. — Как ты сегодня выполнишь свой трудовой долг?
Вон тот, только что вышедший из подъезда дядя, с металлическим метром, защемленным за карман куртки, наверное, строитель. Он вечером вернется, зная, что дом, который он строит, поднялся на два-три ряда кирпичей. Поднялся. На столько-то. И это видно. И ему, и всем.
А этот, что озабоченно пересекает улицу, на ходу застегивая немудрящее свое полупальто с залоснившимися от машинного масла рукавами, — наверное, токарь. Ложась спать, он вспомнит десяток выточенных им сияющих стальным отливом деталей какой-то очень нужной машины. Завтра, в другом цехе, из этих деталей родится машина и пойдет служить людям.
И даже вон тот, что идет по той стороне с портфелем под мышкой, — за вечерним чайком с увлечением расскажет жене, как ему сегодня удалось успешно решить вопрос об открытии новой рабочей столовой и даже — ты подумай! — посчастливилось заранее достать для нее комплект посуды, и не каких-нибудь там глиняных мисок, а настоящие фаянсовые тарелки — пусть по-человечески ест рабочий класс!
— А ты, Михеев? Что дашь ты стране сегодня? — пытал себя он. — Ты не поднимешь строящийся дом на два ряда кирпича, не выточишь десятка деталей для новой машины и не раздобудешь посуду для рабочей столовой. Но зато, если… Если развяжешь этот «тобольский узелок» и найдешь узелок с драгоценностями… Сколько новых машин, тракторов, экскаваторов, оборудования для новостроек пятилетки можно будет приобрести на валюту, вырученную от одного только ожерелья, если… Если оно существует, черт его побери, и если его удастся найти…
И, ускорив шаг, он почти вбегал в подъезд, нетерпеливо открывал тяжелую дверь и, пройдя длинный коридор, молча заглядывал в окошко секретарши отдела.
— Вам нет, — коротко отвечала обычно на его немой вопрос Тамара Михайловна, строгая седая женщина, работавшая тут с незапамятных времен и поэтому несколько покровительственно относившаяся к «совсем еще юноше», каким она считала Михеева.
Но сегодня она чуть заметно улыбнулась ему и, взглянув на угол стола, где возвышалась стопка папок с приготовленной почтой, как бы припоминая — что там в них, обнадежила:
— Кажется — есть. Ждите, принесу.
— Тамара Михайловна, милая, дайте хоть взглянуть, — взмолился Михеев.
Но она лишь укоризненно посмотрела на него и, не удостоив ответом, взялась за перо.
Час спустя Михеев читал сообщение Саидова: Каменщиков живет в Тюмени.
Уже от одного этого известия можно было возликовать — заевший было механизм снова приходил в движение. Но Саидов сообщал и еще не менее интересные вести: в Тобольске нашлась Паулина Предано, прислуга графини Гендриковой. Через нее добыты адреса Никодимовой — старой гувернантки графини, Гусевой — горничной у дочерей Николая, и — кто бы мог подумать! — самой Битнер-Кобылинской, супруги покойного полковника. О Гусевой Саидов даже приложил справку, то, что удалось узнать о ней.
«Гусева Анна Яковлевна, — читал Михеев. — Горничная, или «комнатная девушка», как она числилась по дворцовому штату. Давняя и преданная слуга Романовых. В 1893 году, окончив ремесленную школу, работала белошвейкой на дому. В 1904 году была принята на службу во дворец, горничной при великих княжнах. В Тобольск приехала не вместе с Романовыми, а несколько позднее, вместе с другой горничной, Анной Романовой, отнюдь, однако, не принадлежавшей к царской династии. В губернаторский дом их охрана не допустила — они не были в первоначальном списке служащих, утвержденных для поездки в Тобольск. Жили в гостинице и на частных квартирах. К ним «в гости» захаживал камердинер Александры Федоровны Волков. Очевидно, через него они получали какие-то поручения Романовых, и хотя их ни разу не допустили в губернаторский дом, обе горничные жили в Тобольске все время, пока там находились их бывшие хозяева. И даже после того, как их увезли в Екатеринбург. И Гусева и Романова покинули город только после эвакуации белых, тоже эвакуировались в Сибирь. Гусева добралась до Ачинска, потеряв подругу где-то по дороге. После разгрома Колчака снова вернулась зачем-то в Тобольск, но ненадолго, вскоре переехала куда-то под Ленинград. Служила на разной конторской работе. Теперь — счетовод школы-семилетки».
— Ай да Саша, молодец! Не безнадежен, как сказал бы Патраков. — Михеев даже похлопал ласково по саидовским бумагам, как похлопал бы его плечо, будь он сейчас здесь, рядом.
* * *
Вскоре Михеев мог уже встретиться с важными свидетелями.
«Никодимова Викторина Владимировна, — записывал он показания, — 72 года. Девица (при этом она вызывающе вздернула голову). Кончила Смольный институт благородных девиц. В течение 25 лет, до 1918 года, служила воспитательницей («гувернанткой, если хотите» — добавила она снисходительно) у графини Анастасии Гендриковой. Вместе с графиней, как близкий ей человек, приехала и в Тобольск в царском поезде. В Тобольске жила в комнате Гендриковой в доме Корнилова, напротив губернаторского дома, в который, кстати сказать, ее не допускали. Была знакома с начальником охраны полковником Кобылинским и его женой. С Гендриковой рассталась в Екатеринбурге, куда ее великовозрастная подопечная выехала вместе с царской семьей и где она была арестована, а Никодимова вернулась в Тобольск и прожила там до 1920 года. От Гендриковой остались кое-какие ценные вещи, но еще перед отъездом в Екатеринбург Викторина Владимировна сдала их вместе со своими на хранение. Обратно их не получила — сказали, что украдены…
Гендрикова доверяла ей все. Оставила даже доверенность на перевод крупной суммы — 25 тысяч рублей — со счета в Пермском банке на Учетно-ссудный банк Персии. Никодимова сохранила чек («мне не надо чужого!»). Зашитый в тряпочку и закупоренный в бутылочку, он так и лежит в комоде на ее квартире в Крестцах под Ленинградом…»
— Я женщина строгих правил, — с достоинством заявила она Михееву, откинув назад седую голову на длинной жилистой шее. — Мне их внушали с детства. Прошу вас не думать обо мне плохо. Не скрою, я любила и продолжаю любить покойную Anastasie. Но больше винить меня не за что, уверяю вас.
— Мы и не думаем судить вас, — заметил ей Михеев. — Мы просим только помочь нам.
— Постараюсь — заверила старая дама.
Но беседы с ней пришлось отложить — прибыл Каменщиков. А его-то Михеев ждал с особенным нетерпением.
* * *
— Каменщиков Александр Петрович?
Невысокий пожилой человек, в добротном некогда, но уже изрядно потраченном временем сюртуке, таком необычном в эти годы толстовок и френчей, угодливо поклонился:
— Да-с.
— Возраст ваш?
— Пятьдесят четвертый с весны.
— Работаете?
— Тружусь, — подтвердил кивком головы Каменщиков. — Огородником при подсобном хозяйстве. Рассказать о себе? Биография моя, смею заметить, простая, трудящая, хотя и с перипетиями. Родился в Ливнах, Орловской губернии, где родитель мой управлял имением помещика Адамова. Образованием не похвастаюсь, трехклассное церковноприходское. Но почерк выработал с детства — получалось, хвалили. Потому, когда родитель помер, заработок себе нашел скоро, за красивый почерк охотно брали меня господа купцы на письменную работу. Стал конторщиком, приказчиком, в брак вступил, остепенился. Так бы и служил по купеческой части, да бабушка супруги моей, кичившаяся дворянством своим захудалым, захотела видеть нас на более почетном поприще. Внучку свою, а мою, значит, супругу, устроила в услужение к княгине Голицыной, а меня в канцелярию камер-фурьера, что размещалась, как, вероятно, изволите знать, в Петергофе. Писцом. Почерк мой и там одобрили.
— Камер-фурьер — кто это?
— Камер-фурьер, позвольте пояснить, это придворный чин, наблюдающий за парадными обедами и церемониями. Ну и за всем, причастным к этому, — посудой, столовым бельем, прислугой. В архиве нашем, ведущемся еще со времен Екатерины Великой, находил я прелюбопытнейшие вещи — записи о балах, машкерадах, свадьбах, спектаклях, описания всевозможных церемониалов и торжеств придворных, записи о путешествиях государей по империи и за границей, о приемах разных лиц… Отвлекаюсь? Извините великодушно…
— Ничего, продолжайте.
— В канцелярии этой самой я, значит, и прослужил до самого отречения государя-императора, до падения самодержавия то есть. Мы, служащие, тогда, конечно, растерялись, кое-кто уже и должность свою бросил. Но вскоре к нам приехали Александр Федорович Керенский, министр-председатель, и успокоил нас, заверив, что честным служащим не грозит никакая опасность, что разной работы нам предстоит еще много, службу бросать никак нельзя, а жалованье нам будет идти своим чередом, аккуратно. Служащие наши, народ вышколенный, степенный — как тут откажешь, если сам премьер-министр просит… Вот и остались многие. А уж в августе семнадцатого года был я включен, по приказу Александра Федоровича, в список прислуги, что вместе с государем и его семейством должна была выехать в Тобольск.
— Чем же вы занимались?
— Числился писцом, хотя работы письменной, осмелюсь доложить, много не было. Записывал повеления и указания: что к обеду готовить, кого не забыть с днем ангела поздравить. Письма, когда надо, под диктовку писал. Не приватные, конечно, а служебные. А главное, домашнюю бухгалтерию вел — куда, кому и за что деньги плачены, сколько в наличии есть посуды, белья и прочего такого. В свободное время развлекался — дрова пилил. Однако в этом деле главным был у нас сам государь. Большинство долготья самолично перепилил, хотя колоть, правду говоря, сам не любил. А уж забавлялись с ним этим делом, надо сказать, все, от генерала Долгорукова до последнего поваренка. И я был приглашен к сему. Господин Жильяр, Петр Андреевич, французский учитель, изволил сфотографировать меня тогда в паре с монархом за работой. Была у меня и карточка, да затерялась где-то… В мае, надо быть, восемнадцатого года увезли нас с оставшимися членами императорской фамилии в Екатеринбург, но в дом ипатьевский не допустили, нечего, говорят, там делать, много прислуги не требуется. После… э-э… ликвидации царя я возвратился в Тобольск и жил там до двадцать пятого года. Потом уехал в Тюмень, где безвыездно и проживаю вместе с семейством своим, супругой Натальей Ивановной и сыном… О царских драгоценностях? Не посвящен был в сии дела. Сами понимаете — мелкая сошка…
* * *
Но не такой уж мелкой сошкой оказался он на самом деле. Услужливый и верный слуга, вышколенный многолетней дворцовой службой, пользовался у Романовых в Тобольске большим доверием. Через него, например, посылались подарки угодным людям. Через него шла почта. Он вынес из губернаторского дома шпагу Алексея. Через него шли многие передачи Романовым и от них. Не все и не всегда при этом доходило до адресата: вспоминали, что «августейшим узникам» в какой-то праздник передали торт, но Каменщиков предпочел полакомиться им сам — унес домой. Поговаривали, что он вообще неплохо погрел руки на царской службе в Тобольске.
Сношения с городом облегчало ему и то, что, в отличие от многих служащих, он жил не в губернаторском доме, а на частной квартире — у отца Алексея.
Прихватив, по старой дворцовой привычке, узелочек остатков с царского стола, чинно шествовал он, бывало, вечером, окончив службу, в свой флигелек на поповской усадьбе, деля потом трапезу за водочкой со своим квартирохозяином.
Не хитро было в этих примелькавшихся охране традиционных узелках вынести что угодно. И слуги выносили, когда надо было. Когда почту и передачи по поручению Романовых, а когда и посуду, безделушки, белье — это уж по собственной инициативе, для своих нужд. Однажды даже срезали портьеры в зале, чем ввели в замешательство самого комиссара Панкратова…
Писец по совместительству исполнял обязанности тайного почтальона. Почтовой конторой служил архиерейский дом. Открылось, что Каменщиков принимал участие в каких-то секретных совещаниях с епископом Гермогеном. На одном таком совещании, в присутствии преосвященного Варнавы и отца Алексея, были переданы письма Александры Федоровны к матери Николая — Марии Федоровне, а также и другим адресатам, в том числе Вырубовой.
О своих коллегах по тобольской службе Каменщиков вспоминал охотно, не скупясь на нелестные эпитеты.
Камердинера бывшего царя, Терентия Чемодурова, он с ходу охарактеризовал старой лисой, не гнушавшейся прикарманить то, что плохо лежало в царских шкафах и чемоданах. Писец и камердинер в свое время, видно, не очень ладили.
— Золотых, серебряных и вообще ценных вещей у этого жмота хранилось изрядное количество. Перед отъездом в Екатеринбург с царской семьей он через посланца своего передал эти вещицы одному верному человеку. Будто это все подарки за беспорочную службу. Часы, знаю, трои были. Кулоны, браслеты, броши, перстни — дорогое все. Так говорили люди. Думаю — не зря… Ну, вернулся, значит, Терентий из Екатеринбурга в Тобольск и получил все свое добро обратно в целости и сохранности. Да только не пошло оно ему впрок, в девятнадцатом от тифа отдал богу душу, а ценности жене оставил. Неонила же Семеновна, женщина ума небогатого, вскорости лишилась их. Сначала буфетчик царский, Еремей Солодухин, дружок ее покойного супруга, сумел выманить у нее под каким-то предлогом немалую толику добра этого, а тем, что еще осталось, нахально завладел другой злодей, иеродьякон Феликс. Прожженнейший плут, осмелюсь доложить…
Особенно досталось от Каменщикова покойному отцу Алексею, которого он считал виновником похищения доверенной ему шпаги наследника.
— А что вы еще выносили от Романовых? — спросил Михеев. — Какие-нибудь драгоценности?
— Никак нет, — почтительно, но твердо ответил Каменщиков. — Не причастен. Это, надо думать, по дамской части шло. Драгоценности находились в ведении царицы, а она меня не очень жаловать изволила. К тому же у нее свой личный камердинер был — Алексей Волков. Судите сами — ему или мне доверила бы она сокровища, коим, я думаю, цены нет.
Довольный логичностью своих доводов, он откинулся на спинку стула, с некоторым торжеством глядя на Михеева.
— А уж если Алексей Андреич Волков, скажем, оказался бы ни при чем, — продолжал он после паузы развивать понравившуюся ему мысль, — то без дамского полу тут никак бы не обошлось. Графинюшка Анастасия Васильевна — я о Гендриковой говорю — при царице своим человеком была с детства. Личная фрейлина, аристократка, наперсница, можно сказать. С Анной Александровной Вырубовой давние подруги. В переписке состояли. Куда перед ней Алешке Волкову, лакейской душе!
— Это предположения ваши или у вас есть какие-то данные?
— Чего изволите? — переспросил Каменщиков, пожалуй, больше для того, чтобы выиграть время. — Документов на это не имею, дело, сами понимаете, потайное, тут не только что документов, свидетелей лишних старались избегать. Могу доложить, однако, что у графинюшки царские вещицы бывали, это уж точно. И не их ли она в зашитых мешочках через приживалку свою, Викторину Владимировну, прятала где-то? Где и как — не знаю, а только Викторина эта самая потом очень сокрушалась, что мешочки будто бы пропали. Врала, я думаю, для отвода глаз.
— Для чего бы это?
— Как для чего? Ворочалась ведь она потом в Тобольск-то. И что-то в скорости опять уехала. Тут и сомневаться нечего — выкопала она эти мешочки и подалась куда глаза глядят. С таким добром везде рай. По заграницам порхает где-нибудь, божий одуванчик…
В тот же день Михеев передал Никодимовой слова Каменщикова. «Женщина строгих правил» была безмерно возмущена. Надменно закинув голову, она с видом глубоко оскорбленной невинности отвергла навет.
— Этот человек, — брезгливо сипела она, — нагло лжет. Ни я, ни Anastasie никогда ничего чужого не брали. Не могли взять. Я бы скорее покончила с собой, чем пошла на это. На сохранение? Но мы и своего-то не смогли сохранить. Те мешочки, о которых он говорит… Да, они были. Это наши bijou
[1], дамские украшения. Мои — скромные, конечно, и графинины — довольно ценные. Там был такой солитэр!.. И они пропали.
У нечестных людей.
— Так вы их не прятали, а передали на сохранение?
— Вот именно, — удовлетворенно кивала головой Никодимова. — А за границу, как видите, я не уехала. Хотя и могла, меня звал с собой кузен графини. Но я решила умереть en patrie, на родине. А этот господин… — снова нахохлилась она, — Каменщиков, кажется… Он должен был бы рассказать о другом. О фермуаре Александры Федоровны.
— То есть, об ожерелье?
— Ну да. Я его знавала, этот фермуар. Императрица короновалась в нем. В «Journal de Paris» писали, что ювелир получил за него тысяч двести, если мне не изменяет память.
— А при чем тут Каменщиков?
— При том, — вытянув указательный палец, многозначительно произнесла Никодимова, — при том, что фермуар видели в Тобольске на груди у жены этого… писаря.
— Вы сами видели?
— Я не имела… э-э… счастья знать госпожу писаршу. Но — говорили люди. Скажем, та же Евлалия Ильинична.
— Фамилия?
— Простите, не помню. Бойкая такая дама. И — нюхает табак.
* * *
В тот же день Михеев «заказал» Саидову эту новую свидетельницу. Нюхательницу табака найти оказалось не трудно, в городе ее знали. Через три дня она уже сидела в кабинете Михеева.
Жеманная старушка в черной кружевной мантилье, обильно испускающей запах нафталина, охотно поделилась воспоминаниями о супруге бывшего царского писца. Морща неопрятный красненький носик и округляя от возбуждения глаза, она в подробностях нарисовала картину, когда увидела обычно скромно одетую Наталью Ивановну при столь шикарном украшении.
— Зашла это я к Наталье Ивановне, а ее дома нет. Говорят, скоро будет. Посидела я, дождалась. И вправду скоро вернулась. У матушки-попадьи на именинах была с Александром Петровичем. А жили они на одном дворе, вот и пришли неодетые, только что у Натальи Ивановны полушалок на плечах. Вернулась она, значит, шаль перед зеркалом в прихожей скинула, и за шею схватилась. Да так испуганно. И на меня посматривает. Платьишко на ней, скажем прямо, с претензией, но не ейное, перешитое из царских обносков. Зато на шее-то… Жемчуга! Да какие — любой царице впору. На ней, на царице-то, и видели этот жемчуг в святую обедню как-то. Вот, значит, прикрыла Наталья Ивановна жемчуга этой рукой, думает — не замечу. А я ей ласковенько: «С приобретеньицем, моя дорогая… Где же вы это, душечка, такое сокровище достали?» А она поскорее, бочком, мимо меня — в будуар, в спальню то есть. Переоделась, жемчуга сняла и вернулась. «Это, — говорит, — бабушки моей наследство. Недавно прислали. Померла старушка». А мы и не слыхивали о таком ее горе, поведала бы нам непременно. Сказала она это, и на мужа испуганно поглядывает. А тот хмурится. И меня выпроваживает — иди, говорит, Евлалия Ильинична, спать пора. Куда потом ожерелье девалось, не знаю. Никто его больше не видывал.
Дело, как будто, вступало в решающую фазу — нашлось одно из самых главных звеньев его. Ожерелье вынес Каменщиков. И он — здесь. Но Михеев не спешил ликовать, горький опыт с поиском шпаги научил его сдержаннее оценивать первые обнадеживающие факты. Было — еще не значит, что есть сейчас.
Почти так оно и вышло.
Каменщиков от очной ставки с любительницей нюхать табак отказался, заявив, что он и сам согласен признать — да, ожерелье было в его руках.
— Где оно? — допытывался Михеев, сознавая, что на правдивый ответ надежды мало.
— Тут, изволите видеть, такая история была… — плел свою канцелярско-лакейскую словесную вязь Каменщиков. — Прощения прошу, что утаил, согласно испугу по неопытности… Ожерелье это мне надела на шею Ольга Николаевна, великая княжна. Позвала в комнату, пальчики к губам приложила, велела молчать. Потом достала из-за жакета ожерелье это, надела мне на шею, перекрестила и на ухо прошептала, чтоб вынес и сохранил до завтра. Сегодня-де они ждут обыска. А завтра скажут, как поступать дальше. Сами понимаете — служба, сопротивления оказать не мог. Принес домой, снял с себя сей жемчужный ошейник и в шкатулку к жене положил. А вечером, как на грех, у отца Алексея, квартирохозяина моего, день ангела. Алексеи весенние — марта семнадцатого, так, кажется. Были приглашены и мы с супругой. Я-то пришел пораньше, а Наталья Ивановна позднее — сына спать укладывала. Когда она появилась, я чуть сознания не лишился, увидевши на плебейской ее шее царское ожерелье. Вытолкал дуру в переднюю, понужнул по шее и увел домой, благо, только через двор перейти. А дома новая оказия — сидит эта носатая пигалица и табачок понюхивает. Еле выпроводил. Вот какая история приключилась.
— Без конца пока история-то. Что стало с ожерельем потом?
— На другой день у меня его уже не было. Днем Ольга Николаевна шепнула, чтобы я отнес ожерелье бывшим горничным ихним, Гусевой или Романовой, они на частной квартире жили. Так я и сделал, как сказано.
Михеев положил перо и, помолчав, спросил — просто, как в дружеском разговоре:
— Как вы думаете, Александр Петрович, держали бы нас здесь, если бы мы верили каждому слову из тех, что нам говорят такие, как вы?
— Не смею загадывать, — уклончиво ответил Каменщиков. — Однако прошу верить. Чистую правду сказал.
— А как нам проверить — правда это или нет?
— Хотел бы подсказать, да не возьму на себя смелости. Не умудрен в делах таких.
— А вы осмельтесь, это ничего.
Каменщиков задумался, поглаживая усы.
— Кабы кто из них жив был, Гусева эта или Романова, надо быть, подтвердили бы слова мои.
— А если живы да не захотят подтвердить?
— Тогда уж не знаю как.
— Подумайте. От этого многое зависит. Верить вам на слово я не могу, сегодня вы опять подтвердили это. Подумайте и о том, что вы знаете еще о романовских ценностях. Что выносили и прятали вы сами или что прятали другие. Чем скорее расскажете все это, тем скорее поедете домой. Договорились?
— Вспоминать мне больше нечего. А вообще, как прикажете, — сухо ответил Каменщиков, явно недовольный исходом разговора.
* * *
Обыск в доме Каменщикова на окраинных огородах Тюмени ничего особенного не принес. Разнокалиберная посуда — тарелки и чашки из дворцовых сервизов, дюжины две ложечек — десертных и чайных, с вензелями и гербами. Не брезговал в свое время царский писец и мелочью — пепельницами, солонками, то есть тем, что входило в карман Ни ожерелья, ни шпаги, ничего другого, действительно ценного, не оказалось.
«Прячет? Сумел продать? Или действительно нерв’ дал все, что выносил, по назначению? — гадал Михеев, перечитывая протокол обыска. — Могло быть и то, и другое, и третье. А могло и так — часть продал, часть прячет, часть — передал».
Неожиданным шансом в пользу Каменщикова было признание Гусевой. Да, она получила от него сверток, не зная, что в нем, для передачи… полковнику Кобылинскому. И, как утверждает, передала. Сошлось и время — март восемнадцатого года.
Предстояло еще допросить Предано, бывшую прислугу Гендриковой.
Паулина Касперовна Предано, несмотря на то что всю свою 56-летнюю жизнь прожила в России (Рига, ее родина, в то время входила в состав Российской империи), так и не сумела овладеть русской речью.
Она говорила как человек, первый месяц живущий в чужой стране, — с трудом подбирая (и все-таки перевирая) слова, неправильно строя фразу, неимоверно коверкая произношение. Вместо «пыль» она говорила «пил», вместо «рыба» — «рипа», «люблю» — «лублу». Свой родной язык она, кажется, давно и полностью забыла, а хорошо помнила лишь немецкий, на котором ей приходилось разговаривать в доме высокопоставленной придворной дамы, где она долго служила прислугой. В остальном же она достаточно основательно освоила русские манеры, обычаи, нравы и утирала губы кончиком платка точь-в-точь, как это делают подмосковные бабы.
Высокая и тощая, коротко стриженная, с тоненьким и длинным, как хоботок, носиком на подернутом оспенной рябью лице, Паулина Касперовна и обликом своим являла какую-то странную смесь русского и иноземного, дополняя эту необычность помесью манер простой русской бабы и бывалой приживалки «приличного дома».
Закинув ногу на ногу и как бы завинтив их в какой-то немыслимый узел, она попросила разрешения закурить, ловко выбила из надорванной пачки «Пушку» и глубоко, по-мужски затянулась, выжидательно глядя на Михеева, листавшего папку с ее документами.
Там можно было узнать кое-что о ее жизни.
Не молода — 56 лет. Родилась в Риге. Отец — техник. Училась в гимназии, но, кончив 4 класса, после смерти отца поступила в ремесленную школу. Уже взрослой, двадцати с чем-то лет, нашла более выгодным устроиться горничной в богатый дом. Вместе с хозяйкой ездила за границу, на фешенебельные курорты, обрела респектабельность великосветской прислуги. И не удивительно, что перед войной, в 1914 году, знакомая графиня рекомендовала ее на службу в царский дворец, на ту же роль горничной, в которой она достигла таких успехов. Однако во дворце служба длилась недолго — через три года у низложенного царя надобность в многочисленной прислуге отпала. В Тобольск она ехала уже сверх штата, на должности прислуги одной из фрейлин Александры Федоровны. После краха (как она называла конец Романовых) вынуждена была вспомнить о старой специальности, полученной еще в юности, и стала искусно кроить заготовки для модной обуви, снискав вскоре славу умелого мастера. Заработок кустаря-надомника неплохо кормил ее все эти годы.
Уже по первым двум-трем вопросам она смекнула, о чем будет речь, и с охотой, показавшейся Михееву поспешной, а также с подробностями, многие из которых были явно излишни, выложила «все и даже немножко больше» (как она сказала) о том, что ей известно.
Да, она знает, что в Тобольске у Романовых было много драгоценностей. Знает, что в начале 1918 года их стали постепенно выносить из дома и передавать разным людям на хранение. Выносил писец Каменщиков — она сама видела, как он укладывал на птичнике в длинную куриную кормушку золотую шпагу Алексея и потом вынес ее под слоем тряпья и земли. Ему же кто-то из княжен надел на шею жемчуга, и он тоже вынес их. Выносил что-то в небольшом кожаном чемоданчике священник Благовещенской церкви отец Алексей.
Начальник охраны полковник Кобылинский не только способствовал этому, но и сам принимал участие в «перебазировании» ценных вещей. Хозяйка Преданс, Гендрикова, рассказывала ей под секретом, что полковнику была передана шкатулка с драгоценностями, главным образом с бриллиантами Александры Федоровны.
— Значит, Каменщиков, Владимиров, Кобылинский. А кто еще, кроме них, мог выносить и скрывать драгоценности?
Преданс выпустила двумя сильными струями через нос глубокую затяжку и отрывисто выдохнула вместе с клубами дыма:
— Могла. Многа бил посетитель. Многа хотел иметь куртаж.
— Какой куртаж?
— Ну… Прилипла к рука.
С давно накопившимся раздражением, даже, пожалуй, со злобой, кривя тонкогубый бескровный рот, Преданс перечисляла, кажется, всех, кто хоть когда-то был вхож в губернаторский дом и мог, по ее мнению, быть передаточной инстанцией в операции с драгоценностями.
Увы, список Михеева от этого не уточнился. Он лишь заметил для себя, что однажды Романовых посетила игуменья Ивановского монастыря и что постоянной ее посыльной ко «двору» была знакомая Михееву Марфа Мезенцева, носившая к «царскому столу» продукты из монастырских кладовых.
— Куда же, по-вашему, девались потом драгоценности?
Готовность Предано не забыть никого свела на нет ценность ее ответа. По ее словам выходило, что эти люди сами и прикарманили то, что они должны были передать в другие руки. Отец Алексей будто бы продал часть их в Тобольске ювелиру Мерейну, а часть в Омске, с помощью сыновей, переселившихся туда. У Кобылинского шкатулку со всем содержимым купил купец со странной в этих краях фамилией — Пуйдокас. У камердинера Чемодурова, вернее у жены его, ценности выманил иеромонах Феликс. Жильяр и Волков увезли свою долю за границу. А Каменщиков шпагу и ожерелье спустил на базаре. И так далее и тому подобное. Подозревать, что кто-то еще хранит доверенные ему драгоценности, она не хотела, просто не могла — ей казалось невероятным, что кто-нибудь мог не воспользоваться такой возможностью поживиться.
— Ну, а вы сами? — спросил ее Михеев.
— О нет, — со вздохом не то облегчения, не то сожаления тут же ответила Предано. — Мне не попал ни крох.
«Вот оно что…» — подумал Михеев.
* * *
Каменщиков, которого Михеев свел на очной ставке с Преданс, удивился ей меньше, чем Паулина Касперовна ему.
— Жива, Литва? — спросил он пренебрежительно, бегло чиркнув по ней взглядом.
— А вы хочет, чтоб я бул мертвая? — отпарировала Преданс.
Михеев тщился не улыбнуться, слущая перепалку старых знакомых.
— Мстишь, Полина Касперовна? — обратился к ней Каменщиков, выслушав записанные Михеевым ее показания.
— Ненавижу вас, жадины! — вырвалось из-за стиснутых зубов у Предано.
— Не жаднее тебя, Касперовна, — усмехнулся Каменщиков. — Знаем ведь, на что
злыдничаешь… А что касается моей личности, то гражданин следователь изволит знать, кому я шпагу цесаревича передал и может ли какой дурак царскими ожерельями на базаре торговать.
Предано не отвечала ему, высокомерно отвернувшись и комкая окурок своей «Пушки».
— А сама Преданс принимала участие в этих ваших делах?
— В нашем, осмелюсь заметить, нет. А, знаю, хотелось ей Но только не было приказа допускать ее до этого дела. И, верно, не зря. После Полина Касперовна весьма настырно изволила шантажировать нас — и отца Алексея, и Терентия Ивановича Чемодурова, и нас с супругой Требовала выделить ей долю для пересылки якобы чудесно спасенным царским отпрыскам. А мы-то знаем и то, где отпрыски в то время находились, и то, как Полина Касперовна левой рукой писать умеет.
— Так и не поделились, значит?
— Никак нет. Да и, сами знаете, нечем уже было, все ушло по адресу, согласно приказаниям.
Что все ушло по адресу, в этом, пожалуй, можно было не сомневаться — те, кто давал поручение, конечно, проследили за этим и не оставили бы писца в покое. Но вот куда ушло, это еще оставалось неясным.
Михеев с нетерпением ожидал встречи с Битнер-Кобылинской.
Клавдия Михайловна Кобылинская, супруга начальника охраны Романовых, нашлась в небольшом подмосковном городке, где мирно жила и учительствовала, тая от знакомых, да и от себя самой тоже, воспоминания об удивительных событиях, свидетельницей и даже участницей которых ей довелось быть.
Дочь какого-то некрупного чиновника, она, кончив гимназию, учительствовала в Царском Селе, основное население которого составляли служащие императорской резиденции — Александровского дворца, преподаватели знаменитого со времен Пушкина лицея, слушатели военной академии, да многочисленная группа литераторов и художников, привязанных к поэтической памяти этой «гавани муз». В войну, увлеченная общей волной сентиментально-преувеличенной заботы о «защитниках веры, царя и отечества», пошла работать сестрой милосердия в «состоящий под высочайшим покровительством» царскосельский офицерский лазарет.
Конечно, это был лазарет для избранных — пред светлейшие очи титулованной обслуги доставлялся лишь соответствующий контингент пациентов: представители громких аристократических фамилий, офицеры лейб-гвардии, протеже влиятельных лиц из дворцового окружения. Здесь Клавдия Михайловна Битнер имела возможность встречаться с высокопоставленными лицами, от нечего делать иногда игравшими роль «сестричек» и «шефов». В том числе и с августейшими — членами императорской фамилии.
Здесь же она встретилась и с обер-офицером гвардейского полка Евгением Степановичем Кобылинским, залечивавшим после ранения под Старой Гутой острый нефрит, Пребывавшая уже в бальзаковском возрасте одинокая сестра милосердия увлеклась тоже уже немолодым, но подающим весьма большие надежды на солидную карьеру гвардейцем. Вскоре она уехала за ним в Петербург и стала его женой.
Мартовский переворот 1917 года многое нарушил в планах молодой четы, но, как оказалось, принес и свои выгоды. Энергичный полковник был представлен Керенскому и получил солидное назначение — начальником гарнизона Царского Села и комендантом охраны Александровского дворца, где содержалась под арестом царская семья. Это назначение выдвигало его в ряд видных офицеров армии. Но когда было принято решение о переводе Романовых в Тобольск, Кобылинскому пришлось в той же должности начальника их охраны последовать туда. Спустя два-три месяца в Тобольск прибыла и Клавдия Михайловна.
Переход власти в руки большевиков вначале не изменил ничего в положении Кобылинского, он продолжал исполнять свою должность, но перевод Романовых в Екатеринбург оставил его не у дел. Вернувшись из Екатеринбурга в Тобольск, он снял форму и занялся домашним хозяйством, предоставив энергичной супруге зарабатывать на жизнь службой в гимназии. Быстросменявшиеся события заставили его вскоре вновь надеть мундир и нацепить снятые было полковничьи погоны — занявшие Тобольск белые мобилизовали его в армию. В конце 1918 года полковника можно уже было видеть в штабе Сибирской армии Колчака на должности офицера для поручений при начальнике снабжения.
Паническое отступление колчаковцев разлучило супругов: Клавдия Михайловна застряла в Новониколаевске и лишь через несколько месяцев добралась до Тобольска, где жила ее мать, а Евгений Степанович катился все дальше на восток, пока где-то под Красноярском не был взят в плен. Через два года, во время которых Клавдия Михайловна жила в Тобольске, а Евгений Степанович «искупал вину» где-то на Алтае, супруги соединились вновь. Кобылинский сумел скрыть свое прошлое, прикинуться рядовым простачком офицером и был прощен. Разыскав друг друга, Кобылинские поселились в Рыбинске и, кажется, были довольны жизнью, отдыхая от недавних передряг.
Беда пришла к ним в 1927 году. Евгений Степанович связался с группой бывших офицеров, впутался в какой-то антисоветский заговор и… Клавдия Михайловна осталась вдовой. Последовавшие за этим частые переезды, то в Москву, то на захолустную подмосковную станцию Столбовая, то в Орехово-Зуево, уже ничего особенного не привнесли в ее биографию — она оставалась рядовым «шкрабом», как звали тогда школьных работников, то есть учителей.
Из книг Жильяра и Соколова, из воспоминаний Панкратова Михеев знал и некоторые интимные подробности жизни Битнер-Кобылинской в Тобольске. Например, о том, что она была там учительницей царских детей.
Когда Романовы покидали Тобольск, благодарные родители тепло попрощались с учительницей своих детей, Александра Федоровна облобызала ее, а Николай галантно поцеловал ручку.
Вот кто такая была Клавдия Михайловна Битнер-Кобылинская, нашедшаяся через пятнадцать лет после тех событий и ожидавшая сейчас встречи с Михеевым.
* * *
Для своих пятидесяти шести лет Клавдия Михайловна выглядела неплохо. Совсем еще свежий цвет лица. Пепельные» возможно даже без седины, пышные волосы, заботливо ухоженные и причесанные. Некоторая склонность к полноте маскировала неизбежные морщинки. Простое, строгое, но сшитое с претензией на изящество, платье говорит о вкусе и нелегкомысленности. Нрав, очевидно, общительный, живой, пожалуй, даже экспансивный. Как будто, без скидок, симпатичный человек.
«Но что кроется за этой симпатичностью? — размышлял Михеев, задавая ей первые анкетные вопросы. —
У нее есть причины не питать особой любви к новому строю, она многое потеряла с крушением старого: надежды, мужа. Будет ли она искренней и правдивой, пожелает ли помочь делу?»
Но Клавдия Михайловна и в беседе производила приятное впечатление — ничего как будто не соврала, не умолчала даже о том, о чем теперь уж мало кто мог знать и что она, понятно, могла бы скрыть. Ну, хотя бы о трогательном прощанье с Романовыми — кто бы мог это помнить? — сказала сама. На вопросы отвечала не то чтобы с охотой, но и без боязливых заминок и уверток.
Трудности начались, когда разговор подошел к вопросу о драгоценностях. Михеев почувствовал, как она внутренне насторожилась, стала отвечать медленно и скупо, словно взвешивая каждое слово. Без нужды часто доставала платочек из рукава платья и прикладывала его к кончику носа, словно подкрепляя себя запахом недорогих духов.
— Я знала, конечно, что у Романовых в Тобольске было много драгоценностей. Слышала, что их пытались спрятать, хотя отбирать их никто как будто не собирался.
— Кто выносил?
— Многие, вероятно. Гендрикова, Жильяр, камердинеры Чемодуров и Волков. Кажется, священник Владимиров… Но все это я могу сказать только с чужих слов.
— А муж ваш?
— Что вы, это исключено! Это было бы слишком рискованно — нарушение служебного долга.
— А кому передавали, где укрывали ценности — это, хотя бы с чужих слов, вы можете сказать?
— Могу, — понюхала платочек Кобылинская. — Вернее всего, в женский монастырь.
— И только?
— Я, право, не знаю…
— А мужу, например, Евгению Степановичу?
Клавдия Михайловна снова потянулась к платочку, опустив глаза.
— Возможно. Но я об этом не знала… Вам кажется это странным? Конечно, Евгений Степанович доверял мне, но, я думаю, просто не хотел впутывать меня, легкомысленную, по его мнению, женщину, в это тонкое и щекотливое дело.
Михеев был доволен — она говорила неправду, значит, именно здесь ей есть основания скрывать что-то более серьезное. Он молчал, сосредоточенно разгребая спичкой окурки в пепельнице. Молчала и Кобылинская, но ей, заметно, это было в тягость — она ждала вопросов, чтобы продолжать развивать свою версию.
— Вы мне не верите… — не вытерпела она. — А между тем, это так. Могу даже сказать больше — я сама выносила и прятала кое-что по просьбе Романовых, а муж об этом не знал. Да, да, видите, как получается…
Михеев вопросительно поднял на нее глаза.
— Дело было так, — торопливо, словно боясь, что ее прервут, заговорила Кобылинская, — накануне отъезда последней партии Романовых, наследника и его сестер, Алексей дал мне коробочку. Обыкновенную жестянку из-под мятных лепешек. В ней были монеты, золотые и серебряные — коронационные рубли, памятные монеты и медали, выпущенные к трехсотлетию дома Романовых. Я в этом мало разбираюсь, но Алексей сказал, что они редкие, дорого стоят и просил меня сохранить их.
Она остановилась и посмотрела на Михеева, ожидая увидеть на его лице заинтересованность. Тот по-прежнему сосредоточенно ковырялся в пепельнице. Это словно обидело Кобылинскую.
— К его монетам, — продолжала она несколько разочарованно, тоном человека, который знает, что его не слушают, но вынужден говорить, — я приложила и свои, какие нашлись дома. И зарыла их. Мы жили тогда на Туляцкой улице, в доме Трусова, знаете — наискосок губернаторского дома. Во дворе, в палисаднике, против крайнего к воротам окна, росло дерево, кажется тополь. Вот под ним я и закопала коробочку. Когда вернулась из Сибири… Это было, позвольте… да, в двадцатом году, я искала ее, но не нашла. Должно быть, подсмотрел кто-то и выкопал.
Михеев продолжал молчать и это явно нервировало Кобылинскую.
— И еще я помню, — повысила она голос, словно молчание Михеева объяснялось его глухотой, — как муж приносил домой пакет, в котором было две шашки и два кинжала. Они принадлежали, как объяснил мне Евгений Степанович, царю и наследнику. Сказал, что поступил приказ отобрать у них оружие, а оно дорогое, памятное, и его надо сохранить… Что же вы молчите, наконец?! — почти выкрикнула Клавдия Михайловна, не выдержав. — Вы не хотите мне верить?
— Клавдия Михайловна, — тихо сказал Михеев, глядя в ее порозовевшее от волнения лицо. — Я хочу получить правдивый и полный ответ на свой вопрос. Хранил ли ваш муж драгоценности Романовых и кому он их передал или… ну, словом, как поступил с ними?
— Я не знаю, я не знаю! — почти с отчаянием ответила Кобылинская, приложив руки к пылавшим щекам. — Поверьте же мне, я не знаю!
— Не спешите с ответом, — прервал ее Михеев, вставая. — Подумайте. Я не тороплю вас. Посидите в соседней комнате и подумайте. Это очень важно, чтоб вы решились сказать правду.
Кобылинская покорно последовала за ним.
* * *
Час спустя ее снова привели в кабинет. Михеев был не один — у стены, противоположной той, где стоял стул Кобылинской, неподвижно сидела женщина лет шестидесяти в длинном старомодном жакете, мешковато висевшем на ее острых плечах.
— Вы знакомы? — спросил Михеев, обращаясь к ним.
— Видались, — первой отозвалась женщина, бросив на Кобылинскую цепкий взгляд маленьких глаз, но даже не повернув головы в ее сторону. — Доводилось встречаться с Клавдией Михайловной. Только помнят ли они нас, мелкую сошку.
— Вы постарели, милочка, — натянуто улыбаясь, заметила Кобылинская.
— Какие уж есть, — обидчиво ощерилась женщина, — годы и вас не красят, матушка.
— Ну вот, я вижу, вы и вспомнили друг друга, — вмешался Михеев. — Анна Яковлевна Гусева и Клавдия Михайловна Битнер-Кобылинская. Так?
Женщины молча кивнули.
— Скажите, Анна Яковлевна, приходилось ли вам видеть у Кобылинских драгоценности бывшей царской семьи?
— Было дело, чего теперь скрывать, — ответила Гусева, прищурившись на Кобылинскую. — Евгений Степанович мне доверяли, от меня ему таиться незачем было, не такие тайны хранила. Пятнадцать ведь лет няней служила при царевнах…
— Ну и что? — вмешалась Кобылинская, обращаясь к Михееву. — Я тоже не отрицала этой возможности. Но причем тут я? Что там у них было, я не знаю, не видела.
— А булавочки-то? — продолжала Гусева, все так же не меняя положения, словно тело ее окаменело, а живыми были лишь рот и глаза. — Помните, зашла я к вам, а вы с Евгением Степановичем булавочки перетираете. Шляпные булавочки, с каменьями самоцветными. Олины, Танины, Настины — наши булавочки-то. Мне ли их не знать.
— Может, вы запамятовали, дорогая? Вероятно, тут был один Евгений Степанович. Ведь так, не правда ли? — настаивала Кобылинская.
— Нет, не один. Правду сказать, увидев меня, вы в кухонку вышли, молочко будто там у вас сбежало. А булавочки на столике так и остались, уж при мне их Евгений Степанович в шкатулку сложил.
— Не знаю я никакой шкатулки. Не было ее тогда. Что вы такое говорите, право! — убеждала Кобылинская, просительно, почти с мольбой глядя на Гусеву.
— На столике не было, это верно. В комоде она была, Клавдия Михайловна, под вашими, извините, панталонами. Супруг ваш достал ее оттуда, чтобы вложить туда мое приношение. Вот об этом вы, пожалуй, и вправду не знаете — при посторонних не велено было вручать.
В уголках губ у Гусевой играла торжествующая усмешка — что, мол, взяла?
— Почему же я посторонняя? — обиделась задним числом Кобылинская. — Но вы, кстати, сами подтвердили, что я шкатулки не видела.
— Не подтверждала я этого, матушка, с чего вы взяли? Когда вы вернулись из кухни, шкатулка-то на столе еще была. Вы на нее ноль внимания, как на привычную вещь. Тут я поняла, что не один Евгений Степанович причастен к тайне, так и доложила графине.
— Так это и можно записать? — спросил ее Михеев.
— Записывайте, мне что, я делала, что приказывали, к моим рукам ничего не прилипло, — сухо согласилась Гусева.
— А к нашим прилипло? — нервно дернулась Кобылинская. — Вы знаете, как я голодала в двадцатом? Жила бы я так, если бы…
Достав из рукава платочек, она прикрыла глаза. Гусева, оглядев ее, впервые позволила себе изменить позу — откинулась на спинку стула.
— Мне что… Я это к тому только, что ничего у меня не осталось, все вам передала, как было приказано. А не скажи я, на кого мне навет кидать? На себя, выходит, все принимай? Ну, уж нет… Я о себе все выложила, у меня сердце спокойное, а вы уж сами докладывайте, что и как, если не виноваты.
— Я бы на вашем месте, Клавдия Михайловна, внял ее совету, — сказал Михеев.
— Мне нечего докладывать.
Кобылинская отвернулась в сторону и уставилась в стену. Михеев покачал головой и взялся за телефонную трубку.
— Ну что ж. Придется пригласить на беседу еще одного человека…
Обе женщины с интересом повернулись к двери.
— Садитесь, Викторина Владимировна, — подставил Михеев стул вошедшей Никодимовой. — Вы узнаете моих собеседниц?
— Да, узнаю, — без тени удивления оглядев их, ответила Никодимова.
— Вот и хорошо. А вы?
Кобылинская и Гусева подтвердили, что — да, Викторину Владимировну Никодимову они знают. Пока Михеев заносил их ответы в протокол, женщины искоса оглядывали друг друга.
— У нас тут возник вопрос, Викторина Владимировна. Помогите разобраться… Кому вы отдали на хранение в Тобольске в восемнадцатом году драгоценности графини Гендриковой? И свои, кажется, тоже?
— Графиня распорядилась передать их полковнику Кобылинскому. Она уже беседовала с ним об этом tete-a-tete…
— Это значит — наедине? — перевел Михеев. — И вы передали?
— Я зашила наши bijou в мешочки, отдельно свои, отдельно графинины, надписала на них наши имена и отнесла их полковнику. Но… — Никодимова бросила взгляд на Кобылинскую. — Но он их не принял. Изменились какие-то обстоятельства…
— А дальше?
— Дальше?… — замялась Никодимова. — По его рекомендации я отнесла мешочки Константину Ивановичу. Это их друг дома, Пуйдокас, лесопромышленник. Евгений Степанович сказал — все, что у него хранилось, он тоже передал этому человеку.
— Пуйдокас потом вернул вам вещи?
— Нет, — после паузы ответила Никодимова, опустив глаза.
— А вы спрашивали их у него?
— Да, после гибели графини я просила возвратить мне хотя бы мой скромный мешочек… Я имела доверенность получить все, что принадлежало графине, но просила отдать хотя бы свое.
— Почему же он не вернул их вам?
— Мне сказали, что вещи достать пока невозможно, так как они далеко. А затем Пуйдокасы уехали из Тобольска. Так я и лишилась единственного своего достояния, хотя оно и не составляло состояния, — попробовала улыбнуться Никодимова невольному каламбуру.
— Pourquoi m’engagez-vous â cette jale affaire? Qu’est-ce je vous ai fait, quoi?
[2]—с плачем сорвалась на крик Кобылинская, театрально заломив руки.
— О, excusez-moi, — поморщилась Никодимова то ли от дурного французского выговора, то ли от вопля Ко-былинской. — Vous, vous-même m’en avez parlé donc, ma chérie…
[3]
— Это нельзя, — вмешался Михеев. — Говорите по-русски. Переведите, о чем вы говорили.
Никодимова и Кобылинская подавленно молчали.
— Вы знаете Пуйдокаса? — обратился Михеев к Кобылинской.
— Нет, — резко ответила та.
Никодимова изумленно воззрилась на Кобылинскую, но промолчала.
— А вы? — спросил ее Михеев.
— Простите… Я не сумею солгать. У меня не получится, — с достоинством ответила Никодимова. — Я встречалась с Анелей Викентьевной и Константином Ивановичем.
— Где?
— У Кобылинских, — тихо вымолвила Никодимова, не глядя на Клавдию Михайловну. Та сидела, закинув ногу на ногу, и принюхивалась к платочку, который теперь уже не выпускала из рук.
— Вы можете подтвердить, что Кобылинская была знакома с Пуйдокасами? — спросил Михеев Гусеву.
— Так куда же денешься. Не я, другие скажут. Редкий вечер не бывали друг у друга.
— А вы, — Михеев обратился к Кобылинской, — по-прежнему отрицаете это?
— Ну, знала, забыла. Какое это имеет значение? — раздраженно ответила Клавдия Михайловна.
— Может иметь большое значение, — нахмурился Михеев. — Где ложь, там, значит, что-то нечисто.
Отправив Гусеву и Никодимову, он долго молча смотрел на отвернувшуюся к стене Кобылинскую, стараясь понять, о чем она думает, что таит. Может быть, что-то хочет сказать, но не решается? Но она продолжала молчать, покусывая платок. Михеев встал, прошелся по комнате и сел против Кобылинской.
— А я думал, что вы будете говорить правду, Клавдия Михайловна. Зачем вы скрываете что-то? Что вам это дает? Я могу подумать, что драгоценности все еще у вас. И не выпускать вас, пока вы не укажете, где они.
— Нет, нет, — повернулась к нему Кобылинская. — У меня их нет.
— Но, значит, вы знаете — где, у кого. Скажите это. Ну для кого вам беречь это добро? Неужели за пятнадцать лет вы не убедились в том, что старое не вернется? Что эти драгоценности не принадлежали Романовым, подлинный их хозяин — народ. Это его пот и слезы. И — кровь… Ваш сын уже большой?
Кобылинская снова отвернулась к стене.
— Подумайте, ему жить в иное время, в ином мире. Кем он у вас хочет быть?
— Трактористом, — криво улыбнулась Кобылинская.
— А вы знаете, сколько стоит трактор? Всего лишь два-три блестящих камешка из ожерелья, украшавшего шею Александры Федоровны, которая никогда не пролила ни капли трудового пота. А как они, такторы, нужны нам сейчас! Смотрите, что в мире-то делается….
Кобылинская молчала.
* * *
Передал ли Кобылинский драгоценности и кому именно? Михеев решил проследить обстоятельства жизни Кобылинского в последние месяцы его пребывания в Тобольске.
Из показаний было ясно, что драгоценности находились у него еще весной 1918 года, где-то в период с марта по май. Это начальная точка. А дальше? В декабре 1918 года он уже был в колчаковской армии. Едва ли он повез их с собой, хотя и это исключать нельзя.
Между тем события в эти месяцы 1918 года развивались так. В марте в губернаторском доме был введен новый, усиленный режим, сузивший возможности сношения Романовых и их свиты с «волей». В конце марта прибыла новая охрана, и роль Кобылинского была ограничена до минимума. Рано утром 26 апреля из Тобольска в Екатеринбург отправилась первая партия: Николай с женой и дочерью Марией, с ними Боткин, Долгоруков, Чемодуров, Иван Седнев и Демидова. В ту же ночь Тобольский Совет произвел обыски и аресты окопавшихся в городе монархистов и контрреволюционно настроенных офицеров. Еще через два дня арестован и вывезен из Тобольска епископ Гермоген. В середине мая отправлены в Екатеринбург остальные Романовы, задержавшиеся в Тобольске из-за болезни Алексея, а с ними и остатки свиты и прислуги, в том числе и Кобылинский. В эти же примерно дни в Тобольск зачем-то тайно приезжает на несколько дней Борис Соловьев. В средине июня Тобольск захвачен белыми. 16 июля расстреляны Романовы и арестовано большинство их свиты. Спустя несколько дней пал Екатеринбург. Кобылинский возвратился в Тобольск, к семье.
Никому из видных лиц свиты в такой суматохе он не мог передать драгоценности, это ясно. А если бы и передал, то они были бы у этих лиц, находившихся все время под строгим присмотром, найдены и об этом стало бы известно. Нет, он мог передать их только лицу малозаметному, но верному, близко знакомому.
Значит — Пуйдокас?
* * *
Помог опять-таки Тобольск. Там помнили Пуйдокаса, знали даже его нынешний адрес — сын запрашивал справку из школы, где он учился когда-то. Дальнейшее уже было «делом техники».
Бывший лесопромышленник Константин Иванович Пуйдокас был в свое время солидной фигурой в тобольском деловом мире — вел крупные экспортные операции, ворочал изрядными капиталами. И в то же время был как-то на отшибе: поляк, католик, сугубо деловой человек, энергичный, решительный и резкий, он не «притерся» к обществу тобольского купечества, явно пренебрегая им.
Пребывая постоянно в длительных деловых вояжах, а в редкие перерывы между ними — на дальних своих лесных заимках (предпочитая мирное семейное одиночество пьяному времяпрепровождению сиволапых сибирских купцов), он и личностью своею не очень запомнился тоболякам. Хотя внешностью был незауряден: высок и плотен, розовощек, в пышных холеных усах, голосом зычен и резок, одевался не без щегольства. На одной руке не было пальца, что и послужило причиной клички «беспалый барин», присвоенной ему купцами, недолюбливавшими своего коллегу по коммерции.
В 1919 году Константин Иванович почел за лучшее выехать из Тобольска, вслед за отступавшими колчаковцами. Зацепился за Омск, где жил его брат. Но дальше не двинулся — понял, что песенка «спасителей отечества» кончена, и решил остаться в Омске, пока не прояснятся обстоятельства.
Вскоре они прояснились — настала пора нэпа, и Пуйдокас потихоньку стал выглядывать на свет божий, чтобы присмотреться и сориентироваться в обстановке. Попробовал принять участие в некоторых деловых операциях — прошло удачно. Догадался, что можно выходить на арену пошире и в 1926 году надумал вернуться в родные края, к знакомому с детства делу, к своим брошенным предприятиям.
Жизнь вроде бы наладилась, вошла в колею, но в 1929 году, ознакомившись с материалами о пятилетке, о коллективизации, уяснив смысл спора партии с уклонистами, дальновидно решил сматывать удочки — «рыбалка» кончалась. Вернулся снова в Омск, но ненадолго, только лишь чтоб заручиться необходимыми рекомендациями старых знакомых. А затем двинулся вверх по Иртышу и, отойдя километров на триста, пересел на попутную подводу, которая и довезла его до какого-то далекого таежно-степного алтайского поселочка.
Глухомань показалась ему достаточно удобной и надежной, и он устроился здесь «по мелкому счетному делу», выписал жену с детьми и исправно исполнял свою роль мелкого совслужащего, не подавая никому о себе вестей.
Там его и нашли, ибо кое-какие вести все же, помимо его желания, в Омске и Тобольске появлялись.
Скромный образ жизни Константина Ивановича на новом месте жительства вселил в Михеева сомнение — не похоже, чтоб он чем-нибудь помог делу. Драгоценности, если и были в его руках, он, делец по призванию, сумел бы обратить в удобные для оборота средства и вложить в свои нэповские предприятия.
В Свердловск его доставить пришлось вместе с женой, Анелей Викентьевной — ее имя тоже фигурировало в показаниях, которые успели дать за этом время Гусева, Никодимова и Предано (Кобылинская по-прежнему отказывалась признать свое знакомство с Пуйдокасами). Но доставили супругов порознь. Сначала его, а потом, день спустя, — ее. Так что Константин Иванович вначале и не знал, что находится бок о бок с женой.
С нее и начал Михеев разговоры по новому направлению поиска.
* * *
Анеля Викентьевна — тихая, богобоязненная дама, обожающая своего все еще интересного, но строгого и резковатого мужа, чувствуя, что Константину Ивановичу могут грозить какие-то неприятности в связи с этим старым делом, вначале пыталась отделаться незнанием. Но, не обладая хитрым умом, врать не умела и легко запутывалась. И уж совсем растерялась на очных ставках со старыми знакомыми, с которыми, как она думала, ей в жизни встретиться больше не придется.
— Знаете ли вы эту женщину? — обратился к ней Михеев, представляя Никодимову.
— Нет, не знаю, — пугливо ответила Пуйдокас, отводя глаза.
— Что вы, Анеля Викентьевна, неужели я так изменилась? — воскликнула горестно Никодимова.
— Так как же, все-таки, знали или нет? — повторил вопрос Михеев.
— Может быть, встречались… Где же упомнить. Столько времени прошло…
— Сколько?
— Да с восемнадцатого-то года.
Никодимова и Михеев улыбнулись. Нет, не умела врать Анеля Викентьевна — не получалось у нее.
— А скажите, знавали ли вы в этом самом восемнадцатом году полковника Кобылинского?
— Нет, конечно, не знала. Мы жили тихо, мирно, никуда не ходили, ни с кем не встречались.
— Так вот, Анеля Викентьевна, давняя ваша знакомая, Викторина Владимировна, утверждает, что по рекомендации полковника Кобылинского передала вам и вашему мужу два мешочка с драгоценностями: своими и графини Гендриковой.
— Нет, не передавала, — упрямо твердила Пуйдокас.
— Может, вы забыли, Анеля Викентьевна, — удивленно глядя на нее, спрашивала Никодимова. — Белые такие мешочки из бельевого полотна. На них были надписаны наши фамилии — моя и Anastasie. Вы при мне положили их в свой секретер. Как же можно забывать, ведь это, простите, не носовой платок.
— Ну, если брали, то, значит, возвратили.
— Кому?! — изумилась Никодимова.
— Евгению Степановичу, конечно.
— Мои вещи?! Зачем?
— А я знаю — чьи? Все, что брали, все возвратили. С него и спрашивайте.
— Так его уже нет в живых.
— Вот-вот… — довольно подтвердила Анеля Викентьевна.
Вся фигура Никодимовой свидетельствовала о ее возмущении. Михеев вызвал Кобылинскую.
— Эту женщину вы тоже не знаете?
— Нет, — буркнула Пуйдокас, едва взглянув на Кобылинскую и отвернувшись.
— А вы, Клавдия Михайловна, наверное, тоже?
— Не знаю.
— Да… трудное это дело — делать вид, что не узнаешь старых знакомых, — заметил Михеев. — Ну что же, зайдем, так сказать, с другой стороны. Вот Анеля Викентьевна утверждает, что все вещи, что давал им на сохранение ваш муж, в том числе и мешочки Гендриковой и Никодимовой, возвращены вам в целости и сохранности. Викторина Владимировна искренне возмущена тем, что ее вещи были переданы не по назначению и, вероятно, использованы на себя.
— Как возвратили?! — вскинулась Кобылинская. И, посмотрев на Пуйдокас, глухо и зло добавила: — Вам этого не следовало бы говорить, Анеля Викентьевна! Как вам не стыдно?!
— Ну вот, теперь вы все трое и познакомились, — подвел итог Михеев.
* * *
Заочный портрет Пуйдокаса, нарисованный его знакомыми, полностью совпадал с оригиналом — Михеев убедился в этом, едва увидел Константина Ивановича, прочно и независимо утвердившегося на стуле, который глухо хрустнул под ним. Разве только одет был попроще, в недорогой, но аккуратный и хорошо сидящий на нем костюм, да цвет лица, которым восхищались знавшие его, несколько потускнел — как-никак, вторая половина шестого десятка.
— Чем могу?… — осведомился он с независимым видом.
— Можете многим, — ответил без иронии Михеев, вглядываясь в его резко очерченное, с крупными чертами лицо. — Если, конечно, захотите… Но и если не захотите, я думаю, тоже придется помочь.
— Угу, — отозвался понимающе Пуйдокас.
— Вот поэтому давайте сразу и выясним — хотите или не хотите. Имеете ли вы где-либо спрятанные драгоценности?
— Да, имею, — помолчав, ответил Пуйдокас.
— Где, что?
— В ста километрах от Тобольска. В земле закопан паровой котел. И вся арматура к нему.
Михеев пристально посмотрел на него.
— Нам известно, что весной 1918 года полковник Кобылинский передал вам драгоценности царской семьи. Где они?
— А вы считаете, что я знаю об этом?
— Считаю.
— Угу, — снова буркнул Пуйдокас. — Но я не знаю.
— А что приняли драгоценности от Кобылинского, это, надеюсь, не отрицаете?
— Отрицаю. Не принимал. С Кобылинским не имел чести быть знаком. Хотя, несомненно, слыхал о нем.
— Ну, вот мы и выяснили, что вы не хотите помочь нам, — улыбнулся Пуйдокасу Михеев, словно бы даже довольный его поведением. — Вот что, Константин Иванович. Я вижу, что человек вы… как бы это сказать…
— Прочный, — подсказал Пуйдокас.
— Ну, пусть прочный… Вижу, что откровенным вы быть не хотите. И будете говорить неправду до тех пор, пока вам не докажут это. И не убедят, что говорить нужно именно правду и ничего не скрывать. Не так ли?
Пуйдокас не ответил, с прищуром изучающе глядя на Михеева.
— Так вот, зная, вернее — предполагая это, я заранее подготовился к такому разговору.
— Угу, — как бы принял это к сведению Пуйдокас.
— Что с Анелей Викентьевной мы уж предварительно побеседовали, вы, я думаю, догадались и сами? Не скрою, она тоже пыталась что-то отрицать. Но, — развел руками Михеев, — убедилась, что это бесполезно.
Он улыбнулся, предвидя, что Пуйдокас в ответ вымолвит свое «угу». И не ошибся.
— А что она вам сказала?
— Ну, Константин Иванович… Вы у меня хлеб отбиваете. Не будем меняться ролями: я буду спрашивать, а вы отвечать.
Пуйдокас снова угукнул.
— Но скажу, что ответы Анели Викентьевны позволили мне сделать вывод, будто вы не хотите помочь нам. Помните ваше «чем могу»?..
— У каждого своя забота.
— Совершенно верно. Могу еще добавить, что здесь у нас ждет встречи с вами ваша старая знакомая Клавдия Михайловна Кобылинская…
Пуйдокас еле заметно нахмурил брови.
— …которую вы вот не знаете, а она вас знает.
— Угу, — отозвался Пуйдокас.
— И Викторина Владимировна Никодимова, которая сдавала вам по рекомендации Кобылинского мешочки с драгоценностями — своими и графини Гендриковой…
Пуйдокас вспоминающе завел вверх глаза и отметил для себя:
— И Никодимова…
— И вот, что же нам теперь делать? В прятки играть, в кошки-мышки?.. Может, повторить вопрос?
— Какой?
— Первый. О драгоценностях.
— Надо подумать, — деловито, словно ведя разговор о коммерческой сделке, заметил Пуйдокас.
— Подумайте. Только не очень долго. Как-никак, люди ждут. Скажем, до завтра. Идет?
— Угу, — ответил Пуйдокас.
* * *
«Подумать-то он, конечно, подумает, — размышлял Михеев. — Только вот — о чем? Уж во всяком случае не о том, как выложить все, что он знает. Скорее наоборот — как бы возможно больше скрыть и от возможно большего отречься. А я, выходит, передышку ему для этого дал».
Так оно и вышло. При очередной встрече Михеев со скучающим видом повторял вчерашние вопросы, а Пуйдокас, как и ожидалось, коротко и резко отвечал на них, отрицая все. Нетрудно было догадаться, что до тех пор, пока он сам не услышит показаний жены, не увидит Кобылинскую и Никодимову, он будет думать, что его берут «на пушку».
— Ну, что ж, докажем, что мы не пушкари, — сказал себе Михеев, записав ответы Пуйдокаса. Дав их ему на подпись, он послал за Никодимовой.
— Не помню, — заявил Пуйдокас, в ответ на вопрос — знают ли они друг друга.
— Да, знаю, — ответила Никодимова.
— Брал ли у нее на сохранение какие-нибудь вещи? Не помню. Много их тогда ко мне ходило. Кое у кого и брал. А потом вернул.
— Но мне-то вы их не вернули, — сказала Никодимова, с презрением глядя на него.
— Значит, не брал.
— Нет, брали. Вот и Анеля Викентьевна призналась. Зачем же лгать… Fi, donc!
— А что, она сказала, будто я брал у вас вещи?
«Хочет-таки выведать, что показала жена!» — отметил про себя Михеев и решил — ну, пусть, пока это даже на пользу.
— Да, сказала.
— И что я не возвратил их?
— А вот это уж нельзя, — прервал его Михеев. — Вы опять отбиваете у меня хлеб, Константин Иванович. Нехорошо…
— Она сказала, что вы их почему-то отдали Кобылинскому, а не мне, — ответила на вопрос Никодимова, не поняв замечания Михеева. Но тот не возражал — все пока шло по его плану.
— Значит, отдал, — невозмутимо подтвердил Пуйдокас.
— Кобылинскому? — переспросил Михеев.
— Кобылинскому.
— Так вы же его не знаете.
— Значит, знал.
— Знал, да забыл?
Пуйдокас не ответил. Михеев позвонил и попросил увести Никодимову.
— Видите, Константин Иванович, мы и начали кое-что вспоминать, — начал он, проводив Никодимову. — О чем дальше будем вспоминать? О Кобылинских?
— А, что там вспоминать, какие-то два мешочка, неизвестно с чем, — махнул рукой Пуйдокас. — Где их упомнишь в той суматохе. У меня своего добра пропало в сотни раз больше, я и то не вспоминаю…
— Да нет, тут не только о двух мешочках речь.
— О чем же?
Михеев вызвал Кобылинскую.
— Вот, в присутствии Клавдии Михайловны, которую, как выяснилось теперь, вы знаете, задаю вам такой вопрос. Ваша жена, Анеля Викентьевна, утверждает, что драгоценности Романовых, переданные вам в свое время полковником Кобылинским, вы возвратили ему же. Когда и при каких обстоятельствах вы вручили ему их?
Пуйдокас помешкал, пожевав губами. Испытующе посмотрел на Кобылинскую, но, встретив ее напряженноожидающий взгляд, отвернулся.
— Не помню.
— Надо вспомнить, Константин Иванович. Это просто необходимо, — строго сказал Михеев.
— Что вы со мной делаете! — сокрушенно прошептала Кобылинская, прикладывая к глазам платок. В ее взгляде зрело отчаяние.
— Не можете вспомнить?.. Значит, вывод один — вы их не возвращали Кобылинскому, а присвоили себе и размотали.
— Ну, уж размотать-то я бы их не размотал.
— Как вы с ними обошлись, мы еще выясним. А сейчас вам или надо снять обвинение против Кобылинских, или доказать его.
— А что доказывать? Встретились один на один, передал из рук в руки. Вот и все.
— Где, когда?
— Не помню.
— Ну вот, опять за рыбу деньги, — не выдержал Михеев.
Не выдержала и Кобылинская. Скомкав мокрый платок, она резко выпрямилась и, блестя гневными глазами, все более распаляясь, бросала ему в лицо фразу за фразой:
— Вы лжете, Константин Иванович! Спасая себя, вы хотите утопить меня, беззащитную женщину. А утопив меня, вы знаете, что утопите и моего мальчика, единственную радость жизни. Вы хотите вернуться невинным к своей семье, к детям. А я не хочу? Вы всегда были жестоким и бездушным человеком. Для вас слезы ближнего были дешевле простой воды… Вы забыли? Вы не помните! Хорошо, я вам сейчас напомню…
— Что вы делаете, сумасшедшая женщина? Замолчите! Вы топите себя… — подался к ней, сжав кулаки, Пуйдокас.
— Пуйдокас, прошу вас замолчать! — прикрикнул Михеев.
— …Нет, это вы топите меня. Так вот, слушайте теперь меня…
Михеев придвинул к себе чистый лист бумаги.
— Да, теперь это нечего скрывать, — кричала Кобылинская, — драгоценности царской семьи были в наших руках. Не обо всем я, конечно, знаю, ибо была не соучастницей, а лишь невольным свидетелем — близкий человек, которого не стеснялись, от которого не таились, но которого специально никто и ни во что не посвящал. Но мои руки чисты… слышите, вы… к ним ничего не прилипло. Хотя, без сомнения, могло бы…
…Эта суматошная весна восемнадцатого года, полная неясностей и надежд, неожиданных перемен и катастроф, фантастических слухов и носившихся в воздухе потрясающих новостей, которые перестали уже кого-либо потрясать и удивлять. Как же ее забыть?! Клавдия Михайловна, прикрыв глаза рукой, как сквозь волшебную призму времени видит все это…
Евгений Степанович приходил домой все позже и позже, улаживая все учащающиеся конфликты Романовых с охраной, с Тобольским Советом, скандалы и истерики Александры Федоровны, капризы великих княжен и мелочные ссоры «свитских». Приходил хмурый и изнеможенный, весь какой-то обмяклый, зло ругаясь сквозь зубы. Но, сняв китель и умывшись, добрел. Откинувшись на подушки дивана, добродушно похохатывал над сообщенными Клавдией Михайловной новостями и сплетнями, похлопывая ее по широкой спине, делился своими, вынесенными оттуда.
Но это длилось недолго — счастливые минуты семейной идиллии. Со стороны кухни раздавался негромкий стук в окно, Евгений Степанович, чертыхнувшись, накидывал халат и встречал с черного хода поздних визитеров. Кто только не заходил тогда… Шумный бородатый Панкратов — комиссар охраны; льстивый и подобострастный попик из архиерейского дома; нагловатый усач Волков — камердинер «самой», то есть Александры Федоровны; Жильяр и Гиббс — гувернеры Алексея, в накинутых не по погоде на голову башлыках; волоокая полнотелая красавица графиня Анастасия Гендрикова, с облегчением сбрасывавшая в прихожей деревенскую ковровую шаль, явно не из ее гардероба. А иногда приходили офицеры со споротыми погонами, но неистребимой юнкерской выправкой, дебелые монашки с трусливо шныряющими глазами, какие-то бесцветные личности неопределенного возраста, разморенно пошвыркивающие носом у вешалки в ожидании ответа на принесенную записку.
Всем им Евгений Степанович был нужен и притом безотлагательно: начальник охраны губернаторского дома, ставшего средоточием многих и многих интересов, — как его обойдешь. Вот и шли.
Клавдия Михайловна, извинившись за домашнее неглиже, удалялась к себе в будуар, как она называла спаленку, обустроенную в маленькой угловой комнате, и, усевшись за вышивание, оттуда слушала торопливый и невнятный полушепот-полуговорок визитера и отвечавший ему спокойный гулкий басок хозяина, не привыкшего шептаться у себя дома.
Да, волею случая Евгений Степанович в те дни стал в фокусе многих интриг, заговоров, сделок и операций, закрутившихся вьюжной коловертью около ссыльного царя и его семьи. И хотел или не хотел, а должен был знать о всем; выслушивать признания, призывы, угрозы, посулы. Все ради того, чтобы дать себя увлечь в очередную авантюру, «исполнить священную миссию», «оказаться на высоте чести русского гвардейского офицера», «оказать помощь святому делу». И он бы с готовностью «исполнил», «оказался» и «оказал», не будь в нем закоренелого отвращения к щелкоперству — все эти толкующие о заговорах нелепые фендрики-инкогнито в азямах с чужого плеча и с кокаиновым блеском в глазах, упитанные иереи, витиевато излагающие «святые надежды православного русского народа», — вся эта шушера, как он называл ее про себя, отнюдь не внушала ему доверия.
А те, что внушали, кто действительно мог бы что-то, за кем пошел бы и он, полковник Кобылинский, те почему-то медлили, чего-то деля, кого-то опасаясь, чего-то выжидая.
Помочь? Это можно. Но — только в верном деле, надежным людям.
И он, как мог, помогал.
Клавдия Михайловна помнит, как он принес однажды длинный и неуклюжий сверток, в котором оказались шпаги и кинжалы Николая и Алексея — в дорогой оправе, с золочеными, покрытыми узорной чеканкой клинками. Объяснил, что солдатский комитет приказал Романовым сдать оружие, а оно, сама видишь, дорогое, можно сказать — реликвия, вот и просили сохранить до времени.
В другой раз ему принесли сверток с шляпными шпильками. Тоже оттуда. Потом еще и еще. И ему носили и сам носил. В доме, куда ни ткнись, появились тайники. Наивные, вроде пятифунтовых железных банок из-под абрикосовского монпансье; и солидные — под сдвинутой половицей, в земле.
Наконец, как-то ночью, выйдя вперед мужа на поздний стук, Клавдия Михайловна впустила Жильяра, принесшего под шубой завернутую в шаль шкатулку. А когда, спустя несколько минут, зашла в кабинет, чтобы предложить мужчинам чаю, то увидела ее, эту шкатулку, на столе — открытой. Француз, гревший руки о кожух голландки, заметно смутился и даже сделал движение к столу, чтоб закрыть шкатулку, но Кобылинский опередил его:
— Посмотри, Клава, какая красота! Какое сокровище!
Из раскрытой шкатулки при свете настольной двадцатилинейной «молнии» рвался наружу сноп искр. Словно раскаленные и расцвеченные всеми цветами радуги уголья сверкали внутри ее неостывающей грудой. Клавдия Михайловна даже зажмурилась. Но видение не исчезло — оно будто проникало даже сквозь плотно сжатые веки. Она вышла на кухню, к самовару, но и там его никелированные бока, казалось, отражали все тот же фейерверк радужных брызг, слепящее пятно переливающегося разноцветья…
Сквозь томную песенку закипавшего самовара она слышала долетавшие до нее обрывки разговора в соседней комнате.
— Ослепнуть можно! — доносился голос Евгения Степановича. — На почтительном расстоянии видал все это ранее, а вблизи не доводилось…
— Особо дорогие сердцам их величеств веши, — вплетался торопливый говорок Жильяра. — Полумесяц бриллиантовый. Только пять больших камней семьдесят карат тянут. Свыше трехсот тысяч стоит, я думаю… Помните, эмир Бухарский приезжал? Его презент. Носить на себе государю, христианину, было, конечно, неудобно, вот почему и не видел никто этого раритета.
— Диадема! Бриллиантовая с бирюзой, — приглушенно рокотал Кобылинский. — Чья же это, никак государыни?
— Никак нет, — протестовал снисходительно Жиль-яр. — Это Ольги Николаевны. Она бирюзу любит. У государыни с крупными жемчугами… Вот.
— Да-а… — замирал восхищенный вздох Кобылинского.
— А эта, с альмандинами, Татьяны. Это вот Марии и Анастасии. Все пять. Затем — ордена… —
перечислял Жильяр.
— Андрей Первозванный! — ахал Евгений Степанович. — Первый орден империи. Вот он каков! Весь в бриллиантах. Только на портретах и видал. На парадных приемах бывать не доводилось.
— Да, тысчонок двадцать пять стоит. Только один вот этот бриллиант восемь карат, говорят, весит. А их тут, поменьше-то, десятки. По специальному заказу мастерская месье Фаберже изготовляла к коронации…
— Ну, эти знаю, — слышался снова, после паузы, голос Кобылинского. — Знаки ордена святой Екатерины. В них к нам в царскосельский лазарет приходили государыня с дочерьми… А это чей же портрет в бриллиантах?
— Английской королевы. Она тетушкой доводилась государю… Колье с изумрудом индийским… Фермуар бриллиантовый…
В окно постучали. В комнате все смолкло. Клавдия Михайловна замерла у самовара, давно уже пышущего паром. Евгений Степанович с испуганным лицом заглянул в кухню, молча, кивком головы приказал ей выйти в переднюю и плотно закрыл за собой двери.
Поздний гость оказался офицером караульной команды. Виноватым тоном он просил доложить полковнику, что солдатский комитет требует его присутствия на митинге.
— Ночью-то?! — изумилась Клавдия Михайловна, зябко кутаясь в капот.
— Точно так, — отвечал офицер, переминаясь с ноги на ногу. — Они уже третий час митингуют. Требуют передать царя в городскую тюрьму, а их распустить по домам.
— Евгению Степановичу нездоровится, он уже спит. Но я скажу ему. А вы — идите. Скажите, если сможет, придет, — убеждала Клавдия Михайловна офицера, поглядывая на закрытую дверь гостиной и прислушиваясь.
Офицер пристукнул каблуком с заляпанной грязью шпорой и удалился.
Но с этой поры стало ясно, что накапливать в доме ценности больше нельзя — в свете новых событий Кобылинский уже не был «персоной грата» и в любой день мог ждать обыска, а то и ареста.
— Мамочка, — говорил жене Евгений Степанович, — ты уж, пожалуй, не говори никому, не проболтайся, топ ап^е.
— Что ты, Женя, — встревоженно отвечала ему Клавдия Михайловна. — Как можно! Разве я не понимаю…
Понимать-то все понимали… Но вещи еще долго оставались в доме Кобылинских, вселяя все большую и большую тревогу.
Все же этому пришел конец. Однажды Жильяр почти бегом влетел в квартиру и, едва успев скинуть пальто и наскоро чмокнуть ручку хозяйке, проскочил в комнату полковника. Клавдия Михайловна, зайдя к ним с графинчиком и закусками — для беседы пригодится, — увидела их сидящими с озабоченными лицами за столом, на котором лежали узкие и длинные листочки бумаги.
Расставляя тарелки и приборы, приготовляя Евгению Степановичу обязательный перед приемом пищи порошок, она из отрывочных фраз собеседников поняла, о чем шла речь.
Тучи над головами Романовых и их свиты сгущались. На юге Урала беспокойно. Можно ожидать отправки на новые места. Необходимо переписать все принесенные ранее царские вещи и определить их дальнейшую судьбу.
Жильяр заходил еще несколько дней подряд. Они сортировали драгоценности, раскладывали их по пакетикам и узелкам, уточняя списки, и продолжали обсуждать возможные варианты укрытия вещей. Среди предполагаемых мест назывался женский монастырь, архиерейский дом, дома знакомых купцов.
На чем они остановились, на одном или нескольких местах, Клавдия Михайловна не знала, молясь про себя об одном, чтобы чаша сия миновала их дом.
Но, судя по тому, что однажды, после визита камердинера Чемодурова, унесшего с собой увесистый чемоданчик, Евгений Степанович, проводив его, облегченно вздохнул и даже, кажется, перекрестился, Клавдия Михайловна поняла, что часть обузы спала с плеч. А в один из последующих вечеров Жильяр с Кобылинским упаковали часть вещей и отправились, прихватив с собой Клавдию Михайловну, к Пуйдокасам. Из всех тоболяков Кобылин-ский отмечал, пожалуй, лишь его одного, часто и подолгу беседовал с умным негоциантом (как любил именовать себя Константин Иванович) — то у себя за чайком, то в доме Пуйдокасов за редким в этих краях коньячком.
Пока жены болтали о своем на кухне, у мужчин уже все было решено. Они, довольные, вышли из детской, вытирая руки и отряхивая платье. Константин Иванович нес в руках топор и кухонный косарь.
— Будьте покойны. Пока — надежно, сам черт не найдет. А дальше видно будет.
За столом о деле, кажется, не говорили и скоро распрощались.
Спустя несколько дней первую партию Романовых увезли в Екатеринбург.
Проводив их и рассказав жене об арестах, произведенных в ту ночь Тобольским Советом, Кобылинский заметил:
— Ты все же приготовься, мамочка. Мало ли что…
Она приготовилась. Собрала мужу чемоданчик с бельем и туалетными принадлежностями, выбросила лишнюю рухлядь с императорскими вензелями и коронами — дареные платки, салфеточки, кружечки, сожгла записочки Александры Федоровны и дочерей, учебные тетрадки Алексея. Собрала по ящикам и коробочкам свои украшения — несколько колец, броши, серьги, браслет, часы (подарок Николая к именинам), берилловые запонки мужа и его массивный золотой портсигар — и зашила все это в мешочке, приобщив сюда же и свои памятные реликвии: значок «За беспорочную службу в Царскосельской гимназии», наградной знак Красного Креста.
Чемоданчик Евгений Степанович поставил под кровать, поближе. А мешочек отнес Пуйдокасам.
Вскоре с двумя такими же мешочками — теперь Клавдия Михайловна понимала их назначение — явилась старая гувернантка Гендриковой. Кобылинский направил ее также к Пуйдокасу.
Не прошло и месяца, как из Тобольска отправились и все оставшиеся в губернаторском доме. А с ними и все те, кто был связан с его обслуживанием. В том числе и Кобылинский.
Но, доехав со своими бывшими подопечными до Екатеринбурга, он вскоре вернулся в Тобольск. Спустя несколько недель в город вошли войска Временного Сибирского правительства. В декабре Кобылинский получил назначение — офицером для поручений при начальнике снабжения армии, которую возглавил к тому времени адмирал Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. Клавдия Михайловна последовала за супругом. В суматохе сборов (ведь уезжали, возможно, насовсем) она попробовала было заикнуться о своем мешочке с кольцами и прочим, но Пуйдокас нахмурился и нелюбезно оборвал ее: «Не время тревожить. Они далеко. Из-за малого большое потеряем. Езжайте себе, не пропадет…»
— А вот пропало! — бросала сейчас Кобылинская в лицо Пуйдокасу. — И меня же вы обвиняете, клевещете, что мы присвоили чьи-то ценности. Хотя я ни каплей из них не воспользовалась, когда имела к этому возможность…
— Ну уж и ни каплей… — с ехидцей процедил сквозь зубы Пуйдокас.
— Да, ни каплей!.. Впрочем…
Ах да, как же она об этом забыла… Капля была. Но она не то что забыла о ней, а… Постойте, как это было?
…Судьба гнала их все дальше и дальше на восток. Позади была победная для колчаковцев зима, вселившая надежды на скорое окончание войны и возвращение привычного порядка. Позади было и жаркое, душное, безрадостное лето, сменившееся еще более безрадостной осенью, несущей лишь горечь поражения и всеобщей деморализации.
Октябрь 1919 года. Омск — столица «Колчаковии». На запорошенных ранним снежком запасных путях — составы блещущих огнями и шелком занавесей салон-вагонов, согнанных сюда, кажется, со всей Сибири, и просто вагонов — спальных первого класса, второклассных и третьеклассных и, наконец, просто теплушек.
Армия жалась поближе к железной дороге — артерии жизни, страшась оторваться от нее и остаться в этих зловеще молчащих лесах, где из-за каждого дерева жди выстрела; в мертвящей пустынности безжизненной степи, среди притаившихся, страшных своей безлюдностью деревень, где сквозь протаянный в окне кружок за тобой следит чей-то ненавидящий взгляд…
Армия — на колесах. И штабы — на колесах: не то сейчас время, чтобы занимать под них лучшие особняки, свозя туда со всего города награбленную мебель, ковры, посуду, вина и прочий домовой антураж… Удирающему зайцу не нужна комфортабельная кочка, чтобы осмотреться и определить расстояние от своего хвоста до пасти собаки. Тут, все понимают, оперативность требуется, а не комфорт.
Штаб начальника снабжения, где служил Кобылин-ский, наполовину тоже стоял на колесах. И жили там же, в вагонах — офицер для особых поручений всегда нужен под рукой. Но поручений все меньше и меньше, они все сумбурней и бестолковей — обстановка меняется не по дням, а по часам.
Зато волна беглецов все больше и напористей. Сколько их! Кого только нет… Мельтешат между забитыми путями, шарахаясь от окриков часовых у служебных вагонов, тут же торгуя барахлом, меняя часы на кусок хлеба, бриллиантовое кольцо за котелок картошки… Штатские генералы с выпущенными из-за ворота форменного вицмундира «Аннами на шее» и «Владимирами»; степенные нувориши с золотыми цепочками поперек живота; модные (недавно еще!) адвокаты и архитекторы, и здесь — на железнодорожных путях — витийствующие о путях спасения России от большевиков; крикливая орава вездесущих приживалок; непризнанные поэты и признанные шулера; длинноволосые художники, алчно вдыхающие запахи, несущиеся от штабного вагон-ресторана, и накрашенные пьяные кокотки, тут же на ходу «стреляющие мужчину».
Вся эта пестрая, круглосуточно галдящая суматошная толпа, саранчой залившая станцию, накладывала последний мазок на почти уже законченную картину того, что представляла собой в те дни «великая освободительная армия» Колчака. Сам он, сохраняя лишь видимость власти над неуправляемым войском, еще сидел в своем штабе — губернаторском (тоже — губернаторском!) доме, держа на дальних запасных путях под сверхнадежной охраной увезенный из казанских подвалов госбанка золотой запас страны — свою последнюю надежду на возможность откупиться, еще что-то спасти, еще что-то успеть. Но уже таял золотой запас, вагон за вагоном уходили во Владивосток в адрес заморских банкиров, охотно берущих авансы, но не спешащих их оплатить. Таяли и вагоны с военным добром, присланным союзничками, — все больше попадали они в руки красных войск и партизан. Таяла армия, разложившаяся сверху донизу, покрывшая себя позором кровавых, изуверских преступлений, избиваемая по частям и целыми корпусами, дезертирующая и без боя сдающаяся противнику…
Таяло все. Уже дотаивало.
Кобылинский, всегда прежде такой спокойный и самоуверенный, быстро отходивший от любых служебных неприятностей и добродушно потом похохатывавший над ними, теперь стал замкнутым и хмурым, апатичным до лени, безразличным ко всему. Стал попивать. Клавдия Михайловна иногда вечерами брала его под руку и насильно вела гулять в город, подальше от страшной станционной обстановки.
Нои в городе было не лучше. В переулках постреливали, вылавливая «большевицкую заразу»; на перекрестке под фонарем кого-то били, злобной изощренно матерясь; в открытом — не по сезону — ландо, развалившись, ехал пьяный поручик, положив руку с папиросой на голое, покрасневшее от мороза колено хохочущей проститутки; из приоткрытой фрамуги ресторана под свист и гогот неслось разухабистое —
Матчиш я танцевала
С одним нахалом
В отдельном кабинете
Под одеялом…
Кобылинский больно стискивал руку жены и молча поворачивал назад, стараясь идти стороной, где меньше народу.
В одну из таких прогулок супруги встретили… Пуйдокаса. Он ехал на рысаке — солидный, откормленный, прилично одетый, пренебрежительно поглядывая по сторонам.
— Константин Иванович! — неожиданно для себя крикнула Кобылинская.
Пуйдокас неспешно повернул голову, вглядываясь в тускло освещенные огнями витрин фигуры прохожих и, заметив знакомых, остановил извозчика.
— Какими судьбами?! Здесь? — обрадованно вскрикивала Кобылинская, подбегая к пролетке.
Пуйдокас сошел на тротуар и, вежливо приложившись к ручке Клавдии Михайловны, облобызался с полковником.
— Да вот, как и все. В роли бедного беженца. А вы?.. Впрочем, что я… Может, поедем ко мне?
Ни вид — сытый и импозантный — Константина Ивановича, ни квартира, занимаемая им, не свидетельствовали о близком сходстве его судьбы с судьбой тех беженцев, что Кобылинские видели ежедневно на станции.
Уютный четырехкомнатный особнячок с садиком на задах усадьбы, приличная меблировка. Внушительный резной буфет — хозяин столовой — сверкал сквозь хрустальные дверцы янтарем и рубином бутылок, манил лоснящимся загаром копченостей, вазами конфет и варений. Из кухни тянуло ароматом жаркого и кофе… Нет, не таким уж бедным был этот беженец!
За ужином и кофе, которыми угостили хозяева давно не едавших по-домашнему Кобылинских, обменялись рассказами о себе, о своих приключениях за время разлуки.
На долю Пуйдокасов их выдалось, конечно, меньше. Он удачно смог еще заранее реализовать свои недвижимые капиталы. И, устроившись помощником капитана на одном из пароходов, отбыл на нем в Омск, прихватив все необходимое для обеспечения надлежащего минимума комфорта на новом месте.
Нет, уезжать, двигаться дальше он не собирается. Зачем? Это бессмысленно. В обстановке всеобщей суматохи, тифа, разнузданности и хаоса погибнуть гораздо легче, чем здесь. Да, большевики, конечно, не ангелы, но — кто знает, что хуже? Здесь брат, давно обосновавшийся в Омске и за войну изрядно умноживший свои капиталы на выгодных подрядах. Конечно, кое-чего придется лишиться, но ведь не всего же, что-то останется; особенно, если обратить его в удобную для хранения форму.
Те вещи, по списку Жильяра? Да, они здесь, в Омске, спокойно перенесли путешествие…
Но именно в этот момент Анеле Викентьевне захотелось показать Клавдии Михайловне свою квартиру, и она увела ее. И только проходя снова через столовую, Кобылинская уловила отрывок разговора мужчин:
— …Все, как предполагалось. Разве что…
— А монастырь?
— В монастыре как будто все спокойно. Игуменья женщина верная…
Продолжения разговора Клавдии Михайловне услышать не довелось.
Возвращаясь к себе на станцию, Кобылинские подавленно молчали. Контраст тепла, довольства и домашнего уюта с ожидавшей их обстановкой холодного и грязного вагона, неустроенности и тревоги, что и говорить, был разителен.
— Как он думает распорядиться с драгоценностями? — спросила Клавдия Михайловна.
— Пока будет хранить. Исход событий покажет, что с ними делать дальше. Никто не вправе тратить их. Он дал мне клятву. Хочу думать, что сдержит ее. Ты уж, пожалуйста, держись их — в случае чего. Я просил его об этом.
— Не надо, милый… — перебила его Клавдия Михайловна. — Будем надеяться на лучшее.
— А вот и твои безделушки вернулись, — Кобылинский достал из внутреннего кармана кителя сверток. Да, в нем было почти все то, что тогда, весной восемнадцатого года, они приготовили для сдачи на хранение. Разве только вот ее любимого значка за службу в Царскосельской гимназии нет. Ну да бог с ним…
В последующие дни Кобылинские еще не раз навещали Пуйдокасов, отогреваясь теплом и уютом их дома. В одно из таких посещений, как-то днем, Константин Иванович познакомил их с братом Александром. Еще в Тобольске Кобылинские знали, что между братьями в молодости пробежала черная кошка. При разделе наследства покойного отца Александр Иванович, воспользовавшись деловой отлучкой брата, урвал себе значительно больше того, что полагалось. Но теперь братья вроде жили мирно. Александр, разбогатев на военных подрядах, жил на широкую ногу и даже успел за год до революции воздвигнуть в центре Омска солидных размеров доходный дом.
Его-то и отправились смотреть всей компанией. Дом действительно был солидным. Хотя и не очень длинным по фасаду, но — знай наших! — шестиэтажным, если считать еще подвальный этаж с собственной котельной и обширный чердак-мансарду, где Александр Иванович намеревался устроить зимний сад. Дом стоял пустым, еще не была закончена его отделка. Когда взобрались на верхний жилой этаж, Александр Иванович, подойдя к промежуточной кирпичной стене, где проходили дымоходы, показал на устроенную в ней глубокую нишу.
— Здесь будет надежно, я думаю. А то можно на чердаке, там тоже устроена ниша.
Мужчины, осмотрев ту и другую ниши, согласились, что да, пожалуй, надежно.
По дороге домой Кобылинский сказал жене, что здесь и будут замурованы драгоценности. Там же найдут себе место, до лучших времен, и личные ценности братьев. В общем, как будто надежно…
Здесь же, в Омске, Кобылинских ждала еще одна интересная встреча.
У одного из салон-вагонов поданного накануне штабного поезда союзных военных миссий Евгений Степанович увидел знакомую фигуру. Жильяр! В дорогой енотовой шубе, распространяя вокруг аромат духов, он стоял в группе людей, одетых в иностранные шинели, покручивал колечки блестящих от бриллиантина усов и пренебрежительно поглядывал на станционную суматоху.
Он милостиво разрешил конвою, оцепившему поезд, пропустить Кобылинского и вежливо пожал ему руку. Внешне как будто был обрадован встрече, но вел себя сдержанно, без обычных для него эмоций. Провел к себе в купе, угостил коньяком. Заметив, что Кобылинский обратил внимание на обилие в купе дамских вещей, небрежно пояснил: «Мадам Теглева. Вы ее знаете». Вон как! Няня царевен, их особо доверенное лицо, едет во Францию в роли сожительницы Жильяра! Ловок, шельма, — альянс этот основан, конечно, отнюдь не на взаимной страсти, а, безусловно, на деловой, сугубо выгодной для обоих основе. У того и у другого кое-что из царского добра должно было прилипнуть к рукам.
— Кстати, о царском добре, о драгоценностях. Какова их судьба? — поинтересовался как бы между прочим Жильяр.
— О, они в надежном месте, — заверил Кобылинский, решив не уточнять пока, где именно.
— Их надо спасать и везти за границу. Там члены императорской фамилии великие князья. Николай Николаевич, например. После гибели государя и его семьи они наследники их имущества, — настаивал Жильяр. — Вы поедете со мной, в нашем поезде. И мадам Кобылинская…
— Это государственные ценности, Петр Андреевич, — пробовал убеждать его Кобылинский. — Когда кончится смута и восстановится порядок, они должны вернуться в государственную казну. Государь не купец, который вправе прокутить и промотать свои капиталы или передать их великим князьям, известным своим мотовством. Как монарх, он владеет всем государством, но именно поэтому все, что принадлежит ему, — государственное, а не его личное. Это, простите, не подштанники. И вообще, мы истинные монархисты, считаем, что на монаршьем престоле такой великой империи должен был бы сидеть более значительный человек. Не та фигура…
— Эти ценности, наконец, могут быть употреблены там, за границей, с пользой для государства, для борьбы с большевиками. Ваш народ, например, так много задолжал Франции! — не унимался Жильяр, уже сердясь.
— Не народ, а дурацкое правительство, — бурчал Кобылинский, думая про себя: «Знаем мы эти долги… А чем вы заплатите за наш экспедиционный корпус, прозябающий в лагерях под Ла-Куртин, за сотни тысяч жизней русских солдат, брошенных на верную смерть в наступление под Реймсом и Верденом, расстрелянных в алжирской крепости Кредер, ради спасения вашей belle France» — Где господин Пуйдокас? Сумел он вывезти клад императора? Я доложу генералу, и представители союзного командования при участии верховного правителя решат его судьбу. Где сейчас этот клад? — настаивал Жильяр.
— Остался в Тобольске, — соврал Кобылинский и отвернулся.
— A, diable! — выругался Жильяр. — Оттуда достать его действительно трудно… Может, удастся послать кого-нибудь за ним через фронт? Игра стоит свеч…
— Кстати, со следователем Соколовым не встречались? — спросил он после паузы.
— Да, он допрашивал меня и жену. В апреле — в Екатеринбурге и в августе — в Ишиме. Спрашивал и о драгоценностях.
— Ну и что? Что вы сказали ему?..
— Ничего, — помолчав, ответил Кобылинский.
— Уф! — облегченно вздохнул Жильяр. — Я тоже. Меня он пытал трижды — еще в сентябре восемнадцатого года в Екатеринбурге и здесь, в Омске, в марте и в августе.
Выходя от Жильяра, Кобылинский столкнулся у соседнего вагона с Гиббсом. Тот о драгоценностях не спрашивал, но тоже приглашал ехать с собой, в вагоне английской миссии.
«Драпаете, союзнички, — злорадно думал Кобылинский, пробираясь к своему осточертевшему штабу. — Клад императора вам подавай… Мало вы награбили русского добра за гнилые шинели и заплесневевшие сигареты… Хрена вам, с горчицей поострее!»
На другой день через станцию прошел на восток ощерившийся штыками и пулеметами поезд с золотым запасом. За ним, как приклеенные, потянулись штабные поезда и одним из первых среди них — союзнический. Кобылинский даже не успел попрощаться с Пуйдокасами — на станции творилась настоящая паника… Взлохмаченный, небритый, сидел он в своем купе, глядя в окно и слушая жалобные всхлипывания приболевшей Клавдии Михайловны.
В Новониколаевске они потеряли друг друга. Акушерка, понадобившаяся для совета не ко времени ожидавшей ребенка Клавдии Михайловне, жила далеко, и вернувшись от нее на станцию, Кобылинская уже не застала своего состава — он снялся неожиданно даже для самих его пассажиров.
Пометавшись по городу и разыскав каких-то не то дальних родственников, не то просто знакомых, она кое-как устроилась и слегла. Вскоре родился сын… К тому времени Новониколаевск был уже взят красными.
Едва оправившись, в марте двадцатого года, без средств и без вещей, она двинулась в Омск, помня наказ мужа — в случае чего держаться Пуйдокаса, он поможет.
Пуйдокас действительно помог. Анеля Викентьевна выделила комнатку, дала на пеленки старые простыни, кормила. Константин Иванович помог продать сережки — единственное, что осталось из ценностей, — чтоб заплатить врачу, кормилице: у Клавдии Михайловны пропало молоко.
Но по сдержанной вежливости, даже, пожалуй, сухости отношений, Клавдия Михайловна уже через две-три недели поняла, что ею тяготятся, что ей лучше оставить этот дом.
А куда деваться? В Тобольске живет мама, перевезенная туда из Перми накануне мобилизации Евгения Степановича. Там хоть какой-то дом, хоть что-то из вещей, а, может, и из средств. Но — как туда добраться?..
— Вот тогда-то… Да, я взяла тогда эту каплю!.. А что я могла сделать? Ведь вы же сами предложили мне ее…
— …Да, Константин Иванович сам предложил ей воспользоваться чем-нибудь из тех драгоценностей. Хотя ей казалось странным, что он не предложил, например, просто золота в монетах, которое, она знала, есть у него в достатке. Все равно ведь любую из драгоценностей придется продавать.
— Хозяев у этого добра пока нет. Пока мы и хранители и хозяева. Услуги должны быть как-то возмещены. Не так ли, Клавдия Михайловна?
Похоже, он втягивал ее в какую-то сделку, делал ее соучастницей «возмещения». «А, пусть! — решила Кобылинская. — Теперь все равно…»
Константин Иванович, получив ее согласие, вышел из комнаты и спустя не так уж много времени вернулся с объемистым свертком в руках. Занавесил окна.
«Значит, не успели еще замуровать, хранят где-то здесь, близко», — подумала Клавдия Михайловна.
Развернули сверток, и перед ней вновь предстало сверкающее видение, ослепившее ее тогда в Тобольске, — как немного и как много уже времени назад! Но… несомненно, более бледное видение. Почему! Ах, ну да, здесь многого нет из того, что было там. Здесь в основном мелкие вещи.
Пухлые пальцы Пуйдокаса сладострастно перебирали десятки колец и брошей различной величины и формы, браслеты и часики, усыпанные каменьями, запонки и заколки для галстуков. Среди них Клавдия Михайловна заметила и знакомые ей вещи, которые она видала на графине Гендриковой, на Никодимовой…. А вот и ее значок «За беспорочную службу в гимназии»!
Остановились, по совету Константина Ивановича, на одном кольце типа «маркиза», с бриллиантами и рубином. Клавдия Михайловна, смущаясь и краснея, примерила его и тут же сняла.
— Я думаю, на дорогу хватит, — сказал Пуйдокас.
— И на кое-что еще, — поджав губы, заметила Анеля Викентьевна.
Продать кольцо Константин Иванович вызвался сам. Кому он продал, не сказал, но принесенных им денег, в основном в золоте, конечно, по расчетам Клавдии Михайловны, действительно хватало и на дорогу и на обжитие в первые дни на новом месте. Через две недели она была в Тобольске. Хотя эти недели… лучше не вспоминать о них — такими они были тяжелыми и многострадальными, как только она вынесла их, эту страшную дорогу, это кошмарное передвижение, которое лишь при наличии юмора можно назвать путешествием или поездкой…
— Да, я взяла эту каплю, чтобы спасти себя и ребенка, чтобы избавить себя от вас, наконец. И вы мне это ставите в вину, издеваетесь над этим?! Я отработаю, я верну… мой сын вернет, когда подрастет. Готова отдать свой глаз, стать рабой, только не чувствовать себя должной, не слышать этих гнусных упреков… Я верну. Вернете ли вы?! — кричала Кобылинская в истерике.
Пуйдокас астматически сопел, бросая на нее злобные взгляды.
* * *
Просматривая бумаги и письма, взятые при обыске у Пуйдокасов, Михеев, в поисках хоть каких-то намеков или упоминаний о драгоценностях, натолкнулся на бумажку непонятного ему вначале назначения. Она лежала в старомодном, вышитом бисером бумажнике-портфельчике, где Анеля Викентьевна хранила семейные реликвии, вроде первого рисунка сына Костеньки, некоторые адреса и квитанции страхового общества «Саламандра».
По-видимому, это был план какого-то помещения: показаны окна, дверь, стены. На одной из внутренних стен нанесены дымоходные или вентиляционные каналы. От наружной, перпендикулярной стены в их сторону тянулась проведенная красным размерная стрелка с цифрами. От каналов, в обратную сторону, к острию той стрелки, тянулась другая, короткая: судя по всему, она показывала расстояние от каналов до какой-то точки на стене.
После рассказа Кобылинской Михеев показал ей эту бумажку. Клавдия Михайловна, не очень разбиравшаяся в схемах, признала, однако, в ней план помещения, куда водил их тогда с мужем Александр Иванович Пуйдокас и где он указывал на приготовленный тайник.
Анеля Викентьевна уже знала о разоблачениях Кобылинской, но, не смущаясь, отрицала все, даже бесспорные, легко доказуемые факты. Лишь увидев в руках у Михеева найденную в ее портфельчике бумажку, встревожилась. Более того — была потрясена. Окаменев лицом, долго молчала, потом зарыдала.
— Боже мой, боже мой! — всхлипывала она, заливаясь слезами.
Больше от нее Михеев не услышал ни слова.
Константин Иванович, приглашенный на беседу через несколько дней после встречи с Кобылинской, тоже, не смущаясь, почти начисто отрицал ее показания, признавая лишь самое неопровержимое — да, встречался с ними в Омске, да, приютил тогда у себя Клавдию Михайловну с ребенком, но о драгоценностях разговора не было, а говоря о «капле», он имел ввиду то время, когда все романовское добро было у них, у Кобылинских, в руках. Да, он что-то получал в Тобольске от Кобылинского на хранение, не зная, что именно, но потом возвратил перед отъездом Кобылинского на новую службу в колчаковскую армию.
— Вы же видите — она истеричка, — говорил Пуйдокас Михееву извинительно-осуждающим тоном. — В таком состоянии чего не наговоришь. — Но посмотрев на план, крякнул и криво усмехнулся.
— Жена выложила? — осведомился он. — Ну, что ж теперь делать… Ищите.
— Попробуем, — весело откликнулся Михеев. — Братец ваш поможет.
— Не поможет, — снова усмехнулся Пуйдокас.
— Что так?
— В Польше он.
— Вон как! — только и сказал изумленный Михеев. — И давно?
— В двадцать четвертом, как будто.
«Это хуже», — подумал Михеев, но ощущение близкой удачи уже не покидало его.
* * *
На этот раз Омск встретил Михеева ранней весенней распутицей, суматошной воробьиной трескотней в гущах набухающих почками акаций, веселыми лентами ручейков, вприпрыжку бегущих к Иртышу по обочинам мостовых. Со степного заречья тянуло запахами просыхающих полей и упревшего за зиму ковыля. В затонах деловито тюкали топоры, тяжело бухала по железным листам кувалда — речники готовились к навигации.
Разыскивая дом Александра Пуйдокаса, Михеев вдоволь набродился по городу, без особой, впрочем, нужды, ибо найти его не составляло сложности, а просто так — наслаждаясь весной и солнышком, душевным довольством от сознания близящейся к удачному концу сложной операции.
Он посидел на скамейке наискосок найденного, наконец, дома, неспешно покуривая и разглядывая побуревшее от времени кирпичное здание, запыленные за зиму окна — то с кокетливыми кисейными занавесочками, то с газетным листом, прилепленным прямо на стекло, а то и совсем не завешенные, с молочными бутылками и стопами книг на подоконниках. На железной вывеске, висящей над фронтоном подъезда, даже с другой стороны улицы легко читалось: «Общежитие рабфака».
И не знают, не ведают шустрые рабфаковцы, грызущие по вечерам в этих комнатах гранит науки, а в часы досуга распевающие хором «Молодую гвардию», что рядом с ними лежит клад, огромное богатство, на которое можно построить несколько таких общежитий для тянущихся к этому самому граниту науки не по возрасту деловитых и смышленых ребят…
Вечером Михеев осведомился, как Константин Иванович перенес путешествие, нашел его бодрым и здоровым, в меру спокойным, хотя и нахмуренным, и с помощью местного начальства подобрал себе оперативную группу, объяснив ей задачу предстоящей операции.
В нее вошли два оперативных работника и два «печника» — бойцы из местного дивизиона, знакомые с печным делом.
Дирекцию рабфака еще накануне предупредили, что по распоряжению пожарной охраны в общежитии будет произведен ремонт дымоходов и вентиляционной системы и поэтому на два-три дня комнаты четвертого этажа и мансарды необходимо освободить.
Утром бригада «печников» пораньше отправилась на работу.
Комната, куда привел их Константин Иванович, полностью соответствовала плану, найденному в портфелике Анели Викентьевны.
Михеев мысленно отмерил расстояние от окна до тайника, отмеченное на плане, и увидел на этом месте плакат «Даешь Урало-Кузбасс!» с приклеенным к нему хлебным мякишем расписанием занятий.
— Здесь? — спросил Михеев Пуйдокаса.
— Вам виднее, у вас план, — нелюбезно ответил тот, садясь на голый топчан у окна.
«Ишь ты, как держится, — подумал Михеев. — Разыгрывает спокойствие по всем правилам. Посмотрим, какой спектакль ты готовишь к моменту, когда мы найдем все…»
— Давай, ребята! — подал он команду, отчертив границы разлома и постучав по стене печным молотком. Стена глухо гудела.
Сев в сторонке, Михеев с затаенным волнением наблюдал за работой печников. Холодок ожидания чего-то необычного щемил сердце, и он с жадностью закурил.
«Вот оно, — думал он. — Сейчас…»
Два топора вгрызались в стену. Серая алебастровая пыль штукатурки смешалась с буро-красной кирпичной пылью, вздымалась клубами от падавших на пол обломков и бесформенным облачком плыла по комнате, забиваясь в ноздри, садясь на плечи и лица людей серым моросным бусом.
— Крепка! — крякнул один из ребят, остановившись передохнуть.
Вот уже, прошуршав по стене, упал внутрь, в пустоту, обломок кирпича, выхлопнув в образовавшееся отверстие клубочек пыли. Михеев впился глазами в этот черный угловатый глазок, подавив в себе желание вскочить и заглянуть в него…
«В пустоту?..» — дошло вдруг до него, и он почувствовал, как к шее, к лицу подступила горячая волна крови.
В пустоту… Он посмотрел на Пуйдокаса. Тот сидел по-прежнему спокойно, небрежно листая невесть откуда взятый «Учебник обществоведения», но глядя не в него, а куда-то в сторону.
Отверстие расширялось. Вот уже, глухо ухнув, упал второй кирпич, и Михеев, не выдержав, подбежал к разлому. В него еще ничего нельзя было разглядеть, из зияющей черноты лишь тянулась струйка бурой пыли и какой-то затхлый запах. Схватив печной молоток, Михеев принялся бить рядом, расширяя пролом.
— Подожди, товарищ. Не спеши, — тихо одернули его. — Все будет в порядке.
Опустив молоток, Михеев, однако, не отходил от стены, пока разлом, наконец, не увеличился до размеров, позволивших заглянуть внутрь. Просунув голову в узкую рваную дыру, он зажег фонарик и, вдохнув удушливую пыль, увидел, что внутри ничего нет. Тайник был пуст.
Михеев сел, отряхнул руки и пальто от пыли и вопросительно посмотрел на Пуйдокаса. Тот уже бросил листать книгу, хотя по-прежнему держал ее в руках. Во взгляде его не было насмешки или злорадства, скорее — сочувствие, сожаление.
— Братец, — развел руками Пуйдокас. — Я вам намекал Хранил здесь добро свое. А поехал в Польшу — забрал.
Михеев — злой, тяжело дыша, продолжал машинально отряхивать пальто.
«Не может быть, — думал он, — чтобы все так глупо…»
Пуйдокас натянуто зевнул и отложил, наконец, учебник, словно намекал — пора, друзья-товарищи, по домам. Но один из печников все еще зачем-то ковырялся в разломе.
«Нет, подожди… — продолжал думать Михеев, закуривая папиросу и понемногу приходя в себя. — Домой мы еще успеем. Дай сообразить — кто кого, где и когда надул».
— Можно закладывать? — спросил оторвавшийся, наконец, от разлома печник. — А где тут вода?
— Да, пожалуй, — рассеянно ответил Михеев, думая о своем. — А вода, по-моему, рядом, на кухне.
— Может, руки помоете? — предложил печник, вопросительно глядя на Михеева.
— Да, да. Можно…
— Товарищ Михеев, — зашептал ему парень, едва они вышли на кухню и закрыли дверь. — А когда, он говорит, вскрывали тайник-то?
— В двадцать четвертом, когда брат уезжал в Польшу, — ответил Михеев недоуменно, подставляя руки под обжигающую струю воды. — А что?
— Да то, что стену эту никто и никогда не ломал.
— Как так? — изумился Михеев.
— А вот так. Кирпичик тот же самый, что и внутри, в основной стене. Где бы он взял его через много лет, чтоб заложить свой пролом? То-то и оно. А кирпич тот самый, с одним клеймом. Я ведь не зря тебе говорю, до армии сызмальства с отцом по печному делу ходил.
Глядя, как он ловко и споро замешивает в ведре раствор, растирая время от времени его между пальцев и выбирая крупную гальку из зернистого тестообразного месива, Михеев прикидывал — что бы это могло значить: ведь тайником, выходит, никогда не пользовались?
«А Кобылинская? — мелькнуло у него вдруг. — Она говорила еще об одном предполагаемом месте, где-то там, на верхотуре».
— Вот что, друг… Отдай ведро напарнику и скажи остальным, что мы с тобой за кирпичом пошли. А сам — ко мне, — и Михеев легонько подтолкнул его в спину.
Через минуту они поднимались «на верхотуру». Узкая деревянная лестница с шаткими перильцами привела их в мансарду из двух небольших комнат. Та же скудная студенческая «меблировка», что и внизу: топчаны, колченогий стол, тумбочка и неуклюжий огромный шкаф, неизвестно как затащенный сюда. Отопления в комнатах не было, и зимами, видно, никто здесь не жил.
— А ну-ка, давай, простучи стены… Да осторожно, леший, — ласково одернул Михеев печника, с решительным видом взявшегося за деревянную балодку. — Чтоб внизу не услышали.
Тот понимающе подмигнул ему и, приложив палец к губам, принялся тихонько выстукивать стену. Оба напряженно вслушивались.
— Есть, — сказал, наконец, печник, привалившись к стене ухом и осторожно постукивая вокруг найденной им точки, определяя границы внутренней пустоты.
— Та-ак, — сказал удовлетворенно Михеев, блестя глазами, и сел. — Так, друг ты мой милый… Теперь давай-ка мы с тобой покурим.
Они курили и думали, каждый о своем. Видно было, что печнику очень хотелось спросить о чем-то и он уже не раз, отрываясь от папиросы, поворачивал голову, но сразу же одергивал себя и снова посасывал свою «Красную звездочку».
— Вот так, — сказал, докурив, Михеев. — А теперь зови-ка всех сюда. Всех.
Пуйдокас вошел первым, по-прежнему с книгой в руках. Он был все так же спокоен внешне, только в глазах появилось что-то новое, не то недоумение, не то растерянность.
— Начнем, ребята, — как ни в чем не бывало обратился Михеев к печникам, показывая на очерченный на стене прямоугольник.
Снова застучали топоры, брызнули осколки кирпича, потянулись облачка бурой пыли. На этот раз Михеев смотрел не туда, а на Пуйдокаса.
— Садитесь, Константин Иванович, — указал он на топчан и даже смахнул с него перчаткой пыль.
— Благодарю, — коротко ответил Пуйдокас, но остался стоять, прислонившись к стене с заложенными назад руками. Он уже явно беспокоился, бросая быстрые напряженные взгляды на работающих и раздраженно отмахиваясь книгой от летевшей в его сторону пыли, которую он там, внизу, словно не замечал. Михеев открыл окно, и пыльное облачко поплыло на волю, впустив взамен запахи весны.
Когда первый обломок кирпича упал внутрь, обнажив в стене черный глазок пустоты, Пуйдокас закрыл лицо руками и сел на подвернувшийся ящик.
Но тут Михеев отвернулся от него: его слух снова уловил пустоту. Опершись ладонями на топчан и откинувшись назад, он вглядывался в расширяющийся пролом. Еще пять-шесть ударов, и…
Он невольно вздрогнул, услышав вопль Пуйдокаса. С искаженным лицом тот подскочил к стене и вцепился в кирпичи, пытаясь расширить пролом. Печники в удивлении отступили, вопросительно глядя на Михеева, как и оперативники, двинувшиеся было к Пуйдокасу. Но Михеев чуть заметно махнул им — не мешайте.
Срывая в кровь руки и чертыхаясь, Пуйдокас рвал стену, ожесточаясь ее сопротивлением. Выхватил у печника топор, стал с яростью, не глядя, колотить им, урча и отплевываясь от летящих в рот брызг.
Наконец, можно стало увидеть — что там, внутри. Пуйдокас заглянул. Потом выпрямился, обтер окровавленной рукой пот со лба, обессиленно выпустил топор и, коротко выругавшись, отошел к окну. Стоял там, тяжело дыша и отплевываясь.
Все бросились к пролому. Мешая друг другу, стукаясь лбами, заглядывали в смутную темь, курящуюся красноватой пылью… Там, на дне, сквозь обломки кирпича виднелись лишь обрывки бумаги и заскорузлая, с пятнами глины, тряпка. Вытащив бумагу с помощью мастерка, Михеев разглядел кусок газеты и с удивлением прочитал ее дату: июнь 1924 года…
— Это как же…
Но он не успел докончить. Все рывком повернули головы к окну — на грохот железа с крыши. Там, на фоне синего весеннего неба вырисовалась грузная фигура Пуйдокаса и тут же исчезла. Растопыренная, словно в прощальном приветствии четырехпалая ладонь у обреза карниза — последнее, что увидел Михеев.
* * *
Выбежав с черного хода на двор, Михеев еще с крыльца увидел на грязно-сером снегу темное пятно — тело Пуйдокаса.
Воображение уже рисовало страшную картину: кровавый мешок костей и мяса, размозженная голова, брызги мозгов на заледенелых плитах двора…
Ничего этого не было. Пуйдокас боком лежал на куче перемешанного со снегом мусора, подтянув колени к груди. Ни крови, ни разбрызганных мозгов. Пальцы руки, откинутой в сторону, слабо сжимались и разжимались, будто разгоняя усталость или призывая кого-то.
Михеев наклонился над Пуйдокасом. Из открытого рта его свисал обессиленный язык и текла слюна. Один глаз заплыл сплошным синим кровоподтеком, зато другой хищно сверкнул из-под нависшей густой брови.
— Что с вами? Вы можете говорить? — спросил Михеев прерывающимся голосом.
— Пся крев!.. — просипел коснеющим языком Пуйдокас, сверля единственным зрячим глазом Михеева. Потом вздохнул и закрыл и этот глаз.
— Грех-то какой! Упал, стало быть? — услышал Михеев голос и обернулся. Сзади стоял дворник, при фартуке и с лопатой в руках.
— Ба!.. Да это печничок никак… — сказал дворник, вглядываясь в лицо Пуйдокаса.
— Какой печник? — раздраженно спросил Михеев, но, вспомнив, что все они сегодня печники, чертыхнулся.
Сотрудник побежал за машиной.
* * *
В больнице, куда привезли Пуйдокаса, профессор — полный желчный старик с жестким ежиком седых волос над большим морщинистым лбом — после осмотра больного сказал, отчужденно глядя на Михеева:
— Жить будет. Однако какого черта он?.. Впрочем, это ваше дело. Серьезных повреждений, опасных для жизни нет. Хотя с позвоночником еще не все ясно. Рентгена, к сожалению, пока нет — барахлит. Диагностицируем по способу Эскулапа. Но речи лишен надолго. Может быть, навсегда. Передвигаться тоже сможет не скоро. За транспортабельность не ручаюсь. И вообще — выйдите пока отсюда.
— Но он же что-то пытался сказать мне там, на месте падения. Кажется, выругался…
— Удивительно, — недоверчиво и даже иронически посмотрел на Михеева профессор. — Но не невозможно. Нервный спазм…
Обратный путь опять привел Михеева к злополучному дому. У ворот все с той же лопатой в руках стоял дворник и приветливо, как знакомому, улыбнулся.
— Как, будет жить печничок-то ваш, или уж все, Царствие небесное?
— Знакомый он вам, я вижу? — осторожно спросил Михеев.
— Знаком, не знаком, а видал, — усмехнулся старик.
— Жить будет, но ушибся сильно.
Собеседники были явно заинтересованы в продолжении разговора, стараясь, однако, не показать этого друг другу.
— Ишь ты, повезло. С экой верхотуры свалился… Папиросочкой не угостите?
— Пожалуйста. Звать-то не знаю, как…
— Зови Акимом. Васильевичем, значит.
Закурили, выжидательно поглядывая друг на друга — кто сделает первый ход.
— А где ж вы с ним виделись, Аким Васильевич? — решил взять на себя инициативу Михеев.
— Здесь вот и виделись. У ворот. Этак же вот беседовали.
— Когда?
— Года полтора-два, надо быть. Постой… Лето было. Значит, скоро два.
— Да уж расскажи, что и как. Вспомни.
— Интересуешься? — со вкусом потягивая душистую папиросу, понимающе прищурился дворник.
— Есть интерес.
— Да что тут вспоминать-то, — играл в таинственность дворник, догадываясь, что беседа эта неспроста. — Пришел вот так же. Меня встретил. Спрашивает — не надо ли печи-дымоходы проверить. Он-де слышал, неисправности есть. — А ты можешь? — говорю. Потому вижу — облик не тот, на мастерового не похож. Опять же руки чистые, нет того, что у нашего брата, кто с грязью да с сажей дело имеет. Могу, говорит. Ну, можешь, так иди к начальству. Оно такие дела решает. Мы народ рядовой, сполняй, что приказано.
— Пошел?
— Пошел. Только не вышло ничего. Начальство сказало — средств на ремонт нет. Тот говорит, я дорого не возьму, потом отдадите. Нет, не согласилось. Так он, печничок-то, недели через две еще раз пришел — бесплатно, говорит, сделаю, у меня, говорит, здесь родственник учится, зимой мерзнет, жалко,
говорит.
— И разрешили?
— Нет, не допустили. Конференция какая-то случилась, делегатов на время поселили. Некогда, говорят, дядя, потом сделаем. Так и ушел ни с чем, печничок-то… Этак же вот на прощанье постояли, покурили. Я его спрашиваю — не состоите ли в родстве с хозяином старым с Лександром Иванычем? — А что? — говорит. — Да с лица вроде чем-то смахиваете. — Нет, говорит, не состою. Не знаю такого. Недавно здесь, издалека приехал.
— А ты, Аким Васильевич, и старого хозяина знал? — перешел на ты Михеев.
— Знал, — выдохнул через ноздри дым дворник, с сожалением поглядывая на догорающую папиросу. — Дом-то его в казну забрали, а фатеру ему оставили. Выбрал себе почему-то повыше, аж на самом верху. Я в истопниках тогда ходил. Ну, и видел его, конечно, пока он в Польшу не уехал.
— Как он жил тут, чем занимался? — спросил Михеев, предлагая раскрытый портсигар.
Вежливо и осторожно вытащив папиросу крупными негнущимися пальцами, дворник повертел ее в руках и пристроил за ухо, под шапку.
— Про то не знаю. Это лучше его дружка спросить, Ивана Карлыча. Эвон, дом-то наискосок, с палисадничком. Часовой мастер Иван Карлыч, так и спроси. В шахматы все играли с Лександром-то Иванычем. Мудреная игра. Сколь ни смотрел на других, одолеть премудрости не смог. Не по мне.
— Ну, что ж, спасибо, Аким Васильевич, за беседу.
— Чего уж там… Мы тоже кумекаем, что к чему. Пригодится, значит, разговор-то?
— До свидания, Аким Васильевич, — попрощался, не отвечая, Михеев.
* * *
Иван Карлович оказался дома, удержанный приступом радикулита. Покряхтывая и держась за спину, он поднялся навстречу нежданному гостю и, узнав, что того интересует, тревожно задумался, пропуская сквозь кулак узкую, клинышком, бородку.
— С Александром Ивановичем Пуйдокасом, — начал он, солидно откашлявшись, — я действительно встречался. Многие годы. Наши… э-э… магазины стояли рядом. Да и жительством недалеки были. Мой магазин, часовой, как всем известно, разграбили белые, даже побили при этом, знаете-ли… Какой рекламный Бурэ пропал, вы бы видели! Весь город должен помнить — танцующая маркиза, с музыкой и чегвертьчасовым боем… Впрочем, простите, отвлекся. Так вот, встречаться, не скрою, встречались. И часто. Но дружить… Как вам сказать… Нет, не дружили. Все-таки разные люди. Я не разделял его… э-э… крайних взглядов.
— Когда он уехал в Польшу?
— В двадцать четвертом. По репатриации. Как поляк. Хотя родился и вырос в России и никогда прежде в Польше не бывал. Его родители, это верно — выходцы из Прибалтики.
— Он увез с собой в Польшу какие-нибудь… ну, ценные вещи, что ли? Ведь жить-то ему там на что-то надо было.
Часовщик хотел откинуться на спинку кресла, но закряхтел от боли, вызванной резким движением.
— Э-э… Не знаю. Не был посвящен.
— Но могли знать по рассказам?
— По рассказам… э-э… По рассказам кое-что знал. Но ведь, сами понимаете, рассказы, это… Я за них не отвечаю.
— Ну, что ж, давайте — не отвечая.
Рассказы, за которые не хотел отвечать Иван Карлович, оказались рассказами самого Александра Ивановича Пуйдокаса.
Для выправки репатриационных документов ему, конечно, пришлось предварительно побывать в Москве. Вернувшись оттуда, уже с визой и паспортом в кармане, он, собравшись в дорогу, пришел попрощаться со старым другом и, разоткровенничавшись после стаканчика-другого, хвастливо заявил, под секретом однако, что теперь-то он не пропадет. Зная, что провезти ценности через границу не удастся, он сумел пристроить их к багажу одного дипломата, отбывающего на родину. Получил от него расписку с правом получить по ней все добро там, в Варшаве, в министерстве иностранных дел. С тем и уехал.
Однако года через два в Омске побывала, проездом в Харбин, жена Александра Ивановича, Мария Вацлавовна. Проливая слезы, она поведала о злоключениях семьи в Панстве Польском. Надеждам Александра Ивановича на безбедную жизнь сбыться не довелось, судьба решила иначе. Дипломат, которому он доверил свои драгоценности, в надежде провезти их через границу контрабандой, оказался мошенником. В министерстве, куда пришел с его распиской Пуйдокас, на нее посмотрели с улыбкой. Они сами не прочь предъявить тому пану дипломату некоторые претензии. Но, увы, он где-то в бегах, удрал в другую страну, сменив обличье и имя. Расписка написана на частном бланке пана дипломата и силы документа, увы, не имеет.
Александр Иванович от огорчения слег. Да так и не вставал больше — Мария Вацлавовна похоронила его и осталась оплакивать свою вдовью долю. Не очень еще взрослый сын попробовал стать кормильцем семьи, но в условиях жесточайшего кризиса, охватившего в те годы Польшу, приличного заработка найти так и не смог. Поехал искать счастья в другие края. В Харбине кое-как устроился шофером и был рад этому — жить, хоть бедно, можно. Вызвал к себе мать. Вот она и поехала к нему.
— Я могу все это записать с ваших слов и попросить вашу подпись? — спросил Михеев.
— Э-э… Как угодно. Но, сами понимаете, я отвечать не могу…
— За свои-то слова отвечать можете?
— За свои… э-э… могу.
Михеев наскоро записал показания. Иван Карлович вывел свою каллиграфически четкую подпись с курчавым росчерком.
— Благодарю. Будьте здоровы, — попрощался Михеев.
— Желаю и вам здравствовать, — расшаркался, держась за поясницу, Иван Карлович.
* * *
— Где ты пропадаешь? — встретили его в Управлении. — Тебе срочная телеграмма.
«Что там еще?» — обеспокоенно думал Михеев, спеша по длинному коридору в указанную ему комнату.
Телеграмма гласила: «Анеля Пуйдокас покончила самоубийством срочно выезжайте».
У Михеева опустились руки.
Клад императора
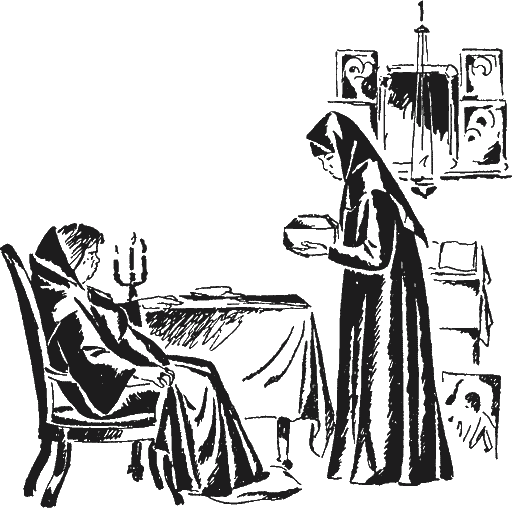
— Вот так, — встретил Михеева Патраков в своем кабинете, сумрачно складывая бумажную гармошку. — Анеля Викентьевна приказала долго жить. Мужу. А он, оказывается, тоже. Что там случилось?
Михеев рассказал.
— М-да… — вздохнул Патраков. — Досадно, конечно, что все так получилось.
— Знаю, виноват — на минуту отвлекся, и вот… — развел руками Михеев. — Но разве предусмотришь? Если человек задумал такое, то сделает. Он ведь мог просто о стенку головой — в такой ярости был. А я, что ж — готов отвечать…
— Ну, ты очень-то не терзайся, — сдержанно успокоил его Патраков. И Михеев оценил это необычное для начальника доверительное «ты». — Твоей вины тут нет. Всего не предусмотришь, это верно. Жить он, твой парашютист, будет, а что расшибся, так ведь никто его не толкал на это. С чего бы он все-таки, как думаешь?
Михеев, прежде чем ответить, помолчал.
— Добра жалко.
— Это-то ясно, — усмехнулся Патраков. — Какого?
Михеев снова замялся, потом угрюмо и виновато ответил:
— Своего.
— Как — своего? — отбросил Патраков уже совсем почти законченную бумажную гармошку. — Вы ж за царским добром гонялись, за тобольским кладом?..
Но Михеев будто ждал этого удивления и, оправившись от смущения, заговорил твердо и убежденно:
— За чужое добро он не стал бы с жизнью расставаться, пусть это даже и царское добро было бы. Не такой уж он правоверный монархист. Для него царь и бог — свое добро.
— А может, он царское добро уже считал своим?
— Тогда он его давно бы уже пустил в дело, — спокойно парировал Михеев, казалось, неотразимый удар Патракова. Тот молча взглянул на него и вновь принялся складывать бумажную гармошку.
— Вы смотрите, что получается, — с жаром продолжал Михеев. — На какие-то средства он в годы нэпа обзавелся рядом солидных предприятий. Из Тобольска таких средств он привезти не мог — большинство пропало в банках или обесценилось. То, что было у него чужого, он стал считать своим и реализовал. Позднее, когда нэп кончился, опять обратил добро в портативные ценности, но уже другого порядка — менее подозрительные и более удобные для реализации. И он, да и не он один, знал, что в Тобольске где-то осталось гораздо более существенное богатство. Вероятно, все же в монастыре…
— Ты думаешь?
— Уверен. Не уверен лишь в том, что оно и посейчас там лежит.
— Уверенность дело хорошее, но факты важнее, — буркнул Патраков.
— Знаю, — уныло согласился Михеев. — А что, кстати, с женой Пуйдокаса, с Анелей?
— А что с Анелей, — насупился Патраков. — Тоже что-то недосмотрели, хотя вроде и тут никто не виноват… Соседки по камере заметили — мучается от боли, а что с ней, не говорит. Позвали врача. А остальное… На вот, читай.
Михеев взял поданные ему листы с актами и докладными. Патраков, хмурясь, следил за тем, как он жадно пробегал глазами по строчкам.
Да, Анеля Викентьевна придумала себе жестокую смерть. Разломав алюминиевую ложку на мелкие острые кусочки, проглотила их. Раны пищевода, желудка и кишок были так серьезны, что врачи уже не смогли спасти ее. Перед смертью передала дежурной сестре записку для мужа: «Прости, что так получилось. Но, поверь, я не знаю, как этот план попал в мои бумаги. У меня его не было, ты мне его не давал, ты это знаешь. Но знаю, что ты не простишь мне и не хочу терзаться этим».
— План ложный! — зло бросил Михеев, оторвавшись от чтения.
— Ты думаешь?
— Теперь — знаю. Потому он его и положил поближе к Анеле, чтобы отвести следы в сторону. Сам же ее и убил, выходит. А в этом тайнике никогда ничего не было. Тогда же устроили другой. И никому не сказали о нем — для надежности. Даже Анеле. План же сохранили. На случай, если, скажем, те же Кобылинские или кто другой потребуют клад или выдадут его местонахождение. Вот, дескать, все правильно, был тут клад. Был да сплыл. А где, нам не ведомо.
— Хитро.
— Выходит, так.
— А не чересчур хитро? — прищурился Патраков. — Доказать сумеешь?
— Постараюсь.
— Постараешься… Удастся ли еще. Пойдем-ка к Свиридову. Ждет, — сказал Патраков, взглянув на часы.
* * *
— Ну, рассказывай, герой? Что там натворил?
Свиридов, непосредственный начальник Патракова, в Управлении был человеком новым. Лишь недавно его перевели с повышением из какой-то дальней области, где он сумел быстро выдвинуться. Но к стилю работы нового начальства уже привыкли, и Михеев поймал себя на том, что вопрос был сформулирован именно так, как он и ожидал, — Свиридов был строговат.
Слушая доклад, Свиридов вышел из-за стола и прохаживался по кабинету, заложив руки назад, время от времени останавливаясь перед Михеевым и хмуро разглядывая его.
— Прошляпили, значит, — резюмировал он раздраженно, когда Михеев закончил. — Этаких свидетелей, понимаешь, выпустили из рук. Не все предусмотрели, выходит. А кто за это отвечать будет?
— Я, — сглотнул слюну Михеев.
— Эва, открытие сделал… А за потерянное время кто ответит? Ведь чуть не год крутишься вокруг да около, а результатов — ноль целых ноль десятых. Отвечать, понимаешь, мне.
Михеев с надеждой посмотрел на Патракова, словно ища защиты. Тот сидел, облокотившись на стол и подперев подбородок рукой, будто хотел таким образом накрепко закрыть рот.
— Что будем делать, Патраков? — обратился к нему Свиридов. — Операция провалена, это факт. И нечего больше беллетристикой заниматься, драгоценности ваши — тю-тю, уплыли. Закрывать надо дело. А об этом, — он кивнул на Михеева, — еще поговорим…
— Закрывать, по-моему, еще рано, — отозвался, не меняя позы, Патраков. — Закрыть всегда успеем. Надо еще взвесить кое-что. Не все ниточки до конца дотянуты. Дело не простое, гарантии успеха никто дать не мог.
— Дотягивать, дотягивать… — проворчал Свиридов, снова усаживаясь за стол. — Мы не у тещи в гостях. Дел много, а вы тут…
* * *
Вернувшись к себе, Патраков и Михеев подавленно молчали.
— Что думаешь делать дальше? — спросил Патраков, отбросив надоевшую гармошку.
— Монастырь… — вздохнул Михеев.
— Значит, с чего начали, к тому и пришли, — усмехнулся Патраков. — А данные?
— Данные есть.
— Беллетристика? — опять улыбнулся Патраков.
— Да, и беллетристика тоже. Вот смотрите, — достал из папки свои записи Михеев. — Как тянутся к Тобольску все те, кто имел какое-то отношение к драгоценностям. Хотя Тобольск для них город отнюдь не родной и ничто их с ним не связывает. Даже, прямо скажем, опасный для них, бывших царских прислужников. Ну, у Кобылинской, положим, там мать жила — она перевезла ее еще перед отъездом в Сибирь. Но, вернувшись-то из Омска, она прожила в городе сколько? Больше двух лет, до двадцать второго года! Каменщиков живет там до двадцать пятого. Чемодуров — до своей смерти, в девятнадцатом году. Владимировы — до тридцатого, да еще и после зачем-то наведываются. Предано — аж до сегодня, никуда не выезжая. И Гусева тоже вернулась из Сибири в Тобольск, пусть ненадолго. Жильяр был зачем-то в монастыре, специально приезжал из Екатеринбурга в августе-сентябре восемнадцатого года. Волков — тоже где-то вслед за ним. И заметьте — съездил после этого во Владивосток, и опять ненадолго в Тобольск, в монастырь. Неподалеку, в Тюмени, долгое время, до последних лет, жили Ермолай Гусев и Сергей Иванов — царские лакеи. Похоже, что они все — как приклеенные к Тобольску, не могут расстаться с ним, а жить здесь им и невыгодно, и небезопасно. И Пуйдокас тоже вернулся в двадцать шестом в Тобольск. Жил по двадцать девятый. Распутать надо этот тобольский узелок.
— Все это совпадения, за которыми может ничего не стоять.
— Но ведь мы только на этих «может-не может» и вели все дело. Фактов, документов у нас в руках никаких не было, — взмолился Михеев.
— Это верно, — согласился Патраков. — Начальник тут погорячился. Я уверен — оттает. А тебе пока… Слушай, ты когда в отпуске был?
— Года два назад. А что? — обеспокоенно спросил Михеев.
— Иди-ка ты пока отдохни. И начальству глаза мозолить не будешь, и мозги свои проветришь.
— Гоните, значит?
— Гоню, — спокойно взглянул на него Патраков.
— А дело — в архив?
— Это еще посмотрим.
— Ну, что ж, — вздохнув, встал Михеев. — Разрешите идти?
— Иди. Да не куксись, как мышь на крупу. Всякое бывает.
Патраков вышел из-за стола и положил на плечо Михееву руку с негнущимся указательным пальцем.
— А вернешься… Словом, помни — я не меньше тебя хочу верить в успех.
— Спасибо, — сказал Михеев и, ссутулившись, пошел к двери.
* * *
Через день, получив путевку в дом отдыха и набросав в чемоданчик нехитрый отпускной скарб, Михеев отправился на вокзал.
Пошел, нарочно, пешком, словно отдаляя минуту, когда придется сесть в поезд и почувствовать себя рядовым отпускником, позабывшим о службе, о деле, которому отдано столько времени, сил и нервов. И хотя утренний озорной ветерок весело трепал полы его плаща и сгонял к горизонту последние тучки, предвещая погожий день, на душе у Михеева было совсем не так сине и безоблачно, как сегодня на свердловском небе.
«Черт меня знает, — честил он себя, — где я мог прошляпить, как сказал Свиридов? Конечно, дело начальства требовать и строжить, но… Где в этом запутанном клубке тот кончик, который поможет распутать все? Сколько их было в эти месяцы, кончиков-то. Но ведь опробовать ложные кончики и отбросить их — дело тоже необходимое. Как это… метод исключения — говорили на курсах. А в деле этом не все еще исключено, нет… Ну, ничего, отдыхай, Михеев, хотя это для тебя не отдых, а, скорее, мука. Есть еще кончики, есть. Ощущение такое, что он, нужный кончик, где-то совсем близко, рядом, вот-вот попадет в руки, и тогда развяжется, наконец, запутанный тобольский узелок. А пока — езжай себе в Тавду и отдыхай, как приказано…»
Михеев подошел к кассе и пробежал взглядом таблицу стоимости проезда. Где она, Тавда? Талица, Туринск, Тюмень… Тюмень?..
— Один до Тюмени, — протянул он в окошко кассы деньги и, довольный, рассмеялся. Кассирша недоуменно осмотрела себя, но, не найдя ничего смешного, обидчиво поджала губы.
* * *
— Ты?! Какими ветрами? — вытаращил на него глаза Саидов. — Что не предупредил? Срочное что-то?
— Очень срочное, — играя в серьезность, ответил Михеев. — Отдыхать, Саша, приехал. В отпуск по приказанию начальства. Рыбку половить, зайцев пострелять.
— А мамонтов не хочешь? Какая тебе сейчас охота, сроки вышли. А рыбку… Рыбку можно. Только не в мутной воде, случаем, ловить будешь?
— Кто меня знает. — хохотнул Михеев. — В какой придется, куда приведешь. Ты сам, чай, тоже рыбак?
— Бывало. Ловил штанами пескарей. Нет, ты не темни, говори, за чем приехал?
— Говорю тебе — отдыхать. Будто у вас тут места для отдыха плохие?
— Как кому, — усомнился Саидов. — Цари сюда добрых людей ссылали — отдыхать, значит. А нам ничего, якши. На курорты не ездим, здесь хорошо.
— Ну, так вот, считай меня тоже тоболяком. Приюти где-нибудь на сеновале, снасть какую ни на есть рыбацкую дай, а остальное уж моя забота.
— Это можно, — обрадовался Саидов. — Отдыхай, не пожалеешь. У нас хорошо. Кто понимает… А по рыбалке, я, извини, не спец. Это вот сын у Анисьи Тихоновны — тот дока по этой части. Помнишь хозяйку твою, не забыл? У нее, кстати, и устроишься. У меня, боюсь, не поглянется, опять приращение семейства. Пацаниха ночью будить станет.
— И это дело. А уж по ягоды — вместе. Идет?
— Тут в самую точку попал. Хоть каждый выходной. Ягодничать я люблю.
К вечеру Михеев уже сидел в знакомой кухонке вместе с Анисьей Тихоновной и ее сыном, и с аппетитом запивал крепким кирпичным чаем вкусные шаньги с картошкой.
— Рыбка — это хорошее дело, — гудел неожиданным для его небольшого роста раскатистым баском сын хозяйки, Андрей Иванович, утирая полотенцем выступающий на лбу и на шее обильный пот. — Я, к примеру, окуньков люблю. Рыба вкусная, что в ухе, что на сковородке. Берет, долго не думая, а вытащить не легко — умение требуется. Леску всегда вслабину закидывай. Он — хвать, а ты не торопись тащить, подай ему запас лески-то, ужо когда натянет, тогда и тащи — твой будет. Лови в тихих местах, у обрывистых берегов, где коряг много, по дну он там, шельмец, держится.
Михеев и в самом деле с интересом слушал рассказы бывалого рыбака.
— А сетью брать рыбку не любите? Улов-то сразу какой!
— Сеть не люблю. Это дело промысловое или там компанейское. Ну — улов большой, ну и что? Мне ни к чему, нам с маманей ведерка хватит. Зато посидишь в свое удовольствие на бережку, ветерком свежим речным подышишь, думку свою подумаешь — таково хорошо. А сеть не по мне, не уважаю. Не любительское это дело, тут всегда жадностью пахнет.
Он на минуту задумался о чем-то и, опрокинув чашку на блюдце вверх дном, обратился к матери:
— А знаете, маманя, нашелся ведь хозяин тех сетей. И не угадаете кто. Хозяин дома сего!
— Да ну, скажи пожалуйста, — удивилась Анисья Тихоновна.
— Каких сетей? — полюбопытствовал Михеев.
Андрей Иванович не спеша скрутил цигарку и пыхнул в сторону форточки дымом.
— Да было тут дело такое. Заявляется к нам в милицию человек. Так и так, говорит, охотился в тайге и обнаружил замаскированную землянку. Вскрыл. А там сети в промасленную парусину завернутые, добротные, норвежские, и мотор с баркаса, тоже надежно упакованный. Заподозрили хищение, было такое дело года два назад на рыбной пристани. Но пристанское начальство не признало добро своим. Стали искать — чье. И — никаких следов. Словно черти лесные заховали. И вот только вчера один старикан вспомнил: томиловское, говорит, это. И Томилова знаю, жила, говорит, мужик, что надо. Когда удирал из Тобольска, схоронил до случая. А теперь, говорят, в Казани плотничает, видел его там кто-то из наших. А Томилов — это тот самый, кому дом принадлежал, где мы сейчас живем.
— Томилов? — переспросил Михеев, привычно пропуская чем-то знакомую фамилию сквозь фильтр памяти. Он уже почти не слушал продолжавшего свои рыбацкие байки Андрея Ивановича, сосредоточенно думая о своем. И вот — стоп! Нашел.
Дождавшись паузы и притворно зевнув, он пожелал хозяевам покойной ночи и, закрыв за собой дверь, бросился к чемодану, где лежала тетрадь с только лишь ему одному понятными записями.
Так и есть. Томилов — это тот единственный из знакомых Мезенцевой, которого сна не захотела признать знакомым. Даже, кажется, более чем просто знакомый. «Тобольский узелок» чуть-чуть послабел.
* * *
— Скажи-ка ты мне, пожалуйста, адрес той самой древней старушки, у которой, помнишь, опорки совсем худые были. Агния, кажется, — попросил он на другой день у Саидова.
— На, возьми, — подал ему Саидов адрес, порывшись в бумагах. — Что тебе еще от нее понадобилось? Взять с нее, ровно, мы с тобой все взяли. Впрочем, твое дело. Может, вызвать сюда?
— Нет, что ты, не надо. Я — так. В гости, — и Михеев похлопал рукой по лежавшей на коленях обувной коробке.
— Задобрить хочешь?
— Жалко ведь — старуха. Ноги больные. А я не разорюсь как-нибудь.
Бабку Агнию он нашел на одной из окраин Тобольска, в махоньком двухоконном домишке, подслеповато глядевшем в переулок из-за кустов калины.
— Ты, Дементий, что ли? — откликнулась она из-за ситцевой занавески за печкой, скрывающей кровать, в ответ на приветствие вошедшего в избу Михеева. — Не пришла еще хозяйка, гудка не было. Зайди после. А я вот занемогла, ноги к погоде ломит, спасу нет. Ох, не берет меня бог. Сама мучаюсь, людей мучаю…
— Як вам, бабушка, — сказал погромче Михеев, тщательно вытирая ноги и хмуро оглядывая немудрящую внутренность избы.
— Сейчас, ино, встану. Погоди.
— Да вы лежите, — подошел к кровати Михеев.
Но старуха уже села, откинув занавеску.
— А, начальничек, — узнала она. — Доброго здоровья. Помню тебя. Хорошо обошлись со старухой, извозчика дали. Ни в жизнь не езживала на таком. Спасибо. А то мне, старой, долго бы плестись до дому… Чего пожаловал?
— Хочу спросить, бабушка. Не обо всем тогда переговорили, — начал Михеев. — Когда игуменья умерла, вы в тот день безотлучно при ней были?
— Безотлучно, батюшка, безотлучно. Куда мне было отлучаться?
— Не помните ли, кто в тот день побывал у игуменьи?
— Дело давнее, где упомнить всех-то…
— А что, много перебывало? Очень это важно, бабушка, знать. Вспомните, пожалуйста.
Старуха задумалась, опустив голову. Потом, подняв слезящиеся глаза на Михеева, расплылась в беззубой улыбке.
— Нет, помню… Тихо у нас в тот день было. Как на особицу, мало кто заходил. Дня два-три перед этим, надо быть, ГПУ приезжало, вот все и сидели по кельям, как мыши. Ждали, что дальше будет. А в тот день — вот и верно, не забыла — Устинья-странница у меня сидела, и таково-то долго рассказывала о святых странствиях своих. Весь день, почитай, и беседовали, никто не мешал. Мешал бы, так ушла. Это уж я верно говорю, до игуменьи в тот день никто не приходил. Только наши. Препедигна, помню, была, она и последнее дыхание матушки приняла. Зашла к ней с самоварчиком, а вскорости выбежала и кричит — «Матушка преставилась!» Ну, а мы…
— А еще кто?
— Ты не торопи. Дай вспомнить. Так-то все, по порядку, я лучше вспомню…
— Мезенцева, Рахиль то есть, не была ли?
— Рахиль не была. Она в ту пору уехала. Накануне приезжала, это верно.
— Как — накануне? — удивился Михеев.
— А вот, скажем, сегодня матушке умереть, а Рахиль вчерась была. В деревню за ней посылали. Она не то мать, не то отца хоронила, ну и жила там неделю ай две… Ну вот, приехала она, провела весь день наедине с матушкой и опять уехала. После уж вернулась, через сколько — не помню. Где вспомнить, старая стала, совсем старая…
— А еще кто?
— Ну, там послушницы заходили, в келье прибрать, постель застлать, посуду вынести — где их всех упомнишь.
— А из мирских?
— Из мирских — нет, не было. Откуда им, не до того в те поры.
— Томилов не был ли, купец?
— Тот день не был. Его-то бы запомнила, хороший мужик, обходительный, бога не забывал. Игуменья его привечала. А в тот день не заходил. Чего не было, того не было.
— А Рахиль знала его?
— Как не знать. С малых лет знала. Еще когда у отца-матери жила. Из-за него, можно сказать, и в обитель ушла.
— То есть?
— Любились они, а Василию отец согласия не давал. Другая у отца на примете была, с приданым хорошим. Василию бы выделиться да взять Марфу-то за себя… Марфой ее в миру звали… А он не посмел отца ослушаться, женился, как было велено. Ну, а Марфа в монастырь пошла: родители у нее богомольные, не препятствовали, рады, что дочь христовой невестой станет. Только она долго еще, лет пятнадцать, постриг не принимала, ровно все ждала чего-то. Так в послушницах года до двадцатого и ходила. Зато потом сразу благочинной стала — порядки все монастырские хорошо знала, городским подворьем столь времени ведала. По представлению игуменьи архиерей ее и рукоположил сразу же… А после, как разогнали монастырь, у архиерея жила в доме, прислуживала. Потом у Василия Михайловича, до поры пока он не уехал и дом у него не отняли.
Старуха заметно устала, голова ее клонилась все ниже, сникал голос, срывавшийся на шепот. Увлеченная воспоминаниями, она, как видно, не прочь была бы продолжить разговор, но Михеев решил дать ей покой. Сунув незаметно под подушку сверток, он встал.
— Ну, спасибо, бабушка. Устала, небось? Живется-то как?
— Как старой живется… Доживаю вот свой век. Не приберет господь никак. Спасибо Петровне, приютила старость мою. Сама не в достатке — видишь, — обвела она головой избу, — а бедную старуху приветила, пригрела. Робит день-деньской, а я ей даже обеда сварить не могу, совсем занемогла.
— И не помогает вам никто, не навещает?
— Кому мне помогать? Сытый голодного не разумеет. Да я и не голодная, много ли мне надо. Картовочку пожую, чайком запью — и сыта… А навещать, было дело» навещали. Вот Марфа… Не привыкла я ее Рахилью-то называть, все Марфа да Марфа всю жизнь была, только уж под старость, в двадцатом году Рахилью стала…
— И часто она вас навещала?
— Где часто, однова только и была. Рыбки принесла солоненькой, творожку криночку. Вспомнила, вишь, нашла.
— Когда же она была у вас?
— Да вот, кажись, сразу после того, как я у вас с ней повстречалась.
— Что она вам рассказывала, когда приходила?
— О себе мало что говорила, живу-де у добрых людей, кормят, говорит, поят. Больше все меня спрашивала.
— О чем?
— Как живу, то да се. И об этом спрашивала, чем, дескать, начальники интересовались. Я говорю — о монастыре. Как жили, как молились, когда его закрыли. А больше ничего не рассказывала. Я ведь помню, слово давала вам не сказывать, о чем разговаривали. А уж слово дала, сполнять надо.
— Ну, доброго здоровья вам, бабушка. Поправляйтесь…
Михеев легонько коснулся ладонью ее пергаментной сморщенной руки, опиравшейся о постель.
— Спаси тебя бог, касатик, — проскрипела старуха вслед.
* * *
Нет, не пришлось порыбачить Михееву, половить красноперых окуней у крутых берегов Тобола. К удивлению еще даже не успевшего подготовить снасти Андрея Ивановича он собрался в обратный путь. Но, понимая службу, Андрей Иванович не стал докучать расспросами.
— Нужно — значит, нужно, чего уж там, — сказал он забеспокоившейся Анисье Тихоновне: не остался ли чем недоволен гость.
Саидов же, которому Михеев рассказал о своем визите к Агнии, ликовал:
— Верно говоришь. Это кончик надежный. Надо тянуть его. Хитро ты связал одно с другим, я б, пожалуй, недотумкал. Буду ждать, дорогой, возвращайся скорее. Не взять ли их заранее?
— Ни в коем случае. Трогать пока не будем, — сдерживал его Михеев. — А ты пока вот что… Разыщи и вызывай из Казани Томилова. А за Мезенцевой организуй догляд, чтоб о каждом шаге ее знать. Сделай, пожалуйста, это поосновательнее и… потоньше, что ли.
— Не беспокойся.
Еще неделю спустя Михеев вернулся с полномочиями на продолжение операции. К его удивлению, Свиридов охотно подписал командировку, заметив при этом:
— Смотри там — поменьше беллетристики. Валюта нужна, понимаешь, очень. Вон как строить размахнулись, — кивнул он на развернутую газету.
* * *
Саидов ввалился в кабинет Михеева, когда тот уже собрался уходить. Усталый, но довольный, он оседлал стул, лицом к спинке, и, раскачиваясь на нем, доложил:
— Все в порядке, товарищ начальник. Наблюдение работает. Мезенцевой о приезде Томилова сообщили.
— Ну и как?
— Сидит дома. Картошку перебирает. А вечером вылила. Ходила квартиру для Томилова искать.
— Нашла?
— Как не найти… Особенно с нашей помощью. У кого бы ты думал? У тетки жены моей. Рахиль это не знает, я к тетке не хожу — богомольные они, а я коммунист. К тому же татарин, нехристь. Мне и так чуть выговор не сунули, за то что теща ребенка нашего тайно окрестила.
— Квартира — это хорошо, — одобрил Михеев.
— Чего хорошего? — удивился Саидов. — Жить-то ведь будет на казенной, на наших харчах.
— Там посмотрим, — уклончиво заметил Михеев. — А ты тетку навести, нехорошо. Двоюродная теща вроде. Ну, хоть завтра к вечеру.
— А что я там буду делать, у двоюродной тещи в гостях?
— Это я тебе потом скажу. А пока пойдем-ка, друг, спать. Завтра, с утра пораньше пойдем мы с тобой, Саша, в томиловский дом.
— Это еще зачем?
— Клад искать.
— Ты скажешь, — усмехнулся Саидов, одеваясь. — Так бы все быстро…
— Быстро… Мы и так с тобой эвон сколько мозги сушим и себе и людям. Кончать надо. Начальство требует.
— От приказа бы только зависело… — вздохнул Саидов. — А где этот томиловский дом, кто в нем живет? Почему не знаю?
— А ты и в самом деле не знаешь? — всерьез удивился Михеев. — На вот, читай адрес.
Саидов взял бумажку и вытаращил глаза: это был адрес жилого дома горотдела милиции, где Михеев останавливался в прошлый приезд.
В этом месте правый берег Иртыша переходил постепенно в просторный луг, в бурные весны заливаемый половодьем. Старый дом Томилова, неказистый, но добротный, на совесть рубленный пятистенок под железной крышей, с прочными воротами из двух вершковых плах, ничем особенным не выделялся среди своих собратьев, К берегу усадьба выходила огородом, а другой межой примыкала к ограде бывшего мужского монастыря. Фасадом дом выходил на улицу, первый номер которой он носил на воротах.
— Ты что, по старой своей хозяйке соскучился? — донимал Саидов Михеева по дороге к дому Томилова, прыгая через лужи и чертыхаясь в затруднительных местах, когда размер лужи превосходил его легкоатлетические способности. — Или думаешь, что милиционеры твой клад хранят?
— Сейчас поймешь.
— Мог бы сказать, — ворчал Саидов.
— Я и сам не все еще знаю, — с сожалением в голосе оправдался Михеев…
— Здравствуйте, гостеньки. Что рано? — встретила их Анисья Тихоновна. — Ай опять на постой, Михаил Сергеевич?
— Кто рано встает, тому бог подает — так деды говорили, — отшутился Михеев. — На постой не на постой, а погостюем, если не прогонишь.
— Садись, гостем будешь. Чаю подать?
— Спасибо, пили уже.
Хозяйка поняла, что гости пришли не с бездельем, села и, оглаживая рукой скатерть, выжидающе поглядывала на Михеева и Саидова.
— Знаете вы, Анисья Тихоновна, — начал Михеев, — чей этот дом прежде был?
— Нет, не знаю, сынок. Мы приезжие. Только вот третий год живем. А до нас тут исполкомовские жили.
— И не бывал тут при вас никто по поручению старых хозяев?
— Не бывал, ровно, никто при мне.
— А вот та женщина, с которой, помните, вы разговаривали, когда я жил у вас, в тот приезд?
— Кто это?
— Да еще насчет картошки разговор вели…
— Марфа-то Андреевна? — оживилась хозяйка. — Эту помню. Она две зимы у нас картошку в голбце держала. Говорит — на семена. У вас, дескать, все равно голбец просторный и пустой. Почему не пустить, пустила. Только она весной возьмет половину, а половину оставит — пользуйтесь, говорит, мне лишняя. Я не беру, сын не велел. А картошка за лето прорастет вся, гнить начнет. Сын ее потом выгребает да на свалку выносит. Ну, и наказал мне — не пускай, говорит, больше. Дом казенный, еще плесень разведешь. Я и не стала пускать. А она все ходит да просит — пусти да пусти. И что за корысть, за версту три мешка нести, неуж ближе голбца не найти?
Михеев удовлетворенно взглянул на Саидова, но тот недоуменно пожал плечами.
— А можно нам у вас этот голбец осмотреть? — встал Михеев.
— Смотрите, не жалко.
Подполье и в самом деле было просторным — широким и глубоким, почти в рост человека. На полках вдоль стен выстроились банки и кринки — хозяйство Анисьи Тихоновны. В углу, у сопряжения нижних ряжей наружной и промежуточной стен, стоял на лежнях большой деревянный ларь без крышки. На дне его лежала грудка картошки.
— Вот и все богатство, — сказала Анисья Тихоновна, прикрывая рукой колеблющееся пламя свечи и подвигаясь к лестнице.
Однако Михеев, осмотрев подполье, уселся на ящик, не собираясь выходить.
— А что, если мы попросим вас, хозяюшка, дать нам лопату и, коль найдется, фонарь, да посторожить нас здесь, чтобы ни мы никому, ни нам бы никто… Вы понимаете?
— Чего не понимать-то. Мне всегда все ясно — не болтай, вот и все понятие, — ухмыльнулась хозяйка. — Сын воспитал.
— Вот и ладно.
Саидов принес лопату и фонарь.
— Ну, что? Где копать? — спросил он шепотом, не скрывая волнения.
— А черт его знает где… Посмотреть пока надо, — ответил тоже, не зная почему, шепотом Михеев. — Но где-то здесь наша Марфа что-то имела. Может, и клад, кто знает.
Михеев, все еще сидя, продолжал внимательно оглядывать подвал, подолгу присматриваясь к каждому его участку — пол, стены, потолок.
— Давай щупать. Каждый сантиметр. Те две стены твои, эти — мои, — показал он. — Пол мой, потолок — твой.
Саидов, встав на колени, принялся простукивать стены. Анисья Тихоновна наверху притихла, и только изредка откуда-то доносился скрип ее стула.
Спустя два часа, измазанные и потные, они поднялись наверх.
— С удачей? — поинтересовалась хозяйка, наливая воду в жестяной рукомойник.
Михеев пожал плечами. Саидов молча загремел умывальником.
* * *
С утра они снова сошлись в своем кабинете и сидели, прислушиваясь к гудкам пароходов со стороны пристани.
— А едет, точно? — спросил Михеев, втыкая в переполненную пепельницу очередную папиросу.
— Едет, проверил у Тюмени.
Саидов сидел на подоконнике, засунув руки в карманы и с интересом поглядывая на воробьиную суетню в залитом солнцем дворе.
— Ты у тетки был? — спросил его Михеев.
— Был. Даже самогону пришлось тяпнуть рюмашку для нового знакомства — со свадьбы не виделись.
— Все сделал?
— Все, как наказано.
— Наблюдение не снимай. Что слышно?
— Все так же. Сидит дома. Чу! — повернулся Саидов ухом к окну.
Издалека раздавался протяжный басовитый гудок парохода.
— Поезжай, — коротко распорядился Михеев. — И вези прямо сюда.
— Прямо? Так его ж вначале надо устроить — передать охране, место ему определить, на довольствие зачислить, — недоумевал Саидов, одеваясь.
— Ничего не надо. Бери под расписку сам и езжай сюда. Охраны не бери.
— Будто в гости к себе веду?
— Вот-вот, почти так, — ответил Михеев и склонился над папкой с материалами о Томилове.
Подобрались они не случайно — еще в 1925 году Томилов судился за скрытый от финорганов подпольный промысел, на котором, кстати, покалечился один из рыбаков, что и помогло раскрыть все дело. Следствие было дотошным, материалов от него осталось много, но Томилов отделался штрафом и небольшой отсидкой — в общем-то преступление было не из серьезных.
Протоколы допросов и показания свидетелей достаточно обстоятельно характеризовали Томилова.
Томилов Василий Михайлович, 1876 года рождения, в документах писал — «из крестьян». Но свидетели показали — сын рыбопромышленника, державшего в кулаке всю рыбацкую голь в районе своих промыслов. Сын, энергичный и оборотистый, не отставал от отца — организовал новые промыслы, задешево скупал пушнину у хантов и мог бы смело сам вести дело. Но крутой нравом отец не хотел выделять сыну капитал на собственное обзаведение: помру, дескать, тогда все тебе, а пока и думать забудь, не то голяком выгоню. Лишь незадолго перед революцией капитал, изрядно упавший в цене, наконец, перешел по наследству Василию Михайловичу, который к тому времени обзавелся семьей. Революция и гражданская война довершили дело — состояния, как такового, почти не осталось. Но в годы нэпа Томилов снова быстро набрал силу, использовав припрятанное до поры промысловое оборудование и оснастку. В особо заметное положение, правда, не лез — понимал, что так спокойнее. Держал в отдаленных районах по пять-шесть артелей, из полутора десятков рыбаков каждая. Имел добрую баржу, на которой и свозил с промыслов рыбу в Тобольск. По-прежнему баловался пушниной. Но всем этим промышлял по возможности скрытно, стараясь не регистрировать свои предприятия, держась этаким трудягой-промысловиком.
Почуяв в воздухе новые веяния и поняв значение призывов к «ликвидации кулачества как класса», Томилов решил заблаговременно удалиться от возможных неприятностей, оставив на произвол судьбы свои законные и незаконные предприятия. Оставил и дом. Подсунуть его знакомым не удалось — не посмел оформить документы. Горсовет забрал его в свой жилой фонд. Укатил Василий Михайлович хитро — сначала отправил куда-то семью, якобы в гости к родным, и только тогда потихоньку смылся сам. Ни он, ни семья вестей в Тобольск о себе не подавали, и следы их затерялись — вплоть до находки «клада» в землянке.
— С приездом, — приветствовал Михеев вошедших Саидова и Томилова.
Томилов поставил у стены свой фанерный баул и сел.
По обличью — типичный сибиряк, не то охотник, не то рыбак: крепко сбитый, кряжистый, с красивой «пугачевской» бородой, густой и курчавой, в редких сединках. Крупные и ловкие, привычные к труду руки спокойно лежат на коленях, словно напоказ. Черные широкие лепешки бровей над умными, с хитрецой, жаркими глазами почти сошлись в одну линию.
«Красивый мужик!» — отметил невольно Михеев, оглядывая Томилова, и приветливо улыбнулся ему.
— Как доехали, Василий Михайлович?
— Как положено арестанту, без лишних беспокойств, — ответил Томилов, обнаружив басовитый, с хрипотцой голос.
— Ну, это такой уж порядок. А арестантом мы вас не считаем.
Томилов прищурился — видимо удивился, но виду не подал.
— Вызвали мы вас вот зачем, — пристально наблюдая за ним, начал Михеев. — Нашли мы здесь клад один. Говорят, что он ваш.
— Какой? — негромко осведомился Томилов, поглаживая бороду и пряча глаза под густыми бровями.
— А что у вас, много их тут было оставлено? Вот и перечислите.
Томилов помолчал, обдумывая ответ.
— Да ведь кто его знает, что вы кладом называете. За полвека-то чего не бывало…
— А все же?
— При белых золотишка коробочку схоронил, боялся — отберут. Да потом и сам не нашел, то ли выследил кто, то ли я место запамятовал.
— А еще?
— Ну, мешок соболей, это уж при красных, на черный день приберег… — вспоминал Томилов, все поглаживая бороду и поглядывая на Михеева. — Ложки серебряные жена еще в девятнадцатом, когда белые уходили, без меня в старом дому закопала — так больше и не видывала их.
— А еще что? — донимал его Михеев. — Поценнее что-нибудь?
— Поценнее? — прищурился Томилов. — Может, не мое нашли? Поценнее ничего не было.
— Ну, кто бы другой стал в ваших владениях что-то прятать. Без вашего участия не обошлось бы.
— Так ведь кто его знает… Нет, не помню такого, — решительно заявил Томилов, оставив бороду в покое и снова уложив руки на коленях.
— Так… Не хотите, значит, сказать.
— Отчего не хотеть. Сказать бы можно, только нечего. Если что запамятовал — напомните.
— Да чего нам с вами в прятки играть, Василий Михайлович… Клад-то найден. Надо только вспомнить, как это было, да признать — то ли это самое. Чтоб других не путать. Тогда с вас и спросу больше нет.
Томилов снова надолго задумался.
— Нет, не упомню, — упрямо тряхнул он головой. — А раз нашли — покажите, может, и признаю. Тогда искажу все.
. — А мы думали, — разочарованно протянул Михеев, — что вы сами вспомните. Так вернее было бы.
Томилов молчал, угрюмо набычившись, всем своим видом давая понять, что сказать ему больше нечего.
— Ну, что ж, — встал Михеев. — Придется предъявить вам то, что мы нашли. Но, последний раз хочу спросить — может, сами скажете: что и как. Заранее оно лучше бы.
— Нечего мне пока сказать, — отрезал Томилов.
— Поедем, товарищ Саидов, — сказал, собирая бумаги, Михеев. — Проводим Василия Михайловича.
* * *
Томилов охотно признал своими предъявленные ему сети и мотор. Он даже словно повеселел, вспоминая, когда и как прятал их.
— Это вы верно говорите, — сказал он Михееву, похлопывая рукой по маслянистой поверхности двигателя. — Для нас, промысловиков, это самое большое богатство. Мы не купцы, нам не деньги для оборота нужны, а такое вот добро. Теперь его нипочем не достанешь. Зато, найдешь — кум королю. Без всяких капиталов на ноги встанешь. И себя и других прокормишь.
— А хотелось бы снова на ноги-то встать? — спросил Саидов.
— Так ведь хотел-не хотел, какой теперь разговор. Плотник я теперь, — усмехнулся Томилов. — Ликвидированы мы теперь как класс…
— Ну, что мне за это будет? — осведомился он, когда все вернулись в кабинет Михеева.
— А ничего. Сам все рассказал, прояснил дело, снял обвинение с человека, которого мы заподозрили в том, что он украл это добро с пристани, можно даже спасибо сказать, — успокоил его Михеев.
— И вам спасибочко, — солидно поблагодарил Томилов. — Теперь куда мне?
— А хоть куда. Вот вам пропуск. Идите, устраивайтесь с жильем — отдохнуть где-то надо, а у нас удобств особых нет. Найдете квартиру-то?
Томилов в раздумье поглаживал бороду, разглядывая пропуск.
— Как не найти, город большой. Прощевайте пока…
— Ты что? — удивился Саидов, когда Томилов ушел. — Ведь я его под расписочку…
— Ничего не случится, Саша. Так надо, — успокоил его Михеев. — А ты теперь распорядись — с Томилова глаз не спускать. С Мезенцевой тоже. Потом приходи, думать будем.
* * *
Вечером Мезенцева, закутавшись в шаль, глухими переулками пробралась на зады огорода саидовской тетки, к которой она, узнав о приезде Томилова, устроила его на квартиру. Василий Михайлович сидел на колоде, прислонившись к стене баньки, укрытой в кустах бузины. Увидев его смутно темнеющую фигуру и вспыхивающий огонек папиросы, Мезенцева огляделась и решительно перелезла через прясло.
— Погаси цигарку-то! — сердитым шепотом бросила она, подходя к Томилову и усаживаясь рядом.
— Здравствуй, что ли, Марфа Андреевна, — ответил он, затаптывая огонек.
— Будь здоров. Как устроился? Никто не видел?
— Все, как девка твоя посланная наказала. Лавку на кухне отвели, покормили. Хозяйка-то сродственница?
— Да нет, в монастыре в школе когда-то учились, помнит. Ну, что, зачем пожаловал? Добро проведать?
— Добро, Марфа Андреевна, твое, а не мое. Ты и проведывай, мое дело сторона.
— Ну, не говори, дело теперь наше, общее. Одной веревочкой связаны. Ты ж меня и уговаривал. А то бы лежать ему на дне Иртыша.
— Что уговаривал — правильно. Нельзя так добром распоряжаться. Ценности-то какие… Все пароходство Иртышское купить на них можно, да и еще останется.
— Нишкни ты! — прошипела Мезенцева. — В бане-то нет ли кого?
— Нет, на замке она.
— То-то… Ищут, слышь-ко, их.
— Ищут? Ишь ты… Ну, и как?
— Извелась я, Вася… — со стоном вырвалось у Мезенцевой. — Допрашивали нас опять. Меня, Препедигну, Варвару, Агнию… Многих нашли. О доме, правда, ничего не скажу, не спрашивали. Не знают, значит. И вроде отступились, уехали.
— А кто приезжал-то, откуда?
— Из Свердловска, будто. Высокий такой, худой.
— Михеев по фамилии?
— Во-во. Знаешь его, что ли?
— Познакомился, — усмехнулся Томилов. — Здесь он.
— Здесь?! — всплеснула руками Мезенцева. — Где вы встретились-то?
— У них, в конторе. Допрашивал он меня.
— Владычица небесная! О доме, поди! Ну и что?
— А ничего. Вроде подловить хотел — клад-де твой нашли. Неужели, думаю, Марфа прозевала? Я говорю — нашли, так покажите.
— Что показали-то?
— Сети норвежские да мотор, что в ту весну в лесной землянке спрятал, когда из города уезжал.
Мезенцева облегченно вздохнула и перекрестилась:
— Пронеси господи. — Но, помолчав, снова обеспокоенно спросила: — Что же теперь делать-то будем? Неспроста все это — сети да мотор, ГПУ этим заниматься не будет. Сдается мне — подбираются они к кладу. Сужается круг-то, Василий. И мы, вроде зверя, посреди.
— Ну так чего ждать-то, когда вплотную обложат? Отдай ты им добро-то, благо не наше оно…
— Нельзя, — строго ответила Мезенцева. — Святыня это. Клятву я, сам знаешь, давала, хранить до гробовой доски.
— Для кого хранить-то?
— Вот то-то и оно, что не знаю. Знала бы, так давно бросила — нате, мол, измучилась я, добро ваше сохраняючи. Может, власть старая вернется, как ты говорил, — ей надо отдать.
— Чего тут ждать. Не вернется она, теперь уж ясно.
— А война?
— А война будет, так для кого, думаешь, немцы или кто другой там, будут страну завоевывать? Для нового русского царя нешто? Нужен он им, как собаке пятая нога. Для себя стараться будут, а не для него.
— Может, объявится кто и письмо подаст, — с надеждой вздохнула Мезенцева.
— Так ведь не появляется вот, — тоже вздохнул Томилов. — Некому, видно, появляться.
— Может, и некому. А я вот сиди, дрожи, стука всякого бойся. Поверишь, сна совсем лишилась, лежу и всю ночь молитвы читаю. Днем часик вздремнешь — и ладно. Уж отдать, верно, что ли?
— Отдай, не томи душу. Бросай все и айда со мной в мою Татарию. Заживем мы с тобой, как мечтали когда-то. Один ведь я теперь, знаешь…
— Знаю, что один. И не одобряю. Не дело это. Зачем Анфису с ребятами бросил? Немолодая ведь она, всю жизнь нездоровая.
— Так спокойнее. И ей и мне. Ее одну-то, с ребятами, трогать не будут. А живут они у тетки в покое. Денег я им от чужого имени иногда посылаю. Ребята уже не маленькие, сами робят. С ней у нас, сама знаешь, счастья не было Вот ты…
— Ладно, хватит. Об этом надо было раньше думать. Сколько тебя ждала — помнишь? Старухой уже в послушницах ходила, постриг не принимала. Все ждала, может, приберет бог Фису, буду тогда женой тебе, как слово давала. Всю жизнь ведь ждала, Вася!..
— Знаю, — насупился Томилов. — Да что сделаешь, коли отец выдела не давал…
— А для чего тебе выдел? Голова у тебя на плечах, руки золотые, плечи вон какие могутные. Да и я не лыком шита. Прокормились бы не хуже других. Может, и лучше еще. Подались бы куда-нибудь в Сибирь подальше.
— С капиталом-то сподручнее было бы…
— Эх, Василий Михайлович, болесть ты моя. Не в том капитале счастье. Ну, да что уж теперь говорить…
Оба надолго замолчали.
— Проверяла добро-то? Может, уж нет его давно, нашел кто другой, многие ведь там жили?
— Раньше-то удавалось, проверяла — то картошку хранила, то домовничать напрашивалась. А теперь вот милиционер живет, не пускает. Лонись, весной, Иртыш из берегов вышел, затопил огороды, до подвалов ино где добрался. Беспокоилась. Со стороны осматривала, у хозяйки спрашивала. В порядке, говорит, сухой голбец.
— А все там же, не перепрятывала?
— Нет, где зарыли, гам и лежат.
— Ну и пусть лежат, бог с ними. А ты — айда со мной. Завтра и уедем. Ко мне прицепок вроде больше нет… Слышь, Марфа… — жарко зашептал Томилов. — Ох и крепкая ты еще на тело., как молодица…
— Уйди, Василий Михайлович, не греши. Не поеду я с тобой, здесь доживать свой век буду. Не судьба уж, видно, нам. Отрекся ты от меня в молодости.
— Будет вспоминать-то.
— Будет так будет. А только разговора об этом больше не начинай… Сколь погостишь-то еще?
— Не знаю. Бог даст, завтра и поеду. Заживаться мне здесь нечего. Старое вспоминать — мало радости, новое наблюдать — и того меньше.
— Ну, прощевай, — встала Мезенцева, снова закутываясь в платок. — Счастливый путь тебе.
— Дай обниму хоть на прощанье-то. Увидимся ли…
— Не надо это, Василий Михайлович. Не беспокой ты душу мне. И так она в смятении. Дай я тебя перекрещу да иди с богом. Увидимся, не увидимся, помнить о тебе буду.
И она решительно, но сторожко зашагала к изгороди.
— Марфа! — хрипло окрикнул ее Томилов. — Погоди…
— Прощай, — прошептала Мезенцева из-за прясла и растаяла в темноте.
Томилов долго еще сидел на колоде, опустив голову. Огонек цигарки то вспыхивал, то угасал. Затем он, бросив потухший окурок, понуро зашагал к дому.
Когда в доме скрипнула дверь и все затихло, из соседнего огорода вышел человек и, подойдя к бане, открыл ее. Оттуда вышли Михеев и Саидов. Михеев прислушался к ночной тишине и положил руку на плечо Саидову:
— Через час возьмешь обоих. Ордера у дежурного. И прямо туда, в дом… Скажи спасибо теще своей двоюродной, что предупредила о свидании.
* * *
Когда Томилова привезли в его бывший дом, Михеев был уже там. Он мирно беседовал на кухне за стаканом чая с Анисьей Тихоновной, изредка позевывавшей из-за прерванного сна.
— Стаканчик чаю, Василий Михайлович? — встретил он Томилова. — Садитесь, пожалуйста.
— Благодарствую, — коротко и глухо отозвался Томилов, продолжая стоять у двери и хмуро оглядывая кухню.
— Садитесь, садитесь, разговор будет долгим. Да и гости еще будут, — настаивал Михеев.
Томилов сел на предложенный ему табурет.
— Пришлось потревожить вас, не обессудьте. Еще один клад ненароком отыскался. А чей, опять не знаем. Снова ваш совет нужен.
Слова Михеева не вызвали у Томилова заметного оживления, он продолжал молчать, уставившись в пол.
— Вот Анисья Тихоновна говорит, что у нее в подполье есть клад какой-то. А дом, как помнится, вам принадлежал некогда. Так вот, поможете ли внести ясность?.. Стаканчик-то возьмите, чай стынет.
Положив на лавку картуз, Томилов молча пододвинул Табурет к столу и взял стакан. Пить не стал, а, держа стакан в обхват, точно грея о него руки с мороза, не мигая смотрел на легкий парок, поднимающийся от золотистого настоя.
— Не ведаю я, о чем вы говорите, — вздохнул наконец он. — Давно ведь дом-то бросил…
— Ну, не так уж и давно… А, вот и еще гостья, — сказал Михеев, услышав стук ворот и шаги в сенях.
Мезенцева, войдя вслед за Саидовым на кухню, изумленно поглядела на Томилова, распивающего чаи с Михеевым. Недоумение, испуг, презрение, сменяясь, промелькнули в ее широко раскрытых глазах. Вздохнув, она сложила руки на животе и каменно уставилась в угол.
— Садитесь, Марфа Андреевна, — предложил ей стул Михеев. — Чаю хотите?
— Не на чаи, чать, звали, — зло ответила Мезенцева, садясь на лавку у порога, словно не заметив подставленный ей стул.
Михеев помолчал, оглядывая эту странную компанию, собравшуюся в столь поздний час на скромной кухонке Анисьи Тихоновны. Томилов все так же смотрел на дно стакана, держа его в руках. Мезенцева, глядя куда-то в угол, тяжело дышала, удерживая дрожащие губы. Анисья Тихоновна, чувствуя себя неудобно в этом непривычном обществе, рассеянно поглаживала клеенку стола, смахивая невидимые крошки. Саидов беспечно покуривал, прислонившись к косяку двери.
— Как, Марфа Андреевна, сами выкопаете с Василием Михайловичем клад или помочь вам? — нарушил молчание Михеев, встав из-за стола и доставая из кучи ухватов у печки приготовленные лопаты.
— Кто указал, тот пусть и копает, — отозвалась Мезенцева.
Томилов поставил стакан на стол и впервые посмотрел на нее.
— Ты не думай, Марфа Андреевна… — начал он.
— А я и не думаю. Что мне думать, — не глядя на него, ответила Мезенцева.
— Знают они без нас, — прохрипел Томилов. — Кончать, видно, надо дело это.
— Без кого-то из нас не узнали бы, — снова огрызнулась Мезенцева. — Молчи уж…
— Да нет, пожалуй, и без вас узнали бы, — успокоил их перепалку Михеев. — Но и то сказать, помогли вы нам, Марфа Андреевна, не меньше, а пожалуй, больше Василия Михайловича.
Мезенцева зло сверкнула по нему взглядом, в котором, однако, сквозил вопрос — «О чем ты это?»
— И что бы вам, верно, не указать нам это место да и отправиться с Василием Михайловичем, куда он зовет вас?…
Переведя взгляд на изумленно выпрямившегося Томилова, Мезенцева поняла все и уткнулась лицом в концы полушалка.
— Возьмите все, сил моих больше нет, — всхлипнула она, но, тут же открыв лицо, замерла в неподвижности.
— Пойдем, благословись, — весело обратился к ним Михеев, открывая подполье.
Мезенцева и в самом деле перекрестилась, подходя к западне.
* * *
— Ну, показывайте, — сказал Михеев, когда все спустились в пахнущее плесенью подполье.
Томилов и Мезенцева переглянулись.
— Ларь убрать надо, — деловито предложил Томилов.
Ларь, служивший складом для овощей, поддался нелегко. Прибитый плотницкими ершами к тяжелым лежням, врытым в землю, он не трогался с места. Доски дна от лежней пришлось отдирать ломиком. Когда, жалобно скрипнув, ларь сдвинулся с места, за ним, в фундаменте промежуточной стены, открылся проем, заделанный досками. Когда-то он, по-видимому, соединял две части подполья — под кухней и под соседней с нею комнатой.
Теперь уж Саидов и Михеев многозначительно переглянулись. Михеев чуть заметно покачал головой.
Проем оказался довольно широким, но пройти в него можно было только низко согнувшись. Михеев жестом предложил путь Томилову и Мезенцевой.
Соседний отсек подполья был менее просторным, чем первый, однако достаточен для того, чтобы стоять в нем почти в рост. Томилов уверенно направился в угол и ожесточенно воткнул лопату в землю.
— Здесь, — выдохнул он и отошел в сторону.
Саидов схватил лопату. Все стояли молча, напряженно глядя на все углубляющуюся ямку и на холмик земли, растущий около нее.
Михеев посмотрел на Мезенцеву. В неудобной позе, согнув спину и понурив голову, она, сцепив руки у груди, почти не мигая смотрела в темный квадрат ямы, словно проникая взглядом туда, еще глубже — сквозь землю. И сквозь пелену времени ей вспоминалось…
* * *
Страда, история которой сейчас подходила к концу, началась для Марфы Мезенцевой давно. Еще в те последние дни августа 1917 года, когда весь Тобольск был охвачен молвой о необычном событии — приезде в город бывшей царской семьи. Группами и в одиночку проходили, глазея, мимо бывшего губернаторского дома тоболяки, в надежде увидеть того, кто еще недавно был для них почти полуреальным существом — самого царя, хотя бы и низвергнутого.
Вскоре после того, как новые обитатели губернаторского дома устроились в нем, Марфу Мезенцеву, хозяйку тобольского подворья женского монастыря, удостоил своим посещением видный тобольский протопоп, настоятель Благовещенской церкви, отец Алексей. Назначенный духовником царской семьи, он стал знаменитым в городе лицом, ходил важно, прямя сутулую спину и закинув голову, словно даже прибавился ростом.
Сняв шляпу, благословив привычным жестом хозяйку, он сунул ей руку для поцелуя и, не садясь, приступил к делу. Необходимо было немедля передать игуменье важное поручение владыки — подобрать лицом и статью видных, нравом достойных четырех благогласных певчих из монастырского хора. Для ответственного дела — участия в церковных службах, проводимых по желанию августейшего семейства прямо в доме, в связи с тем что разрешения на частое посещение храма получено не было.
Не чуя ног понеслась в тот же час Марфа в монастырь, чтобы передать необычное поручение. Строгая игуменья, мать Мария, благоговейно выслушала свою любимицу, бойкую хозяйку подворья, и, осенив себя крестным знамением, распорядилась отобрать четырех монахинь, а лучше — послушниц, и направить их на подворье, поручив заботам Марфы. А кроме того, повелела ей взять на себя и заботу о снабжении монаршего семейства продуктами из монастырских погребов и кладовых.
С тех пор Мезенцева стала в приемной губернаторского дома своим человеком. Обслуга, особенно царский камердинер Терентий Иванович Чемодуров, привыкла к ней, видя почти ежедневно ее крупную, статную фигуру с солидной корзиной в руках. Знали, что там то яички свеженькие, то сливки и маслице отборные, то медок пахучий с монастырской пасеки, то стерлядки, еще хвостами бьющие. А то и бутылочки нектарно-сладкой святой наливочки, по собственному матушкиному рецепту приготовленной.
Со временем визиты стали реже — усилились строгости охраны, и Марфе все чаще приходилось уносить от ворот губернаторского дома обратно на подворье тяжелые корзины с провизией. А потом передачи и совсем прекратились — новая власть, Тобольский Совет распорядился об этом. Но Марфу не забывали, нет-нет да кто-нибудь из вольно ходящих царских слуг заглядывал в ее уютную горенку на подворье.
Пришло время, и начал пустеть губернаторский дом. Сначала ранним весенним утром вывезли в Екатеринбург Николая с женой и с дочерью Марией, а месяц спустя, в мае, и остальных, во главе с Алексеем.
Перед тем как уехать последней партии, к Марфе Андреевне пожаловал давно не навещавщий ее Терентий Чемодуров. Царский камердинер, потоптавшись у порога и прислушавшись к тому, что делается в соседних комнатах, не снимая пальто, прошел к окнам и, заглянув в них, задернул занавески. Потом сел спиной к двери и вытащил из потрепанного и грязного мешка солидных размеров узелок. Положил его на стол, прикрыв углом скатерти.
— Большое дело до тебя, Марфа Андреевна… — начал он негромко. — Такое дело, что не всякому доверить можно. Ты, знаю — верный богу и царю человек, тебе можно. Вот, слушай. Царская святыня здесь, — положил он руку на бугрившийся под скатертью узелок. — Доставить надо игуменье. Что и зачем — она знает, с ней уговорено. Да так, смотри, доставь, чтобы ни одна душа, кроме нас с тобой, не знала об этом. Ни намеком даже, ни подозрением. Чуешь, какой грех на душу примешь, если что не так? Перед самим богом в ответе… И — не мешкай. Как уйду, беги в обитель.
Марфа была и польщена доверием и испугана обузой тайны. Но, склонив в смиренном поклоне голову, заверила:
— Будь спокоен, батюшка Терентий Иванович, все сделаю, как наказано. Как дела-то ваши, что о государе слышно?
Чемодуров вместо ответа махнул рукой.
— Ну, в добрый час, — встав, заявил он торжественно.
Они перекрестились на иконы, и Чемодуров, нахлобучив поглубже шапку и подняв воротник, ушел.
Игуменья встретила Марфу с волнением. Провела к себе в опочивальню. Видно было, что она хотя и ожидала этого послания, но не была еще готова к нему. Перекрестившись трижды, прежде чем взять в руки узел, она сунула его под подушку и испытующе посмотрела на Мезенцеву. Потом с сиплым шепотом наклонилась к уху:
— Смотри у меня! Тайна сия велика есть. Ни одной душе никогда ни слова, ни полслова, ни видом, ни помыслом… Клятву богу дашь. Страшную клятву. Становись под образа, — толкнула она Марфу к киоту с негасимой лампадой. — Клади руку на святое евангелие. Повторяй за мной…
И сейчас с трепетом вспоминает Марфа слова страшной, душу леденящей клятвы, повторенные ею с дрожью в голосе вслед за зловещим шепотом игуменьи в полутемной, озаренной лишь мутным мерцанием лампад, пропахшей ладаном сводчатой келье. Думала тогда: режь, жги ее, жилы вытягивай, любой смерти предай — ничего она не скажет. Никому, никогда! А вот…
Но все же, передав игуменье жгущий руки страшный узелок, Мезенцева несколько успокоилась — судьба святыни теперь не в ее руках, не ее это дело. Ничего она не знает, а что знала — забыла…
Но оказалось, что главные хлопоты и тревоги не позади, а впереди.
В середине июня в город ворвались первые отряды белых войск. Колокольным звоном встретили их церкви и монастыри, служили молебны. Но «освободители», милостиво приняв почести и славословия, ожидаемого почтения святым обителям не оказали. С монастырей и церквей потребовали дань в фонд «защиты отечества» — продуктами и деньгами. Назначенная Сибирским правительством «Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию обстоятельств расстрела царской семьи», прибывшая вскоре в Тобольск, учинила обстоятельный и пристрастный допрос всем причастным к сношениям с губернаторским домом. В том числе и духовенству. И, как ни странно, интересовались при этом не столько судьбой царской семьи, сколько судьбой ее имущества. Пороли обывателей, прельстившихся в свое время «реликвиями» на аукционе имущества, оставшегося после отъезда Романовых из Тобольска. Царского духовника, отца Алексея, в клоповник садили, обыск в его доме дважды учиняли. Слуг, вернувшихся в Тобольск, к семьям, без особых церемоний допрашивали и обыскивали, не гнушаясь и угрозами.
Не миновала чаша сия и монастыря. Тоже допрашивали и искали царские ценности, могущие попасть в святую казну. Но больно уж щелкоперистый, авантюристический народец вел это дело — заботились, сразу видно, не о царе и его семье, а о себе. Чашку с гербом и вензелем императора, презрительно повертев в руках, небрежно отбрасывали назад владельцу, а бриллиантовое колечко или осыпанную самоцветами золотую панагию, явно никогда не принадлежавшую к дворцовому имуществу, с алчно загоревшимся взглядом прятали в карман — нашему вору все впору. Страху натерпелась и Марфа. Не забыть ей, как небритый хмельной подпоручик из контрразведки, сын тюменского пароходчика, допытывался — где золото, что сдавали в монастырь при отступлении купцы. Но, слава владычице, пронесло.
Год с лишним, что хозяйничали белые в Тобольске, оказался нелегким. Особенно в конце июля 1919 года, когда блюхеровская 51-я дивизия подступила вплотную к городу. Ох, и лютовали же, и грабили же тогда колчаковцы, чуя скорый конец! Сотни людей — за что про что? — предали лютой смерти. Грабили и богатого и бедного. Не пощадили и монастыри, что сумели, прихватили с собой из добра обители, мобилизовав «в дар» православному воинству.
В октябре, после почти трехмесячной, с переменным успехом, борьбы за город, красные окончательно утвердились в Тобольске. Марфа к тому времени решила принять постриг. Игуменья обещала сделать ее благочинной — матушка умела ценить заслуги перед монастырем и перед нею.
Новой власти было не до монастырей — бандитизм, разруха, голод одолевали страну. Двадцатый год прожили, считай, спокойно за толстыми стенами обители.
А в феврале следующего — опять двадцать пять: в уезде вспыхнуло кулацкое восстание. Возглавил его колчаковский полковник Силин, беглый белочешский офицер Святош, эсеры. Малочисленный красный гарнизон Тобольска вынужден был оставить город. Полтора месяца хозяйничали в нем повстанцы. И, как мухи к меду, липли к монастырям, знали, что там есть чем поживиться отощавшей и оборвавшейся в лесах «зеленой армии».
И поживлялись, чем могли, чем успевали. Опять пошли у монашек тревожные ночи — а как найдут основное добро, святыни?! Но бандиты не нашли, не было времени на обстоятельный поиск. Замучив на прощанье две с половиной сотни ни в чем не повинных людей, сжигая на пути села, недобитые остатки зеленых рассыпались по окрестным лесам. В город снова пришел покой и порядок.
Жизнь стала входить в нормальную колею. Снова зазвонили, созывая к обедням и вечерням, церковные колокола, снова потянулись к монастырям богомольцы и странники, хотя уж не в таком количестве, как прежде. Два спокойных, почти совсем как прежде, года. Марфа Мезенцева стала зваться матерью Рахилью — приняла постриг и стала благочинной, как и обещала игуменья.
И тут — новая беда. Весной двадцать второго года новая власть потребовала от церквей и монастырей участия в спасении народа от страшной беды — всеобщего голода. Сам Ленин писал об этом письмо. В газетах печатали заметки о сознательных священниках, честно доставивших государству осыпанные драгоценностями золотые кресты, митры с несметно стоящими каменьями, золотые потиры и блюда, жертвованные некогда в порыве хвастливого благодетельства купцами, замаливавшими свои большие и малые грехи перед богом и людьми.
Но печатались и другие заметки — об упорном и злобном сопротивлении распоряжениям властей, об изобретательных ухищрениях святых отцов по сокрытию ценностей, а то и о прямом сопротивлении. Но утаить ценности было не просто — еще в первые годы Советской власти они были взяты на учет, внесены в описи.
Волна эта вплотную подошла к Ивановскому монастырю уже где-то к следующей зиме. До этого как-то бог пас, удавалось игуменье изворачиваться. А тут отвертеться стало невозможно — за дело взялась Чека. Игуменья заняла прочную оборону: на предложение о сдаче ценностей ответила категорическим «нет» и отдала команду упрятать все то, что еще осталось неспрятанным или было вынуто из тайников за эти годы. Снова пошли таскаться монашки по колокольням и подвалам, запечатывая в старые и новые тайники золотые и серебряные изделия, посуду и драгоценные оклады икон и евангелий, отвозили на дальние заимки подводы с серебряными паникадилами и подсвечниками, обозы с продуктами. Кое-что сваливали прямо в реку: не нам, так и не вам, нехристи! Доходило дело и до прямого сопротивления: кто-то бросил ключи от кладовых в колодец — идите, ломайте пудовые замки да двери железные; кто-то телом своим закрыл вход в соборный придел, раскинув руки поперек двери и вопя «не пущу, иродово семя!». Но не помогло, многие тайники были найдены. Поделили найденное вроде по-божески: это вам положено, на это не посягаем, а это вот придется взять — истощенным ребятишкам Поволжья хоть кусок хлеба за это достанется в их костлявые ручонки, может, и удастся спасти от жуткой голодной смерти.
В те суетные и тревожные дни Марфе неожиданно принесли недобрую весть из дома — мать при смерти и желает перед кончиной увидеть ее. Испросив у игуменьи благословения, Мезенцева, наскоро собравшись, тронулась в путь. Игуменья на прощанье наспех перекрестила ее и, думая о чем-то своем, сказала: «Долго-то не задерживайся. Сама видишь, что деется. Нужна будешь — вызову».
Едва успела Мезенцева похоронить мать, не сумела еще и первые поминки справить, как из монастыря примчался посланец: матушка-де немедля требует к себе, только — в тайности, приехать чтоб ночью или под утро.
Марфа, не мешкая, собралась и с тем же посыльным выехала. Не доехав до монастыря, отпустила возницу, дождалась за ближним озером ночи и неслышной тенью проскользнула в покои игуменьи.
Матушка не спала. Без чепца, в неопрятном бурнусе поверх мятой фланелевой сорочки, шумно дыша, она сидела в кресле с евангелием в руках. В жарко натопленной келье тревожно перемигивались огоньки лампад. Пахло каким-то лекарством.
— Прибыла. Ладно, — просипела она, перекрестив Марфу и сунув ей руку для поцелуя. — Садись, в ногах правды нет.
Марфа села, сдерживая взволнованное дыхание.
— Слушаю, матушка.
— Внимай. Все запоминай. А как сделаешь — все забудь. Ясно тебе? — сверлила ее глазами игуменья, подавшись вперед и вцепившись в поручни кресла. — Подойди к киоту. Видишь образ Параскевы Пятницы? Вынь его, — приказывала она отрывисто.
Отогнув крепящие уголки, Марфа вынула из пазов киота икону. В открывшемся ящике на полке стояла шкатулка.
— Видишь? Давай ее сюда, — продолжала распоряжаться игуменья.
Марфа бережно поставила шкатулку на стол. Вложила икону на место и встала в ожидании дальнейших указаний. Игуменья, торжественно перекрестившись, медленно приподняла крышку шкатулки. Марфа закрыла глаза — так неожиданен и нестерпим был волшебный сноп переливчатых искр, брызнувший оттуда.
— Тайна сия велика есть, — слышала она, не открывая глаз, сиплый голос игуменьи. — Помнишь, клятву давала? Настала пора тебе свое назначение выполнить… Да ты спишь, что ли? — окрикнула она Марфу.
— Слушаю, матушка, — открыла глаза Мезенцева.
— Вещи эти завернешь в вату и в плат освященный. Потом зашей в клеенку, а поверх — в парусину просмоленную. Шкатулку пустую на место поставь. Внутрь высыпь вот это, — и она ткнула скрюченным пальцем в коробку, стоящую на подоконнике. — Там бисер. Ну, давай с богом.
Трясущимися руками Марфа стала доставать пригоршнями содержимое шкатулки и выкладывать на стол, стараясь смотреть в сторону, а иногда и вовсе невольно закрывая глаза.
А игуменья, навалившись тучной грудью на стол, горящими от возбуждения глазами разглядывала мерцающие в тусклом свете лампад драгоценности. Дряблые отечные щеки ее горели лихорадочной синевой.
— Эка брошка-то богатая! Изумруд-от так и горит, так и горит огнем неземным среди искорок бриллиантовых… Подвески-то сколь баски! На портретах ее, матушки-царицы, видала… Да бережней ты, дура! — прикрикнула она на Мезенцеву, когда та выронила что-то из трясущихся рук на пол.
— Ожерелье бриллиантовое с камнем аметистом. Богатство-то какое! Сотни тыщ, поди, стоит… — продолжала игуменья, положив свои крупные руки на стол, почти касаясь ими сокровищ и царапая ногтями скатерть. — Аметист — архиерейский камень. У архиереев в митре первое дело аметист. И на посохе тоже. Сыздавна так идет. Слыхала, что и у католических владык тако же. Кардиналу новому папа римский допрежь всего кольцо с аметистом дарил — с назначением тебя, дескать. Ране-то, в старые времена, говорят, цена ему была такая же, как алмазу… А еще будто, кто к винному зелью пристрастен, камень этот жаловали. Поверье такое есть — аметист от пьянства спасает, пары винные в себя вбирает. Отсюда и прозвание ему греки дали — непьяный камень. Может, поэтому носили его епископы; грешно им пить-то. Погоди-ка… — оборвала себя игуменья. — Еще одно присовокупить сюда надо.
Она с натугой поднялась с кресла и, опираясь на встречные предметы, добралась до аналоя, стоящего перед киотом. Откинув покрывало, приподняла наклонную крышку его, достала из потайного ящика кожаный мешок и высыпала из него на стол груду золотых и серебряных, усыпанных драгоценными камнями, вещей.
— Гермогеново да Варнавино добро, епископов наших тобольских, — хрипела игуменья, перебирая вещи. — Наперсный крест с жемчугами да изумрудами. Еще — с аквамаринами. С александритом, что ночью, при лампаде, красным огнем сияет, а днем — зеленый. Любили владыки камешки баские… Панагия с рубинами, на золотой цепи — патриаршья награда. Еще панагия, эта с жемчугом. Перламутровая, с бриллиантами… Кажись, к коронованию Варнаве даденая. А это вот мой крест, игуменский, купчиха Лыкова при доброхотном вкладе своем в монастырь преподнесла. Мужа со свету сжила, угару в комнату его ночью напустила, вот и замаливала грех-то. Зато сама хозяйкой стала, приказчика, с коим давно путалась, в мужья взяла… Завертывай все вместе — и царское, и наше. Полежат вместе, не подерутся, — осклабилась она.
Непослушными, словно одеревеневшими руками Марфа автоматически, подчиняясь подсказам игуменьи, завертывала вещи. Все эти сверкающие броши, подвески, кольца, часы при прикосновении к ним словно жгли руки, и она не раз испуганно отдергивала их, зажмуривалась. А игуменья сипло, зловещим шепотом продолжала свои наставления:
— Куда спрятать — сама решай. На меня теперь не рассчитывай. За мной послезавтра придут. Селафаила, дура, прости меня господи, потиры золотые куда-то спрятала, а куда — забыла. Чека с меня требует, а я бы и отдала, да где возьму. Обыском всеобщим грозят. В монастыре пока сей сверток прятать нельзя. Поедешь снова в деревню и увезешь с собой. Пуще глаза храни, ни на шаг не отходи. С ним, добром-то, и спи. А как заслышишь, что успокоилось у нас тут, вези обратно. А лучше бы… — приостановилась она, задумавшись. — Обитель, все одно, в покое не оставят. Надо другое место искать. И думаю я вот что. Обратись-ка ты от моего и от своего имени… тебя-то уж он уважит, — криво усмехнулась она, — к Василию Михайловичу, к Томилову. Мужик он верный — честный, твердый, богобоязненный, в новую власть не верит, старой ждет не дождется. Дом у него свой, с виду не броский, а добрый, надежный. Сам Василий-то не из крупных воротил, да и притих вовремя, на него с обысками да конфискациями не пойдут, не та птица. Серой пичугой сокол прикинулся. Ему в самую пору такую святыню хранить… А впрочем, как знаешь — вся надежда теперь на тебя и ни на кого более. Помни: об этом знаем только мы с тобой, что передаю я тебе все это. Ни одна душа не знает. Ни из наших, ни из мирских. Новую клятву не беру с тебя, и той хватит.
— Ой хватит! И после смерти, наверное, помнить буду, — простонала Марфа.
Когда все было кончено, сверток был плотно упакован, в окно проглянул жидкий рассвет, в приемной, через комнату, завозились келейницы. В корпусе напротив замигали огни — монахини подымались к заутрене.
— Пора… — забеспокоилась игуменья, прислушиваясь к звукам просыпающейся обители. — Накинь платок, так чтобы никто не узнал тебя, если и встретит. А лучше — никому на глаза не показывайся. Иди через сад к задней калитке. Вот ключ. А там в леске подожди, я подводу пошлю.
Час спустя Марфа ехала по прибитой ночным дождичком дороге, дрожащими руками прижимая к себе мешок с тяжелым узелком на дне его.
Вот когда начались они, подлинные мучения. Когда иной раз и жизни не рад, нося ежечасно, ежеминутно знойную тревогу за судьбу доверенной святыни, за клятву страшную, за ответственность перед богом и перед тем, кто придет потом и потребует…
Вернувшись, спустя чуть не месяц, из своего села, Марфа в Тобольске Томилова не нашла — уехал под Обдорск потихоньку сбивать рыбацкие артели к весенней путине, меха у туземцев скупать. Ожил Василий Михайлович, в рост снова пошел.
А где хранить? Сперва в келье у себя держала под половицей и, бродя по лесу, по монастырю ли, по городу, все приглядывалась, где бы схоронить надежно кладь опасную. Каждый дом, каждую лесенку, каждый камень осматривала с этой мыслью — словно наваждение. «Уж не рехнулась ли я?» — думала она порой.
В могилу свежую усопшей монахини Таисии зарыла однажды. А неделя прошла, не утерпела, выкопала и обратно принесла — как магнитом к могиле ее тянет, все около нее крутится, подозрения навлечь можно.
А тут, как на грех, как-то под утро спросонья толстая Препедигна в соседней келье во весь голос заорала: «Обыск! Чека идет!» Не помня себя, выбежала на огород Марфа, прижимая к груди под рубашкой узелок, ценой сорванных ногтей добытый из-под половицы. Бросила его, не соображая, что делает, в колодец.
Бросить-то бросила, а достать как? Вот и вокруг колодца стала ходить, как приклеенная, хоть колодец-то заброшенный, давно уж никто из него воду не берет. С тех пор как кошка в нем утонула, другой выкопали, поближе.
Тут подошла зима, занесло огород снегом, и несколько успокоилась Марфа — кто зимой к тому колодцу пойдет? Однако каждое утро бежала смотреть, нет ли следов на снегу, не шастал ли кто в ту сторону.
Побывала за это время и у Томилова. Поведала про мороку свою, сказала о наказе игуменьи покойной. Василий Михайлович сосредоточенно выслушал, пообещал помочь весной, достать узел из колодца. Но на предложение взять его себе на сохранение ответил уклончиво — там-де видно будет.
Снова потекли для Марфы то спокойные, то тревожные дни и ночи. Когда временами казалось, что вот лежит он себе на дне колодца, этот злополучный узелок, и никакой человечине нет до него дела, значит, нечего волноваться и изнемогать от страха, можно спать спокойно и безмятежно. А иногда накатывала гнетущая тоска и какая-то сумасшедшая, изводящая душу тревога. Темной ночью просыпалась в поту от ноющего под сердцем страха и бросалась к окну, вглядывалась в узенькое оконце кельи, сквозь переплет тополиных ветвей на белую пустыню огорода. Долго стояла босая, вцепившись руками в косяк окна, слушая гулко стучавшее сердце…
По весне Василий Михайлович достал узелок и вычистил заодно колодец — за этим-де и приходил. Но принять клад к себе опять отказался — дома бывает сейчас редко, все больше в разъездах, мало что может случиться в отсутствие. Марфа снова унесла узел в келью. Сказавшись больной, подолгу, неделями не выходила на люди.
А тут подошло и то, чего все опасались, но о чем давно поговаривали, — решение о закрытии монастыря.
Зажужжала обитель, как пчелиный рой, резко разделившись на два лагеря. Одни, смиренно шепча молитвы, собирали тощие узелки и разбредались по селам, заимкам, по городу — к родственникам, к знакомым, к тем, кто может дать угол. Кто помоложе — шли в прислуги, на промыслы, в кустарные мастерские, сбросили рясы, смешались с толпой мирских рабочих людей.
Другие сопротивлялись, как могли, забаррикадировались в кельях, позакрывали на тяжелые замки церкви, склады, мастерские, пряча все подручное. Но с Чека шутки плохи — наиболее ретивых саботажников взяли под стражу.
Под одну такую «зачистку» чуть не попала и Марфа, сиднем сидевшая в своей келье в ожидании выхода из положения. Завидев входящих в монастырь чекистов, накинула платок, уложила узелок в корзинку и — в чем была — черным ходом выбежала во двор. Огородом пробралась к задним воротам и кинулась берегом реки в город. Версты через две, когда купола монастырских храмов скрылись за пригорком, остановилась перевести дух и присела. Мутный Иртыш лениво лизал прибрежную гальку у ее ног. Визгливо голосили чайки, словно крича Марфе: «Чего уселась? Поди прочь!» Она тоскливо смотрела на водную гладь, на щепки и куски коры, беспомощно, как слепые щенки, тычущиеся в берег, и чувствовала, как все тело ее, вся душа наливается отчаяньем.
«Да что же это, господи?! За что мука такая? Зачем мне эта казнь египетская? Живут же люди спокойно, бытием радуются, спят беззаботно, красой мира божьего наслаждаются. А я как в чадном тумане живу, света белого не вижу, душе покоя не нахожу… Да пропади оно пропадом! Бог дал, бог и взял. Не будет на мне греха, если кину я эту обузу в Иртыш, сил моих нет больше, господи!»
Она встала и, сжав в руке тяжелый узелок, широко, через голову, размахнулась «А клятва? — заговорил в ней другой голос. — Клятва страшная, что игуменье перед образами давала в ту душную темную ночь, словно пронизанную снопом переливчатых искр, брызнувших из шкатулки? Бросить всегда успеется. Может, и обойдется, придумается что-то, что снимет бремя с души?»
Марфа бессильно опустила руку и зябко поежилась. Волна, подступавшая к сердцу, отхлынула, уступив место звеневшему в ушах, расслабленному покою.
«А Василий Михайлович? Пойти к нему еще раз. Если уж и теперь откажет, тогда — в воду, в Иртыш эту обузу. Господь с ней, пусть бог покарает ее, как хочет, лучше любая кара, чем этакая жизнь».
И она решительно зашагала к виднеющемуся вдали Тобольску…
— Что ты, что ты? — замахал на нее руками Томилов, услышав ее решение. — И думать не моги. В Иртыш!.. Разве это можно? А установится настоящая власть, прежний порядок, тогда ведь с тебя отчет спросят. В Иртыш заставят лезть, по дну шарить.
— Что же делать-то? Измучилась я. Лучше жизни решиться… — простонала Марфа.
Томилов задумчиво поскреб бороду.
— Коль такое дело, давай сюда, разделю с тобой докуку эту. С тобой добро-то?
— Со мной, будь сно неладное, — облегченно вздохнула Марфа.
— Давай пока… До завтра. С утра я своих отправлю куда-нибудь на весь день, а ты приходи. Утро вечера мудренее, что-то придумаем, найдем добру место.
На другой день он привел Марфу в подполье и выложил свой план: закопать клад в дальнем отсеке, а проход в него наглухо закрыть ларем — помещения и так хватает. Так и сделали. Только сверток разделили на две части и разложили их в две стеклянные банки, а те, в свою очередь, в дуплянки из-под масла. Залили внутренность и крышки воском и для надежности еще завернули каждую в отдельности в брезент. Затрамбовав яму с захороненными в ней дуплянками, смазали для верности весь пол жидкой глиной, загладили и посыпали мусором. Марфа, перекрестив потный лоб, шумно вздохнула:
— Все. Слава тебе, господи. Словно камень с души… Томилов притащил два кряжистых лежня, вкопал их до половины в земляной пол, поставил на них большой деревянный ларь, наглухо прикрывший проем в другой отсек, и прибил его к лежням железными плотницкими ершами.
— Вроде теперь надежно. Не сыскать никому, — удовлетворенно сказал он, оглядывая подполье.
Надежно-то — надежно, а время снова понесло свои козни на Марфу. Словно бы все наладилось. «Святыня» в покое, под боком. Уйдя из монастыря, поступила в услужение к архиепископу Назарию, проживая то у него, то в доме Томилова, где издавна считалась своей, особо привечаемая богомольной матерью Василия Михайловича, еще в давние поры мечтавшей видеть ее своей невесткой.
А вот на поди, — пришлось опять переживать, принять сумятицу в душу. В одну из ночей исчез Василий Михайлович, заранее отправив семейство к тетке в Ишим. Марфа попробовала через подставных лиц взять дом за себя, но просчиталась, не запаслась необходимым документом, и дом перешел в горсовет. А поселились в нем — кто бы мог подумать — милиционеры! С тех пор вроде и хозяйка она клада, а вроде и нет. Даже когда удалось на время получить доступ в подполье, и то — близок локоть, да не укусишь. Сидя у освещенного фонарем ларя и перебирая в нем, для виду, проросшие картофелины, она с тоской думала о том, когда же наконец господь снимет с нее это бремя. Стук брошенной в ларь картофелины заставлял ее вздрагивать, вспоминая первые комья земли, брошенные Томиловым на укрытые досками в яме кадушки.
«Стук — стук!» — отдавалось тогда и в ее сердце.
* * *
Стук ударившейся о дерево лопаты словно пробудил Мезенцеву. Она всмотрелась в открытую яму. В глубине ее, среди черной жирной земли, тускло желтела отковырнутая от доски трухлявая щепка. Все подались ближе к яме. Саидов, не выпуская лопаты, остановился и вытер со лба пот.
— Все, — про себя, чуть слышно прошептала Марфа, смахивая прокатившуюся по щеке слезу. — Все. Конец мучениям… А может, начало новым? О господи, господи!..
Передохнувший Саидов уже зачищал остатки земли с досок, аккуратно и бережно укладывая ее на выросший около ямки холмик.
Михеев встал на колени и склонился над ямой. Затем, взяв ломик, решительно ковырнул им трухлявые доски. Осклизлые гнилушки брызнули на стенки ямы, обнажив конусообразные брезентовые свертки. Саидов торжественно вынул их и поставил на краю ямы.
— Это? — хриплым от волнения голосом спросил Михеев, оглянувшись на неподвижно стоящих Томилова и Мезенцеву.
Томилов молча кивнул головой, сглотнув слюну…
Михеев взрезал ножом просмоленную оболочку. Под ней обнажились стянутые обручами потускневшие клепки дубовой кадушки, в каких обычно хранят масло или мед. Вскрыв залитую воском крышку, он вытащил из кадушки стеклянную банку с притертой пробкой. Внутри ее, проложенные ватой, были плотно набиты кольца, браслеты, ожерелья… Михеев медленно, пожалуй даже торжественно, приподнял банку в руках, поворачивая ее перед светом. Тысячью искр засверкали проглядывавшие сквозь вату грани самоцветов, жарко заблистало полированное золото.
— Все, — выдохнул Михеев. И, бережно прижав к груди кадушки, направился наверх.
Эпилог

— Пиши: кулон с бриллиантом, аметистом и плетеным жемчугом… Бриллиант на пять карат. Аметист… Да на жемчуг… Пиши: шесть тысяч золотом…
…Прямо с вокзала Михеева вместе с ценностями доставили в кабинет к Свиридову. Высыпав на стол содержимое банок и разровняв по зеленому сукну сверкающую груду золота и самоцветов, Михеев и сам замер от восхищения. Благородная красота созданных природой богатств, в соединении с вдохновенным искусством человеческих рук, покоряла своим величием. Разве одними рублями оценишь это!
Свиридов, медленно обходя стол, шумно крякал от восхищения, довольно похлопывал по плечу замершего с пустой банкой в руках Михеева. Хватнув со стола какую-то замысловатую вещицу, взвешивал ее на руке и подмигивал Патракову:
— Сила! А?
Патраков стоял молча, заложив руки назад и неторопливо, но цепко оглядывал разложенные вещи. Казалось, он равнодушен к ним — так спокоен и безразличен он внешне. Но иногда надолго задержавшийся на чем-то задумчивый взгляд выдавал его — всегда угрюмоватое лицо как бы светлело, прояснялось.
— Как думаешь, на сколько это потянет? — спрашивал его Свиридов, очерчивая рукой круг над столом.
— Не знаю, — отвечал, не отрывая взгляда от стола, Патраков. — Эксперты подсчитают.
— Вот, вот — подхватил Свиридов. — Давай их скорее, пусть считают. А ты, герой, — хлопнул он снова Михеева по плечу, — пиши давай рапорт. Самому! — поднял он вверх палец.
— Пиши: брошка агатовая с осыпью розочками. Больше четвертной не стоит — работа дешевая, без души делано. Кухарка разве такую нацепит… Браслет золотой, дутый, с четырьмя аквамаринами. Камни дорогие, а считай — испорчены. Без смыслу натыканы, да и грань не та — игры нет. Постой… Тут не иначе, как двое или трое один камень гранили… Так и есть.
— Как это вы узнали, Петр Акимович?
— А чего тут знать-то, всякому видно. Когда камень гранишь, никому не передавай и сам на другое не отрывайся — игры не будет. Это уж закон такой. Камень он руку твердую любит, хозяйскую. Как, например, лошадь норовистая — хозяина с полслова понимает, а чужому и дотронуться не дает… Нет, плохой камень, в перегранку его надо. Да и вещица вся разве только кабацкой девице впору — понимающему человеку ее и надеть стыдно…
Теперь, когда Михеев имел возможность пристальнее и внимательнее ознакомиться с каждой вещицей в
отдельности, он тоже уловил эту поразительную разнохарактерность драгоценных украшений, их разностильность и разновкусицу.
Рядом с вещами высокой ценности, истинными шедеврами ювелирного искусства, можно сказать — национальной гордостью, соседствовали дешевые, безвкусные поделки, мещанский ширпотреб. Розочки, сердечки, сентиментальные надписи на брелочках… Дутое золото, ко торое и купчихи уже со времен Островского перестали носить…
Да, прав поэт русского драгоценного камня и выдающийся знаток его академик Ферсман, заявив: «Архивы открывают нам — последние русские цари не умели ценить русский камень… Погибли исторические камни, пошли на слом прекрасные изделия, проданы по дешевке с аукциона». Только в 1906 году «Кабинет его императорского величества» продал более чем на миллион золотых рублей камней, в том числе уникальные русские изумруды, старинные аметисты. Зато убогая безвкусная дешевка, пусть иногда и очень дорогая по материалу, потекла рекой в шкатулки цариц и великих княжен.
Вот брошка в виде русского трехцветного флага — трешки не стоит, да и то только если обратить в чистое золото. Браслет с брелочком «1914» — опять же только бери на вес, иначе ничего не стоит… А что это за цифра на нем — 1914? Что за памятное событие захотела отметить бывшая императрица этим мещанским сувениром? Уж не память ли о скандальной связи с генералом Орловым, ее «Соловушкой», связи, слухи о которой дошли до самого Николая? Николай тогда в гневе надавал супруге пощечин (свидетельствует Анна Вырубова!) и распорядился выслать этого надменно-красивого усача в Египет… Но, кажется, это было не в 1914-м, а раньше…
А вот еще брелок — с цифрой «1912». Еще какая-то память. А это? «Фашистский знак» — назвал его в описи Блиновских. Но Михеев уже знал, что это такое. Знак свастики, который немецкие фашисты сделали эмблемой своей партии, родился задолго до них. Он известен археологам еще с каменного века. В древней Индии почитался священным знаком, символом огня и солнца. Но еще задолго до фашистов его «принял на вооружение», сделал своей тайной эмблемой кружок фрейлины Анны Вырубовой, ярой почитательницы и верной слуги Распутина. В этот кружок входила и Александра Федоровна.
— …Пиши, — продолжал диктовать Блиновских, — часики дамские, эмалевые, с цепочкой жемчужной, с гравированной монограммой «ТН»… Татьяны Николаевны, значит… Еще часы. Ручные, с браслеткой бриллиантовой. Рублей на двести пятьдесят бриллиантов будет. Но часики ржавые, в дело не годятся…
— Не прошло им даром купанье в колодце, — вспомнил Михеев.
— Пиши дальше, товарищ Михеев. Кулон бриллиантовый с изумрудной вставкой. Вещь редкостная, государственная…
…Государственная! Вот именно, старик прав. Такие вещи — гордость национальной сокровищницы, ее «неделимый фонд», как, скажем, рублевская «Троица». Это не продается и не дарится. Это шедевр искусства — всенародная собственность, а не игрушка для прихоти венценосной модницы.
Это понимал еще Петр I. В 1719 году он принял решение об особом хранении «подлежащих государству» драгоценностей и выработал для этого специальный «регламент». Как государственные регалии, так и драгоценности, хранимые до этого в шкатулках цариц, он повелел хранить в камеральной части.
Однако после смерти Петра многие его наказы забылись. Веселая, любившая гульнуть и пошиковать, «им-ператрикс Елисавет» снова перетащила многое из камеральной части к себе в опочивальню. Старались не отстать от нее и другие. Раздаривали любовникам и именитым заморским гостям. Оплачивали щекотливые услуги. Под нажимом бережливых царедворцев, понимавших, что растаскивание государственных сокровищ к добру не приведет, в 1856 году пришлось издать высочайший указ: «Хранящиеся в бриллиантовом кабинете Зимнего дворца бриллианты и разные украшенные оными предметы переместить в Галлерею драгоценностей Эрмитажа, соединив оные с подобными же вещами, выставленными в шкафах сей галлереи». То есть приравняли их к музейным экспонатам, надзор за которыми уже был вне поля зрения царя. Но, поскольку при отборе таких вещей для Эрмитажа многое еще по-прежнему оставалось в личных царских покоях, пришлось принимать еще одно постановление. В 1884 году присмотр за оставшимися драгоценностями от доверенных лиц перешел в ведение Государственного контроля. Постановление подчеркивало, что отныне драгоценности являются собственностью государства и им должна вестись строгая отчетность, наравне с государственным имуществом.
Потребовалось более полутора столетий, чтобы мысль Петра хоть как-то приблизилась к осуществлению. Но и при этом самодержцы всероссийские умудрялись ташить многое в свои дворцовые норы, по-прежнему считая все своим, личным, хотя не имели на это никакого юридического права.
— Какой у нас там порядковый номер, товарищ Михеев? — доставая очередную вещицу, осведомился Блиновских. — Сто восемьдесят четвертый? Пиши… э-э, этому и названия не подберешь…
Оба старика застыли, восхищенные огромным голубоватым бриллиантом в ажурной, искусной работы, оправе.
— Взвесь, Данилович. Я не могу, руки дрожат.
— Жаль извлекать-то его. Еще оправу повредишь, — мялся Колташев. — Вот если вместе с оправой, а потом вычесть ее…
— Давай с оправой.
Калташев бережно, словно раскаленный уголек, взял в свои грубые, плохо гнущиеся пальцы бриллиант и положил его на весы. Чашечка резко опустилась вниз, задрав вверх другой конец коромысла.
— Сколько? — нагнулся к весам Блиновских.
— Чистых сто карат, — выдохнул Колташев. — Может, карата на два прошибся, не больше.
…Сто карат! Это же уникум — один из тех, о которых пишут книги, судьбу которых прослеживают везде, где бы они ни оказались. Один из тех, которым присваиваются, как людям, звучные личные имена. За всю историю человечества не набралось и двух десятков таких камней, вес которых превышал сто карат. Если быть точным — их было всего пятнадцать.
Среди них — исполинский «Кюллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке и хранящийся ныне в сокровищнице британских королей, в Уэкфилдской башне лондонского Тауэра; легендарный «Великий Могол», родом из Индии, сверкающий ныне под именем «Кохинор» (гора света) в британской короне; индийский же родом «Регент», проданный в XVIII веке герцогу Орлеанскому за три с половиной миллионов франков; «Джонкер» из Претории (Южная Африка), купленный банкиром Гарри Уинстоном за полтораста тысяч фунтов стерлингов. Только один бриллиант из побывавших когда-либо в русских сокровищницах весил более ста карат. Это знаменитый «Орлов», найденный в XVII столетии в Индии, сменивший за свою жизнь при разных, иногда очень запутанных обстоятельствах, многих владельцев и подаренный в 1773 году графом Орловым Екатерине II. Вставленный потом в скипетр русских царей, он стал одной из важнейших государственных регалий. Снимки с него можно увидеть в сотнях книг. Теперь он нашел себе пристанище в стальных сейфах Государственного алмазного фонда.
Даже знаменитый «Шах», который персидский шах Аббас Мирза преподнес Николаю I, чтобы умилостивить его в связи с убийством русского посла в Тегеране, писателя А. С. Грибоедова, весил лишь 87 карат.
А тут — сто карат! Было от чего благоговейно оцепенеть, держа в руках этот редчайший дар природы…
— Сто восемьдесят пятый, — снова потянулся к коробке Блиновских, с трудом оторвав взгляд от стокаратни-ка. — Пиши…
— Подожди, Петр Акимович… — прервал его Михеев. — Во сколько же мы оценим этот камень?
— Цены ему нет, вот что я скажу тебе, товарищ Михеев. Не знаю, что вот Кондратий Данилович скажет, а я не берусь.
— Это верно, — покачал бородой Колташев. — Цену ему нам не назначить. Если только по весу… Так ведь и вес-то дело хитрое. Если, скажем, два-три карата камень — одна цена за карат. А вот, скажем, десять — уже другая, намного большая.
— Ну, возьмите по той самой высокой ставке, что вам известна, — настаивал Михеев.
— Та, самая высокая, для него низка. Обидна, можно сказать. Тут специалистам судить надо, вроде Ферсмана или того же Фаберже, который все мировые цены самых крупных камней знал… Ну, если по самой высшей, что я знаю, то пиши… Миллион и двести тысяч золотом. Вот сколько. Но это, прямо тебе скажу, не та цена, что он стоит.
— Пусть пока миллион двести числится. В Москве уточнят, — согласился Михеев.
…«Вот так государственные национальные реликвии и попадали нередко в личные шкатулки монархов, нарушавших законы своего же государства, — думал Михеев, глядя на стокаратную брошь. — Как часто они путали государственный карман со своим. И даже в критическую минуту, подписав манифест об отречении от престола, признав себя с тех пор человеком частным, Николай «забыл» передать в государственную казну незаконно хранимые им в своих личных шкатулках вещи. Нечестно поступил Николай Романов, недостойно порядочного человека!..»
— Все, что ли?
— Все, Петр Акимович, все.
— Итого — двести две вещи на сумму… Ну, уж это вы сами подсчитайте, нам счетная работа не с руки…
Блиновских подписал ведомость. Кондратий Данилович, смущенно посапывая носом, поставил три жирных креста.
* * *
Ведомость оформлена, подсчитана и подписана. Ценности упакованы и приготовлены к отправке. Михеев сел писать рапорт.
«Председателю ОГПУ СССР…
Настоящим докладываем, что…»
Продолжить он не сумел.
— Тут такое дело, понимаешь… — встретил его, вызвав к себе, Патраков. — В Тагил надо ехать. Бывшая монашка в Торгсин уже пятый бриллиант сдает. Приезжая. Может в любой день скрыться. Надо распутать — что за этим кроется. Вот билет, вот удостоверение…
Вечером Михеев уже ехал в Тагил. Тобольский узелок был развязан, завязывался новый…
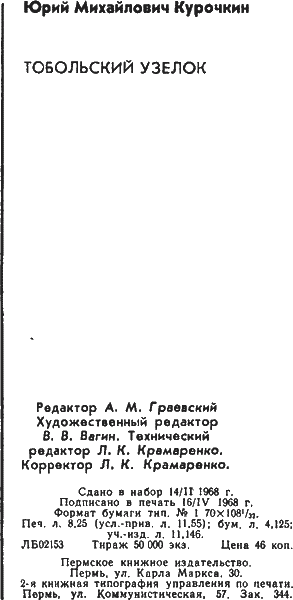
Примечания
1
bijou — бижу — ювелирные драгоценности (фр)
(обратно)
2
Зачем вы впутываете меня в эту грязную историю? Что я вам сделала, что?! (фр.)
(обратно)
3
Но, извините меня... Вы же сами говорили мне об этом, дорогая... (фр.)
(обратно)
Оглавление
ОТ АВТОРА
ПРОЛОГ
Ожерелье царицы
Шпага наследника
Коричневая шкатулка
Клад императора
Эпилог
*** Примечания ***


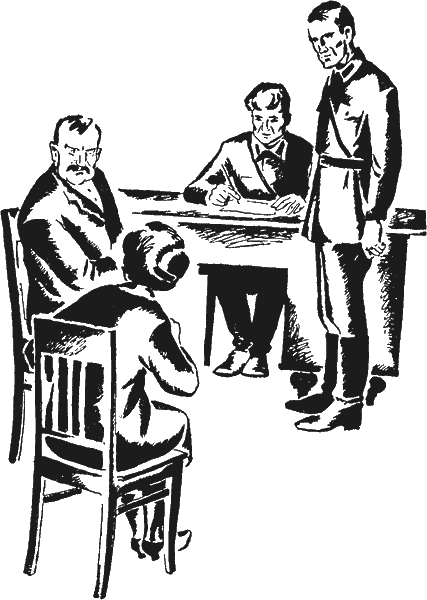
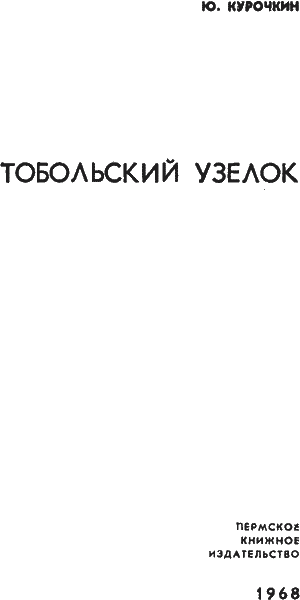
 Изложенная здесь история одной операции, проведенной уральскими чекистами в начале 1930-х годов, не претендует, однако, на документальную хронику ее. Время не сохранило многих подробностей, без которых немыслима полная документальность. Поэтому автор счел себя вправе прибегнуть иногда к смещению событий во времени и в пространстве, к вольной трактовке сцен, свидетелей которых уже нет в живых, к домыслу фактов, возможно, имевших место, но не зафиксированных в документах; наконец — позволил себе представить облик и характер действующих лиц (естественно, в документах не отраженные) такими, какими их подсказывал ход событий, но которые, возможно, на самом деле были иными. В связи с этим автор вынужден был изменить имена многих действующих лиц.
Изложенная здесь история одной операции, проведенной уральскими чекистами в начале 1930-х годов, не претендует, однако, на документальную хронику ее. Время не сохранило многих подробностей, без которых немыслима полная документальность. Поэтому автор счел себя вправе прибегнуть иногда к смещению событий во времени и в пространстве, к вольной трактовке сцен, свидетелей которых уже нет в живых, к домыслу фактов, возможно, имевших место, но не зафиксированных в документах; наконец — позволил себе представить облик и характер действующих лиц (естественно, в документах не отраженные) такими, какими их подсказывал ход событий, но которые, возможно, на самом деле были иными. В связи с этим автор вынужден был изменить имена многих действующих лиц.
 Сегодня Патраков снова держал в руках это письмо. Пришло оно давно, больше года назад, но ему тогда так и не дали ход — начальство не сочло перспективным дело, о котором там говорилось. Однако Патраков оставил письмо у себя и нередко вечерком, закончив работу и уже собравшись домой, доставал его из папки и перечитывал фиолетовые строки, написанные на двух тетрадных листочках модным тогда в канцеляриях пером «рондо».
Сегодня Патраков снова держал в руках это письмо. Пришло оно давно, больше года назад, но ему тогда так и не дали ход — начальство не сочло перспективным дело, о котором там говорилось. Однако Патраков оставил письмо у себя и нередко вечерком, закончив работу и уже собравшись домой, доставал его из папки и перечитывал фиолетовые строки, написанные на двух тетрадных листочках модным тогда в канцеляриях пером «рондо».
 Патраков внимательно выслушал подробный доклад Михеева. Но когда тот заговорил о возвращении в Тобольск, молча достал из папки бумагу и подал ему. Из Омска сообщали, что во Владивостоке на черном рынке был задержан спекулянт-валютчик с золотом и бриллиантами. При допросе показал, что кольцо с бриллиантом он купил в Тюмени у преподавателя каких-то курсов Владимирова. Александр Владимиров, уроженец Тобольска, сын священника, отрицал это и на очной ставке с доставленным в Омск спекулянтом заявил, что видит его в первый раз, поэтому был отпущен, так как спекулянт признал, что мог и ошибиться.
— Так что же теперь? — все еще глядя в бумагу, спросил Михеев. — Версию с монастырем оставить совсем, ради этой — новой?
— А вы попробуйте связать их. Может быть, появится и третья, пугаться нечего.
— Конечно, нечего, — уныло согласился Михеев.
Патраков внимательно выслушал подробный доклад Михеева. Но когда тот заговорил о возвращении в Тобольск, молча достал из папки бумагу и подал ему. Из Омска сообщали, что во Владивостоке на черном рынке был задержан спекулянт-валютчик с золотом и бриллиантами. При допросе показал, что кольцо с бриллиантом он купил в Тюмени у преподавателя каких-то курсов Владимирова. Александр Владимиров, уроженец Тобольска, сын священника, отрицал это и на очной ставке с доставленным в Омск спекулянтом заявил, что видит его в первый раз, поэтому был отпущен, так как спекулянт признал, что мог и ошибиться.
— Так что же теперь? — все еще глядя в бумагу, спросил Михеев. — Версию с монастырем оставить совсем, ради этой — новой?
— А вы попробуйте связать их. Может быть, появится и третья, пугаться нечего.
— Конечно, нечего, — уныло согласился Михеев.
 В эти дни, дни ожиданий и надежд, дорога от дома до Управления была для Михеева нелегкой.
Похрустывал под ногами ледок, застекливший ночью лужицы на булыжной мостовой. В глубине улицы громыхали телеги ломовиков, ленивой чередой тянувшихся к станции. Хлопали щеколды калиток, выпуская из дворов идущих на работу людей… Утро рядового рабочего дня. Каждый спешит занять свое место — за верстаком, у кузнечного горна, за станком, за баранкой автомашины, за письменным столом, за прилавком магазина. Вечером вернется домой, усталый, но довольный — он выполнил свой трудовой долг.
— А ты, Михеев? — спрашивал он себя. — Как ты сегодня выполнишь свой трудовой долг?
Вон тот, только что вышедший из подъезда дядя, с металлическим метром, защемленным за карман куртки, наверное, строитель. Он вечером вернется, зная, что дом, который он строит, поднялся на два-три ряда кирпичей. Поднялся. На столько-то. И это видно. И ему, и всем.
А этот, что озабоченно пересекает улицу, на ходу застегивая немудрящее свое полупальто с залоснившимися от машинного масла рукавами, — наверное, токарь. Ложась спать, он вспомнит десяток выточенных им сияющих стальным отливом деталей какой-то очень нужной машины. Завтра, в другом цехе, из этих деталей родится машина и пойдет служить людям.
И даже вон тот, что идет по той стороне с портфелем под мышкой, — за вечерним чайком с увлечением расскажет жене, как ему сегодня удалось успешно решить вопрос об открытии новой рабочей столовой и даже — ты подумай! — посчастливилось заранее достать для нее комплект посуды, и не каких-нибудь там глиняных мисок, а настоящие фаянсовые тарелки — пусть по-человечески ест рабочий класс!
— А ты, Михеев? Что дашь ты стране сегодня? — пытал себя он. — Ты не поднимешь строящийся дом на два ряда кирпича, не выточишь десятка деталей для новой машины и не раздобудешь посуду для рабочей столовой. Но зато, если… Если развяжешь этот «тобольский узелок» и найдешь узелок с драгоценностями… Сколько новых машин, тракторов, экскаваторов, оборудования для новостроек пятилетки можно будет приобрести на валюту, вырученную от одного только ожерелья, если… Если оно существует, черт его побери, и если его удастся найти…
И, ускорив шаг, он почти вбегал в подъезд, нетерпеливо открывал тяжелую дверь и, пройдя длинный коридор, молча заглядывал в окошко секретарши отдела.
— Вам нет, — коротко отвечала обычно на его немой вопрос Тамара Михайловна, строгая седая женщина, работавшая тут с незапамятных времен и поэтому несколько покровительственно относившаяся к «совсем еще юноше», каким она считала Михеева.
Но сегодня она чуть заметно улыбнулась ему и, взглянув на угол стола, где возвышалась стопка папок с приготовленной почтой, как бы припоминая — что там в них, обнадежила:
— Кажется — есть. Ждите, принесу.
— Тамара Михайловна, милая, дайте хоть взглянуть, — взмолился Михеев.
Но она лишь укоризненно посмотрела на него и, не удостоив ответом, взялась за перо.
Час спустя Михеев читал сообщение Саидова: Каменщиков живет в Тюмени.
Уже от одного этого известия можно было возликовать — заевший было механизм снова приходил в движение. Но Саидов сообщал и еще не менее интересные вести: в Тобольске нашлась Паулина Предано, прислуга графини Гендриковой. Через нее добыты адреса Никодимовой — старой гувернантки графини, Гусевой — горничной у дочерей Николая, и — кто бы мог подумать! — самой Битнер-Кобылинской, супруги покойного полковника. О Гусевой Саидов даже приложил справку, то, что удалось узнать о ней.
«Гусева Анна Яковлевна, — читал Михеев. — Горничная, или «комнатная девушка», как она числилась по дворцовому штату. Давняя и преданная слуга Романовых. В 1893 году, окончив ремесленную школу, работала белошвейкой на дому. В 1904 году была принята на службу во дворец, горничной при великих княжнах. В Тобольск приехала не вместе с Романовыми, а несколько позднее, вместе с другой горничной, Анной Романовой, отнюдь, однако, не принадлежавшей к царской династии. В губернаторский дом их охрана не допустила — они не были в первоначальном списке служащих, утвержденных для поездки в Тобольск. Жили в гостинице и на частных квартирах. К ним «в гости» захаживал камердинер Александры Федоровны Волков. Очевидно, через него они получали какие-то поручения Романовых, и хотя их ни разу не допустили в губернаторский дом, обе горничные жили в Тобольске все время, пока там находились их бывшие хозяева. И даже после того, как их увезли в Екатеринбург. И Гусева и Романова покинули город только после эвакуации белых, тоже эвакуировались в Сибирь. Гусева добралась до Ачинска, потеряв подругу где-то по дороге. После разгрома Колчака снова вернулась зачем-то в Тобольск, но ненадолго, вскоре переехала куда-то под Ленинград. Служила на разной конторской работе. Теперь — счетовод школы-семилетки».
— Ай да Саша, молодец! Не безнадежен, как сказал бы Патраков. — Михеев даже похлопал ласково по саидовским бумагам, как похлопал бы его плечо, будь он сейчас здесь, рядом.
В эти дни, дни ожиданий и надежд, дорога от дома до Управления была для Михеева нелегкой.
Похрустывал под ногами ледок, застекливший ночью лужицы на булыжной мостовой. В глубине улицы громыхали телеги ломовиков, ленивой чередой тянувшихся к станции. Хлопали щеколды калиток, выпуская из дворов идущих на работу людей… Утро рядового рабочего дня. Каждый спешит занять свое место — за верстаком, у кузнечного горна, за станком, за баранкой автомашины, за письменным столом, за прилавком магазина. Вечером вернется домой, усталый, но довольный — он выполнил свой трудовой долг.
— А ты, Михеев? — спрашивал он себя. — Как ты сегодня выполнишь свой трудовой долг?
Вон тот, только что вышедший из подъезда дядя, с металлическим метром, защемленным за карман куртки, наверное, строитель. Он вечером вернется, зная, что дом, который он строит, поднялся на два-три ряда кирпичей. Поднялся. На столько-то. И это видно. И ему, и всем.
А этот, что озабоченно пересекает улицу, на ходу застегивая немудрящее свое полупальто с залоснившимися от машинного масла рукавами, — наверное, токарь. Ложась спать, он вспомнит десяток выточенных им сияющих стальным отливом деталей какой-то очень нужной машины. Завтра, в другом цехе, из этих деталей родится машина и пойдет служить людям.
И даже вон тот, что идет по той стороне с портфелем под мышкой, — за вечерним чайком с увлечением расскажет жене, как ему сегодня удалось успешно решить вопрос об открытии новой рабочей столовой и даже — ты подумай! — посчастливилось заранее достать для нее комплект посуды, и не каких-нибудь там глиняных мисок, а настоящие фаянсовые тарелки — пусть по-человечески ест рабочий класс!
— А ты, Михеев? Что дашь ты стране сегодня? — пытал себя он. — Ты не поднимешь строящийся дом на два ряда кирпича, не выточишь десятка деталей для новой машины и не раздобудешь посуду для рабочей столовой. Но зато, если… Если развяжешь этот «тобольский узелок» и найдешь узелок с драгоценностями… Сколько новых машин, тракторов, экскаваторов, оборудования для новостроек пятилетки можно будет приобрести на валюту, вырученную от одного только ожерелья, если… Если оно существует, черт его побери, и если его удастся найти…
И, ускорив шаг, он почти вбегал в подъезд, нетерпеливо открывал тяжелую дверь и, пройдя длинный коридор, молча заглядывал в окошко секретарши отдела.
— Вам нет, — коротко отвечала обычно на его немой вопрос Тамара Михайловна, строгая седая женщина, работавшая тут с незапамятных времен и поэтому несколько покровительственно относившаяся к «совсем еще юноше», каким она считала Михеева.
Но сегодня она чуть заметно улыбнулась ему и, взглянув на угол стола, где возвышалась стопка папок с приготовленной почтой, как бы припоминая — что там в них, обнадежила:
— Кажется — есть. Ждите, принесу.
— Тамара Михайловна, милая, дайте хоть взглянуть, — взмолился Михеев.
Но она лишь укоризненно посмотрела на него и, не удостоив ответом, взялась за перо.
Час спустя Михеев читал сообщение Саидова: Каменщиков живет в Тюмени.
Уже от одного этого известия можно было возликовать — заевший было механизм снова приходил в движение. Но Саидов сообщал и еще не менее интересные вести: в Тобольске нашлась Паулина Предано, прислуга графини Гендриковой. Через нее добыты адреса Никодимовой — старой гувернантки графини, Гусевой — горничной у дочерей Николая, и — кто бы мог подумать! — самой Битнер-Кобылинской, супруги покойного полковника. О Гусевой Саидов даже приложил справку, то, что удалось узнать о ней.
«Гусева Анна Яковлевна, — читал Михеев. — Горничная, или «комнатная девушка», как она числилась по дворцовому штату. Давняя и преданная слуга Романовых. В 1893 году, окончив ремесленную школу, работала белошвейкой на дому. В 1904 году была принята на службу во дворец, горничной при великих княжнах. В Тобольск приехала не вместе с Романовыми, а несколько позднее, вместе с другой горничной, Анной Романовой, отнюдь, однако, не принадлежавшей к царской династии. В губернаторский дом их охрана не допустила — они не были в первоначальном списке служащих, утвержденных для поездки в Тобольск. Жили в гостинице и на частных квартирах. К ним «в гости» захаживал камердинер Александры Федоровны Волков. Очевидно, через него они получали какие-то поручения Романовых, и хотя их ни разу не допустили в губернаторский дом, обе горничные жили в Тобольске все время, пока там находились их бывшие хозяева. И даже после того, как их увезли в Екатеринбург. И Гусева и Романова покинули город только после эвакуации белых, тоже эвакуировались в Сибирь. Гусева добралась до Ачинска, потеряв подругу где-то по дороге. После разгрома Колчака снова вернулась зачем-то в Тобольск, но ненадолго, вскоре переехала куда-то под Ленинград. Служила на разной конторской работе. Теперь — счетовод школы-семилетки».
— Ай да Саша, молодец! Не безнадежен, как сказал бы Патраков. — Михеев даже похлопал ласково по саидовским бумагам, как похлопал бы его плечо, будь он сейчас здесь, рядом.
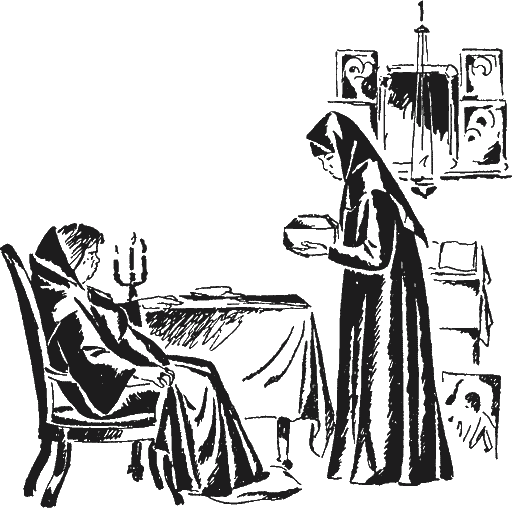 — Вот так, — встретил Михеева Патраков в своем кабинете, сумрачно складывая бумажную гармошку. — Анеля Викентьевна приказала долго жить. Мужу. А он, оказывается, тоже. Что там случилось?
Михеев рассказал.
— М-да… — вздохнул Патраков. — Досадно, конечно, что все так получилось.
— Знаю, виноват — на минуту отвлекся, и вот… — развел руками Михеев. — Но разве предусмотришь? Если человек задумал такое, то сделает. Он ведь мог просто о стенку головой — в такой ярости был. А я, что ж — готов отвечать…
— Ну, ты очень-то не терзайся, — сдержанно успокоил его Патраков. И Михеев оценил это необычное для начальника доверительное «ты». — Твоей вины тут нет. Всего не предусмотришь, это верно. Жить он, твой парашютист, будет, а что расшибся, так ведь никто его не толкал на это. С чего бы он все-таки, как думаешь?
Михеев, прежде чем ответить, помолчал.
— Добра жалко.
— Это-то ясно, — усмехнулся Патраков. — Какого?
Михеев снова замялся, потом угрюмо и виновато ответил:
— Своего.
— Как — своего? — отбросил Патраков уже совсем почти законченную бумажную гармошку. — Вы ж за царским добром гонялись, за тобольским кладом?..
Но Михеев будто ждал этого удивления и, оправившись от смущения, заговорил твердо и убежденно:
— За чужое добро он не стал бы с жизнью расставаться, пусть это даже и царское добро было бы. Не такой уж он правоверный монархист. Для него царь и бог — свое добро.
— А может, он царское добро уже считал своим?
— Тогда он его давно бы уже пустил в дело, — спокойно парировал Михеев, казалось, неотразимый удар Патракова. Тот молча взглянул на него и вновь принялся складывать бумажную гармошку.
— Вы смотрите, что получается, — с жаром продолжал Михеев. — На какие-то средства он в годы нэпа обзавелся рядом солидных предприятий. Из Тобольска таких средств он привезти не мог — большинство пропало в банках или обесценилось. То, что было у него чужого, он стал считать своим и реализовал. Позднее, когда нэп кончился, опять обратил добро в портативные ценности, но уже другого порядка — менее подозрительные и более удобные для реализации. И он, да и не он один, знал, что в Тобольске где-то осталось гораздо более существенное богатство. Вероятно, все же в монастыре…
— Ты думаешь?
— Уверен. Не уверен лишь в том, что оно и посейчас там лежит.
— Уверенность дело хорошее, но факты важнее, — буркнул Патраков.
— Знаю, — уныло согласился Михеев. — А что, кстати, с женой Пуйдокаса, с Анелей?
— А что с Анелей, — насупился Патраков. — Тоже что-то недосмотрели, хотя вроде и тут никто не виноват… Соседки по камере заметили — мучается от боли, а что с ней, не говорит. Позвали врача. А остальное… На вот, читай.
Михеев взял поданные ему листы с актами и докладными. Патраков, хмурясь, следил за тем, как он жадно пробегал глазами по строчкам.
Да, Анеля Викентьевна придумала себе жестокую смерть. Разломав алюминиевую ложку на мелкие острые кусочки, проглотила их. Раны пищевода, желудка и кишок были так серьезны, что врачи уже не смогли спасти ее. Перед смертью передала дежурной сестре записку для мужа: «Прости, что так получилось. Но, поверь, я не знаю, как этот план попал в мои бумаги. У меня его не было, ты мне его не давал, ты это знаешь. Но знаю, что ты не простишь мне и не хочу терзаться этим».
— План ложный! — зло бросил Михеев, оторвавшись от чтения.
— Ты думаешь?
— Теперь — знаю. Потому он его и положил поближе к Анеле, чтобы отвести следы в сторону. Сам же ее и убил, выходит. А в этом тайнике никогда ничего не было. Тогда же устроили другой. И никому не сказали о нем — для надежности. Даже Анеле. План же сохранили. На случай, если, скажем, те же Кобылинские или кто другой потребуют клад или выдадут его местонахождение. Вот, дескать, все правильно, был тут клад. Был да сплыл. А где, нам не ведомо.
— Хитро.
— Выходит, так.
— А не чересчур хитро? — прищурился Патраков. — Доказать сумеешь?
— Постараюсь.
— Постараешься… Удастся ли еще. Пойдем-ка к Свиридову. Ждет, — сказал Патраков, взглянув на часы.
— Вот так, — встретил Михеева Патраков в своем кабинете, сумрачно складывая бумажную гармошку. — Анеля Викентьевна приказала долго жить. Мужу. А он, оказывается, тоже. Что там случилось?
Михеев рассказал.
— М-да… — вздохнул Патраков. — Досадно, конечно, что все так получилось.
— Знаю, виноват — на минуту отвлекся, и вот… — развел руками Михеев. — Но разве предусмотришь? Если человек задумал такое, то сделает. Он ведь мог просто о стенку головой — в такой ярости был. А я, что ж — готов отвечать…
— Ну, ты очень-то не терзайся, — сдержанно успокоил его Патраков. И Михеев оценил это необычное для начальника доверительное «ты». — Твоей вины тут нет. Всего не предусмотришь, это верно. Жить он, твой парашютист, будет, а что расшибся, так ведь никто его не толкал на это. С чего бы он все-таки, как думаешь?
Михеев, прежде чем ответить, помолчал.
— Добра жалко.
— Это-то ясно, — усмехнулся Патраков. — Какого?
Михеев снова замялся, потом угрюмо и виновато ответил:
— Своего.
— Как — своего? — отбросил Патраков уже совсем почти законченную бумажную гармошку. — Вы ж за царским добром гонялись, за тобольским кладом?..
Но Михеев будто ждал этого удивления и, оправившись от смущения, заговорил твердо и убежденно:
— За чужое добро он не стал бы с жизнью расставаться, пусть это даже и царское добро было бы. Не такой уж он правоверный монархист. Для него царь и бог — свое добро.
— А может, он царское добро уже считал своим?
— Тогда он его давно бы уже пустил в дело, — спокойно парировал Михеев, казалось, неотразимый удар Патракова. Тот молча взглянул на него и вновь принялся складывать бумажную гармошку.
— Вы смотрите, что получается, — с жаром продолжал Михеев. — На какие-то средства он в годы нэпа обзавелся рядом солидных предприятий. Из Тобольска таких средств он привезти не мог — большинство пропало в банках или обесценилось. То, что было у него чужого, он стал считать своим и реализовал. Позднее, когда нэп кончился, опять обратил добро в портативные ценности, но уже другого порядка — менее подозрительные и более удобные для реализации. И он, да и не он один, знал, что в Тобольске где-то осталось гораздо более существенное богатство. Вероятно, все же в монастыре…
— Ты думаешь?
— Уверен. Не уверен лишь в том, что оно и посейчас там лежит.
— Уверенность дело хорошее, но факты важнее, — буркнул Патраков.
— Знаю, — уныло согласился Михеев. — А что, кстати, с женой Пуйдокаса, с Анелей?
— А что с Анелей, — насупился Патраков. — Тоже что-то недосмотрели, хотя вроде и тут никто не виноват… Соседки по камере заметили — мучается от боли, а что с ней, не говорит. Позвали врача. А остальное… На вот, читай.
Михеев взял поданные ему листы с актами и докладными. Патраков, хмурясь, следил за тем, как он жадно пробегал глазами по строчкам.
Да, Анеля Викентьевна придумала себе жестокую смерть. Разломав алюминиевую ложку на мелкие острые кусочки, проглотила их. Раны пищевода, желудка и кишок были так серьезны, что врачи уже не смогли спасти ее. Перед смертью передала дежурной сестре записку для мужа: «Прости, что так получилось. Но, поверь, я не знаю, как этот план попал в мои бумаги. У меня его не было, ты мне его не давал, ты это знаешь. Но знаю, что ты не простишь мне и не хочу терзаться этим».
— План ложный! — зло бросил Михеев, оторвавшись от чтения.
— Ты думаешь?
— Теперь — знаю. Потому он его и положил поближе к Анеле, чтобы отвести следы в сторону. Сам же ее и убил, выходит. А в этом тайнике никогда ничего не было. Тогда же устроили другой. И никому не сказали о нем — для надежности. Даже Анеле. План же сохранили. На случай, если, скажем, те же Кобылинские или кто другой потребуют клад или выдадут его местонахождение. Вот, дескать, все правильно, был тут клад. Был да сплыл. А где, нам не ведомо.
— Хитро.
— Выходит, так.
— А не чересчур хитро? — прищурился Патраков. — Доказать сумеешь?
— Постараюсь.
— Постараешься… Удастся ли еще. Пойдем-ка к Свиридову. Ждет, — сказал Патраков, взглянув на часы.
 — Пиши: кулон с бриллиантом, аметистом и плетеным жемчугом… Бриллиант на пять карат. Аметист… Да на жемчуг… Пиши: шесть тысяч золотом…
…Прямо с вокзала Михеева вместе с ценностями доставили в кабинет к Свиридову. Высыпав на стол содержимое банок и разровняв по зеленому сукну сверкающую груду золота и самоцветов, Михеев и сам замер от восхищения. Благородная красота созданных природой богатств, в соединении с вдохновенным искусством человеческих рук, покоряла своим величием. Разве одними рублями оценишь это!
Свиридов, медленно обходя стол, шумно крякал от восхищения, довольно похлопывал по плечу замершего с пустой банкой в руках Михеева. Хватнув со стола какую-то замысловатую вещицу, взвешивал ее на руке и подмигивал Патракову:
— Сила! А?
Патраков стоял молча, заложив руки назад и неторопливо, но цепко оглядывал разложенные вещи. Казалось, он равнодушен к ним — так спокоен и безразличен он внешне. Но иногда надолго задержавшийся на чем-то задумчивый взгляд выдавал его — всегда угрюмоватое лицо как бы светлело, прояснялось.
— Как думаешь, на сколько это потянет? — спрашивал его Свиридов, очерчивая рукой круг над столом.
— Не знаю, — отвечал, не отрывая взгляда от стола, Патраков. — Эксперты подсчитают.
— Вот, вот — подхватил Свиридов. — Давай их скорее, пусть считают. А ты, герой, — хлопнул он снова Михеева по плечу, — пиши давай рапорт. Самому! — поднял он вверх палец.
— Пиши: брошка агатовая с осыпью розочками. Больше четвертной не стоит — работа дешевая, без души делано. Кухарка разве такую нацепит… Браслет золотой, дутый, с четырьмя аквамаринами. Камни дорогие, а считай — испорчены. Без смыслу натыканы, да и грань не та — игры нет. Постой… Тут не иначе, как двое или трое один камень гранили… Так и есть.
— Как это вы узнали, Петр Акимович?
— А чего тут знать-то, всякому видно. Когда камень гранишь, никому не передавай и сам на другое не отрывайся — игры не будет. Это уж закон такой. Камень он руку твердую любит, хозяйскую. Как, например, лошадь норовистая — хозяина с полслова понимает, а чужому и дотронуться не дает… Нет, плохой камень, в перегранку его надо. Да и вещица вся разве только кабацкой девице впору — понимающему человеку ее и надеть стыдно…
Теперь, когда Михеев имел возможность пристальнее и внимательнее ознакомиться с каждой вещицей вотдельности, он тоже уловил эту поразительную разнохарактерность драгоценных украшений, их разностильность и разновкусицу.
Рядом с вещами высокой ценности, истинными шедеврами ювелирного искусства, можно сказать — национальной гордостью, соседствовали дешевые, безвкусные поделки, мещанский ширпотреб. Розочки, сердечки, сентиментальные надписи на брелочках… Дутое золото, ко торое и купчихи уже со времен Островского перестали носить…
— Пиши: кулон с бриллиантом, аметистом и плетеным жемчугом… Бриллиант на пять карат. Аметист… Да на жемчуг… Пиши: шесть тысяч золотом…
…Прямо с вокзала Михеева вместе с ценностями доставили в кабинет к Свиридову. Высыпав на стол содержимое банок и разровняв по зеленому сукну сверкающую груду золота и самоцветов, Михеев и сам замер от восхищения. Благородная красота созданных природой богатств, в соединении с вдохновенным искусством человеческих рук, покоряла своим величием. Разве одними рублями оценишь это!
Свиридов, медленно обходя стол, шумно крякал от восхищения, довольно похлопывал по плечу замершего с пустой банкой в руках Михеева. Хватнув со стола какую-то замысловатую вещицу, взвешивал ее на руке и подмигивал Патракову:
— Сила! А?
Патраков стоял молча, заложив руки назад и неторопливо, но цепко оглядывал разложенные вещи. Казалось, он равнодушен к ним — так спокоен и безразличен он внешне. Но иногда надолго задержавшийся на чем-то задумчивый взгляд выдавал его — всегда угрюмоватое лицо как бы светлело, прояснялось.
— Как думаешь, на сколько это потянет? — спрашивал его Свиридов, очерчивая рукой круг над столом.
— Не знаю, — отвечал, не отрывая взгляда от стола, Патраков. — Эксперты подсчитают.
— Вот, вот — подхватил Свиридов. — Давай их скорее, пусть считают. А ты, герой, — хлопнул он снова Михеева по плечу, — пиши давай рапорт. Самому! — поднял он вверх палец.
— Пиши: брошка агатовая с осыпью розочками. Больше четвертной не стоит — работа дешевая, без души делано. Кухарка разве такую нацепит… Браслет золотой, дутый, с четырьмя аквамаринами. Камни дорогие, а считай — испорчены. Без смыслу натыканы, да и грань не та — игры нет. Постой… Тут не иначе, как двое или трое один камень гранили… Так и есть.
— Как это вы узнали, Петр Акимович?
— А чего тут знать-то, всякому видно. Когда камень гранишь, никому не передавай и сам на другое не отрывайся — игры не будет. Это уж закон такой. Камень он руку твердую любит, хозяйскую. Как, например, лошадь норовистая — хозяина с полслова понимает, а чужому и дотронуться не дает… Нет, плохой камень, в перегранку его надо. Да и вещица вся разве только кабацкой девице впору — понимающему человеку ее и надеть стыдно…
Теперь, когда Михеев имел возможность пристальнее и внимательнее ознакомиться с каждой вещицей вотдельности, он тоже уловил эту поразительную разнохарактерность драгоценных украшений, их разностильность и разновкусицу.
Рядом с вещами высокой ценности, истинными шедеврами ювелирного искусства, можно сказать — национальной гордостью, соседствовали дешевые, безвкусные поделки, мещанский ширпотреб. Розочки, сердечки, сентиментальные надписи на брелочках… Дутое золото, ко торое и купчихи уже со времен Островского перестали носить…