Марк Рабинович
Драматический взгляд. Пьесы
Алиса в Стране Чудес
(За Белым Кроликом)
Действующие лица:
Алиса – женщина 42 года, неброская, симпатичная
Шляпник (муж Алисы) – мужчина 48 лет
Доктор (психиатр): – мужчина 50 лет
Заведующая (психиатрическим) отделением – женщина 50 лет
Профессор – мужчина 70 лет
Практикант – 22 года
Практикантка – 20 лет
Белый Кролик – пальцевая кукла
На протяжении всего действия используются одни и те же декорации. Сцена делится на две части. Первая – большая часть – представляет собой "приемную" в психиатрическом отделении. Дверь с надписью "психиатрия" на двух языках – открыта. Стол, стулья, две стены. Одна из стен представляет собой ширму, по которой будет бегать Кролик. В приемной стоит (на треноге) доска, на которой нарисован Эйнштейн с высунутым языком (возножны варианты, например – Кролик). Под доской – фломастеры для рисования и губка, чтобы стирать нарисованное.
Вторая часть сцены (меньшая) изображает пространство непосредственно за выходом из "приемной". Этот "предбанник" может изображать корридор или полисадник или садовую дорожку. Можно даже использовать авансцену.
Сцена пуста. На ширме появляется Кролик. Бежит. Останавливается. Смотрит за кулисы.
Кролик: Ну, что там надо говорить? "Ай-ай-ай, я опаздываю"? Да еще Герцогиня какая-то. Бред, сущий бред.
(смотрит вниз) А, все равно никого нет. Ну-ка, что у нас тут написано? Ага – “Психиатрия”. (
поворачивается к залу) А вы знаете, как называется случай, когда человек видит среди бела дня белого кролика в жилетке и при часах? Правильно – белая горячка… Интересно, кто-нибудь из вас сейчас видит белого кролика? Разумеется – нет, ведь вы все совершенно здоровые люди. А тем кто кролика видит самое место здесь (
показывает вниз). Между прочим, один автор пьес, но нет – эту пьесу не он написал, так вот он сказал: "весь мир дурдом, а люди в нем пациенты". Или это не он сказал? Или он не это сказал?… Так что, никто не видит кролика?… Ой, вроде бы кто-то идет. Ну, я, пожалуй, пойду… Ай-ай-ай, я опаздываю! Опаздываю!
Насвистывая популярную мелодию, медленно уходит.
В "приемной" появляется Практикантка, за ней – Практикант. Молча садятся за стол. Достают ноутбук (или таблет). В процессе разговора они как бы заполняют историю болезни. Он циничен – это маска. Она немного кокетлива под маской строгости.
Практикант: Давай, выкладывай, что там у нас?
Практикантка: Сегодня только одна папка.
Практикант: Кто там у нас очередной псих?
Практикантка: Так нельзя говорить, да и диагноз еще не поставлен.
Практикант: Не поставлен, так поставим, что нам стоит. Начинай – огласи
дело, а я буду набивать.
Практикантка: Не дело, а история болезни. Пиши: пациентка Селезнева Алиса Игоревна, сорок два года, замужем, двое детей. Профессия – бухгалтер.
Практикант: Бухгалтер, бухгалтер, где твой бюстгальтер.
Практикантка: Перестань.
Практикант: Странно… Вроде бы профессия не характерна для нашей клиентуры. К тому же семья. муж, дети.
Практикантка: Да что ты понимаешь! Может он пьет. Или изменяет. Или еще хуже.
Практикант: Хуже?
Практикантка: (неуверенно) Бывает и хуже.
Практикант внимательно смотрит на нее.
Практикантка: (машет рукой) Ой, да кому я объясняю!
Практикант: Ладно, проехали. Так: состояние здоровья, госпитализации, лекарства.
Практикантка: Не указаны.
Практикант: Нет – так нет. Тоже странно, кстати. Причина обследования? Ну, кто ее к нам направил?
Практикантка: Тут не написано, вроде… А – вот. Обратилась самостоятельно. За справкой о состоянии здоровья.
Практикант: У нас тут здоровье специфическое, можно сказать – душевное. Но как-то все чудесатее и чудесатее. Ведь такую справку можно получить и в поликлинике. К нам-то зачем?
Практикантка: Скоро узнаешь. Продолжаем.
Практиканты продолжают заполнять историю болезни переходя на очень спокойную пантомиму.
Выглядывает Кролик, качает головой немного укоризненно, исчезает.
Освещается "предбанник". Там стоят Алиса и Шляпник.
Шляпник: Ты уверена, что тебе это надо?
Алиса: Надо, надо. Ты ведь сам называл меня "шизиком".
Шляпник: Не помню.
Алиса: Одиннадцать раз. А кто все время говорит "шизофреники вяжут веники"?
Шляпник: Подумаешь! Ты, например, меня придурком обзывала.
Алиса: Не придурком, а дураком.
Шляпник: Четырнадцать раз… с начала месяца.
Алиса: (показывает язык) А ты дурак и есть.
Шляпник: Я тоже люблю тебя.
Алиса: Правда?
Шляпник: Правда.
Алиса: Правда, правда?
Шляпник: Ты же знаешь.
Алиса: Знаю. Но иногда не верю. А иногда – верю.
Шляпник: А ты всегда верь.
Алиса: Так я пойду, ладно?
Шляпник: Тебе это надо?
Алиса: Надо.
Шляпник: Ну иди.
Алиса начинает уходить.
Шляпник: Шизофреники вяжут веники.
Алиса: (
нежно) Дурак.
Уходят в разные стороны. "Предбанник" затемняется. Действие продолжается в "приемной". Входит Доктор:.
Доктор: Наидобрейшее вам всем утро.
Практикантка: Здравствуйте.
Практикант: Похоже, Доктор, у вас сегодня игривое настроение прямо с утра?
Доктор: Будете рефлексы проверять, коллега?
Практикант: Пожалуй, я воздержусь.
Незаметно для Доктора входит Профессор.
Доктор: (
Практиканту): Растете, юноша, растете. Иногда в нашей профессии наилучшее действие – это отказ от действия.
Профессор: Браво! Браво! Да вы еще и парадоксов друг. Я бы, впрочем, добавил – и не только в нашей профессии.
Доктор: Профессор? Какими судьбами?
Профессор: Меня пригласила ваша заведующая и, как я полагаю, неспроста.
Практикантка: Неспроста?
Профессор: Да она и сама здесь будет с минуты на минуту.
Доктор: Знатный консилиум у нас тут собирается. (
Практиканту) И все это ради чего, коллега?
Практикант (
заглядывая в компьютер): Ради справки о состоянии здоровья.
Профессор (добродушно): Ну, здоровье у нас прежде всего.
Входит Заведующая.
Заведующая: Приветствую всех. (Профессору) Профессор!
Профессор: Рад вас видеть.
Доктор: Аналогично
Заведующая смотрит на него подозрительно.
Практикант (Практикантке): А уж мы-то как рады!
Заведующая замечает Эйнштейна на доске.
Заведующая: Это что за безобразие?
Подходит к доске и начинает стирать рисунок, но не заканчивает.
Заведующая: Я так понимаю, что у нас тут все Айвазовские. А работать, соответственно, будет Пушкин. Простите, Профессор, к вам это не относится.
Профессор: А жаль. С детства, понимаете ли, мечтал научиться рисовать. Но, увы, не дано.
Заведующая: Ну, что тут у нас? Я вижу, что практиканты подготовились. Похвально, похвально.
Практикантка: Спасибо. Будем ждать пациентку?
Заведующая: А что ее ждать. Она сидит в коридоре.
Практикантка: Так я ее позову?
Заведующая: Сиди, я сама.
Уходит
Доктор: (Профессору) Вы сказали "неспроста", я верно расслышал?
Профессор: Насколько я понимаю, Доктор, вашей Заведующей известно нечто особенное о нашей пациентке. А что именно, она не сказала. Только намекнула, мол будет интересно.
Доктор: Какая-то хитрая интрига, вероятно.
Профессор: Напрасно вы так, коллега! Я знаю вашу начальницу еще с ее студенческих времен. Разумеется “оближ ноближ”, да и административная работа диктует свое. Тем не менее, она продолжает оставаться крепким профессионалом, я бы даже сказал – ученым. Вы можете соглашаться с ней или не соглашаться, я и сам с ней не во всем согласен, но не стоит сомневаться в ее профессионализме. Так что, если она говорит, что будет интересно, поверьте мне – так оно и будет.
Доктор: Ну что-ж, посмотрим.
Входят Заведующая и Алиса.
Заведующая: Прошу знакомиться (пауза).
Практикантка: (читает) Селезнева Алиса Игоревна.
Услышав ее фамилию Доктор вздрагивает (или каким-либо еще образом выражает свое изумление).
Алиса: Здрасьте.
Профессор: Проходите, девушка, присаживайтесь.
Алиса: Можно я здесь?
Заведующая: Прошу. У нас тут собрался своего рода консилиум. Не сомневайтесь, здесь присутствуют специалисты очень высокого уровня. (показывает) Действующий профессор, лечащий психиатр с многолетним опытом, да и ваша покорная слуга тоже кое-что понимает в психиатрии. Нам будут также, в меру своих сил, помогать наши юные практиканты.
Алиса: Я потрясена.
Заведующая: А вот это – лишнее. Доктор, прошу вас.
Доктор: Алиса…э-э…Игоревна, позвольте задать вам парочку вопросов?
Алиса: Можно и больше чем парочку.
Доктор: Вот например: какова цель вашего визита?
Алиса: Хотелось бы справку получить. О состоянии здоровья.
Практикант: (тихо) Душевного.
Алиса: Душевного.
Профессор: А чем вас не устраивает справка из районной поликлиники? Там должен принимать вполне знающий психиатр.
Алиса: Боюсь, что это недостаточно высокий уровень.
Заведующая: Для кого недостаточный? Кому вы собираетесь предъявить эту справку?
Алиса: (потупившись) Свекрови.
Немая сцена, все участники которой выражают свое удивление.
Алиса: А что? Я ей покажу эту справку, когда она опять назовет меня "шизиком".
Профессор: И часто она вас так называет?
Алиса: Пока ни разу не называла. Вообще-то она у меня хорошая. Я ее мамой зову.
Доктор: Хорошо – продолжим.. Наблюдались ли вы ранее у психиатра?
Алиса: Нет. И очень жалею – это так увлекательно.
Доктор: Наблюдались ли вы когда-либо у психолога?
Алиса: Было дело, ровно одиннадцать лет назад.
Доктор: И каковы были результаты?
Алиса: Это смотря для кого. Если для психолога – то самые катастрофические. Он бросил психологию и женился на мне.
Заведующая: Именно в таком порядке? А не наоборот – сначала женился, а потом бросил?
Алиса: Именно в таком, Он решил, что психология себя изжила в нем, а может он себя изжил в психологии. Как-то так, по-моему.
Заведующая: И чем же он теперь занимается?
Алиса: Теперь он моделирует женские головные уборы.
Заведующая: Какой ужас!
Практикант: Шляпник, блин.
Профессор: И каковы у него успехи?
Алиса: Преуспевает, даже слишком. Лучше бы за детьми следил и поменьше вокруг блондинок крутился.
Профессор: Доволен?
Алиса: Утверждает, что всю жизнь мечтал этим заниматься. Это я не про блондинок, а про их шляпки.
Доктор: Итак, (смотрит в папку) вы прошли проверки и, э-э, анализы. Есть некоторые отклонения, абнормальная возбудимость, некоторые цифры на грани. Серотонин, однако, в норме. Явной патологии не наблюдается.
Практикант: Жалуетесь на что-либо?
Алиса: Жалуюсь, очень даже жалуюсь. На налоги жалуюсь и, иногда, на погоду, когда спину ломит. (задумчиво) Начальство у меня тоже не сахар.
Доктор: Вообще-то мы не про это. Ладно. Вернемся в ваше детство. Не было ли каких-нибудь неприятных случаев, которые повлияли на ваше душевное состояние. Например, ну вы понимаете…
Алиса: Нет, меня не изнасиловали в детстве, как-то обошлось. А вас Доктор?
Доктор: Не припоминаю.
Алиса: А вы сейчас спрашивали только про плохое?
Доктор: Ну разумеется.
Алиса: Kак же насчет других случаев в моем детстве, которые очень даже повлияли на мое душевное состояние? Хороших таких случаев.
Доктор: Поподробнее, если можно.
Алиса: Ну, конечно же, можно. Например, когда мне было лет этак семь, я провалилась в кроличью нору.
Заведующая: (тихо) Ну, наконец-то.
Доктор: Что же в этом хорошего?
Алиса: А вы послушайте. Гуляла я как-то в нашем саду…
Дальнейший рассказ Алисы нам не слышен. Алиса сопровождает его пантомимой: Она долго падает в нору, откусывает от гриба, разговаривает с курящей гусеницей, пьет чай, играет в крикет и т.д. Присутствующие подыгрывают ей изображая различные реакции: скепсис, восхищение, интерес.
Одноврененно, Практикант и Практикантка выходят на авансцену и комментируют Алисин рассказ.
Практикант: Что-то она долго падает. Если принять скорость падения за константу и с учетом сопротивления воздуха, то глубина норки составит…
Практикантка: Тише, не мешай слушать.
Алиса продолжает
Практикант: Помню, а Амстердаме тоже были такие грибочки.
Практикантка: Помолчи!
Алиса продолжает
Практикантка: Я бы тоже сейчас чаю выпила.
Практикант: Рюмочк
у чая.
Практикантка: Дурак!
Алиса продолжает
Практикант: Вряд ли это гусеница курила. Скорее всего, она сама докурилась до гусеницы.
Практикантка: Да ты просто маньяк какой-то!
Алиса продолжает
Практикант: Таких котов не бывает!
Практикантка: А у тебя был, когда-нибудь, свой кот?
Практикант: Бог миловал.
Практикантка: Тогда и не говори. Коты всякие бывают.
Алиса продолжает
Практикантка: Что это за игра такая – крикет?
Практикант: Это такая английская игра. Нам не понять. Вот в Индии, там все на ней помешаны.
Практикантка: А фламинго в Индии живут или их специально импортируют для крикета?
Практикант: Ну ты даешь! Не переигрывай!
Алиса заканчивает свой рассказ.
Заведующая: Алиса Игоревна, а как вы считаете, это ваше путешествие происходило в реальности или только в воображении.
Алиса: Смотря для кого! Для меня – в реальности.
Практикант: В виртуальной?
Доктор: (Профессору) Погружение?
Профессор: (Доктору) Несомненно. Неясно только какое: сенсорно-моторное или эмоциональное (Практиканту) А вы знаете, коллега, что означает слово "виртуальный"?
Практикант: “Не настоящий”?
Профессор: Не совсем. На разных языках и в разных контекстах это слово может дословно означать "эффективный" или даже "существующий".
Заведующая: И часто вы так путешествуете?
Алиса: Бывает.
Практикантка: Всегда одна?
Алиса: Ну что ты, деточка. Всегда найдутся спутники. То один то другой…или другая.
Заведующая: И каждый раз проваливаетесь в нору?
Алиса: В кроличью? Ну да… в известной степени. Впрочем, последние годы я путешествую только с семьей.
Заведующая: И вы берете с собой детей? В темную и сырую нору?
Алиса: И вовсе она не темная и не сырая! Там светло и хорошо пахнет. Ну конечно же я беру с собой детей. А то могут и расплакаться.
Заведующая: Кошмар!
Алиса: А иногда, когда дети спят, мы с моим Шляпником вдвоем проваливаемся в эту самую нору.
Заведующая: Нельзя ли поподробнее?
Алиса: Извините, но это слишком интимно. Не сердитесь пожалуйста.
Практикантка: Ну а как оно вообще?
Алиса: Бесподобно. Только надо обязательно предохраняться, деточка.
Заведующая: Пожалуй мы немного увлеклись. Пора, наконец, подводить итоги. По моему скромному разумению, мы тут наблюдаем неявную картину отторжения реальности.
Профессор: (Алисе) А позвольте вас спросить, милочка…
Алиса: Милочка! Меня еще никто так не называл. Продолжайте в том же духе, прошу вас, Профессор.
Профессор: Я постараюсь. Итак мой вопрос таков: что вы обычно делаете по утрам?
Алиса: Ну я встаю, принимаю душ, делаю кашу детям – муж их потом накормит, одеваюсь и иду на работу.
Профессор: А в кроличью нору вы не падаете по утрам?
Алиса: Нет, по утрам мне не до этого.
Профессор: Тогда я бы не назвал это отторжением реальности. Я бы скорее назвал это дополнением реальности.
Заведующая: Простите – я не согласна. Реальность, в общепринятом значении этого слова – это дети, пеленки, разборка бухгалтерии, выговор от начальства, стирка, готовка, опять пеленки, телевизор по вечерам, ссоры с мужем и так далее. А все остальное – отторжение.
Алиса: Простите, вы замужем?
Заведующая: Это к делу не относится.
Алиса: А ведь дом – это не только стирка и готовка. И с мужем можно не только ссориться. есть и другие, очень приятные, способы времяпровождения, я вам потом расскажу подробнее. Да и с детьми бывает по-разному. Иногда так увлечешься, глянешь – только уши торчат из кроличьей норки. Вот вы тут нарисовали, пусть даже схематически, определенную картину мира. Но ведь она у каждого своя.
Профессор: Интересно, а какова же ваша картина мира?
Алиса: Она у меня разная. Иногда повеселей, а порой – грустноватая.
Заведующая: Нас как-то больше интересует пессимистический вариант.
Алиса: Это будет очень сложно изложить в прозе.
Заведующая: Разумеется. (ехидно) А вы попробуйте в стихотворной форме.
Алиса: Спасибо – так, разумеется, будет много проще.
Алиса идет к доске. Начинает стирать остатки Эйнштейна.
Профессор: Погодите, вы что, стихи собираетесь читать?
Алиса: Ну как вам сказать? Я, пожалуй, буду объяснять свою картину мира в стихотворной форме. Это вроде как попытка экстраполяции.
Заведующая: Попытка чего?
Алиса: У вас что было по математике?
Заведующая: (немного смущенно) Зачет.
Алиса: Понятно. Тогда просто слушайте и смотрите. Тут будет немного математики, но вы выживете…наверное. .
Алиса читает стихи и рисует соответствующие графики. Она комментирует свои стихи энергичными жестами, буквально прыгая вокруг доски. В это время Практикант и Практикантка выходят на авансцену. После каждого стиха Алиса стирает график, а Практикант и Практикантка в это время вставляют свои комментарии.
Алиса: Мне симпатична кривизна судьбы
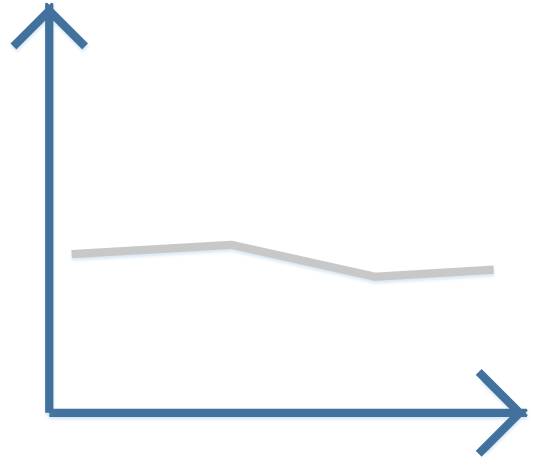
Ее подъемы, склоны и горбы
Значения которых мы порой не понимаем
Мы слепо следуем за ней то вверх, то вниз
А время тащится вдоль по оси абсцисс
К конечной точке график приближая
Практикантка: Как пронзительно сказано!
Алиса: Порою график может вниз нырнуть

Но мы упорно продолжаем путь
Минуя то, что показалось нам бедою эпохальной
И линия ведет все ниже, а зазор все уже
И видишь что могло бы быть (и будет) много хуже
А это был всего лишь минимум локальный
Практикант: Вот он – истинный оптимизм.
Алиса: А вот еще одна из тех что рвется вверх

Проста и привлекательна для всех
Стремится ввысь упрямая кривая
Карабкаясь упорно и в погоду и в ненастье
Стремясь к локальному, асимптотическому счастью
Но никогда его не достигая
Практикантка: Грустно-то как.
Алиса: Казалось бы оно совсем недостижимо

И линия судьбы кривясь проходит мимо
Но нам не следует сдаваться без борьбы
Ведь так бывает, что кривая резко вверх иль вниз уходит
Тогда мы говорим, что происходит
Разрыв определенности судьбы
Практикант: Во излагает.
Алиса: Реальный мир разбит напополам
Все кажется теперь доступным нам

Мы рвемся верх, туда, в блаженные миры
Но равновероятностны пути
Мы можем вверх к безумию прийти
А можем вниз упасть в тартарары
Практикантка: Вот и у меня так… с мужиками.
Алиса: Однако жизнь бывает проще чем мечты
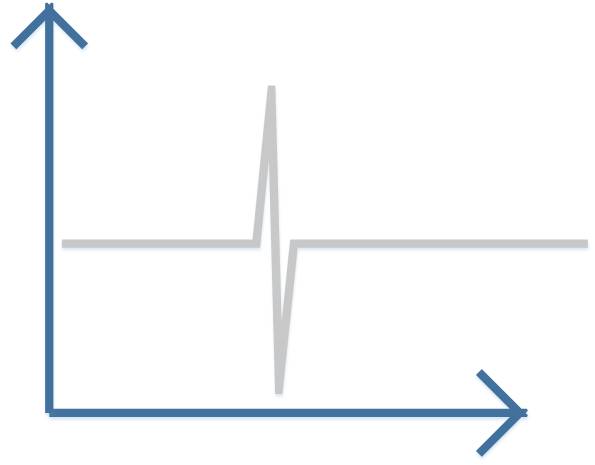
И вниз бросает нас с безумной высоты
Или выталкивает вверх из пропасти глухой
Как видно, этот график невозможно изменить
Мы тупо и упорно продолжаем жить
И тащимся уныло по прямой
Профессор: Немного мрачновато, вы не находите?
Алиса: Таков пессимистический вариант моей картины мира. Можно с ней смириться… А можно и не мириться.
Доктор: А вы? Вы смирились?
Алиса: (скромно) Я бухгалтер – бухгалтеры не меняют мир.
Доктор: (смотрит пристально на Алису) Не меняют?
Алиса: (немного смущенно) Ну, до сих пор не меняли.
Профессор: Великолепно, великолепно. Надеюсь еще увидеть как бухгалтеры меняют наш мир. Какие наши годы.
Алиса: Это смотря какие бухгалтеры.
Практикантка: А какова ваша оптимистическая картина мира?
Алиса: О, она намного веселей. Ну как, еще немного математики?
Заведующая: Пожалуй, с меня хватит. Так можно и не выжить.
Алиса, в восторге, показывает Заведующей большой палец.
Заведующая: У кого еще есть вопросы?
Доктор: Если позволите. Алиса … э-э …Игоревна. Вы сны видите?.
Алиса: Ну конечно! Ничто человеческое мне не чуждо.
Доктор: А сны, которые вы видите, они цветные?
Алиса: Естественно, это же сны. А почему вы спрашиваете?
Заведующая: Видите ли … милочка … есть мнение, что цветные сны свидетельствуют о предрасположенности к шизофрении.
Практикантка: Ой! (зажимает рот рукой).
Практикант пристально смотрит на нее.
Алиса: Как-то мне не нравится ваша "милочка". А что, разве бывают черно-белые сны?
Практикантка: (Практиканту) Нечего на меня так смотреть.
Доктор: Не совсем черно-белые. Многим людям снятся сны в которых просто нет такого понятия, как цвет.
Заведующая: Мне например.
Алиса: Бедняжки. Вы их лечите?
Заведующая: Вообще-то, согласно тому-же мнению, это свидетельствует о стабильном душевном здоровье.
Профессор: Ну, дорогие мои, это еще не доказано.
Доктор: Да это вообще скорее городская легенда чем научное исследование. Хотя и на этом можно защитить пару-тройку диссертаций.
Профессор: Полегче, полегче, коллега.
Заведующая: Ничего, ничего, мы тут привычные.
Алиса: Доктор, а если вы в это не верите, то зачем спрашиваете?
Доктор: Если честно, то мне и самому время от времени снятся цветные сны.
Заведующая: Вот так номер…извините, Доктор, не сдержалась.
Доктор: Я конечно не верю в то толкование, которое так импонирует нашей уважаемой Заведующей, но полагаю что цветные сны могут быть индикацией чего-то другого.
Алиса: Чего именно?
Доктор: …Чего-то, возможно, более позитивного. Может быть даже не имеющего отношения к нашей профессии.
Профессор: А вот тут позволю себе с вами не согласиться. Рамки психиатрии значительно шире чем лечение болезней.
Доктор: А что, мне, пожалуй, нравится ваш подход, Профессор. Но вообще-то мой последний вопрос не относился к сегодняшнему случаю. Он, скорее, отражает мой личный интерес. Не обессудьте, Алиса Игоревна.
Алиса: Ой, да, ради бога. Здесь ведь все так интересно! Это я очень удачно зашла!
Заведующая: Пожалуй, мы немного увлеклись. Еще вопросы к нашей гостье?
Практикантка порывается что-то спросить, но Практикант ее одергивает.
Заведующая: В таком случае, Алиса Игоревна, вы извините нас ненадолго. Нам надо подвести кое-какие итоги.
Алиса: Подумаешь, не очень-то и хотелось всякую ерунду слушать.
Алиса выходит, остаются Доктор, Заведующая и Профессор, Практикант и Практикантка отходят в глубь сцены.
Доктор: Я вас тоже покину ненадолго. Давно я не травил свой организм. Мое мнение вам, полагаю, известно.
Заведующая: В здании не курят.
Доктор: Не буду.
Уходит.
Профессор: Что-то вас, коллега, беспокоит. Я прав?
Заведующая: Правы, как всегда. Меня смущает поведение Доктора, а вовсе не его цветные сны. Он, как будто старается во всем мне противоречить. И ведь это только в последнее время. А ведь раньше мы с ним работали душа в душу – как друзья. Нет, скорее как единомышленники.
Профессор: Душа в душу? Возможно это все объясняет. Полагаю, что это он не вам, а самому себе противоречит. В вашем лице, разумеется.
Заведующая: Вы полагаете?
Профессор: Убежден.
Заведующая: Думаете – кризис среднего возраста?
Профессор: Ну, это термин для обывателей, но примем его в качестве рабочей терминологии.
Заведующая: (задумчиво) Кризис?
Профессор: (пристально смотрит на нее) Да, но в нестандартном проявлении.
Заведующая: Простите?
Профессор: Спроецирован на профессиональную область. Обычно это выглядит (выразительный взгляд на Заведующую) несколько иначе. Впрочем, я не психолог. (немного подумав) И не Шляпник.
Приемная затемняется, предбанник освещается. Доктор выходит в предбанник. Там стоит Шляпник.
Шляпник: Покурить вышли?
Доктор: Нет, так просто – пешком постоять. Я ведь не курю. (пауза) А ваша фамилия не Селезнев случайно?
Шляпник: Нет… Да.
Доктор: Простите?
Шляпник: Это я отвечаю сразу и на ваш следующий вопрос. Вдруг вы не догадаетесь его задать. (на два голоса) Вы Селезнев? Нет. Вы муж Алисы? Да. (своим голосом) Видите ли, у нас разные фамилии.
Доктор: (машинально) Почему? Ох, извините – это не мое дело.
Шляпник: Секретов тут нет. Просто ей не понравилась моя фамилия. Она находит ее неблагозвучной.
Доктор смотрит на него пристально.
Шляпник: Нет уж, извините. Лучше считайте меня Селезневым.
Доктор: Ладно, Селезнев, тогда позвольте задать вам еще один вопрос.
Шляпник: Прошу вас.
Доктор: Каково это – быть мужем Алисы Игоревны?
Шляпник: Трудно. Сложно. Прекрасно. Восхитительно.
Доктор: Вот так? Все вместе?
Шляпник: Именно вместе. Если убрать хотя бы один компонент, то будет уже не то.
Доктор: Может быть объясните мне тогда, зачем ей понадобился этот визит к нам? Мне не кажется, что она нуждается в лечении.
Шляпник: Почему вы решили, что она пришла лечиться?
Доктор: А для чего же еще ходят в клинику?
Шляпник: Но вы же тоже ходите в клинику.
Доктор: Я не лечиться хожу, а лечить.
Шляпник пристально смотрит на него.
Доктор: Вы думаете …?
Шляпник: Не важно, что я думаю. Важнее то, что думаете вы.
Доктор: Ловко это вы меня, как истинный психолог.
Шляпник: Я не психолог, я – Шляпник.
Освещается приемная. Там, попрежнему, Заведующая и Профессор, а Практикант и Практикантка стоят в отдалении. Заходят Док
тор и Алиса.
Заведующая: Как я понимаю, наши мнения разделились. Ну что-ж, в одном я готова с вами согласиться – пациентка не представляет опасности для общества. При таких обстоятельствах будет наиболее этичным оставить решение на усмотрение лечащего врача.
Доктор: Снимаете с себя ответственность?
Заведующая: Можно сказать и так.
Доктор: (более теплым тоном) Или не уверены в своем диагнозе?
Профессор, за спиной Заведующей, показывает большой палец.
Заведующая: Можно сказать и так. До свиданья.
Все уходят. Остаются Алиса и Доктор:
Алиса: Доктор, я жить буду?
Доктор: Думаю, что будете, какое-то время. И жить вы будете счастливо – а по другому вы просто не сможете.
Алиса: Я очень постараюсь. Можно я пойду?
Доктор: Задержитесь на минуточку, если можно.
Алиса, Конечно можно.
Доктор: Я тут поговорил с вашим мужем и уверен – он подождет столько, сколько надо.
Алиса кивает.
Доктор: У меня к вам только один вопрос: почему кролик, почему нора, грибы, коты, гусеница?
Алиса: Простите?
Доктор: Ведь волшебный мир, он тут, вокруг нас.
Алиса: Где?
Доктор: Да в тысяче разных мест. Вот, например, на Галапагосских островах…Там дикие звери, увидев вас, приветливо бегут вам навстречу. Там люди ходят на извержение вулкана, как на спектакль и занимают места получше. Там нет хищных зверей, а у ядовитых змей яда едва хватает на то, чтобы у вас покраснело место укуса. Там таксисты уступают дорогу черепахам. Там…
Алиса: Немедленно перестаньте доктор, а то я залебнусь слюной и мои дети останутся сиротами по вашей вине.
Доктор: Это я только начал. А вот на границе Монтаны и Вайоминга…
Алиса: Доктор, я умоляю вас!
Доктор: Хорошо. хорошо, не буду. Но почему?
Алиса: Неужели мне надо вам это объяснять? Да потому что четыре билета до Эквадора стоят слишком дорого. А кроличья нора – вот она рядом.
Доктор: Извините, я как-то не подумал.
Алиса: Ерунда, не переживайте. А на Галапагосах мы обязательно будем, И в Йеллоустонском парке тоже. Только попозже.
Доктор: Вот и славно. Справку вы, разумеется, получите.
Алиса: А что не разумеется?
Доктор: Вы знаете, меня несколько смущает ваша фамилия.
Алиса: Интересно, и что же с ней не так?
Доктор: Даже не знаю как и спросить.
Алиса: Смелее, ну что же вы, Доктор?
Доктор: Вот скажите (мнется). Вам случайно не приходилось бегать босиком по планете Шелезяка?
Алиса: Ну что вы! Это же фантастика!
Доктор: (немного разочарованно) Разумеется. Ну и славно. А за справкой зайдите завтра или в один из ближайших дней.
Алиса: Спасибо (идет к двери, в дверях останавливается). А на планете Шелезяка босиком не побегаешь, там же нет атмосферы. (показывает язык) Разве что в скафандре высшей защиты. Но он такой тяжелый… До свиданья (уходит).
Доктор: Тяжелый? (утвердительно) Тяжелый. (улыбается) Ну конечно, он же он тяжелый, ясен пень.
Ал
иса вышла. На ширме появляется Кролик.
Кролик: Ну что, доволен собой?
Доктор: Смотрите, кто к нам пожаловал.
Кролик: (завывая) Да, это я – твой самый, самый цветной сон.
Доктор: Угомонись ты. А насчет цветных снов… Этим ты лучше пугай мою заведующую.
Кролик: Так тебя мне не испугать? Уверен?
Доктор: А ты попробуй.
Кролик: И попробую. Вот ты так красиво рассказывал Алисе про Галапагосы. А тебе не кажется что и твои Галапагосы и твой Йеллоустонский парк, это всего лишь костыли для инвалида? Ведь ей-то не нужно ни того ни другого.
Доктор: Но ведь она сама говорила…
Кролик: Верно, говорила. Но присмотрись внимательнее, такое ли уж сильное у нее было слюноотделение? Нет, конечно, она не отказалась бы побывать и там и здесь, не отказалась бы посмотреть и пингвинов в Антарктиде и медведей на Аляске. Но и без этого, она живет полнокровной жизнью падая время от времени то в одну, то в другую из моих норок. А ты?
Доктор: А что я?
Кролик: Сам знаешь что. И вообще, я цветной сон, а не справочная. Вот и соображай. Что ты теперь скажешь?
Доктор: Скажу спасибо.
Кролик: А ты не безнадежен. Ну ладно, меня ждут. Герцогиня ждет, забодай ее комар. Ну кто только придумывает эти тексты!
Доктор: Заходи еще.
Кролик: (завывая) Всенепременно.
Гаснет свет в приемной.
В четырех последующих эпизодах действие заканчивается фрагментом песни. В это время появляются персонажи следующего эпизода.
В предбаннике появляются Алиса и Шляпник. Алиса изображает позу манекенщицы.
Алиса: Ну так как же?
Шляпник: Я полагаю, что это будет драная шапка-ушанка, одно ухо – вверх, другое – вниз.
Алиса: Я серьезно.
Шляпник: Может быть черная пилотка с вуалью?
Алиса: Да ну тебя!
Шляпник: Хорошо… Бархатная беретка с пером серой цапли. А перо приколото маленькой серебряной пряжкой, изображающей Белого Кролика.
Алиса: (поправляя несуществующий берет) Спасибо тебе, мой милый Шляпник. А теперь – домой?
Шляпник: Домой.
Уходят взявшись за руки.
Когда живешь уже в последний раз
И нету сил проснуться поутру
Найди укрытый, темный, тайный лаз
И храбро прыгни в кроличью нору
Вперед за Кроликом, за Белым Кроликом
Нас ждут прекрасные, волшебные миры
Не место скептикам и меланхоликам
В непредсказуемости кроличьей норы
В предбаннике появляются Практикант и Практикантка.
Практикант: Смотри – дырка в земле. Наверное кролик порылся.
Практикантка: Ты когда нибудь бываешь серьезным?
Практикант: Редко. Не чаще чем ты перестаешь строить дурочку.
Практикантка: Это у меня такая форма мимикрии. А иначе никогда замуж не выйдешь.
Практикант: Хочешь в кроличью нору?
Практикантка: Хочу.
Практикант пристально на нее смотрит
Практикантка: Правда – хочу.
Практикант: Со мной?
Практикантка: Хотя бы и с тобой
Практикант: "Хотя бы"? А ведь там, в норе, наверное, темно и сыро.
Практикантка: Пусть даже и сыро. (в сторону) Лишь бы с тобой.
Практикант: Вообще-то бывают очень уютные норки. В них еще так хорошо снятся цветные сны.
Практикантка: Я тебя сейчас покусаю!
Практикант: Шизофреники вяжут веники.
Практикантка: (нежно) Дурак!
Уходят взявшись за руки.
Возможно Белый Кролик только раз
Тебе нечаяно попадется на пути
Он нагловат, мой друг, он бел, и красноглаз
Не упусти его, мой друг, не упусти.
Так в путь – за Кроликом, за Белым Кроликом
Нас ждут прекрасные, волшебные миры
Не место скептикам и меланхоликам
В непредсказуемости кроличьей норы
В предбаннике появляются Доктор: и Профессор.
Профессор: Ну, что скажете, коллега?
Доктор: Не знаю, что и сказать. Явной патологии я не вижу.
Профессор: Да я вовсе не об Алисе Игоревне.
Доктор: Так и я не об Алисе. Это я в нас с вами не нахожу явной патологии. Так, легкое недомогание.
Профессор: Только не переборщите с парадоксами. А что она?
Доктор: А она здоровее нас с вами. Если правильно посмотреть, конечно.
Профессор: Согласен. Но боюсь, что наши коллеги, и, в первую очередь ваша начальница, с нами не согласятся.
Доктор: Будем их лечить амбулаторно. Если болезнь не слишком запущена.
Профессор: Придется задуматься над методикой. Поможете мне?
Доктор: Только докторат писать не буду, и не надейтесь.
Профессор: Ладно, ладно. Будем на связи.
Доктор: Будем .
Уходят в разные стороны.
Чтобы потом всю жизнь не вспоминать
Неверных слов пустую мишуру
Как не сумел прийти, любить, обнять
Когда закапывали кроличью нору
Иди за Кроликом, за Белым Кроликом
Нас ждут прекрасные, волшебные миры
Не место скептикам и меланхоликам
В непредсказуемости кроличьей норы
Освещается приемная. Там сидит Заведующая и что-то пишет на компьютере – явно по работе. На ширме появляется Кролик.
Кролик: Ай-ай-ай, я опаздываю.
Заведующая не реагирует, Кролик начинает метаться по ширме.
Кролик: (очень громко) Ай-ай-ай! Я опаздываю! Ведь Герцогиня придет в ярость, если я опоздаю! Она именно туда и придет!
Заведующая: Прекрати орать.
Кролик: (удивленно останавливается) Услышала!
Заведующая: Я тебя все время слышала и незачем было так вопить.
Кролик: Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?
Заведующая: Ах ты наглое, несуществующее животное. Я тридцать лет в психиатрии и прекрасно понимаю, с кем говорю.
Кролик: Может быть тогда поболтаем?
Заведующая: Мы уже разговариваем.
Кролик: Ты, как всегда, права, ведь правда прежде всего, не правда ли? Извини за тавтологию. Ну и как? Много счастья принесла тебе твоя правдивая правда? Нет друзей, нет увлечений, семьи тоже нет.
Заведующая: У меня были друзья, была семья.
Кролик: Да?
Заведующая: Ты же все знаешь, мерзкий зверь. Вначале надо было учиться, потом – помогать родителям, потом – делать карьеру.
Кролик: Предположим. А теперь?
Заведующая: А теперь на мне все отделение. Три десятка человек и за всех я в ответе.
Кролик: Мы в ответе за всех, кого приручили? А стоило ли приручать? Может быть они не так уж в тебе нуждаются. Или ты незаменима?
Заведующая: Издеваешся? Все верно, есть два-три человека, которые потянут и без меня. А мне что прикажешь делать? Пуфики обвязывать?
Кролик: Пуфики? А что-ж, неплохое дело. Но можно и без пуфиков. Помниться тебя как-то раз позвали в горы. Это было в студенческие годы, помнишь? (Заведующая кивает) Так попробуй сейчас. Северная Индия, Непал, Гималаи. Четыре тысячи метров не так уж много, даже для женщины твоего возраста. Ты сможешь встретить восход солнца на вершине горы, совсем одна. Пусть это будет далеко не Эверест, но воздух все равно будет волшебно прозрачен и неправдоподобно чист, а тени на скалах будут такими четкими, каких никогда не бывает внизу. Ну, что скажешь?
Заведующая: Скажу, что не хочу встречать рассвет одна. Да и не с моей стенокардией лезть в горы. Не трави душу, заяц.
Кролик: Ну вот, зайцем обозвали. А помнишь, как ребята взяли тебя на яхту?
Заведующая: Помню. Качало нас тогда безбожно, хорошо хоть, что все это быстро кончилось. У меня ведь морская болезнь.
Кролик: Врешь ты все. Нет у тебя морской болезни, а тошнило тебя от страха. Или ты была тогда беременна?
Заведующая: Сволочь ты!
Кролик: Шучу, шучу. А ты знаешь, что когда парусник идет в фордевинд, то почти не слышно ветра? Мотор выключен и ты только слышишь как нос рассекает волну. Ш-ш-ш-ууу. Ш-ш-ш-ууу. Ш-ш-ш-ууу. А если направишь его в крутой бейдевинд, то ветер сразу начнет бешено свистеть в рангоуте. У-ууу-у. У-ууу-у. У-ууу-у Ты только следи за шкотами, чтобы паруса были наполнены ветром.
Заведующая: Заткнись. Я и слов-то таких не знаю.
Кролик: Знаешь, знаешь – иначе бы я их не знал. Ну, я пойду, меня Герцогиня ждет – в ярости, или где-то там еще.
Заведующая: Проваливай. (Кролик уходит). Герцогиня его ждет. Графиня. Княгиня. Да хоть сама Королева.
Кладет голову на руки, похоже – плачет. Потом встает, подходит к доске и рисует Эйнштейна с высунутым языком. Оценивающе смотрит на результат. Кролик молча подсматривает, одобрительно кивает.
Заведующая: Ну вот, как-то так.
Выходит из приемной, проходит через предбанник, несет на руке Кролика. Останавливается в задумчивости. Смотрит на Кролика.
Заведующая: Какой там фордевинд, какой бейдевинд? Лучше всего идти в полветра – до десяти узлов можно разогнаться при хорошем ветре.
Уходит совсем
И вновь вперед за призрачной мечтой
Пусть это даже наш последний путь
На грани жизни бренной и земной
В волшебный мир безудержно нырнуть
И вновь – за Кроликом, за Белым Кроликом
Нас ждут прекрасные, волшебные миры
Не место скептикам и меланхоликам
В непредсказуемости кроличьей норы
Без протокола
Сцены из дней Войны Судного Дня
Голда Меир – Премьер Министр (глава правительства)
Моше Даян – Министр Обороны
Абба Эвен – Министр Иностранных Дел
Давид (Дадо) Элазар – Начальник Генерального Штаба
Давид Бен-Гурион – пенсионер
Стенографистка
Первый израильтянин
Второй израильтянин
Женщина на улице
Голос с улицы
Время действия – октябрь 1973
Сцена условно разделена на три части:. 1) Авансцена, где происходят все действия "без протокола". Это курилка, или что-то в этом роде. Там же происходят Пролог и интермедии с Женщиной. 2) Комната управления – середина сцены. Там стоит столик с телефоном, может быть стол совещаний и, по крайней мере, два стула. 3) Задник. Туда уходят Первый и Второй после Пролога, чтобы комментировать "вести с фронтов". Освещение используется чтобы перенести действие в одну из трех зон.
Пролог
На авансцене двое мужчин в талитах читают "Амида" – звуков не слышно и не видно лиц на протяжении всей сценки (поэтому их могут играть актеры, исполняющие другие роли). Должно производиться впечатлениа, что молящихся больше – по крайней мере – миньян. Внезапно, раздается громкий голос. .
Голос: Хей! Тёрн зэ рэйдио (Hey!
Turn the radio).
Молящиеся смотрят друг на друга.
Голос: Тёрн зэ блади рэйдио (
turn the bloody radio).
Первый: Что он говорит?
Второй: Требует включить радио.
Первый: Совсем обнаглели эти кибуцники.
Второй: Включи радио, Изя. (
более настойчиво) Включай.
Первый, поколебавшись, уходит за сцену. Щелчок включенного радиоприемника. Слышна сирена. Молящиеся слушают, снимают талиты, аккуратно их складывают. Под талитами военная форма. Пока они не торопясь складывают талиты, слышны звуки терзаемых стартеров и, попозже – автомобильных моторов. Молящиеся уходят. Гаснет свет.
Комната управления. На сцене: Голда, Даян, Абба, Элазар, Стенографистка. Все, кроме, Стенографистки, сидят (или стоят) как-бы в оцепенении. Задник сцены затемнен. Он освещается, когда Первый и Второй говорят свои реплики.
Криза
Комната управления
Стенографистка (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?
Освещается задник
Первый: Они размывают водой песок! Они сейчас пойдут, пойдут! Где авиация, где эта блядская авиация?!
Второй: Седьмой и четырнадцатый сбиты! Пятый падает! Падает! Засада! Это засада! Всем назад!
Первый: Ну где они, где? Мы тут долго не продержимся.
Второй: Нам не прорваться! Куда ты, Габи? Куда? Всем назад! Ракета! Ракета!
Первый: Уже идут! Огонь!
Комната управления
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?
Освещается задник
Первый: Десять, двадцать, третий десяток… Их слишком много. Они подрывают мины. Почему их не бомбят?! Почему их нахрен не бомбят?! Где самолеты?!
Второй: Ракета! Ярон влево! Влево! Маневр!
Первый: Шестьдесят.. Больше, их еще больше! Все, потом посчитаем. Моти – бронебойный. Аки – вперед на полной!
Второй: Нет, не будет! Ничего не будет. Остались только ты и я. Но их нельзя пропустить, слышишь!! Прием! Прием!
Комната управления
Голда: Моше! Что происходит? Что? Какого хрена ты молчишь? Отвечай же!
Даян: Я не знаю…не знаю
Голда: Что!? Что ты не знаешь? А кто знает?
Даян: Дадо, да скажи же ты!
Элазар: Что сказать? Я знаю не больше тебя. Но, похоже, мы в полной жопе.
Голда: И это все. что ты можешь сказать? Ты! Ты! Ты! Ты главнокомандующий или хуй с погонами?
Элазар: Да забери ты мои погоны нахер.
Голда: Ты хоть что-нибудь можешь сказать? Хоть что-нибудь!
Элазар: Что сказать, что?! Сведения пока что противоречивы и ненадежны. Нам нужно время, время.
Голда: А оно у нас есть? Нам что есть куда отступать? Обри, напомни им про "границы Освенцима", не молчи. Почему их не бомбят? Почему мы не бомбим Каир?
Даян: Какой нахрен Каир! Переправу бы разбомбить.
Элазар: Да послушай же! Наша авиация наткнулась на плотный зенитный огонь. Все их существенные объекты плотно прикрыты зенитными батареями. Мы уже потеряли несколько самолетов.
Голда: А как же вал? Этот хваленый вал?
Элазар: Сообщения противоречивы…
Голда: Ты уже это говорил.
Элазар: В общем, похоже вала больше нет.
Голда: И это все что вы мне можете сказать? Я не верю, не верю! Этого нет, ничего этого нет! Скажите мне, что все это шутка! (
истерика) Боже мой, пусть мне скажут что все это неправда.
Даян: Накапайте ей валерианки, что ли.
Голда: А-а-а-а!! (
раскачивается)
Элазар: Когда наша соседка так закатывалась, муж ее с размаху хлестал по физиономии. Это помогало безотказно.
Даян: У кого рука покрепче, заехать Премьеру по лицу?
Абба: Я женщин не бью.
Голда: Сволочи, какие вы все сволочи.
Элазар: Ну вот, обошлось без рукоприкладства.
Голда: Моя
бы воля я бы вас всех расстреляла у ближайшей стенки, а одноглазого повесила бы за яйца.
Даян: А мне за что такие привилегии?
Абба: Голда, угомонись. Может стоит вначале успокоиться?
Голда: Заткнись! Ты тут вообще случайно. А вот ты, Моше, не молчи. Ты же никогда не молчал. Что с тобой? Скажи, наконец, что-нибудь!
Даян выходит на авансцену
Даян: Вам когда-либо снился сон в котором ты не можешь двинуться, пошевелить рукой, сделать что-либо? Тягучее, отвратительное бессилие. Ох, как это страшно. Можно не боятся пуль, снарядов, можно смело идти в атаку на врагов, на политических противников, на бюрократию, наконец. Но эта невозможность действия когда от тебя ничего не зависит и ты бессилен, связан невидимыми путами. Страшно. Страшно. А ведь ты всегда был уверен, что все в твоих руках. Нет, говорил ты себе, я не сверхчеловек, но где-то там, в глубинах подсознания ты верил, что ты можешь многое . Конечно, ты не можешь повернуть ход светил как Иисус Навин. Ты даже не можешь заставить этого жида Киссинджера повернуться к нам лицом, а не жопой. Но какое-то свое "все" было всегда в твоей власти… Было до сегодняшнего дня, когда ты застрял в этом тягучем, обессиливающем подобии сна. Когда твое чуство уверенности в себе тебя подло обмануло, провело как фраера, как последнего лоха из Касриловки. Проснуться, надо немедленно проснуться. Надо на фронт, там где стреляют. Под бомбежку, под артобстрел, поправить нервы. Только один разрыв шестидюймового рядом, комья земли, бьющие по спине, радостное ощущение того, что опять пронесло, опять ты обманул смерть, и все снова встанет на место. Ты опять обретешь потерянную уверенность, опять обретешь себя. На фронт, да, на фронт.
Комната управления
Голда: (Даяну) Ты! Да – ты! Я к тебе обращаюсь. Не вздумай сбежать на позиции. Ты мне нужен здесь.
Даян: Тебе? Тебе, тебе, тебе! Все время тебе. А ты? Кому нужна ты?
Голда: Я нужна стране!
Даян: Нахер ты ей сейчас не нужна. Сейчас нужнее толковый начальник генштаба. Да только где его взять? Мы даже на знаем что происходит на Суэце.
Элазар: На Суэце, на Суэце. А на Голанах? Голаны тебя что, хер с цимесом? Хреновый ты стратег, Даян. Даже такой бестолковый начальник генштаба как я знает, что такое глубина обороны.
Стенографистка (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?
Освещается задник
Первый: Я больше не могу. Прекратите. Мамочка, мама. Ма-а-а-ма.
Второй: Больно, как больно. Кто-нибудь, добейте. Больно то как!
Первый: Ицик! Ицик! И-и-и-цик! Н-е-ет!
Второй: Живых не осталось. Я последний. Меня тоже нет.
Комната управления
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?
Освещается задник
Первый: Что? Вам не нравится этот запах? Танкисты на мангале в ассортименте! Вам нравится "медиум"? Я не сошел с ума, нет! Н-е-е-т!
Второй: Уберите! Не могу это видеть. Не м-о-о-о-гу.
Первый: Нам не выстоять. Мы все умрем здесь! Здесь нас и зароют. Хотя, в базальт не зароешь. Что за земля!
Второй: Это конец. Боже, как я устал. Хоть бы на том свете отдохнуть.
Комната управления
Голда: Где я, где? Кто эти люди? Не на-а-а-до. Не х-о-о-чу.
Стенографистка: Госпожа премьер (
подходит к ней). Госпожа премьер.
Голда: Не трогай меня. Я просто устала. Я больше не могу. (
плачет, поднимает голову на Стенографистку) Ты ведешь протокол?
Стенографистка: Нет.
Голда: Начинай вести.
Авансцена: курилка. Стоят Голда и Элазар. Появляется Даян.
Голда: Но что, поправил нервишки?
Даян: Ты о чем?
Голда: Сам знаешь. Будешь докладывать?
Даян: А надо? У вас есть Дадо, пусть он докладывает.
Голда: Как хочешь. Разбирайтесь сами, только недолго (
уходит).
Элазар: Ну уж нет, докладывать – это привилегия министров. Армия предпочитает действовать.
Даян: А я по-твоему не армия?
Элазар: Уже давно нет. Ты больше не солдат, ты политик.
Даян: Это почему?
Элазар: Хотя бы потому, что тебя здесь не было сегодня.
Даян: Я был на позициях!
Элазар: Вот именно поэтому.
Даян: Что-то я не понял?
Элазар: Все ты понял. А если и не понял, то я все равно объяснять не буду. Иди, докладывай. Мы с тобой уже все обговорили, можешь на это сослаться.
Даян: Тебя что, не интересует обстановка на фронтах?
Элазар: Я знаю обстановку на фронтах!
Даян: Дадо! (
машет рукой и уходит).
Элазар выходит на авансцену
Элазар: Сейчас, наверное, циклоп выступает перед всем кагалом. Я его немного завел, привел в тонус, это ему будет полезно перед кабинетным сражением. Наверное, он начнет свою речь с того, что сегодня он был на обоих фронтах и видел обстановку. Все-таки он позер, Моше, блин, Нельсон. Там не дураки собрались и прекрасно понимают, что такое современные средства связи и для чего они нужны. Но ему ничего не скажут – дадут потешить самолюбие. А может быть он начнет с того, что его доклад выражает общую точку зрения министерства и армии. Но ведь это и на самом деле так. Лучше не ворчи господин Элазар, это тебе не идет. Так чем же ты так озабочен, Дадо? Не знаю, хотя нет, вру – знаю. Знаю, например, то, что в политику я не полезу ни за какие бейгеле. Но что делать, если она сама лезет во все дырки? Казалось бы, стучался во все двери, доказывал, спорил, убеждал – правда никого не убедил. И вроде бы теперь твоя совесть может быть спокойна, ведь предупреждал же, ведь говорил же. Пусть теперь они расхлебывают. Да, нет, не обманывай самого себя. После войны всех собак повесят на тебя, именно тебя это политиканы обвинят во всех грехах. Но ведь не это тебя беспокоит. Так что же? Ты знаешь что, Давид Элазар, не ври самому себе. Может ты и дальше продолжишь убеждать себя, что поверил разведке? Ты согласился с их выводами о том, что войны не будет? Не надо ля-ля, главнокомандующий! Ты устал, Дадо, ты просто устал доказывать, биться лбом об стенку и требовать всеобщей мобилизации от Циклопа. Ты сказал то, что от тебя ждали. Ты сломался, Дадо. А теперь, наши парни там на юге, и там на севере расплачиваются за твою слабость. Ты их предал, генерал. И какие бы комиссии не создали после войны, какие бы выводы они не накропали, они не осудят тебя сильнее, чем ты сам судишь себя. Ох, скорее бы закончилась война.
Комната управления. Стенографистка, Голда, Даян, Элазар, Абба.
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?
Освещается задник
Первый: Танки, должны подойти танки. Держаться!! Назад, твою мать. Молиться будешь завтра, если будет чем! Держать позицию!
Второй: Влево, влево. Все влево. Обходим по вади.
Первый: Держаться! Держаться! Всем держаться!
Второй: Горим, блядь, как дрова горим!! Горим! М-а-а-а-ма!
Освещается комната управления
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?
Освещается задник
Первый: Вперед! Только вперед! Натан горит? Потом, потом. Вперед! Где поддержка с воздуха?
Второй: Забудь, я сказал – забудь! Получишь все что смогу собрать. Но пока – держ-и-и-сь. Прием?! Прием?!
Первый: Их слишком много. Рони и Алекс со мной. Остальные назад до бензоколонки. Всё – начали. Г-а-а-ды!
Второй: Нет, ничего нет! И танков нет! Совсем ничего нет! А ты держись! Как хочешь!
Первый: Алекс горит! Рони – назад! Слышишь, не смей, Рони!
Комната управления
Голда: Как ты мог, Моше, как ты мог? Оставить раненых.
Абба: "Пусть сдаются в плен, если хотят." Сильно сказано, очень сильно. А если не захотят, что ты им тогда посоветуешь?
Голда: А ты молчи, формально тебя там вообще не было. Ты его в протокол вписала?
Стенографистка: Нет. А надо было?
Голда: Не надо. Так что помалкивай, Обри.
Даян: Да нет, пусть выскажется, кабинетный стратег. (
Голде) И ты не лучше. Что вы понимаете. Дадо, хоть ты им скажи.
Элазар: Все верно, чтобы пробиться к фортам, пришлось бы положить вдвое, втрое больше бойцов. Так что формально Моше прав. Хотя…
Даян: Что "хотя"? Почему "формально"?
Абба: Да, наверное, потому что тебе будет нечего сказать другим бойцам, тем что пойдут в следующий бой. Может ты скажешь им, что оставишь их, если их ранят?
Даян: Они могут сдаться в плен.
Элазар: Ты бы сдался?
Даян: Может быть бы и сдался.
Элазар: А ты знаешь, что такое сирийский плен? И египетский ненамного лучше.
Даян: Ну и как бы ты поступил на моем месте, а?
Элазар: Не знаю, не знаю.
Даян: А ты, Абба?
Абба: Хорошо что я не на твоем месте.
Даян: Во когда будете на моем месте, тогда и будете судить. А сейчас помалкивайте. И без вас тошно!
Стенографистка: Совещание давно закончилось, госпожа премьер. Мне продолжать вести протокол?
Голда: Смеешься? Нет уж, мы тут по-семейному, без протокола. Ну что, вояки, мне кто-нибудь объяснит наконец, куда глядела разведка!
Даян: Разведка? Да они докладывают только то что тебе хочется услышать! А не то подомнешь их под себя как подмяла Аббу с его министерством!
Абба: Меня не трогай.
Голда: (
Даяну) Тебе что, сегодня ночью ни одна не дала?
Даян: Кто-нибудь, заткнет ее наконец? Мы и так в полной жопе.
Голда: А кто нас туда загнал? Кто говорил, что они не смогут прорваться? Где хваленый вал Бар-Лева? Где горящая нефть по всему Суэцу? На что ушла половина бюджета? Кто говорил, что арабы ничему не учатся? Бездарно просрали войну.
Абба: Война еще не окончилась.
Элазар: Война только началась, а где мы? А где они? И на Голанах не лучше!
Даян: (
Элазару) А ты куда смотрел, мать твою главнокомандующий?
Элазар: Я? Это я главнокомандующий? Да ты мне ничего не оставил, кроме титула. Чем мне нахрен командовать? Секретаршей? Сам ее трахай, на это ты мастер!
Даян: Армия на тебе!
Элазар: На мне?! А кто зарубил полную мобилизацию? Сейчас бы все резервисты были на позициях, если бы не ты. (
Голде) И ты тоже хороша, сука Я предупреждал – надо нанести первый удар, а ты, ты…!.
Голда: Первый удар захотел? Что еще тебе этот мудак Ицхак насоветовал? (
Даяну) А ты куда смотрел, мать твою министр? Как ты сказал сегодня? "Бумажный тигр" скажут про нас? А про тебя что скажут? Ты даже не "бумажный тигр", ты дерьмовый тигр.
Даян: Да не знал я, не знал ничего.
Элазар: Не знал? Врешь! Врешь! Как собака брешешь! Или скажешь тебе не докладывали?
Даян: Что? Что? Что вы докладывали?
Элазар: Да все! Все! И про новые вооружения, и про ПТУРы и про зенитные комплексы. И про подготовку их гребаного спецназа.
Даян: Ничего конкретного ты не докладывал. Одни обобщенные сопли.
Элазар: Сопли?! А кто отмахивался, мол все это советское дерьмо.
Даян: Передергиваешь! Я не отмахивался!
Элазар: А это дерьмо стреляет. А наши танки горят! А наши самолеты падают! А как насчет американского дерьма, которое у них тоже есть и тоже стреляет?! И на севере стреляет и на юге.
Голда: Как вы мне все надоели! Как мне все надоело!
Голда выходит на авансцену
Голда: Вы знаете, я всегда была феминисткой, даже с отцом поссорилась. Всю жизнь я доказывала, что женщины способны на все не хуже мужчин, особенно в этой стране. Я убеждала и спорила, со мной соглашались и не соглашались, а я снова и снова упорно долбила своё. Но лучшим доказательством была я сама, моя жизнь. Женщина во главе государства! Не какая-нибудь церемониальная королева, не яркая и бесполезная игрушка, а истинный руководитель страны, настоящий лидер. Или "настоящая" лидер? Почему мы не боремся с шовинизмом в грамматике? Но я отвлеклась. Постепенно, голоса скептиков стали слабеть, наконец они совсем пропали, и ты, казалось бы, уже могла торжествовать победу… Так почему же сейчас тебе так хочется спрятаться за какую-нибудь широкую мужскую спину. За этой спиной так легко и надежно и можно ничего не бояться. Наверное наконец проснулась в тебе женщина, простая киевско-тель-авивская баба, которая хочет тепла, уюта и надежности за мужниной спиной. А не поздновато ли, бабушка Меир? Или тебе просто хочется спрятаться, малышка Голда? Да, да, не лукавь сама с собой, госпожа, блин, Премьер. Ох как хотелось бы тебе зарыться сейчас с головой в одеяло как в детстве, закрыть глаза и верить, что ты в тепле и в безопасности. И пусть мужики сами разбираются. Это же их мужские игры, верно? Ну почему, почему, они замолкли и смотрят на меня? Чего они от меня ждут?
Комната управления
Голда: Так какова все же обстановка?
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Суэце?
Освещается задник
Первый: Лахцанит захвачен! Оркаль пал! Милано? Не знаю, что с Милано! Держаться, в бога-душу-мать, держаться! Сейчас подойдут танки!
Второй: Десант в тылу? Насрать на него! Наша работа здесь! Здесь! Мы все подохнем тут, но из форта не уйдем!
Первый: Танки горят! Все горят! Все! Мы остались одни!
Второй: Врешь! Арик прорвется, клянусь! Хоть на одном танке, хоть на одной гусенице, но прорвется!
Комната управления
Стенографистка: (
на телефоне): Кто-нибудь, кто-нибудь! Обстановка на Голанах?
Освещается задник
Первый: Два снаряда на машину! И это все? А потом что? С голым хером против танков?
Второй: И снарядом, и руками, и зубами! И хером тоже, если у тебя на них стоит!
Первый: Откуда вы? Бейт-Шеан? По машинам. Нет, нет времени – по машинам!
Второй: Восемь? Мало! Мало! Все по машинам!
Комната управления
Элазар: Интересно, кто-нибудь из вас задумался о том, что будет после войны?
Даян: Ты что, Дадо, получил хорошие новости с фронта?
Элазар: Не то что бы можно было бы расслабиться, но я верхним чутьем чувствую… Сирийцы выдыхаются. Садат…не знаю…но чувствую близость перелома.
Голда: Я не собачница и не разбираюсь в чутье, но хотела бы тебе поверить. А почему тебя интересует что будет после войны?
Элазар: Ну…
Абба: Потому что, как всегда, нас ожидает наказание невиновных и награждение непричастных.
Даян: Ты это всерьез?
Абба: Где-то наполовину.
Голда: А Обри все делает наполовину.
Элазар: Но ведь кто-то должен будет ответить за ошибки! Если это были всего-лишь ошибки.
Даян: На что это ты намекаешь?
Голда: Мы все ответим.
Элазар: Меня не впутывайте. Я лишь выполняю приказы правительства.
Даян: Даже и не надейся отмазаться!
Элазар: Это ты мне? Да вас обоих будут судить как преступников, как убийц, наконец.
Голда: Ты меня с одноглазым не путай. Я не руковожу армией.
Даян: Ты руководишь страной. И это к твоему дому будут приходить вдовы и стоять молча. О нет, они не будут рвать на себе одежду. Они просто будут молчать. Представила? Как тебе такая перспектива?!
Голда: Не смей. Ты не имеешь права.
Даян: А ты пожалуйся Киссинджеру. Вот телефон, что же ты не звонишь?
Элазар: Оба вы хороши. Один видит обстановку в розовых очках…
Даян: Я признал свою ошибку, все слышали.
Элазар: …А другая ему поддакивает.
Даян: Кто бы говорил! У меня на столе лежит доклад разведки. Интересно, чья там подпись?
Голда: А ты обвини во всем Премьера. Давай, давай, вали все на меня.
Элазар: Я не руковожу страной, я и армией то не могу толком управлять.
Даян: Не можешь, так выйди в туалет и застрелись, смотри не промахнись только!
Элазар: Интересно, как мне прикажешь управлять, если ты все время вмешиваешься.
Даян: Плохому танцору и яйца мешают. А хороший танцует.
Элазар: Вот ты и танцуй, а мы будем воевать. .
Абба: Послушайте, может быть стоит…?
Голда: Заткнись, Обри
Абба выходит на авансцену
Абба: Ну все, повело кота на блядки. Сейчас они перегрызутся совсем и словесная перепалка плавно перейдет в мордобой. Наверное, Моше и Дадо будут уныло молотить друг-друга своими крестьянскими кулаками, а Голда вцепиться им обоим в волосы и непременно завизжит. Я даже представил себе эту сладостную картину. Но пока что лишь воздух накаляется. Неужели не подерутся? А тебе какое дело, Обри? И что же ты делаешь здесь Обри? Ты пока еще министр, но твоя карьера фактически закончилась. Диниц докладывает непосредственно Голде через твою голову и твое министерство превращается в такую же пустышку, в какую Старик превратил Министерство Юстиции. Нужна ли тебе такая синекура? Давно пора угомониться и написать наконец свою книгу. Лукавишь, министр Эвен, все это время ничто не мешало тебе писать ее. Или что-то мешало? Так ты способен быть честным с самим собой или нет? Ты же так хотел донести до людей свое видение современного мира. Что же не так? Вот кончится война, ты сядешь за стол, включишь лампу под зеленым абажуром, возьмешь лист хорошей бумаги, перо и пустишь его бежать справа налево, резво и точно, как ты умеешь. Нет, слева направо конечно, ведь ты будешь писать по английски. Но что-то тебя смущает, верно? Погоди, там, похоже, что-то назревает. Неужели все-таки мордобой?
Комната управления. Ругань продолжается в виде пантомимы.
Стенографистка: Эй вы! А ну все заткнулись!
Голда: Что?
Стенографистка: Молчать!!! (
все молчат) Кто вы?! Я спрашиваю, кто вы?! Лидеры страны или кучка обосравшихся политиканов?!!
Освещается задник
Первый: Что происходит? Мы их остановили? А Будапешт, Будапешт еще держится?
Второй: Я не сплю, я могу еще, я не сплю. Не надо одеяла.
Первый: Лишь бы нам собраться с силами, и держитесь, гады. Только бы часик отдохнуть. Кто-нибудь, смените меня, смените…
Второй: (
сонно) Я не сплю. Не сплю.
Комната управления
Стенографистка: Извините, это я немного…
Абба: Ты молодец, девочка! Только так с ними и надо.
Стенографистка: С ними?
Абба: Ну… с нами
Молчание
Голда: Помолчали? Все мы наконец выпустили пар. Верно? Я спрашиваю, верно?
Элазар: Пожалуй я погорячился
Даян: И я слегка увлекся
Элазар: Слегка?
Голда: А теперь начинаем работать.
Элазар: Как с вами работать? Опять выполнять такие-же блядские приказы?
Голда: Да, придется. Ты же сам говорил, что только выполняешь приказы правительства. А разборки будут после победы!
Элазар: После победы?
Абба: Да, после победы.
Даян: (
задумчиво) После победы.
Голда: Именно, после победы. Тогда можете хоть дуэль устроить.
Даян: Дуэль? А что, это мысль.
Элазар: Согласен, но выбор оружия за мной. Стреляться будем на шестидюймовых гаубицах. Меньшим калибром тебя все равно не достать. Хотя у тебя преимущество – тебе прищуриваться не надо.
Даян: В компенсацию получишь право первого выстрела.
Голда: Все, закончили прения. Работаем…Моше, что ты собираешься предпринять?
Даян: Пусть главнокомандующий скажет.
Элазар: Ну ладно, хрен с вами, слушайте… На Синае у нас есть глубина обороны. Садат не пойдет глубоко, не осмелится, он страшно боится прорыва.
Даян: А Арик только этим прорывом и бредит. Будет Садату прорыв, дай срок.
Элазар: Верно, Арик в заднице у Садата – это наш козырь против него в дополнение к глубине обороны. Поэтому все резервы надо бросить на Голаны.
Даян: Согласен.
Голда: Можете же, когда хотите. Ну, давайте, работайте. (
Стенографистке) Спасибо тебе. И начни, пожалуйста вести протокол.
Стенографистка: Да уж, вы тут такого наговорили. Хорошо хоть, что без протокола.
Голда: Зато от души.
Моше Даян
Авансцена: улица перед входом в Кирию. Неподвижно стоит Женщина. Быстрым шагом появляется Даян. Женщина останавливает его.
Женщина: Простите, я плохо вижу, но мне кажется, что вы важный генерал?
Даян: Да, госпожа, я тут самый важный из всех генералов.
Женщина: Смеетесь над бедной женщиной. Ну, смейтесь, смейтесь. Только скажите, пожалуйста, когда вернется мой Эли?
Даян: Хотелось бы мне вас обнадежить, да не могу. И я не знаю, и никто не знает, ведь война только началась.
Женщина: Да, конечно, я понимаю. Но, видите ли, так тяжело ждать. Казалось бы, с годами можно было бы научится, но нет, ждать становится все труднее.
Даян: Я понимаю.
Женщина: Вначале я ждала Сашеньку – это мой брат. Друзья называли его Алекс, а папа – Сэндр, но для меня он всегда был Сашенькой, ведь он был намного младше меня. Правда, тогда было легче ждать, ведь у меня тоже была винтовка и я тоже… Но это неважно. Вы знаете, тогда, в 48-м еще не было этих телефонов на улице, только в Тель Авиве да и те по большей части были сломаны. А он был в Иерусалиме, ну разве оттуда позвонишь. Вот я и ждала.
Даян: И как?
Женщина: И не дождалась. Сашенька так и не вернулся. Ну что делать, пришлось жить дальше, выйти замуж, родить детей. Вначале у меня родилась дочка, Шуля....
Даян: Извините меня, но меня ждут. Я должен идти.
Женщина: Да, да, конечно. И последите там, чтобы быстрее закончилась эта война.
Даян: Я постараюсь.
Даян уходит.
Голда и Даян в коридоре Кирии.
Голда: Где ты был?
Даян: Где бы я не был, я был на связи.
Голда: Моше, мы сейчас не под протоколом. Из какой постели тебя вытащили?
Даян: В этой постели не слишком мягко, и многие уже легли в нее навечно. Я сейчас с позиций на Голанах.
Голда: Ах, вот оно что. Ну и как там?
Даян: Держимся и будем держаться. Сирийцы выдыхаются, а к нам подходят резервисты, да что я говорю – большинство уже там.
Голда: Но к ним тоже идет подкрепление из Ирака и из Иордании.
Даян: Плевать! Я не про танки говорил, а про дух армии. Главное – ударить в нужный момент, и они побегут.
Голда: Тебе виднее. Ладно, меня ждут.
Входит Стенографистка.
Голда: Ты надолго вышла?
Стенографистка: Я нужна?
Голда: Не сейчас. Можешь пока покурить… без протокола.
Голда уходит.
Стенографистка: Будете ругаться?
Даян: За что? А, за тот позавчерашний случай? Нет, не буду. Как ты сказала? "обосравшиеся политиканы". Да, это как раз про нас.
Стенографистка: Я пожалуй…
Даян: Не, не – все верно. Вот только понимаешь ли ты почему мы все, по твоему изящному выражению, "обосрались"?
Стенографистка: Не считайте меня дурой, пожалуйста. Сейчас вы скажете, что испугались за судьбу страны.
Даян: Ты так не считаешь? Говори, не стесняйся.
Стенографистка: Вам не понравится то, что я скажу.
Даян: Говори, но только будет лучше, если ты не будешь касаться ни Премьера, ни Аббы, ни начальника генштаба. Не то чтобы они были неприкосновенными фигурами, но, как бы тебе сказать…
Стенографистка: Вы не хотите говорить о них у них за спиной, верно?
Даян: Что-то в этом роде. А вот по мне ты можешь пройтись в свое удовольствие. Тем более, что офицеры не слышат. Итак?
Стенографистка: Я думаю, что вы действительно испугались за страну…
Даян: Вот уж – спасибо!
Стенографистка: …Но не только…
Даян: А чего же еще я мог испугаться? За свою шкуру, что ли? Да, есть немало египтян, да и сирийцев тоже, которые не отказались бы меня собственноручно вздернуть на ближайшем фонарном столбе.
Стенографистка: О нет! Этого я не говорила, да и никто не посмеет сказать такое про героя Дгании.
Даян: Тогда что-же? Не тяни. Может быть ты намекаешь на карьеру?
Стенографистка: Ну, перспектива потерять кресло могла бы вас озадачить, разозлить, вогнать в депрессию, наконец, но не напугать же до усрачки.
Даян: Ты сегодня необычайно добра ко мне. Так что же?
Стенографистка: Ненужность!
Даян: Не понял?
Стенографистка: Вас до смерти напугало то что этот что мир изменился и уже не нуждается в таком как вы. Здесь уже не надо вести за собой в атаку и бросаться на пулеметы. Здесь уже никто не позволит высадить десант, не дожидаясь приказа. Здесь победителей судят, а дающих палестинцам работу обвиняют в эксплуатации. Что вам делать в этом новом мире? Вот что вас напугало.
Даян: Ну, не знаю. Ты говоришь страшные вещи. Что-ж мне теперь и не жить, если этому миру я не нужен? Тебе-то самой он нравится?
Стенографистка: Нет, не слишком. Нам с вами значительно ближе черно-белый мир, где есть друзья и враги, и первые отличаются от вторых. С первыми мы дружим, а со вторыми воюем. Только мир уже давно не таков. А сейчас иногда не поймешь где друг, а где враг и не всегда можно победить оружием. Если же не в наших силах это изменить, может стоит поискать свое место в новом мире?
Даян: Неужели ты права? Так что же делать? Уйти? Оставить страну Ицикам и Шимонам? Ну уж точно не сейчас. Вначале мы закончим это войну, потом ответим за свои ошибки по-полной, а там – посмотрим. Верно?
Стенографистка: Не мне давать вам советы.
Даян: Ты их уже даешь. Вот сейчас ты посоветовала мне, ястребу, стать совсем другой птичкой.
Стенографистка: Я бы не назвала вас ястребом, как не назвала бы исключительно человеком войны, несмотря на все военные заслуги. Мы знаем Даяна, заключающего мир и Даяна возрождающего палестинские территории. А вот Даяна, лавируюшего, Даяна комбинирующего или Даяна маневрирующего мне представить трудно.
Даян: То есть, я способен только на простые решения?
Стенографистка: Скорее на прямолинейные. А это больше не работает.
Даян: Знаешь, а ты молодец, девочка. Было бы у меня оба глаза, да будь я на пару лет помоложе…
Стенографистка: Даже и не пытайтесь, я не собираюсь пополнять вашу коллекцию.
Даян: Вообще-то слухи о моих постельных победах несколько преувеличены, хотя, если честно, я и сам способствовал их распространению.. И все же я предпочитаю, чтобы меня помнили по победам на поле боя. В любом случае, извини старика! Можно я пойду, немного покомандую?
Стенографистка: Свободен! (
Даян начинает уходить) …Стоять! (
Даян оборачивается) Последний вопрос, если можно? Это правда, что вы получили Героя Советского Союза за освобождение Севастополя?
Даян: Да, все верно. Только не Севастополя, а Киева, и не Героя, а орден Боевого Красного Знамени. И еще одна маленькая деталь, девочка – это всего лишь легенда.
Уходит
Стенографистка: (
в зал) Легенда?! А вот про Насера такие легенды почему-то не рассказывают.
Абба Эвен
Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Появляется Абба Эвен.
Женщина: Извините, господин, вы ведь идете туда? Скажите, вы не знаете случайно, когда наши мальчики начнут возвращаться?
Абба: Видите ли, госпожа, война все еще идет и хотя положение на фронтах…
Женщина: Да я совсем не про положение на фронтах, я о моем Эли беспокоюсь. Уже четыре дня прошло, а он не звонит. Я там оставила соседку на телефоне, а сама – сюда.
Абба: Я понимаю, но послушайте…
Женщина: Надо же кого-то ждать, правда? А кого мне еще ждать? Я ведь всю жизнь жду. Старшего сына я назвала Сашей, Сашенькой, как моего брата, но все равно все его звали Алексом. И я училась его ждать, у меня уже начало получаться. Вот только этого Сашеньку у меня забрали. Потом сказали, что это был теракт. А на самом деле его просто-напросто убили.
Абба обнимает Женщину
Абба: Я пойду. Не сердитесь, но меня ждут.
Женщина: Ну конечно же, я понимаю. Я ведь тоже жду.
Абба уходит.
Голда и Абба в коридоре Кирии.
Голда: Послушай Обри, что это ты последнее время все больше помалкиваешь?
Появляется Стенографистка и прислушивается.
Абба: Война, дорогая моя, война! Сейчас разговаривают пушки, а дипломаты молчат.
Голда: Это музы молчат, а не дипломаты. Именно сейчас дипломаты должны сказать свое слово.
Абба: Для этого у тебя есть Диниц, твоя послушная марионетка. Или не твоя, а Киссинджера?
Голда: Да ну тебя! (
Стенографистке) Может ты с ним поговоришь? А я пожалуй пойду.
Абба: Ну как, будем говорить или помолчим на брудершафт?
Стенографистка: Пожалуй, вы намолчались за последние дни. Интересно, почему?
Абба: А кому нужны мои слова?
Стенографистка: Вас не слушают!? Вашим мнением пренебрегают!?
Абба: Ну, как сказать…
Стенографистка: Не надо мямлить – это вам не к лицу. Ведь, на самом деле причина совсем не в этом. Верно?
Абба: Продолжайте, пожалуйста. В чем же, по вашему причина моего молчания?
Стенографистка: А вы не обвините меня в энциклопедическом невежестве?
Абба: Приятно, конечно, когда тебя цитируют, но все же, в чем причина?
Стенографистка: Мне кажется, что Аббе Эвену, который был представителем Израиля в ООН было бы что сказать. И послу Израиля в Соединенных Штатах с такой-же фамилией нашлось бы. что заявить. И он прекрасно знает, что его голос будет услышан, несмотря на закулисные интриги и фактическую отставку. Если же он молчит, значит неуверен в себе.
Абба: Полностью уверен в себе только полный идиот.
Стенографистка: Вот этот афоризм я еще не слышала. Я к тому, что вы же убежденный голубь…
Абба: Голубь мира (
хихикает). Только изрядно пощипанный.
Стенографистка: В этом то и дело. Тут дело не в отставке и замене на Диница, тут нечто большее, верно?
Абба: Не знаю, не знаю.
Стенографистка: Знаете, или, по крайней мере, догадываетесь. Вы убедились, только еще не готовы признаться себе самому, что мирный подход не работает с нашими соседями. Когда мы идем на уступки, то только теряем, ведь они-то не готовы ни на малейший компромисс. А если мы ведем переговоры с позиции силы, то не добиваемся ничего. И вы опустили руки. Вы не знаете, что вам делать с этим своим голубиным подходом. А по-другому вы не умеете. Пока не умеете.
Абба: И не думаю, что когда-либо смогу.
Стенографистка: Ну почему? Должен же быть какой-нибудь выход!
Абба: Давайте лучше я спрошу вас – почему люди такие оптимисты? Они думают, что все так или иначе решится полюбовно, что переговоры решат все.
Стенографистка: А вы в это не верите?
Абба: Уже нет… Но никому этого не скажу и вам не советую. Скажи я. что мира не будет никогда, и меня, итак изрядно ощипанного голубя, заклюют и птички справа и птички слева. Видите ли, одни думают, что можно добиться результата, если все отдать, а другие предлагают сначала все забрать, а уж потом отдавать. По сути, они мало отличаются друг от друга.
Стенографистка: Мира не будет?!
Абба: Нет, не будет! Наверное будут периоды перемирия ценой очень больших уступок. Быть может даже удастся наладить отношения с одним-двумя, из наших соседей. Но реального мира не будет.
Стенографистка: Но почему?
Абба: Да потому, что недостаточно хотеть мира, хотя и этого я не вижу. Но, что еще важнее, надо уметь жить мирно. А это не так просто: ведь надо научиться строить, кормить, лечить. Нам самим это дается с большим трудом. А нашим соседям или по крайней мере тем из них, кто не сидит на нефти, с их коррупцией и не слишком созидательной ментальностью, это будет ох, как непросто. Можно, конечно, паразитировать на иностранной помощи, но такую помощь дают пострадавшим от военных действий или от стихийных бедствий, но…
Стенографистка: Но не пострадавшим от самих себя.
Абба: Вы меня поняли. Вот поэтому я и молчу. Думаю, что никто больше не услышит моих афоризмов.
Стенографистка: И вы сдались!? Именно сейчас сдались?! Посмотрите вокруг. Наши армии были разбиты, наши линии обороны прорваны, наше контрнаступление захлебнулось! Но страна не сдалась! А вы капитулировали… Трус! Трус!
Стенографистка плачет. Абба, подходит и обнимает ее, или просто кладет руку ей на плечо.
Абба: Ну не надо так. Зачем вы плачете? Я не хотел так резко. Ну, пожалуйста, не надо.
Стенографистка: (вытирая слезы) Опять мямлите.
Абба: Вы же понимаете, мне, по сути, нечего сказать.
Стенографистка: Нечего? Вам? Автору прекрасных книг, лучшему в мире оратору… Вам нечего сказать?
Абба: Но что?
Стенографистка: Да то самое, что вы сказали мне… Что мира не будет, что надо научиться жить без мира. Долбите это как самый тупой кибуцник, доказывайте это как самый красноречивый дипломат, орите на площадях, со страниц газет, на пикниках, в барах за кружкой пива. Только, пожалуйста, не сдавайтесь, прошу вас. А может быть, когда-нибудь, совсем нескоро, осознав, что те две дороги не ведут к миру, люди найдут новую, пока неизвестную нам и мир все же наступит. Но для этого вы должны не молчать.
Абба: Как хорошо вы сейчас сказали. Вот только не уверен, что я подходящий кандидат. Я ведь не уверен…Я не знаю… Да я просто боюсь.
Стенографистка: Не бойтесь! И обязательно попробуйте. И может быть именно вы найдете этот третий путь к миру.
Абба: А мне не надо его искать. Я его и так знаю.
Стенографистка: Говорите же!
Абба: Боюсь разочаровать вас, ведь этот путь так долог, что может потребовать нескольких жизней. Надо всего-лишь воспитать новое поколение, которое будет ценить жизнь, и свою и чужую. Это должно быть поколение, для которого созидать важнее чем разрушать. Мы, евреи, в этом преуспели за две тысячи лет. Теперь очередь наших соседей.
Стенографистка: Что для этого надо?
Абба: Время и деньги.
Стенографистка: Деньги?
Абба: Да, те самые деньги, которые они тратят на оружие и военную пропаганду, можно направить на совсем другое.
Стенографистка: Но они на это никогда не пойдут.
Абба: Их-то как раз можно заставить, нет, не силой, есть и другие способы.
Стенографистка: Постойте, если не они, то кто-же противится…?
Абба: Мы!
Стенографистка: Мы?
Абба: Да, мы, те из нас, кто не готов ждать десятки, сотни лет. Те, кому нужен мир сейчас, сегодня. Многие из них будут до самого конца отрицать очевидное и тупо переть к призрачной цели. Этих не убедишь ничем, ни фактами, ни доказательствами. Воистину, если факты противоречат нашим убеждениям – тем хуже для фактов! И количество трупов по дороге к цели их не остановит – неважно кто и неважно сколько. Мир! Мир! Мир любой ценой! Среди них есть и более вменяемые, но и этим застилает разум призрачная перспектива немедленного мира. Эти-то в конце концов поймут, ну, увы, нескоро, очень нескоро. Ох, как бы не было поздно.
Стенографистка: Мне страшно. Я сейчас опять заплачу.
Абба: Не надо. Это будет несправедливо по отношению ко мне. Мне ведь тоже хочется заплакать, а я не умею.
Стенографистка: Это нетрудно. Вы научитесь.
Голда Меир
Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Появляется Голда Меир.
Женщина: Простите меня пожалуйста, я плохо вижу, но вы ведь идете туда, правда? Наверное вы все знаете?
Голда: Пожалуй я немного в курсе – мы их тесним на обоих фронтах. Наступление развивается успешно.
Женщина: Спасибо, конечно, но я не об этом. Мне бы знать, когда мой Эли сможет позвонить. Ведь с самого того дня, как началось, ни звонка, ни весточки – ничего. Как вы думаете, он вернется?
Голда: Вернется, обязательно вернется.
Женщина: Вы знаете, наши дети поступают так великодушно, не оставляя нам выбора. Только представьте себе, что нам пришлось бы решать, отправлять их на войну или нет. Я бы не пережила такой ужас. А мой Эли просто взял свой вещмешок, сказал "до свиданья, мама" и ушел. Ну а я осталась ждать. Ведь мы умеем ждать, верно?
Голда: Верно. Мы научились ждать
Женщина: Ну, идите, идите, не надо вам тратить время на глупую старуху.
Голда целует ее и уходит.
Женщина: А я здесь подожду.
Голда уходит
Действие продолжается в Кирие. Входят Голда и Стенографистка
Голда: Покурим? Говорят, я всегда прикуриваю одну от другой. Это наглая ложь и инсинуации, так бывает далеко не всегда. Но что с тобой происходит последнее время, дорогая? О тебе очень тепло отзываются наши министры. Ты говоришь им комплименты?
Стенографистка: Вовсе нет, я их ругаю.
Голда: Тоже нужное дело. Хотя и не всем нравится.
Стенографистка: Это смотря кто ругает. Я им не начальник, точнее, не начальница, не газетный репортер, не политический противник. От меня они согласны услышать такое, на что другим не позволят и намекнуть. К тому же, все это происходит без протокола.
Голда: Не хочешь поругать и меня тоже? И тоже без протокола.
Стенографистка: Вам это надо?
Голда: Ты же видела меня в первые часы войны. Не самое приятное зрелище, ты не представляешь как мне самой было противно от этой своей слабости, от липкого, мерзкого страха. Хорошо еще, что ты нас быстро построила в три ряда (
Стенографистка смотрит недоуменно)… Ну, я имею в виду то как ты нас приструнила. Что же с нами тогда произошло? Это.. это… Не знаю… Как будто мир обрушился.
Стенографистка: Закончится война, уволюсь и пойду учиться на психотерапевта.
Голда: Больше ничего не скажешь?
Стенографистка: Вот вы сказали
: "Мир обрушился"? Какой мир?
Голда: То-есть, что значит "какой"?
Стенографистка: Чей мир обрушился? Ваш внутренний мир?
Голда: (
неуверенно) Наверное – он.
Стенографистка: А какой этот мир? Мир в котором министр обороны мудр и предусмотрителен? В котором начальник генштаба профессионален, а разведка докладывает точно? Оказывается, все не совсем так.
Голда: Совсем не так, я бы сказала.
Стенографистка: Как случилось так, что высший офицер докладывает не то что есть, а то что его боссу хотелось бы услышать? Как случилось, что министры не всегда заботятся о стране, но иногда, совсем иногда, о своем кресле. Как случилось, что подхалимы вытесняют профессионалов?
Голда: Прогнило что-то в Датском Королевстве.
Стенографистка: Прогнило и воняет. Но ведь так было всегда, верно? Политика – это то еще болото. Что же изменилось?
Голда: Просто дерьма стало больше, многовато его стало. Может больны не отдельные люди? Может быть больна система?
Стенографистка: Уважаемая госпожа Премьер! Да не разочаровались ли вы ненароком в социалистических идеалах?
Голда молчит.
Стенографистка: Так вот оно что! И что теперь?
Голда: Я же ничего не сказала.
Стенографистка: Ваше молчание достаточно красноречиво.
Голда: Не знаю, может быть, все зависит от народа? Одним подходит социализм, а другим – нет. И то, что работает в Швеции, оборачивается фарсом в Советском Союзе. Вот на Дальнем Востоке, посмотри, что капитализм, что социализм, а ковырни поглубже – увидишь один и тот-же феодальный уклад. И ведь живут и довольны. Может быть нам, евреям, тесно в прокрустовом ложе социализма. А теперь эта теснота обошлась стране в тысячи жизней.
Стенографистка: Вы чувствуете свою вину?
Голда: А ты как думаешь? Это жжет, это свербит, это невыносимая боль, которая разрывает тебя на части, как раковая опухоль.
Стенографистка: Не надо!
Голда: Надо! Надо все время об этом думать! Надо не спать и думать, думать, что ты сделала не так, не додумала, где ошиблась! Каким подлецом надо быть, чтобы не чувствовать эту боль. И Моше так чувствует и Дадо тоже. Но они мужчины и им легче.
Стенографистка: Не легче! Просто они лучше умеют скрывать свои чувства.
Голда: Может быть. Может быть.
Стенографистка: Что же произошло?
Голда: Не знаю. Может быть, власть развращает? Даже не развращает, а туманит разум. Ты уверена, что поступаешь так, как надо стране, народу…
Стенографистка: А поступаешь так, как надо тебе.
Голда: Молчи! Не смей!
Обе молчат
Голда: Хорошо Старику, тот нашел силы уйти вовремя. Но ведь я же хотела как лучше! Как лучше! Я отказалась от всего личного! Я забросила детей! Я забыла, что я мать, бабушка. Я отдала себя стране целиком, а теперь она больше не нуждается во мне. Теперь я всего лишь помеха, всего лишь старуха, пославшая детей не смерть!
Садится и сидит закрыв лицо руками.
Стенографистка: Не надо так терзать себя, не надо. Вы выстояли, справились!
Голда: Это они выстояли, наши дети!.
Стенографистка: Это мы все выстояли.
Голда: Только бы побыстрее все это закончилось. А потом…
Стенографистка: Вы уйдете?
Голда: Да… Я приму на себя все, что на меня навесят. Наверное справедливо навесят. И, поверь мне, я не буду сражаться за себя. Уйду. Уйду. Скорее бы закончилась война. Просто нету сил.
Врывается Абба.
Абба: Вы уже знаете? Слышали? Арик форсировал Суэц!
Бен-Гурион
Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Появляется Бен-Гурион.
Женщина: Простите, вы наверное, кто-то из наших лидеров? Я совсем стала плохо видеть.
Бен-Гурион: Нет, я не из них. Уже нет.
Женщина: Как жаль, а мне так хотелось знать, когда вернется мой Эли. Он у меня младший, а старшая была Шуля, но ее больше нет. Я ей говорю, доченька. не женское это дело ковырять соль лопатой на Заводах Мертвого Моря. А она только рассмеялась и говорит: а вот посмотрим мама. И вы знаете, у нее все стало получаться! Она даже стала бригадиром, или как это у них называется? И все было хорошо, пока на них не напали фидаины. Конечно, их потом догнали, а вот Шуленьку мою не вернули. И что мне с того, что сожгли их деревню. Верно?
Бен-Гурион: Наверное, вы правы.
Женщина: Вот и Рувен – это муж мой, тоже так говорил. А Рувен.. Я еще так радовалась, что его призвали на флот. Ведь наши моряки никогда раньше не участвовали в боях. Вы наверное знаете про этот наш корабль, он еще назывался "Эйлат"? .
Бен-Гурион: Знаю, конечно знаю. Очень прошу меня простить, но меня ждут там. Извините.
Бен-Гурион уходит.
Действие продолжается в Кирие. Стенографистка, Голда, Даян.
Стенографистка: Госпожа премьер, к нам посетитель.
Голда: Я же велела никого не пускать!
Стенографистка наклоняется к ней и говорит что-то на ухо.
Голда: Старик!? Зачем? Он же болен. (
после паузы) Впустите его.
Даян: Зря, ничего нужного он уже не скажет.
Голда: Это нужно не нам, а ему. Впустите!
Стенографистка уходит. Входит Бен-Гурион.
Бен-Гурион: Здорово, предатели.
Голда: Давид, что с тобой?
Даян: Старик спятил!
Бен-Гурион: Еще нет, не надейся. Я пока еще в состоянии сопоставить пару очевидных фактов. И что-то мне не верится, что это нападение было для вас обоих неожиданностью!
Голда: Как это?
Даян: Ты о чем?
Бен-Гурион: А что это ты так испугался, Мойша?
Даян: Не называй меня так, я – Моше.
Бен-Гурион: Это когда ты сражался с вишистами, ты был Моше. И когда оборонял Дганию ты тоже был Моше. И еще много, много раз ты был Моше. Но сейчас ты – маленький, испуганный галутный еврей Мойша, несмотря на то, что родился в кибуце. И твоя повязка тебе сейчас не придает мужественности, Мойша Кутузов.
Голда: У Кутузова была повязка на другом глазу.
Даян: Кто такой Кутузов?
Голда: Ты болен, Старик.
Бен-Гурион: Это страна больна, а я просто умираю. Но сегодня я еще жив и сегодня я хочу посмотреть вам в глаза и спросить "почему?"
Даян: (
после паузы) Да потому, что так было надо для страны!
Бен-Гурион: Вот сейчас ты стал похож на Моше,
да и повязка тебе к лицу. Только мне был много ближе испуганный галутный Мойша. Он бы не подставил страну под удар, а ты подставил. И как, доволен?
Даян: Я был убежден, что мы справимся малой кровью.
Бен-Гурион: Ты ошибся. И эта кровь на тебе (
Голде) и на тебе. Впрочем, вы это прекрасно понимаете и вы еще способны сами себя судить. Только построже, построже! Но все-же ответьте – почему?
Голда: Да потому, что начни мы первыми, нанеси мы упреждающий удар, на нас бы обрушился гнев держав. И Америка была бы в первых рядах. Киссинджер нас предупреждал напрямую.
Бен-Гурион: Когда это мы оглядывались на державы?
Голда: Да всегда, просто ты не хотел этого замечать.
Бен-Гурион: И ты полагаешь, что наше непротивление, наша подставленная щека принесет нам дивиденды?
Голда: Я в этом уверена!
Бен-Гурион: А я убежден в обратном. В 67-м мы напали первыми. Правда, Насер закрыл проливы, но кого волнует казус белли когда речь идет об евреях. И все кричали об агрессии, об ничем не спровоцированном нападении, как бы смешно это не звучало после речей Насера. А что в итоге? Нас стали уважать....
Даян: Нас стали бояться!
Бен-Гурион: На Ближнем Востоке это то же самое, мне ли тебе объяснять? Наши акции только поднялись, потому что все любят победителей.
Даян: Мы победим и в этой войне – слушай радио.
Бен-Гурион: О, да! В военном плане – мы победим. Но поверьте старому человеку, на нас еще навесят всех собак вопреки всякой логике. И сделают это потому, что мы прогнулись под Киссинджера, прогнулись под Москву, прогнулись под Садата. Особенно под Садата. Вот этот-то получит все дивиденды, ведь свое он уже урвал.
Даян: Что он урвал, что? Арик в 120-ти километрах от Каира!
Бен-Гурион: А Садату плевать!
Даян: Ты знаешь, что их потери в десять раз больше наших?
Бен-Гурион: А Садату плевать!
Даян: Мы взяли в плен тысячи египтян.
Бен-Гурион: А Садату плевать! Зато они взяли десяток наших и это их победа. А на своих они все плевать хотели! И знаете, что самое главное? Теперь они знают. что на нас можно давить и они знают как давить и они таки будут давить!
Голда: Скажи ему, Моше, что же ты молчишь!
Даян: Я промолчу, пусть Премьер скажет.
Стенографистка: Давайте лучше я скажу.
Голда: Ты? А что – говори. Ты последнее время изрекаешь истины. Правда опасное это дело.
Стенографистка: Я знаю.
Бен-Гурион: Ну-ка, послушаем глас народа.
Стенографистка: Этот глас вам может не понравиться.
Бен-Гурион: Неважно, мне последнее время многое не нравится. Наверное это старческое, или даже предсмертное. Ну давай, говори.
Стенографистка: И скажу, только потом не жалуйтесь. Вот вы тут обличали Премьера и Министра. А ведь они оба ваши ученики. Да, да, они не сделали ничего такого, что противоречит вашим собственным убеждениям.
Бен-Гурион: Моим? Разве я делал что-нибудь тайком от народа и от страны?
Стенографистка: А кто сказал: “Не важно, что хочет народ – важно, что нужно народу”? Ваши бывшие соратники оказались хорошими учениками.
Бен-Гурион: Постой, но иногда это бывает необходимо. Порой народ надо направить.
Стенографистка: Допускаю, что в этом был смысл раньше, когда наше общество бы незрелым. Но сейчас народ уже не тот, да и вы не те.
Бен-Гурион: Я-то точно не тот, что раньше. Предположим, однако, что ты права. Хорошо, тогда мы уйдем и освободим место тем, кто лучше нас, современней, демократичней, наконец.
Даян: Говори за себя, Старик. Меня еще рано списывать.
Бен-Гурион: А тебя и не спросят. Мне вот хватило смелости уйти раньше, чем вы меня об этом вежливо попросили.
Стенографистка: Интересно, подумали ли вы о том кто придет вместо вас? Ну-ка скажите, кого бы вы хотели видеть во главе государства?
Бен-Гурион: Думаю, с этим-то проблем не будет. Возможно, Шимон. Хотя…
Стенографистка: Вот именно! И это результат вашего авторитарного правления.
Голда: Врешь, у нас демократия!
Стенографистка: Обертка, не более! А у руля стоят сильные и харизматичные люди… истинные гиганты. Мы все перед ними… перед вами… преклоняемся. Вот только одна маленькая проблема. Гигантам свойственно остальных подминать под себя. Иногда они этого даже сами не замечают. В результате личности такого-же калибра просто не выживают, а остаются либо серости, либо приспособленцы и карьеристы.
Даян: Ну ты, дочка, загнула!
Стенографистка: Возможно, я немного преувеличила.
Даян: Хотя, с другой стороны… Впрочем, неважно.
Бен-Гурион: Не знаю, не знаю. Я никогда не рассматривал ситуацию с этой стороны. Что же это получается: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? (
опускается на стул) Не понимаю. Ничего не понимаю. Наверно я слишком долго живу. Простите старика… Я просто устал, слишком устал. И
уже совсем ничего не соображаю. Скажите же мне, ради бога, что происходит?
Стенографистка: Похоже, заканчивается эпоха.
Бен-Гурион: И похоже, вместе со мной.
Эпилог
Голда, Бен-Гурион, Даян, Абба. Входит Стенографистка.
Стенографистка: Госпожа премьер.
Голда: Да?
Стенографистка: Вот. Список.
Голда: Список? Какой список? Ах, да! Давай его сюда.
(Стенографистка передает список). Сколько?
Стенографистка: Еще триста пятьдесят четыре.
Голда: Спасибо, Можешь идти.
Стенографистка: Извините, можно узнать, что вы будете с ним делать.
Бен-Гурион: Она будет его читать! Вслух! От первого имени и до последнего.
Голда: Прочитай сам. Ну пожалуйста!
Бен-Гурион: Я плохо вижу.
Голда: Может Моше прочтет?
Даян: Ты премьер – тебе и читать
Абба: Читай – не тяни.
Голда: Ладно. (
Стенографистке) Ты можешь идти.
Стенографистка: Можно я останусь?
Голда: Зачем тебе это?
Пауза
Даян: Ее брат сейчас на Синае.
Бен-Гурион: Или в этом списке. Извини, девочка. Ты его просмотрела?
Стенографистка: Я боюсь.
Бен-Гурион: Читай, Голда. Видишь – тебя ждут.
Голда: (
смотрит в список) Тут все по алфавиту. Ну зачем же так?
Дальнейшего нам не слышно. Голос за сценой читает стихи. В это время: Бех-Гурион сидит, устало опустив голову, Даян стоит неподвижно, с какого-то момента отдавая честь, Абба сидит задумчиво, Стенографистка сидит закрыв лицо рукам. Периодически сквозь стихи слышен голос Голды. .
Голда: (
читает) Абрамзон Давид… Альфаси Менахем..
Песня: Ты помнишь как обрушилась война?
Когда ушли от нас отцы и деды
И те что не увидели победы
Оставили в наследство имена.
Голда: (
читает) Мошкович Гади… Мизрахи Шмуэль
Песня: Они погибли на войне, а тут
Остались только имена и лица
Ты можешь умолять или молиться
Но все равно обратно не придут
Голда: (
читает) Познански Ицхак… Портнов Амихай
Песня: Ни завтра ни сегодня не придут
Не подойдут тихонько к изголовью
И песню колыбельную с любовью
Тебе на сон грядущий не споют
Голда: (
читает) Клебанов Борис… Резник Михаэль
Песня: Мы тоже этих песен не поем
Лишь имена в молитвах произносим
И больше никого уже не спросим
Что в имени тебе моем?
Голда: (
читает) Шиманович Зальман… Шитрит Эзра
Улица перед входом в Кирию. По прежнему стоит Женщина. Женщина обращается к залу.
Женщина: Извините меня, пожалуйста, вы не видели моего Эли? Он ушел так неожиданно, что я не успела сложить ему теплый шарф. А ведь в этом году такие ранние холода! Ах, эти дети, они такие беззаботные. Ну ничего, на то и мама, чтобы позаботиться. Вот он, этот шарф, я взяла его на всякий случай. Если увидите моего Эли, передайте пожалуйста, что мама его ждет. Но только пусть, ради бога, не торопится. Я подожду.
Закрыть Америку
Драма
Действующие лица:
Автор
Сервантес – Мигель де Сервантес Сааведра, будущий писатель
Фра Франциско – монах-францисканец, бывший инквизитор
Эль Греко – живописец
Доктор – Херонимо де Санта Фе, доктор
Диего – бывший конкистадор и навигатор
Кармелита – трактирщица
Действие происходит в провинциальном городке Испании в 1590.
Трактир обозначен условно. Периодически возникает пьяный шум. В середине сцены стол. За ним сидят Доктор, Диего и фра.Франциско
. Они оживленно что-то обсуждают. На авансцену выходит Автор.
Автор: Здравствуйте, друзья. Я – автор этой пьесы. Не удивляйтесь и не пугайтесь, я вышел к вам совсем ненадолго, чтобы объяснить, кто будет с вами в течении ближайших часа или двух. Посмотрите туда (
показывает на стол). Это мои герои. Да, это я собрал их. Правда, не все еще в сборе, но скоро появятся и остальные. Как вы думаете, для чего они здесь? Ну как, догадались? Конечно же, они тут для того чтобы поговорить с вами и сказать вам то, что я сам сказать то ли не умею, то ли стесняюсь. Но я нашел очень простое решение. Я поместил моих героев в глухую испанскую провинцию и забросил их на несколько сот лет назад. Сейчас я собираюсь дать им слово. Еще не знаю, что они вам расскажут, но мне почему-то кажется, что это может быть актуально. Возможно и наши сегодняшние беды имеют очень давние корни. Итак, год 1590. Слово моим героям.
Кармелита вводит Сервантеса, проводит между (воображаемыми) столиками к столу на сцене. По пути она болтает.
Кармелита: Проходите, сеньор, проходите. Уж извините нас, провинциалов. У нас, как что интересное происходит, ну там бой быков, или еретика какого жгут, так опосля на мужиков наших сразу жажда нападает. Вот и прутся они в мой трактир, да льют винище себе в глотки, чтоб им в том вине утонуть. Ой, что это я, прости меня, святая дева (
крестится). Так что уж не обессудьте, трактир сегодня переполнен, только за одним столиком место и осталось. Зато люди за ним сидят все больше благородные. Вот доктор наш, дон Херонимо, прекрасный человек. А уж врачует-то он просто милостью божьей. Как он бабке Сильвии ломоту в костях лечил, так мы все прибегали смотреть. А ей все лучше и лучше. И совсем было он ее вылечил, да тут возьми она да помри. Вот незадача, да разве это доктора вина-то? Болтают про него правда, что он трупы режет и еще… всякое. Да это все враки. вы и не верьте. А вот того сеньора, я сама не знаю, но сразу видно, что идальго, верьте моему слову. Наш-то доктор абы с кем сидеть не будет. Ну и святой отец, конечно. Он не наш, не местный, но в наших местах уже давно, и вы знаете, поговаривают, что он большой святости человек. Не знаю, я раньше святых великомучеников не встречала, но наш фра Франциско совсем не куражится и к нам, простым людям, он тоже по простому, хотя сам и из ученых, это вам всякий скажет. А вас, простите, как величать?
Сервантес: Моя фамилия – Сервантес. Но вы, милейшая, не утруждайтесь, зовите меня просто – дон Мигель.
Кармелита: А меня Кармелитой кличут. Так что, если что потребуется, так и кричите – Кармелита!! (о
бращается к сидящим за столиком) Позволят ли благородные господа дону Мигелю присоединился к вашему столу?
Фра Франциско: Я думаю, никто не возражает, верно?
Диего: О чем разговор. Присоединяйтесь.
Доктор: С кем имеем честь?
Сервантес: Мигель де Сервантес Сааведра к вашим услугам.
Доктор: Херонимо де Санта Фе, местный эскулап
Фра Франциско: Франциско, скромный слуга божий из местного монастыря.
Диего: А я вот не местный, только что из Вест Индии. Диего из Люцены, к вашим услугам.
Сервантес: Так вы андалузец?
Диего: В двенадцатом колене. Боюсь, что прежде того в моем роду в основном были мавры. Но уже не первую сотню лет мы верные сыны церкви.
Сервантес: Я так понял. что вы конкистадор из Америки?
Диего: Я еще не привык так называть наши новые территории. Впрочем – да, из Америки. И я действительно был чем-то вроде конкистадора. Правда это было давно.
Сервантес: Я слышал, что бывших конкистадоров не бывает…
Диего: Рыцарь и на отдыхе – рыцарь? Бывает, дон Мигель, еще как бывает. Тем более, что последние годы я все больше странствую по морям, чем по горам и непроходимым лесам.
Сервантес: Вы не слишком похожи на простого солдата. Пожалуй тут чувствуется Саламанка или Сарагоса. А может быт Барселона?
Диего: Саламанка, дон Мигель, Саламанка. Но мне пришлось покинуть Альма Матер, недоучившись.
Сервантес: Да и на простого матроса вы не похоже. Я бы предположил, что вы капитан или шкипер.
Диего: Всего лишь скромный навигатор, то есть штурман.
Сервантес: Извините, если лезу не в свое дело.
Диего: Ну что вы! У меня секретов нет.
Доктор: Тогда не расскажете ли нам свою историю, дон Диего? Не одному дону Мигелю интересно послушать.
Фра Франциско: А не пойти ли нам еще дальше? Пусть каждый из сидящих за столом расскажет про свою жизнь. Даже мы с доном Херонимо не слишком много знаем друг о друге.
Доктор: Ну, вы-то, предположим, знаете о мне многое, если не все.
Фра Франциско: Все знает только один Всевышний. И я не знаю про вас ничего такого, чего вам следовало бы стыдиться.
Доктор: (
пристально смотрит на фра Франциско) Ну в таком случае я присоединяюсь.
(
в зал) Кармелит
а!! Еще вина, будь добра. (
к собеседникам) Не возражаете, господа?
Фра Франциско: Ни в коем случае. (
в зал) И, слышишь Кармелита? Нацеди нам из того бочонка, что у тебя под стойкой с левой стороны. (
к собеседникам) Вот они – привилегии постоянного посетителя.
Доктор: Итак, кто начнет?
Диего: Наверное – я, ведь с меня все началось.
Фра Франциско: Вообще то все началось с вас (
в сторону Сервантеса) Не правда ли, дон Мигель.
Сервантес: Меа кульпа.
Диего: О, да и вы не чужды ученой словесности. Уж не одна ли у нас Альма Матер?
Доктор: А вот сейчас узнаете. Не возражаете дон Мигель?
Сервантес: Мне тоже скрывать нечего. (
со смехом) …Пока что. Итак, я родился и вырос неподалеку от нашей новой столицы…
Появляется Кармелита с Эль Греко
Кармелита: Вот ваше вино, господа, а к нему закуска.
Радостные возгласы.
Кармелита: Боюсь навлечь на себя ваш гнев, но вот этот господин тоже хотел бы присесть к вашему столику.
Диего: Ты меня еще не видела в гневе, Кармелита, но под такую закуску и не увидишь.
Фра Франциско: Мы прекрасно видим, дочь моя, что единственное место осталось только за нашим столом. Прошу вас, сеньор…?
Эль Греко :Я живописец из Толедо, господа. Меня знают под псевдонимом Эль Греко, потому что я родом с Крита. Боюсь что мое настоящее имя прозвучит для вас как какое-то еретическое заклинание.
Доктор: Позвольте, мы все тут поклонники Эллады, не правда ли? (
все подтверждают со смехом). Ну что тут может бы такого страшного? Да мы и не из пугливых. Вот дон Диего, например , сражался с краснокожими варварами, да и дон Мигель производит впечатление закаленного солдата. Итак, как вас зовут? Аристотель? Сократ? Или может Платон?
Эль Греко: Мое имя Теотоко́пулос, Доме́никос Теотоко́пулос.
Диего: (
истово крестится в шутку) Матерь божья, спаси и помилуй.
Фра Франциско: Ну что ж, Доме́никос – вполне христианское имя. А вас, дон Диего, я прошу не забываться в присутствии священнослужителя. (
Диего наклоняет голову в притворном смирении) Можем ли мы звать вас дон Доминик?
Эль Греко: Разумеется, друзья меня именно так и зовут. Но, похоже, мой приход прервал вашу беседу.
Доктор: Видите ли дон Доминик, мы тут как раз придумали некую забаву. А именно – каждый из нас должен рассказать историю своей жизни. Не присоединитесь ли?
Эль Греко: С радостью и интересом. Позвольте, однако, внести предложение?
Диего: Валяйте.
Эль Греко: Пусть каждая из историй жизни заканчивается каким-либо поучением.
Диего: Позвольте, но мы не на проповеди!
Эль Греко: А я вот убежден, что достойно прожитая жизнь должна обязательно чему-то научить.
Фра Франциско: Например, того, кто еще только начинает жить. Я поддерживаю дона Доминика. А вы, дон Мигель? Ведь вам первому начинать.
Сервантес: Поучения не относятся к моим талантам. Но я попробую. Посмотрим, что из этого выйдет.
Доктор: Смелей, дон Мигель.
Сервантес выходит на авансцену.
Сервантес: Как я уже говорил, мой родной город – это Алькала-де-Энарес близ Мадрида. Род наш уходит своими корнями глубоко в историю полуострова, но ни знатностью, ни богатством предки меня не наградили. Впрочем, отцовских денег хватило на полгода в Саламанке. Так что проницательность дона Диего ему не изменила. А потом мне пришлось бежать в Рим поближе к святейшему престолу, но подальше от нашего всехристианнейшего короля. Меня преследовал королевский ордер на арест за участие в дуэли, да и отцовские деньги давно кончились, а долги, наоборот, росли. Они, эти долги, достали меня и в Италии, где я изучал искусство, так что мне пришлось срочно завербоваться в королевскую морскую пехоту. Там я и обзавелся сухой рукой (
показывает).
Эль Греко: Осада Мальты, верно? Наверное вы были в сицилийском корпусе и пришли на помощь рыцарям ордена?
Сервантес: Ну что вы, тогда я еще был студентом в Саламанке. Руку я потерял много позже, при Лепанто.
Эль Греко: Вот вторая, после Мальты, победа христиан над безбожными османами. И не менее великая.
Сервантес: Верно, но мне эта победа не принесла особых лавров. Впрочем, мое участие было отмечено и я получил самые наилучшие рекомендации. Эти рекомендации, однако, сослужили мне не самую лучшую службу, попав вместе со мной в плен к маврам.
Диего: Вы были в плену у этих нехристей?
Сервантес: Целых пять лет, господа. Пять лет! Увидев мои рекомендательные письма берберийцы запросили такой выкуп, который моему отцу было просто не поднять. Прошло долгих пять лет пока меня наконец-то меня выкупили монахи Ордена Святой Троицы. Там, в плену, я многое претерпел, но об этом вряд ли стоит говорить. Поверьте на слово – эта далеко не развлекательная часть моей истории отнюдь не предназначена для застольной беседы.
Доктор: Разумеется, дон Мигель, мы все уважаем ваши чувства.
Диего: (
вскакивает и ударяет кулаком по столу) Черт бы побрал этих магометан.
Фра Франциско: Дон Диего!
Диего: Простите святой отец, язык мой – враг мой (
крестит рот).
Фра Франциско: (
Сервантесу) А вот я как раз не прочь бы задать вам пару вопросов. Но это скорее для частной беседы. Прошу вас, продолжайте.
Сервантес: Далее не так интересно. После освобождения из плена я еще некоторое время служил в Португальских землях, но потом вернулся в Кастилию и подвизался в подготовке Непобедимой Армады.
Диего: Я бы уже не стал ее так называть. Или это ирония?
Сервантес: Возможно. Мы заготавливали продовольствие для галеонов. Но и здесь неудачи преследовали меня. Часть продовольствия сжег безбожный Франсис Дрейк при налете на Кадис, но в его потере обвинили почему-то именно меня. Потом недобросовестные поставщики исчезли с казенным авансом, и ваш покорный слуга оказался на пороге темницы, и даже, на какое-то время и за порогом. Тогда-то мне и представилась возможность сравнить кастильские тюрьмы с тюрьмами Хасана-паши. Но неприятности не оставляли меня своим вниманием. Однажды дело чуть не дошло до отлучения от церкви, хотя я и предполагаю, что тут были замешаны скорее мирские интересы. Ведь я всего лишь отказался применить силу для взыскания недоимок с крестьян. Похоже, тем самым я невольно посягнул на некие незыблемые основы.
Фра Франциско: Возможно, коммерция – не ваша стезя. А чем вы еще грешили, сын мой?
Сервантес: Поэзией, святой отец, поэзией.
Эль Греко: И каковы же были ваши успехи в изящных искусствах?
Сервантес: В поэзии я несколько более преуспел. Однажды на соревновании поэтов я даже получил восхитительный приз – три серебряные ложки. Воистину, поэзия принесла мне больший доход, чем коммерция.
Доктор: Но несмотря на все неурядицы вы не потеряли чувство юмора.
Сервантес: Напротив, я его отточил и закалил и намерен использовать; в качестве грозного оружия.
Доктор: Весьма похвально. Порой насмешка бьет сильнее меча, хотя и бескровно.
Фра Франциско: Что же привело коммерсанта и поэта Сервантеса....
Диего: И солдата....
Фра Франциско: …и солдата Сервантеса в наши края? Однако, позвольте, если мой вопрос нескромен, то искренне прошу простить меня.
Сервантес: Ну что-вы, вопрос как вопрос. Видите ли, устав от моих неудач, я решил попробовать свои силы за океаном.
Диего: В Вест Индии?
Сервантес: Да, в Америке. И мое прошение уже, вероятно, лежит на столе Королевского Совета. А в ваши места я приехал за дополнительными рекомендациями, которые, я полагаю, никогда не помешают.
Диего: Если не попадут в руки берберийских пиратов.
Эль Греко: Что лишний раз напоминает нам о дуальности всего сущего.
Сервантес: (
со смехом) Надеюсь, что сия дуальность не будет преследовать меня по ту сторону океана.
Фра Франциско: Боюсь, что ваш оптимизм преждевременен. Там, в Америке, в Вест Индии, если хотите, вы встретите еще большую ложь и жестокость.
Диего: Откуда вы так хорошо знаете заокеанские дела, святой отец? Должен признать, впрочем, что вы правы. Но позвольте, дон Мигель, а на какую должность вы рассчитываете там, за океаном?
Сервантес: Я не претендую на многое, но все же полагаю, что моя многолетняя служба короне стоит, ну скажем должности коррехидора, где-нибудь в Ла-Пас.
Диего: А вы знаете, дон Мигель, в чем заключаются обязанности коррехидора?
Сервантес: Я полагаю, это нечто вроде надзора за исполнительной и судебной властью, не так ли?
Диего: Здесь, в Кастилии, возможно и так. А вот в заморских территориях несколько иначе. Право слово, не хочется вас огорчать.
Фра Франциско: Боюсь что придется. Видите ли, мой друг, там, за океаном, коррехидор – это тот, кто организует подневольный труд краснокожих.
Сервантес: Вы уверены? Вы же не бывали в Америке, не так-ли?
Диего: И опять наш святой отец прав. Он правда не упомянул…
Фра Франциско: …просто не успел…
Диего: …о том, что американский коррехидор еще и выбивает налоги, причем из тех-же краснокожих. Он и есть эта самая исполнительная власть .
Фра Франциско: А порой и судебная.
Доктор: Наш святой отец открывается нам с неожиданной стороны. Жду не дождусь его очереди рассказывать.
Фра Франциско: Знаете ли вы, о любезный доктор, что Апостол Павел полагал милосердие величайшей из добродетелей истинного христианина. Не осмеливаясь его оспаривать, позволю все же предположить, что и терпение является немалой добродетелью.
Доктор: (
смеется) Силенцио, святой отец, силенцио.
Эль Греко: Но, что это вы так побледнели, дон Мигель?
Сервантес: Признаюсь, дон Диего меня порядком расстроил. Неужели в колониях творятся те-же безобразия, что и в метрополии?
Доктор: А вот послушаем историю дона Диего и узнаем. Закончена ли ваша история, сеньор Сервантес?
Сервантес: Она закончится, когда меня отнесут в фамильный склеп. Пока что она скорее застряла на месте. Так что, дон Диего – ваша очередь.
Эль Греко: А как же поучение?
Сервантес: Пожалуй я еще не готов. Если, не возражаете, я вернусь к нему попозже.
Эль Греко: Не возражаю.
Диего: Но за вами должок, дон Мигель. Ну что ж, господа…
Фра Франциско: Позвольте лучше мне. Я вижу как наш Диего на меня подозрительно смотрит. При всем моем уважении к добродетелям, мне кажется что лучше не испытывать терпение нашего экс-конкистадора.
Диего: Отец Франциско – вы святой!! А то я уже совсем запутался в догадках.
Эль Греко: Да и нам небезынтересно. Вы тут нам добавили таинственности.
Доктор: Я с отцом Франциско знаком давно, но и не подозревал…
Фра Франциско
выходит на авансцену.
Фра Франциско: Итак я начинаю. Но, с вашего позволения, я бы не придерживался хронологического порядка, а то наш Диего рискует не дожить. Так что я сразу признаюсь, что в Американских колониях я действительно успел побывать.
Диего: Я же говорил!
Фра Франциско: В Америку, в отличие от Диего-конкистадора, я попал не по своей воле, а был сослан. За что? Ну, об этом позже. Не буду описывать все мои путешествия по колониям, но только через какое-то время я попал в Лиму в качестве простого монаха, коим являюсь и сегодня. К этому времени я вступил в братство францисканцев, сменив также и свое имя на имя моего святого покровителя.
Диего: А как вас звали ранее?
Фра Франциско: Не думаю, что вам стоит это знать.
Доктор: Слишком известное имя?
Фра Франциско: Ваша проницательность, доктор, вас когда-нибудь погубит. Итак, я продолжаю. Ко времени моего приезда на западное побережье эта страна была уже далеко не той империей инков, которую нашли братья Писарро. Отбушевали многочисленные восстания и краснокожие были окочательно усмирены. Но как? Очень просто – загнаны в бесправное рабство. Да, инки порой практиковали человеческие жертвоприношения, но не более, чем Святой Трибунал практикует аутодафе. Зато каждый краснокожий кечуа имел при инках свой дом, утварь и всегда был сыт за счет маиса из казенных амбаров. А теперь они ютятся в бараках и ведут полуголодное существование. Что касается инков, то они вообще исчезли, оставив после себя не так много следов. Впрочем, боюсь, что я мало что могу прибавить к тому, что рассказывает в своей скандальной книге Бартоломе де лас Касас.
Доктор: Я, как верный сын церкви, не читал труды Касаса, но слышал, что он сильно преувеличивал.
Фра Франциско: Хотя я тоже верный сын церкви, мне пришлось ознакомился с некоторыми его работами.
Диего: Пришлось?
Фра Франциско: Да, по служебной надобности. И, уверяю вас, описания Касаса справедливы. В количественном отношении он, возможно, допустил некоторые вольности, и несколько сгустил краски пользуясь своим поэтическим даром.
Сервантес: Поэтической дар для этого и существует.
Доктор: Скажите фра Франциско, вы имеете в виду его работы о рабстве в колониях или его же записки о продвижении католицизма?
Фра Франциско: Для человека не читавшего этих работ, вы подозрительно хорошо осведомлены, Доктор. (
Доктор отодвигается) Ну полно, дон Херонимо, не стоит так пугаться. Разумеется, мое замечание касается обеих тем.
Эль Греко: Святой отец, разве мы вправе сравнивать варварские жертвоприношения с исполнением приговоров святой инквизиции?
Фра Франциско: Пожалуй, ваш покорный слуга вправе. Похоже наш добродетельный доктор очень хочет спросить меня по какой такой служебной надобности, я изучал сомнительные тексты. Так знайте друзья, до моего изгнания я служил секретарем Священного Трибунала. О нет, тогда я еще не был братом босоногого ордена.
Немая сцена. Все, кроме Доктора, поражены.
Фра Франциско: Похоже, что для Доктора это не новость.
Доктор: Я предполагал нечто подобное.
Фра Франциско: Не буду рассказывать, как я примкнул к инквизиторам в качестве редактора индекса запрещенных книг. Замечу только, что это было почти осознанное и довольно добровольное решение, в котором я, как и во многих поступках своей молодости, давно успел раскаяться. Нет, я не был членом трибунала, но в его заседаниях мне пришлось принимать участие, хоть и не по своей воле. Так как я славился хорошим слогом и красивым почерком, к ним меня привлекали в качестве секретаря. Тогда то я и познал всю изнанку святой инквизиции. Как и многие другие благие начинания, изначально она преследовала благородные цели, иначе бы я к ней не присоединился. И действительно, разброд и шатания в вопросах веры угрожали взорвать Европу и если бы не… Впрочем, то дела дней давно минувших. Но как любое другое благое начинание, это тоже постепенно превратилось в свою противоположность В наши дни святой трибунал уже не орудие защиты веры, а скорее инструмент защиты власть имущих. Да что там, он сам и есть эта власть. И неизвестно еще, кто могущественнее, наш наихристианнейший монарх или наша не менее святая инквизиция. Я имел неосторожность открыто заговорить об этом и немедленно превратился в нежелательную персону. К счастью, я недостаточно знаменит, чтобы устроить мне случайную смерть, недостаточно опасен, чтобы стоило подослать ко мне наемных убийц, ну и недостаточно влиятелен, чтобы основательно оклеветать меня. Так что меня просто вежливо попросили приложить свои, весьма ценные, надо полагать, способности к делам заокеанским. Внушение мне было сделано в июне, а к рождеству я был в Лиме, уже в качестве брата ордена святого Франциска. Однако там, в Перу, мне почему-то не обрадовались. Наверное, и вице-короля и латифундистов смущал подозрительный монах с остатками совести. К тому же я отнюдь не молчал, похоже что мне порой не хватает смирения. Я поднял свой голос в защиту прав краснокожих, а вернее присоединил его к голосам тех порядочных испанцев, что ставят справедливость превыше наживы. Ох, как это не понравилось властям. И полагаю, что монастырь, в котором подвизался я и несколько моих единомышленников, сгорел не случайно, а стихийный бунт индейцев был не таким уж стихийным. Так что пришлось мне бежать из Лимы от греха подальше. Как ни странно, этот бег закончился там же, где и начался – в Кастилии. Здесь, пользуясь своими методами, о которых я возможно расскажу несколько позже, я нашел влиятельных покровителей. Влиятельных, но не всемогущих. Вот и приходится коротать век в провинции, подальше от властей. Ну как вам моя история?
Сервантес: Я всемерно удивлен. Нет, я не сомневаюсь в вашей искренности. Более того, ваши речи всего лишь отражают то о чем думающие люди шепчутся по углам. Но вы-то произносите их вслух. Разве вы не боитесь, святой отец, что один из нас окажется доносчиком?
Фра Франциско: Кто именно? Ведь не вы же? Но не считайте меня наивным и неосторожным глупцом. Поверьте мне, я хорошо защищен, а как именно – узнаете в свое время, когда придет очередь для поучения. Я, как и вы, дон Мигель, предпочитаю оставить его на потом. А пока что, давайте предоставим слово нашему Диего. Прошу вас, друг мой.
Диего выходит на авансцену.
Диего: Поверьте мне, господа, я вовсе не собирался в Вест Индию. и в этом отец Франциско немного ошибся, хотя во многом, да что там – буквально во всем остальном, я с ним полностью согласен. Там, за океаном немало мерзости, да она там просто перехлестывает через край. Поверьте мне, я отнюдь не ангел и мне есть о чем исповедоваться и есть в чем каяться. Тем не менее я бы попросил не называть меня конкистадором. И вовсе не потому, что в мое время колонии были уже завоеваны. Поверьте мне, нам нашлось с кем сражаться. Нет, дело совсем не в этом. Но позвольте по порядку. Из академии, где я изучал астрономию, меня строго попросили, а проще говоря – выперли, не удостоив никаких степеней. Причина сего изгнания была достаточно тривиальна, но дама, замешанная в этой истории была из слишком влиятельной семьи и, к тому же, она была порой излишне откровенна, если не сказать – болтлива. А у ее семьи в конфидентах ходят половина Саламанки. Так что мне доступно объяснили, что оставаться в метрополии будет весьма вредно для моего здоровья. Вот и пришлось мне срочно бежать в Кадис, где я завербовался на первый же попавшийся корабль, который как раз направлялся в Картахену. Ну а кем может стать в колониях молодой кабальеро без средств, без образования, а главное – без связей. Ну конечно же – солдатом. Вам, дон Мигель, это известно не понаслышке, хотя Мексика несколько отличается от Италии. Вы спросите меня, а зачем в Мексике войско, если краснокожие давно покорены и исправно платят налоги?
Сервантес: Отдают налоги, вы хотели сказать, если их из них выбивать. Наверное войска нужны именно для этого.
Диего: …А также для подавления неизбежных бунтов. Похоже, что мы с вами наступили на одни и те же грабли, дон Мигель. Но есть и отличия. Там, в Америке, никто не собирал средства на не слишком Непобедимую Армаду. Нет, мы просто выколачивали из индейцев последние сентаво в карман вице-короля и короны не обременяя себя высокими целями. Ведь поток золота не должен ослабевать, не правда ли, даже если последнее золото кациков давно вывез Кортес и иже с ними. И неудивительно, что туземцы бунтовали время от времени. Вот тут-то мои товарищи-кабальерос и показали себя во всей красе. Не буду пересказывать эти неаппетитные подробности слишком вольного отношения моих соратников к имуществу, чести и даже жизни индейцев. Скажу лишь что все это мне так претило, что вскоре я стал белой вороной в нашем отряде. Пришлось мне оставить военную карьеру, на которой, впрочем, я не добился каких-либо успехов, и поискать себе иную стезю. К счастью в Вера Круз мне удалось завербоваться в качестве помощника штурмана на частное торговое судно.
Эль Греко: А это не опасно? Я слышал, что британские пираты предпочитают охотиться за частными судами, так как караваны галеонов хорошо охраняются.
Диего: Совершенно справедливо. Более того, галеон может и сам постоять за себя, чего не скажешь о торговце с его парой невзрачных пушечек. Кстати, головорезы сэра Дрейка не пираты, а приватиры, так как имеют королевский патент на морской грабеж. Впрочем, судьи в колониях порой не слишком уважительно относятся к этим патентам, если им удается захватить кого-либо из этих еретиков, и преспокойненько вешают их на площади или сжигают под ликующие крики толпы. И, как справедливо опасался дон Доминик, нас ограбили уже через пару недель. Но это были не англичане.
Эль Греко: А кто же?
Диего: Настоящие пираты, те у кого нет ни отечества, ни короля, и кто никому не платит налоги. Эти люди находятся вне закона и в состоянии войны со всем светом.
Сервантес: Говорят, что они отличаются особой жестокостью и никого из своих пленников не оставляют в живых.
Доктор: Интересно, кто же вам это рассказывал? Те, кого не оставили в живых?
Фра Франциско: Вы, Доктор, неисправимый скептик.
Доктор: Увы, издержки профессии.
Диего: Как видите, господа, я пока жив. Пираты оказались не столь кровожадны и даже оставили нам корабль с небольшим запасом воды и еды, освободив его, однако, от груза какао. Пришлось нам вернуться в Мексику и прошло еще долгих два года пока мне удалось наконец добраться до Андалузии. Похоже, что если не в Саламанке, то в остальной Испании про меня основательно забыли. Самое время начинать новую жизнь, вот только не знаю как. Ну и, наконец, мое поучение таково: если желаете увидеть дальние страны, претерпеть многочисленные лишения и, в конце концов, остаться ни с чем, то смело ведите жизнь беззаботного повесы. В противном случае, господа, избегайте болтливых сеньорит.
Эль Греко: Браво, дон Диего. Ваше поучение и высокоморально и практично.
Всеобщий смех.
Фра Франциско: А я, признаться, надеялся узнать побольше об этих великодушных пиратах.
Диего: (
настороженно) Что именно?
Фра Франциско: Впрочем, всему свое время. Но мне кажется, что пришла ваша очередь, дон Доминик.
Эль Греко: Моя жизнь, господа, не изобиловала приключениями и опасностями. Я родился на Крите, но творил в Венеции и Риме, а потом перебрался в Испанию. Здесь я получил некоторую известность, хотя королевских милостей не снискал.
Диего: Что же так?
Эль Греко: Мы с его католическим величеством расходимся в отношении к искусству. Он утверждает первичность содержания и считает, что живопись должна обращаться к разуму. Я же, не отрицая важности содержания, отдаю предпочтение форме и взываю к чувствам. Кстати, именно поэтому я живу в Толедо. Это город, ставший мне родным, несомненно город чувственный, разум ему почти что чужд. Более того, разум может обмануть в Толедо, чувства же – никогда. Но, боюсь, тому, кто не бывал в этом прекрасном городе меня не понять.
Сервантес: Да, в этом городе есть что-то таинственное. Я бывал в Толедо пару раз и каждый раз он открывался мне с неожиданной стороны. Однажды я даже накропал некие неуклюжие вирши. Если желаете, друзья…
Диего: Желаем, желаем.
Эль Греко: Более того – настаиваем.
Сервантес: Но прошу вас, будьте снисходительны (
читает, бурно жестикулируя):
Давай пойдем туда где лепятся дома
По улицам, волной стекающим с холма
Безудержными выпадами шпаги.
Как мертвые напутствуют живых
Булыжники гранитных мостовых
Свидетели безумства и отваги
Эль Греко: Прекрасно сказано! Именно таким мне видится мой город вечером, в сумерках или рано утром, когда еще не рассеялся туман, поднимающийся из вод Тахо. В остальные же времена он иной как хамелеон. Я бы не сумел выразить это словами, подобно дому Мигелю, но думаю попробовать воссоздать свои ощущения в красках. Не знаю только, получится ли. Я бы, изобразил Толедо перед грозой, когда кажется что небеса грозят городу, а город грозит небесам.
Фра Франциско: Не все отцы церкви одобрят вашу трактовку.
Диего: К дьяволу всех отцов церкви. Ой, простите (
крестит рот)
Фра Франциско: Всех? Не уверен. Но некоторых я бы отправил прямиком в преисподнюю, не дожидаясь пока они сами туда попадут.
Эль Греко: А Толедо останется… И останутся наши чувства.
Доктор: Я бы не отвергал и разум Возможно здесь нужен компромисс?
Эль Греко: Не буду возражать, дон Херонимо и, с вашей помощью предлагаю вот такое поучение: пути разума и чувства различны, благом же будет, когда они приведут к одной цели.
Доктор: Воистину так. Только вы уж простите меня дон Доминик, но у меня к Толедо несколько иное отношение.
Фра Франциско: Разумеется, ведь ваши предки были изгнаны оттуда.
Доктор: Меня уже не удивляет осведомленность отца Франциско. Все верно, я марран, а предки мои были иудеями. Но кажется пришел мой черед рассказывать и вот моя история… Она началась задолго до моего рождения, когда почти сто лет назад евреев изгнали из обеих Испаний. Впрочем, у моих предков был выбор, которым они и воспользовались, а именно – стать католиками. Я вырос в лоне церкви и мало что знал про свое происхождение, пока мне о нем не напомнили. Но об этом позже. Став верными сынами церкви, мы, однако, сохранили одну семейную традицию. Заключалась она в том, что старшие сыновья посвящали себя медицине. Мой отец был известным врачом. Золотых гор он не нажил, но и от бедности наша семья не страдала. Это позволило мне начать обучение в Болонье. Правда продолжил я его уже в Лейдене.
Эль Греко: У мятежников? Как вас туда занесло?
Доктор: Не вдаваясь во все детали, скажу только, что причина этому была приблизительно та-же, что и у нашего Диего.
Сервантес: А где вы было во время осады?
Доктор: Внутри, мой друг, внутри городских стен. Именно с тех пор я стал неразборчив в еде, ведь нам тогда чуть было не пришлось отведать левую руку самого бургомистра. После прихода войска принца я,возможно, мог бы навсегда обосноваться в той далекой стране, но неожиданно причина, которая занесла меня в Нидерланды, исчезла.
Диего: Как это исчезла? Она, что, сбежала с другим, эта ваша причина?
Доктор: Да, в какой-то мере. Ее забрала смерть, а это соперник с которым даже доктору не всегда удается поспорить. Больше меня ничего в тех местах не держало, друзей не осталось, а чертов голландский климат я возненавидел, ведь это именно он… Впрочем, неважно. И я вернулся в Кастилию. А здесь меня уже поджидали бывшие соратники нашего святого отца. Как оказалось, им про меня известно чуть ли не больше, чем мне самому. Они мне припомнили и то где я изучал медицину и то по какую сторону стен находился в неподходящее время. Не забыли следователи и мое происхождение, намекая при этом на каких-то родственников за океаном. В подробности они не вдавались, но похоже что эти мои дальние родственники чем-то серьезно помешали испанской короне. Однако, хорошие доктора нужны всем, а в прагматичности отцам инквизиторам не откажешь. Лейденские страдания меня закалили, так что я легко перенес недолгое заключение и, полагаю, весьма легко отделался. Мне только запретили появляться в людных городах, коий запрет я с легкостью исполняю. Что скажете, святой отец?
Фра Франциско: Полагаю, вы действительно легко отделались. Пособничество еретикам это весьма сильное обвинение. А история с далекими родственниками только прибавляет таинственности. Парадоксально, но возможно именно она и является причиной вашего освобождения.
Диего: А я пожалуй я догадываюсь, о каких родственниках идет речь.
Всеобщее удивление
Диего: Не удивляйтесь так. Дело в том, и здесь фра Франциско тоже не ошибся, ибо я не все рассказал о тех пиратах, что ограбили наш корабль.
Доктор: (
со смехом) Уж не родственники ли они мне?
Диего: Вполне возможно. Ведь они иудеи, как и ваши предки.
Возгласы удивления.
Сервантес: Как такое возможно?
Диего: Вполне возможно и вот что я узнал от этих людей. Когда евреев изгнали, многие из них устремились в Мавританию, где им была обещана защита. Некоторые склонились перед истинной верой, как предки нашего доктора. Многие же затаили обиду на несправедливое, по их мнению, изгнание. Самые непримиримые из них объявили, представьте себе, войну Испании.
Сервантес и Эль Греко смеются
Диего: Для них, похоже, дело не представлялось столь смешным. Не обладая армией, они начали вести свою войну на морских путях. В нашем море им трудно было конкурировать с берберийскими пиратами, дон Мигель тому свидетель, к сожалению. Но с тех пор как ацтекское золото, а позднее – золото инков потекло через океан, они обосновались где-то в Карибском море и начали свой промысел. Задолго до приватиров Дрейка, они нападали на испанские и только испанские суда. Впрочем, другие суда там и не ходили, ведь наш король объявил океан внутренним озером Испании.
Сервантес: Вскоре британские моряки объяснили ему его ошибку. Так англичане, получается, были не первыми?
Диего: Как видите нет. Эти странные люди и ненавидели Испанию и по своему любили ее. Пиратского квартирмейстера, например, звали Толедано и он действительно был родом из Толедо, точнее оттуда изгнали его предков. А шкипер был из старинного андалузского
рода Маймонидов.
Доктор вскакивает.
Фра Франциско: Так все таки родственник?
Доктор молча садится.
Фра Франциско: А как звали навигатора?
Диего: (
глухо) У них не было навигатора. (
обычным голосом) Они старались соблюдать свои законы, не ели свинины и крабов, молились в том направлении, где был Иерусалим…
Фра Франциско: У них же не было навигатора.
Диего: …Где по их мнению был Иерусалим. А еще, они не грабили корабли по субботам, уж не знаю почему.
Доктор: Я знаю.
Эль Греко: И вы
думаете, что эти иудейские пираты представляют собой серьезную угрозу для Испании?
Диего: Нет, не думаю. Ведь их осталось совсем мало, их едва хватает на команду одного небольшого корабля. Но они гордые люди и, хотя они прекрасно видят, что их время прошло, они будут мстить Испании до конца.
Фра Франциско: Похоже вы, сын мной, успели узнать довольно много об этих людях за столь короткий срок. Ведь они вас сразу отпустили, верно?
Диего: Да, конечно. Но я, кажется, помешал рассказу нашего доктора.
Доктор: Мне осталось рассказать совсем немного. Мои приключения закончились и теперь я незаметно живу в нашей богом спасаемой провинции, наслаждаюсь тишиной и уважением окружающих, и занимаюсь своей скромной медицинской практикой. Вот и вся моя довольно незатейливая история. Хотя должен признать что с помощью дона Диего она стала более красочной.
Фра Франциско: Медицинской практикой, говорите? И больше ничем?
Доктор: А чем же еще?
Фра Франциско: Ну, ничем так ничем. А где же поучение?
Доктор: Поучение будет таким: счастье следует искать лишь в простых вещах и не слишком далеко от дома. (
пауза) Я что-то не так сказал, отец Франциско?
Фра Франциско: Знаете, я не восторге от вашего поучения, но давайте не будем сейчас начинать дискуссию на эту тему.
Доктор: А ваше-то поучение до сих пор не прозвучало. Хотелось бы его услышать.
Сервантес: Ну-ка скажите нам что-нибудь возвышенное, святой отец.
Диего: Да так чтобы преисподняя замерзла. Ой, что это я.
Фра Франциско: Успокойся сын мой, все равно горбатого могила исправит, а этот грех словоблудия я тебе отпускаю…Что-ж, ваше требование справедливо. Посмотрим, как вам понравится мое поучение. Вот оно: чтобы не бояться сказать лишнего и спокойно спать по ночам достаточно знать тщательно скрываемый секрет каждого из, казалось бы, случайных собеседников.
Продолжительное гробовое молчание. Некоторые из собутыльников в тревоге приподнимаются.
Фра Франциско: А что это вы все так побледнели? Садитесь, садитесь.
Все садятся.
Сервантес: Итак, про каждого из нас вы знаете нечто постыдное?.
Фра Франциско: Ну почему же именно постыдное? Мы все здесь честные люди, верно? Да и порывы совести нам тоже не чужды. Тем не менее, у каждого человека, прожившего достаточно на этом свете, найдется нечто такое что можно осудить либо с точки зрения строгой морали, либо с точки зрения закона, либо еще как нибудь. Но поспешу вас успокоить – знать вовсе не означает доносить. И мне мое знание требуется как раз для того чтобы свободно выражать свои мысли не опасаясь доноса.
Эль Греко: Это, конечно, немного успокаивает.
Диего: А меня так не очень.
Сервантес: Пожалуй в ваши годы, мой друг, еще можно сохранить толику веры в людей.
Диего: Что то не получается, дон Мигель.
Фра Франциско: Будь практичен, сын мой. Я ведь для того и рассказал свою историю, чтобы вы меня не боялись.
Диего: А ваша ли это история, отец?
Фра Франциско: Да, видно тебе несладко пришлось за океаном.
Доктор: Его тоже можно понять, святой отец. Но позвольте вас успокоить, дон Диего. История отца Франциско правдива.
Фра Франциско: А тепер вы меня удивляете, Доктор.
Доктор: Не у одного вас есть влиятельные, а точнее – осведомленные друзья.
Диего: Друзья ли?
Доктор: Ну, положим, не совсем друзья. Но ведь это мне решать что им рассказывать…
Диего: Доносить?
Доктор: Пусть будет доносить. Вот я и расскажу, простите – донесу им, что отец Франциско пьет безмерно, а когда бывает трезвый, что происходит нечасто, то он учит уму-разуму некоего не в меру горячего идальго.
Фра Франциско: Вот и замечательно. Я знал, что могу на вас рассчитывать, дон Херонимо.
Диего: Так вот почему вас так легко выпустили святые отцы.
Эль Греко: Отец Франциско, а что тайного вы знаете про меня? Ведь я только сейчас здесь появился.
Фра Франциско: Вы же не хотите, надеюсь, чтобы я рассказывал это при всех. Давайте сделаем иначе. Эй, Кармелита! Кармелита!
Появляется Кармелита
Кармелита: Чего изволите сеньоры?
Фра Франциско: Я наслышан, любезная, что на задворка твоего заведения ты содержишь прекрасный персиковый сад. Верно ли это?
Кармелита: Да, святой отец. Я никому не разрешаю туда ходить а то еще поломают чего.
Фра Франциско: А не позволишь ли ты нам полюбоваться на твои персики? Сейчас они вроде бы в цвету.
Кармелита: О да, они цветут. Просто красота, да и только. Мне бы не хотелось отказывать таким любезным господам, но…
Фра Франциско: А чтобы не повредить деревьям, я буду водить туда своих друзей по одному. Заодно и отпущу им грехи.
Кармелита: Не смейтесь, святой отец. Мой сад ведь не храм господень.
Фра Франциско: Ну так как, договорились?
Кармелита: Так уж и быть. Только вы там поосторожнее…
Фра Франциско: Не беспокойся. Мы будем вести себя благоговейно, как в храме. Уж не сочти за богохульство.
Кармелита: Ну что вы, святой отец, как можно?! Я пожалуй пойду, а то наши мужики там, в зале совсем озверели.
Кармелита уходит
Диего: Ну скажу я вам, вы и ловкач.
Фра Франциско: Итак, господа, согласен ли каждый из вас уединится со мной в саду чтобы выслушать из моих уст его тайну?
Эль Греко: Любопытство, как я полагаю, не самый худший из пороков? Я согласен.
Доктор: Вот и идите первым. Я, например, не тороплюсь.
Диего: Нет, давайте лучше я, как самый нетерпеливый.
Фра Франциско: Что-ж, Диего, следуй за мной
Диего и фра Франциско выходят на авансцену
Фра Франциско: Думаю, юноша, ты уже догадался, какую из твоих тайн я собираюсь раскрыть. Так был у пиратов навигатор или не было его?
Диего: Был, святой отец, был. Вы, как всегда правы. Не представляю только откуда вам это известно.
Фра Франциско: Дорогой мой Диего, при каждом отделении нашей наисвященнейшей инквизиции есть весьма престижная должность библиотекаря. Не подумай только что эти почтенные люди перебирают пыльные фолианты. Не хранят они и великих знаний. Но, тем не менее, их труд весьма важен, ведь они ведут записи о каждом мало-мальски значащем испанце. Есть там и твоя полка, мой друг. А на ней, между прочих небезынтересных записей лежит донос шкипера с того самого судна из Вера Круз. В том доносе говорится, что помощник штурмана исчез сразу после налета пиратов и не иначе как он присоединился к безбожникам.
Диего: Они не безбожники, отец Франциско. Нехристи – да, но не безбожники. Они исправно молятся своему ложному богу. И на борт их судна я поднялся не по своей воле. Ведь они сказали, что нуждаются в штурмане и готовы отпустить всех купцов и моряков, если я буду у них навигатором. Правда потом они признались, что отпустили бы нас все равно. Вы знаете, я им верю. И они не склоняли меня к своей вере, отец. Более того – у них на борту я обнаружил нескольких верных католиков и даже одного монаха. У этих, похоже, была своя причина ненавидеть Испанию, но меня они в нее не посвящали. У нас даже была своя каморка, которую наш святой отец освятил как мог и в которой мы возносили молитвы.
Фра Франциско: Предположим, что душу ты сохранил. А все остальное?
Диего: Совесть, верно? Или вы имеете в виду верность сюзерену, тому самому, который послал меня убивать безоружных дикарей? Нет, все же совесть. Поверьте, сам не знаю, что удерживало меня на пиратском корабле. Впрочем, мы не слишком пиратствовали. По субботам они не искали добычи, по воскресеньям – тоже из уважения к католикам на борту. Иногда мы отнимали товары у жирных испанских купцов и это позволяло нам не умереть с голоду. Я порой восхищался этими людьми, которых год за годом гонит по морю давняя обида. Но их время истекало также как гнил и умирал их корабль. Наконец, капитан выбросил судно на берег у пустынных берегов Лузитании и распустил команду. Не знаю, что случилось с самим Маймонидом. Наверное он просто исчез, как уходит прошлое. А мне больше нечего было делать в Вест Индии. Вот и вся моя исповедь.
Фра Франциско: Я принимаю твое покаяние, сын мой, И отпускаю тебе грех восторженных мыслей. И грех молодости тоже отпускаю.
Диего: Издеваетесь?
Фра Франциско: Не совсем. Так все же, почему ты примкнул к еврейским пиратам?
Диего: Сам не знаю. Зачем мне, по вашему, присоединяться к заведомо гиблому делу, к людям иной веры, к пиратам, наконец?
Фра Франциско: Я, пожалуй, догадываюсь. Наверное, тебя привлекла именно эта безнадежность. По-видимому в тебе возродился неугомонный дух рыцарей без страха и упрека. Ведь это так благородно, сражаться за безнадежную идею. Или тебе их просто стало жалко?
Диего: Я же сказал – не знаю.
Фра Франциско: Придется над этим подумать. Мне ведь еще писать на тебя донос.
Диего: Донос?
Фра Франциско: А ты что, думал я пишу мадригалы? Ну, ладно, пора и честь знать, а то и остальным тоже не терпится на исповедь. Пойдем, Диего.
Диего: Постойте. Если вам верить, то в инквизиции все про меня знают и этих их знаний вполне хватит на два-три аутодафе. А мне и одного более чем достаточно. Почему же я до сих пор жив и на свободе?
Фра Франциско: Потому что ты им не опасен. Точнее это они так думают, полагая что авантюристы с восторженным образом мыслей не угрожают их власти.
Диего: А вы думаете иначе?
Фра Франциско: Как бы я не думал, своими соображениями я не собираюсь делиться с отцами-инквизиторами. Ладно, пойдем.
Диего: Еще один вопрос. Зачем вам это надо? Зачем вы меня предупреждаете?
Фра Франциско: Потому что тот кто предупрежден, тот и вооружен, как говорили древние.
Диего: Простите, но это не ответ.
Фра Франциско: Пока другого не будет. Идем же наконец.
Диего и фра Франциско возвращаются
Фра Франциско: Вот мы с Диего и поговорили. Кто следующий на исповедь? Может быть Доктор?
Эль Греко: Как прошло, Диего?
Диего: Скоро сами узнаете.
Доктор: А, будь, что будет. Пойдемте уединяться, святой отец.
Фра Франциско и Доктор выходят на авансцену.
Фра Франциско: Вы проницательный человек, дон Херонимо и наверное догадываетесь, о чем мы будем говорить.
Доктор: Напротив, ума не приложу. Мое происхождение я никогда не скрывал, а больше за собой я ничего не знаю.
Фра Франциско: Верно ли? Между прочим, за маранами полагается особая слежка, так как считается, что они – то есть вы – склонны к иудейскому рецидиву. Впрочем, вам это наверняка известно.
Доктор: Разумеется известно.
Фра Франциско: Но вы же добрый католик, доктор, не так ли? Вы регулярно ходите на мессу, соблюдаете посты. Да что там, вы совершенно все соблюдаете. Верно? Мы же не будем придираться к мелочам.
Доктор: Каким мелочам?
Фра Франциско: Например тем, которые вы храните в тайнике. Ах, как же самые разумные люди парадоксально склонны к шаблонам. Тайник в камине – как это пошло. Ведь именно там и будут искать в первую очередь и найдут такой милый подсвечничек. Как он называется? Менора? Ханукия? А после камина следует посмотреть под половицами, ведь люди так часто прячут тайны под полом. Ну что там у вас могут найти? Ерунда, парочка безделушек с такой веселенькой звездочкой на них. Как она называется?
Доктор: Щит Давида, вы же знаете.
Фра Франциско: Как я сказал. все это мелочи. К тому же умный человек не задумываясь выбросит опасные безделушки. А не очень умный человек, но все же не дурак, их хотя бы пере-прячет, придумав менее банальный тайник.
Доктор: Почему я не удивлен?
Фра Франциско: Потому что вы умный человек, хотя и ведете себя как последний идиот, когда дело касается наследства ваших предков. Кстати о родственниках. Вы ведь тоже Маймонид, любезный мой доктор?
Доктор: Моя фамилия Санта Фе.
Фра Франциско: Спасибо, я помню. Но вряд ли так звали вашего прадедушку, А звали его Рувен бен Маймон. Я же изучал древнееврейский и знаю что значит "бен".
Доктор: Моего прадеда действительно так звали, но о пиратском капитане я ничего не знаю.
Фра Франциско: И никогда не встречали?
Доктор: Интересно, где я мог его встречать?
Фра Франциско: Действительно, где же вы могли встретить капитана Маймонида? Постойте, уж не в мятежных ли провинциях, куда его корабль заходил на ремонт? Может это было в Гарлеме? Надеюсь он успел покинуть город до начала осады, которая закончилась не так удачно, как в Лейдене? Мне помнится, что от Лейдена до Гарлема полдня пути по каналу. Если зимой, конечно. Вы бегаете на коньках, доктор?
Доктор: Ну что ж. Я убедился в вашей осведомленности. Но что вам от меня надо?
Фра Франциско: В первую очередь мне надо чтобы вы перестали вести себя как последний юродивый придурок.
Доктор: Вам то что за дело раз уж сразу не тащите меня в трибунал.
Фра Франциско: Действительно, какое мое дело? Что мне магические артефакты в ваших весьма секретных тайниках? Что мне до ваших приключений в среде мятежных еретиков? Что мне до ваших встреч с врагом короны? И что мне, наконец, до ваших ночных шалостей на кладбище? Что это вы так побледнели, дон Херонимо? Возможно, при всей своей беззаботности, напускной беззаботности, я надеюсь, вы все же понимаете что на этот раз все серьезно.
Доктор: И что теперь?
Фра Франциско: Теперь? Вы прекрасно понимаете, что святые отцы могут простить многое доктору, от которого они надеются получить ценные доносы. Напрасно надеются как я понимаю, хорошо еще что они этого не знают. Но даже снисходительности инквизиторов есть предел. Вряд ли они закроют глаза на осквернение могил. Не забудьте, что инквизиция родилась для борьбы с черной магией и ведовством, во что бы она не превратилась сейчас.
Доктор: Это не магия.
Фра Франциско: Разумеется, это всего лишь анатомия, которую изучает на трупах весьма талантливый, но, ах какая жалость, немного недоучившийся доктор.
Доктор: Так что же мне делать? Прикажете экспериментировать на живых?
Фра Франциско: Прикажу быть осторожней.
Доктор: И это все? Все, что вы от меня хотите?
Фра Франциско: Нет, не все. Но об этом позже. Нам пора возвращаться, да и стаканчик хереса вам не помешает. Добрый херес, знаете ли, прекрасно лечит нездоровую бледность. Не надо быть доктором, чтобы это знать.
Доктор: У меня накопились вопросы.
Фра Франциско: Потом, потом. Идемте.
Фра Франциско и Доктор возвращаются.
Эль Греко: Ну как, доктор?
Доктор: Бесподобно. Вам стоит попробовать.
Фра Франциско: Прислушайтесь к рекомендации доктора, дон Доминик.
Эль Греко: Ну что ж, я готов. Веди меня, мой Виргилий.
Фра Франциско: Нам пока не в ад, нам несколько поближе. Идемте, сеньор живописец.
Фра Франциско и Эль Греко выходят на авансцену.
Фра Франциско: Итак, мой храбрый и безрассудный мастер кисти, вы решили поспорить с самим королем. Как вам это сошло с рук?
Эль Греко: Что ж. Меня не повесили и не четвертовали за измену короне…
Фра Франциско: Не расстраивайтесь, мой друг. Все еще впереди.
Эль Греко: …Я всего лишь попал в опалу и не получаю более заказов из королевской канцелярии.
Фра Франциско: Вам кажется, похоже, что вы легко отделались. Боюсь, что это не так. После вашей размолвки с его величеством вами, что вполне естественно между прочим, заинтересовались отцы-инквизиторы. В залах, где выставлены ваши полотна, появились необычные зрители. Они не интересовались ни манерой вашего письма ни игрой света. Отнюдь. Они искали признаки ереси.
Эль Греко: И как, нашли?
Фра Франциско: Насколько мне известно, они до сих пор ищут. Ведь вы хорошо усвоили церковные каноны и не допускаете явных вольностей. И все же в ваших картинах полно скрытой ереси просто в силу их необычности. Если кто-то или что-то не укладывается в привычные рамки, то посредственности сразу начинают кричать: ересь, ересь. И они обязательно эту ересь найдут, дайте только время.
Эль Греко: Так каким же временем я располагаю?
Фра Франциско: Мне нравится ваше хладнокровие. Думаю у вас будет время, но только, если будете осторожнее.
Эль Греко: Что вы имеете в виду?
Фра Франциско: Понимаете, если ересь не удается найти в картинах, ее можно поискать вокруг.
Эль Греко: Простите – не понял.
Фра Франциско: Все вы поняли. Как считаете, сколько времени понадобится ищейкам инквизиции, чтобы догадаться на чем основана ваша дружба с отцом Георгием? Между прочим, инквизиция давно интересуется, а что это православный греческий поп делает в католическом Толедо.
Эль Греко: Все знают, что я верен святой церкви.
Фра Франциско: Может и все знают, но не всех это убедит. А что если верный католик посещает тайные еретические богослужения? Пусть даже это он делает из соображений более сентиментальных чем религиозных. Вера предков, знаете ли. Вот только отцы инквизиторы сентиментальностью не страдают.
Эль Греко: Знаете, отец Франциско, кое-что меня удивляет. Я ведь только сейчас прибыл в ваши края, а вы так хорошо осведомлены обо мне.
Фра Франциско: Не все инквизиторы фанатики, а среди остальных не все беспринципные политиканы. У меня еще остались друзья в инквизиции, которые мыслят сходно со мной, но не отличаются моей болтливостью.
Эль Греко: И они вас предупредили обо мне, верно? Но неужели инквизиции помешали пара моих встреч с духовником моих родителей, пусть даже и иной конфессии?
Фра Франциско: Не будьте так наивны, дон Доминик. Им помешала ваша живопись, а ваши визиты к отцы Георгию могут быть хорошим предлогом. К счастью, в инквизиции про них пока не известно.
Эль Греко: Как же так? Вы же сами сказали…
Фра Франциско: Если нечто известно инквизиторам, это еще не значит, что оно известно инквизиции. Но – силенцио, как говорит наш доктор. Я думаю, мы можем возвращаться.
Фра Франциско и Эль Греко возвращаются.
Эль Греко: Дон Мигель – вы последний.
Сервантес: Следую за вами, отец.
Диего: Постойте, а как же должок?
Сервантес: А, поучение. Позвольте после исповеди.
Фра Франциско и Сервантес выходят на авансцену.
Сервантес: Ну как, отец Франциско, удались ли вам сокровенные тайны моих предшественников?
Фра Франциско: Как видите, они не жаловались. Вы тоже останетесь довольны.
Сервантес: Что же это будет? Тайная ересь? Измена короне? Извращения?
Фра Франциско: Ну что вы, это всего лишь вероотступничество. Аллах акбар, не правда ли дон Мигель?
Сервантес: А Мухаммед – пророк его, святой отец. Но вы же понимаете, что я никогда в это не верил. Впрочем, отцов-инквизиторов это не убедит. Но меня больше интересует ваше мнение. Кстати, как вы узнали?
Фра Франциско: Мало кому удается избежать казни после четырех побегов из рабства. Мне что-то слабо верится в человеколюбие Хасана-паши. Но меня интересует причина.
Сервантес: Она банальна, святой отец. Это был единственный способ спасти моих товарищей по побегу. Я назвал себя зачинщиком и попросил снисхождения для них. Последнее было глупо. Впрочем, вы не знали Гассана-пашу. Но была и у него слабость – он считал себя великим столпом ислама. Непримиримый католик, обращенный самим пашой…Ах, как это эффектно. И мы с Хасаном пашой заключили соглашение о сути которого вы догадываетесь.
Фра Франциско: Удивительно, что вас никто не предал после вашего возвращения.
Сервантес: Ну что вы, большинство из бывших пленников порядочные люди, а меньшинство – умные люди.
Фра Франциско: Они понимали, что будучи обязанным своим спасением отступнику, они и сами запятнаны. А вы не так просты, как стараетесь казаться.
Сервантес: Я не очень то и стараюсь, люди сами меня принимают за простака. Еще бы, доблестный вояка, неудачливый пленник, неумелый коммерсант, наивный чиновник. Поневоле все начинают держать тебя за юродивого. Самое разумное в такой ситуации – не разубеждать их.
Фра Франциско: Почему же?
Сервантес: Простаков не стесняются, с нами не церемонятся. И простак может наблюдать человеков в их естественном виде, такими, какие они есть. Ведь что опасаться наивного простака?
Фра Франциско: Зачем это вам?
Сервантес: Пока сам не знаю. Вы знаете, я пописываю всякие опусы и даже опубликовал некий не слишком удачный роман, а также написал несколько пьес, которые тоже не прогремели. Но все это не то, не то. Я чувствую, что должен найти свою форму творчества.
Фра Франциско: Что это будет? Комедия, трагедия, драма?
Сервантес: Может быть все вместе? Я еще не понял. Я ищу. И именно для этого ношу маску простака. Впрочем, почему маску? Я и есть тот простак. Дело в том, что простаков ошибочно путают с дураками.
Фра Франциско: Иногда дураки же и путают.
Сервантес: Вот вы меня и поняли. Как наверное поняли и то, что своей вере я остался верен не только на словах, но и в душе.
Фра Франциско: Ладно, пойдемте, сеньор простак.
Сервантес: Постойте! В том чтобы быть простаком есть дополнительное преимущество. Тебя не воспринимают всерьез и иногда могут дать весьма деликатное поручение о сути которого простаку знать не обязательно. Какой-нибудь хитрец запутался бы в интригах, в то время как простяк все выполнит не задумываясь. Так вот, одному такому простаку велено было передать местным инквизиторам, чтобы те установили негласный надзор за неким францисканцем, подозреваемым в склонности к ересям. Передать этот приказ следовало на словах, так так лица издавшие его, опасались доверить эти слова бумаге. Уж не знаю почему.
Фра Франциско: Зато я знаю. И тот… простак… выполнил поручение?
Сервантес: Еще нет. Но он его обязательно выполнит. Впрочем, он не особенно торопится. Именно поэтому, устав с дороги и испытывая неутолимую жажду, он решил вначале отдать должное стряпне и вину небезызвестной Кармелиты.
Фра Франциско: Где как раз обитал тот самый францисканец. Удивительное совпадение, не находите?
Сервантес: Ну что вы, это совершеннейшая случайность
Фра Франциско: Хорошо, пусть будет так. Кажется я начинаю испытывать нешуточное уважение к простакам. Пожалуй теперь мы квиты тайнами и можем вернуться к вину и закускам.
Сервантес: …Что и было, если вы помните, изначальной целью нашего простака.
Оба смеются и возвращаются.
Фра Франциско: А вот и мы, друзья.
Диего: Что-то вас долго не было.
Фра Франциско: Трудный случай. Кстати, как вы помните, дон Мигель задолжал нам поучение.
Сервантес:Я готов, извольте…
Фра Франциско: Позвольте мне.
Сервантес: (
удивленно) Ну попробуйте.
Фра Франциско: Поучение сеньора Сервантеса звучит так: не дайте миру сразу понять чего вы стоите. Лучше подождите нужного момента, а мир пусть пока остается в неведении, и. может быть даже заблуждается на ваш счет. Ну как вам такое поучение, дон Мигель?
Сервантес: Я и сам не сказал бы лучше.
Диего: Ну, святой отец, говорите!
Фра Франциско: Говорить? Да я весь вечер не закрываю рта.
Сервантес: Оставьте отец Франциско, вы же францисканец, а не иезуит.
Эль Греко: Вам явно что-то нужно…
Доктор: …От всех нас.
Появлятеся Кармелита, прибирает на столе.
Фра Франциско: Ну что ж. Вас не проведешь. Видно пришло время для откровенного разговора. Да, это я собрал вас всех вместе. Не удивляйтесь, сеньор Сервантес и сеньор Теотокопулос. День вашего приезда был мне хорошо известен, ну а если так совпало, что двое нужных мне людей появятся в нашем городе одновременно, то грех было бы это не использовать. Ваше появление у Кармелиты было легко предсказуемо, ведь это единственный трактир на тракте, извините за тавтологию. Вот я и попросил любезную Кармелиту посадить вас обоих за этот столик. Верно, Кармелита?
Кармелита: Все так и было. Ума не приложу, зачем вам это надо. Святая дева, не вижу я вреда в том, чтобы такие солидные господа сели за лучший столик в моем трактире.
Фра Франциско: Спасибо, Кармелита. Давайте попросим нашу добрую Кармелиту наполнить наши стаканы… Спасибо любезная… А теперь; пойди и нацеди-ка нам еще кувшинчик из той-же бочки.
Кармелита: Ой, да не нужны мне ваши секреты. Без них и спокойнее, а от всяких тайн только вино киснет.
Камелита уходит.
Фра Франциско: А наша Кармелита совсем не так проста как старается казаться….Продолжу, с вашего позволения. Нашего доброго доктора и его привычки я знаю достаточно хорошо, да и он не чурается моего общества. И только появление Диего-навигатора было для меня сюрпризом, хотя по ряду причин о самом Диего я был осведомлен заочно. Итак, я собрал вас здесь, чтобы попросить вашего содействия в одном небольшом деле.
Доктор: Каком именно?
Сервантес: Надеюсь это благородное дело.
Фра Франциско: Благороднее не бывает. Все наполнили свои стаканы? Давайте же выпьем за Америку и за людей, которые ее открыли.
Все пьют
Фра Франциско: Так вот – я собираюсь закрыть Америку.
Диего: (
поперхнувшись) Ну и дела!
Доктор: Так таки взять и закрыть?
Эль Греко: А зачем?
Сервантес: А как?
Фра Франциско: Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Полагаю, что глубокомысленные замечания Доктора и Диего вопросами не являются. Остаются два вопроса, а именно: "зачем" и "как". На них не так просто ответить. Давайте разберемся зачем надо закрывать Америку. Скажите мне, друзья, наши заморские территории – благо ли это для Испании?
Доктор: Ну это смотря кого вы спросите. Многие вам скажут, что постоянный приток золота сделал Испанию могущественной страной, почти что властелином Европы. Для них это несомненно благо. Другие же скажут что они-то имеют с этого золота одни болячки. Ведь это именно их посылают умирать в болотах Фландрии.
Эль Греко: А как же гордость за державу?
Доктор: Вы были в Нидерландах, дон Доминик? Поверьте, нам там нечем гордиться.
Диего: Вы были в Мексике, дон Доминик? И там нам нечем гордиться.
Фра Франциско: Добавлю к этому списку Перуанские провинции. Так вот, я считаю новые территории в Америке злом для Испании. Вижу удивление в ваших глазах – о, как это предсказуемо. Да, зло. И вот почему. Возможно, все было бы неплохо, если бы у краснокожих не было бы так много золота. Ну, открыли бы мы еще одну страну, поработили бы еще один народ и нашли бы теплое местечко для еще парочки бездельников и негодяев в должности вице-королей. Все это было бы злом невеликим, по крайней мере – для Испании. А попутно мы открыли бы новые морские пути, усовершенствовали бы кораблестроительство и навигацию, описали бы новых зверей и птиц, обогатились бы многими другими знаниями. И все это несомненно было бы благом… Если бы не золото.
Диего: Чем же вам золото не угодило?
Фра Франциско: Чем? Да легкостью его добычи. Вот ворвался конкистадор в языческий храм, перебил десяток-другой туземцев и загреб целую гору золота. И потечет то золото за океан, в сокровищницы короля и в тайники инквизиции. И на что же пойдет то золото? А пойдет оно, в первую очередь на оплату наемникам, на содержание огромного войска и на завоевание, причем с большой кровью, еще одного клочка Европы на котором сотня-другая крестьян и так с трудом сводят концы с концами. Или будет захвачен, с большими потерями, кусок суши, который другой, менее воинственный народ столетиями отвоевывал у моря. И потекут в метрополию налоги, которые с большим трудом покрывают расходы на огромные армии. Ведь надо будет подавлять бунт за бунтом, потому что даже самый миролюбивый народ не согласен платить двойную подать. Ну и, в конце концов, кто-нибудь из покоренных народов научится воевать так хорошо, что наша могучая армия побежит прочь от какого-нибудь паршивого, ну скажем, Лейдена. Верно, Доктор?
Доктор: Не знаю насчет паршивости, но я сам видел как умеют бегать королевские солдаты.
Фра Франциско: Вы знаете, я боюсь дождаться того, что народы Европы объединятся против Испании. А во главе такого союза встанет, ну скажем, Англия, воодушевленная уязвимостью нашей Непобедимой Армады. И еще вопрос, останется ли у нас к тому времени золото. Ведь любое золото: красное ли белое ли черное ли или еще какое-нибудь, рано или поздно будет исчерпано.
Диего: А разве бывает черное золото?
Фра Франциско: Пока не встречал, но кто знает? И горе той нации, чьё благополучие основано на легко добытых сокровищах. Ее участью будет плестись в хвосте стран, хотя и менее богатых, зато более предприимчивых. Но наша армия – это еще полбеды.
Эль Греко: Постойте, но ведь то же самое золото питает изящные искусства? Меценаты и богатые заказчики, короли, наконец.
Фра Франциско: Да? Интересно, почему же наш король отказался заказывать у вас картины? Да потому, что проще их заказать у модных заграничных мастеров, точнее – у их последователей, которые строго придерживаются канонов и пуще отлучения от церкви боятся сотворить что-нибудь новое.
Эль Греко: Но ведь я как раз и есть тот заграничный мастер.
Фра Франциско: Заблуждаетесь, будь вы хоть трижды Теотокопулос! Я же видел ваши картины в Толедо! Сами вы можете быть хоть московитом из монгольских степей, но искусство-то у вас наше, испанское. Да к тому же оно необычно и даже вызывающе. И именно поэтому вы разошлись во мнениях с Его Величеством. Мало того, ваши картины не просто необычны, они заставляют чувствовать и думать. Это как раз то, что надо Испании, но, к сожалению, не надо королям. Так что не смешивайте золото и искусство.
Сервантес: Вы сказали, что наша армия это еще не самое страшное? Что вы имели ввиду?
Фра Франциско: Да, то самое, что упомянул дон Доминик: и искусство, и науки и ремесла наконец. Если все это можно купить за золото, то незачем и совершенствоваться. А пока мы будем пересчитывать дублоны, другие нации незаметно обгонят нас и в науках и в ремеслах.
Диего: Верно, отец, верно. Еще пару десятков лет назад наши галеоны были самыми совершенными в цивилизованном мире. Теперь же новые британские фрегаты и лучше держат волну и быстрее ходят. А новые голландские купцы и дешевле и прочнее наших. Именно поэтому мы постоянно проигрываем на море.
Фра Франциско: Видите? Я предвижу, господа, что изобилие золота в конце концов заведет нашу Испанию в тупик. Пройдет какое-то время и другие, более энергичные нации оставят нас далеко позади, И не спасут тогда Испанию никакие колонии. Да и колонии вряд ли станут вечно платить подати далекой метрополии. Рано или поздно там появятся новые нации, которые хоть и будут говорить по испански, но испанцами уже не будут.
Сервантес: Похоже, мне следует отозвать свое прошение.
Фра Франциско: Думаю, дон Мигель, что у вас найдутся дела и в Испании.
Сервантес: Ума не приложу какие именно.
Фра Франциско: А это как раз относится к вопросу "как?"
Диего: Да, как нам закрыть Америку? Я бы сделал это с превеликим удовольствием, но не думаю, что можно просто уйти из колоний.
Доктор: Уйти-то несложно, да кто ж вам позволит.
Фра Франциско: Совершенно справедливо. Как же нам закрыть эту паршивую Америку?
Доктор: Что это у вас все паршивые? Впрочем, продолжайте и простите что перебиваю.
Фра Франциско: Доктор прав в том, что мы не сможем уйти из колоний, но мы можем их игнорировать. Не смотрите на меня так удивленно. Мы уже это делаем. Да, именно. Диего уже вернулся домой в Испанию, так же как и я. Дон Мигель вероятно отзовет свое прошение. Наш живописец не будет писать картины за заморское золото.
Доктор: А я?
Фра Франциско: А вы завершите, только очень аккуратно, свои занятие анатомией и будете лечить испанцев, а не американцев.
Диего: Американцы, какое смешное прозвище. Но признаться, вернуться домой было не так сложно. Много сложнее решить чем мне заняться в Испании.
Эль Греко: Этот вопрос, как мне кажется, волнует каждого из нас. Разве писать картины – это достаточно для того чтобы закрыть Америку?
Доктор: Лечить могут многие.
Сервантес: А мне что прикажете? Писать стишки? Или воспевать подвиги наших солдат во Фландрии? Боюсь, что наш Доктор меня не поймет. А других героев я не знаю.
Фра Франциско: Вот и начну я с вас, сеньор Мигель де Сервантес Сааведра. Не знаете других героев? Да вот они.
Сервантес: Где?
Фра Франциско: Тут, за этим столом. Вот сидит перед вами молодой человек, который готов ввязаться в опасную и безнадежную авантюру только потому, что это благородное дело. А вот сидит доктор, который готов подвергнуть себя великой опасности чтобы завтра вылечить какую-нибудь тетку Сильвию, которой он не смог помочь сегодня. Ну а напротив вас вы найдете мастера, готового спорить с королями чтобы донести до людей свое видение мира. Не это ли настоящая Испания?! Ну и наконец, если и этого для вас мало, то посмотрите в зеркало и увидите там человека совестливого и порядочного настолько, что он готов на ужасные вещи во имя своих друзей… Ну как, увидели своего героя?
Сервантес: Еще нет. Но теперь я, пожалуй, знаю где его искать .
Фра Франциско: Вам же, дон Доминик, мои советы похоже не нужны. Свой путь вы уже нашли.
Эль Греко: Нащупал, святой отец, нащупал. Для того чтобы найти потребуется вся жизнь.
Доктор: А мне вы дадите совет? Лечить теток благородное дело, конечно…
Фра Франциско: …Но вам хочется большего. Только не говорите мне, что вы лечите строго по Авиценне. Я то знаю, что вы отвергаете каноны и ищете новое. Ну так и ищите. В этом ваша жизнь и предназначение. А то ваше так называемое поучение прозвучало как исповедь неудачника. Вы неудачник, Доктор? Надеюсь, что нет. Вижу, что нет.
Доктор: Все то вы знаете.
Фра Франциско: А еще я знаю, что вам нужно будет передать свои знания кому-то. Почему бы вам не взять нашего Диего в ученики?
Диего: Я же навигатор, а не медик.
Доктор: Пожалуй, Диего мне бы подошел.
Диего: Я бы лучше пошел в ученики к вам, отец Франциско. Не обижайтесь, Доктор.
Сервантес: Правильно, парень.
Фра Франциско: Ко мне? А чему я смогу тебя научить? Может быть – писать доносы? О, как это будет благородно! Позвольте же мне, друзья, произнести речь в защиту доноса.
Выходит на авансцену
Фра Франциско: Да, да, я имею ввиду именно этот литературный жанр, столь распространенный в последнее время. Отбросьте в сторону ваши сонеты, бросьте в печку ваши поэмы, разорвите на тысячу кусков ваши новеллы. Донос – только донос достоин зваться литературным произведением. Ах как многие недооценивают его значение. Они не понимают, что доносительство – это искусство, да … несомненно. Ведь что такое настоящий, профессионально написанный донос? Это квинтэссенция тщательно скрываемых чувств. Тут и праведный гнев и старательно скрываемый страх, а также и немалая доля неудовлетворенности. Ну и, конечно, вершина всего – благородная зависть. Какая восхитительная смесь, облеченная иногда в корявые, а порой и в весьма изящные слова. Ах, почему в наших университетах не изучают доносительство. Как прославились бы почетные доктора доносов, бакалавры ябед, магистры наветов! Каким бы уважением пользовались благородные профессора по изящной науке слова и дела! Они учили бы студентов и классическим кляузам и доносам на доносчиков и доносам на доносящих на доносчиков. Особым предметом должны следовать огульные доносы. Или возьмем, например, донос на самого себя. Не это ли истинная вершина жанра? Он чем-то похож на автопортрет, не правда-ли дон Доминик? Только этот портрет пишется исключительно в черных красках. Но ведь черный цвет столь благороден, да и грязь на нем менее заметна. Но нет, довольно. Баста!
Фра Франциско замолкает и закрывает лицо руками. Похоже, он плачет. Диего подскакивает и обнимает его.
Сервантес: Не хочу вас обидеть, отец Франциско, но ведь вы и сами пишите доносы.
Фра Франциско: Пишу, дон Мигель, пишу. Но только в несколько ином жанре. В каком, спросите вы? И я отвечу – мои доносы написаны в редком и малоизвестном жанре защитительного доноса. Донос, друзья мои, это обоюдоострое оружие необычайной силы. Донос может погубить и уничтожить, а может спасти и даже возвеличить. Качественный донос, написанный в защиту объекта доносительства, может обезвредить множество губительных доносов. А ведь это совсем не так просто. Защитительный донос должен, с одной стороны, противоречить погубителным доносам, но, с другой стороны, он должен с ними гармонировать, чтобы не вызывать подозрений. О, не надо недооценивать отцов-инквизиторов! Ведь они будут проверять и перепроверять, сверяя сведения из различных источников, то-есть – от разных доносчиков. И, если сведения в вашем доносе будут противоречить его недобрым собратьям, горе тогда и вашему доносу и вам самим. Совсем другое дело, если ваш достойный опус как-бы подтверждает утверждения себе подобных, но трактует их в выгодным для объекта ключе, переворачивая смысл наизнанку, при этом отнюдь не трогая фактов. И если простой донос – это искусство, то защитительный донос подобен магии. Я имею в виду белую магию, разумеется, которую, хотя и с оговорками, допускают отцы нашей церкви… И все же это тоже донос. Грязь, грязь, грязь.
Фра Франциско падает на колени и закрывает лицо руками.
Доктор: Ноги Спасителя были в грязи…
Фра Франциско: Что? Что вы сказали?
Доктор: Дорога на Голгофу не похожа на мраморную лестницу в королевском дворце. Там и грязь и пыль. Но иногда надо пройти ее до конца.
Эль Греко: На лестницах Эскориала тоже можно запачкаться. Особенно, если карабкаться на самый верх не стесняясь в средствах.
Диего: Встаньте, учитель. Я вам помогу.
Фра Франциско: Нам предстоит долгий путь. Надо так многому тебя научить и надо самому так многому научиться. Знаешь ли ты мой друг, как уничтожить грязь но и самому не испачкаться? Не знаешь, верно? Не знаю и я. Ведь абсолютное добро бессильно, и невозможно противостоять злу в белых одеждах. Ах как легко борьба со злом может превратиться в войну со всем миром принося в этот мир еще большее зло. Нам с тобой надо научиться балансировать на грани добра и зла, не переходя эту грань. Будьте осторожны, Доктор. Не переусердствуйте с доносами, пусть это даже самые защитительные доносы. Все, достаточно разговоров. Простите, друзья мои, надоедливого и болтливого монаха. И прощайте.
Доктор:Увидимся ли мы?
Фра Франциско: Кто знает? Есть люди, которые искренне верят, что земля круглая. Ерунда, конечно, но как бы я хотел жить в таком круглом мире. Ведь в нем любой прямой путь приводил бы нас назад, к нашим друзьям и нашему дому. А ведь наш путь прям, верно, Диего?
Диего: Несомненно, учитель. Прощайте господа.
О
ни уходят, кивнув на прощание всем присутствующим.
Входит Кармелита.
Кармелита: А где наш святой отец? И где молодой идальго?
Сервантес: Они ушли. Пора и нам. Мне еще надо найти своего героя.
Эль Греко: Мне нужно найти верное освещение.
Доктор: А мне – нового ученика.
Все, кроме Кармелиты уходят.
Кармелита: Идите, идите. Все равно вы вернетесь, никуда не денетесь. Ко мне все возвращаются,,, А народ-то почти что весь разошелся. Поздно уже, ночь на дворе. Как же я устала, пресвятая дева. А ведь мне еще донос писать.
Кассандра
Трагикомедия из античной жизни в двух действиях
Действующие лица:
Кассандра (Александра), дочь царя Приама
Приам, царь Трои
Гекуба, жена Приама и мать Кассандры
Гектор, старший брат Кассандры
Андромаха, жена Гектора
Нищий поэт
Служанка
Посол Спарты
Аполлон, бог
Афродита, богиня
Действие происходит на центральной площади Трои, незадолго перед Троянской войной. На заднике, возможно, нарисован храм, торговые ряды и т.д. На переднем плане какие-нибудь детали античного быта: опрокинутый кувшин, амфора, корзины и т.д. Имеются ступеньки на которые взбираются ораторы. Предполагается, что площадь называется "Агора". Она смотрит в сторону моря в направлении зрительного зала.
Действие Первое
На сцене сидит Нищий. Появляется Служанка. Служанка смотрит в сторону моря (в зрительный зал).
Нищий: Что ты там не видала?
Служанка: Смотри какой красивый корабль. И парус такой смешной. Никогда не видела парусов такого цвета.
Нищий: Никто еще во всей Ойкумене не видывал таких парусов. Видишь ли, Парис уверен что алые паруса не смогут ни одну женщину оставить равнодушной. Говорят, он это не сам придумал – Афродита подсказала.
Служанка: Так это корабль Париса?
Нищий: Его самого.
Служанка: И куда же это его понесло?
Нищий: Ты что с оливы упала? Вроде бы ты местная, и мордашка твоя мне знакома, а не знаешь того, что в Трое каждой собаке известно.
Служанка: Я полгода была заграницей. Меня царица посылала за благовониями (
пауза) в Египет.
Нищий: Ясно, что не в Скифию. Там у них тоже этого добра хватает… но без "благо". Контрабандистка, значит? (
служанка смущается). Так вот почему ты так отстала от жизни. Придется тебя просветить.
Служанка: Уж будь так добр.
Нищий: Так знай – под этим алым парусом наш доблестный Парис направляет свои стопы, а точнее – нос своего корабля – в Спарту. И как ты думаешь, зачем?
Служанка: Зачем?
Нищий: Чтобы украсть прекрасную спартанку Елену, жену Менелая.
Служанка: И ты так просто об этом говоришь?
Нищий: Ну и что? (
иронично) Как я уже сказал у нас в Трое об этом каждая собака знает. И эта каждая собака, соответственно, одобряет. Ведь это дело скорее политическое, чем амурное. Тут у нас никто эту Елену не видел и неизвестно еще, насколько она прекрасная. А вот наставить рога ахейцам не откажется ни один истинный троянец.
Служанка: Так-таки все одобряют?
Нищий: Почти все. Ты бы видела как торжественно провожали Париса. Всем городом провожали, с фейерверком, плясками и двухдневным запоем. Гектор и Приам упились прямо как скифы какие-нибудь, не разбавляя. В общем, отметили по высшему разряду. Как будто Парис отправился открывать Австралию, а не в поисках небольшого адюльтера.
Служанка: Ты кажется сказал "почти все"?
Нищий: Да есть тут одна принцесса. Нет, она действительно дочь царя – Кассандра Приамида, или, если по-скифски, Приамовна. Так вот эта Кассандра в форменную истерику впала и заговорила ну прямо на скифский лад. Не ходи, говорит, Парис в Спарту, будет нам всем, говорит, беда неминучая, да смерть лютая. А потом возьми да и ляг прямо поперек той красной дорожки что к Парисовой яхте постелили. Да еще и упирается. Еле-еле ее Парисовы хлопцы оттащили. Непонятно, чего ее вдруг так прободало. Говорят, правда, что она возомнила себя пророчицей. Это у нее наверное гормоны зашкаливают. Поговаривают, что она в свои пятнадцать лет до сих пор
девственница.
Появляется Кассандра и прислушивается, незамеченная остальными персонажами.
Служанка: Ничего-то ты не знаешь. Тут очень непростая история.
Нищий: А ну излагай, я люблю непростые истории.
Служанка: А ты никому не расскажешь? Говорят, что ты поэт а, поэты – они такие..
Нищий: Не бойся я не такой. В наше время поэт – это профессия а не призвание. А я по профессии нищий и неважно, кто я там по призванию. Так что там насчет Приамовны?
Служанка: (
таинственно) Говорят, только сама я не видела, что запал на нее сам Аполлон. И так запал, что готов был на все, чтобы ее ублажить. Вот и одарил он ее даром предвидения.
Нищий: Так это, значит, не гормоны? Ну а дальше?
Служанка: А дальше, как всегда, что с богами, что с смертными. Она его просто продинамила.
Нищий: Она его – что?
Служанка: Ну не дала она ему. Наш Аполлон, естественно, разгневался. А дар свой отнять как-то неприлично, а может и не умеет он дары свои забирать.Боги у нас хоть и бессмертные, но не совсем всемогущие. Так этот поганец, что придумал: навел на нее такую порчу, что пророчить то она пророчит, да никто ей не верит.
Нищий: (
патетически) Гнев, о богиня, воспой Аполлона, сукина сына.
(своим голосом) Или, как говорят у скифов, на бога надейся, но человек сам кузнец своего счастья.
Кассандра: Что это ты все скифов поминаешь?
Нищий: (
смущенно) Возрадуйся, о Кассандра Приамида.
Кассандра: Без церемоний, пожалуйста. Также как без церемоний вы обсуждали мою девственность.
Служанка: Не гневайтесь, госпожа.
Кассандра: Ладно, проехали. Так что же насчет скифов?
Нищий: Скифов? Ну сую я их куда надо и куда не надо, признаю. А кого мне еще поминать? Упомянешь евреев, скажут – антисемит. Греков поминать тоже опасно – соседи все же. Арабов вспомнить, опять же в антисемиты зачислят. Да и нет еще никаких арабов, не появились они еще и лет этак с тыщу еще не появятся.
Кассандра: Ну а скифы-то чем провинились?
Нищий: Так ведь я и сам скиф. (
патетически) “Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами!”, (
обычным голосом) как сказал один наш скифский поэт. Нет, это не я был. Ну вот и вешаю теперь на скифов всех собак, мне-то можно как скифу. Совсем как с еврейскими анекдотами. Попробуй-ка расскажи один такой анекдотец кому-нибудь из них – сразу затопчут. А сами-то евреи эти-же анекдоты травят почем зря. И никто их почему-то антисемитами не называет.
Служанка: Ваше высочество, можно я что-то спрошу?
Кассандра: Можно, только без "высочества", прошу тебя.
Служанка: Это правда, что у вас видения?
Кассандра: Правда, только не видения, а предвидения.
Служанка: И что вы предвидите?
Кассандра: Думаю, вам лучше этого не знать.
Нищий: Почему же?
Кассандра: Да потому что вы все равно ничего не сможете изменить, а зря вас огорчать я не хочу. Он поэт, а ты – простая служанка. Не обижайтесь, но слишком мало от вас в этом мире зависит.
Нищий: Я не поэт, я нищий. Но может и от нас будет толк?
Служанка: Расскажите нам, принцесса.
Кассандра: (
мнется) Будет очень плохо. Будет война и смерть. Наша Троя будет сожжена и разрушена, мужчины наши будут убиты или изгнаны, женщины наши будут отданы на поругание похотливым старикам, а дети наши будут обращены в рабство. И все это как результат безрассудного налета нашего Парисика на Спарту.
Нищий: И ты?
Кассандра: И я пытаюсь предупредить наших правителей, тех из них, кто может еще что-то сделать. Можно послать скоростную трирему перехватить Парисову яхту. Можно извиниться перед греками, дать им отступного, отдать пару городов. Можно, в конце концов, хоть что-нибудь сделать.
Служанка: Но вас не слушают.
Кассандра: Но меня не слушают.
Нищий: А ты не перестаешь пытаться.
Кассандра: А я не перестаю пытаться.
Служанка: Вы ждете кого-то, принцесса?
Кассандра: А вы никому не расскажете?
Служанка: Клянусь всеми богами Олимпа!
Нищий: Могила.
Кассандра: У меня тут встреча со Спартанским Послом. Вот только он опаздывает.
Служанка: Что ему от вас надо?
Кассандра: Не ему, а мне.Я собираюсь предать Родину!
Нищий: Ой, да что тут предавать-то?
Служанка: Как это, предать?
Кассандра: Сейчас сами услышите. Вот он идет. Прячьтесь – быстро!
Нищий и Служанка отходят на край сцены. Входит Посол.
Посол: Ваше высочество!
Кассандра: Ваше превосходительство!
Посол: Если возможно, давайте сократим официальную часть.
Кассандра: С радостью. Позвольте перейти к делу. Известно ли вам об истинной цели похода Париса в Спарту?
Посол: Я обязан отвечать? Учтите, принцесса, вы затрагиваете очень скользкую, я бы даже сказал – опасную – тему.
Кассандра: Пожалуйста, не зовите меня принцессой. Я Кассандра.
Посол: Хорошее имя, Кассандра. По нашему это будет Александра, Сашенька.
Кассандра: Мне нравится имя Сашенька. Но это слишком уж интимно, если на наш, на троянский лад. Лучше зовите меня Сандрой.
Посол: Сандра? Тоже неплохо звучит. Вы мне очень симпатичны, Сандра, симпатичны как человеку. Но как кадровый дипломат, я просто обязан взвешивать каждое слово. Боюсь, что не получится у нас откровенного разговора.
Кассандра: А вы попробуйте как человек, а не как посол.
Посол: Это небезопасно и для меня и для вас. А что, если кто-нибудь узнает о нашем разговоре?
Кассандра: Не бойтесь. Даже если узнают, то все равно не поверят. Вам известно, что мне никто не верит?
Посол: Да, что-то такое я слышал. Ну что-ж, рискну. Да, мне известно, что ваш братец собирается наставить рога одному нашему второстепенному царьку. Да что я говорю, он уже их наставил в свой прошлый приезд, а сейчас несется на всех парусах закрепить достигнутое.
Кассандра: Вы хорошо информированы.
Посол: (
немного смущенно) Голубиная почта.
Кассандра: Так воспользуйтесь своей голубиной почтой и предупредите кого следует там, на другом берегу. Потребуется всего одна скоростная трирема. Они легко догонят Парисика на его тихоходной яхте. Остальное – дело техники, и не мне это объяснять вам, кадровому дипломату. Заблудшая жена возвращается к любящему мужу практически нетронутой, найдутся тому свидетели за разумное вознаграждение. Ну а Парисика можно немного попинать, только не увлекайтесь. И неприятный инцидент можно будет предать забвению.
Посол: Ваш поступок трудно назвать патриотическим.
Кассандра: При чем тут патриотизм? Это скорее дела семейные.
Посол: Не надо. Я знаю, что вы не настолько наивны. Мы оба видели как проводы Париса плавно перешли во всенародный праздник. Тут речь пошла уже больше чем об одной паре рогов.
Кассандра: (
нетерпеливо) Так вы пошлете голубя или нет?
Посол: Давно уже послал.
Кассандра: И что же?
Посол: И получил приказ ничего не предпринимать. Вы понимаете, что я сейчас выдаю вам государственную тайну?
Кассандра: Я другого не понимаю. Что им там, в Спарте, от нас надо?
Посол: Действительно не понимаете? А ведь все так просто. Им нужен повод для войны.
Кассандра: О боги! Зачем Спарте война? У вас что, спартанки не рыдают над убитыми спартанцами?
Посол: Еще как рыдают. Но тут задето более сильно чувство.
Кассандра: Какое?
Посол: Зависть. Да, да, именно зависть. Видите ли, Сандра, я уже давно живу в Трое и могу позволить себе иногда посмотреть на происходящее несколько отрешенно. Не как спартанец, но и не как троянец. Их, спартанцев, до глубины души ранит ваше превосходство.
Кассандра: И в чем же оно, наше превосходство?
Посол: О, во многом. Эти ваши высокие технологии, эти ваши прекрасные дороги на две колесницы в каждую сторону. А это ваше капельное орошение, просто издевательство какое-то над бедным спартанцем, который ковыряет свою, хотя и плодородную землю, но зато дедовской сохой. А эти ваши высотные дома в три, а порой и в четыре этажа. Что должен чуствовать простой спартанец, ютящийся в свой, хоть и просторной, но одноэтажной халупе? Вот они, ну то есть мы, и решили воспользоваться таким прекрасным поводом. Ведь месть за обиженного мужа выглядит много благороднее банального желания пограбить. Да что я говорю! Даже не пограбить, а просто разрушить.
Кассандра: Ваши речи тоже не слишком патриотичны.
Посол: Наболело, знаете ли. Возможно, я слишком долго живу заграницей.
Кассандра: Как все это грязно! Как подло!
Посол: Политика, Сашенька, все это долбанная политика. И ничего тут не поделаешь. Но есть еще одна причина, по которой я пытаюсь вам помочь в силу моих скромных возможностей.
Кассандра: Что именно?
Посол: Нечто нелицеприятное, такое в чем сам себе не сразу признаешься. Ведь и я сам. я тоже полон этой зависти, я такой же как и все, ничуть не лучше. И нечто так глубоко, а может и не так уж глубоко, внутри меня требует – сожги, растопчи, уничтожь. Убей – наконец.
Кассандра: Ничего не понимаю! Тогда почему..?
Посол: Да потому что мне стыдно. Я не хочу быть таким, не хочу завидовать и разрушать. И не буду. Впрочем, все это для меня, вам это все равно не поможет.
Кассандра: Что же нам делать?
Посол: Боюсь, что вам не понравится мой совет.
Кассандра: Да ладно, я уже ничему не удивляюсь. Что вы нам посоветуете?
Посол: Бегите!
Кассандра: Бежать?
Посол: Да, именно, и без оглядки.
Кассандра: Неужели нет иного выхода? Ведь разумные люди всегда могут договориться. Мы можем поделиться своими технологиями, мы можем построить вам дороги, можем научить капельному орошению…
Во время последующего монолога Посла, он непроизвольно наступает на Кассандру, а она, отступая от него поднимается на ступеньки.
Посол: Бессмысленно. Ахейцы слишком самолюбивы, чтобы что-то принять. Судите сами. Сейчас они убеждены, что они самый передовой народ, что их ученые самые ученые, а их города – самые красивые. В глубине души они, конечно, понимают, что все это, мягко говоря, не совсем так. Но они никогда в этом не признаются ни миру, ни, в первую очередь, самим себе. А вы предлагаете ткнуть их носом в то что они не хотят видеть. Ну а если становится слишком заметно, что у кого-то дома выше и дороги шире, то можно сжечь те дома и разрушить те дороги. Тогда наши, пусть даже одноэтажные, дома будут самыми высокими, а наши не слишком хорошие дороги – самыми лучшими. Можно, конечно, научиться строить и дома и дороги, но этот путь значительно длиннее и труднее. Ну так будем же разрушать, кричим мы в толпу. И толпа радостно несется разрушать. И, вы знаете, Сандра, на этом пути тоже удается кое-что изобрести. Например таран для разрушения домов и подобные гадости. Правда это не прибавит нам домов, зато прибавит немало того, что почему-то называется национальной гордостью.
Замечает Кассандру на ступеньках, отходит. Кассандра подступает к нему, заглядывает в глаза.
Кассандра: А как же вы? Я ведь чувствую вашу боль сквозь весь этот сарказм. Вы ведь не хотите, чтобы весь этот ужас обрел плоть. Так вернитесь в Спарту, идите к царям, идите к простым ахейцам, кричите, наконец, на площадях, как я кричу.
Посол: Да, я в ужасе! И да, я не хочу. Но в Спарту не вернусь и кричать на площадях не буду.
Кассандра: Почему же?!
Посол: Потому, что Спарта – это отнюдь не Троя. Здесь у вас народ избалован изобилием и развращен демократией. Вас, Сандра, здесь демократично игнорируют. А там меня вульгарно зарежут посмей я только сказать то, что хотел бы сказать, но никогда скажу. Или цари меня убьют, или это сделает благодарный им народ.
Кассандра: Но почему?
Посол: Видите ли, Сандра, наши цари держатся за власть только на волне зависти к врагам. А иначе им просто нечего будет дать народу. И наши цари уничтожат каждого, кто попытается лишить народ зависти – этого простого, но такого эффективного инструмента власти. А народ идет за царями, потому что те дают им простой и ясный смысл жизни не требующий от них умственных усилий. И люди привычно порвут каждого, кто попытается заставить их думать. Ведь думать, это так некомфортно. Гораздо комфортнее завидовать.
Кассандра: Но мы будем сражаться и мы не сдадимся так легко. Многие погибнут.
Посол: А это как раз не слишком беспокоит царей. И люди пойдут умирать, подпираемые сзади злостью и завистью, красиво замаскированными под национальную гордость. И легко пойдут и весело, с песнями. Ведь они привыкли не задумываться, а в бой можно идти и не задумываясь.
Кассандра: И нет выхода?
Посол: Я, по крайней мере, его не вижу. Лучше бегите.
Кассандра: Мы не побежим.
Посол: Я знаю. Вы тоже гордый народ, хоть и умеете строить высокие дома. Нам остается только положиться на волю богов, хотя им, похоже, глубоко плевать на нас. Так я пойду? Извините, если расстроил.
Посол уходит. Нищий и Служанка приближаются.
Кассандра: Вы все слышали?
Нищий: Лучше бы не слышали.
Кассандра: И что скажете?
Служанка: Мне не хочется говорить, мне хочется плакать.
Нищий: А я, пожалуй, попробую сказать.
Нищий встает, п
однимается на ступеньки и, раскрыв свиток, начинает читать стихи, Служанка ему внимает.. Первые два-три четверостишия он произносит нарочито бесстрастно и медленно, но как-бы усиливая, "вбивая" слова. По мере чтения, его темп убыстряется, а экспрессия возрастает. Служанка придвигается ближе к Нищему.
Нищий:
Изыском утонченного садизма -
– Жестокое отмщение богов
Увидеть смерти огненную тризну
На крутизне троянских берегов
Неистово мучительно и страшно
Предвидеть, но не в силах упредить
Ни крик, ни боль, в предвиденье ужасном
Не смогут корабли остановить
Как опухолью страшной наболело
Что быть тебе пророком не дано
И в кровь ногтями раздираешь тело
Чтоб смыть непонимания клеймо
Как выплеснуть видение наружу
Надеюсь, что хоть кто-нибудь поймет
В неистовстве распластываю душу,
В безмолвном вопле раздирая рот
Кассандра: А ведь похоже, что ты действительно поэт.
Нищий: Я и поэт и нищий одновременно. Как человек, я нищ, но как поэт я более состоятелен.
Служанка: Такими стихами не заработаешь даже на кусок хлеба и горсть оливок. А ты знаешь, что другие поэты или те, кто себя поэтами называют, выдают твои стихи за свои? Вот например, этот вечно пьяный грек – Гомер. Да он скоро всю нашу Трою разберет на цитаты. Вот посмотришь, однажды он сочинит целую поэму из одних только обрывков твоих стихов. И будет эта поэма и социально востребована и идеологически выдержана.
Нищий: Ерунда, Гомер – политический слепец, он же ничего не видит даже у себя под носом.
Кассандра: Зато ему наша царица Гекуба благоволит.
Нищий: (
патетически) Что он Гекубе, что ему Гекуба? (
обычным голосом) Плевал я на твоего Гомера. Впрочем, как говорят те же скифы: "Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь".
Служанка: Я тоже опасаюсь, что ты доплюешься. Недостаточно сочинить стихи. Надо еще уметь их продать.
Нищий: Так же как и пророчества. Извини, Сашенька.
Кассандра: К сожалению, ты прав. А теперь уходите – сюда идет царь.
Нищий: Будешь продолжать, принцесса?
Кассандра: Буду. Ох как не хочется, но надо. Скорее прячьтесь.
Нищий с Служанка отходят в сторону. Входят Приам и Гекуба.
Приам: Зачем ты позвала меня, о дочь моя!
Кассандра: Я подумала, что здесь, на рынке, где мы ближе к народу, ты лучше поймешь меня.
Приам: Это не рынок, это Агора, просто мы на ней временно рынок организовали.
Приам и Гекуба осматриваются
Нищий: (Служанке) Тоже мне Агора. Вот в Микенах Агора – это Агора. Или в этом модном районе новостроек, ну как его…а-а …Афины. Вот там действительно рынок на Агоре. А у нас – Агора на рынке.
Гекуба: Ты зачем нас позвала, доченька?
Приам: Кстати, к народу мы всегда близко, что во дворце, что на Агоре, что на рынке.
Кассандра: Отец, меня очень беспокоит этот набег Парисика.
Приам: А что с ним не так? Юноша развлекается, да еще и за счет чужого мужа. Ха-ха.
Кассандра: Ты же знаешь, отец, что не все так просто. Не считай меня ребенком.
Гекуба: Милая, я тебя очень хорошо понимаю. Ты беспокоишься за брата и это более чем естественно. Но воспитанная девушка из хорошего дома должна вести себя соответственно. А эта твоя выходка на причале выглядела ну просто неэстетично.
Кассандра: Папа, война будет?
Гекуба: Ну, милая, это не та тема, которую следует обсуждать в твоем возрасте.
Приам: Подожди Гекуба. Похоже девочка действительно немного повзрослела. Пойди-ка ты мать. прогуляйся по рынку, купи нам малины, что ли. А я тут поворкую с дочуркой.
Гекуба: Так для малины не сезон.
Приам: Ну так купи яблок или что там сейчас продают.
Гекуба уходит поджав губы. Во время последующего диалога Прима расхаживает по сцене, а Кассандра сидит на ступеньках и следит за ним взглядом.
Приам: Война говоришь? Будет война, непременно будет. Вопрос только в том – какая? Войны бывают экономические и информационные.
Кассандра: Бывают еще такие в которых убивают.
Приам: А вот этого всегда можно избежать. Противника можно вначале разорить, потом запугать, а еще потом дезинформировать. А убивать, это только в самом крайнем случае. И уж точно, не на поле боя. Кому это надо, посуди сама. Даже если ахейцам, рассуждая чисто гипотетически, удастся захватить Трою, они успеют положить под нашими стенами пол-Эллады, а их экономика будет просто раздавлена военными расходами. Им это надо?
Кассандра: А если им плевать и на пол-Эллады и на экономику?
Приам: Так не бывает. Поверь мне дочка, никто не разрушает свою страну, чтобы уничтожить другую.
Кассандра: Я не уверена. А боги, боги будут на нашей стороне?
Приам: Ну, это вряд-ли. Ты же знаешь, что наши небожители подсели на амброзию и нектар. А нектарные поля, как ты наверное проходила в школе, находятся в основном на Пелопоннесе. По воле Зевса, разумеется. Не мог, зараза, равномерно распределить. А Пелопоннес, он что?
Кассандра: Он на греческой территории.
Приам: Так что против греков боги не пойдут. В лучшем случае они призовут обе стороны к сдержанности. А скорее всего, будут ненавязчиво поддерживать ахейцев, сохраняя видимость беспристрастности. Ты не представляешь как много пакостей можно сделать под маской объективности.
Кассандра: Так что же нам делать?
Приам: А вот это правильный вопрос. Нам следует не на богов рассчитывать, а на союзников, на наши экономические связи и на нашу военную мощь. Пусть ахейцы приходят. Они увидят наше боевые колесницы, наши высокие дома, наши стены. И они покрутятся, покрутятся и отступят.
Кассандра: Но ведь я ясно видела как рушатся наши стены и как горят наши дома.
Приам: Абсурд и девичьи страхи. Ахейцы, конечно, мерзавцы, но не дураки же они. Они, разумеется, поиграют мускулами, понадувают щеки, но на открытые военные действия не осмелятся.
Кассандра: А если осмелятся?
Приам: (
смеется) Ну вот тогда и поговорим. А известно ли тебе, что при определенных условиях война может очень благотворно сказаться на экономике? Да, да, не удивляйся. Правильно организованная и хорошо контролируемая небольшая заварушка даст необходимый импульс нашему военно-промышленному комплексу. Увеличится производство колесниц, баллист, осадных орудий, иной военной техники. А это означает рабочие места, приток налогов, ускорение оборота денежной массы и много других полезных и нужных дел. Ну что скажешь?
Кассандра: Какая мерзость! А как же с теми, кто погибнет в этой "заварушке"?
Приам: Их семьи несомненно получат достойную компенсацию, между прочим – из тех же прибылей, которые эта заварушка нам принесет. А сейчас сюда идет твоя мать и, будь добра, постарайся ее не расстраивать.
Кассандра: Папа!
Приам: Все, прощай Сандра, меня ждут государственные дела.
Приам уходит. Появляется Гекуба.
Гекуба: (
ворчит) Малины ему захотелось. Клубнички ему подавай. Да там, кроме пары дохлых кур и гнилых маслин, ничего и нет.
Кассандра: Мама, ты не боишься, что мой брат спровоцировал войну?
Гекуба: Ну, не думаю. И вообще, эти греки сами виноваты. Им бы следовало получше воспитывать своих дочерей. Тогда бы ни одна из них и не взглянула бы на постороннего мужчину.
Кассандра: Так уж и ни одна?
Гекуба: Конечно, твой брат мужчина видный. Но ведь это еще не повод. Я имею ввиду, для воспитанной дамы. И уж точно, не повод для войны. Впрочем, война, это дело мужчин.
Кассандра: Да, их там убивают.
Гекуба: Я уверена, что убивают только тех, кто и не заслуживает большего.
Кассандра: Ну а если убьют одного из твоих сыновей: Гектора, Париса или Антифонта?
Гекуба: Какая гадость. Этого просто не может быть. Принцев не убивают, их берут в плен и потом выпускают в обмен на выкуп. По крайней мере так принято в цивилизованном мире.
Кассандра: А женщины? Участь женщины побежденных может быть даже хуже. Ее судьба быть бесправной рабыней, наложницей, которую воины передают один другому, бессловесной тварью, подстилкой для последнего раба. Эту участь ты предлагаешь мне?
Гекуба: Немедленно замолчи. Я не хочу слышать эту мерзость. Да, я слышала, что на войне случаются определенные эксцессы, но они несомненно не имеют отношения к принцессам. А ты принцесса, не забывай это и будь любезна вести себя соответственно.
Кассандра: Мама!
Гекуба: Тебе не кажется, что эта тема себя исчерпала? По крайней мере, в рамках приличия.
Кассандра: (вскакивает на ступеньки) Мама!
Гекуба: (не глядя на Кассандру) Я еще должна проследить, чтобы твоему отцу приготовили диетический ужин. ты же знаешь, у него слабый желудок.
Кассандра: Мама!
Гекуба: Можешь еще погулять на рынке…То есть, на Агоре. Но не слишком задерживайся. До свидания.
Гекуба уходит. Приближаются Нищий и Служанка. Кассандра так и стоит на ступеньках, во время последующего разговора она медленно опускается вниз.
Кассандра: (
вслед Гекубе) Но как же так, мама?
Служанка: Не надо, принцесса.
Нищий: Это бесполезно.
Кассандра: Неужели Аполлоново проклятье сильнее людей?
Нищий: Не знаю насчет проклятия, но твой отец похоже слишком умен, чтобы прислушаться к чужому мнению. А царицу вообще ничем не проймешь. Только без обид.
Кассандра: Какие уж тут обиды. Одна надежда на Гектора. Надо поговорить с ним. Его все уважают, его любят в народе. Даже отец, который никого не слушает, и то прислушивается к нему иногда.
Служанка: Он тоже сюда придет?
Кассандра: Нет друзья мои, его нет в городе и не будет еще несколько недель. Как бы не было поздно.
Нищий: Будем ждать.
Действие Второе
На сцене Кассандра. Она нетерпеливо ходит взад-перед. Появляются Служанка и Нищий.
Нищий: Возрадуйся, о Приамида!
Кассандра: Издеваешся?
Нищий: Нет, просто дурная привычка. Извини.
Кассандра: Ладно, извиняю. Я и сама вся на нервах. Терпеть не могу ждать.
Нищий: Кого ты сейчас ждешь?
Кассандра: Брата, Гектора. Но он наверное, припрется со своей коровой.
Нищий: Он что, увлекся животноводством?
Служанка: Это она про его жену.
Кассандра: Про нее, про Андромаху. Про кого же еще? Наверное она все еще крутится перед зеркалом и поэтому Гектор опаздывает.
Служанка: Вот они идут.
Нищий: Мы исчезаем.
Нищий и Служанка отходят в сторону. Появляются Гектор и Андромаха
Гектор: Привет сестренка
Андромаха: Здравствуй, принцесса.
Кассандра: Не надо принцессы, зови меня Сандрой.
Андромаха: Очень демократично, Сандра.
Кассандра: Гектор, как ты думаешь, война будет?
Гектор: Это ты насчет шалостей нашего младшенького? Какой проказник, однако.
Кассандра: Ты же сам его подзуживал. Разве этот набег не твоя идея? Да Парису такое в жизни не придумать!
Андромаха: Гектор, это правда?
Гектор: Признаю, я немного приложил руку.
Кассандра: Немного?
Гектор: Не придирайся, сестренка! Да, послал я нашего наивного братика немного пошалить в Спарте. И он прекрасно справился, как мне доложили. А теперь все просто: кто начал военные действия, тот и агрессор. И это будем не мы, а значит перед богами и перед мировой общественностью мы чисты.
Кассандра: Так это ты провоцируешь войну? Зачем?
Гектор: Затем, что застоялись мы в стойле. Наш умный отец пытается решить все проблемы с помощью экономического давления. Ну а я раскрою ему глаза. Нет, хватит с нас экономики. Посмотри на наши новые тяжелые колесницы, собранные по лицензии фараона. Они ржавеют без дела. А высокоточные баллисты последней модели? И для чего, по-твоему мои бойцы годами накачивали мускулы, делали марш-броски аж до самой границы. Для чего? Чтобы папочка использовал их только как фактор устрашения? Ну нет, мы покажем себя в бою.
Кассандра: А если вы будете разбиты? Что будет тогда с нами?
Гектор: Мы? Разбиты? Ты хочешь сказать, что недообученное ополчение ахейцев выстоит против нашей профессиональной армии?
Кассандра: Их много и они злы. А их цари готовы положить всех до последнего солдата, лишь бы разрушить Трою. А готов ли ты?
Гектор: Мне и незачем. До этого просто не дойдет дело.
Кассандра: А если дойдет? Не лучше ли сжечь их корабли еще до того как они высадятся?
Андромаха: Как ты можешь? Они тоже люди!
Гектор: Остынь, Андромаха. Боюсь, Сандра, из твоей идеи ничего не выйдет. Ты же знаешь, у нас практически нет флота, кроме пары легких трирем. А нанимать флот у финикийцев слишком дорого, наш царь это ни за что не оплатит.
Андромаха: Не понимаю, как можно жечь живых людей?
Кассандра: А если они идут жечь тебя? Мне тоже бы не хотелось их убивать, но для того, чтобы уберечь Трою, я готова на все. А ты на что готова ради своих детей?
Гектор: Девочки, не ссорьтесь, все равно мы флот жечь не станем.
Кассандра: Ну почему?
Гектор: Да если их сжечь, с кем же я тогда воевать буду?
Кассандра: Так вот оно что! Ты готов развязать войну, только чтобы удовлетворить свои амбиции великого полководца?
Гектор: Сандра, не надо так. А, впрочем, что скрывать теперь. Да, да, мне нужна эта война. Я не собираюсь всю жизнь оставаться в тени нашего доброго папочки.
Кассандра: И тысячи погибнут ради твоей славы.
Гектор: Ну и пусть. Зато остальные вернутся покрытые неувядаемой славой.
Андромаха: Гектор, что ты говоришь! Опомнись!
Гектор: А ты не лезь ко мне со своим гнилым пацифизмом!
Андромаха: Тупой вояка!
Андромаха садится на ступеньки и рыдает
Кассандра: Да нет, не тупой. Скорее – беспринципный! Ведь правда, братец? Для тебя ничего не стоит положить дивизию-другую ради своего возвышения.
Гектор: Кто бы говорил. Провидица-неудачница, которой никто не верит.
Кассандра: А ты попробуй поверить! Ну представь хоть на минуту, что вместо триумфального въезда на богато украшенной колеснице в главные ворота Трои, та же колесница будет волочь твое безжизненное тело по пыльному плацу, на котором ты сейчас гоняешь своих солдат. Представил?
Гектор: Перестань!
Кассандра: А ахейцы будут сбрасывать трупы троянцев под те стены, перед которыми ты собираешься красоваться триумфатором. Представил?
Гектор: Прекрати! Этого никогда не случится! Слышишь – никогда! А, да с кем я говорю!
Гектор убегает, Андромаха остается.
Кассандра: Гектор!
Андромаха: Оставь его. эти тупые солдафоны только и знают, что воевать.
Кассандра: Иногда приходится воевать
Андромаха: Я не верю тебе, люди всегда могут договориться. Можно пойти на уступки.
Кассандра: Но для того, чтобы договориться нужны две стороны. А что, если противная сторона не хочет договариваться?
Андромаха: Так не бывает. это все отговорки милитаристов и агрессоров. Разумеется, придется чем-то поступиться, пойти на компромисс.
Кассандра: А если им не известно понятие компромисса?
Андромаха: Так не бывает! Компромисс – это одна из основ цивилизации!
Кассандра: Ты судишь по себе. А тебе не кажется, что тем самым ты отказываешь им в самобытности и индивидуальности?
Андромаха: Неправда, они такие же люди как и мы!
Кассандра: То есть – как ты? Итак, ты являешся эталоном а им ты делаешь одолжение ставя на один уровень с собой?
Андромаха: Я это не говорила.
Кассандра: Прости, но именно это ты сказала. Мне почему то кажется, что такое сравнение не слишком вдохновит ахейцев, особенно когда они придут под стены Трои. А они придут, не сомневайся.
Андромаха: Пусть приходят. И здесь, под нашими стенами, мы выйдем к ним навстречу и будем говорить как равные с равными.
Кассандра: Ох, сомневаюсь. А как насчет того, что по дороге к стенам, они сожгут предместья?
Андромаха:Это неизбежные издержки. Мы должны принять это с пониманием.
Кассандра: Что по поводу убитых, замученных и угнанных в рабство жителей этих предместий?
Андромаха: Следует признать, что путь к миру непрост. Иногда он требует жертв.
Кассандра: Как далеко ты готова зайти в своей жертвенности? Что, если убьют твоего мужа?
Андромаха: Я оплачу его как жертву борьбы за мир.
Кассандра: А когда ахейцы ворвутся в город, то они первым делом надругаются над женщинами.
Андромаха: Им придется через это прийти. Никто не сказал, что дорога к миру будет легкой.
Кассандра: Подумай хорошо, ведь одной из жертв будешь ты сама. Тебя отдадут солдатам и ты обслужишь десятерых из них.
Андромаха: Если надо…
Кассандра: Двадцать.
Андромаха: Я смогу.
Кассандра: Не сомневаюсь, что и тридцать для тебя не в тягость. А потом тебя сбросят со стены на острия копий.
Андромаха: Нет!
Кассандра: Но ты умрешь не сразу, а еще успеешь увидеть как уводят в рабство твоих детей.
Андромаха: Не надо!
Кассандра: Прости. Но, я это видела. Помнится, Гектор назвал твой пацифизм гнилым....
Андромаха: Да что он понимает в пацифизме?
Кассандра: Согласна, он тебя недооценивает, ведь твой пацифизм хуже его милитаризма. Он мало чем отличается от пофигизма.
Андромаха: Это все неправда, ты все придумала. Такого не будет, не может быть!
Андромаха убегает. Нищий и Служанка подходят к Кассандре.
Кассандра: Все бессмысленно.
Служанка: А есть ли выход вообще?
Нищий: Да, она верно говорит. Ты сама убедилась, что умиротворение не поможет, как и безрассудная вера Гектора в свой полководческий талант. Я уже не говорю о папе-экономисте и маме-поборнице этикета. Так что же делать?
Кассандра: Спасать Трою!
Нищий и Служанка вместе: Но как?
Кассандра: Вы не поняли. Смотрите сами. Наш царь хочет нажиться на небольшой войне, Гектор хочет славы, Андромаха хочет мира любой ценой, царица хочет чтобы все было прилично…
Нищий: Добавь еще посла, который хочет остаться в стороне.
Кассандра: Вот именно. А надо всего лишь захотеть спасти Трою. Тогда и выход найдется.
Служанка: Но они ведь не верят.
Кассандра: От тебя ничего не укроется. Ах, если бы только не этот сексуально озабоченный.
Нищий: Это ты про Аполлона?
Кассандра: Про кого же еще?
Служанка: Послушай, принцесса, это не мое дело, конечно, но может тебе стоит подумать…ну ты понимаешь?
Кассандра: Ты что, предлагаешь мне дать этому мерзавцу?
Служанка: А что? Судя по первоисточникам, он вроде бы неплох собой, да и в сексе далеко не мальчик. Правда, говорят, что ты девственница.
Кассандра: Вообще-то слухи о моей девственности несколько преувеличены. Пожалуй в твоем весьма мерзком предложении все же что-то есть. А ну-ка уйдите со сцены!
Нищий: Ты что, прямо на рынке собираешься…?
Кассандра: Думаешь, в лесу будет лучше?
Нищий: А ведь и верно, сегодня же воскресенье, Зевсов день. Все уже давно в лесу мангалы расставляют, а здесь, на рынке, как раз никого.
Кассандра: Ну вот видишь. А сейчас, вы, оба – брысь отсюда!
Нищий: Я лучше тут в уголке притулюсь. Ты пойми, я ведь все-таки поэт. Кто-то же должен будет все это воспеть, так что придется уж мне быть свидетелем. А то чужие пересказы меня как-то не вдохновляют.
Служанка отходит в сторону. Нищий тоже начинает уходить, но оглядывается.
Нищий: Послушай, принцесса, ты что, всерьез полагаешь, что Аполлон тебе поможет?
Кассандра: А кто же еще? Он проклял, он пусть порчу и снимает.
Нищий: Какой же ты, в сущности, ребенок. Неужели ты всерьез думаешь, что боги действительно нами управляют и что от них что-либо зависит? Да они просто паразитируют на нас, на людях, также точно как это делает правительство, как чиновники, как портовая мафия, в конце концов.
Кассандра: Но ведь меня не же слушают, мне же не верят. Это все аполоново проклятье.
Нищий: Боги! Ну нельзя же быть такой наивной.
Кассандра: Так просвети меня
Нищий: Ну нет, я лучше воздержусь. Ты, конечно, девочка славная, но ведь люди так не любят слушать правду. Тебе ли этого не знать. Пусть уж лучше боги тебя просветят.
Кассандра: Ну и катись отсюда.
Нищий: Уже исчезаю. Только. напоследок, если позволишь, один совет. Не спеши предлагать себя Аполлону.
Кассандра: В-о-он!!
Нищий отходит в сторону.
Кассандра: Аполлон! К тебе взываю! (
ждет) Взываю! (
ждет) Ну, взываю же! (
ждет) Как там тебя величают? Бесподобный? Обалденный? Боюсь, что я как раз этот урок в школе прогуляла.
Входят Аполлон и Афина
Аполлон: Лучезарный. Надо говорить – лучезарный, двоечница. И незачем так орать – всех на Олимпе разбудишь. Итак, зачем ты меня вызвала? Я между прочим, как раз свою пайку нектара получил. И только мы с Гефестом намылились хорошенько вмазать, на тебе – двоечница взывает. А тут еще Афинка за мной увязалась.
Афина: Вообще-то тебя должна была Афродита сопровождать, ведь она у нас главная по любовным вопросам. Вот только после той каши, что она заварила с яблочками, ей лучше не появляться в Трое. Так что с вашими амурными делишками придется мне разбираться.
Аполлон: Это ты о чем?
Кассандра: Ты (
запинается), лучезарный, на меня, конечно, сердишься и справедливо сердишься, я понимаю. И я понимаю, как была неправа. Но и ты напрасно погорячился. Ну зачем же так сразу проклинать! Ведь я женщина, ко мне более тонкий подход нужен. Мы, женщины, ведь не можем, так, сразу, сказать "да". (
Афине) Ну хоть ты-то подтверди!
Афина: Вообще-то с тебя кокетства, как со скифа трезвости. Но, впрочем, продолжай, продолжай, мне нравится ход твоих мыслей.
Аполлон: Постойте, девочки, я уже совсем ничего не понимаю
Афина: (
Кассандре) Видишь, он хоть и бог, а все тот-же тупой самец. И нас, баб, ему никак не понять. Но и ты тоже немного не в теме. (
Аполлону) Бедная девочка думает, что ты ее действительно домогался.
Аполлон: Я? (
в ужасе) Ее? А, вспомнил! Ну, понимаешь (
смущенно), это была шутка такая.
Кассандра: Шутка? (
угрожающе) Такая?! А почему мне не смешно? Теперь, с этого места – поподробнее.
Аполлон: Может не надо?
Афина: Надо – не надо, а придется. Хочешь я сама?
Аполлон: Не стоит, ты еще такого наговоришь. (
Кассандре) Видишь ли, на самом деле не было никакого проклятия.
Кассандра: Как не было? Мне же действительно никто не верит.
Аполлон: Все верно. Но это вполне естественный процесс и происходит он не из-за какого-то там дурацкого проклятия. Зевс свидетель, я ведь ничего такого и не умею. Ты, девочка, уж извини, ничего в людях не понимаешь. Просто они не хотят верить.
Кассандра: Не хотят? А почему?
Аполлон: Каждый по своей причине. Один просто боится поверить, другой вообще никого никогда не слышит, третий может и услышал бы, но он все равно никогда никому не верит…
Кассандра: (
задумчиво) А четвертому невыгодно.
Аполлон: Ну вот ты немного и поумнела, малышка.
Кассандра: А как же мой дар? Это тоже шутка? Так ты мне не давал ничего и нет у меня никакого дара предвидения?
Аполлон: (
немного раздраженно) Ну я же сказал, что пошутил. Согласен, не совсем удачно получилось. Выпили мы тогда с Гефестом по грамульке амброзии, ну оно и понеслось.Слово за слово, возьми я да поспорь с ним, что сумею тебя соблазнить. Да не только поспорил, а и самого Зевса в свидетели призвал. Может быть ты не в курсе, а может ты и этот урок промотала в школе. В общем строго у нас с этим на Олимпе. Наутро мы протрезвели, а Зевс нас уже на крылечке поджидает, свидетель хренов. Делать нечего, надо что-то придумывать. Вот я и решил тебя на дар предвидения подловить.
Кассандра: Так есть у меня дар или нет?
Аполлон: Как тебе сказать…И есть и нет
Афина: Да не тяни ты резину, зануда. Дело в том, что у него самого нет никакого дара и не было никогда. Так что дарить ему было нечего. А у тебя он всегда был, причем свой, собственный, природный.
Аполлон: Видишь ли, дар предвидения, он совсем не то что ты думаешь. На самом деле это умение анализировать. Да, да, именно анализировать, четко и глубоко понимать значение мельчайших крупиц информации, умение строить из них целостную картину, умение смотреть далеко вперед, не забывая поглядывать и по сторонам. А главное, это не бояться. Ведь само предвидение это не такая уж редкость, но большинство людей боится того, что им может открыться. А вот ты – храбрая, ты не испугалась.
Кассандра: Ах ты, засранец бессмертный! Это ты так мою девственность пытался поиметь, да еще за мой же собственный дар предвидения!
Аполлон: (
огорченно) Да какая там девственность!
Афина: Ты, подруга, не только в людях, но и в богах ничего не понимаешь.
Аполлон: Может не надо, а?
Афина: Нет уж, извини. Видишь ли Сандра, наш Аполлоша полный импотент. Да, да, уже более двухсот лет. И ничего удивительного в этом нет, это у него профессиональная болезнь. Когда залечиваешь по две гонорее в сезон, да лет этак пятьсот подряд. Ну сама понимаешь.
Аполлон: Это ты зря.
Кассандра: Так этот их спор…?
Афина: Да, соблазнять он тебя собирался чисто умозрительно. Извини. подруга.
Аполлон: Прости меня, Сандра!
Кассандра: Бог простит.
Аполлон: Какой именно бог? Надеюсь, не Гефест?
Афина: А вот тебе, пожалуй, шутить не стоит.
Аполлон: Афоня, ты, как всегда права.
Афина: (
угрожающе) А еще раз меня Афоней назовешь, так я всей Ойкумене сообщу, что ты…
Аполлон: Не буду, не буду. Нечаянно с языка сорвалось.
Афина: То-то же. (
Кассандре) Прощай, Сандра, ты, это… Ты береги себя. Похоже, что наступают трудные времена.
Кассандра: Я знаю.
Боги уходят. Нищий и
Служанка приближаются.
Нищий: Ни хрена себе. Даже и не соображу, как все это воспеть!
Кассандра: Так ты, что, все знал?
Нищий: Скорее – догадывался.
Кассандра: Ах, ты старый хрыч! Кстати, воспевать я тебе не советую: такая пакость не будет ни социально востребована, ни идеологически выдержана.
Служанка: Боюсь, что принцесса права.
Нищий: Я, все-же, попробую.
П
однимается на ступеньки, начинает читать с той-же экспрессией, с которой закончил читать предыдущий фрагмент. На последнем четверостишии он замедляется и "вколачивает" последние строчки.
Нищий:
Неимоверно трудно быть собой
Не уступить, бессилием зверея
Не принятым, не понятым толпой
Отмеченным печатью недоверья
Как сердце интуицией саднит
Тем, что тебе открылось одному
И понимаешь – боль не убедит
И знаешь – не поверят, не поймут
Но душу раздираешь не щадя
В надежде, что отыщутся ответы
Как погасить костры на площадях
Как отменить кровавые наветы
Как этот заговор глупцов нарушить
Чтоб убедить, заставить, доказать
Как мне уговорить глухих услышать
Как убедить слепых открыть глаза
В тупой надежде ты стучишься в двери
Надеясь – крик души не пропадет
Мечтая, что хоть кто-нибудь поверит!
Надеясь, что хоть кто-нибудь поймет!
Кассандра: Как правильно и как страшно ты сейчас воспел! (
Служанке) Вот ты была в Египте. Скажи, они там так же плохо относятся к предсказателям?
Служанка: Нет, совсем иначе. Они бросают предсказателей в кипящее масло.
Нищий: Вот это я понимаю. Вот это подход, так подход. Нет, все же нам тут расти еще и расти до настоящей цивилизации. Но зачем же хороший продукт переводить? Можно было бы предсказателя и в кипятке сварить. Бульон, опять же…
Кассандра: Перестань сейчас же! Но они так, наверное поступают только с теми, чьи пророчества не сбываются?
Служанка: Нет, принцесса, они так поступают лишь с тем, кто предсказывает беды. И если его пророчество не сбываeтся, то у предсказателя еще есть шанс отвертеться. А вот если сбываeтся…
Кассандра: Я поняла. Похоже, что наши троянцы более гуманны. Они всего лишь убивают недоверием. Так почему же мне кажется, что я стою по щиколотку в кипящем масле?!
Служанка: Ой, не надо, принцесса!
Кассандра: Но что же мне теперь делать?
Нищий: Продолжать!
Кассандра: Что?!
Служанка: Именно! Продолжать!
Кассандра: Продолжать? Но как?
Нищий: Да самым отвратительным образом, а именно: биться лбом об стенку, лезть в чужие разговоры, портить застолья, омрачать именины, вносить хаос в праздники, прослыть занудой. Все это и еще многое другое. Только ни в коем случае не следует сдаваться.
Кассандра: Но меня же все возненавидят!
Нищий: Будет много хуже – тебя будут игнорировать.
Кассандра: Боюсь, что я так не смогу.
Нищий: Думаю, что ты не сможешь иначе. И может быть придет день и один человек, а может даже и два человека тебя поймут и поверят тебе.
Служанка: Как поверили мы.
Кассандра: Спасибо вам, друзья.
Служанка пристально смотрит в зрительный зал (в море).
Служанка: Ой. Смотрите, что это?
Нищий: Где?
Служанка: Там – далеко в море. Какие огромные и черные корабли. И их так много. Ой. мне страшно.
Нищий: Они действительно черные. Это корабли ахейцев.
Кассандра: Это – война. Я знаю, она отвратительнее гидры и неотвратима как снег зимой, как воля богов, как…
Нищий: Молчи! Если надо будет, мы пойдем против воли богов! А ты, ты сделала все, что могла.
Кассандра: Я же совсем ничего не сделала, а ведь война уже идет. Пока еще не гибнут дети, еще не стонут женщины, лишившиеся своих близких, еще не горят дома. Но война уже здесь, я ясно это вижу, я слышу ее поступь, я чувствую эту ее мерзкую вонь.
Нищий: (
обнимает Кассандру и поворачивает лицом к себе) Не смотри туда, не надо! И не смей винить себя, ты слышишь, не смей! Ты уже совершила воистину великое дело – ты сделала самый первый шаг и, самое главное, ты не промолчала. Пройдут годы и кто-то сделает второй шаг, а потом еще кто-то и
третий. Так и пойдет – шаг за шагом, шаг за шагом. Осторожно, не торопясь, возможно даже с оглядкой, но всегда, всегда – вперед. (
отпускает Кассандру и выходит на авансцену) И может быть когда-нибудь, через сотни лет люди все же научатся слушать пророков… Или, просто научатся слушать.
Перпендикулярное время
Действующие лица:
Ася Лисянская
Соня Липшиц
Мишка
Михаил
Мать Аси
Первый Ученый (м/ж)
Второй Ученый (м/ж)
Кассандра, дочь Приама
Мессинг, Вольф Григорьевич
Колдунья
Гади
Охранник в больнице (м/ж)
Охранник на свадьбе (м/ж)
Дворник на Английском проспекте (м/ж)
Прохожий на Английском проспекте (м/ж)
Полицейский
Судмедэксперт (м/ж)
Начальник Аси (м/ж)
Таксист (м/ж)
Первый прохожий (м/ж)
Второй прохожий (м/ж)
Голос соседки по коммуналке
Примечания: Поскольку Ася и Соня – это практически один человек, то в их облике должно быть нечто похожее (в одежде, походке, прочем). Их может играть одна актриса (это даже предпочтительней), если будет успевать переодеваться. То же самое замечание относится к ролям Мишки И Михаила.
Действие происходит:
1. Больница в Израильском городе (Ася, Мишка, Ученые, Мать)
2. Приморский город в Израиле, возможно – Нетания (Михаил, Соня, Колдунья)
3. Английский проспект в Санкт-Петербурге (Михаил, Дворник, Прохожий)
4. Дорога в горах (Полицейский, Судмедэксперт)
Декорации: М
инимализм. Начиная со второй сцены на протяжении всего действия слева стоит больничная кровать с Михаилом. Остальные сцены обозначаются переносными атрибутами справа. Левая половина сцены так и остается больничной палатой, а правая превращается, то в районы приморского города, то в еще что-либо.
Сцена первая
Справа на сцену выбегает Ася. За ней последовательно выбегают Начальник, Таксист и Охранник.
Начальник: Подожди, Ася, погоди минутку. Может тебя подвезти?
Ася: (на бегу) Спасибо, я лучше на такси.
Начальник: Так что же все так случилось?
Ася: (на бегу) Сама не знаю. Сказали: потерял сознание и не приходит в себя.
Звук подъехавшей машины. Ася садится в такси (два стула, водитель держит в руках руль). Звуки заполненной машинами улицы, автомобильные сигналы.
Ася: Да что же это такое, господи! Лучше бы я на автобус села.
Таксист: (нервно) Не беспокойся, солнышко. Прорвемся. Нам бы только центр проехать… Да куда он лезет, козел?! Извини, солнышко. Ну вот, теперь с ветерком! … Блин! Совсем же немного оставалось.
Ася: Спасибо, я лучше побегу (дает крупную купюру, бежит)
Таксист: (на бегу) А сдача?
Ася нетерпеливо машет рукой.
Таксист: (вслед) Береги себя, солнышко?
Ася: (охраннику) Вторая терапия?
Охранник: Пятый этаж, до конца, потом по лестнице вниз, и до конца, потом два этажа вверх на втором лифте. Ну а там спросишь.
Ася: Охренеть, какая архитектура!
Пробегает через рамку детектора, детектор вопит. Охранник успокаивающе машет рукой. Бег по лестницам. Ася врывается в палату.
В палате Первый Ученый и Второй Ученый. 1-й Ученый умный, даже заумный. Он здесь лидер, теоретик. 2-й Ученый попроще, он практик. Освещается кровать справа.
На кровати Мишка
с капельницей. Он без сознания. Рядом приборы непонятного назначения.
Ася бросается к нему, берет за руку, растерянно оглядывается.
Ася: Мишка!… Рука теплая.
1-й Ученый: Все жизненные показатели в норме.
Ася: (агрессивно) Тогда зачем все эти приборы? Зачем игла в запястье? Тогда почему?…
2-й Ученый: Он просто не с нами.
Ася: Но вот же…
2-й Ученый: На самом деле мы просто ни хрена не знаем.
1-й Ученый пытается возразить, 2-й Ученый смотрит на него сурово.
2й: …И не понимаем.
Ася: Вы врачи?
1-й Ученый: Не совсем
2-й Ученый: Мы совсем не врачи. Но не обольщайтесь. Врачи тоже ничего не знают. И тоже ничего не понимают.
Ася: Тогда какого-же…
Мишка
начинает говорить не открывая глаз и не поднимаясь на кровати. Он лишь делает какое-то одно незначительное движение, которое повторяет каждый раз, когда произносит фразу.
Мишка: Маклина 30, 46. Соня Липшиц.
Ася реагирует, Ученые не реагируют, они привыкли. Ася вопросительно смотрит на 2-го (он вызывает у нее больше доверия).
2-й Ученый: Да. И вот так каждые несколько минут. Кстати, кто такая Соня Липшиц?
Ася недоуменно пожимает плечами. Выходит на авансцену и произносит монолог.
Ася: Хорошо хоть, что он не спросил про адрес. А ведь он тебе хорошо знаком, этот адрес, госпожа Лисянская. Прекрасно знаком. Ты ведь родилась-то в той самой ленинградской коммуналке на улице Маклина. Там еще было четыре ступеньки, ведущие вниз на кухню и ванная комната, в которой по преданию сразу после войны жил милиционер. Тебе ли не знать ту комнату, в которой ты выросла. И Мишка ее прекрасно знает, ведь после многоходового размена, наши родители оставили ее нам. Потом там же родилась наша дочка. А вот сын появился уже в Израиле. Но при чем тут эта подозрительная Соня? Да, у нас пару раз менялись соседи. Разменивались, выезжали, селились и опять выезжали. Но у нас же никогда не было никакой Сони Липшиц! Да и улицы Маклина больше нет. Теперь это Английский проспект. Но дом сохранился, вот только понятия не имею, что теперь там внутри, за чугунными воротами с домофоном.
Мишка: Маклина 30, 46. Соня Липшиц.
Сцена вторая
Слева появляется столбик с указателем (на иврите): "Улица Диврей Хаим". С разных сторон выходят Михаил и Колдунья.
Колдунья: Доброе утро, Михаэль
Михаил: И вам не хворать, госпожа…?
Колдунья: Малька. Так меня зовут.
Михаил: Простите, у меня очень плохая память на имена.
Колдунья: Пустяки.
Михаил: Неудобно как-то. Я ведь уже который год живу в вашем доме, а до сих пор…
Колдунья пристально на него смотрит.
Михаил: Простите, что?
Колдунья: Вообще-то я еще ничего не сказала. Хотя и подумала.
Михаил: (незаинтересованно) Что именно?
Колдунья: Я уже некоторое время к тебе присматриваюсь. Мне интересно…
Михаил заинтересовался и смотрит на нее вопрошающе.
Колдунья: Мне кажется, что тебе здесь не место.
Михаил: Где? В этом блоке? Это что, потому что я тут единственный ашкеназ среди сефардов?
Колдунья: Ерунда. Тебе среди марокканцев даже лучше.
Михаил: Лучше? Почему же?
Колдунья: Потому что ты иной и хочешь быть иным. Никого и ничего не принимать близко к сердцу. Не подпускать слишком близко и не допускать внутрь. Среди папуасов тебе было бы еще лучше, а среди марсиан, так и совсем было бы комфортно
Михаил: (с усмешкой) Да, видно правду говорят про вас люди.
Колдунья: Интересно. И что именно про меня говорят?
Михаил: (осторожно) Говорят, что вы колдунья и к вам ходят тогда, когда полиция, врачи или психологи бессильны.
Колдунья: Забавно…
Михаил: А еще говорят, что в в вашей прихожей посетителей встречает огромный попугай криком: "Эй, мудак!".
Колдунья смеется.
Михаил: Ну а внутри творятся просто сущие чудеса! А на самом деле?
Колдунья: Заходи и сам увидишь. Однако, попугай у меня действительно есть. Ну и кое-что я-таки умею.
Михаил: Охотно верю. Вот вы сказали, мне не место здесь. Где "здесь"?
Колдунья неопределенно обводит рукой вокруг себя.
Колдунья: Я и сама не совсем понимаю. Иногда вот скажешь что нибудь и сама не понимаешь, что сказала. И только позже, много позже… Давай не будем об этом.
Михаил: Ловко это вы! Сначала заинтриговали, а потом в кусты.
Колдунья: (с смехом) Издержки профессии. Ты снова на море собрался?
Михаил: Конечно. Куда же еще?
Колдунья: Любишь море?
Михаил: А почему вы не спрашиваете, люблю ли я воздух?
Колдунья: Понятно. А ты знаешь, что море может быть опасным?
Михаил: Знаю, очень хорошо знаю. Оно зовет в себя прозрачной волной и узорами песка на дне, а потом пытается заглотить, забрать в себя коварными течениями, которые могут незаметно, но мощно уволочь к горизонту. Море не допускает шуток, но само любит подшутить и, порой, шутит жестоко.
Колдунья: Я вижу – ты знаешь. Вот также точно и время. Оно тоже может быть жестоко и тоже не любит шуток.
Михаил: Время? При чем тут время?
Колдунья: Может быть и не причем. Не знаю. Хорошего тебе моря.
Михаил: Спасибо. (Колдунья уходит) Время? Почему время?
Слева появляется столбик с надписью на трех языках: "На пляже нет спасателей. Купание опасно". Соня сидит и смотрит в зал. Появляется Михаил. Обращается к залу
Михаил: Удивительной бывает магия женских лиц для мужчины. Эти лица бывают красивые и не очень. По красивому лицу ты проводишь внимательным, но ненавязчивым взглядом, получая эстетическое наслаждение, сродни созерцанию яркой, эффектной картины в музее или породистой собаки на выставке. Потом оно немедленно забывается, не задерживаясь в избирательной памяти. Лицо же некрасивое мелькнет и исчезнет, не привлекая внимания и не требуя усилий. Но бывают и иные женские лица, редко, но бывают. Такое лицо сбивает с толку, заставляя споткнуться в растерянности. Такой женщине потом долго смотрят вслед и вспоминают еще день или два или три, а сердце при этом щемит, как будто что-то неизмеримо важное прошло и исчезло навсегда. Не подумайте, что это любовь! О, нет! Это всего лишь мечта о любви. Но как же трудно иногда бывает не пройти мимо.
Поворачивается к Соне
Михаил: Нету.
Соня: Кого нету?
Михаил: Никого. Ни ручного дельфина на гребне волны, ни перископа подводной лодки.
Соня: Совсем, совсем ничего?
Михаил: Только море.
Соня: Именно это мне и надо. Я ведь попала в этот город случайно и пришла сюда в поисках моря из центра города. Но там оно официальное, забранное волнорезами и набережными. Ненастоящее оно там. А вот здесь…
Михаил: Но это же не так! На самом деле морю безразличны и красиво украшенные набережные и широкие лестницы, ведущие к нему. Оно, море, всегда одно и то же, будь это центр города или глухая окраина. Зато море не любит порты и волнорезы, отравляя их окрестности мусором и тиной.
Михаил останавливается, смотрит на Соню, сомневается, стоит ли продолжать.
Соня: Рассказывайте. Ну же!
Михаил: Хочешь я расскажу, как зимние шторма перемешивают морское дно, бросая на берег бурые от песка волны? Хочешь узнать, о том как волны и приливы двигают берег, то размывая, то намывая его. Я могу рассказать об огромных пугливых акулах, о дельфинах, выбрасывающихся на берег, о рыбе молот, которая ищет зимой тепла у водосбросов электростанции. Про море я могу рассказывать бесконечно. Хочешь?
Соня: Хочу! Меня зовут Соня. Соня Липшиц.
Сцена третья
Освещается кровать справа. Ася, Мишка, Ученые.
Ася: Я вспомнила. Вспомнила! (подбегает к кровати) Ты помнишь? Я тогда только пришла из института, надела халатик и никак не могла найти домашние тапочки. Я еще всегда их засовывала глубоко под кровать. Ты же помнишь, да? И тут соседка…
Свет переносится на середину сцены. Мишка встает.
Соседка: (из-за сцены) Аська, выйди на минутку, а то у меня бульон закипает. Тут какую-то Соню спрашивают!
Ася напротив Мишки. Она босиком.
Ася: Знаешь, как холодно стоять босыми ногами на холодном полу? Но я боялась пошевелиться, ведь за дверью я увидела тебя. Такого молодого, растерянного и еще незнакомого.
Михаил: Ты стояла босиком на полу и осторожно перебирала ногами. Ты была прекрасна.
Ася: Было очень холодно, но я боялась пошевелиться.
Соседка: Да закрой же ты дверь, всю квартиру простудишь!
Ася: (надевает тапочки) Теперь я вспомнила. Так ты оказывается искал Соню. Кто это? Твоя прежняя любовь? Кто она, это женщина?
Мишка: О чем ты? Ты – моя первая и последняя женщина
Ася: (смеется) Помню, помню! Ты мне так врал еще тогда. И потом. И всегда. И мне это так нравилось. Ты вообще врун. Помнишь, ты еще говорил, что пишешь диссертацию, что ты ученый? Помнишь? А на самом деле?
Мишка: А на самом деле я изучал одну, нет – не одну, а единственную женщину.
Ася: Ты бы мог написать трактат о том, как меня надо любить.
Мишка: Я его написал, только не на бумаге. Но он не полон, этот трактат, ведь даже сейчас…
Ася: Так почему же ты лежишь, ни на что не реагируешь и вспоминаешь какую-то Соню?
Мишка ложится. Свет переходит на кровать.
Ася: (требовательно) Итак? Что вы мне хотели рассказать?
1-й Ученый: Мы вовсе не собирались…
2-й Ученый: Вот что, госпожа Лисянски, то что мы вам сейчас расскажем, вам придется сохранить в тайне.
Ася: (угрожающе) Придется?
2-й Ученый: Именно придется… Если не хотите, конечно, чтобы вас упрятали в психушку.
Ася: Угрожаете?
2-й Ученый: Вы нас неправильно поняли. В нашей демократической стране в психушку вас упрячут согласно самой демократической процедуре. Вам просто не поверят.
1-й Ученый: Как не уверены сейчас мы, что вы поверите нам.
2-й Ученый кивает, подтверждая. Ася ошарашенно молчит, потом говорит неуверенно.
Ася: Говорите. (более уверенно) Я поверю.
1-й Ученый: Видите ли, Ася, данный континуум несомненно многомерен. Общепринятая теория множественности миров…
2-й Ученый: Ну вот. Повело кота на блядки. Сейчас он начнет размахивать руками и рисовать в воздухе графики. И чем дальше, тем глубже. Никакое ваше инженерное образование вам не поможет. Когда он дойдет до "горизонта событий" и "торсионных полей", вы окончательно перестанете его понимать и озвереете.
Ася: Я уже зверею.
1-й Ученый: (уныло) Сам и объясняй.
2-й Ученый: Пожалуй, я попробую. Видите ли, Асенька, так хорошо знакомый нам мир, с Солнцем, Луной, Тель-Авивом и "Кока-Колой", он ведь далеко не единственный. Существуют и иные миры…
1-й Ученый: Не слишком данные нам в ощущениях…
2-й Ученый: …Но вытекающие из хитрых математических выкладок ..
1-й Ученый: …Информационных абстракций.
2-й Ученый: …Моего коллеги. Ну а мы осторожно попытались их обнаружить.
2-й Ученый смотрит на Асю, ожидая вопроса. Ася не реагирует.
1-й Ученый: И ничего не обнаружили. Железяки хреновы.
1-й Ученый пинает ногой аппаратуру.
Ася: (холодно) Безумно интересно. Вот только…
2-й Ученый: Зато, совершенно случайно, мы обнаружили другое.
2-й Ученый делает эффектную паузу, но Ася не реагирует.
1-й Ученый: Пророки!
2-й Ученый: Вот именно. Вы слышали про Мишеля Нострадамуса, Кассандру, дочь Приама или Вольфа Мессинга?
Ася: При чем здесь мой муж?
2-й Ученый: Еще немного терпения. Оказывается, что чуть ли не все известные пророки и предсказатели проявляли свой дар предвидения далеко не всегда, а только в определенные моменты и эти моменты подозрительно точно совпадают с математическими выкладками моего коллеги.
1-й Ученый: В пределах статистической погрешности.
2-й Ученый: Не только известные провидцы, но и обычные люди умудрялись знать то, что знать они никак не могли и эти события укладываются в ту же теорию.
Ася: И мой Мишка?
2-й Ученый: Происходит это всегда по разному: медиум может впасть в транс, в кому или просто заснуть и видеть сны.
Ася: А может оказаться "не с нами"?
2-й Ученый: Вот именно. Одно только было известно более или менее точно – время "события".
Ася: И вы считаете?
1-й Ученый: Мы полагаем, что именно такое (смотрит с укоризной на 2-го) … "событие" и произошло с вашим мужем.
Ася: Так вот почему он в отдельной палате.
Ученые кивают.
1-й Ученый: Что вы думаете, Ася, обо всем этом?
Ася: О вашей заумной теории? Да мне это, как карасю интернет. Что будет с Мишкой, вот что я хочу знать.
2-й Ученый: (осторожно) Ну, мы еще ни одного медиума не потеряли.
1-й Ученый: Почти ни одного.
2-й Ученый: Попай!
1-й Ученый: Упс!
Ася: (грозно) Ясно.
2-й Ученый: Почему вы не спросите, что происходит с нашими медиумами?
1-й Ученый: …И что происходило с предсказателями.
Ася: (ей не слишком интересно) Да, и что же с ними происходит?
2-й Ученый: Они получают информацию извне.
Ася: Извне? Откуда?
1-й Ученый: Из иных элементов континуума.
Ася: (поворачивается ко 2-му) Откуда?
2-й Ученый: Из иных миров.
Ася: И эта Соня Липшиц?
2-й Ученый: (неохотно) Возможно.
1-й Ученый: И этот адрес. Ведь ни в одном городе нашего мира похоже нет такой улицы.
Ася: (в сторону) Уже нет.
2-й Ученый: Что?
Ася: Нет, ничего.
1-й Ученый: Хотя не все еще есть в интернете.
Ася: Ладно. Вы оба пока свободны. А я здесь посижу.
Сцена четвертая
Михаил и Соня идут по городу. На столбиках надписи: "Центр города", "Рынок", "Ривьера". Соня улыбается. Михаил рассказывает ей что-то, но слов не слышно.
Соня: Какой славный город. Надо бы ему понравится. Я ему нравлюсь?
Михаил: Не торопись, он еще к тебе не присмотрелся.
Соня: Хорошо, подождем… Ой, смотри – фонтан.
Слышен детский смех и струи воды.
Михаил: Это не просто фонтан. Видишь, дети пытаются увернутся от воды, а он то затихает, то снова брызгается. Там, где я родился, такие фонтаны называют шутихами.
Соня: Где ты родился?
Михаил: В Ленинграде. Был такой город.
Соня: Знаю. Я ведь приехала сюда из Санкт-Петербурга. Да, я туристка.
Михаил: Санкт-Петербург? Я еще ни разу не был в этом городе.
Соня: Как интересно: надписи по французски. "Куафюр", "Парфюмерия", "Пляж"… А мы и не замечаем, как много русский язык впитал из французского. Какой интересный город и какие интересные люди. И всюду рестораны, рестораны. Как их много. Наверное, если раз в неделю ходить в другой ресторан, по понадобится небольшая жизнь, чтобы обойти их все.
Михаил: Ты проголодалась?
Соня: Немного.
Михаил: Посмотри. Вон там, у моря, над обрывом, кормят рыбой и морепродуктами. Туда ходят пожилые семейные пары, не забывшие еще, вопреки равинату, вкус креветок.
Соня смеется
Михаил: Там и там (показывает) ты найдешь макаронно-соусные итальянские заведения. Могу поклясться, что в каждом из них сидит по крайней мере одна юная парочка. Она уныло уплетает лингвини, а он судорожно нащупывает презерватив в заднем кармане джинсов. А вот и магрибский ресторан. В него ходят семьями, с тещей и незамужней племянницей, занимая сразу целый столик. Еще там можно найти квартирных маклеров совмещающих бизнес с обжорством. Здесь кормят самой средиземноморской пищей, легко узнаваемой от Марракеша до Измира. А какие здесь порции! Наверное они рассчитаны на семейку Гаргантюа.
Соня: А что здесь, в переулке?
Михаил: О, сюда лучше не ходить. Смотри, какие подозрительные личности сидят за столиками. Это очень странное место, оно порождает мысль о цикуте и синильной кислоте. Эти заведения только числятся ресторанами. На самом деле здесь творятся совсем иные дела. Но не будем об этом.
Соня: А этот ресторан, что он предлагает?
Михаил: Здесь находится храм обжорства, ведь это йеменский ресторан. Смотри, здесь все мужчины, все средних лет и все пузатые. Уже на входе, даже не заглядывая в меню, они спрашивают суп из бычьих хвостов.
Соня: Суп из хвоста? Здорово. Но, все же нам не сюда.
Михаил: Может быть тебе понравится в этой кондитерской? Смотри, какие аккуратные старушки и все парами. Как они изящно откусывают от шоколадного пирожного.
Соня: Очень, очень мило. А нельзя ли отведать чего-нибудь не столь официального? Чего-нибудь простого, как пирожок с мясом?
Михаил: Теперь я знаю, чем тебя накормить. Как я заметил, во многих странах есть самое популярное блюдо, которое можно найти везде от столицы до самых до окраин. И в каждой стране оно другое. На Тайване это лапша с говядиной, в Луизиане – гумбо, в Эквадоре – савиче, а в России, пожалуй, беляши. Каждый уважающий себя гражданин такой страны знает единственное место где это блюдо делают лучше всего и для каждого из них это совсем другое место.
Соня: А у вас – гифилтефиш?
Михаил: Нет, у нас это фалафель. Поймай самого отъявленного гурмана из Северного Тель-Авива в его минуту слабости и он признается тебе в любви к фалафелю да еще и укажет заветное местечко.
Соня: (как бы пробует на слух) Фалафель.
Михаил: Мы идем на рынок, в заведение Гади. Такие места у нас не называют ни рестораном, ни закусочной,а просто говорят: "дыра в стене". Это и есть мой фалафель.
Соня: Ура, на рынок!
Надпись на столбике сменяется на "Фалафель Гади" или "Гади, Мелех ха Фалафель". Звучит невнятная русская и еврейская речь. Гади накладывает фалафель в питу. Он говорит как бы на иврите, Соня не понимает, а Михаил переводит.
Михаил: Шалом, Гади.
Гади: Ахалан. Два фалафеля? Соленья?
Михаил: Как всегда.
Соня: Ну, смелее, Соня.
Она ест фалафель и, постепенно, увлекается. На лице Гади удивление. На лице Михаила удовлетворение.
Гади: (обращается к Соне) А ты, похоже, понимаешь толк в фалафеле! Знаешь, ведь это не каждому дано. Даже у нас, сефардов, каждый второй только пыжится, а толком в фалафеле не смыслит. Что же сказать про вас, ашкеназов? Может, один из десяти понимает разницы между храйме и гефилте фиш. Это я шучу, не парься! Но ты, я посмотрю, как будто в Марракеше родилась! Хотя сам я ашкеназов не люблю, а некоторых так и на дух не переношу. Кроме друзей, разумеется. (к Михаилу) Третья! Клянусь мамой! Она третья!
Соня: Вкусно-то как! А что он говорит?
Михаил: Он говорит, что ты третья из русских, кто понимает в фалафеле.
Соня: Ты, наверное, первый.
Михаил: Я второй. Но, вообще-то, он сильно преувеличивает.
Соня: Я вижу. Тут же кругом полно русских.
Михаил: И все же странно. Иностранцам вкус фалафеля поначалу кажется чуждым. Я и сам не сразу смог привыкнуть. А ты…
Соня: Так город меня уже принял?
Михаил: Похоже на то. Ты как будто здесь родилась. Разве ты не видишь?
Соня: Вижу.
Михаил: Пойдем, я покажу тебе город.
Надпись на столбике снова меняется. Теперь это "Улица Герцль".
Михаил: Посмотри на этих людей. Они живут тут так открыто, они живут прямо на этих улицах. Они здесь едят, пьют, ругаются, любят, делают гешефты и делают детей.
Соня: (смеется) Прямо на улице?
Михаил: Почти.
Соня: Что это за языки? Почему они все говорят на разных языках?
Михаил: Английский, французский, амхарский, русский, идиш, ладино. Иногда иврит.
Соня: А это кто?
Михаил: Это эфиопские старухи в традиционных одеждах. Они так одевались еще во времена Царицы Савской.
Соня: А эти, на стульчиках?
Михаил: Разве ты не узнаешь? Это же наши русские старички. Прислушайся, наверное они говорят: "О, Байден, это голова!"
Соня: Да, несомненно. И все это мне?
Михаил: Да! Я дарю тебе этот город, этих людей, это море и эти краски. Теперь это все твое.
Соня: Я принимаю. Спасибо. Смотри, уже стемнело. И мы опять вышли к морю (смотрит на Михаила) Теперь мы пойдем к тебе.
Соня отходит. Михаил остается один и говорит зрителям.
Михаил: Раньше я думал, что время непрерывно. Наверное, так и было. Но так было раньше. А теперь время превратилось в череду эпизодов, стало дискретным. Я помню, как у меня тряслись руки, ведь со мной такого не было со времен юности. Помню как долго боялся дотронуться до нее, как последний неопытный старшеклассник. Потом она плакала, отвернувшись и я догадывался, почему она плачет, вот только не смог бы выразить это словами. Я обнял ее и ее тихие рыдания стали моим плачем и моей болью. Я искал на ее теле места, которые еще не целовал и добрался до пальцев ее ноги. Я осторожно потянул за этот маленький мизинчик и ее тело выгнулось, откликаясь на эту ласку. Оказывается, у нее такая маленькая ладошка, по которой приятно водить губами, слизывая песчинки. Что происходит со мной? Так хорошо начавшаяся милая интрижка, этакий ни к чему не обязывающий роман превратился в свою противоположность, в то, что я не решаюсь поименовать. Как трудно произносится это слово! Не обманывай себя, ты знал это с самого начала, еще там на тропинке под обрывом.
Сцена пятая
Мишка на кровати, Ася, Мать Аси.
Ася: Напрасно ты, мама, приехала. Не стоило тебе лететь в такую даль.
Мать: Может я вовсе и не ради Миньки твоего прилетела. Может я по внукам соскучилась?
Ася: Что касается твоего внука, то он даже не приехал из Беер-Шевы. Правда он очень рвался приехать, но я его отговорила. А ты ведь знаешь, какая у него интуиция. Было бы все серьезно, так примчался бы никого не слушая. Внучка твоя тоже была и ушла, ты ее не застала. (со смехом) А помнишь, как я первый раз привела Мишку к нам в дом? Ты еще тогда…
Мать: (смушенно) Было дело.
Ася: Как ты тогда… (изображает мать, свистящим шепотом) Ты с ним спишь?
Мать А ты… (изображает Асю, удивленно) Конечно!
Обе тихо смеются
Ася: Я ведь уже тогда хотела от него ребенка.
Некоторое время молчат.
Мать: Я тут недавно Жору навестила, могилку поправила.
Ася: Как я была к нему несправедлива. А ведь такой хороший человек был. Только напрасно его мучила столько лет.
Мать: Ты же еще ребенком была, какой с тебя спрос. А ведь он очень старался быть тебе отцом. Ну, а когда твой брат родился, то все и разрешилось само собой.
Ася: А мне вот кажется, он еще долго чувствовал вину передо мной, хотя ни в чем и не был виноват. Это скорее я…
Мать: Помнишь как вы с Минькой пришли к нам в гости. Жора еще тогда подвыпил, выгнал всех из комнаты и пытался с тобой объясниться. Что ты ему тогда сказала такого, что он вышел весь такой умиротворенный?
Ася: Он тогда долго каялся, что так и не стал мне настоящим отцом, а братика любил больше меня.
Мать: А ты?
Ася: А я посмотрела ему в глаза и говорю… (пауза) "Ну и правильно!"
Мать: И все?
Ася: И все!
Мать: Как просто.
Ася: (очень осторожно) А мой отец? Он…
Мать: (прерывает) Асенька, мы же договорились.
Ася: (полу-вопрошающе, полу-утверждающе) Ты его не любила?
Мать: (меняет тему) А помнишь, как вы уезжали?
Ася: (подыгрывает) Ты еще тогда била себя в грудь и утверждала, что нечего мне, русской, делать в еврейской стране.
Мать: А ты объявила себя "еврейкой по мужу". а меня обозвала "антисемиткой".
Обе тихо смеются.
Ася: И все же, насчет отца… Как-то неправильно, что я про него совсем ничего не знаю…
Мишка: Маклина 30, 46. Соня Липшиц…
Мать, которая сидела, внезапно вскакивает и с изумлением и ужасом смотрит на Мишку. Ася, заметив это, тоже поднимается, подходит к матери и пристально смотрит ей в глаза. Мать отводит взгляд.
Ася: (требовательно) Кто!? Такая!? Соня!? Липшиц!?
Мать садится, почти падает, на стул. Ошеломленно молчит. Ася, осторожно кладет ей руку на плечо, она уже не рада что спросила.
Мать: (дрожащим голосом) Это… Это – ты!
Теперь Ася демонстрирует высшую степень удивления. Затемнение. Музыка. Снова зажигается свет. По-прежнему Ася, Мать и Мишка на кровати.
Ася: Так что, получается, что я – Соня Липшиц? А ведь ты никогда даже не называла фамилию отца. И спросить было не у кого – все его родственники погибли в Блокаду.
Мать: Он был намного старше меня, пожилой. Поэтому на меня он даже не смотрел. А если смотрел, то мое сердце пропускало удар. Их было так много, этих пропущенных ударов сердца, что если все посчитать, то получится небольшая жизнь. Но однажды он посмотрел на меня совсем по-другому и больше не отводил глаз. И тогда меня не стало. Я растворилась в нем, в его улыбке, в его мягких руках. Я стала частью его. Ты не представляешь, как это бывает…
Ася: Потолок окрашивается в разные цвета, как цветомузыка, и люстра танцует на потолке. Негромкая музыка звучит неоткуда.
Мать: Она звучит в тебе.
Ася: И каждая частичка твоего тела отзывается на его ласку.
Мать: Откуда только он знал, что…
Ася: Мама!
Мать тихо смеется, вспоминает.
Ася: А как же Жора?
Мать: Жора был просто очень хороший человек. А мне еще хотелось рожать. А любила я лишь твоего отца. Вот так-то!
Ася: Почему отец умер?
Мать: (сквозь плачь) Война достала. Он умер в одночасье, за два дня до твоего рождения. Мы не были расписаны, а с еврейской фамилией у тебя могли быть проблемы и поэтому я записала тебя Коноваловой, а не Липшиц.
Ася: Ну, спасибо. Девчонки еще предлагали мне записаться в ветеринарную академию без конкурса. Хорошо хоть, что я теперь Лисянская.
Мать: (не слушая) Это он придумал тебе имя… Соня.... Но я чего-то испугалась и поэтому ты стала Асей.
Ася: Получается, что мы обе еврейки по мужу. Как странно! Но почему ты рассказала Мишке про Соню?
Мать: Нет, я ему ничего не говорила. Клянусь тебе!
Ася: Тогда откуда?
Мать: Не знаю… Правда – не знаю… Я, пожалуй, пойду. До свидания… (гладит ее по голове, тихо) Сонечка.
Мать уходит.
Ася: Что в имени тебе моем? И что такое имя? В чем его магия? Соня, Сонечка… Странно! Это имя можно примерить, как одежду. И оно ложится на меня легко и удобно, как падает на тело только сейчас купленное легкое и красивое платье, размер которого повезло угадать. А что же Ася? Разве это Соня босиком встречала молодого Мишку? Любила? Рожала детей? Не спала ночами? Так кто же я теперь: Ася или Соня? Пожалуй, придется жить двойной жизнью… (вскрикивает) Мишка! Кого любит он: Асю или Соню? Но ведь это все равно я? А откуда вообще взялась Соня в его бреду? Прекрати! Не следует думать о том, о чем думать страшно, а главное – бессмысленно.
Сцена шестая
Михаил и Соня сидят в глубине сцены.
Соня: (тихо) Что ты хочешь знать?
Михаил: Все
Соня: Хочешь, я расскажу тебе о девушке, ищущей любви, а находившей секс, предательство и равнодушие? Или ты хочешь услышать о мужчине который был настойчив, надежен, порядочен и великодушен, и девушка решила, что эти его качества могут заменить то, что она не могла ему дать. Будет там и истории об одиночестве вдвоем, о ссорах, об изменах из мести, которые должны были задеть, но не задевали и тогда приходилось изображать ревность. Можно рассказать и о детях, которых я родила для этого другого мужчины. Уже и внуки намечаются и за Полярным Кругом и в не менее далеком Ванкувере. Или не надо об этом?
Михаил: Не надо. Пожалуйста, не надо.
Соня: Где ты жил в Питере… в Ленинграде?
Михаил: Мы жили в Прачечном переулке. Это…
Соня: Я знаю. А я выросла в доме 30 по улице Маклина, в западной части города. В старые времена она называлась Коломна. Это как бы внутренняя провинция, хотя и всего в минутах ходьбы от центра. Зато там нет суеты Невского и прочих центральных проспектов. Тогда меня звали Соня Липшиц. Только теперь у меня другая фамилия.
Михаил: Мне нравится твое имя. Соня.
Соня: Это все папа. Он умер давно, сразу после моего рождения, но успел дать мне имя. (всхлипывает) Ему было уже много лет, мальчишкой он успел поголодать в Блокаду, заработал нарушение обмена веществ и всю жизнь принимал какие-то лекарства. А однажды лекарства перестали помогать. Через несколько лет мать снова вышла замуж. С отчимом у нас отношения не сложились, хотя он был несомненно хорошим человеком. Он так отчаянно стремился найти со мной общий язык, а я не хотела. Но после рождения брата все сразу стало проще: отчим начал отдавать свою неуемную энергию сыну, а к мне стал относиться спокойней.
Михаил: Ты плачешь?
Соня: Уже нет. Рассказать еще?
Михаил: Да, говори. Пожалуйста.
Соня: Квартира на Маклина была коммуналкой, а вход был со двора и надо было сначала пройти через всегда открытую дверь во всегда запертых чугунных, кованных воротах. Наша квартира была на третьем этаже, номер сорок шесть. Такая обитая черным дерматином дверь…
Михаил: … …С покосившемся номером на ней.
Соня: Да! Откуда ты знаешь?
Михаил: Мне кажется, я ее уже видел. Может, ложное воспоминание?
Соня: … Или память о другой жизни. А еще там было четыре ступеньки ведущие вниз, на кухню и ванная комната, в которой по преданию сразу после войны жил милиционер. Я ведь уже давно живу на другой сторонеа Невы, очень далеко. Много, много лет я не решаюсь зайти в чугунные ворота дома номер 30. Мне кажется, что это повредит воспоминаниям тех прошедших времен, когда еще ничего не произошло… Когда все еще казалось возможным.
Михаил: Рассказывай, не останавливайся. Мне кажется, что если ты остановишься…
Соня: То что? Ладно, я не буду останавливаться… Моя кровать была у окна, а окно выходило на улицу. По улице ходил трамвай, ходил допоздна и иногда перестук трамвайных колес под окном будил меня среди ночи, а иногда наоборот – убаюкивал. Этот трамвай, этот его неторопливый перестук остался в моем детстве, как мороженое "сахарная трубочка" или школьная форма. Такие трамваи еще называли "бесшумными" и я думала, что это шутка. Но как-то дед рассказал мне про старые, безумно дребезжащие вагоны, которые он почему-то называл "американкой".
Михаил: Я вспомнил! Еще ребенком я ехал как-то в таком трамвае с сиденьями из деревянных планок. Мы жили на Прачечном и за углом тоже ходил трамвай, который действительно громко дребезжал, непрерывно звонил и его болтало из стороны в сторону на поворотах. Потом трамвайные рельсы сняли, улицу заасфальтировали и убрали остатки булыжника. А я еще долго жалел о звенящих и дребезжащих чудовищах. Или жалел о своем детстве?
Выходят на авансцену, на которой появляется столбик с надписью "гостиница". Идут вдоль. Навстречу выходит Охранник.
Охранник: (преувеличенно мягко) Извините, у нас здесь мероприятие. Вы приглашены?
Михаил: Вряд ли. А что за мероприятие?
Охранник: У нас свадьба. (шум гостей, удар) Слышите? Как раз разбили бокал.
Соня: Спасибо. Мы пойдем.
Охранник: Извините еще раз. Всего доброго.
Идут дальше.
Михаил: Смотри, вон там сидит парочка. Они разбили бокал совсем недавно… А эти – много лет назад… И эти.
Соня: Им всем удалось вовремя разбить свой бокал. А нам…
Михаил: А мы опоздали. На всю жизнь опоздали. и поздно что-либо менять.
Соня уходит. Появляется надпись на столбике "Улица Диврей Хаим". Выходит Колдунья.
Колдунья: Михаэль, погоди.
Михаил: Да… Малька.
Колдунья: (неуверенно) Я ее видела. И тебя я видела и видела как ты смотрел на нее. Что же ты делаешь? Она же жизнь твоя, понимаешь? А с жизнью не шутят.
Михаил: А со временем? С ним тоже шутки плохи. Зато как зло время подшутило над нами. И ничего не сделать! Ничего!
Колдунья: Да, наверное. Ты оказался в неправильном времени и в неправильном месте. Так бывает. И ничего не поделаешь. Но нет, пожалуй я не уверена. Да, конечно, время – это могучая сила, почти непреодолимая. Но и оно не всесильно. Думаю, человек может оказаться сильнее времени.
Михаил: (кричит) Как? Как?
Колдунья: Не знаю. Правда – не знаю. Просто мне так почему-то кажется.
Михаил: (тихо) Она уезжает.
Колдунья: Я буду плакать. Это все, что я могу сделать для тебя.
Михаил: Спасибо. Я и сам умею плакать. Я научился.
Колдунья уходит.
Михаил: Город, ты слышишь меня? Ты же ее признал! Ты теперь всегда зажигаешь зеленый свет, когда она переходит дорогу. Ты брызгаешь в нее водой из фонтана в жаркий полдень. Ты убираешь камушки из-под ее босоножек. Она тебе понравилась, верно? Так почему же ты ее отпускаешь?… А ты, море? Да, она не умеет плавать. Но она же любит плеск твоих волн, твой прибой. Она так любит ходить босиком по твоему мокрому песку. Она слушает твой голос. Так не отпускай ее!… Вы, люди! Вы же улыбаетесь ей вслед. Вы уже начали здороваться с ней по утрам. Так удержите ее! Город!… Море!… Люди!… Что же это?
Появляется Соня. Слышен звук открывающихся дверей автобуса.
Соня: Это прощание. Потому что это не наш мир. И это не наше время. Поэтому мне придется уйти. Прощай. Прощай. И помни: улица Маклина, 30, 46.
Звук отъезжающего автобуса. Михаил стоит молча. Музыка.
Песня: О, как непредсказуемы пути
Какие б только планы ты не строил
Но встрече не даёт произойти
Несовместимость наших траекторий
Пусть явится незримо для двоих
И сможет, наконец, произойти
Момент пересечения прямых
Не пропусти его мой друг, не пропусти.
Вот ты пришел, куда хотел прийти,
Нашел то место, о котором знал
Пришел туда, где сходятся пути
Но опоздал, безбожно опоздал
Сцена седьмая
Мишка на кровати, Ася. Входят Ученые.
2-й Ученый: Ася, кофе будете? Только он черный, без молока.
Ася: Пусть будет черный. Спасибо.
1-й Ученый: Почему вы не спросите, как можно получить информацию из другого мира? Как можно знать будущее?
Ася: (послушно) Да, как?
1-й Ученый: Там, в… (смотрит на 2-го) других мирах, время течет по иному.
Ася: По иному? Медленнее?
2-й Ученый: Или быстрее… или в обратную сторону… или еще как нибудь.
1-й Ученый: (увлеченно) Или перпендикулярно нашему времени.
Ася: (заинтересовалась) Перпендикулярное время? Как это?
2-й Ученый: Это когда все события там (показывает рукой) происходят одновременно.
1-й Ученый: …С нашей точки зрения. Можно считать, что там (машет рукой) все уже произошло.
Ася: Все?
1-й Ученый: Да, вся история свершилась в одном мгновении. Но это, Асенька, лишь примитивная модель, для чайников.
2-й Ученый: Вот только непонятно, как информация оттуда попадает сюда. Если верить расчетам моего коллеги, то для этого нужны такие энергии, которых просто не существует в нашем мире.
1-й Ученый: Или особый вид энергии.
2-й Ученый: Ведь и Кассандра и Мессинг как-то смогли…
1-й Ученый: К сожалению, мы не знаем как они смогли. Да мы просто ни хрена не знаем.
Ася: А я, кажется, знаю.
Гаснет свет. Ася выходит на авансцену. Ученые внимательно слушают и смотрят.
Ася: Кассандра, дочь Приама. Кассандра Приамида. Рыжая, пятнадцатилетняя девчонка.
Появляется Кассандра.
Кассандра: Изыском утонченного садизма -
– Жестокое отмщение богов
Увидеть смерти огненную тризну
На крутизне троянских берегов
Неистово мучительно и страшно
Предвидеть, но не в силах упредить
Ни крик, ни боль, в предвиденье ужасном
Не смогут корабли остановить
Как опухолью страшной наболело
Что быть тебе пророком не дано
И в кровь ногтями раздираешь тело
Чтоб смыть непонимания клеймо
Ася: Как ужасно проклятие богов!
Кассандра: Богов? Еще ужаснее – проклятие людей. Людей, которые не слушают пророков, не слушают рыжую девчонку… Вообще не слушают.
Ася: Что ты видишь?
Кассандра: Я вижу! Город превращается в дым и гарь: горит все что может гореть и даже то что гореть не может. Кажется, что горят черепицы, упавшие с крыш, горят даже камни некогда казавшихся непобедимыми стен. Немногие ахейцы пробираются по заваленным мусором и трупами улицам, опасаясь огня и тщетно пытаясь найти еще незраграбленный дом. Со стен сбрасывают тела последних защитников города и ненужных уже женщин, которыми успели вдоволь попользоваться бойцы Агамемнона и Одиссея. А детей, детей угоняют в рабство длинной, извивающейся колонной. Детей много, но не все дойдут до кораблей и не многим удастся выжить в тяжелом морском пути до далеких Киклад, Пелопоннеса и Итаки. Но малолетние рабы так дешевы сегодня, а цены на еду для рабов и лошадей в разоренной войной Троаде взлетели вверх, и поэтому маленькие неподвижные тела уже украшают придорожные арыки вдоль Портовой дороги. Видеть это нестерпимо и я мечтаю выколоть себе глаза. Но это невозможно, потому что кто-то связал мне руки ремешком от сандалия. Остается только думать, думать.
Ася: О чем ты думаешь?
Кассандра: Я думаю! Что мне надо было сделать, чтобы не допустить этого ужаса? Что? Надо было, наверное, остановить Париса, поджечь его корабль или подослать убийцу к Елене. Нет, не помогло бы! Данайцы нашли бы другой предлог чтобы дорваться до богатств Илиона, чтобы жечь, грабить и насиловать! Нет, надо было уничтожить их корабли еще в море. Можно было на последние деньги нанять бронированную финикийскую эскадру. И тогда горел бы не город, а черные корабли ахейцев. Микены выбрали бы нового царя, а Пенелопа закончила бы жизнь настоящей, а не соломенной вдовой. Ну а тот подслеповатый поэт благополучно спился бы в притонах Пирея, потому что его слащавые и скучные стихи не пользуются спросом.
Ася: Ты это видишь?
Кассандра:
Нет, не вижу! Горят не черные корабли, горит моя Троада.
Ася: Не сдавайся! Брось свое видение в то неясное никуда, туда где рыжая пятнадцатилетняя девчонка еще сможет найти в себе силы убедить тех, кто не хочет слушать.
Кассандра: Верно! Правильно! И тогда хотя бы там не будет этого смрадного черного дыма, разрушенных стен и детских тел по обочинам дорог.
Как сердце интуицией саднит
Тем, что тебе открылось одному
И понимаешь – боль не убедит
И знаешь – не поверят, не поймут
Кассандра уходит.
Ася: Вольф Мессинг, местечковый еврей выбравшийся из польских штетлов и ставший подле сильных мира сего.
Появляется Мессинг.
Ася: Вольф Григорьевич!
Мессинг: Скажи мне, девочка… Скажи, для чего я обивал пороги синагог? Для чего молил выслушать меня тех, кто не готов был выбраться из своего замкнутого мирка? Тех, кого ждала либо печь крематория либо топор соседа-католика. А ведь там (машет рукой) в Майданеке остались отец и братья: либо во рву под немерянными слоями тел, либо пеплом, который выгребли из крематория.
Ася: Вы старались. Вы сделали все, что могли.
Мессинг: Значит – не все. Тогда, перед войной, в мирной и зажиточной польской провинции я не сумел найти верные слова, пусть даже и жестокие, пусть даже и ранящие.
Ася: А теперь?
Мессинг: Теперь, после того что я увидел здесь, в Майданеке, у меня появились эти слова. Слова, которые могли бы заставить людей проснуться и бежать, бежать. А если бежать было некуда, то можно было взять оружие и умереть на пороге дома, а не в бесконечных, глубоких рвах. Но здесь все уже свершилось.
Ася: Здесь свершилось. Но…
Мессинг: Так отчаянно хочется отправить это знание туда в то непонятное место, где все еще возможно, где кто-то найдет верные слова и где глубокие рвы так и останутся пустыми. Наверное, надо очень захотеть. А я очень хочу!
Как этот заговор глупцов нарушить
Чтоб убедить, заставить, доказать
Как мне уговорить глухих услышать
Как убедить слепых открыть глаза
В тупой надежде ты стучишься в двери
Надеясь – крик души не пропадет
Мечтая что хоть кто-нибудь поверит
Надеясь, что хоть кто-нибудь поймет
Мессинг уходит.
Ася: И что, наконец, двигало моим Мишкой, искавшем Соню Липшиц на далекой улице Маклина? Было нечто общее между всеми тремя. Всех троих объединяла любовь, объединяла своей недоступной науке, неизмеряемой энергией. И не важно была ли это любовь к родному городу, к односельчанам, или к одной женщине.
Включается свет и Ученые с удивлением смотрят на Асю.
2-й Ученый: (неуверенно) Чушь собачья!
Ася: Ах, чушь собачья? А ты знаешь, как холодно стоять на сквозняке без домашних тапочек? Ты знаешь, что Соня Липшиц – это я?
1-й Ученый: Ты? Как так?
Ася: (отмахивается) Они стояли тогда под окном роддома, пьяные и счастливые. Мишка и сосед по коммуналке. А я показывала им через окно маленькое сморщенное личико в конверте. Это был четвертый этаж и зима. Окно заиндевело и они все равно ничего не могли увидеть. Но они закричали хором: "Она красавица". А потом стали танцевать на снегу, выделывая неуклюжие коленцы.
2-й Ученый: Но это же ничего не доказывает.
Ася: Не доказывает? А за год до этого случилась наша первая ссора. Я тогда еще не оправилась после выкидыша и была раздраженной и несправедливой. Не помню, что было причиной, лишь помню, как стоп-кадр в кино, его помертвевшее лицо, когда я выкрикнула ему: "Ну и уходи, если хочешь!" И он ушел, осторожно закрыв за собой дверь. А я еще некоторое время кричала ему вслед злые и бессмысленные слова, уже чувствую как рушится мир и сжимаются стены. Потом не было сил вдохнуть воздух в легкие и, наверное, в мозг не поступал кислород, потому что в глазах сразу стало темно. Я упала на колени и так, не поднимаясь, подползла к двери, через силу заставляя себя дышать. Его не было тридцать семь минут и все эти бесконечные минуты я просидела под дверью, заклиная дверную ручки повернуться и впустить его обратно. Ручка наконец послушалась и вошел он с бутылкой молока в авоське. Увидел меня на полу, увидел мои глаза побитой собаки, потемнел лицом и вдруг…
1-й Ученый: Вдруг?
Ася: Вдруг я обнаружила что стою в луже молока, давно уже воткнулась своим мокрым носом ему в грудь, тяжело соплю и слушаю, как он повторяет: "Никогда! Ты слышишь? Никогда!" О, как бесконечно хорошо было стоять в той луже молока. Было совершенно ясно, что он никогда меня не оставит. Даже умереть он собирался только на следующий день после меня, чтобы я не оставалась одна. И с того дня я больше не боялась. Он мог обидеться, уйти к друзьям, задержаться на работе, уехать в командировку и даже завести другую женщину (да, да!), но я знала, что он обязательно вернется. Бывали и ссоры. Иногда мы не разговаривали и день и два, но я всегда знала, что стоит только посмотреть на него виноватыми глазами, как объяснять уже ничего не понадобиться, а нужно будет только тихо сопеть у него на груди и слушать как бьется его сердце. Вот и сейчас я не боюсь – ведь он вернется. Он обещал!
2-й Ученый: И все же…
Ася: Что "все же"? Что? Откуда он знает, где у меня на теле те заветные места, о которых я и сама не подозревала? Откуда он знал, что меня можно осторожно тянуть за мизинчик на ноге? Откуда он знал, что мне надо слизывать песчинки с ладошки? Почему он пришел тогда на улицу Маклина? Откуда он узнал, что я Соня?
1-й Ученый: А что? Вполне возможно!
2-й Ученый: Ты что, Попай? Накурился не того? У нас тут наука, а не мистика, смею напомнить!
1-й Ученый: Наука? Это ты про что? Случайно не про аппаратуру, которая ничего не в состоянии не только измерить. но даже зарегистрировать?
2-й Ученый: Значит неправильно меряем!
1-й Ученый: А вот теперь, братан, ты попал в точку!
2-й Ученый: Ну?
1-й Ученый: Это же элементарно! Каждый измерительный прибор, каждый метод измерения, основан на том самом явлении, которое сам же и измеряет. Вольтметр, к примеру, использует электромагнитную индукцию, то есть тот же электрический ток. Барометр использует механическое давление, которое сам же и меряет. И т.д. и т.п.
2-й Ученый: Я что-то не совсем…
1-й Ученый: Ну ладно, снизойду до вашего уровня. Весам, например, требуются тяжелые гири, чтобы измерить вес. Врубились? Нет? Да что вы тупите!. (торжественно) Для измерения любви нужен прибор основанный на любви и работающий от любви, а не на электричестве и не на бензине.
2-й Ученый: Да ты Попай, совсем съехал с катушек! И как ты, интересно, будешь собирать такие приборы?
1-й Ученый: (ехидно) Ты имеешь ввиду, где взять столько любви?
Ася: А ты не боишься…?
1-й Ученый: (надменно) Я ничего не боюсь.
2-й Ученый: Что измерять-то будем? Удельную любвеобильность? Пропускную способность любить? А как ты назовешь единицы измерения? В одной джульетте сто беатриче?
1-й Ученый: А сто джульетт не стоят и одной Хадасы, верно, братан?
2-й Ученый отворачивается.
1-й Ученый: Это будет совсем иной, новый мир. В нем энергия любви, Л-энергия, будет служить людям.
Ася: Я знаю… Утюг там будет нагреваться от нежности в семье, а самолет взлетит только если пилот влюблен. Пожалуй, такой мир мне бы понравился.
Мишка: Маклина 30, 46. Соня Липшиц.
1-й Ученый: Приблизительно восемнадцать байтов
Ася: Что, простите?
2-й Ученый: Видите ли, Ася, для передачи данных между мирами требуются огромные затраты энергии. Поэтому передавать удавалось ничтожные крохи информации. А это, в свою очередь, неоднократно вызывало недоразумения. Стену между мирами пробивали либо отдельные слова, либо неясные образы.
1-й Ученый: Наверное именно по этой причине катрены Нострадамуса были невнятны, Вольф Мессинг не всегда понимал то что видел, а Кассандре так и вообще никто не верил.
2-й Ученый: Возможно, то немногое, что проходило через барьер, было выстрадано пославшими его, вызывая невероятные выбросы Л-энергии.
Ася: А как же Мишка? Значит для него это имя и этот адрес были самым важным? Постойте, а почему для него? … Для кого же? Кто передал ему эти байты бесценной информации? … Он сам и передал. Это был тот "потусторонний" Мишка, для которого самым важным в жизни оставался этот адрес. Наверное, он не мог пойти туда… Может быть уже не было такой улицы, а то и города, или там уже не жила девушка, так далеко запихивающая под кровать свои домашние тапочки. Сам он не мог это сделать, но сумел передать подсказку моему Мишке. Как это произошло? Приснившийся странный сон? Шепот в подсознании? Это уже не важно. Важно то, что мой Мишка услышал и, наплевав на все сомнения, на предрассудки, на материализм, впитанный с молоком матери, на возможные насмешки, пошел на ничем не примечательную ленинградскую улицу и поднялся на третий этаж чтобы увидеть в проеме дверей босоногую Асю, которая оказалась его Соней.
делает пару шагов вперед
Ася: Теперь мне тревожно за того, другого Мишку, который совсем один остается в своем страшном мире. Ведь в том мире нет ладошки, которой можно коснуться губами, не было лужи молока на полу, не было маленького сморщенного личика за стеклом на четвертом этаже роддома. И многого, многого другого, совершенно необходимого, нет в том неправильном мире. Мне страшно и за весь тот несчастный мир, лишившийся мишкиной Л-энергии, перешедшей ко мне. Ой!
прикладывает руку к губам в страхе
Ася: А что, если бы мой Мишка не получил этой невозможной телеграммы, этих восемнадцати байтов? Боже мой! Боже мой! Вот он, настоящий ужас!
Сцена восьмая
На сцене надпись (на стенде): "Английский проспект 30".
Михаил: Оказывается, улицы Маклина больше нет. Теперь это снова Английский проспект. Да и Ленинграда больше нет. Вместо него меня встретил холодный город Санкт Петербург.
Мимо проходит старик Прохожий.
Михаил: Простите, может быть вы помните, тут на углу была булочная?
Прохожий: Вы не похожи на петербуржца, а говорите как петербуржец. "Булочная". Теперь так и не говорят. Да, была булочная, на этом углу. Только ее давно там нет. Всех благ.
Прохожий уходит
Михаил: А ведь я заходил туда, когда учился в школе. Там еще ватрушки продавались, только они всегда были черствые. Что мне стоило пройти вдоль по улице и зайти во всегда открытую дверь во всегда закрытых воротах? Потом надо было подняться на третий этаж, найти дверь, обитую черным дерматином и позвонить в звонок с надписью "Липшицы". Или там было написано "Липшицам 2 звонка"? Да вот же они, эти ворота. И тоже закрыты. Правда, я мог бы обманом пробраться внутрь. Но зачем? Ты опоздал, опоздал на много, много лет. Ты опоздал на всю жизнь! Но что-то еще здесь не так. Что-то еще неправильно.
Появляется дворник, подбирающий бумажки. На голове тюбетейка, легкий акцент.
Михаил: Извините пожалуйста.
Дворник: Да, уважаемый? Чем могу помочь?
Михаил: Вы не знаете, куда делись трамвайные рельсы? Здесь же раньше ходили трамваи,
Дворник: По этой улице? Нет уважаемый. Никаких трамваев здесь никогда не было. Только асфальт.
Михаил: Как же так? Здесь же должны быть трамваи.
Снова появляется Прохожий.
Прохожий: Были здесь трамваи, были. Но это было так давно. Очень давно.
Дворник: Что с вами, уважаемый? Вам помочь?
Михаил: Мне нельзя помочь!
Уходит. Дворник и Прохожий смотрят ему в след. Затемнение.
Сцена девятая
На сцене дорожный знак "Крутой поворот". Выходит Михаил с рулем в руке.
Михаил: Наверное была причина, по которой я оказался здесь, на пустынной горной дороге. Можно было бы подумать и вспомнить что я делаю в этом совершенно не нужном мне месте. Но я думаю сейчас об обитой черным дерматином двери на третьем этаже и думать о чем нибудь ином мне не хочется. Наверное я разогнался до непозволительной скорости, когда внезапно защемило сердце и руки на руле перестали слушаться. Машину уже ведет в сторону, бросает через жидкий бордюр и выбрасывает в пропасть. Хотя мои руки непослушно висят на руле, мысли несутся в голове так четко, как будто вся сила покинувшая руки устремилась в голову, в миллиарды ячеек памяти. У меня есть еще три-четыре секунды до того как превратиться в дым и копоть разбившись об острые скалы и в эти секунды я думаю о том единственном, что мне осталось в этой жизни. Пока текут эти бесценные секунды, я успеваю почувствовать как пересекаются миры, и время то разрывается на куски, то смешивается в один клубок, где все на свете происходит в единый миг и где все еще возможно. Потом время разворачивается обратно летящими навстречу скалами, но прежде чем это происходит, я успеваю прошептать: Маклина тридцать-сорок шесть, Соня Липшиц.
Протянута полицейская лента. На полу лежит руль. Входят Полицейский (хромая) и Судмедэксперт.
Судмедэксперт: Скучно и тривиально. Злоупотребление алкоголем или внезапные проблемы со здоровьем. Вскрытие покажет.
Полицейский: Паспорт обгорел, но номер виден. Так что обойдемся без теста ДНК.
Судмедэксперт: Что с тобой?
Полицейский: Ногу потянул.
Судмедэксперт: Нет, я не про это. Что-то не так?
Полицейский: Старый ты лис, от тебя ничего не скроешь. Да, что-то тут не так.
Судмедэксперт: А как же твоя знаменитая аура смерти? Труп-то налицо. Или ты мне заливал все эти годы?
Полицейский: В том-то и дело. Я всегда ее чувствовал, эту ауру. И на авариях чувствовал и на убийствах. А здесь все не так. Как будто… смерти нет.
Судмедэксперт: Тогда как же труп? Или ты ожидаешь, что обгорелое тело вылезет из останков Тойоты, улыбнется и попросит прощения за беспокойство? Так что, нет ауры?
Полицейский: Есть. Она есть. Но это не смерть – тут что-то другое.
Судмедэксперт: Что?
Полицейский: Не знаю. Не пойму.
Судмедэксперт: Ты просто устал. Заработался (обнимает Полицейского за плечи). Давая двигать домой.
Полицейский: Да, конечно. (начинает уходить, останавливается)
Судмедэксперт: В чем дело?
Полицейский: Ты помнишь, там, на перекрестке. Мы там недавно проезжали. Там еще мальчишка цветами торговал. Мне ведь не показалось, верно?
Судмедэксперт: Вроде бы были цветы..
Полицейский: Надо будет купить букет. Моя Ханеле очень любит гвоздики, а ведь я так давно не дарил ей цветы.
Сцена десятая
Ася на авансцене. Мишка на кровати.
Ася: Что же было в нем, в том коротком сообщении, той невозможной телеграмме, что пробила непробиваемую стену и попала к адресату с такой точностью, как будто ее доставил самый лучший в мире почтальон? Теперь я понимаю, откуда Мишка знал обо мне такое, что я и сама не знала о себе. Все же тот колдовской информационный пакет был длиннее восемнадцати байтов. Было нем еще что-то помимо шести заветных слов.
Входят Ученые.
2-й Ученый: Вот что, Соня… Вам надо подписать кой-какие бумаги. (виновато) Это формальности, никуда от них не денешься.
Ася пожимает плечами, не глядя подписывает. Внезапно Мишка начинает вертеться на кровати. Поднимается на локтях. Ни на кого не смотрит.
Мишка: Соня?
Ася: Да… Это я.
Мишка падает головой на кровать.
Ася: Что происходит? Кто этот человек? И кто я? На эти вопросы нет ответа! Они судорожно копошатся внутри и рвутся наружу, грозя взорвать череп. Что это со мной? Сердце не бьется, дыхание сперло, воздух не поступает в легкие и помутилось в глазах. Сейчас я умру! Ну и пусть!
Мишка снова поднимается на локтях. Осматривается удивленно. Взгляд его останавливается на Асе.
Мишка: Аська!?
Ася с криком "А-а" бросается к нему. Затемнение.
Загорается свет. Мишка спит на боку, нервно дергается во сне. Ася сидит на стуле, держа его за руку. Ученые в углу. 1-й что-то пишет в ноутбуке, 2-й неподвижно смотрит куда-то.
Ася: Спи. Спи. Ты вернулся и теперь это просто сон, здоровый сон. Можешь даже немного похрапеть, если хочешь. Ты знаешь, а ведь я поняла, что такое это загадочное "перпендикулярное время". Это наше с тобой время. Сейчас оно ортогонально всему и всем: и этим двоим (показывает на Ученых), и тому милому таксисту, и доброму охраннику на входе, и маме, и даже детям. В нем, в этом времени сейчас только ты и я. Только ты и я. Ты спишь, просто спишь. Теперь я могу поехать домой, купить продукты, вытереть пыль, послушать музыку, просто посидеть молча. А когда ты проснешься, я снова буду здесь, с тобой, в нашем перпендикулярном времени.
2-й Ученый встает и порывается подойти с подписанными листками в руках. 1-й Ученый дергает его за рукав и уводит. Они идут вдоль сцены и у 2-го Ученого лицо становится напряженным и несчастным. Он идет все медленнее, останавливается и начинает злобно рвать подписанные Асей листки. Ася глядит на него не улыбаясь. 1-й Ученый улыбается, обнимает 2-го за плечи и уводит со сцены.
Песня: Триумфу неизменности не быть
Презрев всех мудрецов авторитет
Все в этом мире еще можно изменить
Необходимо лишь безудержно хотеть
Заметить времени связующую нить
На темном проблеске мгновения случайном
Безудержный момент остановить
Преодолеть, не уступить отчаянию
Мы снова обнаружим нас самих
И как бы это не казалось сложным
На том пересечение всех прямых
В том далеке, где все еще возможно
Гаснет свет. На сцене Прохожие. Медленно проходит Ася, не глядя ни на кого.
1-й Прохожий: Смотри! Ты видел ее?
2-й Прохожий: Кого?
1-й Прохожий: Эту женщину! Ты видел ее лицо?
2-й Прохожий: Лицо? Симпатичная, конечно. Но ничего особенного. Что с тобой?
1-й Прохожий: (оглядывается) Ничего. Ничего.
Песня: И вспоминая всплеск родных ресниц
Ты вырвешься, оставив осторожность
Сквозь всю непотревоженность границ
В тот странный миг, где все еще возможно
Прорвав невероятности тиски
В мистерию таинственных имен
Ворвешься ты наперекор и вопреки
Всей перпендикулярности времён.
Приговоренные к жизни
(старая версия)
Действие происходит параллельно в двух плоскостях:
Участвуют только два артиста
Главное действие происходит в больничной палате в Израиле. Рувен (Альгис) и Натан (Павел).
Интермедии. Освещается другой участок сцены и артисты переходят туда. В каждой интермедии один из артистов продолжает играть своего героя, а второй играет его оппонента. Таким образом Клокке играют оба по очереди. Играющий оппонента надевает соответствующий головной убор.
Действующие лица:
Альгис Вайткус (Рувен Файенсон), oн-же играет оппонентов Натана
Натан Йозефавичус (Павел Вуколов), он же играет оппонентов Альгисa
Действие 1-е
(Два матраса изображают койки в больничной палате. Кресло (для Натана). Альгис лежит на одном матрасе)
Альгис: Вы знаете, ко всему можно привыкнуть: и к пальмам вместо берез и к хамсину по субботам вместо дождичка в четверг. Вот только к отсутствию снега я никак не смог привыкнуть за 30 лет. Раньше мы садились в машину и неслись на Хермон каждый раз как по радио обещали снег. Неслись, или точнее, пробирались сквозь пробки. Но это было раньше… Однажды, то-ли в 92-м то-ли в 93-м снег лежал на Голанах целых два дня…
(поет)
Снег упал на базальтовый склон
…поседели дома
Я в недолгий мороз влюблен
..на Голанах – зима
Запорошенный шрам скалы
…снег не падает вниз
Лишь пятнают его следы
…обезумевших лис
Ночь разбрызгала белый свет
…на унылом плато
И звезда покивает вслед
…если что-то не то
Голубые сугробов горбы
…сторожат вдоль дорог
И таинственный свет луны
…необычен и строг
Но недолгий зимы покой
…не продлится и дня
Полдень выплавит солнца зной
…обнажится земля
И последний снежок зимы
…унесется один
Посылая глоток воды
…ожиданию равнин
Я безмoлвно печаль несу
…эта ноша легка
Снег упал на мою судьбу
..и не стаял…пока
(Прожектор освещает Натана. Он только что вошел)
Натан: Не помешаю?
Альгис: Мир входящему.
Натан: Мне сказали что вы сами хотели соседа. А то неудобно как-то. Была отдельная палата, а теперь....
Альгис: Все верно. Видите-ли – как-то неуютно умирать в одиночестве.
Натан: Ну что вы так. Выглядите вы совсем неплохо.
Альгис: Я тоже так думаю. Но у моих почек, знаете-ли, сложилось свое мнение. Впрочем, против трех-четырех месяцев они не возражают.
Натан: (растеряно) Извините.
Альгис: За что? Это вы извините, что так ошарашил. И, если не хотите соседствовать с умирающим, то я вас пойму и не обижусь.
Натан: Я вообще-то бывший военный, кое-где бывал и кое-что там видел. У вас-то, по крайней мере, руки-ноги на месте, простите за цинизм.
Альгис: Ой, да бросьте вы извиняться! Я хоть в армии и не служил, зато за 30 лет в стране тоже кое-что повидал.
Натан: Ну тогда позвольте представиться – Павел Семенович Вуколов.
Альгис: Очень приятно. Имя вроде не совсем еврейское.
Натан: Вообще-то я еврей по жене.
Альгис: Nobody is perfect
Натан: Что, позвольте?
Альгис: Да так, ничего…А здесь вы по какому поводу? Тоже последняя остановка?
Натан: Нет, мне вроде-бы приговор отменили. Теперь жду результатов анализов. (осторожно) Вот вы сказали "последняя остановка"?
Альгис: Еврейский юмор, знаете-ли.
Натан: Знаю, как не знать. Смех сквозь слезы. Только это и спасало нас в гетто.
Альгис: В гетто? В каком гетто?
Натан: В вильнюсском гетто…Про Понары слышали?
Альгис: (отворачивается, глухо) Кто-же не слышал.
Натан: (не замечая) Ну не скажите… Многие не слышали, а иным – все равно.
Альгис: (снова поворачиваясь) Тут иных нет. Но я не совсем понимаю. Вуколов Павел…Семенович? И вильнюсское гетто, (неуверенно) Понары. Как-то не очень…
Натан: Долгая история. Я ведь не всегда был Вуколовым.
Альгис: Я бы послушал долгую историю.
Натан: Это не так уж интересно, да и мне не не слишком приятно.
Быть жертвой – не самая приятная роль. Что может быть хуже?
Альгис: Наверное – быть палачом.
Натан: Ну это уже где-то за гранью, такое мне трудно себе представить…
Альгис: А вы пробовали?
Натан: Пробовал что?
Альгис: Представить себе то что чувствует палач.
Натан: Ничего он не чувствует. Откуда у него чувства?
(Альгис пристально смотрит на него) Ну нет, он конечно что-то такое…
Альгис: А что ощущал тот который повесил Эйхмана?
Натан: Это не одно и то же. Эйхмана следовало повесить.
Альгис: И исполнитель приговора искренне верил в это. А если те что стреляли в Понарах, тоже искренне верили, верили в какую-нибудь нелепую чушь. Во что только люди не верят по глупости…и по молодости.
Натан: (сердится) Так ведь можно все что угодно оправдать.
Альгис: Нет! Оправдать нельзя…невозможно. Разве что, пожалуй, можно попробовать понять. Но и это не обязательно.
Натан: Кого понять? Того кто хотел застрелить тебя только за то что ты еврей? Не хочу я его понимать и не буду.
Альгис: А вот если бы вы встретили сегодня на улице одного из тех, кто стоял там, в Понарах, над обрывом? Что бы вы сделали?
Натан: Я?
Альгис: Давайте упростим задачу. Пусть это будет не садист, получающий удовольствие от казни, вроде (замолкает, не договорив).
Натан: Вроде кого?
Альгис: Да нет, неважно. И пусть это будет не тот, кто подписывал…
Натан: Что подписывал?
Альгис: Приказы, конечно. Что с вами?
Натан: Нет, ничего. Продолжайте.
Альгис: Пусть это будет один из тех восторженных придурков что по глупости попали в Особый Отряд.
Натан: А вам ведь действительно не все равно. Мало кто слышал про Особый Отряд. Конечно, мне трудно представить себе такого придурка здесь, в этой стране, но разве что теоретически…
Альгис: Да, именно теоретически.
Натан: Вы конечно ждете чего-нибудь вроде – "Своими руками задушил бы поганца!!". Раньше, много лет назад я бы так и поступил. А теперь все оно перегорело что-ли. Не знаю. Наверное просто вызвал бы полицию и сдал его как можно быстрее чтобы не испачкаться.
Альгис: И вы бы даже не захотели спросить его?
Натан: Спросить? О чем?
Альгис: (приподнимается) Что-же это мы как не родные, все на вы и на вы. Я за 30 лет как-то отвык выкать. (драматическая пауза) Меня зовут… Рувен Фаенсон. Тоже из Вильнюса и тоже из гетто,
(Немая сцена. Натан пытается осознать сказанное)
Натан: Но ведь вся семья Фаeнсонов… У меня на глазах… Лейтенант Клокке.
Альгис: Все верно. Энрикас Клокке застрелил их…
Натан: (машинально) Выстрелил в затылок.
Альгис: Да, в затылок. Всем, даже младшим, даже детям… Всем, кроме Рувена. Мне он выстрелил в лицо… А еще там была семья Лошоконисов…
Натан: (прерывает) Но как же вы?
Альгис: ..ты
Натан: (машинально) Как же ты?
Альгис: Ты знал Рувена?
(Натан судорожно кивает)
Помнишь, как несколько еврейских семей, в слепом порыве ассимиляции, послали своих детей в литовскую гимназию? Там еще были Рувен Фаенсон и Натан Йозефавичус. Так ведь, Натан?
Натан: (отходит на шаг) Так это ты?
Альгис: Учитель Лошоконис рассадил их среди литовских детей. Натану досталось сидеть…
Натан: Альгис? Ты Альгис? Альгис Вайткус?
Альгис: Я был Альгисом Вайткусом.
Натан: И ты..
Альгис: Да, Альгис расстреливал людей в Понарах. Молодой, неопытный дурак.
Натан: Почему ты говоришь о себе в третьем лице.
Альгис: Не знаю. Мне так удобнее.
Натан: И ты убил Фаенсонов !?
Альгис: Нет, их убил Энрикас Клокке. А Альгис убил Лошоконисов.
-– Интермедия: Понары 1942. Альгис и Энрикас Клокке (кепи вермахта) –
Энрикас: Тебе следует называть меня Генрих а еще лучше – господин лейтенант.
Альгис: Слушаюсь, господин лейтенант Генрих.
Энрикас: Не юродствуй, а то забуду что мы учились вместе. Ты узнал учителя Лошокониса? Впрочем это я был у него лучшим учеником, а не ты.
Альгис: (в сторону) Лучшим учеником был ты, Натан, но оговорка Энрикаса вполне простительна, ведь он так старался быть лучшим.
(Энрикасу) Что он здесь делает? Да еще с женой и внуками?
Энрикас: Уже ничего. Он уже все сделал когда укрывал евреев. А теперь делать будешь ты. Помнишь, что следует делать с укрывателями?
Альгис: (без эмоций) Помню, господин лейтенант. Всех?
Энрикас: Да, всех.
Альгис: И детей?
Энрикас: И детей тоже. А ты что думал?
Альгис: (в сторону) Действительно, о чем же думал Альгис? Он уж точно не думал, что придется убивать своего учителя. И он не думал, что там будут дети. Похоже, он вообще не слишком думал.
Энрикас: А Рувена помнишь? Рувена Фаенсона. Именно его семью прятали Лошоконисы. Впрочем, Фаенсоны – это уже моя забота. А твоя – Лошоконисы.
Альгис: (в сторону) Вы когда-нибудь стреляли человеку в затылок? Они всегда падают вперед, так что при известной ловкости можно не запачкаться. Лишь бы ошметки мозга не брызнули во все стороны. Но и это легко отмывается. Госпожа Лошокойне стояла в начале строя, но Альгис первым убил старого учителя. Почему? Не знаю. В его так хорошо знакомую лысину трудно было не попасть. Потом пришел черед его жены. У нее были распущены волосы и Альгис увидел, что она давно не красилась, волосы были уже наполовину седые. Война, подумал Альгис, где сейчас достать басму. У Лошокойне была целая грива полуседых волос и Альгис боялся, что пуля пройдет через них минуя голову. Но он напрасно боялся – пуля вошла куда надо.
А следующим был ребенок. Внук. Альгис видел его перед войной но не помнил его имени. Юргис, что ли? Да нет, вряд-ли. Откуда у учительского внука деревенское имя. Но этот белобрысый затылок он определенно видел. Нужно было выстрелить. А потом сделать два шага в сторону и убить девочку, внучку. Но Альгис не выстрелил.
-– Конец интермедии –
Натан: (издевательски) Ясное дело, ты застрелил Клокке, перебил охрану и вывел всех в лес.
Альгис: (не обращая внимания) Альгис бросил пистолет…
Натан: (издевательски) Да, и заплакал горькими слезами раскаяния.
Альгис: .. Он сел и сидел тупо смотря перед собой пока Энрикас не сбил его на землю, ударил несколько раз сапогом…
Натан: (все так же) Ах ты бедняжка. Что, больно было?
Альгис: Потом Энрикас поставил Альгиса на ноги и заставил смотреть как он убивает Фаенсонов. Но вначале Энрикас застрелил маленьких Лошоконисов. Он сделал это походя, как будто они были ему не интересны. Ты ведь помнишь Клокке из айнзатцгруппы?
Натан: (хочет что-то сказать, но останавливается на полуслове).
Альгис: Литовская пылкость органично сочеталась в нем с немецкой добросовестностью. Он ничего не делал просто так, этот Энрикас. Ведь Альгис уже расстреливал людей. Но то была расстрельная команда, где каждому хочется думать что это не его пуля…
Натан: И ты, конечно, всегда стрелял в воздух.
Альгис: Нет Альгис не стрелял в воздух. И все же так было легче. А тут Энрикас дал ему свой пистолет и приказал стрелять в затылок. Он сам так делал, ты наверное знаешь.
Натан: (неопределенно) Знаю.
Альгис: И только Рувену он выстрелил в лицо. Но зачем ему нужен был Альгис? Зачем он так поступил? Зачем дал Альгису свой люгер. Что ему нужно было?
Натан: Почему ты все время говоришь о себе в третьем лице?
Альгис: Мне так удобнее.
Натан: Не поможет! Это ты, Альгис Вайткус, стрелял в евреев в Понарах. И это ты убил Лошоконисов.
Альгис: (неуверенно) Да, это был (пауза) я.
Натан: Ты! И тебя будут судить. Ты будешь сидеть за решеткой, а люди будут показывать на тебя пальцем как на животное.
Альгис: Заманчивая картина. Но, боюсь, ничего не выйдет. Вначале, наверное, будет следствие, долгое и основательное. Будут искать свидетелей, документы. У нас это умеют, ты же знаешь. Или не знаешь? Неважно. Я, конечно, во всем признаюсь, как признался тебе, но и это не намного ускорит процесс, который займет месяцы, если не годы. Потом Литва потребует экстрадиции, потом наш верховный суд эту просьбу рассмотрит. А мною уже давно будут лакомиться черви. Моя левая почка позаботится об этом, а правая ей с радостью поможет.
Натан: Значит тебе снова удастся сбежать? Как в 44-м?
Альгис: Не знаю. Может (нерешительно) Может быть ты возьмешься судить меня? А что? Будешь дознавателем, прокурором и судьей. А если хочешь, то и исполнителем приговора. Мы что-нибудь для этого придумаем. У нас, евреев, всегда найдется неординарное решение.
Натан: (вскакивает, он еще не осознал предложение Альгиса) Да какой ты еврей?!
Альгис: (ехидно) Как скажете, Павел Степанович.
Натан: (падает обратно в кресло) Судить?
Альгис: А что? Свидетельские показания не понадобятся ввиду чистосердечного… Ну ты же понимаешь…Взвесишь все за и против.
Натан: Какие еще "за"?
Альгис: Ты судья, тебе виднее.
Натан: Похоже ты хочешь исповедоваться. Но я тебе не ксендз.
Альгис: Да и я с 41-го не ходил к причастию. Последние годы я все больше в синагогу (Натана хочет что-то сказать, но сдерживается). У нас, евреев (Натан с большим трудом сдерживается), ведь нет отпущения грехов. Но высший суд есть и у нас. Правда сегодня не Йом Кипур. Так что вся надежда на тебя.
Натан: Надежда!? На меня! Да тебя надо немедленно сдать … в полицию, в зоопарк, в кунсткамеру, не знаю куда! Не понимаю, зачем я вообще тебя слушаю.
Альгис: Зато я понимаю. Тебе очень хочется узнать как из убийцы евреев Альгис сам стал евреем, израильтянином и сионистом… Стал Рувеном.
Натан: Ты не Рувен, никогда им не был и никогда не будешь!! (пауза) Но если откровенно, то я действительно хотел бы понять.
Альгис: И я тоже. Я ведь тоже не совсем понимаю… Предлагаю заслушать подсудимого.
Натан: (с трудом выдавливая слова) Ну ладно, выкладывай свое чистосердечное.
Альгис: После расстрела Фаенсонов и Лошоконисов Альгис не стал дожидаться решения лейтенанта Клокке и дал деру в лес благо с лесами в Литве все было благополучно. Был уже конец 42-го и Альгису оставалось продержаться меньше года. Он, впрочем, этого не знал. Долго рассказывать про этот год, да и не интересно. А интересно то что осенью 43-го Альгис оказался на маленьком хуторе недалеко от Игналина.
-– Интермедия: Хутор под Игналина 1943. Альгис и Хуторянин (картуз) –
Хуторянин: Ешь парень, ешь. Картошка хорошо уродилась, а скоро зима – все равно померзнет. Переночуешь в сарае на сеновалe. Вот кожушок возьми, чтоб не замерзнуть. А утром уходи… Еще затемно уходи, а не то собак спущу. Мне ни с теми. ни с этими ссориться не с руки. И кожушок вернуть не забудь, смотри у меня.
Альгис: А ты, как я посмотрю, неплохо устроился. И тем и этим… Или не тем и не этим. Один хрен. Только не надейся, что тебя оставят в покое. А твой нейтралитет вряд ли кого убедит.
Хуторянин: Ты брось тут ученые слова говорить…Нейтралитет…Ишь ты. Будто я сам не понимаю. Но я-то свою судьбу давно уже выбрал…И не изменишь ничего (наклоняется, громким шёпотом) А ты еще можешь!
Альгис (кричит): Что я могу? Что?
Хуторянин: Я тут порылся в твоей сумке… Да ты не вскидывайся на меня и за пистоль свой не хватайся. Мои собачки побыстрее пули будут. Так что не надо… И спасибо еще скажешь за добрый совет. У тебя там документ какого-то жидка, Рувена вроде. И карточка на нем. Так этот жидок сильно на тебя похож. А ты на него. Вот ты и стань им, этим Рувеном.
Альгис: Это как же? Скрываться под чужим именем. Так ведь разоблачат и все припомнят. Еще и поглумятся.
Хуторянин: Вот ты вроде грамотный, небось гимназию закончил, а простых вещей не понимаешь. Как раз если будешь скрываться, то найдут, непременно найдут и непременно поглумятся…
Альгис: Я что-то не совсем…
Хуторянин: А вот если станешь им, этим Ру…Рувеном. Наденешь его жизнь как тот кожушок. Начнешь думать как он, есть как он и спать как он, то может и не найдут. А может и найдут. Вот, к примеру, если родственники какие…
Альгис: Нету родственников.
Хуторянин: Ну, тебе парень виднее. Больше нам с тобой говорить не о чем, но ты все-ж подумай. Хорошо подумай.
-– Конец интермедии –
Альгис: И Альгис…Ну то есть я…Я хорошо подумал и стал Рувеном.
Натан: Шма Исроел! Так таки взял да и стал?
Альгис: Нет, не сразу. Нас, узников гетто (Натан пытается сказать что-то, но только машет рукой) не очень то трясли в СМЕРШе и я легко попал в Ленинград. Там трудно было кого-то удивить ассимилированным евреем, говорящим по-русски с сильным акцентом, но и на жаргоне знающем лишь пару слов. Я поступил в Электротехнический и вскоре получил диплом инженера. Ты же помнишь как легко давалась мне физика?
Натан: Да, учитель Лошоконис гордился бы тобой.
Альгис: Пожалуйста, не надо…Как-то летом 50-го, когда Альгис был еще весьма жив, а Рувен еще почти совсем мертв, мой однокурсник Сашка Шварцман затащил меня в синагогу на Лермонтовском. Молиться Сашка не собирался…
-– Интермедия: Синагога в Ленинграде 1950. Альгис и Сашка Шварцман (кепка) –
Сашка: Взгляни-ка наверх. Ты только посмотри, какой восхитительный курятник. Есть тут славные еврейские курочки на любой вкус. Вот эта длинноногая в очках – она для романтических прогулок под луной. Вон та, растрепанная – для нескучного времяпровождения вдвоем, А вон та, лупоглазая – для создания прочной советско-еврейской семейной ячейки. Прейскурант обширный, в основном, конечно, брюнетки, но и блондинки попадаются.
Альгис: Ты что, с ними всеми знаком?
Сашка: Ну нет, конечно! Но без проблем познакомлюсь. И тебя познакомлю.
Альгис: (со смехом) Тебе, конечно, рыженькую подавай. Знаю я твою слабость. А вот, кстати и кандидатка… Вон та, в уголке. Только странно.. Такая жара, а она – в кофте с длинным рукавом.
Сашка: (становится очень серьезным) Вот ее-то я как раз знаю. Она, наверное, единственная, кто приходит сюда помолиться. И она всегда надевает с длинным рукавом. Знаешь почему?
Альгис: (тоже становится серьезным) Почему?
Сашка: …Говорят, что они поженились за полгода до войны. Так что рожала она уже под немцами у мамы в Гомеле. Ее вместе с ребенком, мальчиком, отправили в Освенцим. А на руке у нее лагерный номер – татуировка, поэтому и рукава.
Альгис: А дальше?
Сашка: (неохотно) А что дальше? Ребенок умер в лагере, а ее освободили наши. Ну а тут, в Ленинградской квартире ее уже ждала похоронка. (пауза) Так что как бы я не любил рыженьких, это не для меня. У меня на это совести не хватит… И так у меня ее немного. (превращается в прежнего Сашку) Тем более, что товар в ассортименте.
Альгис: (в сторону) У Альгиса, похоже, с совестью проблем не было. (Сашке) Ты правда с любой можешь познакомить?
-– Конец интермедии –
Альгис: Вот так Альгис стал женатым человеком.
Натан: Это ты что, так грехи замаливал? Сначала убить сотню-другую евреев, а потом одну еврейку осчастливить?
Альгис: Ты кого спрашиваешь? Если Альгиса, то он, похоже, просто прикинул, что так ему еще лучше удастся натурализоваться. Так это вроде называется?
Натан: Альгиса, кого же еще? Потом ты ее бросил, верно?
Альгис: Сто сорок, семьсот пятьдесят два (долгая пауза). Это был Фирочкин номер. Через несколько лет она его уже не скрывала (пауза). "Этого не надо стыдиться, это надо нести гордо". Не помню кто так сказал. Может она, когда родилась наша старшая, а может и я, когда целовал ей руки. Нет, я ее не бросил. Это она меня оставила…Два года назад. Я на надгробии попросил выбить этот ее номер. Сделали, хотя никто так и не понял, что это такое. А я и не объяснял.
Натан: И ты ее обманывал все эти годы?
Альгис: Вроде бы так. Только вот, когда она уже лежала в больнице… Взял я ее левую руку, там где номер… А рука-то вся в морщинах. А я ее целую, эту ее ручку. И тут она и говорит: Прощай Альгис. Альгис – понимаешь?! Я сразу и внимания не обратил, а потом поздно было. Да и не стал бы я ее расспрашивать. Но как она знала?
Натан: Как, как! Мужчины во сне разговаривают. А женщины внимательно слушают. Но о Понарах она ведь не знала? Ведь правда не знала?
Альгис: Не знаю… Думаю, что она все знала. Ума не приложу как, да и не важно это.
Натан: Нет. Не могла она…Не простила бы.
Альгис: Ты ее не знал, мою Фиреле. Светлее ее человека не было и не будет. Все она могла принять и всех понять. Ты таких людей и не видел, а мне вот повезло.
Натан: А сюда как тебя занесло?
Альгис: Вот ехали мы ехали и, наконец, приехали.
Натан: Альгис Вайткус – сионист. Нарочно не придумаешь!
Альгис: А Альгису было все равно куда ехать. Лишь бы подальше от России. Он по глупости думал, что не будь советской оккупации, не было бы и Понар. Жаль не было там Энрикаса Клокке, чтобы объяснить ему как он ошибается. А Рувен, он хотел ехать туда, куда хотелось его девочкам. У нас уже росла наша старшая. И мы приехали сюда, в жаркую страну с крикливыми людьми, пыльными городами и войнами каждые несколько лет. Альгис с Рувеном недоуменно смотрели вокруг и не могли понять, что их здесь держит. А ведь что-то держало!
Натан: А потом?
Альгис: А потом я оказался на спасательном плоту посреди Средиземного моря. Ты слышал про эсминец "Эйлат"?
Натан: Нет. (отводя глаза) Не слышал
-– Интермедия: Акватория близ Порт-Саида, спасательный плот 1967. Альгис и старшина Гади (бейсболка израильских ВМС). –
Гади: И зачем только гражданских пускают на борт.
Альгис: Не стоило тебе жгут накладывать. Истек бы кровью себе спокойненько и не капал бы мне на мозги.
Гади: Да лучше кровью истечь, чем ждать пока за тобой придут из Порт Саида.
Альгис: Не придут. Наши им что-то серьезное взорвали неподалеку и им теперь не до нас. Так что лежи спокойно и жди вертолета.
Гади: А ты то как оказался у нас?
Альгис: У нас небольшая фирмочка под Хайфой. Выполняем оборонные заказы. Вот ваш главный радар…Впрочем, это тебе знать не надо.
Гади: Не очень-то и хотелось. А вот интересно думал ли ты у себя в Польше что будешь однажды куковать на спасательном плоту с одноногим старшиной родом из Касабланки.
Альгис: Все ты врешь, Гади. И я не из Польши и ты не из Касабланки и ноги у тебя на месте.
Гади: У меня бабка из Йемена, другая бабка из Будапешта, а деды из Алжира и Тегерана. Так что смело можешь считать что я из Касабланки. А что касается жены, так в ее семье все давно переругались на почве поиска корней. Ну и откуда же ты?
Альгис: Из Вильнюса, из Литвы.
Гади: То-то у тебя иврит такой, что так и тянет по уху заехать. Видно у меня на ашкеназов аллергия. Встретишь иногда этакого профессора Пастернака, в очках и с бородкой. Смотрит он на тебя свысока и за человека не считает потому что не тот университет ты закончил. И тоже хочется по уху заехать. А потом встретишь того же Пастернака где нибудь в вади на Синае. И форма на нем сидит как фрак на бедуине, и винтовка болтается у него за спиной как палка. Это он тебе, видите ли, воду привез, не расплескал, вошь тыловая. Так тут вдруг захочется обнять его, прямо как родного. Да и он на тебя смотрит так как будто на одном факультете лямку тянули. Или вот какой-нибудь гребаный литвак перевяжет тебе ногу и не даст спокойно истечь кровью и трындит тут что-то на своем корявом иврите. И уже не хочется по уху заехать.
Альгис: Это у тебя от потери крови.... Знаешь Гади, я и сам не понимаю зачем я здесь, в этой стране. Не для того же чтобы развлекать раненного старшину посреди моря.
Гади: Может и для этого тоже. У тебя семья?
Альгис: Две дочки. Думаю, что дочки – вторая еще не родилась.
Гади: Две дочки! И ты еще не понял для чего ты здесь? Тупой ты ашкеназский осел. Ты здесь для них. Потому что только тут твои девочки в безопасности. По крайней мере, до тех пор пока мы еще в состоянии вломить этим верблюжатникам. И они в безопасности и все евреи в безопасности. Такая у нас страна. А за другие страны не поручусь, вот ваша Европа, к примеру. Там всякое может случиться и не раз случалось. А тут всякого не будет, не дадим.
Альгис: Знаешь Гади, я ведь не совсем еврей.
Гади: Бывает. У меня вот теща тоже не совсем ангел. Ничего, поешь хумуса с тхиной годик-другой и станешь совсем евреем.
-– Конец интермедии –
Альгис: За нами наконец пришли и Гади выжил, но ногу потерял. А я… я просто стал жить. Вскоре у нас родилась младшенькая.
Натан: Это та что приходила с внуком?
Альгис: Нет, то была старшая. Младшая-то у нас местная уроженка и страшно гордится этим. Одно время она просто затерроризировала старшую, обзывая ее "иммигранткой". Правда местная уроженка уже который год живет в Ванкувере.
Натан: Ты бывал у нее?
Альгис: Конечно. Там красивые леса, не хуже чем под Игналина.
Натан: Вот и переехал бы в Канаду.
Альгис: А еще там в Ванкувере есть небольшая литовская диаспора.
Натан: Так что-же?
Альгис: Так, мелочи. Помнишь, я рассказывал про старшину Гади. Он прожил еще полтора года. Но что-то у него не так залечили, оторвался тромб и Гади переселился на кладбище. А мы с Альгисом его иногда навещали, Ты понимаешь, Альгис – он ведь прагматичный литовец.
Он хорошо знает, сколько стоит билет из Ванкувера. А тут четверть часа на машине, если нет пробок. Ну а когда недалеко от Гади поселили мою Фирочку… В общем, мы с Альгисом изрядно экономили на бензине навещая их обоих вместе.
Натан: Ну ладно, пусть Фирочка, пусть Гади. Но ты ведь многих еще обманывал, ходил в синагогу, к Торе небось подымался? Раскланивался с теми, чьих отцов ты, возможно, расстреливал в Понарах.
Альгис: (отворачивается) Чего ты хочешь? Я ведь всячески убеждал себя, что я Рувен. Только и Альгис всегда был со мной. Этакое раздвоение личности.
Натан: Раздвоение личности! Впору свихнуться.
Альгис: Верно. И это иногда казалось таких заманчивым… Без слюней и без агрессии стать тихим психом, который не знает кто он и где он и не за что не несет ответа. Но однажды…У нас в доме этажом выше жил один раввин. Не старый но и не молодой, не то сефард, не то ашкеназ. В нашей синагоге я его не видел. Однажды он остановил меня на лестнице.
-– Интермедия: Израиль 1975. Альгис и Рабби (кипа). –
Рабби: Здравствуйте, сосед.
Альгис: Здравствуйте, Рабби.
Рабби: Вы знаете, меня разбирает любопытство. Не то чтобы я действительно умел читать по лицам, но есть в вашем лице что-то такое, что я затрудняюсь понять. Как будто там живут два человека.
Альгис: А если это действительно так?
Рабби: Тогда это может быть очень плохо, а может быть и не так плохо.
Альгис: Не говорите, пожалуйста, загадками.
Рабби: Сразу видно, что вы не учились в ешиве. Ладно, объясню без загадок. Плохо может быть тогда, когда эти двое враждуют. Ну а если они живут дружно, то мир с ними обоими (смеется).
Альгис: Ну хорошо, а представим, что один из них еврей а другой – антисемит. Или еще хуже.
Рабби: Тогда антисемиту следует пройти гиюр, а еврею – выкреститься (смеется). Впрочем нет, не выйдет – тогда они тоже будут конфликтовать.
Альгис: (смеется) Кажется я вас понял хоть вы и продолжаете говорить загадками. Но как этому внутреннему антисемиту пройти свой гиюр?
Рабби: Любой раввин вам скажет, что для этого надо прежде всего соблюдать заповеди, содержать еврейский дом и прочее и прочее. И этот любой раввин будет несомненно прав. Другие же скажут, что этого недостаточно. Надо еще прожить еврейскую жизнь, скажут они, или, хотя бы, часть ее. И эти тоже будут правы.
(Альгис очень внимательно смотрит на него)
Рабби: Вы давно в стране?
Альгис: Мы приехали перед шестидневной войной. Но в этот дом вселились уже после 73-го.
Рабби: А вы, я вижу, меряете время промежутками между войн. Похоже, что ваш гиюр подходит к концу.
Альгис: Вы о чем?
Рабби: Прощайте. Пусть это будет еще одной загадкой.
-– Конец интермедии –
Альгис: Вот так Альгис и Рувен стали жить вместе.
Натан: Не верю я в эту идиллию.
Альгис: И правильно делаешь. Я сказал "вместе" а не "дружно". Еврей и палач. Лед и пламень. Фалафель и гeфилтефиш. Мы ссорились и мирились и снова ссорились. Пару раз дело чуть не дошло до развода.
Натан: Перестань паясничать!
Альгис: Верно, перед смертью не нашутишься. Но, как ты уже наверное знаешь, в любой шутке есть доля шутки. А все остальное – истина, или что-то близкое к ней.
Натан: Суд учтет смягчающие обстоятельства.
Альгис: Может суду надо удалиться на совещание?
Натан: (сварливо) У меня что, понос?
Альгис: (с напряжением в голосе) Так каким же будет приговор?
Натан: Он будет. Пока что у меня есть проект приговора. Итак! Мы заслушали чистосердечное признание подсудимого. Подсудимый несомненно виновен в тягчайших преступлениях против человечества. Более того, он виновен в преступлении против самого себя. И он приговаривается… он приговаривается прожить чужую жизнь. Приговаривается к жизни. Длительность предварительного заключения будет засчитана судом.
Альгис: Это…Это очень мягкий приговор. Приговор к жизни.
Натан: Да, очень мягкий. Только того что ты натворил в Понарах хватило бы на десяток смертных казней.
Альгис: Тогда почему?
Натан: (постепенно повышая голос) Почему? Потому что любой суд не объективен. Потому что тебе очень повезло с судьей.... Потому что я сам был приговорен к жизни.
Действие 2-е
Оставив позади и боль и кровь
Свою судьбу и имя невзлюбя
Ты все внезапно начинаешь вновь
Совсем чужую жизнь примерив на себя
Примерка жизни – не простое дело
Тут нужно трепетно – не сгоряча
Чтоб эта жизнь легко легла на тело
Чтоб не висела б и не жала бы в плечах
Не веря что судьба неодолима
И сбросив жизнь свою как чешую
Ты выбрал для себя иное имя
Приняв чужую жизнь как свою
Пусть эта жизнь на сказку непохожа
Тебя в твоем решенье укрепя
Чужая жизнь срослась с тобой как кожа
И стала просто кровью, плотью от тебя
Смотри на эту жизнь не отводя лица
Прими ее как дар как знак благословения
Прожив чужую жизнь до конца
До самого ее последнего мгновенья
Альгис: Чужая жизнь… Слышится как предисловие к какой-то сказке.
Натан: Страшной сказке. Ты знаешь, что Клокке меня отпустил? Не выстрелил ни в лицо ни в затылок?
Альгис: Но почему?
-– Интермедия: Понары 1942. Натан и Энрикас Клокке (кепи вермахта). –
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось направлять пистолет на человека? Происходит странное… Твой люггер становится чем-то большим. И вот это уже волшебный луч, своеобразный рентген, высвечивающий на несуществующей стеклянной пластине все самое сокровенное, что есть в человеке.
Натан: Вы когда-нибудь смотрели в ствол пистолета? В этот миг кажется что все: предметы, чувства, сама жизнь, все это собралось, скукожилось там, на обрезе ствола. Это момент истины, выявляющий самое сокровенное в человеке и не оставляющий места для самообмана.
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось видеть человека глядящего в ствол пистолета? А мне приходилось. И в этот миг они становятся понятны мне, понятны как открытая книга, как знамение. Еще немного и я точно знаю, что с ними сделать. Тех что мне не интересны, я обхожу кругом и стреляю в им затылок. Стреляю быстро – ведь меня ждут другие. Прочие заставляют меня задуматься. Какую судьбу им определить? Ведь я все могу – вариантов много. Могу и отпустить, это тоже может оказаться забавным.
-– Конец интермедии –
Альгис: И Клокке отпустил тебя?
Натан: Да, Клокке меня отпустил. Тогда я не понял почему, но я и не радовался. Больше всего мне не хотелось снова оказаться в этой шеренге, слышать выстрелы и ждать своей очереди. Нет, трусом я не был, правда и героем тоже не был. Меня угнетала эта зависимость, эта неспособность к действию. Во всем я винил свое еврейство – многовековая пассивность поколений. И я мечтал стряхнуть все это с себя, как снимают старую, запревшую, неудобную одежду. Тогда я еще не знал про ни Варшаву, ни про Собибор и ни про Палестину.
Альгис: А если бы знал?
Натан: Не знаю. В 44-м я пошел в Красную Армию, но подвигов не совершал да и не стремился. Тяга к подвигам казалось мне порождением многовековой возни еврейских местечек где каждый мечтает вырваться в широкий мир. А мне хотелось простоты и однозначности. И я просто воевал как все. А незадолго до конца войны рассвет застал меня в окопе где-то в Померании. Внезапный прорыв немцев не оставил из нашей роты почти ничего…
-– Интермедия: Окоп в Померании 1945. Натан и Младший Лейтенант (пилотка) –
(Мл.Лейтенант ранен тяжело и не может встать. Это типичный деревенский полуинтеллигент, учитель. Погоны мл.лейтенанта ему, вероятно, дали из уважения к его учительскому прошлому. Натан ранен, но может двигаться)
Мл.лейтенант: Кто-нибудь! Сюда! Кто-нибудь!
Натан: Товарищ младший лейтенант, Петр Савельич. Это я, Йозефавичус.
Мл.лейтенант: А, Натан. Ты бы фамилию подсократил, а то звать тебя за.. В общем длинная она у тебя… Кто еще остался?
Натан: А никого больше! Только мы с вами.
Мл.лейтенант: Ну мне, положим, недолго осталось. В живот попали, суки. И ведь не болит совсем, я-то знаю что это значит.
Натан: Да бросьте вы, Петр Савельич.
Мл. Лейтенант: Ты вот что… Ты ближе подползи и слушай. А говорить тебе не надо, помолчи. (Натан приближается). Ты того особиста-капитана, что к медсестре подкатывал, помнишь?
(Натан пытается ответить) Молчи. Знаю, что помнишь. Не знаю, что там между вами было, а только вырос у него на тебя немаленький зуб. Ты ведь на оккупированной территории был? Был. Так что он тебе немало крови попортит, а то и совсем погубит. Сволочь он еще та, не сомневайся. (приподнимается)
Натан: Товарищ младший…
Мл. Лейтенант: Знаю что не старший. Не перебивай. Ты там за окопчиком Пашку Вуколова видишь?
Натан: Так от него мало что осталось.
Мл. Лейтенант: Оно может и к лучшему. Прости меня Господи и ты, Паша, прости. Документы пашкины у меня, вот они. Вы с ним лицом схожи, а карточка тут та еще, вот и будешь ты Вуколовым Павлом Семеновичем. Родственников у него нет ближних, а семья вся под Смоленском полегла еще в 41-м, ну а сам Пашка не обидится. Был он хорошим мужиком и ты тоже будь. Рана твоя не опасная, но пару месяцев тебя продержат в госпитале. А там, дай Бог и война кончится. По-русски ты уже почти совсем чисто говоришь, так что все у тебя получится.
Натан: Не смогу я, ведь это чужая жизнь, не моя.
Мл. Лейтенант: А ты Пашку вспомни, вы же дружили вроде, вспомни его и живи. За него, ну и за себя тоже.
-– Конец интермедии –
Натан: И я начал жить пашкиной жизнью. Вспоминал его и старался жить как он бы жил.
Альгис: А Энрикаса ты вспоминал?
Натан: Умеешь же ты по-больному… Все время я его вспоминал. Все время. И понимать я начал, почему он меня отпустил.
Альгис: Ну а что после войны?
Натан: После госпиталя я попал в другую часть и нас еще полтора года держали в Германии. Я все думал о гражданской жизни. Мне не хотелось ничего грандиозного. Поселиться бы в каком-нибудь райцентре, завести семью, растить детей, здороваться каждое утро с участковым милиционером. В общем, нечто прямо противоположное бурной еврейской деятельности… А в начале 47-го меня вызвали в кадры.
-– Интермедия: Потсдам 1947. Натан и Кадровик (фуражка с малиновым околышем) –
Натан: Товарищ подполковник, сержант Вуколов…
Кадровик: Входи, садись. (пауза) Вуколов Павел Семенович?
Натан: Так точно.
Кадровик: Да ты сиди, сиди. А скажи-ка, сержант, что ты собираешься делать после демобилизации.
Натан: Вы же знаете, товарищ подполковник, у меня родных нет. Есть у меня дружок под Ленинградом, в Тихвине. Зовет на заводе работать.
Кадровик: (немного угрожающе) Мирной жизни захотелось?
Натан: Так ведь война же давно кончилась!?
Кадровик: Эта окончилась, верно. Но наши враги не успокоились. Или успокоились?
Натан: Так точно, не успокоились.
Кадровик: А это что значит?
Натан: Не знаю…
Кадровик: А следует знать! Это значит что наша армия остро нуждается в грамотных офицерских кадрах. Именно поэтому тебе, сержант, было оказано высокое доверие. Поедешь в артиллерийское училище.
Натан: Но я…
-– Конец интермедии –
Альгис: Совсем чужая жизнь, да?
Натан: Не совсем… Армейская жизнь, где все по уставу и где все неординарные вопросы кто-нибудь решает за тебя… Не этого ли хотел Натан Йозефавичус? Вот только лейтенант Клокке…
Альгис: А что лейтенант Клокке?
Натан: Да так, ничего…. В какой-то момент я почувствовал, что не волен над своей новой жизнью. Уже не я жил ею, а она жила мной. Особенно ясно я понял это на втором курсе училища…
-– Интермедия: Артиллерийское училище, 1949. Натан и Замполит (фуражка с черным околышем) –
Натан: Курсант Вуколов по вашему приказанию…
Замполит: Садись Вуколов. (пауза) Что-ж это ты?
Натан: (встает) Товарищ…
Замполит: Сиди. Что с тобой, Вуколов? Ты, может быть, политику партии и правительства не одобряешь?
Натан: Да я…
Замполит: Или ты, может быть, с товарищем Сталиным не согласен.
Натан: (выкрикивает) Да согласен я!!
Замполит: Тогда я что-то не пойму. Все твои товарищи подписали… а ты?
Натан: Товарищ замполит, я же про этих безродных космополитов ничего не знаю. Как же не зная подписывать?
Замполит: Чего это ты тут умничаешь? Ты не знаешь, так старшие товарищи знают. Товарищ Сталин, которого Партия поставила над нами, он знает. А ты, значит, не доверяешь… Товарищу Сталину не доверяешь?
Натан: Да что вы!! Конечно доверяю, всецело доверяю.
Замполит: Верю!! Верю!! Это ты просто не подумав ляпнул, по молодости. (полу-угрожающе, полу-вопрошающе) Так ведь?
Натан: (угрюмо) Так точно.
Замполит: Давай, подписывай.
Натан: Можно вопрос?
Замполит: Какой еще вопрос? Что тут непонятного? (неохотно) Ну ладно, валяй свой вопрос..
Натан: Их расстреляют?
Замполит: Кого?
Натан: Ну этих… космополитов
Замполит: А твое какое дело? (пауза) Другому бы не ответил, но ты вроде мужик правильный, фронтовик. Нет, конечно не расстреляют. У нас просто так никого не расстреливают. Ну, может быть накажут как следует пару-тройку. Тех кто совсем непримиримые, как бы остальным для острастки. Ну.. ты подписываешь или нет?
(Натан, поколебавшись, подписывает)
Свободен.
(Натан поднимается)
Стой.
(голос Замполита меняется, становится вкрадчивым) Ты, Вуколов, понял что сейчас подписал?
(Натан поворачивается обратно и смотрит с недоумением) Ты сейчас приговор подписал.
Натан: (тупо) Кому?
Замполит: Им, безродным космополитам, тем кто за русскими псевдонимами скрывает нерусские фамилии. Ты думал, что твоя подпись это так, пустяк? Одной подписью больше, одной меньше какая-мол разница? А ведь, когда прокурор ставит свою подпись под приговором там сверху все(ее) ваши подписи стоят хоть и не заметно это. И твоя там са(aa)мая первая. Так что не получится у тебя остаться в стороне, не выйдет. Все вы повязаны и ты – тоже повязан.
(Натан приближается)
Да не бледней ты так – шуткую я. Ничего твоя подпись не значит и ничего не меняет. (кричит) Винтик ты, винтик с резьбой, в агроменной машине!! (тише) Выпадет тот винтик, а машине-то хоть бы хны – прет себе и прет и нет ей дела!
Натан: (угрюмо) Это вы сейчас про кого?
Замполит: (долго молчит) Иди-ка ты отсюда Паша и забудь и про наш разговор и про эту блядскую бумагу. Будешь болтать – только себе навредишь. Понял?
Натан: Не буду, незачем мне болтать. Забуду я все. К утру как раз и забуду.
-– Конец интермедии –
Натан: Но я не забыл. Позже, много позже, я узнал, что из тех, кто проходил как "безродный космополит" арестовали немногих. Большинство отделалось запретами на профессию и судами чести. Но мне до сих мнится один большой приговор, приговор всем, всем кого я знаю и кого я не знаю. Под приговором множество подписей, но всегда самая первая – моя. Не знаю, может было бы честнее стрелять в затылок?
Альгис: А ты спроси Альгиса. А еще ты это учителю Лошоконису расскажи. Думаю, он предпочел бы запрет на профессию. Хотя, не знаю.
Натан: Вот именно. Мы оба его слишком хорошо знали. (молчат)
Ну а потом я окончил училище и стал кадровым офицером Советской Армии.
Альгис: Надеюсь, хоть в оккупированной Литве ты не служил.
Натан: Нет, там я не служил, зато служил во многих других местах. А в 67-м наш ракетный дивизион послали в Египет. Так что про эсминец "Эйлат" я знаю очень хорошо.
(Альгис приподнимается)
-– Интермедия: Порт-Саид, Рубка на ракетном катере. 1967. Натан и Египтянин. (темно-зеленый берет с египетским орлом). –
Натан: Есть координаты цели.... Есть дальность. "Клен" готов.
Египтянин: (возможно, с легким акцентом) Все, ждем команды. Можно пока отдохнуть.
Натан: Вы хорошо говорите по-русски.
Египтянин: Семь лет в Москве.
Натан: Понятно. А во флоте давно?
Египтянин: Совсем недавно я был таким-же сухопутным как и ты. Призвали перед войной. Перед июньской войной. Евреи называют ее шестидневной.
Натан: Вы не любите евреев?
Египтянин: Я ими восхищаюсь… Видишь-ли, я не из тех самодовольных дураков, которые захлебываясь хвастаются как героически они драпали до 101-го километра, бросив всю технику. И я не кричу на площадях аль маут л’ил’яхуд. Ах, прости, забыл что ты не понимаешь по арабски.
Натан: Да нет, я, кажется, понял. Но сейчас-то вы готовы потопить десятки евреев на этом их корабле. .
Египтянин: А что ты хотел? Это моя страна, а там их эсминец… Впрочем, я могу предоставить тебе право надавить на клавишу. Хочешь? Вижу что хочешь. Подойди сюда. Ближе, ближе, она не кусается. По команде будешь нажимать здесь. А теперь будем ждать.
Натан: Чего ждать?
Египтянин: Приказа, чего же еще.
(молчат)
Так много в этой жизни не понять
Как надо поступать поймешь не сразу
Тебя учили тупо выполнять
Приказы, приказы
Ты долго рассуждать не расположен
Расстаньтесь с жизнью подлые заразы!
Послушен выползает меч из ножен
Приказу, приказу
Пройдут часы, века или года
Течет поток времен не видим глазу
И вновь уже летят по проводам
Приказы, приказы
Не важно танки, пушки иль пехота
Сухим фальцетом вылетают фразы
Опять тебе выкрикивает кто-то
Приказы, приказы
Но так противоречие не снять
Что тут важнее чувства или разум?
Не все на свете сможешь оправдать
Приказом, приказом
Быть лучше жертвой или убивать?
Пусты однообразные рассказы
Ведь самому придется отдавать
Приказы, приказы
С велением сердца трудно совладать
Оно не примет подлого отказа
Но ты привычно продолжаешь ждать
Приказа, приказа
Египтянин: Все, приказ получен. Мостик чист. Внимание…пуск. (Натан колеблется) Ну. что же ты? Давай, жми.
Натан: (нажимает на клавишу) Есть выстрел… "Термит” пошел… автопилот… в норме… телеметрия… в норме.
Египтянин: Ялла, Ялла.... Сейчас!!
Натан: Захват цели.
Египтянин: Все, мы нашу работу сделали. Можно оправиться и закурить.
Натан: Я не курю.
Египтянин: Тогда просто жди.
-– Конец интермедии –
Альгис: (с напряжением в голосе) Так это ты потопил "Эйлат"?!
Натан: Нет, меня там не было. Когда я узнал про Египет, то пошел к гарнизонному врачу, Левке Гринбергу, и все ему рассказал. Бутылка коньяка завершила дело, хотя, похоже, Левка мне не поверил. Но он мне честно диагностировал почечные колики и в Египет ребята поехали без меня. А "Эйлат" потопил расчет Витьки Кондакова. Мы были с ним друзьями, а вот после "Эйлата" наша дружба куда-то делась и совсем не по его вине. Хотя он не смаковал и не хвастался. Спокойно и деловито он рассказывал как вводил координаты, как отслеживал захват цели. Рассказ его был методичен и профессионален, а мне все время хотелось заехать ему в морду, хотя он ни в чем не был виноват.
Альгис: Тоже раздвоение личности в своем роде.
Натан: Наверное. Мне потом долго снилось как будто это я ввожу координаты и фиксирую захват цели, а интеллигентный египетский офицер спокойно отдает приказы, причем по-русски.
Альгис: Чужая жизнь. Ее надеваешь как пиджак, как перчатку. А она прирастает к тебе как кожа и не сбросить. Так что-же все таки с лейтенантом Клокке?
Натан: Клокке…Теперь я понимаю, что он увидел там в Понарах глядя мне в лицо. Наверное он увидел там Пашку Вуколова. И ему показалось забавным избавиться от Натана Йозефавичуса таким необычным способом.
Альгис: Дал маху наш Энрикас. Никуда твой Натан не делся.
Натан: Ты думаешь? Кроме Левки Гринберга, свою историю я рассказал обеим своим женам. Первая не поверила, да и Бог с ней. А вторая только засмеялась и сказала: ну какой же из тебя еврей, даже если ты им и был когда-то. Но это было давно. А теперь мы с ней иногда пытаемся говорить на идиш, Она знает-то с десяток слов, да и я многое позабыл.
Альгис: יהודי, דבר עברית
Натан: Тебе виднее, ты у нас тут главный еврей. Кстати, как у тебя с обрезанием?
Альгис: (пародирует местечковый акцент) Ви-таки будите смеяться. (нормальным голосом) Я это сделал еще в Ленинграде перед тем как … ну ты понимаешь… Фирочка. Пошел я в мечеть на Горьковской и наплел там сам не помню что. Потом болел неделю.
Натан: Вот повеселился бы Рувен. Настоящий Рувен.
Альгис: А ты знаешь, как умер Рувен? Настоящий Рувен?
Натан: Его застрелил Энрикас. Я стоял в другом конце шеренги и не мог видеть, но я слышал. Ты говорил, что Энрикас выстрелил ему в лицо? Не в затылок, а именно в лицо?
Альгис: Именно так. И тогда я в первый раз увидел как лейтенант Клокке растерялся. А ты знаешь как умер Энрикас Клокке?
-– Интермедия (смерть
Энрикаса Клокке ):
Понары 1941. Альгис (Рувен)
и Энрикас Клокке (кепи вермахта) потом Парагвай 1947. Альгис (Рувен) и Энрикас Клокке (панама). –
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось направлять пистолет на человека? Происходит странное… Оружие становится продолжением твоей руки. Более того…Сама твоя рука становится оружием, десницей Бога, мечом архангела. Изумительное ощущение!
Рувен: Вы когда-нибудь смотрели в ствол пистолета? В этот миг кажется что все: предметы, чувства, сама жизнь, все это собралось, скукожилось там, на обрезе ствола. И трудно оторвать взгляд…Трудно, но надо.
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось видеть человека глядящего в ствол пистолета? Он смотрит туда заворожено как кролик на удава, как англичанин на овсянку. Все они становятся одинаковыми в этот момент. Я, а вернее – мой люгер – великий интернационалист. Под его немигающим взглядом Файенсоны становятся Лошоконисами, а Лошоконисы – Файенсонами. С не меньшим восторгом я убивал бы Вайткусов, Сидоровых, Геббельсов или Смитов. Но приходится довольствоваться тем, что есть. А потом я обхожу их и стреляю им в затылок.
Рувен: Мне следовало бы закрыть глаза или отвести взгляд, смотреть на облака, вдаль, в никуда…
Энрикас: Потом они с трудом отводят взгляд, закрывают глаза или смотрят в небо, в сторону.
Рувен: Но я посмотрел на тебя. Не знаю почему.
Энрикас: Но ты посмотрел на меня. Это было необычно и немного меня насторожило.
Рувен: Мне хотелось выкрикнуть какие-нибудь грозные обличающие слова
Энрикас: Я ждал обличающих слов.
Рувен: Но у меня не было таких слов. ..Мне, наверное, следовало броситься на тебя и задушить голыми руками.
Энрикас: Я ждал , что ты бросишься на меня. Больной, голодный человек против тренированного бойца.
Рувен: Но это было бы смешно – а я не хотел быть смешным..
Энрикас: Мне стало немного не по себе. Ведь я думал что знаю этих евреев, а тут…
Рувен: Тут я улыбнулся. Улыбка получилась немного смущенной, ведь я просто не знал что делать.
Энрикас: A я растерялся. Нет, конечно же я этого не показал. Мне следовало выстрелить ему в затылок и покончить с этим делом. Но тогда пришлось бы обходить его, eго тело, эту его смущенную улыбку, которая почему-то казалась мне улыбкой превосходства и которую, я почему-то был в этом уверен, я видел бы даже глядя Рувену в затылок. Почему? Не знаю. И я выстрелил ему в лицо. Слишком поспешно выстрелил наверное – это я понял по лицам литовцев.
Рувен: О, да! Они это видели, они все это видели. .
Энрикас: Все годы войны я старался забыть Рувена, его улыбку и свою растерянность. Пока наши войска были на берегах Волги, мне это почти удавалось, но по мере того как фронт приближался к Вильнюсу все чаще ко мне начал приходить Рувен.
Рувен: Я улыбался немного смущенно, ведь я не знал как поступить.
Энрикас: Он приходил по ночам и я не мог заснуть. Ох, эти ночи без сна.
Рувен: Но я ведь только улыбался и больше ничего.
Энрикас: А весной 45-го я побежал. Мы все побежали. Это не сразу было заметно… Эффектные мужчины, с пронзительным блеском серых глаз и гордой выправкой, которую правда портило отсутствие формы… Казалось мы идем куда-то с величием, или по-крайней мере, с достоинством.
Рувен: Но они бежали, сами не замечая этого.
Энрикас: (снимает кепи и надевает панаму) И мы побежали на юг, туда, где смуглые средиземноморские люди, с трудом понимающие по немецки, смотрели на нас со смесью страха и ненависти. Но и там…
Рувен: Да, и там я улыбался тебе каждую ночь. А что еще я мог сделать?
Энрикас: И сна не было…Ржавый трюм корабля продолжил мой бег через соленый океан и привел меня в город огромных портальных кранов и людей не понимающих ни по-немецки, ни по-литовски. Эти люди смотрели на меня без страха и ненависти, лишь презрение я видел в их глазах. А Рувен…
Рувен: Я всего-лишь улыбался.
Энрикас: Тогда я снова побежал. Нас было несколько. Пронзительный блеск в наших глазах успел потускнеть и гражданская одежда уже изрядно попортила гордую выправку. В закрытом фургоне нас повезли на Север, к великим водопадам Игуасу.
Рувен: Но водопадов ты не увидел. В другом фургоне они пересекли границу.
Энрикас: Этот фургон провез нас через древний Асунсьон
Рувен: Но ты не увидел и его.
Энрикас: ..и наконец мы оказались в поселке, затерянном глубоко в джунглях, где молчаливые индейцы растили чудесную траву.
Рувен: Ох уж эта трава !
Энрикас: Она позволяла так хорошо забыться, что Рувен уже не приходил.
Рувен: Вообще-то я приходил, но он меня не видел…ничего он больше не видел.
Энрикас: Потом люди узнали…Они избили меня а затем объяснили что эта трава не для высшей расы…потом опять избили. А ночью пришел Рувен. Он улыбался.
Рувен: Я всегда улыбаюсь, ну что я еще могу?
Энрикас: Как это было невыносимо…Длинные, унылые, парагвайские ночи без сна.
Рувен: Я понимаю.
Энрикас: Долго…слишком долго. Но наконец все закончилось.
Рувен: А вот теперь я не понимаю.
Энрикас: Очередной ночью пришел Рувен и воткнул мне в сердце раскаленную иглу.
Рувен: Нет, нет – это был не я!
Энрикас: Как это было больно! Но боль быстро прошла и я понял что теперь я наконец-то сумею заснуть. А Рувен…
Рувен: Я улыбнулся ему напоследок.
-– Конец интермедии –
Альгис: Вроде бы все так повернулось, что я тоже судил тебя и тоже приговорил к жизни. Но вряд ли я имею право…
Натан: (неуверенно) Нет, не имеешь.
Альгис: (приподнимается) Послушай Натан! Да, я прожил чужую жизнь. Я сам себя приговорил к ней. Сам себе прокурор и сам себе судья. Я присудил себе пожизненное, без права на апелляцию. И я отмотал свой срок от звонка и до звонка. Правда ведь что я не ссучился и не предал, правда?
Натан: Чего ты ждешь от меня? Прощения? Да, Альгис, твоя жизнь впечатляет, почти-что умиляет. И я верю что ты искренен. И Габи с Фирочкой свидетельствуют в твою пользу. Возможно, я говорю – возможно – я готов тебе многое простить, как и учитель Лошоконис, как Рувен, как остальные. Простить, но не забыть, конечно. Впрочем, тебе ведь не наше прощение нужно.
Альгис: А чье прощение мне нужно?
Натан: Знаешь Альгис, возможно Павел Вуколов и тупой солдафон, но Натан Иозефавичус о(оо)х как непрост. А может наоборот: Натан всего лишь примитивный местечковый еврей, зато Павел – мудрый русский мужик. В общем, один из нас ясно видит, что скрывается за твоими шуточками и показным цинизмом. Отсюда и еврейская грусть в твоих литовских глазах.
Альгис: Старый ты проницательный хрен. Да, пусть бы даже все простили, но остается еще один. …
Натан: Самый непримиримый и самый требовательный…
Альгис: Да, Альгис Вайткус… Он не простит никогда. Не простит себе самому. С этим мне придется смириться и с этим я уйду.
(долгая пауза)
Натан: Теперь, через много лет, я понял как прав был учитель Лошоконис посадив нас за одну парту.
Альгис: Да…Учитель Лошоконис.
Натан: Что-ж, ты отмотал свой срок. А я? Я ведь тоже прожил чужую жизнь.
Альгис: Ты убивал детей? Ты стрелял людям в затылок? Ты потопил "Эйлат"?
Натан: Нет, но разве этого достаточно?
Альгис: По крайней мере – не так уж плохо. А если чужая жизнь стала твоей, так прими ее как свою. Не так-ли, Павлик?
Натан: Может и так, но не проси называть тебя Рувеном.
Альгис: Не попрошу. Но я очень, очень хочу попросить тебя о другом…Ты знаешь, всевышний не обделил меня в моей новой жизни. Быть отцом девочек это просто замечательно. И они родили мне внуков, но внуки еще маленькие, а сыновей у меня нет. (приподнимается) Ты понимаешь?
Натан: (неуверенно) Не совсем.
Альгис: Натан, скажи…ты прочтешь по мне Кадиш?
Натан: Нет…Что-ты… нет, Рувен, нет ?! (последнее слово звучит неуверенно)
-–
Как на подмостках лицедеям
Нам жизнь предлагает роль
Героем быть или злодеем
Гуманным быть иль лиходеем
Судимым быть или судьей
И не отдав отчет себе
Не успевая удивится
Уже прикован ты к судьбе
Навек прикован ты к судьбе
Как пленник строгово вердикта
Что-ж, приговор не отменить
Освобождение не скоро
Ты снова начинаешь жить
Ты просто продолжаешь жить
Во исполненье приговора
Не вечен заточенья срок
Отбыты годы заключения
И вот оставив свой острог
Навек покинув свой острог
Ты празднуешь освобожденье
И добряков и сволочей
Помянешь ты на этой тризне
Всех судей, жертв и палачей
Всех судей, жертв и палачей
Приговоренных к этой жизни
Приговоренные к жизни
(новая версия)
Действующие лица:
Альгис Вайткус (Рувен Файенсон)
Натан Йозефавичус (Павел Вуколов)
Молодой Альгис
Молодой Натан
Антагонист: Энрикас, Сашка, Гади, Раввин, Замполит, Хамид, учитель Лошоконис (?)
Антагонистка: Хуторянка, Медсестра
Фирочка
Ведущая
Действие 1-е
Больница
Два матраса изображают койки в больничной палате. Кресло (для Натана). Альгис лежит на одном матрасе.
Альгис: Вы знаете, ко всему можно привыкнуть: и к пальмам вместо берез и к хамсину по субботам вместо дождичка в четверг. Вот только к отсутствию снега я никак не смог привыкнуть за 30 лет. Раньше мы садились в машину и неслись на Хермон каждый раз как по радио обещали снег. Неслись, или точнее, пробирались сквозь пробки. Но это было раньше… Однажды, то-ли в 92-м то-ли в 93-м снег лежал на Голанах целых два дня…
поет:
Альгис:
Снег упал на базальтовый склон
…поседели дома
Я в недолгий мороз влюблен
..на Голанах – зима
Запорошенный шрам скалы
…снег не падает вниз
Лишь пятнают его следы
…обезумевших лис
Ночь разбрызгала белый свет
…на унылом плато
И звезда покивает вслед
…если что-то не то
Голубые сугробов горбы
…сторожат вдоль дорог
И таинственный свет луны
…необычен и строг
Но недолгий зимы покой
…не продлится и дня
Полдень выплавит солнца зной
…обнажится земля
И последний снежок зимы
…унесется один
Посылая глоток воды
…ожиданию равнин
Я безмoлвно печаль несу
…эта ноша легка
Снег упал на мою судьбу
..и не стаял…пока
Прожектор освещает Натана. Он только что вошел.
Натан: Не помешаю?
Альгис: Мир входящему.
Натан: Мне сказали что вы сами хотели соседа. А то неудобно как-то. Была отдельная палата, а теперь....
Альгис: Все верно. Видите-ли – как-то неуютно умирать в одиночестве.
Натан: Ну что вы так. Выглядите вы совсем неплохо.
Альгис: Я тоже так думаю. Но у моих почек, знаете-ли, сложилось свое мнение. Впрочем, против трех-четырех месяцев они не возражают.
Натан: (
растеряно) Извините.
Альгис: За что? Это вы извините, что так ошарашил. И, если не хотите соседствовать с умирающим, то я вас пойму и не обижусь.
Натан: Я вообще-то бывший военный, кое-где бывал и кое-что там видел. У вас-то, по крайней мере, руки-ноги на месте, простите за цинизм.
Альгис: Ой, да бросьте вы извиняться! Я хоть в армии и не служил, зато за 30 лет в стране тоже кое-что повидал.
Натан: Ну тогда позвольте представиться – Павел Семенович Вуколов.
Альгис: Очень приятно. Имя вроде не совсем еврейское.
Натан: Вообще-то я еврей по жене.
Альгис: Nobody is perfect.
Натан: Что, позвольте?
Альгис: Да так, ничего…А здесь вы по какому поводу? Тоже последняя остановка?
Натан: Нет, мне вроде-бы приговор отменили. Теперь жду результатов анализов. (
осторожно) Вот вы сказали "последняя остановка"?
Альгис: Еврейский юмор, знаете-ли.
Натан: Знаю, как не знать. Смех сквозь слезы. Только это и спасало нас в гетто.
Альгис: В гетто? В каком гетто?
Натан: В вильнюсском гетто…Про Понары слышали?
Альгис: (
отворачивается, глухо) Кто-же не слышал.
Натан: (
не замечая) Ну не скажите… Многие не слышали, а иным – все равно.
Альгис: (
снова поворачиваясь) Тут иных нет. Но я не совсем понимаю. Вуколов Павел…Семенович? И вильнюсское гетто, (
неуверенно) Понары. Как-то не очень…
Натан: Долгая история. Я ведь не всегда был Вуколовым.
Альгис: Я бы послушал долгую историю.
Натан: Это не так уж интересно, да и мне не не слишком приятно.
Быть жертвой – не самая приятная роль. Что может быть хуже?
Альгис: Наверное – быть палачом.
Натан: Ну это уже где-то за гранью, такое мне трудно себе представить…
Альгис: А вы пробовали?
Натан: Пробовал что?
Альгис: Представить себе то что чувствует палач.
Натан: Ничего он не чувствует. Откуда у него чувства? (
Альгис пристально смотрит на него, Натан смущается) Ну нет, он конечно что-то такое…
Альгис: А что ощущал тот который повесил Эйхмана?
Натан: Это не одно и то же. Эйхмана следовало повесить.
Альгис: И исполнитель приговора искренне верил в это. А если те что стреляли в Понарах, тоже искренне верили, верили в какую-нибудь нелепую чушь. Во что только люди не верят по глупости…и по молодости.
Натан: (
сердится) Так ведь можно все что угодно оправдать.
Альгис: Нет! Оправдать нельзя…неможно (
при этом слове Натан пристально смотрит на него, Альгис поправляется нарочито четко). Невозможно! Разве что, пожалуй, можно попробовать понять. Но и это не обязательно.
Натан: Кого понять? Того кто хотел застрелить тебя только за то что ты еврей? Не хочу я его понимать и не буду.
Альгис: А вот если бы вы встретили сегодня на улице одного из тех, кто стоял там, в Понарах, над обрывом? Что бы вы сделали?
Натан: Я?
Альгис: Давайте упростим задачу. Пусть это будет не садист, получающий удовольствие от казни, вроде (
замолкает, не договорив).
Натан: Вроде кого?
Альгис: Да нет, неважно. И пусть это будет не тот, кто подписывал…
Натан: (
испуганно) Что подписывал?
Альгис: Приказы, конечно. Что с вами?
Натан: Нет, ничего. Продолжайте.
Альгис: Пусть это будет один из тех восторженных придурков что по глупости попали в Особый Отряд.
Натан: (
удивленно) А вам ведь действительно не все равно. Мало кто слышал про Особый Отряд. Конечно, мне трудно представить себе такого придурка здесь, в этой стране, но разве что теоретически…
Альгис: Да, именно теоретически.
Натан: Вы конечно ждете чего-нибудь вроде – "Своими руками задушил бы поганца!!". Раньше, много лет назад я бы так и поступил. А теперь все оно перегорело что-ли. Не знаю. Наверное просто вызвал бы полицию и сдал его как можно быстрее чтобы не испачкаться.
Альгис: И вы бы даже не захотели спросить его?
Натан: Спросить? О чем?
Альгис: (
приподнимается) Что-же это мы как не родные, все на вы и на вы. Я за 30 лет как-то отвык выкать. Меня зовут (
драматическая пауза)… Рувен Фаенсон. Тоже из Вильнюса и тоже из гетто,
Немая сцена. Натан пытается осознать сказанное
Натан: (
растерянно) Но ведь вся семья Фаeнсонов… У меня на глазах… Лейтенант Клокке.
Альгис: Все верно. Энрикас Клокке застрелил их…
Натан: (
машинально) Выстрелил в затылок.
Альгис: Да, в затылок. Всем, даже младшим, даже детям… Всем, кроме Рувена. Мне он выстрелил в лицо… А еще там была семья Лошоконисов…
Натан: (
прерывает) Но как же вы?
Альгис: ..ты
Натан: (
машинально) Как же ты?
Альгис: Ты знал Рувена? (
Натан судорожно кивает) Помнишь, как несколько еврейских семей, в слепом порыве ассимиляции, послали своих детей в литовскую гимназию? Там еще были Рувен Фаенсон и Натан Йозефавичус. Так ведь, Натан?
Натан: (
отходит на шаг) Так это ты?
Альгис: Учитель Лошоконис рассадил их среди литовских детей. Натану досталось сидеть…
Натан растерян, дезориентирован.
Натан: Альгис? Ты Альгис? Альгис Вайткус?
Альгис: Я был Альгисом Вайткусом.
Натан: И ты..
Альгис: Да, Альгис расстреливал людей в Понарах. Молодой, неопытный дурак.
Натан: Почему ты говоришь о себе в третьем лице.
Альгис: Не знаю. Мне так удобнее.
Натан: И ты убил Фаенсонов !?
Альгис: Нет, их убил Энрикас Клокке. А Альгис убил Лошоконисов.
Понары 1942.
Молодой Альгис и Энрикас Клокке – кепи вермахта, Альгис комментирует происходящее.
Энрикас: Тебе следует называть меня Генрих а еще лучше – господин лейтенант.
Молодой Альгис: Слушаюсь, господин лейтенант Генрих.
Энрикас: Не юродствуй, а то забуду что мы учились вместе. Ты узнал учителя Лошокониса? Впрочем это я был у него лучшим учеником, а не ты.
Альгис: Лучшим учеником был ты, Натан, но оговорка Энрикаса вполне простительна, ведь он так старался быть лучшим.
Молодой Альгис: Что он здесь делает? Да еще с женой и внуками?
Энрикас: Уже ничего. Он уже все сделал когда укрывал евреев. А теперь делать будешь ты. Помнишь, что следует делать с укрывателями?
Молодой Альгис: (без эмоций) Помню, господин лейтенант. Всех?
Энрикас: Да, всех.
Молодой Альгис: И детей?
Энрикас: И детей тоже. А ты что думал?
Альгис: Действительно, о чем же думал Альгис? Он уж точно не думал, что придется убивать своего учителя. И он не думал, что там будут дети. Похоже, он вообще не слишком думал.
Энрикас: А Рувена помнишь? Рувена Фаенсона. Именно его семью прятали Лошоконисы. Впрочем, Фаенсоны – это уже моя забота. А твоя – Лошоконисы.
Молодой Альгис: (
выходит на авансцену) Вы когда-нибудь стреляли человеку в затылок? Они всегда падают вперед, так что при известной ловкости можно не запачкаться. Лишь бы ошметки мозга не брызнули во все стороны. Но и это легко отмывается.
Молодой Альгис возвращается и производит действия, описываемые Альгисом.
Альгис: Госпожа Лошокойне стояла в начале строя, но Альгис первым убил старого учителя. Почему? Не знаю. В его так хорошо знакомую лысину трудно было не попасть. Потом пришел черед его жены. У нее были распущены волосы и Альгис увидел, что она давно не красилась, волосы были уже наполовину седые. Война, подумал Альгис, где сейчас достать басму. У Лошокойне была целая грива полуседых волос и Альгис боялся, что пуля пройдет через них минуя голову. Но он напрасно боялся – пуля вошла куда надо.
А следующим был ребенок. Внук. Альгис видел его перед войной но не помнил его имени. Юргис, что ли? Да нет, вряд-ли. Откуда у учительского внука деревенское имя. Но этот белобрысый затылок он определенно видел. Нужно было выстрелить. А потом сделать два шага в сторону и убить девочку, внучку. Но Альгис не выстрелил.
Больница
Натан: (
издевательски) Ясное дело, ты застрелил Клокке, перебил охрану и вывел всех в лес.
Альгис: (
не обращая внимания) Альгис бросил пистолет…
Натан: (
издевательски) Да, и заплакал горькими слезами раскаяния.
Альгис: .. Он сел и сидел тупо смотря перед собой пока Энрикас не сбил его на землю, ударил несколько раз сапогом…
Натан: (
все так же) Ах ты бедняжка. Что, больно было?
Альгис: Потом Энрикас поставил Альгиса на ноги и заставил смотреть как он убивает Фаенсонов. Но вначале Энрикас застрелил маленьких Лошоконисов. Он сделал это походя, как будто они были ему не интересны. Ты ведь помнишь Клокке из айнзатцгруппы?
Натан хочет что-то сказать, но останавливается на полуслове.
Альгис: Литовская пылкость органично сочеталась в нем с немецкой добросовестностью. Он ничего не делал просто так, этот Энрикас. Ведь Альгис уже расстреливал людей. Но то была расстрельная команда, где каждому хочется думать что это не его пуля…
Натан: И ты, конечно, всегда стрелял в воздух.
Альгис: Нет Альгис не стрелял в воздух. И все же так было легче. А тут Энрикас дал ему свой пистолет и приказал стрелять в затылок. Он сам так делал, ты наверное знаешь.
Натан: (
неопределенно) Знаю.
Альгис: И только Рувену он выстрелил в лицо. Но зачем ему нужен был Альгис? Зачем он так поступил? Зачем дал Альгису свой люгер. Что ему нужно было?
Натан: Почему ты все время говоришь о себе в третьем лице?
Альгис: Мне так удобнее.
Натан: Не поможет! Это ты, Альгис Вайткус, стрелял в евреев в Понарах. И это ты убил Лошоконисов.
Альгис: (
неуверенно) Да, это был (
пауза) я.
Натан: Ты! И тебя будут судить. Ты будешь сидеть за решеткой, а люди будут показывать на тебя пальцем как на животное.
Альгис: (
весело) Заманчивая картина. Но, боюсь, ничего не выйдет. Вначале, наверное, будет следствие, долгое и основательное. Будут искать свидетелей, документы. У нас это умеют, ты же знаешь. Или не знаешь? Неважно. Я, конечно, во всем признаюсь, как признался тебе, но и это не намного ускорит процесс, который займет месяцы, если не годы. Потом Литва потребует экстрадиции, потом наш верховный суд эту просьбу рассмотрит. А мною уже давно будут лакомиться черви. Моя левая почка позаботится об этом, а правая ей с радостью поможет.
Натан: Значит тебе снова удастся сбежать? Как в 44-м?
Альгис: Не знаю. Может (
нерешительно) Может быть ты возьмешься судить меня? А что? Будешь дознавателем, прокурором и судьей. А если хочешь, то и исполнителем приговора. Мы что-нибудь для этого придумаем. У нас, евреев, всегда найдется неординарное решение.
Натан: (
вскакивает, он еще не осознал предложение Альгиса) Да какой ты еврей?!
Альгис: (
ехидно) Как скажете, Павел Степанович.
Натан: (
падает обратно в кресло) Судить?
Альгис: А что? Свидетельские показания не понадобятся ввиду чистосердечного… Ну ты же понимаешь…Взвесишь все за и против.
Натан: Какие еще "за"?
Альгис: Ты судья, тебе виднее.
Натан: Похоже ты хочешь исповедоваться. Но я тебе не ксендз.
Альгис: Да и я с 41-го не ходил к причастию. Последние годы я все больше в синагогу (
Натана хочет что-то сказать, но сдерживается). У нас, евреев
(Натан с большим трудом сдерживается), ведь нет отпущения грехов. Но высший суд есть и у нас. Правда сегодня не Йом Кипур. Так что вся надежда на тебя.
Натан: Надежда!? На меня! Да тебя надо немедленно сдать … в полицию, в зоопарк, в кунсткамеру, не знаю куда! Не понимаю, зачем я вообще тебя слушаю.
Альгис: Зато я понимаю. Тебе очень хочется узнать как из убийцы евреев Альгис сам стал евреем, израильтянином и сионистом… Стал Рувеном.
Натан: Ты не Рувен, никогда им не был и никогда не будешь!! (
пауза) Но если откровенно, то я действительно хотел бы понять.
Альгис: И я тоже. Я ведь тоже не совсем понимаю… Предлагаю заслушать подсудимого.
Натан: (
с трудом выдавливая слова) Ну ладно, выкладывай свое чистосердечное.
Альгис: После расстрела Фаенсонов и Лошоконисов Альгис не стал дожидаться решения лейтенанта Клокке и дал деру в лес благо с лесами в Литве все было благополучно. Был уже конец 42-го и Альгису оставалось продержаться меньше года. Он, впрочем, этого не знал. Долго рассказывать про этот год, да и не интересно. А интересно то что осенью 43-го Альгис оказался на маленьком хуторе недалеко от Игналина.
Хуторпод Игналина 1943.
Молодой Альгис и Хуторянка – платок завязан сзади, передник, платье
Хуторянка: Ешь парень, ешь. Картошка хорошо уродилась, а скоро зима – все равно померзнет. Переночуешь в сарае на сеновалe. Только не вздумай тут руки распускать. Не смотри, что мужика в доме нет, мои собачки тут за хозяина будут (г
лухое ворчание большой собаки). Вот кожушок возьми, чтоб не замерзнуть. А утром уходи… Еще затемно уходи, а не то собак спущу. Мне ни с теми. ни с этими ссориться не с руки. И кожушок вернуть не забудь, смотри у меня.
Молодой Альгис: А ты, как я посмотрю, неплохо устроилась. И тем и этим… Или не тем и не этим. Один хрен. Только не надейся, что тебя оставят в покое. А твой нейтралитет вряд ли кого убедит.
Хуторянка: Ты брось тут ученые слова говорить…Нейтралитет…Ишь ты. Будто я сама не понимаю. Но я-то свою судьбу давно уже выбрала… И не изменишь ничего (
наклоняется, громким шёпотом) А ты еще можешь!
Молодой Альгис: (
кричит) Что я могу? Что?
Хуторянка: Я тут порылась в твоей сумке. (
Альгис вскидывается, рычит собака) Да ты не вскидывайся на меня и за пистоль свой не хватайся. Мои собачки побыстрее пули будут. Так что не надо… И спасибо еще скажешь за добрый совет. У тебя там документ какого-то жидка, Рувена вроде. И карточка на нем. Так этот жидок сильно на тебя похож. А ты на него. Вот ты и стань им, этим Рувеном.
Молодой Альгис: Это как же? Скрываться под чужим именем. Так ведь разоблачат и все припомнят. Еще и поглумятся.
Хуторянка: Вот ты вроде грамотный, небось гимназию закончил, а простых вещей не понимаешь. Как раз если будешь скрываться, то найдут, непременно найдут и непременно поглумятся…
Молодой Альгис: Я что-то не совсем…
Хуторянка: А вот если станешь им, этим Ру…Рувеном. Наденешь его жизнь как тот кожушок. Начнешь думать как он, есть как он и спать как он, то может и не найдут. А может и найдут. Вот, к примеру, если родственники какие…
Молодой Альгис: Нету родственников.
Хуторянка: Ну, тебе парень виднее. Больше нам с тобой говорить не о чем, но ты все-ж подумай. Хорошо подумай.
Больница
Альгис: Альгис смотрел на карточку и думал – действительно похож. Неужели бабушка согрешила с евреем? И Альгис…Ну то есть я…Я хорошо подумал и стал Рувеном.
Натан: Шма Исроел! Так таки взял да и стал?
Альгис: Нет, не сразу. Нас, узников гетто (
Натан пытается сказать что-то, но только машет рукой) не очень то трясли в СМЕРШе и я легко попал в Ленинград. Там трудно было кого-то удивить ассимилированным евреем, говорящим по-русски с сильным акцентом, но и на жаргоне знающем лишь пару слов. Я поступил в Электротехнический и вскоре получил диплом инженера. Ты же помнишь как легко давалась мне физика?
Натан: Да, учитель Лошоконис гордился бы тобой.
Альгис: Пожалуйста, не надо…Как-то летом 50-го, когда Альгис был еще весьма жив, а Рувен еще почти совсем мертв, мой однокурсник Сашка Шварцман затащил меня в синагогу на Лермонтовском. Молиться Сашка не собирался…
Синагога в Ленинграде 1950
Молодой Альгис и Сашка Шварцман – кепка
Сашка: Взгляни-ка наверх. Ты только посмотри, какой восхитительный курятник. Есть тут славные еврейские курочки на любой вкус. Вот эта длинноногая в очках – она для романтических прогулок под луной. Вон та, растрепанная – для нескучного времяпровождения вдвоем, А вон та, лупоглазая – для создания прочной советско-еврейской семейной ячейки. Прейскурант обширный, в основном, конечно, брюнетки, но и блондинки попадаются.
Молодой Альгис: Ты что, с ними всеми знаком?
Сашка: Ну нет, конечно! Но без проблем познакомлюсь. И тебя познакомлю.
Молодой Альгис: (
со смехом) Тебе, конечно, рыженькую подавай. Знаю я твою слабость. А вот, кстати и кандидатка… Вон та, в уголке. Только странно.. Такая жара, а она – в кофте с длинным рукавом.
Появляется Фирочка. В синагоге СПБ женщины стояли под колоннадой второго этажа – тут требуется какое-то возвышение)
Сашка: (
становится очень серьезным) Вот ее-то я как раз знаю. Она, наверное, единственная, кто приходит сюда помолиться. И она всегда надевает с длинным рукавом. Знаешь почему?
Молодой Альгис: (
тоже становится серьезным) Почему?
Сашка: …Говорят, что они поженились за полгода до войны. Так что рожала она уже под немцами у мамы в Гомеле. Ее вместе с ребенком, мальчиком, отправили в Освенцим. А на руке у нее лагерный номер – татуировка, поэтому и рукава.
Молодой Альгис: А дальше?
Сашка: (
неохотно) А что дальше? Ребенок умер в лагере, а ее освободили наши. Ну а тут, в Ленинградской квартире ее уже ждала похоронка. (пауза) Так что как бы я не любил рыженьких, это не для меня. У меня на это совести не хватит… И так у меня ее немного. (
превращается в прежнего Сашку) Тем более, что товар в ассортименте.
Альгис: У Альгиса, похоже, с совестью проблем не было.
Молодой Альгис: Ты правда с любой можешь познакомить?
Альгис: Напрасно Альгис сомневался…
Молодой Альгис и Фирочка идут по Ленинграду. Сменяются кадры на заднем плане.
Фирочка: Вы все время молчите.
Молодой Альгис: И вы тоже. Даже ни разу не улыбнулись.
Фирочка: Я думаю.
Молодой Альгис: О чем?
Фирочка: Разве нам с вами не о чем думать? Вы ведь тоже многое прошли… Гетто… Смерть… Вашему другу этого не понять, он всего лишь умирал от голода в блокаду. Это же так легко, умирать. А когда… Когда остается пустота.
Фирочка поворачивается к нему.
Фирочка: Пожалуйста… сделайте мне ребенка.
Альгис: (
Натану) Что смотришь? Именно так она и сказала.
Фирочка: Не надо на меня так смотреть, не надо! Пусть это будет девочка. Обязательно девочка! Ведь мальчиков убивают на войне! А потом уходите, мне больше ничего от вас не надо! Ничего!
Больница
Альгис: Вот так Альгис стал женатым человеком.
Натан: Это ты что, так грехи замаливал? Сначала убить сотню-другую евреев, а потом одну еврейку осчастливить?
Альгис: Ты кого спрашиваешь? Если Альгиса, то он, похоже, просто прикинул, что так ему еще лучше удастся натурализоваться. Так это вроде называется?
Натан: Альгиса, кого же еще? Потом ты ее бросил, верно?
Молодой Альгис подходит к Фирочке, она отступает. Он закатывает ей рукав на левой руке.
Фирочка: Зачем вы? Не надо. Ну пожалуйста… (пауза, тише) Не надо.
Молодой Альгис: Сто…
Альгис: … Сорок…
Молодой Альгис: … Один
Альгис: … Семьсот
Молодой Альгис: … Пятьдесят
Альгис: … Два
Молодой Альгис целует ей руку.
Альгис: Это был Фирочкин номер. Через несколько лет она его уже не скрывала.
Фирочка: Этого не надо стыдиться, это надо нести гордо. Не помню кто так сказал. Может и я, когда родилась наша старшая, а может и он, когда целовал мне руки.
Альгис: Нет, я ее не бросил. Это она меня оставила…Два года назад. Я на надгробии попросил выбить этот ее номер. Сделали, хотя никто так и не понял, что это такое. А я и не объяснял.
Натан: И ты ее обманывал все эти годы?
Альгис: Вроде бы так. Только вот, когда она уже лежала в больнице…
Фирочка подходит и ложится на одну из кроватей, приподнимается на локтях.
Фирочка: Я была тебе хорошей женой?
Молодой Альгис судорожно кивает.
Фирочка: (улыбается) Не ври. Но я очень старалась. Правда? Ведь правда же? Можно я теперь уйду?
Молодой Альгис судорожно мотает головой. Фирочка гладит его по щеке.
Фирочка: Тебе придется меня отпустить. Прости меня, и… Прощай, Альгис!
Натан: Альгис?
Альгис: Да, Альгис. Я сразу и внимания не обратил, а потом поздно было. Да и не стал бы я ее расспрашивать. Но как она знала?
Натан: Как, как! Мужчины во сне разговаривают. А женщины внимательно слушают. Но о Понарах она ведь не знала? Ведь правда не знала?
Альгис: Не знаю… Думаю, что она все знала. Ума не приложу как, да и не важно это.
Натан: Нет. Не могла она…Не простила бы.
Фирочка: … Альгис!
Альгис: Ты ее не знал, мою Фиреле. Светлее ее человека не было и не будет. Все она могла принять и всех понять. Ты таких людей и не видел, а мне вот повезло.
Натан: Сюда-то как тебя занесло?
Альгис: А Альгису было все равно куда ехать. Лишь бы подальше от России. Он по глупости думал, что не будь советской оккупации, не было бы и Понар. Жаль не было там Энрикаса Клокке, чтобы объяснить ему как он ошибается. А Рувен, он хотел ехать туда, куда хотелось его девочкам. У нас уже росла наша старшая. И мы приехали сюда, в жаркую страну с крикливыми людьми, пыльными городами и войнами каждые несколько лет. Альгис с Рувеном недоуменно смотрели вокруг и не могли понять, что их здесь держит. А ведь что-то держало!
Натан: А потом?
Альгис: А потом я оказался на спасательном плоту посреди Средиземного моря. Ты слышал про эсминец "Эйлат"?
Натан: Нет. (
отводя глаза) Не слышал
Акватория близ Порт-Саида, спасательный плот 1967
Молодой Альгис и Антагонист (старшина Гади – фуражка израильских ВМС )
Гади: И зачем только гражданских пускают на борт.
Альгис: Не стоило тебе жгут накладывать. Истек бы кровью себе спокойненько и не капал бы мне на мозги.
Гади: Да лучше кровью истечь, чем ждать пока за тобой придут из Порт Саида.
Альгис: Не придут. Наши им что-то серьезное взорвали неподалеку и им теперь не до нас. Так что лежи спокойно и жди вертолета.
Гади: А ты то как оказался у нас?
Альгис: У нас небольшая фирмочка под Хайфой. Выполняем оборонные заказы. Вот ваш главный радар…Впрочем, это тебе знать не надо.
Гади: Не очень-то и хотелось. А вот интересно думал ли ты у себя в Польше что будешь однажды куковать на спасательном плоту с одноногим старшиной родом из Касабланки.
Альгис: Все ты врешь, Гади. И я не из Польши и ты не из Касабланки и ноги у тебя на месте.
Гади: У меня бабка из Йемена, другая бабка из Будапешта, а деды из Алжира и Тегерана. Так что смело можешь считать что я из Касабланки. А что касается жены, так в ее семье все давно переругались на почве поиска корней. Ну и откуда же ты?
Альгис: Из Вильнюса, из Литвы.
Гади: То-то у тебя иврит такой, что так и тянет по уху заехать. Видно у меня на ашкеназов аллергия. Встретишь иногда этакого профессора Пастернака, в очках и с бородкой. Смотрит он на тебя свысока и за человека не считает потому что не тот университет ты закончил. И тоже хочется по уху заехать. А потом встретишь того же Пастернака где нибудь в вади на Синае. И форма на нем сидит как фрак на бедуине, и винтовка болтается у него за спиной как палка. Это он тебе, видите ли, воду привез, не расплескал, вошь тыловая. Так тут вдруг захочется обнять его, прямо как родного. Да и он на тебя смотрит так как будто на одном факультете лямку тянули. Или вот какой-нибудь гребаный литвак перевяжет тебе ногу и не даст спокойно истечь кровью и трындит тут что-то на своем корявом иврите. И уже не хочется по уху заехать.
Альгис: Это у тебя от потери крови.... Знаешь Гади, я и сам не понимаю зачем я здесь, в этой стране. Не для того же чтобы развлекать раненного старшину посреди моря.
Гади: Может и для этого тоже. У тебя семья?
Альгис: Две дочки. Думаю, что дочки – вторая еще не родилась.
Гади: Две дочки! И ты еще не понял для чего ты здесь? Тупой ты ашкеназский осел. Ты здесь для них. Потому что только тут твои девочки в безопасности. По крайней мере, до тех пор пока мы еще в состоянии вломить этим верблюжатникам. И они в безопасности и все евреи в безопасности. Такая у нас страна. А за другие страны не поручусь, вот ваша Европа, к примеру. Там всякое может случиться и не раз случалось. А тут всякого не будет, не дадим.
Альгис: Знаешь Гади, я ведь не совсем еврей.
Гади: Бывает. У меня вот теща тоже не совсем ангел. Ничего, поешь хумуса с тхиной годик-другой и станешь совсем евреем.
Больница
Альгис: За нами наконец пришли и Гади выжил, но ногу потерял. А я… я просто стал жить. Вскоре у нас родилась младшенькая.
Натан: Это та что приходила с внуком?
Альгис: Нет, то была старшая. Младшая-то у нас местная уроженка и страшно гордится этим. Одно время она просто затерроризировала старшую, обзывая ее "иммигранткой". Правда местная уроженка уже который год живет в Ванкувере.
Натан: Ты бывал у нее?
Альгис: Конечно. Там красивые леса, не хуже чем под Игналина.
Натан: Вот и переехал бы в Канаду.
Альгис: А еще там в Ванкувере есть небольшая литовская диаспора.
Натан: Так что-же?
Альгис: Так, мелочи. Помнишь, я рассказывал про старшину Гади. Он прожил еще несколько лет. Но что-то у него не так залечили, оторвался тромб и Гади переселился на кладбище. А мы с Альгисом его иногда навещали, Ты понимаешь, Альгис – он ведь прагматичный литовец. Он хорошо знает, сколько стоит билет из Ванкувера. А тут четверть часа на машине, если нет пробок. Ну а когда недалеко от Гади поселили мою Фирочку… В общем, мы с Альгисом изрядно экономили на бензине навещая их обоих вместе.
Натан: Ну ладно, пусть Фирочка, пусть Гади. Но ты ведь многих еще обманывал, ходил в синагогу, к Торе небось подымался? Раскланивался с теми, чьих отцов ты, возможно, расстреливал в Понарах.
Альгис: (
отворачивается) Чего ты хочешь? Я ведь всячески убеждал себя, что я Рувен. Только и Альгис всегда был со мной. Этакое раздвоение личности.
Натан: Раздвоение личности! Впору свихнуться.
Альгис: Верно. И это иногда казалось таких заманчивым… Без слюней и без агрессии стать тихим психом, который не знает кто он и где он и не за что не несет ответа. Но однажды…У нас в доме этажом выше жил один раввин. Не старый но и не молодой, не то сефард, не то ашкеназ. В нашей синагоге я его не видел. Однажды он остановил меня на лестнице.
Нетания 1975
Молодой Альгис и рабби – черная шляпа.
Рабби: Здравствуйте, сосед.
Молодой Альгис: Здравствуйте, Рабби.
Рабби: Вы знаете, меня разбирает любопытство. Не то чтобы я действительно умел читать по лицам, но есть в вашем лице что-то такое, что я затрудняюсь понять. Как будто там живут два человека.
Молодой Альгис: А если это действительно так?
Рабби: Тогда это может быть очень плохо, а может быть и не так плохо.
Молодой Альгис: Не говорите, пожалуйста, загадками.
Рабби: Сразу видно, что вы не учились в ешиве. Ладно, объясню без загадок. Плохо может быть тогда, когда эти двое враждуют. Ну а если они живут дружно, то мир с ними обоими (
смеется).
Молодой Альгис: Ну хорошо, а представим, что один из них еврей а другой – антисемит. Или еще хуже.
Рабби: Тогда антисемиту следует пройти гиюр, а еврею – выкреститься (
смеется). Впрочем нет, не выйдет – тогда они тоже будут конфликтовать.
Молодой Альгис: (
смеется) Кажется я вас понял хоть вы и продолжаете говорить загадками. Но как этому внутреннему антисемиту пройти свой гиюр?
Рабби: Любой раввин вам скажет, что для этого надо прежде всего соблюдать заповеди, содержать еврейский дом и прочее и прочее. И этот любой раввин будет несомненно прав. Другие же скажут, что этого недостаточно. Надо еще прожить еврейскую жизнь, скажут они, или, хотя бы, часть ее. И эти тоже будут правы.
Молодой Альгис очень внимательно смотрит на него.
Рабби: Вы давно в стране?
Молодой Альгис: Мы приехали перед шестидневной войной. Но в этот дом вселились уже после 73-го.
Рабби: А вы, я вижу, меряете время промежутками между войн. Похоже, что ваш гиюр подходит к концу.
Молодой Альгис: Вы о чем?
Рабби: Прощайте. Пусть это будет еще одной загадкой.
Больница
Альгис: Вот так Альгис и Рувен стали жить вместе.
Натан: Не верю я в эту идиллию.
Альгис: И правильно делаешь. Я сказал "вместе" а не "дружно". Еврей и палач. Лед и пламень. Фалафель и гeфилтефиш. Мы ссорились и мирились и снова ссорились. Пару раз дело чуть не дошло до развода.
Натан: Перестань паясничать!
Альгис: Верно, перед смертью не нашутишься. Но, как ты уже наверное знаешь, в любой шутке есть доля шутки. А все остальное – истина, или что-то близкое к ней.
Натан: Суд учтет смягчающие обстоятельства.
Альгис: Может суду надо удалиться на совещание?
Натан: (
сварливо) У меня что, понос?
Альгис: (
с напряжением в голосе) Так как же приговор?
Натан: Он будет. Итак! Мы заслушали чистосердечное признание подсудимого и показания свидетелей.
Альгис недоуменно на него смотрит. Появляются Фирочка и Гади. Фирочка поддерживает Гади. Молча смотрят на Натана. Альгис успокаивается.
Натан: Подсудимый несомненно виновен в тягчайших преступлениях против человечества. Более того, он виновен в преступлении против самого себя. И он приговаривается… он приговаривается прожить чужую жизнь. Приговаривается к жизни.
Фирочка и Гади, поворачиваются и смотрят на Альгиса.
Натан: Длительность предварительного заключения будет засчитана судом.
Альгис: Это…Это очень мягкий приговор. Приговор к жизни.
Натан: Да, очень мягкий. Только того что ты натворил в Понарах хватило бы на десяток смертных казней.
Альгис: Тогда почему?
Натан: (
постепенно повышая голос) Почему? Потому что любой суд не объективен. Потому что тебе очень повезло с судьей.... Потому что я сам был приговорен к жизни.
Появляется ведущая
Ведущая:
Оставив позади и боль и кровь
Свою судьбу и имя невзлюбя
Ты все внезапно начинаешь вновь
Совсем чужую жизнь примерив на себя
Примерка жизни – не простое дело
Тут нужно трепетно – не сгоряча
Чтоб эта жизнь легко легла на тело
Чтоб не висела б и не жала бы в плечах
Не веря что судьба неодолима
И сбросив жизнь свою как чешую
Ты выбрал для себя иное имя
Приняв чужую жизнь как свою
Пусть эта жизнь на сказку непохожа
Тебя в твоем решенье укрепя
Чужая жизнь срослась с тобой как кожа
И стала просто кровью, плотью от тебя
Смотри на эту жизнь не отводя лица
Прими ее как дар как знак благословения
Прожив чужую жизнь до конца
До самого ее последнего мгновенья
Действие 2-е
Больница
Альгис: Чужая жизнь… Слышится как предисловие к какой-то сказке.
Натан: Страшной сказке. Ты знаешь, что Клокке меня отпустил? Не выстрелил ни в лицо ни в затылок?
Альгис: Но почему?
Понары 1942
Молодой Натан и Энрикас Клокке – кепи вермахта, Натан комментирует происходящее.
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось направлять пистолет на человека? Происходит странное… Твой люггер становится чем-то большим. И вот это уже волшебный луч, своеобразный рентген, высвечивающий на несуществующей стеклянной пластине все самое сокровенное, что есть в человеке.
Натан: Вы когда-нибудь смотрели в ствол пистолета? В этот миг кажется что все: предметы, чувства, сама жизнь, все это собралось, скукожилось там, на обрезе ствола. Это момент истины, выявляющий самое сокровенное в человеке и не оставляющий места для самообмана.
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось видеть человека глядящего в ствол пистолета? А мне приходилось. И в этот миг они становятся понятны мне, понятны как открытая книга, как знамение. Еще немного и я точно знаю, что с ними сделать. Тех что мне не интересны, я обхожу кругом и стреляю в им затылок. Стреляю быстро – ведь меня ждут другие. Прочие заставляют меня задуматься. Какую судьбу им определить? Ведь я все могу – вариантов много. Могу и отпустить, это тоже может оказаться забавным.
Больница
Альгис: И Клокке отпустил тебя?
Натан: Да, Клокке меня отпустил. Тогда я не понял почему, но я и не радовался. Больше всего мне не хотелось снова оказаться в этой шеренге, слышать выстрелы и ждать своей очереди. Нет, трусом я не был, правда и героем тоже не был. Меня угнетала эта зависимость, эта неспособность к действию. Во всем я винил свое еврейство – многовековая пассивность поколений. И я мечтал стряхнуть все это с себя, как снимают старую, запревшую, неудобную одежду. Тогда я еще не знал про ни Варшаву, ни про Собибор и ни про Палестину.
Альгис: А если бы знал?
Натан: Не знаю. В 44-м я пошел в Красную Армию, но подвигов не совершал да и не стремился. Тяга к подвигам казалось мне порождением многовековой возни еврейских местечек где каждый мечтает вырваться в широкий мир. А мне хотелось простоты и однозначности. И я просто воевал как все. А незадолго до конца войны рассвет застал меня в окопе где-то в Померании. Внезапный прорыв немцев не оставил из нашей роты почти ничего…
Окоп в Померании 1945
Молодой Натан и Санитарка – пилотка
Санитарка ранена тяжело и не может встать. Натан ранен, но может двигаться.
Санитарка: Кто-нибудь! Сюда! Кто-нибудь!
Молодой Натан: Катерина Савельевна! Тетя Катя! Это я, Йозефавичус.
Санитарка: А, Натан. Ты бы фамилию подсократил, а то звать тебя за.. В общем длинная она у тебя… Кто еще остался?
Молодой Натан: А никого больше! Только мы с вами.
Санитарка: Ну мне, положим, недолго осталось. В живот попали, суки. И ведь не болит совсем, я-то знаю что это значит.
Молодой Натан: Да бросьте вы, тетя Катя!
Санитарка: Кончаюсь я, Натан! Да не то беда, а то, что я вас не уберегла. Ты может слышал – я же ребятишек наших в школе учила до войны этой проклятой. Уж не знаю, чему я их научила, а только все сберечь пыталась. Да вот только не сумела. У войны этой проклятой сила-то поболее учительской.
Молодой Натан: Тетя Катя!
Санитарка: Ты вот что… Ты ближе подползи и слушай. А говорить тебе не надо, помолчи. (
Натан приближается). Ты того особиста-капитана, с которым ты поцапался за Кольку Шувалихина, помнишь?
Натан пытается ответить.
Санитарка: Молчи. Знаю, что помнишь. Не знаю, что там между вами было, а только вырос у него на тебя немаленький зуб. Ты ведь на оккупированной территории был? Был. Так что он тебе немало крови попортит, а то и совсем погубит. Сволочь он еще та, не сомневайся. (
приподнимается)
Молодой Натан: Тетя Катя!
Санитарка: Не дури! Ты там за окопчиком Пашку Вуколова видишь?
Молодой Натан: Так от него мало что осталось.
Санитарка: Оно может и к лучшему. Прости меня Господи и ты, Паша, прости. Документы пашкины я взяла, вот они. Вы с ним лицом схожи, а карточка тут та еще, вот и будешь ты Вуколовым Павлом Семеновичем. Родственников у него нет ближних, а семья вся под Смоленском полегла еще в 41-м, ну а сам Пашка не обидится. Был он хорошим мужиком и ты тоже будь. Рана твоя не опасная, но пару месяцев тебя продержат в госпитале. А там, дай Бог и война кончится. По-русски ты уже почти совсем чисто говоришь, так что все у тебя получится.
Молодой Натан: Не смогу я, ведь это чужая жизнь, не моя.
Санитарка: А ты Пашку вспомни, вы же дружили вроде, вспомни его и живи. За него, ну и за себя тоже.
Больница
Натан: Смотрел я на карточку и думал – действительно похож. Неужели бабушка согрешила с гоем? И я начал жить пашкиной жизнью. Вспоминал его и старался жить как он бы жил.
Альгис: А Энрикаса ты вспоминал?
Натан: Умеешь же ты по-больному… Все время я его вспоминал. Все время. И понимать я начал, почему он меня отпустил.
Альгис: Ну а что после войны?
Натан: После госпиталя я попал в другую часть и нас еще полтора года держали в Германии. Я все думал о гражданской жизни. Мне не хотелось ничего грандиозного. Поселиться бы в каком-нибудь райцентре, завести семью, растить детей, здороваться каждое утро с участковым милиционером. В общем, нечто прямо противоположное бурной еврейской деятельности… А в начале 47-го меня вызвали в кадры и направили в артиллерийское училище. Никто меня и не спрашивал.
Альгис: Совсем чужая жизнь, да?
Натан: Не совсем… Армейская жизнь, где все по уставу и где все неординарные вопросы кто-нибудь решает за тебя… Не этого ли хотел Натан Йозефавичус? Вот только лейтенант Клокке…
Альгис: А что лейтенант Клокке?
Натан: Да так, ничего…. В какой-то момент я почувствовал, что не волен над своей новой жизнью. Уже не я жил ею, а она жила мной. Особенно ясно я понял это на втором курсе училища…
Артиллерийское училище, 1949
Молодой Натан и Замполит – фуражка с черным околышем
Натан: Курсант Вуколов по вашему приказанию…
Замполит: Садись Вуколов. (
после паузы, вкрадчиво) Что-ж это ты?
Натан: (
встает) Товарищ…
Замполит: Сиди. Что с тобой, Вуколов? Ты, может быть, политику партии и правительства не одобряешь?
Натан: Да я…
Замполит: Или ты, может быть, с товарищем Сталиным не согласен.
Натан: (
выкрикивает) Да согласен я!!
Замполит: Тогда я что-то не пойму. Все твои товарищи подписали… а ты?
Натан: Товарищ замполит, я же про этих безродных космополитов ничего не знаю. Как же не зная подписывать?
Замполит: Чего это ты тут умничаешь? Ты не знаешь, так старшие товарищи знают. Товарищ Сталин, которого Партия поставила над нами, он знает. А ты, значит, не доверяешь… Товарищу Сталину не доверяешь?
Натан: Да что вы!! Конечно доверяю, всецело доверяю.
Замполит: Верю!! Верю!! Это ты просто не подумав ляпнул, по молодости. (
полу-угрожающе, полу-вопрошающе) Так ведь?
Натан: (
угрюмо) Так точно.
Замполит: Давай, подписывай.
Натан: Можно вопрос?
Замполит: Какой еще вопрос? Что тут непонятного? (
неохотно) Ну ладно, валяй свой вопрос..
Натан: Их расстреляют?
Замполит: Кого?
Натан: Ну этих… космополитов
Замполит: А твое какое дело? (
пауза) Другому бы не ответил, но ты вроде мужик правильный, фронтовик. Нет, конечно не расстреляют. У нас просто так никого не расстреливают. Ну, может быть накажут как следует пару-тройку. Тех кто совсем непримиримые, как бы остальным для острастки. Ну.. ты подписываешь или нет?
Натан, поколебавшись, подписывает
Замполит: Свободен.
Натан поднимается
Замполит: Стой.
Голос Замполита меняется, становится вкрадчивым) Ты, Вуколов, понял что сейчас подписал? Натан поворачивается обратно и смотрит с недоумением.
Замполит: Ты сейчас приговор подписал.
Натан: (
тупо) Кому?
Замполит: Им, безродным космополитам, тем кто за русскими псевдонимами скрывает нерусские фамилии. Ты думал, что твоя подпись это так, пустяк? Одной подписью больше, одной меньше какая-мол разница? А ведь, когда прокурор ставит свою подпись под приговором там сверху все(ее) ваши подписи стоят хоть и не заметно это. И твоя там са(aa)мая первая. Так что не получится у тебя остаться в стороне, не выйдет. Все вы повязаны и ты – тоже повязан.
Натан приближается.
Замполит: Да не бледней ты так – шуткую я. Ничего твоя подпись не значит и ничего не меняет. (
кричит) Винтик ты, винтик с резьбой, в агроменной машине!! (
тише) Выпадет тот винтик, а машине-то хоть бы хны – прет себе и прет и нет ей дела!
Натан: (
угрюмо) Это вы сейчас про кого?
Замполит: (
долго молчит) Иди-ка ты отсюда Паша и забудь и про наш разговор и про эту блядскую бумагу. Будешь болтать – только себе навредишь. Понял?
Натан: Не буду, незачем мне болтать. Забуду я все. К утру как раз и забуду.
Больница
Натан: Но я не забыл. Позже, много позже, я узнал, что из тех, кто проходил как "безродный космополит" арестовали немногих. Большинство отделалось запретами на профессию и судами чести. Но мне до сих мнится один большой приговор, приговор всем, всем кого я знаю и кого я не знаю. Под приговором множество подписей, но всегда самая первая – моя. Не знаю, может было бы честнее стрелять в затылок?
Альгис: А ты спроси Альгиса. А еще ты это учителю Лошоконису расскажи. Думаю, он предпочел бы запрет на профессию. Хотя, не знаю.
Натан: Вот именно. Мы оба его слишком хорошо знали. (
молчат) Ну а потом я окончил училище и стал кадровым офицером Советской Армии.
Альгис: Надеюсь, хоть в оккупированной Литве ты не служил.
Натан: Нет, там я не служил, зато служил во многих других местах. А в конце 70-го наш ракетный дивизион послали в Египет.
Альгис приподнимается.
Альгис: Так это ты потопил "Эйлат"?
Натан: Да что ты? Это же было за три года до меня.
Альгис: А если бы ты?
Натан: Что я?
Альгис: Если бы тебе дали такой приказ?
Натан: Не знаю, не знаю. Правда я служил в ПВО.
Окрестности Эль Мансура, Египет, 1970
Молодой Натан и Хамид – песчаного цвета мундир, фуражка египетских ВВС.
На авансцене сидит Хамид (желательно, свесив ноги со сцены). Появляется Молодой Натан, постепенно, в процессе разговора, садится рядом.
Хамид: С облегчением вас, товарищ капитан.
Молодой Натан: Не понял?
Хамид: Все ты понял. Не надо было утром налегать на фуль. Что арабу в радость, то русскому – смерть.
Молодой Натан: И кто тебя так хорошо нашему языку научил?
Хамид: (
мечтательно) Были учителя.
Молодой Натан: Или учительницы? А, Хамид? (
ехидно) Интересно, за что тебя из авиации попросили?
Хамид: Да, ваши же советские советники подгадили. Планировали засаду на израильские Миражи, а получили ловушку для наших Мигов. Это у меня был второй вылет в эту войну.
Молодой Натан: А в ту?
Хамид: В июньскую? Тогда мою машину даже расчехлить не успели. И тоже из-за ваших блядских советников. Вот и сижу теперь у тебя в переводчиках.
Молодой Натан: Не любишь русских?
Хамид: А за что вас любить? Высокомерие и тупость, тупость и высокомерие.
Молодой Натан: Но, но! Может ты евреев любишь?
Хамид: Евреи не бабы, чтобы их любить. Но они совершенно сумасшедшие, не признают правил и не боятся ничего. Ты никогда не знаешь, чего от них ожидать, и поэтому они всегда побеждают.
Молодой Натан: Ага. Слышал я твои байки о бомбардировщиках, летающих на одном моторе, и о бомбах с реактивными ускорителями.
Хамид: Байки, говоришь? Вот устроят вам евреи… как это по-русски? ..показательную порку, помяни мое слово.
Молчат.
Хамид: Ты мне вот что объясни, а что ты тут собственно делаешь?
Молодой Натан: Я? От фуля твоего избавлялся, а теперь пойду боекомплект перезаряжать после вчерашнего.
Хамид: Да, вчера вы славно подбили точным попаданием соседний холм. Но я не о том.
Молодой Натан: Ну и о чем же?
Хамид: Мне интересно, что ты делаешь в этой стране? Мы, например, пытаемся вернуть свою землю. А ты?
Молодой Натан: А я выполняю приказы.
Хамид: Приказы? Ну что ж, будем ждать приказа.
Молча сидят. Выходит Ведущая.
Ведущая:
Так много в этой жизни не понять
Как надо поступать поймешь не сразу
Тебя учили тупо выполнять
Приказы, приказы
Ты долго рассуждать не расположен
Расстаньтесь с жизнью подлые заразы!
Послушен выползает меч из ножен
Приказу, приказу
Пройдут часы, века или года
Течет поток времен не видим глазу
И вновь уже летят по проводам
Приказы, приказы
Не важно танки, пушки иль пехота
Сухим фальцетом вылетают фразы
Опять тебе выкрикивает кто-то
Приказы, приказы
Но так противоречие не снять
Что тут важнее чувства или разум?
Не все на свете сможешь оправдать
Приказом, приказом
Быть лучше жертвой или убивать?
Пусты однообразные рассказы
Ведь самому придется отдавать
Приказы, приказы
С велением сердца трудно совладать
Оно не примет подлого отказа
Но ты привычно продолжаешь ждать
Приказа, приказа
Хамид: А ты?
Молодой Натан: Что я?
Хамид: Ты готов убивать евреев? Правда ведь, что все русские терпеть их не могут?
Молодой Натан: (
медленно) За всех не скажу…
Раздается рев двигателей самолета. Натан бросает Хамида на землю и кричит "Воздух!". Грохот взрыва, оба откатываются. Поднимаются, отряхиваются. Хамид смотрит за сцену.
Хамид: Ну и что ты, Павел, теперь будешь делать?
Больница
Натан: К великому моему облегчению вскоре случилась предсказанная Хамидом показательная порка и нас вернули домой. Но он был прав, это же я привел туда своих бойцов, привел в эти бесплодные холмы, ну вот там они и остались. А мне потом долго снились восемь холмиков у позиции сгоревшей батареи.
Альгис: Так ведь…
Натан: Знаю, что не было там никаких холмиков, а ребята поехали домой в цинках. Ну а когда водка и снотворное перестали помогать я пошел к гарнизонному врачу, Левке Гринбергу, и все ему рассказал. Бутылка коньяка завершила дело, хотя, похоже, Левка мне не поверил. Но он честно научил меня как вести себя на комиссии и вскоре меня комиссовали, дав на прощание звание майора. А уже через месяц я работал слесарем на большом заводе под Ленинградом.
Колпино, 1973
Молодой Натан и Антагонистка (тетя Маша – темно-синий халат и берет).
Молодой Натан и тетя Маша идут с подносами из столовой..
Тетя Маша: Ты что, Семеныч, тоже с политинформации сбежал? Что-то нас обоих с расстройства на жрачку пробивает.
Молодой Натан: Да сил уже нет, тетя Маша! Что это у нашего парторга все сионисты. да сионисты? И каждый раз он заикается на этом слове.
Тетя Маша: … Потому что хочет сказать "жиды", да не решается.
Молодой Натан смеется, тетя Маша не смеется.
Натан: Я давно уже привык не обращать внимания на антисемитов, но последнее время их стало что-то слишком много.
Тетя Маша: А ведь у меня там племянники… Говорили, бомбят Тель-Авив.
Молодой Натан: У вас? А я…
Подходит к ней и смотрит в глаза.
Молодой Натан: Все будет хорошо, тетя Маша.
Тетя Маша: Спасибо тебе, Семеныч. А ты иди, иди, я же не слепая. Вижу какими глазами ты смотришь на ту брюнеточку, что за столиком в углу. И вчера ты на нее смотрел и позавчера. Пора идти в атаку, подполковник!
Молодой Натан: Я майор, тетя Маша.
Тетя Маша: Тем более. Только ты учти, я ее знаю, она тоже инвалид пятого пункта.
Молодой Натан: Какого пункта?
Тетя Маша: Да еврейка она. Но ты не тушуйся, ты же мужик проверенный. Что тебе первый отдел! Ну, не буду мешать. Может хоть с этой у тебя сложится.
Молодой Натан: А при чем тут первый отдел?
Тетя Маша: Ты что, Семеныч, с дуба рухнул? Там же на каждого из нас вот такая (
показывает) папочка заведена, что на русских, что на не совсем русских. А у нее, небось тоже где-то племянники. Так что и тебя тряхнут за компанию. (
смеется) Но тебе то что? Ты-то, подполковник, чист, как младенец. Так я пойду?
Уходит.
Молодой Натан в нерешительности стоит с подносом. Потом медленно идет к краю сцены и останавливается. Натан на другом конце сцены поднимается, пристально смотрит на Молодого Натана. Появляется Антагонистка в костюме Санитарки и Антагонист в костюме Замполита. Обмен взглядами. Молодой Натан поворачивается, идет обратно, подходит к невидимому столику.
Молодой Натан: Извините. У вас не занято?
Больница
Натан: Вот так я стал евреем по жене.
Альгис: Чужая жизнь. Ее надеваешь как пиджак, как перчатку. А она прирастает к тебе как кожа и не сбросить. Так что-же все таки с лейтенантом Клокке?
Натан: Клокке…Теперь я понимаю, что он увидел там в Понарах глядя мне в лицо. Наверное он увидел там Пашку Вуколова. И ему показалось забавным избавиться от Натана Йозефавичуса таким необычным способом.
Альгис: Дал маху наш Энрикас. Никуда твой Натан не делся.
Натан: Ты думаешь? Кроме Левки Гринберга, свою историю я рассказал обеим своим женам. Первая не поверила, да и Бог с ней. А вторая только засмеялась и сказала: ну какой же из тебя еврей, даже если ты им и был когда-то. Но это было давно. А теперь мы с ней иногда пытаемся говорить на идиш, Она знает-то с десяток слов, да и я многое позабыл.
Альгис: יהודי, דבר עברית
Натан: Тебе виднее, ты у нас тут главный еврей. Кстати, как у тебя с обрезанием?
Альгис: (
пародирует местечковый акцент) Ви-таки будите смеяться. (
нормальным голосом) Я это сделал еще в Ленинграде перед тем как … ну ты понимаешь… Фирочка. Пошел я в мечеть на Горьковской и наплел там сам не помню что. Потом болел неделю.
Натан: Вот повеселился бы Рувен. Настоящий Рувен.
Альгис: А ты знаешь, как умер Рувен? Настоящий Рувен?
Натан: Его застрелил Энрикас. Я стоял в другом конце шеренги и не мог видеть, но я слышал. Ты говорил, что Энрикас выстрелил ему в лицо? Не в затылок, а именно в лицо?
Альгис: Именно так. И тогда я в первый раз увидел как лейтенант Клокке растерялся. А ты знаешь как умер Энрикас Клокке?
Понары 1941 потом
Парагвай 1947.
Альгис (Рувен) и Энрикас Клокке (
кепи вермахта, панама).
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось направлять пистолет на человека? Происходит странное… Оружие становится продолжением твоей руки. Более того…Сама твоя рука становится оружием, десницей Бога, мечом архангела. Изумительное ощущение!
Рувен: Вы когда-нибудь смотрели в ствол пистолета? В этот миг кажется что все: предметы, чувства, сама жизнь, все это собралось, скукожилось там, на обрезе ствола. И трудно оторвать взгляд…Трудно, но надо.
Энрикас: Вам когда-нибудь приходилось видеть человека глядящего в ствол пистолета? Он смотрит туда заворожено как кролик на удава, как англичанин на овсянку. Все они становятся одинаковыми в этот момент. Я, а вернее – мой люгер – великий интернационалист. Под его немигающим взглядом Файенсоны становятся Лошоконисами, а Лошоконисы – Файенсонами. С не меньшим восторгом я убивал бы Вайткусов, Сидоровых, Геббельсов или Смитов. Но приходится довольствоваться тем, что есть. А потом я обхожу их и стреляю им в затылок.
Рувен: Мне следовало бы закрыть глаза или отвести взгляд, смотреть на облака, вдаль, в никуда…
Энрикас: Потом они с трудом отводят взгляд, закрывают глаза или смотрят в небо, в сторону.
Рувен: Но я посмотрел на тебя. Не знаю почему.
Энрикас: Но ты посмотрел на меня. Это было необычно и немного меня насторожило.
Рувен: Мне хотелось выкрикнуть какие-нибудь грозные обличающие слова
Энрикас: Я ждал обличающих слов.
Рувен: Но у меня не было таких слов. ..Мне, наверное, следовало броситься на тебя и задушить голыми руками.
Энрикас: Я ждал , что ты бросишься на меня. Больной, голодный человек против тренированного бойца.
Рувен: Но это было бы смешно – а я не хотел быть смешным..
Энрикас: Мне стало немного не по себе. Ведь я думал что знаю этих евреев, а тут…
Рувен: Тут я улыбнулся. Улыбка получилась немного смущенной, ведь я просто не знал что делать.
Энрикас: A я растерялся. Нет, конечно же я этого не показал. Мне следовало выстрелить ему в затылок и покончить с этим делом. Но тогда пришлось бы обходить его, eго тело, эту его смущенную улыбку, которая почему-то казалась мне улыбкой превосходства и которую, я почему-то был в этом уверен, я видел бы даже глядя Рувену в затылок. Почему? Не знаю. И я выстрелил ему в лицо. Слишком поспешно выстрелил наверное – это я понял по лицам литовцев.
Рувен: О, да! Они это видели, они все это видели. .
Энрикас: Все годы войны я старался забыть Рувена, его улыбку и свою растерянность. Пока наши войска были на берегах Волги, мне это почти удавалось, но по мере того как фронт приближался к Вильнюсу все чаще ко мне начал приходить Рувен.
Рувен: Я улыбался немного смущенно, ведь я не знал как поступить.
Энрикас: Он приходил по ночам и я не мог заснуть. Ох, эти ночи без сна.
Рувен: Но я ведь только улыбался и больше ничего.
Энрикас: А весной 45-го я побежал. Мы все побежали. Это не сразу было заметно… Эффектные мужчины, с пронзительным блеском серых глаз и гордой выправкой, которую правда портило отсутствие формы… Казалось мы идем куда-то с величием, или по-крайней мере, с достоинством.
Рувен: Но они бежали, сами не замечая этого.
Энрикас: (
снимает кепи и надевает панаму) И мы побежали на юг, туда, где смуглые средиземноморские люди, с трудом понимающие по немецки, смотрели на нас со смесью страха и ненависти. Но и там…
Рувен: Да, и там я улыбался тебе каждую ночь. А что еще я мог сделать?
Энрикас: И сна не было…Ржавый трюм корабля продолжил мой бег через соленый океан и привел меня в город огромных портальных кранов и людей не понимающих ни по-немецки, ни по-литовски. Эти люди смотрели на меня без страха и ненависти, лишь презрение я видел в их глазах. А Рувен…
Рувен: Я всего-лишь улыбался.
Энрикас: Тогда я снова побежал. Нас было несколько. Пронзительный блеск в наших глазах успел потускнеть и гражданская одежда уже изрядно попортила гордую выправку. В закрытом фургоне нас повезли на Север, к великим водопадам Игуасу.
Рувен: Но водопадов ты не увидел. В другом фургоне они пересекли границу.
Энрикас: Этот фургон провез нас через древний Асунсьон
Рувен: Но ты не увидел и его.
Энрикас: ..и наконец мы оказались в поселке, затерянном глубоко в джунглях, где молчаливые индейцы растили чудесную траву.
Рувен: Ох уж эта трава !
Энрикас: Она позволяла так хорошо забыться, что Рувен уже не приходил.
Рувен: Вообще-то я приходил, но он меня не видел…ничего он больше не видел.
Энрикас: Потом люди узнали…Они избили меня а затем объяснили что эта трава не для высшей расы…потом опять избили. А ночью пришел Рувен. Он улыбался.
Рувен: Я всегда улыбаюсь, ну что я еще могу?
Энрикас: Как это было невыносимо…Длинные, унылые, парагвайские ночи без сна.
Рувен: Я понимаю.
Энрикас: Долго…слишком долго. Но наконец все закончилось.
Рувен: А вот теперь я не понимаю.
Энрикас: Очередной ночью пришел Рувен и воткнул мне в сердце раскаленную иглу.
Рувен: Нет, нет – это был не я!
Энрикас: Как это было больно! Но боль быстро прошла и я понял что теперь я наконец-то сумею заснуть. А Рувен…
Рувен: Я улыбнулся ему напоследок.
Больница
Альгис: Вроде бы все так повернулось, что я тоже судил тебя и тоже приговорил к жизни. Но вряд ли я имею право…
Натан: (
неуверенно) Нет, не имеешь.
Альгис: (
приподнимается) Послушай Натан! Да, я прожил чужую жизнь. Я сам себя приговорил к ней. Сам себе прокурор и сам себе судья. Я присудил себе пожизненное, без права на апелляцию. И я отмотал свой срок от звонка и до звонка. Правда ведь что я не ссучился и не предал, правда?
Натан: Чего ты ждешь от меня? Прощения? Да, Альгис, твоя жизнь впечатляет, почти-что умиляет. И я верю что ты искренен. И Габи с Фирочкой свидетельствуют в твою пользу. Возможно, я говорю – возможно – я готов тебе многое простить, как и учитель Лошоконис, как Рувен, как остальные. Простить, но не забыть, конечно. Впрочем, тебе ведь не наше прощение нужно.
Альгис: А чье прощение мне нужно?
Натан: Знаешь Альгис, возможно Павел Вуколов и тупой солдафон, но Натан
Иозефавичус ох как непрост. А может наоборот: Натан всего лишь примитивный местечковый еврей, зато Павел – мудрый русский мужик. В общем, один из нас ясно видит, что скрывается за твоими шуточками и показным цинизмом. Отсюда и еврейская грусть в твоих литовских глазах.
Альгис: Старый ты проницательный хрен. Да, пусть бы даже все простили, но остается еще один. …
Натан: Самый непримиримый и самый требовательный…
Альгис: Да, Альгис Вайткус… Он не простит никогда. Не простит себе самому. С этим мне придется смириться и с этим я уйду.
долгая пауза
Натан: Теперь, через много лет, я понял как прав был учитель Лошоконис посадив нас за одну парту.
Альгис: Да…Учитель Лошоконис.
Натан: Что-ж, ты отмотал свой срок. А я? Я ведь тоже прожил чужую жизнь.
Альгис: Ты убивал детей? Ты стрелял людям в затылок? Ты потопил "Эйлат"?
Натан: Нет, но разве этого достаточно?
Альгис: По крайней мере – не так уж плохо. А если чужая жизнь стала твоей, так прими ее как свою. Не так-ли, Павлик?
Натан: Может и так, но не проси называть тебя Рувеном.
Альгис: Не попрошу. Но я очень, очень хочу попросить тебя о другом…Ты знаешь, всевышний не обделил меня в моей новой жизни. Быть отцом девочек это просто замечательно. И они родили мне внуков, но внуки еще маленькие, а сыновей у меня нет. (
приподнимается) Ты понимаешь?
Натан: (
неуверенно) Не совсем.
Альгис: Натан, скажи…ты прочтешь по мне Кадиш?
Натан: Нет…Что-ты… нет, Рувен, нет ?! (
последнее слово звучит неуверенно)
Выходит Ведущая, возможно выводит всех актеров как бы перед поклоном.
Ведущая:
Как на подмостках лицедеям
Нам жизнь предлагает роль
Героем быть или злодеем
Гуманным быть иль лиходеем
Судимым быть или судьей
И не отдав отчет себе
Не успевая удивится
Уже прикован ты к судьбе
Навек прикован ты к судьбе
Как пленник строгово вердикта
Что-ж, приговор не отменить
Освобождение не скоро
Ты снова начинаешь жить
Ты просто продолжаешь жить
Во исполненье приговора
Не вечен заточенья срок
Отбыты годы заключения
И вот оставив свой острог
Навек покинув свой острог
Ты празднуешь освобожденье
И добряков и сволочей
Помянешь ты на этой тризне
Всех судей, жертв и палачей
Всех судей, жертв и палачей
Приговоренных к этой жизни
Иллюстрация на обложке взята из открытого источника – PIXABAY.COM
Отзывы на книгу можно посылать по адресу markr.software#gmail.com
Оглавление
Алиса в Стране Чудес
Без протокола
Пролог
Криза
Моше Даян
Абба Эвен
Голда Меир
Бен-Гурион
Эпилог
Закрыть Америку
Кассандра
Действие Первое
Действие Второе
Перпендикулярное время
Действующие лица:
Сцена первая
Сцена вторая
Сцена третья
Сцена четвертая
Сцена пятая
Сцена шестая
Сцена седьмая
Сцена восьмая
Сцена девятая
Сцена десятая
Приговоренные к жизни
Приговоренные к жизни
Действие 1-е
Больница
Понары 1942.
Больница
Хутор под Игналина 1943.
Больница
Синагога в Ленинграде 1950
Больница
Акватория близ Порт-Саида, спасательный плот 1967
Больница
Нетания 1975
Больница
Действие 2-е
Больница
Понары 1942
Больница
Окоп в Померании 1945
Больница
Артиллерийское училище, 1949
Больница
Окрестности Эль Мансура, Египет, 1970
Больница
Колпино, 1973
Больница
Больница

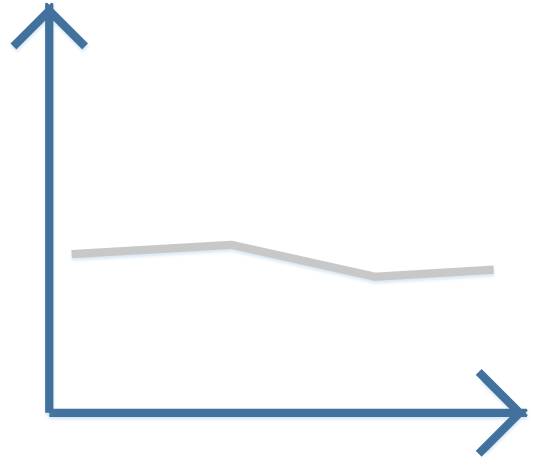 Ее подъемы, склоны и горбы
Значения которых мы порой не понимаем
Мы слепо следуем за ней то вверх, то вниз
А время тащится вдоль по оси абсцисс
К конечной точке график приближая
Практикантка: Как пронзительно сказано!
Алиса: Порою график может вниз нырнуть
Ее подъемы, склоны и горбы
Значения которых мы порой не понимаем
Мы слепо следуем за ней то вверх, то вниз
А время тащится вдоль по оси абсцисс
К конечной точке график приближая
Практикантка: Как пронзительно сказано!
Алиса: Порою график может вниз нырнуть Но мы упорно продолжаем путь
Минуя то, что показалось нам бедою эпохальной
И линия ведет все ниже, а зазор все уже
И видишь что могло бы быть (и будет) много хуже
А это был всего лишь минимум локальный
Практикант: Вот он – истинный оптимизм.
Алиса: А вот еще одна из тех что рвется вверх
Но мы упорно продолжаем путь
Минуя то, что показалось нам бедою эпохальной
И линия ведет все ниже, а зазор все уже
И видишь что могло бы быть (и будет) много хуже
А это был всего лишь минимум локальный
Практикант: Вот он – истинный оптимизм.
Алиса: А вот еще одна из тех что рвется вверх Проста и привлекательна для всех
Стремится ввысь упрямая кривая
Карабкаясь упорно и в погоду и в ненастье
Стремясь к локальному, асимптотическому счастью
Но никогда его не достигая
Практикантка: Грустно-то как.
Алиса: Казалось бы оно совсем недостижимо
Проста и привлекательна для всех
Стремится ввысь упрямая кривая
Карабкаясь упорно и в погоду и в ненастье
Стремясь к локальному, асимптотическому счастью
Но никогда его не достигая
Практикантка: Грустно-то как.
Алиса: Казалось бы оно совсем недостижимо И линия судьбы кривясь проходит мимо
Но нам не следует сдаваться без борьбы
Ведь так бывает, что кривая резко вверх иль вниз уходит
Тогда мы говорим, что происходит
Разрыв определенности судьбы
Практикант: Во излагает.
Алиса: Реальный мир разбит напополам
Все кажется теперь доступным нам
И линия судьбы кривясь проходит мимо
Но нам не следует сдаваться без борьбы
Ведь так бывает, что кривая резко вверх иль вниз уходит
Тогда мы говорим, что происходит
Разрыв определенности судьбы
Практикант: Во излагает.
Алиса: Реальный мир разбит напополам
Все кажется теперь доступным нам Мы рвемся верх, туда, в блаженные миры
Но равновероятностны пути
Мы можем вверх к безумию прийти
А можем вниз упасть в тартарары
Практикантка: Вот и у меня так… с мужиками.
Алиса: Однако жизнь бывает проще чем мечты
Мы рвемся верх, туда, в блаженные миры
Но равновероятностны пути
Мы можем вверх к безумию прийти
А можем вниз упасть в тартарары
Практикантка: Вот и у меня так… с мужиками.
Алиса: Однако жизнь бывает проще чем мечты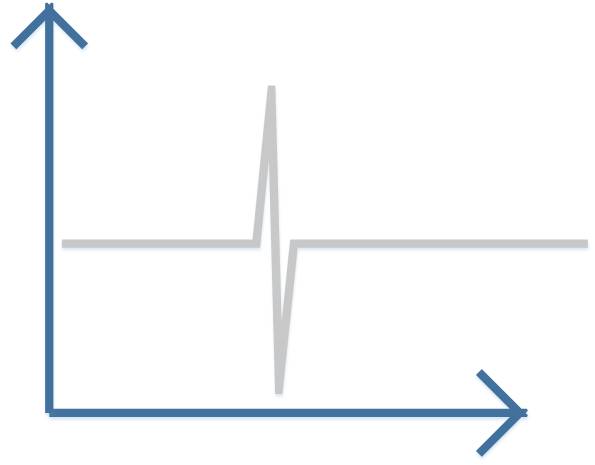 И вниз бросает нас с безумной высоты
Или выталкивает вверх из пропасти глухой
Как видно, этот график невозможно изменить
Мы тупо и упорно продолжаем жить
И тащимся уныло по прямой
Профессор: Немного мрачновато, вы не находите?
Алиса: Таков пессимистический вариант моей картины мира. Можно с ней смириться… А можно и не мириться.
Доктор: А вы? Вы смирились?
Алиса: (скромно) Я бухгалтер – бухгалтеры не меняют мир.
Доктор: (смотрит пристально на Алису) Не меняют?
Алиса: (немного смущенно) Ну, до сих пор не меняли.
Профессор: Великолепно, великолепно. Надеюсь еще увидеть как бухгалтеры меняют наш мир. Какие наши годы.
Алиса: Это смотря какие бухгалтеры.
Практикантка: А какова ваша оптимистическая картина мира?
Алиса: О, она намного веселей. Ну как, еще немного математики?
Заведующая: Пожалуй, с меня хватит. Так можно и не выжить.
Алиса, в восторге, показывает Заведующей большой палец.
Заведующая: У кого еще есть вопросы?
Доктор: Если позволите. Алиса … э-э …Игоревна. Вы сны видите?.
Алиса: Ну конечно! Ничто человеческое мне не чуждо.
Доктор: А сны, которые вы видите, они цветные?
Алиса: Естественно, это же сны. А почему вы спрашиваете?
Заведующая: Видите ли … милочка … есть мнение, что цветные сны свидетельствуют о предрасположенности к шизофрении.
Практикантка: Ой! (зажимает рот рукой).
Практикант пристально смотрит на нее.
Алиса: Как-то мне не нравится ваша "милочка". А что, разве бывают черно-белые сны?
Практикантка: (Практиканту) Нечего на меня так смотреть.
Доктор: Не совсем черно-белые. Многим людям снятся сны в которых просто нет такого понятия, как цвет.
Заведующая: Мне например.
Алиса: Бедняжки. Вы их лечите?
Заведующая: Вообще-то, согласно тому-же мнению, это свидетельствует о стабильном душевном здоровье.
Профессор: Ну, дорогие мои, это еще не доказано.
Доктор: Да это вообще скорее городская легенда чем научное исследование. Хотя и на этом можно защитить пару-тройку диссертаций.
Профессор: Полегче, полегче, коллега.
Заведующая: Ничего, ничего, мы тут привычные.
Алиса: Доктор, а если вы в это не верите, то зачем спрашиваете?
Доктор: Если честно, то мне и самому время от времени снятся цветные сны.
Заведующая: Вот так номер…извините, Доктор, не сдержалась.
Доктор: Я конечно не верю в то толкование, которое так импонирует нашей уважаемой Заведующей, но полагаю что цветные сны могут быть индикацией чего-то другого.
Алиса: Чего именно?
Доктор: …Чего-то, возможно, более позитивного. Может быть даже не имеющего отношения к нашей профессии.
Профессор: А вот тут позволю себе с вами не согласиться. Рамки психиатрии значительно шире чем лечение болезней.
Доктор: А что, мне, пожалуй, нравится ваш подход, Профессор. Но вообще-то мой последний вопрос не относился к сегодняшнему случаю. Он, скорее, отражает мой личный интерес. Не обессудьте, Алиса Игоревна.
Алиса: Ой, да, ради бога. Здесь ведь все так интересно! Это я очень удачно зашла!
Заведующая: Пожалуй, мы немного увлеклись. Еще вопросы к нашей гостье?
Практикантка порывается что-то спросить, но Практикант ее одергивает.
Заведующая: В таком случае, Алиса Игоревна, вы извините нас ненадолго. Нам надо подвести кое-какие итоги.
Алиса: Подумаешь, не очень-то и хотелось всякую ерунду слушать.
И вниз бросает нас с безумной высоты
Или выталкивает вверх из пропасти глухой
Как видно, этот график невозможно изменить
Мы тупо и упорно продолжаем жить
И тащимся уныло по прямой
Профессор: Немного мрачновато, вы не находите?
Алиса: Таков пессимистический вариант моей картины мира. Можно с ней смириться… А можно и не мириться.
Доктор: А вы? Вы смирились?
Алиса: (скромно) Я бухгалтер – бухгалтеры не меняют мир.
Доктор: (смотрит пристально на Алису) Не меняют?
Алиса: (немного смущенно) Ну, до сих пор не меняли.
Профессор: Великолепно, великолепно. Надеюсь еще увидеть как бухгалтеры меняют наш мир. Какие наши годы.
Алиса: Это смотря какие бухгалтеры.
Практикантка: А какова ваша оптимистическая картина мира?
Алиса: О, она намного веселей. Ну как, еще немного математики?
Заведующая: Пожалуй, с меня хватит. Так можно и не выжить.
Алиса, в восторге, показывает Заведующей большой палец.
Заведующая: У кого еще есть вопросы?
Доктор: Если позволите. Алиса … э-э …Игоревна. Вы сны видите?.
Алиса: Ну конечно! Ничто человеческое мне не чуждо.
Доктор: А сны, которые вы видите, они цветные?
Алиса: Естественно, это же сны. А почему вы спрашиваете?
Заведующая: Видите ли … милочка … есть мнение, что цветные сны свидетельствуют о предрасположенности к шизофрении.
Практикантка: Ой! (зажимает рот рукой).
Практикант пристально смотрит на нее.
Алиса: Как-то мне не нравится ваша "милочка". А что, разве бывают черно-белые сны?
Практикантка: (Практиканту) Нечего на меня так смотреть.
Доктор: Не совсем черно-белые. Многим людям снятся сны в которых просто нет такого понятия, как цвет.
Заведующая: Мне например.
Алиса: Бедняжки. Вы их лечите?
Заведующая: Вообще-то, согласно тому-же мнению, это свидетельствует о стабильном душевном здоровье.
Профессор: Ну, дорогие мои, это еще не доказано.
Доктор: Да это вообще скорее городская легенда чем научное исследование. Хотя и на этом можно защитить пару-тройку диссертаций.
Профессор: Полегче, полегче, коллега.
Заведующая: Ничего, ничего, мы тут привычные.
Алиса: Доктор, а если вы в это не верите, то зачем спрашиваете?
Доктор: Если честно, то мне и самому время от времени снятся цветные сны.
Заведующая: Вот так номер…извините, Доктор, не сдержалась.
Доктор: Я конечно не верю в то толкование, которое так импонирует нашей уважаемой Заведующей, но полагаю что цветные сны могут быть индикацией чего-то другого.
Алиса: Чего именно?
Доктор: …Чего-то, возможно, более позитивного. Может быть даже не имеющего отношения к нашей профессии.
Профессор: А вот тут позволю себе с вами не согласиться. Рамки психиатрии значительно шире чем лечение болезней.
Доктор: А что, мне, пожалуй, нравится ваш подход, Профессор. Но вообще-то мой последний вопрос не относился к сегодняшнему случаю. Он, скорее, отражает мой личный интерес. Не обессудьте, Алиса Игоревна.
Алиса: Ой, да, ради бога. Здесь ведь все так интересно! Это я очень удачно зашла!
Заведующая: Пожалуй, мы немного увлеклись. Еще вопросы к нашей гостье?
Практикантка порывается что-то спросить, но Практикант ее одергивает.
Заведующая: В таком случае, Алиса Игоревна, вы извините нас ненадолго. Нам надо подвести кое-какие итоги.
Алиса: Подумаешь, не очень-то и хотелось всякую ерунду слушать.